Павел Парфин Юродивый Эрос
1
— У вас нет ничего святого! — раздраженно произнес Петр Васильевич и с явным неудовольствием двинул от себя стакан с чаем. Тот едва не опрокинулся — словно вторя гневу хозяина, плеснул на скатерть светло-янтарную струю кипятка, заметно обесцвеченного долькой лимона.
— Святость связывает, — безапелляционным тоном заявил Кондрат. Затем хищно улыбнулся — в тот момент показалось, что его зубы сплошь состоят из одних клыков. — К тому же у меня аллергия на запах ладана. Меня тошнит от него.
— Боже, да в твоей душе черт живет! — Тимченко-папа не на шутку вышел из себя. Он вылил чай в раковину, плеснул в стакан водки. В горячий стакан — водки.
— И мне, — я протянул чашку — черной слезой на дно ее скатилась капля кофе. Петр Васильевич проигнорировал мою просьбу, убрал водку в холодильник. Я не обиделся. Потерев переносицу, чтобы скрыть рвавшуюся наружу улыбку, поддержал друга. — Чрезмерная религиозность и набожность привели мир к однополой любви — к непорочному зачатию.
— Чушь! Это происки безбожников! — скривившись, как от зубной боли, Тимченко-папа помотал головой.
— Хорошо, па, мы будем иногда вспоминать бога, — из коридора донесся голос Ален. Накрашенная, пахнущая немыслимым букетом соблазнов, одетая в обтягивающие голубые джинсы, она присоединилась к нашей компании. Я заметил, как Палермо проглотил слюну. А я… Если бы я не был Эросом, я бы, наверное, влюбился в Ален.
— Ты не против, если мы будем вспоминать бога хотя бы иногда? — поцеловав отца в щеку, Ален заглянула ему в глаза. Она искала примирения, но, я видел, в уголках ее губ затаилась озорная усмешка.
— Ну-ну, когда-нибудь поразит тебя Господь, — проворчал Тимченко. Сейчас он не казался таким уж грозным — водка сделала свое дело.
— Какой-то вы, Петр Васильевич, набожный чересчур, — волнуясь, заметил Палермо, при этом искоса поглядывая на Ален. Машинально я проследил за его взглядом: вот чудак, он пялится на ее грудь, сосками едва не проткнувшую футболку. — У вас ничего не болит?
«Ну и ну, он еще спрашивает, — я усмехнулся в душе, — это ты, дружок, болен».
Ни слова не говоря, Тимченко вышел из кухни. Вздохнув, Ален улыбнулась.
— Стареет отец… Но мы никому не расскажем об этом.
Мы отправились в город, не поблагодарив Тимченко-папу за чай: Петр Васильевич так и не вышел к нам попрощаться. Неспешным шагом, точно четверо бывалых сталкеров, дошли до центра. Вечер еще запрашивал у города разрешения на посадку; недавно прошел дождь; воздух, свежий и пряный, радовал легкие, будоражил воображение, пробуждал желания, пока такие же несмелые, неоформившиеся, как узоры капель на лапчатых листьях каштанов.
Кондрат и Палермо шли впереди — не глядя под ноги, то и дело ступая по джинсовым лужам. О голый череп Палермо беззвучно разбивались тяжелые капли, нет-нет да срывавшиеся вниз с мокрой листвы. Жестикулируя, ребята о чем-то оживленно спорили. Я не прислушивался, тем не менее уловил слово «веб-буддизм», несколько раз с жаром произнесенное Кондратом. Веб-буддизм — новое увлечение Кондрата, в сущности, его открытие. Так говорит о веб-буддизме сам Кондрат. Он гордится тем, что ему первому пришли в голову, как он любит выражаться, «поворотные фишки»: веб-буддизм, сеть-атман, эго-пастух… Кроме него, все эти навороченные словечки пока слышали только двое — Палермо и я. К сожалению, сейчас я могу вспомнить лишь обрывки его пламенной речи:
«…Интернет — сосуд, в котором сообщаются наши желания… Говорю тебе: ты несвободен, потому что являешься рабом своих желаний. Из них, как из электронов, состоит твой атом духа — твое эго… Эго — пастух, что каждое утро гонит тебя на пастбище сансары. Гонимый эго, ты вынужден реинкарнировать — каждый день, каждый час, каждый миг! Совершая одни и те же ошибки и пустые дела, связывая свою жизнь с нелюбимыми людьми и ненавистными обстоятельствами, продолжая играть в нежеланную игру… Интернет — атман нового века, истинное „я“, что стоит над всеми пользователями и непользователями Сети. Интернет-атман стоит, возвышаясь над нашими алчными эго. Отними у эго желания, отпусти их в Сеть-атман — пусть ищут свой путь наугад. Мощный драйв атмана неузнаваемо преобразит твои агонизирующие желания: из вялых яблок они превратятся в сочные плоды, желанные и доступные бесчисленным пользователям Сети. Но и ты не останешься в стороне. Интернет-атман щедро наделит тебя чужими, а значит, не испытанными доселе желаниями. Обретя новый жизненный заряд, до краев наполнившись коллективным „хочу“, ты, может быть, впервые сможешь взглянуть на себя со стороны — оценить и изменить свое эго. Обладая частицами чужих эго, обогащенных, как руда, в горниле Сети, ты отныне сможешь управлять своим эго, навсегда избавившись от его хозяйской опеки…»
Ален тоже присутствовала на той знаменитой дискуссии, когда Кондрат объявил о начале новой эры — эры веб-буддизма. Но я не уверен, что тогда Ален слушала его. Слушала, не слыша, с головой, с мочками красиво слепленных ушей погрузившись в близкую лишь ей нирвану — любовь. Ален банально втрескалась в меня, а я… Повторяю: будь я не Эрос, обязательно бы влюбился в нее.
Мы отстали с ней. Я осторожно вдыхал запах ее волос, пахнущих липовым цветом и неразделенным счастьем. Она, запустив руку в карман моих джинсов, гладила мое тело. Ну что возьмешь с влюбленной женщины?
Так и дошли до угла, где Петропавловская пересекается с Первомайской, — безмятежно шлепая по лужам, доказывая преимущество новой религии и совершенно не стесняясь вставшего члена, ненароком разбуженного горячей девичьей рукой.
2
Здешнее интернет-кафе — цель нашего недолгого променада. Интернет-кафе прозвали Склепом, потому что оно находилось в подвале жилого дома. Но, по мне, назови его хоть бункером — главное, нам нравилось в нем тусоваться. Частенько мы убивали в нем время и друг друга: рубились в «контра страйк» или «квейк», лазали по всемирной паутине — по атману, как говорит Кондрат — как одержимые, ища подтверждений его теории. Но настал день, когда все наскучило: достали онлайновые мочиловки, неопровержимых доказательств не было и в помине, вместо них все больше попадались новые порносайты и дебильные авторские странички. Нам резко все набрыдло. Мы продолжали ходить сюда по привычке, из уважения к Склепу и детям подземелья — ведь все они классные пацаны. Как и раньше, мы пили здесь пиво и лонгер, не таясь, пускали по кругу косячок. Как и раньше, на глазах у всех Ален демонстрировала любовь ко мне. Она такая, и я не могу по-другому. Ведь я Эрос.
Когда однажды… Да что там — это случилось два дня тому назад. У Палермо болел зуб, Ален ездила с отцом на дачу, а я просто хандрил, запершись в своей комнате. Поэтому Кондрат вынужден был ходить в Склеп один. Вот тогда-то он и отыскал в сети «Сайт мертвых». Говорит, совершенно случайно наткнулся на него. Но я ему не верю. Наверняка это как-то связано с его долбаным веббуддизмом.
— Ну, давай показывай, — голос Палермо заметно дрожал, гладко выбритый череп покрылся каплями пота. Неясно только, что его так возбудило — ожидание сногсшибательного открытия или натянувшаяся на груди Ален футболка. Боже, ну трахни ее в конце концов!
Я отвернулся, больше не в силах выносить дурацкое зрелище, но увидел картину не лучше. Передо мной, за столами, поставленными в два ряда, сидело человек двадцать геймеров. Их лица, обращенные в мониторы, мягко говоря, не вызывали симпатии. Азарт и, казалось, совершенно необоснованная ненависть на свой лад слепили из них маски. Время от времени, крича страшными голосами, они перебрасывались друг с другом командами-кодами, понятными одним только им… Странно, чему я так удивляюсь? У всякого геймера такое лицо, когда он убивает. В команде или в одиночку — убивает. Бывают рожи и похуже, когда, помимо страсти и ненависти, на них можно распознать знак проклятия — едва уловимый, на миг-другой всплывающий из самых глубин сознания. Отметив собой, как оспинкой, фейс очередного геймера, такой знак вновь растворяется в его зачумленном игрой взгляде. Бр-р!.. Но все-таки странное дело, чему я так удивляюсь? Ведь еще два дня назад я приходил сюда убивать. Как они — убивать.
Когда я снова повернулся к ребятам, Кондрат, как у себя дома, расхаживал по «Сайту мертвых». Я всмотрелся: карта сайта — типичный план кладбища: крестики повсюду, могилки, надгробные камушки… Ну и ну! Мне начинало это нравиться. Хм, даже могилку себе можно забить.
— «Займи местечко», — с невероятно томным придыханием, будто предлагая секс по телефону, прочла Ален и ткнула пальчиком в точку на мониторе. — Хочу здесь!
— Погоди, успеешь еще, — Палермо инстинктивно схватил Ален за руку, словно она могла и вправду броситься занимать местечко на виртуальном кладбище. Боже, вы только гляньте на Палермо! «Погоди, успеешь еще». Щенячья нежность!.. Как же все-таки он любит ее. Я искренне завидовал Палермо, но Ален мне ничуть не было жаль. Ведь она любила меня.
— Да пускай займет, — вдруг поддержал Ален Кондрат. — Классный прикол — выбираешь могилку и… А черт его знает, что будет потом.
— Неужели? — ухмыльнулся я. — Ты же всегда все знаешь.
— А давайте прикольнемся… над кем-нибудь? — Палермо загорелся, вдохновленный, видимо, только-только пришедшей в его бритую макушку идеей.
— Например, над Андрюхой, — подсказал я. И чего это я вдруг вспомнил Андрюшку Карпова? А фиг его знает.
— Ну хоть бы над Андрюхой, — с явной поспешностью согласился Палермо. Что, дружок, кишка тонка самому выбор сделать? — Андрюха мне вчера о своих жизненных планах рассказывал. Так их за сто лет не осилишь.
— Вот мы ему и поможем, — Кондрат гадко осклабился. — Ну, какой срок назначим ему?
Я с нарочитой серьезностью наморщил лоб:
— Предлагаю пару дней на раскачку.
— Принято. Ален, вбивай, — приказал Кондрат. Я заглянул из-за его плеча: в окошке кладбищенского меню Ален набрала: «13 августа».
Нам сразу же стало скучно.
— Ну, чего здесь еще клевого? — не стесняясь зевка, спросил-пропел Кондрат. Перебивая друг друга, стали читать меню:
— «Начальник кладбища», «Похоронная процессия», «Церковь», «Покойницкая», «Некрологи», «Привидения», «Вурдовампы», «Трактир „Черепок“, „Переписка с духами“…
— Давайте вурдовампом покликаем.
— Постой, это, кажись, грызуны из семейства вампиров?
— Банально.
— Да, согласен, надоело.
— Тогда сходим в церковь. Эрос, ты давно был в церкви? — не моргая, Кондрат смотрел на меня. Ну, чего ты уставился?
— Не помню. Вроде бы на Пасху.
— Надо же. А ты, Палермо?
— Чего я в ней забыл? — Палермо невольно попятился. — Ты ж сам говорил: „Святость связывает“.
А я ни с того ни с сего разозлился: — Ладно, хватит трепаться. Зайдем…
— Так я о том же: зайдем, помолимся, — резво подхватил Кондрат. Скосив взгляд на Ален, усмехнулся. — Расскажешь потом папику, чтобы в следующий раз не упрекал нас в безбожии.
— Не в безбожии, а в отсутствии святого у нас, — со знакомым придыханием поправила Ален.
— А, один черт! — Кондрат от души клацнул по мышке — и мы вошли в церковь.
— Ну и церковь! — присвистнул от неожиданности Палермо и немедленно провел рукой по голой макушке, словно проверял, все ли у него цело или, наоборот — не выросло ли чего лишнего.
— Да-а, если это церковь, то я Николай Угодник, — скорчил гримасу Кондрат.
— Гляньте, стены пулями изрешечены, — сложив руки лодочкой, в безотчетном порыве Ален поднесла их к губам. Казалось, еще миг и она зашепчет… Неужели Ален знает молитвы?
— Ох, ни хрена себе! Да здесь настоящее побоище было! Кровищи-то сколько! — Палермо нервно тер лоб.
— Тьфу, какой ты впечатлительный, — я поморщился. Что-то Палермо сегодня на редкость эмоциональный. Достал уже. — Обычная игрушка.
— Как сказать. Разгромленный храм впервые вижу. Тем более виртуальный. А там что? Кондрат, добавь четкости.
Кондрат навел курсор на точку в верхней части экрана.
— Судя по всему, здесь алтарь. А вот… Похоже на икону. Поглядим.
— Нда-а, точно богохульник здешний модератор, — Палермо с многозначительным видом покачал головой. Бритый череп его снова вспотел. Волнуешься, дружище? А мне так по барабану: мало, что ли, грязных картинок видел на своем веку?.. Краем глаза поймал Кондрата — тот с напускным безразличием закуривал. А ведь курить в Склепе строго запрещено!.. Ален как бы невзначай полезла в сумочку — не знала куда спрятать глаза. Да что это с ними?
— С чего ты взял, что эта мазня — икона? — выпустив струйку дыма, наконец спросил Кондрат.
— Так ведь распятие! Вон гвозди из рук торчат.
— Ага, на голове Иисуса рожки, а между ног член стоит. Короче, как и должно быть на иконе. Так что ли, Палермо?
— Ну-у…
— Ладно, побачимо, що цэ за искусство такэ. Та-ак, — Кондрат водил мышкой, Палермо боялся отстать взглядом, мы с Ален переглянулись — впервые за вечер мне захотелось трахнуть ее. Возможно, лишь затем, чтобы как-то выйти из этой дурацкой игры.
— Белые облака — это просто белые облака, мудаки — это просто мудаки, — вспомнил свое любимое Кондрат и… замер. Видимо, наткнулся на новое религиозное чудо. Так и есть. — А это кто рядом, а, Палермо?
— Черт, откуда мне знать, что там за придурки?!
— Темнота, — Кондрат презрительно поморщился. — Это ж апостолы.
— Апостолы?!
Даже у меня брови взлетели вверх.
— А чего ж у них над головой свастика изображена?
Ну ты и тормоз, Палермо! Неужели неясно…
— Вот это да! Кто-то прикололся по-черному, — наконец до него дошло. — Не иначе сатанисты какие-нибудь.
— Да ладно, брось строить из себя исусика, — Кондрат скривился. Затем вновь с интересом впился в экран. — Смело, а главное, оригинально. В такого бы бога я верил. Ведь бог — это просто бог, а не кукла, набитая молитвами и соплями. И рожки его не портят. Ну, так я говорю, пацаны? Свой бог — с рогами их…
— Перестань, Кондрат, противно слушать! — не выдержала Ален. Губы ее нервно дрожали. Я отвернулся. Вдруг почувствовал, как мурашками покрываются руки и кожа на спине. Бр-р!
— Эрос, а ты чего молчишь? — Кондрат не иначе как решил взять меня в союзники. Как же, губу раскатал! — Блин, он уже кому-то глазки строит! Во народ! Ладно, сворачиваем… Постой, сначала прочтем, чья эта фишка. Та-ак…
„Новая икона, — я медленно разбирал мелкий шрифт. — Школа современного искусства Авдея Тер-Оганяна“. Еще и армянское имя. Нет, мне оно ни о чем не говорило, никого не напоминало. Зато икона и вправду била не в бровь, а в пах.
Обескураженный, я задумался, оступившись в колдобину, вымытую беспокойными моими мыслями… К действительности, душной и злой, меня вернул голос Кондрата. Распаляясь все сильней, буквально смакуя каждое слово, он читал, точно проповедовал:
–. Хочешь вернуть бога в свою душу? Признай его равным. Будь храбрым! Не бойся сделать ему больно. Сократи дистанцию. Представь его без святых атрибутов. Надели его земным и грешным. Не бойся осмеять его. Земное делает его смешным. Бог, над которым ты способен смеяться, — твой бог. Аминь!»
Кондрат затих на минуту-другую, словно сам переваривал сказанное. Или, может, ждал и боялся божьей кары… Но нет — страха ни в одном глазу! Вскинул на нас черные очи, по очереди осмолил горящим взором.
— Ну, кто готов сейчас же стать членом Церкви смешного Христа?
— Сразу скажу, Кондрат, мне это не близко, — как мне ни было трудно, я не отвел взгляда от его дьявольских глазенок. А он убрал, не выдержал. Зато попался Палермо.
— Я вообще атеист, — ни с того ни с сего брякнул он. — Кондрат, нам что, больше заняться нечем? Надоела бредятина эта! Выходи отсюда, ты прямо смакуешь ее… эту…
— Заткнись! Достали твои слюни! И твои тоже… Эрос. Среди вас лишь один нормальный пацан… Ален. Что, Ален, рискнем?
— Что, Кондрат? — она как будто не поняла, к чему он ее подталкивает. Чувствуя, как холодный озноб охватывает мое тело, я машинально потянулся к пачке сигарет, спрятанной в кармане джинсов. Но Кондрат расценил мой жест, как попытку поддержать Ален, — не глядя, он ловко перехватил мою руку. Я так и застыл, словно пойманный на горячем.
— Хочешь, членом… стать? — не отпуская моей руки, Кондрат вновь начал подкрадываться к Ален, как хищник, во что бы то ни стало решивший свалить свою жертву. — Вернем бога в наши души?
— Ну, — она опустила глаза. Казалось, они намертво прилипли к компьютерному столу.
— Так что, Ален?
— Давай!
Она вскинула свою чудесную головку… Я во все глаза уставился на нее. Боже, я совсем не знаю ее. Ален — смеялась! Беззвучно, зато попадая точно в цель. Ален — мое роковое проклятье!
Палермо предпринял отчаянную попытку спасти ситуацию. И спастись самому. Как в эту минуту он был смешон.
— Да вы что?! Перестаньте, ребята! Давайте-ка на посошок бахнемся в «контра страйк»?
— Слушай, Палермо, вали отсюда! — Кондрат в ярости отбросил прочь мою руку. — Никто тебя насильно не тащит. Атеист хренов.
— Ну и черт с тобой! — Палермо с облегчением вздохнул. Потом на меня посмотрел. С надеждой посмотрел и прямо с собачьей тоской. — Пошли, Эрос.
На секунду закрыв глаза, я отрицательно покрутил головой.
— А ну вас!
Палермо ушел. По-моему, даже хлюпнул носом.
— А ты чего остался? — криво усмехнувшись, Кондрат вдруг обнял Ален за плечи — та даже не шелохнулась.
— Я отвечаю за Ален.
— С чего это?
— Потому что… люблю ее.
— Спасибо, Эрос, — одним движением, не злясь и не кокетничая, Ален скинула руку Кондрата.
— Я обожаю тебя.
Глаза Кондрата на миг затуманились, складки губ стали жесткими, как у мертвого Ленина… Потом очи его вновь вспыхнули, загорелись знакомым волчьим огнем — меня он одновременно пугал и манил. Сколько же все-таки в Кондрате драйва! Мне, Эросу, так недостает его — природного, волчьего драйва.
— Ладно, начали, — сам себе скомандовал Кондрат и кликнул по ссылке «Новые прихожане». Ссылка имела вид небрежно свернутого свитка. Хм, будто контракт с дьяволом собираемся подписать, — тотчас родилось сравнение — я невольно поежился.
— «Распишитесь кровью или поставьте свастику на свободной иконе», — Кондрат прочел короткую инструкцию. С полминуты возил мышкой по Церкви смешного Христа. Нашел три чистых, не испачканных богохульниками иконы. Богохульники тут же нашлись — мы.
— Ну что, теперь мы одной ниточкой повязаны, — Кондрат потер руки, переживая прямо-таки черное удовольствие от сделки с неизвестным сатаной. На нас с Ален лучше было не смотреть — так мне казалось в ту минуту.
Кондрат не видел или не хотел видеть нашей иудовой слабости, яблоками позора проступившей на лицах. Нет, я ни в чем не раскаивался — поздно было. Зато Кондрат разошелся не на шутку. Таким его я давно не видел: глаза выпучил, изо рта жидкая ярость брызжет… Он заводил себя, подобно монаху, что хлещет себя кнутом по спине за свои же грехи.
— Мы сделали одолжение богу — признали его! Мы сократили дистанцию! Теперь он такой, как мы!..
— … А мы — такие, как Он, — неразборчиво выговаривая слова, добавила Ален. Взгляд ее, до этого момента потухший, вдруг засветился, как глаза у ожившего Терминатора.
— А как же! Круто! Поправка! — Кондрат хлопнул меня по плечу, заглянул в глаза — и презрительно сомкнул губы. — А ты чего скис, Эрос?
— Голова чего-то разболелась, — я внутренне усмехнулся собственной лжи — жалкой и глупой.
— Слабак ты, Эрос, — Кондрат снова улыбался — безжалостно, как мог улыбаться, наверное, он один. — И за что только любит тебя Ален?
3
…Интернет — сосуд, в котором сообщаются наши желания… Без оглядки, не раздумывая и ни о чем не жалея, я расставался со своими желаниями. Ясно ощущал, как убывают они, как беззаботно шумят, подобно вешним ручьям, наконец вырвавшимся из-под ледяного панциря. Разум никак не препятствовал бегу моих желаний: ведь я был железно уверен, что взамен получу нечто большее, необыкновенное, чего я никогда не желал. Возможно, потому что не подозревал о существовании этого нечто, недалекий, обходил его вниманием или просто-напросто не готов был его возжелать — не достоин желать. Но как бы там ни было, я был, повторяю, железно уверен, что новые желания, как новые надежды, неузнаваемо преобразят меня, круто изменят мою дальнейшую жизнь, уведут с дороги, уже успевшей стать похожей на заезженную колею, — уведут в другие миры. Я добровольно расставался с желаниями, как нежилец отпускает кровь из вскрытой вены, надеясь избавиться от вечного стыда и тревоги… Интернет — сосуд, где сообщаются наши желания. Однако время шло, а я так и не получил ничего взамен. Напрасно истекая желаниями, порядком обессиленный, едва-едва справляющийся с приступами тошноты, я схватился за виски. Их нестерпимо ломило, ломало, в них беспрерывно тикало и звенело, словно там шел отсчет последних моих желаний, словно там, угрожая и кляня, надрывался телефон…
Опустошенный утренним кошмаром, чувствуя под мышками предательскую влагу, я опустил ноги с кровати. На будильнике 7.34. Черт, кому я понадобился в такую рань? Неловко двигая затекшими ногами, прошлепал в прихожую, чтоб раз и навсегда задушить телефон.
— Эрос, проснись! Тут такое творится! — с первой секунды Палермо не дал мне опомниться — волна тревоги ринулась накрыть меня с головой. Напрасно: я все еще находился под впечатлением сна. — Вчера Вовку Проуна убили! Ты представить себе не можешь…
— Да ну? — я не удержался от зевка. Голос Палермо, казалось, мне снится… Впрочем, мне дела не было до смерти Проуна; для меня он всего лишь знакомое имя. Тем не менее я вежливо спросил: — Нашли, кто убил?
— Куда там! Менты за голову хватаются!
— Еще бы, папик у него вроде из…
— Нашли Проуна на Басах с проломленной головой.
— Нда-а, хорошего мало, — я должен был что-то сказать. Ну не посылать же Палермо за то, что он поднял меня ни свет ни заря! Хм, разбудил из-за чьей-то смерти. Ладно бы хоть заметный пацан пропал. — Хоть Вован и бандит был, жаль пацана.
Я внезапно иссяк. Ужас сюрреалистического сна окончательно развеялся, чужая смерть абсолютно не тронула. Вдобавок нестерпимо захотелось в туалет.
— Чего замолчал? — не выдержал Палермо.
— Так. Вечером куда пойдем?
— Не знаю еще. Наверное, опять в Склеп.
— Что, снова на «Сайт мертвых»?
— Не поверишь, тянет, — шепотом признался Палермо. Ну и слышимость сегодня по телефону — зловещая.
Я подумал, но врать не стал.
— И мне страшно, Палермо. Оттого что тянет туда.
Любопытство — страшная вещь. Страшней красоты. Войдя на , любопытства ради щелкнули по ссылке «Некрологи». Меня тошнило от заздравий и тостов, пожелания покойникам еще забавляли. Это ж надо было кому-то придумать назвать гостевую книгу некрологами!
Мы углубились в чтение. И в самом деле забавляло. Щелкнешь по имени или нику, а там хохма вроде этой: «Жорж Клон. Жорик, вертись на том свете, как ты вертелся в этой жизни. Бойся ментов и налоговиков. Они там тоже есть. Верка и кореша». Ну, чем не прикол? «Сашечка Самсоненко. Боже, Саша, какая нелепая смерть! Как ты могла нас оставить?! Забери нас с собой! Мама, Нюша и Федор… Железный Клоп. Разбился на мотике. Прощай, братан! Колян… Мировая Дура… Славик, Дизайнер бабских сисек… Соленый Кот… Вован Проун… Косолапый Лелик…»
— Стоп! Проун! — я машинально ударил Палермо по руке, управлявшей мышкой. — Это интересно.
— Пусто, — Палермо разочарованно пожал плечами.
— Хм, только даты рождения и смерти. 11 августа…
— Ну, так оно и есть: вчера ж его и убили.
— Постой, а откуда здесь взялась… эта запись? — я прямо-таки обалдел от открытия. — Это что же получается…
— Кончай, ты мистика-то из себя не строй! — неожиданно грубо оборвал меня Палермо. Неужели и до него дошло? — Взялась — и все тут!
— А ты мне рот не затыкай, понял! — я мгновенно завелся, почувствовав себя уязвимым. Но главное, мне стало страшно за…
— Эрос, нужно проверить!
— Как раз это я и хотел сделать. Ну-ка, найди его могилку, будь она неладна!
— Вы чего это, мальчики? — раздался вдруг голос Ален. Мы разом оглянулись — ее глаза подозрительно блестели. Кондрат похабно ухмылялся, левая его рука и правая Ален были скованы наручниками.
— Твоих рук дело?! — не в силах больше сдерживать себя, я накинулся на Кондрата.
— Охренел совсем! — продолжая ухмыляться, теперь уже злобно, Кондрат попятился. — Я привел тебе Ален… на дознание. Не хочешь заглянуть ей под юбку? Целомудрие просит политического убежища.
Кретин, о чем это он? Мы не клялись с Ален в вечной любви.
— Но кто-то же прикололся над Проуном! Прямо как мы.
— Что? — Ален вмиг побелела, вскинула было руки к лицу, да правую наручники не пустили. — Андрюша?!
— Ну-ну, разорались тут, — Кондрат процедил сквозь зубы. — Не гоните пургу по чем зря, ясно?
— Все равно нужно проверить, — упрямо гнул свое Палермо. Молодец, парень, ценю.
— И правда, нужно проверить, — поддержала Ален. Глаза ее больше не блестели, они высохли, как две вчерашних лужи.
— Валяй, — все так же сквозь зубы согласился Кондрат. Куда бы ты делся, урод! В эту минуту я жутко возненавидел его. Боже, неужели я ревновал его к Ален?
По кладбищенскому каталогу разыскали будущую могилку Андрюшки Карпова. Нет, ну надо ж такое придумать — будущая могила!
— Завтра, — я как баран уставился на экран.
— А завтра точно тринадцатое? — дурашливым тоном усомнился Кондрат. Никто на него даже не взглянул.
— Нужно сообщить ему, — не подумав, предложил Палермо.
— И что ты ему скажешь? — я тяжело вздохнул — моя ведь была идея с Андрюхой. — Что мы назначили ему дату смерти?.. Он нас на хер пошлет!
— Да вы что, мужики?! — Кондрат вытаращил на нас глумливые свои глазки; Ален как-то уж слишком обреченно поникла головой. — Фигней занимаетесь! Это ж простое совпадение!
— Что совпадение?! — я пришел бешенство. — Смерть Вована и запись в его «некрологе»?!
— Отвечаю: это просто черный прикол, — Кондрат не сдавался, правда, от мерзкой улыбочки его и следа не осталось.
— Боже, Андрюшка, я же раз целовалась с ним! — запричитала было Ален, но я больно дернул ее за руку.
— Прикол, говоришь? А что ж тебя так колбасит? Зуб на зуб не попадает?
Кондрата и в самом деле трясло, как от простудной лихорадки.
— Надо выпить, — глухо предложил он.
— Надо, — согласно кивнул Палермо. — Сначала Андрюхе позвоню.
— И что ты ему скажешь?! — опять взвился я.
— Эрос, ты не прав, пусть позвонит, — заступилась Ален.
— Узнаю, как дела, — совершенно спокойно пояснил Палермо; видно было, что ему до одного места моя истерика. — Где здесь телефон?
— У менеджера, — Ален с торопливой готовностью кивнула в сторону входа в Склеп.
Палермо звонил, наверное, вечность. Мы жгли взглядами его чуть согбенную спину, торопили мысленно и вслух: «Палермо, что ты там тормозишь?!»
— Ну что? — с напускным равнодушием — слишком напускным — спросил я. Первым спросил.
— Нет его. Мать говорит, в Харьков уехал. Завтра рано утром возвращается.
— Ну и слава Богу! — с облегчением вздохнула Ален.
— Ты думаешь, он тебя слышит? — не удержавшись, ехидно заметил Кондрат.
— Не богохульствуй, понял! — вновь заводясь, рыкнул я.
— Достали вы меня, — отмахнулся Кондрат; затем нехорошо сузил зрачки. — Вижу, Эрос, ты уже успел забыть…
— О чем? — я не решался взглянуть ему в глаза — знал, что он сейчас скажет.
— Как же ты быстро отрекся от двух богов. От таких разных богов.
— Сволочь! — я схватил Кондрата за грудки, но уже в следующую секунду Палермо оказался между нами.
— Пойдем выпьем, — он хрипел, как испорченный телефон.
Мы изрядно набрались в тот вечер. По-моему, даже не заплатили за последнюю бутылку портвейна — вслед нам какой-то мудак выкинул из кафе сумку Ален. Сумка сплошь была в бордовых пятнах, от пятен мерзко несло сивухой… Ален стало дурно тут же рядом, на троллейбусной остановке. Ален так дико рвало, что бабки, в столь поздний час еще торговавшие семечками, не рискнули вякнуть в ее адрес. Кондрат, платком вытерев ей лицо, увез домой на такси. Сволочь, он так и не открыл тех дребаных наручников!
Палермо сильно шатало, мне мерещился в каждом встречном парне мертвый Проун. Маршрутки все не было.
— Что ты об… всем этом дум… думаешь? — едва ворочая языком, сказал Палермо.
— Говно, — просто ответил я, пьяным взглядом всматриваясь в ночную даль. Черт, кого я там хотел подогнать?
— Ик, и мне не нравится, — икнул Палермо и обреченно покачал головой. Ну точно китайский болванчик.
— Не знаешь, чего Андрюха в Харьков подался? — зачем-то спросил я.
— Мать его сказала, на Барабашовский рынок, за дубленками — себе и сестре. В августе дубленки самые дешевые.
— Все равно с деньгами поехал, — автоматически вывел я.
— Что значит, с деньгами? — Палермо уперся в меня хмельными очами. На моих глазах взор его неумолимо трезвел и гас, подобно всем звездам мира, что потухнут через четыре часа, на рассвете. Тогда — я вспомнил — приходит из Харькова поезд.
— При чем тут деньги? — давно все поняв, повторил Палермо. Он хотел, чтобы я его обманул… Но я заорал как ненормальный:
— Говорю же: говно!!
— А что ты теперь можешь исправить?! — вопил в ответ ошалевший Палермо.
— Не знаю, — комок встал в горле, еще шаг и я расплачусь, как последний пацан. Еще шаг к осознанию полного своего бессилия…
— Стоп, по идее…
Что-то пришло мне на ум, какая-то мелочь, но я решил за нее зацепиться. В эти минуты даже собственный страх можно было принять за единственную соломинку.
— Не помнишь, был ли там сервис «Вытереть» или «Отменить»?
— Какой еще сервис? — не сразу догнал Палермо. Ему захотелось помочиться, и он прицелился пенисом в ближайший каштан. Не смея отвести взгляд от быстрой струи, я пожалел, что нельзя так же легко избавляться от ошибок и глупых мыслей. От наших дурацких поступков.
— Блин, Палермо, вспомни, ну там, где мы заносили год рождения и… фамилию Андрюхи — была там такая команда?
— «Отменить», что ли?
— Ну да!
— Кажись, была, — неуверенно протянул он.
— Тогда летим в Склеп! — я схватил его за рукав. Но Палермо, неожиданно выпучив на меня рыбьи глаза, зло вырвался, махнул рукой, силясь достать меня по лицу, — не достал; потом, повернувшись, побежал прочь, крича на ходу:
— Нет, я сегодня не могу! У меня сегодня мальчишник!
Господи, во что же мы вляпались?! Образ Бога испохабили, поклялись невесть кому и друга приговорили. Кто наделил меня такими желаниями, кто?! Весь мир наш — сплошной сайт мертвых, где всякий роет себе и другому могилу.
При входе в Склеп менеджер, несший ночное дежурство, не хотел пускать меня: мол, машины все заняты. «Отвали», — я грубо оттолкнул его; «уйди», — дрожащими губами попросил убраться тринадцатилетнего пацана. Наконец сел за компьютер.
Не попадая по клавишам, не сразу ввел адрес сайта. Господи, хоть бы там был этот чертов сервис — «очистить», «удалить», «оскопить», «аннигилировать»! Ну, чего ж он так долго грузится!
Ну!.. «HTTP Ошибка 403 — Запрещено. У вас нет прав для просмотра этой страницы. Возможно, просмотр этого каталога или страницы с использованием указанных вами личных данных не разрешен».
У меня хватило сил прочесть все это. Потом в глазах поплыло… Черт, только этого не хватало! Черт!! Я саданул что есть мочи по клавиатуре — на меня даже не глянули. Наверное, подумали, что у пацана от игры крышу рвет. А у меня и вправду рвало крышу…
Что же ты, Господи? Будь Ты… будь я проклят! Не уйду, я не уйду отсюда! Живым не уйду, пока не дождусь. Я обязательно дождусь, когда он заработает, когда Он пустит меня. Держись, Андрюха! Господи, возьми меня, а его — нет…
4
Я убил его. Стоило мне поверить в это и испытать первый страх, как сразу после него — может, наоборот, спустя несколько часов, неконтролируемых, ненаблюдаемых моим убитым горем сознанием — возникло новое ощущение. Я вдруг почувствовал, что теперь все можно. Мне — все можно. Но об этом никто не догадывается. Ведь следом за вторым я немедленно испытал ощущение «три», еще более необычное, фантастическое, чем предыдущее. У меня даже дух захватило! Словно я ушел от всех, оставив вместо себя фантом — того «я», который не убивал. Я ушел… а теперь не могу вернуться назад, туда, где не убивал. Зато там, где я сейчас, кроме меня — никого. Абсолютная пустота, абсолютное одиночество. Потому-то и смысла нет во вседозволенности: зачем мне мочь все, если вокруг меня — никого. Я сразу далеко ушел — зашел далеко. В область недозволенного. И теперь, мысленно обернувшись, похоже, даже стоя на какой-то возвышенности — если, конечно, меня не обмануло четвертое ощущение, — с некоторым удивлением взирал на оставшихся далеко позади. Так, наверное, душа наблюдает за покинутым телом. Ей, душе, наверное, так же пусто и…
Боль пришла позже. Не знаю, когда точно — я по-прежнему не смотрел на часы… Я вообще ни на что не смотрел! Так резануло по сердцу. Больно!! Боль газонокосилкой проехалась по мне изнутри, выкашивая, казалось, последнее, что осталось во мне человеческого, — чувства, желания, совесть… Боже, я убил Андрюшку! Что я наделал?!.. Кто-то скомкал мое лицо, как грязную салфетку, и выдавил щедрую, но никому не нужную боль. Я плакал, уткнувшись лбом в шершавую стену Андрюшкиного дома…
13 августа Андрюха Карпов не вернулся из Харькова. Не приехал он и 14-го, и 15-го… Мне рассказывали, что родичи Карпова погнали в милицию, наши менты вроде как связались с харьковским УВД… Не знаю. Какое теперь мне дело, если я не могу ничего изменить. Ни одной живой душе не по плечу такое — изменить судьбу.
Это значит, он никогда не вернется. Боже, что я наделал! Я убил его!!
5
— …Бред! Это все твои поганые, слюнявые рефлексы не дают тебе жить. Борись с рефлексами, Эрос! Они неверно отражают наш мир. А твои так тем более. Слишком чистенькие они у тебя, твои рефлексы, и… зубастые. Да-да, зубастые! Ты носишься с ними как с писаной торбой, а они тем временем выгрызают тебя изнутри, пудрят ядом мозг, выставляют тебя на посмешище. Но я же помню: ты всегда хотел стать сверхчеловеком, Эрос!
Кондрат Гапон ясно выражал свои мысли, несмотря на набитый рот. При этом он причмокивал и урчал, издавал чавкающие, хлюпающие, пошлые звуки… Палермо отчего-то покраснел и отвернулся. Эрос тупо цедил водку из пластикового стаканчика — набрав полный рот, выплевывал обратно. Ален с недвусмысленной улыбочкой хихикала. Зато дамочка через два столика от компании юных лоботрясов — немолодая, но прилично одетая тетка — с откровенным вызовом таращилась на Кондрата. А тому хоть бы хны. Гапон упражнялся в назидательности и одновременно деловито обсасывал кость. Как пес, который лает на прохожих, но добычи своей не выпускает. Где он взял такую громадную кость? В обычной-то рюмочной, где, кроме тошнотиков или дешевых бутеров с линялой колбасой, другого закусона не сыщешь…
— Ну, так как, Эрос? Ты сверхчеловек или кусок мяса, по собственной воле отданный на съедение собственным же рефлексам? — Кондрат, похоже, решил окончательно достать приятеля, битых девять дней находившегося в прострации. Зацепив длинным ногтем правого мизинца, Кондрат ловко выудил из кости толстого мозгового червя. И тут же слизнул его.
— Он всего лишь мой любовник. Его главный рефлекс — любовь ко мне, — ни с того ни с сего Ален решила заступиться за друга. Видимо, ей надоел этот дурацкий разговор и оскорбления в адрес Эроса, которого она и в самом деле любила. И любви ни от кого не скрывала… Вдруг точным движением руки Ален выхватила у Палермо крабовую палочку, которую тот уже собирался было сунуть в рот. — Как такое можно есть?! Не делай больше такого, Палермо! У этой штуки совсем другое назначение. Я, к примеру, использую ее вместо «тампакса».
— Это крабовую-то палочку? — недоверчиво хмыкнув, Палермо покрутил бритой своей головой. — Ты что, девственница?
И все — никто не рассмеялся, не воспринял всерьез Аленину шутку. А она так хотела отвлечь ребят…
— Заткнись, Ален! — зло грохнув костью об стол, рявкнул Кондрат. — Не видишь, один пацан хочет вылечить другого?!.. Эрос, заставь свою нервную систему управлять рефлексами, — вновь повернувшись к Эросу, Гапон продолжил поучать его. По дрожащим Кондратовым губам видно было, что парень изо всех сил борется с гневом, внезапно вспыхнувшим в нем. Вот ему удалось овладеть собой. — Стыд и боль из-за мнимого убийства, гребаная вина, которую ты чувствуешь сам и выплескиваешь на нас, как ведро с дерьмом, — чистый, вернее, наоборот, классический грязный рефлекс. Ты реагируешь на мир как последний интеллигентишка, находящийся под вечным давлением культуры и моральных устоев! Этих навязчивых ложных проблем, вытеснивших из нас все живое, все человеческое! Вспомни, Эрос: белые облака — это всего лишь белые облака, а чья-то смерть — если даже допустить, что она все-таки имела место — это всего лишь чужая смерть. Не рефлексируй, Эрос!
— Эрос, Кондрат в принципе прав: мало ли какая причина могла задержать Карпова в Харькове. Может, Андрюха встретил там дружбана, решили выпить за встречу, ну, и нарезались по-черному, — хлопнув стаканчик водки, Палермо, наверное, в отместку Ален запихнул в рот сразу три крабовые палочки. — Ведь может быть такое?
— А знаешь, почему тебя так ломает, Эрос? — Кондрат снова завелся, придвинул к себе пресловутую кость, но обсасывать больше не стал. — Потому что ты не спишь с Ален! Ален, когда Эрос в последний раз трахал тебя?
— Пошел к черту, Гапон! — в очередной раз выплюнув водку в стакан, ругнулся Эрос.
— Наконец-то! Голосок прорезался… Хм, значит, я прав, Эрос. А знаешь, почему так происходит? Почему ты не трахаешь Ален…
— Еще одно слово, Кондрат — и я дам тебе в морду.
Ален грустно улыбнулась: отошел-таки любимый, заступается…
— …и шугаешься самого себя, как калека маньяка? Или, скорее, как маньяк калеки? — Гапон упрямо гнул свое. — Так я скажу тебе: в этом виноваты все те же твои рефлексы! Они перекрыли краник твоей похоти, и теперь она вынуждена переть изо всех щелей, кроме той дырочки, что положена самой природой. Нет ничего ужасней похоти, которая не находит себе выхода! Погляди на себя: тебя ж трясет, как осиновый лист! Того и гляди сорвет и унесет к чертовой матери. А это значит, твоей головушке тю…
От удара Кондрат изогнулся вперед спиной, выронил кость, сделал шаг назад и, не удержав равновесия, упал на соседний столик, опрокидывая стаканчики с водкой и запивоном. Два мужика за тем столиком от неожиданности замерли, смолкли, но бить не стали. Модная дамочка, вожделевшая Кондрата, недовольно подняла красивые брови и вынула из сумочки носовой платок… Не стал в другой раз бить и Эрос. Палермо сбоку кинулся на него, попытавшись схватить за руки. Ни к чему. Эрос снова впал в прострацию. Правда, вначале глотнул водки, которой полоскал душу, иссушенную горем и стыдом.
Гапон приложил к подбитому левому глазу кокетливый носовой платок — каким образом дамочка передала его, не углядел никто.
— А ведь я сказал гораздо больше, чем одно слово. Отсюда напрашивается вывод: либо ты хотел-таки узнать, что же я в итоге скажу, и поэтому медлил с ударом, либо ты просто-напросто трус, Эрос.
Все так же без предупреждения Эрос сплеча рубанул Гапона — голова у того беспомощно покачнулась, словно цветочный бутон на стебле, раскачиваемом ветром… Однако Кондрат в этот раз устоял на ногах. Лишь лицо впопыхах закрыл руками — тонкий платок в пятнах крови упал к его ногам. Фыркнув, красивая немолодая тетя, обиженно задрав пудреный носик, покинула рюмочную. Закрывая за собой дверь, она уже не могла видеть, как Кондрат, резко оторвав руки от лица, хищно улыбнувшись, нанес первый ответный удар — и тут же второй, третий… Теперь наступил черед Эроса уткнуться лицом в ладони, сквозь неплотно сжатые пальцы проступила кровь.
— Кондрат, что ты наделал?! — Ален истошно завизжала, слезы брызнули из глаз так густо, будто она вечность носила их в себе, обреченно дожидаясь своего срока. И вот срок настал.
— Ну, вы оба точно подурели! — Палермо, корпусом оттеснив вошедшего в раж Гапона, закрыв собой Эроса, даже не думавшего защищаться, попытался отнять от его лица окровавленные руки. — Эрос, послушай, твоя вина перед Андрюхой — это повод, причина в чем-то ином. Тебя гнетет что-то другое. Не знаю. Ну, в самом деле, если следовать твоей болезненной логике, то любая наша смерть в «контра страйке» может обернуться смертью одного из нас или всех сразу. Реальной смертью, Эрос! Но мы же живы до сих пор! Ты плачешь? Ну успокойся… Или, допустим, тусуясь в чате и посылая кого-нибудь на хер, или, еще хуже, наяву желая кому-нибудь несчастий и бед, мы, следовательно, можем рассчитывать, что так и произойдет…
— …лох какой-нибудь сдохнет, как паршивая собака, — именно так, как ты ему пожелал. Так, что ли, Эрос? — ехидно ухмыляясь, не преминул встрять Кондрат.
— Мальчики, давайте сменим тему, — Ален женской прокладкой промокала кровь на лице Эроса. Голос ее, звенящий, заметно вибрирующий, будто его пропустили через синтезатор, грозил вот-вот сорваться на истеричный крик, если кто-то, не дай бог, вздумает пойти против ее воли. — Видите, Эросу неприятны ваши слова?
— О-е-ей! Что я вижу! Телячьи нежности! Еще одно рефлексирующее созданье! О-о-о!.. За что, Ален? — Кондрат, вмиг переломившись, как перочинный нож, схватившись за пах, выпученными очами уставился на девушку — Ален коленкой вмазала ему между ног.
— Пойдем, мне еще с тобой нужно разобраться, — устало улыбаясь, Ален потянула Эроса за рукав.
— Ты думаешь, от меня еще можно чего-то ждать? — он с сомнением покачал головой.
— Пошли. А то и тебя сейчас… замочу. Эх, дурачок ты, Эрос, дурачок.
Эроса, перепачканного в крови, непрерывно меняющегося в лице, трясущегося, как от простудной лихорадки, Ален увезла домой. К нему домой — не к себе. Что ж она — дура? Еще откинет коньки по дороге… Сначала, щелкнув откидным дисплеем, словно крышечкой пудреницы, позвонила со своего мобильного «А-800» в «скорую»:
— Мне нужно такси.
— Позвоните по другому номеру.
— Но я хочу… я требую… я настаиваю, чтобы вы прислали карету!
— Тогда вам придется вскрыть вены, броситься под машину или прыгнуть с балкона.
— Хм, спасибо за исчерпывающий ответ.
Затем Ален вызвала такси «058»:
— Моему другу требуется срочная медицинская помощь!
— Что, передозировка?
— Нет, наоборот, дефицит общения.
— Ну-у, это меняет дело! Назовите адрес, я выезжаю…
Таксист попался с чувством юмора и еще не задолбанный клиентами. Видимо, недавно выехал на маршрут. Голова Эроса — со слипшимися, почерневшими от крови волосами, распухшим лицом, а главное, неимоверно тяжелая, как будто вместе с ударами в нее вколотили некий тайный смысл, к которому бедолага Эрос не был готов — всю дорогу норовила слететь с его плеч. Ален, нервничая, вправляла обратно голову и умоляла потерпеть, совсем немного потерпеть, горячо нашептывая в правое ухо самые невозможные обещания. В ответ голова, не раз ею целованная и виденная во сне, а сейчас изменившаяся почти до неузнаваемости, фаршированная болью, страхом, незнамо какими мыслями, вдруг произнесла внятно и с выражением. Будто в голове, в тот момент воспринимаемой Ален отдельно от плеч, рук, шеи — отдельно от остального Эроса, открылось второе дыхание. Вернее, второй голос. Сильный. Глубокий. Бездонный. Чужой. Голос, вдруг явившийся не иначе как из небытия, где, похоже, душа Эроса уже испросила защиты, где нет ни боли, ни страха… Этот дивный голос изрек:
Серебряно-виноградные пруды. Шагнуть, порвав спокойствие воды. Пускай растают памяти круги. Уйти скорей, оставив мир сей без вины. Серебряно-виноградные пруды!..Не желая обременять себя жалостью, Ален грубо пхнула дружка в правое плечо: «Что он там несет? Серебряно-виноградные… Памяти круги… Неужто сочиняет? Вот Боб Дилан фигов!»
Вместо чека кассовый аппарат выбил стихи. Машина поддалась на провокацию, но не Ален.
— Сколько с меня? — безразличным тоном спросила она.
— А сколько бы вы дали за эти стихи? — вопросом на вопрос ответил таксист.
Эвакуатор на экваторе Эвакуирует закаты, Буксирует восходы — Грядущему готовит путь. А мы свой день прокакали, Продули, точно в карты, В расход пустили годы — И не на что взглянуть…— Бред какой-то.
— Тогда с вас шесть сорок.
6
Дома у Эроса царил кавардак. Вещи навалились, напирали друг на друга, сами собой или по чьей-то указке сложились в уютную баррикаду, которую не хотелось тут же взять штурмом, а наоборот — долго и с удовольствием преодолевать, задерживаясь, замирая, тискаясь, целуясь то в одном, то в другом, то в третьем укромном уголке.
Пробираясь сквозь мягкие, пушистые, теплые завалы, волоча за собой раненого Эроса, Ален ненароком прижалась к нему. Задышав часто-часто, не преминула повторить:
— Боже, Эрос, какой ты горячий! Это хорошо, мой любимый, что ты весь горячий. По законам физики — если они, конечно, не врут — нагретое тело увеличивается в объеме, а значит… Значит, твой член должен быть больше. Я хочу тебя, Эрос!
Перекинув его руку себе через плечо, Ален затащила приятеля в полутемную спальню. Вместо того чтобы прищуриться, всмотреться — поморщилась. Очертания жилища показались ей невнятными, неубедительными, как неумелый карандашный набросок. Но пахло определенно прегадко — отовсюду пахнуло одиночеством и лежалыми тряпками.
Одичалые запахи — эфирные знаки того, что люди здесь жили редко и с редкой любовью друг к другу, — неприятно защекотали Аленин нос. На глаза отчего-то навернулись слезы… Зато свет из окна струился особенный. Казалось бы, обыкновенный, уличный, но… Свет был населен вызолоченными пылинками, роившимися в нем густо и жадно, подобно возбужденной мошкаре. И лился свет так же странно, прерывистыми струями-порциями, как будто там, за оконным стеклом, кто-то отмерял его, задерживал в себе, прежде чем выдохнуть, наконец выдыхал, будто сигаретный дым, — в эту чудную комнату вдыхал свет. Искрившийся, переливавшийся миллионами мошек-блесток… А вокруг нескончаемо вились, витали обрывки потускневших, как стекло, речей, захиревшее эхо рифм, отголоски песен, то брудных, то светлых, до боли, до экстаза знакомых, что Эрос напевал ей на прошлом свидании… или на позапрошлом… Вот сейчас она вспомнит-уловит одну из них, сейчас. Ален прищурилась, забавно сморщила носик, но теперь уже не от гадкого запаха. В чудесной головке ее забренчали струны Эросовой гитары, раздался негромкий и ломкий голос его. Живой и естественный — совсем не такой, как в такси.
Снится мне: я опять не летаю И, тоскуя, хожу по земле И напрасно руками взываю К изрешеченной звездами мгле. Но однажды, во сне заблудившись, Я забрел в незнакомый квартал. Там над ним небосвод, наклонившись, Лепестками ночи посыпал. Я вгляделся в небесные дали, Из которых лиловый лил свет. Эти дали меня зазывали Рассмотреть их лиловый букет. Но как только я смог оторваться, Ощущая в полете мечту, Я вдруг стал по частям распадаться — На тоску… суету… пустоту…Некто снаружи продолжал вдыхать в заброшенное жилище людей свет-жизнь, а один из человеков, ненароком забредший сюда, стоял, казалось, безвозвратно потерянный для этой самой жизни-света. Вокруг бесчувственной головы напрасно роилось золотое облако… У-у-ух! — в чувство Ален привел новый толчок желания. Не без усилия над собой оторвала взгляд от золоченого нимба или короны, случаем или самою судьбой водруженной на макушку Эроса; опустилась глазами по хорошо сложенному торсу возлюбленного к ягодицам его и бедрам. Подвела к громадной квадратной кровати, вдруг отпустила, отошла на шаг… Совершенно невменяемый, словно находящийся под гипнозом, с застывшей маской на лице, обезображенном следами побоев, Эрос бревном повалился на упругое тело кровати. В лихорадочной спешке, закусив от возбуждения губу, Ален принялась стягивать с Эроса джинсы. Почти одновременно разделась сама. Перевернула дружка на спину… и едва не плюнула в его безжизненное лицо.
— М-м-м, ты просто тряпка, Эрос! Пропитанная слюнявыми рефлексами тряпка! Тьфу, как ты мне противен! Ну почему, почему я влюбилась именно в тебя?!.. Нет, я заставлю тебя захотеть меня, заставлю!
Униженная, оскорбленная кошка вцепилась когтями в тело любовника, одним махом нанесла две сочных царапины, осеклась при виде свежей крови, испугалась содеянного, опрометью кинулась искать по полкам — по шкафам спасительный бутылек, не нашла, помчалась в ванную — может, там есть этот чертов йод… Эрос даже не шелохнулся, лежал совершенно голый и без признаков жизни, и если бы не алые струйки крови, все сочащиеся и сочащиеся из двух глубоких царапин, можно было бы смириться с тем, что он мертв.
Ален вернулась с громадной клизмой, горстью каких-то крышечек и колпачков и длиннющей цыганской иглой. О йоде она уже не помнила. Теперь другая мысль, навязчивая как никогда, одержимая местью и грехом, правила ее рассудком. Девушка перевернула на живот полуживое, бесчувственное тело Эроса, секунду-другую хищно смотрела на него — ноздри ее заметно раздулись, дыхание стало частым, тревожным… Вдруг она вставила большой палец Эросу в задний проход — парень даже не вздрогнул, — выдернула, мельком глянула на грязный палец, сплюнула и принялась торопливо подбирать к клизме насадки из колпачков и крышек, предварительно протыкая иглой. Насадив несколько, на какой-то миг Ален нерешительно замерла с клизмой, словно недоумевала, зачем ей все это… Но в следующую секунду, скорчив безжалостную, похотливую гримасу, вогнала клизму Эросу в задницу. Он едва слышно замычал. Улыбнувшись все так же зловеще, ни слова не говоря, Ален впрыснула содержимое клизмы в прямую кишку.
— У-у-у, Ален, ты совсем спятила?!
От нестерпимой боли Эрос мигом пришел в себя. Выдернув клизму, он в ужасе уставился на нее: наконечник кровоточил.
С виду легким и нежным, на самом деле сильным, жестким толчком в грудь девушка вновь повалила парня на кровать, склонилась над ним, обрушив водопад длинных русых волос. За ними Эрос не смог разглядеть ее окаянных глаз, потерял их из виду в тот момент, когда она рассмеялась — без жалости к нему и любви.
— Ха-ха-ха, кто-то ж должен начать… чтоб потом кончить. Гляди-ка, Эрос: клизма пошла тебе на пользу — твой член почти как вчера… или позавчера.
— Не ври, дрянь, я тебя месяц не трогал!
— Что ж так? — Ален дунула, дыхание, отбросив золотистую прядь, приоткрыло ее правый глаз — он влажно блестел, подернутый пеленой слез. — Что ж так, Эрос? Ты ведь любишь меня.
— Я?! Нет, никогда!.. М-м, сейчас я покажу тебе, как я тебя люблю!
Он накинулся на нее, заломал руки, потом судорожно целовал их жесткими, ломкими от запекшейся крови губами; истерично вымаливал прощение; потом, упав на колени, целовал ее между ногами, в бесконечно затухающем электрическом свете казавшимися бледно-жемчужными, словно рожденными в таежном лесном озере, обиталище нежнотелых наяд, — на ее ногах до сих пор можно было разглядеть лазурные блики, почувствовать горьковатый аромат давно скошенных трав и диких цветов… Потом они занимались любовью.
Ален вконец утратила волю, потеряла форму, сознательно подчинившись его воле, подстроившись под его форму — после того, как с необыкновенной страстностью соединила свое изначальное содержание с его решительным концом.
— У-у, я сейчас кончу!.. Ну, Эрос, куда же ты?!
Осекшись на полуслове-полувздохе, он мигом слетел с нее, смешно зажав руками зад, понесся прочь из комнаты. На бегу не сдержался — издал громкие неприличные звуки… Мгновенье-другое Ален во все глаза глядела вслед убегающему любовнику, затем расхохоталась — хрипло, с внезапным надрывом. До нее наконец дошло: будто бомба замедленного действия, в ее дружке сработала клизма. Зажав пальцами нос, кинулась к окну, распахнула настежь, вновь выдохнула-расхохоталась в студеную осень: «Боже, я сейчас кончу!»
И в этот момент в спальню вошел Гапон. Эрос попал ему по лицу дважды, но отчего-то посинел только левый глаз Кондрата. Возможно, Эрос, этот чертов Робин Гуд, угодил в одну и ту же точку… Как бы там ни было, под левым Кондратовым глазом выперла большущая красно-лиловая слива. Не синяк, а воланчик для бадминтона! Кровоподтек вырос столь внушительных размеров, что мешал сесть солнцезащитным очкам, которые Кондрат нацепил на себя, дабы скрыть последствия кулачной дуэли. В результате очки сильно перекособочились, отчего Кондрат выглядел необыкновенно смешным и нелепым. Но до Эроса ему все равно было далеко.
Войдя в спальню, Гапон едва не задохнулся, глотнув спертого, зловонного воздуха.
— Фу, черт, ну у вас и вонь! Канализацию, что ли, прорвало?.. А ты чего голая? Где Эро…
Не договорив, Кондрат резко обернулся, услышав за спиной подозрительный шум.
— Блин, Эрос, да ты весь в говне! Вы что тут, извращались?!
Покачав головой, Кондрат с недоуменной рожей снова повернулся к Ален. Но, увидев, как она ползает по полу, содрогаясь от приступов хохота, не выдержал — загоготал сам.
— Ты засранец, Эрос! Грязный голый засранец!
Эрос, забившись в углу прихожей, где даже вещи, казалось, навеки родные и уютные, отвергли его, шептал чуть слышно:
— Мне так положено… Я не достоин… Будь я проклят…
С минуту послушав бред приятеля, Кондрат с чувством плюнул себе под ноги и взялся откупоривать картонный куб, что притащил с собой.
— Оденься поживей. Поможешь мне, — мимоходом бросил Ален.
Гапон привез компьютер и модем. Зная хорошо устройство Эросовой квартиры — не раз здесь бывал, — перенес технику из прихожей в маленькую комнату, как и все помещения в этом странном, нелепом доме, заваленную вещами — в большей мере аудио— и видеокассетами, компакт-дисками и книгами без обложек. Эта комнатка принадлежала Эросу, а та, где он занимался любовью с Ален, — духам и привидениям. Родители давно в ней не спали…
Стену слева, в двух с половиной метрах от порога, подпирала гитара. Краешек ее грифа был безбожно обломан, словно обкушен или обгрызен, корпус сильно обгорел в двух местах, в остальном же гитара сохранилась неплохо. Да что там «сохранилась» — к такой вожделел бы, наверное, любой начинающий, а может, и состоявшийся рок-боец. Хоть и не «Стрейтокасто Санберст»… Эх, Эрос, Эрос! Сколько Ален знала его, он всегда хотел быть похожим на Джимми Хендрикса. Вот, пожалуйста, — гитара. Когда он только успел ее жечь? Да еще дважды, ну прямо как Джимми на концертах в Лондоне и Майами. Кто-то из пацанов читал, что Хендрикс не просто палил гитару, а будто бы приносил ее в жертву якомусь божеству чи демону. Самым дорогим, что у него было, жертвовал. А на фига жег гитару Эрос? Ведь у него самое дорогое, драгоценное, бесценное — она, его Ален… Она всхлипнула: зачем он жег гитару? Словно мосты за собой сжигал. Нежный ублюдок!.. В эту минуту Ален и самой было неясно, кого она так назвала, — кучерявого блюзмена-наркомана или засранного любовника.
Однако главной достопримечательностью Эросовой комнатки была не гитара, а стиральная машина «Ардо», приспособленная под аквариум. В машине-аквариуме жил какой-то глубоководный черт с фонариком, свисавшим над губастой лупоглазой мордой. Это черт на дух не выносил дневного света, поэтому Эрос заботливо завесил иллюминатор в итальянской стиралке старым своим свитером. Правда, когда на Эроса находила дурь или хандра, он устраивал губастому чудищу что-то вроде шторма: включал машину и наблюдал, как морской черт выдерживает выпавшие на его долю беды и испытания… Вот на этот-то аквариум с моторчиком Кондрат водрузил монитор «Sony». Быстро подсоединил провода, модем. За интернет заплатил заранее. Повернулся к Эросу — свернувшись калачиком, тот лежал на тахте. Ален заботливо обтерла его влажным полотенцем и побрызгала своими духами. Сейчас она кротко сидела в ногах любимого, дорогого. Господи, как же дорого он ей дается!
Глядя на чокнутых голубков, Кондрат безнадежно вздохнул. Заговорил, особенно не надеясь, что Эрос слышит его:
— Даю тебе три дня, чтоб ты освободился от своих говняных рефлексов. Сбрось их в Сеть, немедленно избавься от них!.. Небось, полегчает. Ладно, пока, приятель. Ален, ты идешь?
Не раздумывая, Ален ушла с Кондратом, оставив Эроса наедине с собой. Наедине с его рефлексами и безумием. Наедине с интернетом…
Эрос бесцельно блуждал по Сети, будто астронавт, заблудившийся во Вселенной. Будто мертвый астронавт… Нет, Эрос, конечно, еще дышал: иногда затихая, словно и вправду испускал дух, иногда часто-часто, возбудившись от вида случайного сайта, перегруженного дизайнерскими примочками или, наоборот, лаконичного и простого, как стакан воды… Хотя вряд ли от такого можно было возбудиться. Скорее, все те же рефлексы продолжали жуками-короедами изъедать его слабую душу. Скорее всего, так и было.
Однажды его точно переклинило. Вдруг психанув, он что есть силы двинул кулаком по клавиатуре, отшвырнул ее, размахиваясь, потерял равновесие, свалился со стула, головой шибанулся об пол. Посидел чуток, оклемался, затем побрел к книжной полке, пошатнулся, снова упал, кое-как поднялся, доковылял, отыскал жестяной коробок из-под чая, вытряхнул из него кучу таблеток, дрожащими руками отколупал от фольги и жадно, схватив громадную жменю, запихнул в рот…
Но глотать отчего-то не спешил. Чем-то обеспокоенный, подобно больному, встревоженный предчувствием, глубоким и незнакомым, может впервые заявившим о себе из бездны сознания, Эрос шагнул к монитору. Только в эту минуту он заметил, что экран погас. «Чернее ночи», — сравнил его вслух. Или, может, так произнес чужой голос рядом? Чужие голоса-са-са… Подозрение, тотчас озвученное, тиражированное, эхом отдалось в его голове. Он заглянул в монитор — в черном зеркале увидел себя, нелепого, несуразного, с раздутыми от таблеток щеками… Внезапно экран пронзила ярчайшая вспышка! С испугу Эрос глотнул таблетки, подавился, в тот же миг его стошнило — он вырвал прямо на клавиатуру…
7
…Я вижу себя с высоты потолка. Боже, что за осанка! Одно плечо выше другого, пальцы куриными лапками стучат по клавиатуре, заляпанной, забрызганной какой-то липкой дрянью, взгляд впился в монитор и потух. Не человек, а чучело. Или, того хуже, — мертвец… Нет, конечно, я живой. Ведь я вижу себя и осознаю, что тот, кого вижу, — это я. При этом, правда, мне себя ни капли не жаль. Словно во сне — не жаль… Но какая ж нелегкая занесла меня под потолок! Я пытаюсь освоиться, изучить пространство, в котором вдруг оказался. Итак, подо мной, как я уже успел заметить, — я, надо мной, там, где еще минуту назад висела люстра, сочится голубой свет. Нервно, рывками, будто кто выдыхает его. Меня это совершенно не трогает, я воспринимаю свет, словно во сне, как должное. Знаем, слышали, читали про такое… Однако увольте, рано мне еще — умирать. Не хоцца. В последний раз бросив взор на голубой омут, решаюсь: мысленно разогнавшись, ныряю в черный зев монитора…
…Черный космос одиночества. Слышно, как душа зубами стукотит — не то от страха перед забвением, не то от холода запредельного, непознанного.
Глаза видят черное, душа ищет просвета.
Без мышки, без джостика пробираюсь вслепую. Поворот мыслей, души поворот заменяет мне шаг — шаг в никуда. Мне страшно — и я беру вправо; я в растерянности — по инерции ступаю вперед; изумлен, возбужден до предела — поворачиваю налево. Чувства ведут, чувства уводят — все дальше от реальности уводят меня.
Черно и душно.
Не могу обернуться — страшно. Правда страшно. Ужас стальным обручем сжал мою голову — вот-вот она лопнет, как переспелый арбуз.
Черно и душно.
Я могу мыслить и чувствовать, только глядя вперед — в непроглядную темень. Хватаю ртом ее однородную плотную массу. Мне дурно, меня всего воротит от кромешной тьмы, я ужасно боюсь ее, но при этом вынужден проникать в нее все глубже и глубже. В мыслях и чувствах утопать, увязать в ней, как убийца утопает в предрешенной крови, как вор и продажная девка увязают в делах греховных и непотребных, надеясь раскаянием испросить у Бога прощения… У кого я буду просить прощения?
Когда вокруг черно и душно.
Без зрения я безоружен, беспомощен, словно охотничий сокол в колпаке — сокол на перчатке судьбы, ожидающий своего часа. Боже, какие только образы и сравнения не приходят мне в голову — убийца, вор, сокол…
Без зрения я гол как сокол. Лишенный возможности видеть, глажу, ощупываю свое тело — единственную реальность, доступную моим ощущениям. Глажу… Нет, определенно на мне что-то есть. Очень похоже на латы: рука касается гладкого и холодного. Эх, хочется верить, что на мне рыцарские доспехи, а тело мое могуче, выносливо, ухожено, умаслено и весь я, преисполненный благородства и доблести, создан для похода, для подвига.
Я так хочу в это верить!
Так хочу… Чу! Что там?.. Хххх… Мымымы… Господи, что это?! Что за странные звуки? Шшшш… Значит, я не один в своем одиночестве? Неужели не один… Так это же здорово! Я не один!!
Ух ты, а это еще что за чертовщина?! Вслед за шорохом и сопением — два ржавых каменья с червоточинами посредине. Да-а, брат, рано ты обрадовался — камни близко-близко от моего носа возникли. Черт, того и гляди заедут мне в глаз! Я пытаюсь увернуться, как в следующую секунду до меня доходит: Бог мой, да это ж и есть сами глаза! Пара бойких, как ртуть, глаз! Шмыг — влево, шмыг — вправо, — они словно в горелки играют друг с другом… Вдруг шмыг черной кошкой на грудь мне! Я чуть в штаны не наделал.
— Убоись, брат, не мене, но мира сего паче лютаго зверя. Зверь бо тело вредит, а души не может погубити. Сей же зверь, мир прелестный, сластьми своими тело упитевает червем на снедение, а душу вовеки губит и потом муки вечныя готовит… Да скинешь ли ты с себя колпак покойницкий али нет?!
…Я просто в шоке. От внезапного голоса, властного и слегка гнусавого, от сумасшедших слов, из которых хрен чего разберешь, со мной чуть удар не случился. За какие-то пару секунд я лишаюсь воли и способности чувствовать: то не видел ничего, а теперь и не чувствую. Как иной не чувствует после сна руки или ноги, онемевшей за ночь. Никаких ощущений — вместо них нечто смутное, обрывистое, ускользающее, наподобие туманной взвеси… И, что странно, мне даже не страшно, вернее, уже не страшно: безграничный ужас мгновенно оказался вытесненным еще более неохватным, напористым мраком. Господи, прямо наваждение какое-то… Вздыхаю и невольно провожу рукой по глазам — казалось, безнадежно незрячим, набухшим, как черной водою, тьмой. Я просто касаюсь бесчувственных глаз, но стоит мне сделать это, как вместо одного наваждения возникает другое, на этот раз приняв видимые очертания и форму: с дурацкой рыжей макушкой, едва-едва достающей моего плеча, с рыжей жидкой бороденкой, с рыже-зелеными глазенками, углями мерцающими на крохотном кострище… Ну и рожа у незнакомца — абсолютно черная, не то вымазанная сажей или еще черт знает чем, не то зверски загоревшая… Но не негр же этот коротышка! Только его мне не хватало! Рыжий пигмей с зелеными глазами — прямо шаман какой-то! А одет в такую рвань, что последнему бомжу за него стыдно будет: лоскут на лоскуте, заплата на заплатке, все торчит и топорщится, а воняет так, что блевать хочется. И речь такая же тормознутая — слово на слово налазит, ничего не разберешь: «…мир прелестный сластьми своими тело упитевает…»
— Гляжу, задели-таки глаголы мои жгучие умишко твое щучье… На-ка, прикрой покамест срам-то. Зело ты бел и изнежен паче девки боярской.
С этими словами рыжий негритос достает какую-то тряпку… Она-то и выводит меня из оцепенения. Оторвав взгляд от странного человечка, я наконец осматриваю себя: руки-ноги целы, голова и член на месте… Черт, я ж совсем голый!! Засранцы, кто посмел раздеть меня?! И где те чертовы доспехи, что я гладил минуту назад?!.. Пигмей как ни в чем не бывало швыряет мне тряпку. Да она хуже того маскарада, что напялен на нем!
— А ты как хотел? — рыжий ухмыляется в бороду. — Благодать, брат, почиет на худшем. Раз подвизался, крест юродивого избрал… Аще подвиг избрал — забудь про роскошь и бал, а хочешь князя загнать в грязи — живи сам яко грязь, от жизни плотской отречась. Унизь плоть — спасешь душу.
Во мужичок мочит — ничего не понятно.
— Какой еще подвиг?
— Христа ради. Такой ведь ты избрал подвиг, брат? Сиречь самоизвольное мученичество…
Али я тебя с кем-то путаю?
Я утвердительно киваю, послушно цепляю на себя пеструю рвань… Почему я так быстро сдался, почему пошел у него на поводу? Не знаю. Может, меня вдохновила внезапная возможность хоть раз в жизни ради кого-то напрячься, совершить подвиг… тем более ради Него. Звучит-то как: Христа ради. Аж мороз по коже!.. А может, мне просто страшно обернуться, страшно вернуться туда… где не распрямиться, не отдышаться, не обернуться. Где еще совсем недавно ужас поймал в тиски мою голову, неподъемными каменьями нагрузил душу. Теперь новый кошмар удерживает меня, не давая вернуться даже в мыслях…Уж лучше вперед! Вперед за рыжим пигмеем, отважно задравшим подбородок! Христа ради — с таким знаменем никакой мрак не страшен, никакое забвение!..
Он ведет меня к какому-то городу по дороге, вымощенной желтым кирпичом — о, этот желтый кирпич! — рассуждая о спасении личном и спасении падших, о презрении к собственной плоти и о гимне душе. «Презирай плотское, оно как трясина — душу засасывает и топит, — не поворачивая головы, поучает меня. — Где красота лица? Не се ли очерне? Где великовеличавый человек? Се паки прах и смрад. Где злато и сребро и раб множество, где юность и лепота плоти? Вся изсхоша, яко трава, вся погибоша…»
Но прежде он назвался сам и дал имя мне. Его зовут Пепи. Когда-то он слыл самозванцем и несколько тысячелетий назад служил шутом при дворе фараона Пепи I. Вот и взял самовольно имя первого своего господина… Пепи-шут или Пепи-юродивый — я зову его и так и эдак — и в самом деле был пигмеем, правда, абсолютно бессмертным: давно бы поддался очарованию смерти, кабы не пляска бога, которую он исполнял аки бог. Смерть неизменно уступала танцору. Безумный танец, этот дивный возбудитель, разжигал хладеющую страсть к жизни — разжигал как фараонов и императоров, которым служил дурачок Пепи, так и самого блаженного. Сосуд благодати благодаря огненному танцу всегда был горяч…
— Теперь выбери себе имя, брат, — Андрей Цареградский, Исаакий Печерский, Авраамий Смоленский, Прокопий Устюжский, Василий Блаженный Московский, Никола Псковский Салос, Михаил Клопский, Савва Новый, Арсений Новгородский, Парфений Уродивый, Исидор Ростовский Твердислов, Иоанн Устюжский, Иоанн Большой Колпак, Симон Юрьевецкий, Прокопий Вятский, Максим Московский, Афанасий, Стефан, Фаддей, Киприян, Ивашка Григорьев, Митька Силин… Все сразу. Да, брат, сегодня блаженные воплотятся в тебе всем скопом… а значит, никто толком. Хм, для простоты и удобства своего я буду звать тебя по имени одного из них. Отныне ты Парфений Уродивый… Имя, может, не столь выдающееся. Не слыхал о таком? Хе-хе-хе. Ну и невежда!.. Но поначалу иного, более легендарного и святого, ты недостоин.
Скоро обещанный город. Издалека я вижу его темные, мрачноватые на фоне пасмурного неба стены. Деревянные ворота распахнуты, в них заглядывает чужая жизнь. Скоро люди, они увидят меня в этом дурацком балахоне, сшитом из тысячи многоцветных лохмотьев. Ну, какой я блаженный? Пугало огородное — вот кто я.
Пепи ускоряет шаг. Ай да прыть у пигмея!.. А тут как назло ветер усилился, так и норовит, зараза, под подол ризы моей шутовской забраться, задницу морозит, чертов сын. Вот это потеха! Взбодренный адреналином, я хохочу как сумасшедший. Пепи что-то кричит мне — сквозь ветер я улавливаю лишь обрывки его слов: «…смеется лицо твое… не веселится ум твой…»
Вдруг почти у самых ворот Пепи натыкается на дохлого пса. Мерзость какая! Откуда ни возьмись в руках у пигмея веревка — похоже, он подпоясывал ею свое рубище. Один конец Пепи споро привязывает к собачьей ноге, хватается за другой и, не оборачиваясь, несется галопом. Дохлятина, точно торпеда, рассекает густую пыль, я едва поспеваю за ними двумя — юродивым и мертвым псом. Пепи по привычке умничает на бегу:
— Собака — злая звезда юродивого! У дурака нет ни двора, ни родителей, как нет их и у бездомного пса! Люди презирают юродивого якоже они презирают, бьют и шпыняют уличную тварь. Пес лает, дурак обличает — ругается миру, погрязшему в грехе и разврате. Собака, брат, наша с тобой путеводная звезда, знак безграничного одиночества… Но даже бездомные псы чураются нас, обходят стороной, скалят зубы, вздумай мы приблизиться к ним хоть на шаг. И только дохлая псина наш неразлучный союзник — никогда не подведет, не предаст, не облает понапрасну… Никогда и не согреет, бедняга.
8
Ворота воняют мочой. Остро, нестерпимо, словно сигналят: начинается новый мир, так что, брат, привыкай… Я врываюсь в город, как бычок, пригнув голову, зажмурившись, вместо того чтобы задержать дыхание. Еще незрячий, с плотно сжатыми веками, стискиваю кулаки… ив тот же миг нащупываю в правой руке конец веревки. Что за мистика, я и не думал брать его?! Невольно оглядываюсь — и, к ужасу своему, замечаю дохлого пса. Боже, все это время я тащил его за собой! Но куда ж подевался пигмей?
— Пепи!! Черт тебя подери!
Юродивого и след простыл. Бросил, дурак, меня одного посреди чужого города. Единственный спутник мой — собака, мертвая звезда моя. Я крепче сжимаю конец веревки…
Город оглушает беспорядочным, как пистолетные выстрелы в дешевом боевике, звоном подков о каменную мостовую, таким же лихорадочным грохотом деревянных колес — телеги и тяжелые на вид кареты едва втискиваются в узкие улицы, вынуждая пешеходов и даже всадников прижиматься к стенам домов. Дома кругом в основном деревянные, но рубленая кладка выглядит столь мощно, будто их поставили на века.
Горожане… Их личины, похоже, вылеплены одним мастером. Куда ни глянь — повсюду одинаковая гримаса, словно люди, перед тем как взглянуть на меня или, наоборот, опережая мой затравленный взор, успевают передать друг другу одну и ту же маску. По крайней мере, такое впечатление складывается у меня в первые минуты знакомства с местными жителями.
Наряды людей поначалу кажутся такими же нелепыми, несуразными, убогими, как и те, кто их носит… Вскоре я ко всему привыкаю — к диким, неестественно живым рубахам, порткам и лаптям мужиков, к необъятным, бесформенным сарафанам их жен, к длиннющим унылым кафтанам или сюртукам знати — хм, я не большой знаток в тряпичных делах, — к тяжелому бархату, словно намокшему в вине, к поправочным шапкам, с варварской небрежностью сшитым из роскошного меха, к офигительным сапогам с непомерно острыми носками, загнутыми вверх похлеще любых «Луиджи Феррари» или «Валентино»… Я привыкаю ко всему… Хотя нет, скорее, я просто не задерживаю долго ни на чем взгляда. Да я вообще не в состоянии адекватно воспринимать происходящее вокруг меня! Ведь я озабочен одной единственной мыслью — мыслью о собственном спасении…
Больше всего мне достается от детей. Эти чертовы дети, они одинаковы во все времена! Швыряют мне в спину камнями и конским калом, кричат, улюлюкают, осыпают бранью… Дети, подобно бродячим собакам, презирают меня. В отместку я корчу рожи, паясничаю, закатываю глаза, щелкаю языком, плююсь, задираю подол рубахи — дети ревут, гогоча над моим голым задом. Я готов разорвать их на части, я… Лишь на миг украдкой закрываю руками лицо, лишь на миг защищаюсь — и тогда успеваю шепнуть:
— Господи, не постави им греха сего…
На меня устроили настоящую облаву: догоняют, пинают, мутузят, норовят разодрать рубаху, но с ног не сбивают — навесив тумаков, вновь дают убежать. И я бегу, ко всем чертям бегу! Меня гонят, как поганого пса, кривыми бедными улочками, вымощенными вспученными, наполовину прогнившими досками, застроенными неказистыми избами, невероятно дремучими, с мутными пузырями, натянутыми на крохотные оконца. Того и гляди выскочит сейчас из какой-нибудь избушки баба Яга и, клацнув зубищами, вмиг остановит мой бег… Вдруг я встаю как вкопанный, затылком чувствую, как позади, нерешительно переминаясь, замерла и погоня. Я вспоминаю, что место мое среди людей, в толпе, на многолюдной площади — ведь я юродивый. Резко разворачиваюсь и, высоко подняв голову, срываюсь с места, мчусь навстречу своим преследователям. Смиренно склонив головы, как по команде, толпа покорно расступается — пропускает юродивого, помазанника божьего. Кто-то успевает поцеловать мне руку…
На площади людей видимо-невидимо. В воздухе тесно, грязно от выкриков и кличей торговцев. Ярмарка или воскресный базар — что-то вроде этого. Торг в самом разгаре. Кони, бочонки с порохом и медом, мечи, палаши и секиры, печные ухваты и кочерги, горшки, кошелки, мешки с горохом и мукой, вяленые мясные туши, деревянная утварь, костяные гребни, многоцветные бусы и ожерелья, бронзовые зеркала, льняные рубахи и сарафаны, тазы, ведра, белобокие коровы, беспокойные козы, иконы, лапти переходят из рук в руки. Но нет мне дела до них — свой путь я держу к трехглавой церкви. Вот она — за лошадиными холками, бараньими рогами, колосьями пшеницы, саблями и мечами, разноцветными лентами на головах молодиц…
— Аки конь летишь, брат. Купи орехов, погрызи, успокой свой пыл.
Рожа у торговца орехами смуглая, будто печеная картошка, и вроде мне незнакома, но голос… голос Пепи. Точно его!
— Пепи, гад ты эдакий! Я тебя столько искал!
— Замолкни, дурак. Бери орехов да поди в церковь. И шаловать не забудь. Заставь, брат, людей очнуться от сна, жарче молить Бога о спасении… Взбаламуть их зрелищем странным и чудным.
Черт, в моем лоскутном рубище ни единого кармана. Приходится набирать орехи в подол рубахи. Заодно и с полдюжины булыжников сунуть. Я задираю рубаху, оголяю свой член. Ну, чего, бабка, пялишься? Голого парня не видала?.. В церкви на меня оборачиваются девки, бабы, смешливые пацаны. Мужики, зевая, приглаживая засаленные волосы, делают вид, что не замечают меня. Женщина лет сорока, по годам, наверное, такая, как моя мать, вдруг срывает с головы платок, стыдливо сует мне: «На, прикрой срам-то». В ответ я глупо хихикаю: «Мой уд не для твоих губ, мои ядра — соблазнов надра». Вмиг густо покраснев, добросердечная христианка, будто ошпаренная, шарахается в сторону, я же… Бесцеремонно распихивая прихожан, с постными минами внимающих службе, протискиваюсь к алтарю, подмигнув как старому знакомому, толкаю в бок батюшку. Несчастный поп лишается дара речи. Все это время я не выпускаю из рук края рубахи, куда насыпаны орехи и камни. Народ, отвернувшись от попа, затаив дыхание, следит за каждым моим движением. Кое-кого, замечаю, веселит моя нагота — голая моя беспомощность…
Наконец меня прорывает. С диким воплем: «Бог тебе не печь, храм — не щи! Проснись, бестолочь, спасенья ищи!» — я швыряю в толпу громадные, как каштаны, орехи. Церковь ахает, начинает возмущенно роптать — сначала робко, затем все уверенней и злей, наконец взрывается, исступленно ревет, бабий визг испуганно бьется под куполом храма; батюшка, видимо, отойдя от шока, лихо размахивает кадилом, точно пращой, — норовит заехать мне в голову. Боже, в меня летят мои же орехи, тяжелые медяки и даже свечи… Размахнувшись, я кидаю камень в образ Божьей Матери. Заглушенное ором толпы стекло беззвучно разлетается. Закатив от ярости очи, поп смыкает на моей шее пропахшие ладаном пальцы, шипит что-то нечленораздельное. Я в долгу не остаюсь: бью батюшку коленом под дых и, пока он, сложившись пополам, ловит ртом воздух, бегу из храма. Со всех сторон на меня сыплются удары и проклятья — я же торжествую: «Что, блин, проснулись?!» Неважно, что людьми движет не благородный порыв заступиться за Бога, а слепая ненависть, животная жажда бедной крови моей. Да, меня хотят разорвать совсем по другой причине, уж никак не связанной с благочестием и верой в Христа: ведь я нарушил их покой, со своим уставом влез в чужой монастырь. Нет, не чужой! Эта церковь — моя!
Уже на самом выходе мне ставят подножку, валят с ног, мешая друг другу, пинают ногами. Я сворачиваюсь калачиком, пытаясь защитить хотя бы лицо и живот… Внезапно чей-то зычный окрик останавливает побои. Ха-ха-ха, меня разбирает смех, в горле подозрительно булькает — вот-вот хлынет кровь. Неужели я спасен?.. Не-ет, спасти меня может только Бог, только мое покаяние… Из-под грязных пальцев сочится кровь, кто-то, жарко дыша, с силой отрывает мои руки от разбитого лица. Заплывшими от кровоподтеков глазами зрю над собой лицо священника. Он невероятно растерян, чем-то напуган.
— Сын мой, — тихо обращается он, при этом кажется, что шепчут не губы его, а седые усы. — Как ты прознал про срам сей?
Не понимаю, о чем он. Возникает острое желание отвернуться, упереться слабеющим взором в крепкую стену храма — найти в ней опору для мятежной души моей… Кто-то опережает меня: цепко схватив за голову, заставляет выслушать батюшку до конца. Но тот, поджав губы, теперь молчит: видать, передумал допрашивать меня… Вдруг поп сует мне под нос разбитую икону, да не той стороной, где образ Матери Пресвятой мной унижен, а обратной. Боже, на почерневшей доске черт намалеван!
— Иконе-то сей триста лет, — бормочет священник, губы его дрожат. — Какой ирод глумился над ней? Но ты… ты…
— Провидец он, батюшка, — хрипловатый голос подсказывает рядом. — Такой грех углядел. А мы били его почем зря.
— Дуракам синяки всегда на пользу, — не соглашается кто-то.
— Какой же он дурак? Он — уродивый, ради Христа подвизался. Святой, знать, человек…
Не хватало еще, чтоб меня жалели. На фиг мне ваша жалость! Если и спасет меня кто, то разве что Он, Единственный. Чашу спасения прииму, имя Господне призову. Имя — призову… Кровавая юшка вымывает из-под языка Его имя, и тогда я вновь обращаюсь чертом. Вот он я — бесноватый голодранец, неугомонный возмутитель спокойствия, шут, безобразник, задира, дурак и — худосочный исполин, совладавший с собственной плотью, неподкупный обличитель человеческих пороков и страстей, суровый защитник матушки-веры, защитник православной старины нашей…
Ящерицей проскальзываю меж ног прихожан, кубарем скатываюсь по ступеням паперти, закусив от боли губу, прихрамывая, ломлюсь в гущу торговцев и покупателей. Я снова на рыночной площади. А значит — шаловать! Я должен шаловать! Пока люди не очнутся от духовной спячки или пока я сам не уймусь, навеки успокоенный божьей карой… иль милостью Его безмерной. Но сейчас — шаловать, черт меня подери!
Падаю на спину, руками-ногами дрыгаю, как таракан, подловленный мужиком за печкой. Затем на заднице ползу меж ног ротозеев, дорожку за собой в пыли оставляю да след кровавый — свез с гузна своего презренного добрый кусок кожи. Как же все-таки больно… Бросаюсь под ноги спешащему — бедняга так и кувыркнулся через меня, лаптями заехав по ушам. Поделом мне, бесчинному… Прыгаю на спину стоящему, да тут же сам лечу наземь — лечу, хохочу. Шаловать!
Выхватываю из рук торговца — у того, что борода плешива да глазки смотрят лживо, — увесистый мешок с бобами и давай раздавать налево-направо кому попадя. Копейки не взял, улыбки не увидел, одну брань слышал, но близко к сердцу не подпускал — в пыль затолкал, мочой прилюдно затопил. Шалова-а-а-ать!
У другого купца корзину с калачами выбиваю, высыпаю на землю, ногами топчу, хохочу во весь голос, при этом от купеческих кулаков не увертываюсь, побои сношу, как и подобает юродивому — без злобы и ненависти. Я не хлеб попираю, а знак земной плоти. Глумлюсь и по сторонам дивлюсь: люди-то смотрят на меня как на собаку бешеную, за камнями-палками тянутся… Боже, не дай мне, слабому, пробудив людей, немедля свести их с ума — безумным моим примером свести.
Не угомонюсь никак — все шалую… Рыжего жида смертью пугаю — руки на груди скрестил, мину люциферову скорчил, молвлю строго, что приговор оглашаю: «Готовь погребальная». А-ха-ха! Пока жидовский чуб топорщится щеткой, а лик смертельным испугом объят, точно белым пламенем, пристаю к базарным шлюшкам, хватаю их за руки, заставляю плясать и водить со мной хоровод. Поначалу девицы противятся, ломаются, нос воротят от оборванного, грязного дурака. Но затем сдаются, хихикая, одна за другой покупаются на мои дурашливые клятвы. Особенно когда я деньги предложил.
— Хочешь быть моей подружкой-женой? Я дам тебе золотой, — тяну за подол рубахи самую полненькую из них и смешливую; у шлюшки грудки родненькие что грушки молоденькие. — Так хочешь? Тогда поклянись мне в верности!
Пышка бесстыже гогочет, а с ней заливаются и остальные, показывая на мой голый пах.
— Что проку от моей верности, — смеется моя избранница, — когда твой зверь яко дохлый пес? От старого деда больше вреда, нежели от тебя, вонючий дурак!
И они вновь хохочут, издеваясь над моей наготой. За это я их… ослепляю. Не словом даже, не бранью, не проклятием, а мыслью одной, пламенной, как раскаленный прут.
Ослепленные блудницы беспомощно кружатся на месте, щенками малыми тыкаются друг в дружку, тихонько скулят, затем срываются, ревут в голос и волосы рвут, прося о помощи.
Хм, моя насмешливая супруга, теперь ревущая паче всех, каким-то шестым чувством вычисляет меня в толпе, бросается в ноги, целует их, покрытые гнойными ранами и коростой, окропляя горячими слезами, в безотчетном порыве гладит их, бормочет невразумительно, глотая слова и слезы. Я понимаю: она молит меня о прощении.
— Отселе не будешь ли паки смеятися невежественно?
Девица клянется, макая сопливым носом в вонючую пыль:
— Не буду, божий человек. Прости меня, грешницу!
Не мне прощать — Господу Богу нашему. К Его милости и великодушию мольбу обрати, а там как сам Бог даст — никому ведь не ведомо, какими соображениями Он руководствуется, когда вершит суд. Никому не ведомо — ни попу, ни грешнику, ни святому… Блудницы все до одной прозревают, а я… Не успев даже мысленно осенить их крестом, попадаю в полон безумных стрельцов. Вон их сколько набежало по мою душу! С перекошенными лицами, в мышиных кафтанах, отчего-то пахнущих бараньим потом, бряцая длинными палашами о щербатый булыжник, страшные бородатые люди волокут меня с площади вон. Толпа, вновь поддавшись искушению, так и норовит пнуть меня в нос или пах, забрасывает грязью и калом, глумится, куражится, яко демоны. В ответ я лишь смиренно улыбаюсь, словно наконец-то дождался награды, в ответ борюсь с совсем иным искушением — проклясть вся и всех. Изо всяческих сил пытаясь иссушить слезы еще в душе, снова молю у Бога прощения обидчикам своим несчастным, сердцем слепым и черствым: «Господи, не постави им греха сего…»
9
Насильно умытый, в наспех оттертой рубахе, со следами свежих синяков на харе я сижу на пиру у князя Василия Шемячича. Стрельцов, выламывавших мне руки и гнавших взашей, я давно уж простил. Гляжу на князя. Таким залюбуется сам Господь: Шемячич могуч, осанист, окладист, остер, но никак не покладист — шутки его все равно что стрелы в колчане его оруженосца. Остальное — во власти беса тщеславия: князь, судя по всему, необычайно бесстрашен, беспутен…
— Зачем явился в мой город, божий ты человек? Искушать глупцов али мучить праведников? — рычит за тридцать голов от меня Шемячич, смачно рыгнув, перекусывает каменными зубами громадную кость.
— Христа ради, — кротким голосом сообщаю я, столь же ангельским взором лобызая кусок пирога во рту моего соседа — толстенного пузатого опричника. Из пирога, как из рубленой раны, начинает хлестать живая кровь… Или то сок гранатовый сочится. Хм, кому сок, кому рок — крови рог. Князь с довольным видом ухмыляется. Затем тычет в мою сторону обломком кости:
— Жалую тебе, Парфений, чашу хмельного вина. Испей его ради Христа… хм, Его крови испей-ка.
— Пеликан будто бы вскармливает своих птенцов кровью своей. Но дурак не твой птенец, а князь не дурака отец, — говорю я и, вдруг дико захохотав, совершенно не пригубив чары, выплескиваю вино в узкое окно, что сразу за спиной моей.
— О, как кстати названо имя Пеликана! Пеликан, аки Христос, отдавший кровь Свою ради спасения детей Своих и… — новый голос, при мне еще не звучавший, раздается на том конце стола, где сидит князь. Голос кажется мне необыкновенно знакомым, но я не успеваю вспомнить и угадать, кому он мог бы принадлежать — все тонет в ужасном грохоте. Шемячич мечет громы и молнии!.. Наконец, погасив вспышку ярости, он посылает мне вторую чару — ее так же, как первую, я выливаю в окно.
На князя страшно смотреть — губы вмиг побелели, будто он целовал обвалянного в муке покойника.
— Я князь… — схватившись за горло, хрипит он, задыхаясь, как от удушья.
— Ты не князь, а грязь, — внезапно вырывается у меня. Я вдруг мгновенье-другое вижу себя с высоты трехметрового свода княжеских хором. Какой я маленький и скукоженный, словно овца перед закланием.
— Да ты… ты… презрел мое угощение, блядский холоп!! — с безумным грохотом Шемячич обрушивает на стол, на блюда, расставленные перед ним, тяжелый меч — точно куски кости разлетаются в стороны осколки обожженной глины. Шемячич несказанно преобразился, Шемячич неистовствует!
— Великий князь, а дай-ка юродивому еще один шанс испить ради Христа, — сквозь гром и бурю едва-едва доносится загадочный голос — боже, откуда только я знаю его? — Неужто божий человек и в третий раз осмелится глумиться над святою жаждой?
Безымянный голос явно провоцирует своего покровителя, науськивает его, аки бешеного пса… Но я и в третий раз выливаю вино.
Новым ударом князь разрубает столешницу, будто череп поганого татарина. На миг-другой в княжеских палатах воцаряется зловещая тишина. Потом кто-то запоздало ахает; мышиная возня, шепот, змеиное шипение раздаются вокруг. Я стойко сношу презрение к себе — меня обливают ненавистью, скрежещут зубами, зенками лупают беспомощно, что совы, застигнутые днем… Разряжает тягостную обстановку великий князь — поистине великий. Его крупное тело сотрясает безудержный хохот, Шемячич заливается звонко, как ребенок.
— Видать, дурак, зело не по нраву тебе мое вино!.. Али Христос предпочитает напиток иной?
Шемячич уже не смеется. Елаза его снова строги, но злобы в них не видать.
— Что скажешь на мои слова, драгоценный гость, а?
Я уже порываюсь дурашливо закатить глаза и высунуть язык — негоже юродивому истолковывать сакральный смысл своих жестов — это удел мудрецов, — как князь вдруг опережает меня.
— Постой, не говори ничего, — бросает мне и, повернувшись к невидимому мне соседу, будто прочтя мои мысли, просит объяснить мой дивный поступок… Но прежде представляет бражному люду источник загадочного голоса. Хм, наконец-то…
— Возлюбленная моя братия! Наш град удостоился чести привечать-угощать мудрейшего из мудрейших! Его слава заставляет трепетать наши сердца, ум его безгранично властвует над нашими неразумными головами. Брати мои, здесь, на пиру, за наше здравие и ратную силу поднимает чару знаменитый заморский философ Пепилах Акар ибн Фаррад! Так и мы не останемся в долгу. Отдадим взамен любезнейшему мудрецу нашу любовь, наше гостеприимство и тепло суровых сердец!.. Брати, господин Пепилах милостиво согласился растолковать смысл дерзких жестов юродивого. Одна лишь неблагодарность и гордыня сокрыты в диком поступке его иль в дураке заговорил проклятый демон?
— Жест божьего человека носит двоякий смысл, о великий князь, — заговаривает иноземный мудрец, и я вновь пытаюсь вспомнить его голос… Только тут до меня доходит: какой он к бесу Пепилах — это ж Пепи, мой пропавший спутник-шут!.. Тем временем мнимый философ медленно подбирается к моему горлу. — Отказываясь от чаши с вином, дарованным ему святым князем, блаженный таким образом выказывает неприязнь к добрейшему хозяину этого роскошного пира. Юродивый, ослепленный непомерной гордыней, пренебрег гостеприимством хлебосольного господина… Но это далеко не все и притом не самое страшное. С чужой гордыней несложно бороться, к примеру, довольно приказать отсечь голову… Трижды вылив вино, Парфений Уродивый подражает трем ангелам, посланным Господом совершить высший суд. Да-да, блаженный угрожает великому князю божьим судом! Он воочию предрекает, что Господь изольет на светлую голову князя чашу гнева Своего! Ведь сказано: «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Вторый ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь…»
Что тут началось! Палаты, где проходил пир, тотчас наполнились гневными выкриками и угрозами, топотом, грохотом бивших о дубовую столешницу кулаков, падавших кубков и чар… Сидящий слева стрелец — истинный волк и убийца, с ужасным шрамом через всю правую щеку — наваливается на меня каменной грудью, хватает за горло когтистыми лапами, трясет безбожно, как дьявол тряс райское древо. Вдобавок кто-то, не иначе толстопузый опричник, нещадно лупцует меня по спине. Я терпеливо сношу побои: юродивый я или кто? Но чувствую: еще немного — и мне конец.
Шемячич в другой раз спасает меня. Зычным голосом останавливает вакханалию, которая вот-вот грозит завершиться убийством. Моим убийством, черт подери! Уже раз десять меня макнули рожей в ковш с вином, норовя утопить.
— Довольно, брати мои! — громыхнув звонким кубком об пол, приказывает князь. — Сдается мне, что Парфений жаждет сказать нечто, прежде чем, хм, изопьет ковш до дна. Али мне почудилось, божий ты человек?
Я в ужасе таращусь на полуведерный ковш, но уже в следующий миг справляюсь с волнением.
— Благоверный князю, не скорби на мое сие смотрительное дело. Не бо тя презирая излих оныя чаши за окно, но пожар залих в Великом Новеграде…
Честно говоря, я и сам слабо понял, что только что нагородил. По-моему, чушь какая-то: будто мне явилось видение — пожар в Новгороде, и я тремя чашами вина погасил его. Чушь!.. Однако результат от всего мною сказанного, непонятного и абсурдного, оказался потрясающим! Прежде всего провидение мое ошеломило великого князя.
— В Великом Новгороде пожар?! — в голосе и во всем горделивом облике Шемячича заметны сильное волнение и забота, но не страх — светлого князя не напугать и самому сатане. — Я прикажу послать в Новгород гонца. Сейчас же!.. Но если твое пророчество не подтвердится, божий ты человек, тебя ждет дыба — как последнего вора или лжеца.
В Новгород посылают стрельца со шрамом, что едва не придушил меня. По-волчьи осклабившись, словно предвкушая скорую расправу надо мной, стрелец напоследок бьет меня по загривку и покидает пиршество. Меня же бросают в подвал и запирают в кромешной тьме. Вскоре всходит луна, круглоликая и тупая, как рожа пузатого опричника, просовывает в убогое оконце сноп холодных, бесчувственных лучей, и тогда я начинаю различать свою темницу. Повсюду бесчисленные кули с чем-то мягким и, похоже, сыпучим — не исключено, что это мука или прах мертвецов. Поодаль расставлены бочонки, на стенках их застыли маслянистые, липкие потеки, они пахнут так аппетитно, так возбуждающе!.. Я ужасно голоден: и крошки не взял в рот на пиру, не коснусь княжеского хлеба и здесь.
Наконец-то я один. Теперь мне не перед кем паясничать и глумиться, шаловать и корчить из себя дурака. Я совершенно один… если не считать Его. Слезы сами собой наворачиваются на глаза, чувство вины и стыда захлестывает меня, одиночество гложет душу — я бросаюсь класть поклоны, как жаждущий спешит прикоснуться к долгожданной воде… Я молю о милости и прощении — не себе, им, я вообще ничего не прошу для себя: гордыня застит мне дух, словно едкий дым — глаза… Лишь однажды я сдаюсь и раскаиваюсь.
Ночь напролет плачу и молюсь, молюсь и обливаюсь слезами. Боже милостивый, мне больше не перед кем притворяться. Я плачу, потому что, как любой смертный, хочу спастись.
Перед самым рассветом начинаю зябнуть, забываться и, невзначай задремав, стукаюсь лбом о каменный пол. Резкая боль приводит меня в чувство, но не надолго — добровольно лишивший себя пищи и сна, я едва стою на ногах. Вконец обессиленный, опускаюсь на пол, но он ужасно холодный — кажется, еще немного и вслед за теплом тела он отберет и мою душу. Нет-нет, я не забыл совета моего неверного приятеля Пепи, совета попрать, унизить свою плоть, дабы спасти душу: «Аще кто хощет ко Мне ити, да отвержется себе». Я помню об этом!.. Но ничего не могу поделать с собой: мне жутко холодно, зубы выстукивают морзянку, и я… я… Боже, как я слаб! Хватаю первый попавшийся мешок, высыпаю на пол большую часть содержимого и лезу в мешок, точно в спальник…
Мука подо мной теплая-теплая, будто смололи ее совсем недавно. Как вкусно пахнет хлебом, аромат его пробуждает и баюкает одновременно — я засыпаю, для того чтобы снова воскреснуть.
…Очнулся от мягкого толчка в бок, от громких чужих речей. Еде я? Сквозь мельчайшие поры мешковины с трудом просачивается свет, доносится дух печеного хлеба. Во сне я принял внутриутробную позу — колени поджал к подбородку, — теперь затекшие ноги нестерпимо гудят.
Слышу, как кто-то встал над мешком, разворачивает его — сердце мое замирает, душа сжимается, подобно пружине…
— Аз есмь хлебныя червь, — ору что есть мочи и, плюясь мукой, выпрыгиваю из мешка. Не ждали?! Против меня, едва ли не нос к носу, застыл худенький мальчишка, может, даже младше меня. От неожиданности он роняет мешок и, беспрерывно крестясь, пятится к печи. Быстро осматриваюсь: я в помещении, очень смахивающем на громадную кухню: на длинных столах стряпают бабы и девки, возле большущей печи мужики разбирают дрова. С моим появлением все замирают, с опаской пялятся в мою сторону, но в глаза глядеть опасаются; кто-то так и обмер с рукой, поднятой для креста. Я вижу испуганные лица, аккуратной горкой сложенный хлеб, зев печи, в котором медленно умирает огонь… Дико захохотав, лезу в печь, голым задом сажусь на противень, уже не раскаленный, но еще ужасно горячий, закусив губу, ерзаю по нему, оставляя на железном листе кусочки обгорелой ткани — не то рубахи моей, не то кожи, — и неторопливо, очень стараясь не суетиться и не спешить, собираю хлебные крошки, прилипшие кусочки теста и с блаженной улыбкой сую в рот. Вот мой завтрак, голый завтрак, сидя на жареной заднице. Мне так больно, так невыносимо печет презренная плоть, что хочется выть. Но я не имею права, на людях не имею права быть слабым. И даже Богу нельзя мне помочь.
Опричники вытягивают меня, полумертвого, из печи. Стряпнины люди давно уж сбежали из кухни, напуганные до смерти моим дьявольским бесстрашием. Военные же, постукивая об пол палашами и секирами, обступили печь, настороженно таращат на меня колючие очи. Князь тут же. Приказывает волчаре стрельцу, к моему удивлению, уже повернувшемуся из дальней поездки:
— Повтори, что говорят в Великом Новгороде.
Хищник стрелец явно сбит чем-то с толку, боясь поднять на князя глаза, невнятно бормочет:
— Внезапу явися человек наг, ходя по пожару и водоносом заливая, и всюду загаси оное воспаление… Господи, помилуй мя! Он — провидец, истинный крест, провидец!
— Довольно!.. Таки был в Новгороде великий пожар, и видение твое неслучайно, божий ты человек, — заключает Шемячич и склоняет передо мной гордую голову. — Спасибо тебе, Парфений Уродивый, что дал прикоснуться к твоей прозорливой святости. Кабы не она, наделал бы огонь много беды.
Шемячич с поклоном жалует мне мешок серебра и целует руку. Неумело, но искренне я благословляю князя.
10
Выйдя на крыльцо княжеских хором, отдаю серебро первому встречному купцу. Тут же слышу за спиной возмущенный ропот — все тот же знакомый голос:
— Что ж ты делаешь, дубина ты стоеросовая?! Торговому человеку деньги отдал?! Нет чтобы нищего пожалеть!
— Купец этот беднее бедных, — уверенно заявляю я. — Любой нищий богаче его… Ведь не давеча как вчера он начисто разорился.
— Бог с тобой! — от изумления купец машет руками, кажется, еще миг и его хватит удар — и тогда серебро ему ни к чему. — Откуда все знаешь?!
Бог со мной — оттуда и знаю.
Бог со мной, а Пепи за спиной. Не в богатом кафтане, усыпанном драгоценными каменьями, вышитом красным золотом да белым жемчугом, — зато в многоцветном рубище, что дороже любого великосветского платья.
— Мы юроди Христа ради, — улыбаюсь я. Надо же, не разучился. — Пепи, чертяка! Что, наскучило быть заморским философом?
— Твоя правда, Парфений. Опостылела чужая роль… Однако, брат, не время для длинных и пустых разговоров. Айда в город, покажу тебе кое-что путное…
Все дороги в этом городе ведут к храму. Проходим мимо знакомой церкви. Пепи, став на носочки, неожиданно бьет меня по лицу.
— Ты чего это, глупый пигмей?! Опять за старое?!
Рука самопроизвольно тянется к камню — вон их сколько разбросано на площади, будто здесь не торговля шла, а настоящее побоище. Схватив каменюку побольше, заношу руку за голову, замахиваюсь как следует, видя прямо перед собой рыже-зеленые глаза Пепи, совершенно лишенные страха… Замахиваюсь, но в последний момент, перед тем как сделать бросок, отворачиваюсь от шута и… и… Господи, что я делаю! — швыряю камень в сторону церкви. Стараюсь кинуть как можно выше — тужусь попасть в самый крест, отливающий чистым золотом, доселе не тронутый, не запятнанный и, кажется, вовеки не достижимый ни для грязных глаз, ни для дурных каменьев… Совсем я охренел, что ли?! На кого руку поднял?! Но дальше — хуже. С дьявольской одержимостью хватаю камень за камнем, точно камнеметная машина, обстреливаю стены храма, расталкивая людей, обегаю церковь, стараясь попасть в каждый из ее восьми углов…
Поначалу народ внемлет моей бесовской выходке с немым укором, лишь открещиваясь воздушным крестом. Но вот одна баба взрывает общее остолбенение пронзительным визгом: «Бей антихриста, яко мерзкого пса!» Точно по сигналу, которого толпа явно заждалась, шагах в десяти от визжащей тетки дородный мужик ловит меня за волосы и с силой бьет в ухо. Я чудом вырываюсь из его крепких рук, бегу сломя голову, спотыкаюсь, падаю, едва уворачиваюсь от ударов лаптями и сапогами…
— Ну, зачем ты это сделал? — с нескрываемой насмешкой спрашивает Пепи, когда мне наконец удается уйти от погони, — не на шутку заведенная толпа ищет меня с кольями поблизости в подворотне.
— Ты… ты во всем вин… — в первый момент я не могу не отдышаться, ни найти слов оправдания. Сил нет даже послать пигмея к чертовой матери!.. С виноватым видом развожу руками. — Не знаю. Бес попутал.
— Хм, твоя правда, — Пепи едва заметно кивает, от обидной усмешки его и следа не осталось; озабоченный чем-то, с видом испуганного ребенка, шут закусил нижнюю губу. — Твоя правда: бес крест оседлал, хотел в божий храм проникнуть, а ты его прогнал. И других чертей, что церковь со всех сторон обложили, душами праведников пришли поживиться, ты каменьями побил. Сам того не ведая, побил.
— Сам того не ведая, — глухо повторяю я. Гляжу на пигмея так, будто вижу его впервые. Не Бог ли это…
Поднимаемся улочкой, пахнущей ладаном и свечами, поворачиваем в проулок, еще не просохший от медовых луж, спускаемся по ступеням, выложенным берестяными грамотами и ликами раскольничьих богов, ползем, плетемся, убыстряем шаг — уходим от прошлого, заметая следы.
Возле расчудесного, крепко сбитого двухэтажного дома молочница лет тридцати выставила бочки и ковши с молоком и творогом. Слегка высунув язык, медленно наливает в кувшин простоволосой худенькой девушке, на босу ногу выскочившей из нарядных хором. Ну и ну! Я диву даюсь: одной ногой юная служанка ступила в мутную лужу, другой — в ярчайший блик, отброшенный окном на втором этаже дома. Прямо знак какой-то! Однако уже в следующее мгновенье внимание мое переключается на Пепи. Мой приятель-юродивый повел себя совсем уж дерзко: отпихнув плечом девушку, молча становится против молочницы. Та, презрительно скривившись, отворачивается, продолжая деловито пересчитывать медяки, что успела ей сунуть босоногая. Тогда шут, все так же ни слова не говоря, опускается перед лужей на колени, осеняет темную воду крестом и долго пьет. Бр-р, от такого зрелища меня всего передергивает! Я перевожу с Пепи на молочницу и обратно ошалелый взгляд, чувствую, как складки на моем лице становятся все жестче, все безобразней — и вот чело мое сплошная обезьянья гримаса. В тот же миг маска презрения сходит с полного лица молочницы, она суетливо черпает ковшом молоко.
— Боже праведный, возьми молочка-то…
Резко выпрямившись, словно все это время шут был начеку, словно знал, чем все кончится, Пепи выбивает ковш из рук молочницы — молоко жидкой оплеухой хлещет по лицу растерявшейся женщины… Я не сразу оцениваю сумасбродную выходку пигмея, в тот момент мое внимание поглощено иным. Я больше не вижу грязной лужи — она исчезла, на ее месте громадный солнечный круг золотит ноги дерзкому шуту.
— Никогда не проси милостыни, — вконец напугав жадную бабу, отчего та спешно ретируется, учит меня Пепи. — Умри, но не попрошайничай. Лучше научи неразумный люд быть скорым на подаяние. Научи угадывать твой голод и жажду. Почувствуй себя царем среди тех, у кого все есть, не принуждай, а позволяй иногда творить милостыню.
«Никогда не проси милостыни», — отчего-то волнуясь, повторяю я и испуганно оборачиваюсь, пронзенный предчувствием, что меня подслушивают. Оборачиваюсь — и в тот же миг встречаюсь взглядом с худенькой служанкой. Она смотрит на меня так пристально, так требовательно, словно хочет настоять, чтобы я признался, что я совсем не тот, за кого себя выдаю. Девушка замерла на крыльце красавца особняка, неловко замерла: невзначай накренила на себя кувшин, струйка молока льется ей на грудь, стекает по животу, разбивается о деревянные ступени на сотни капель-жемчужин. Я невольно подаюсь вперед, взором неосторожным пытаюсь сдержать ток молочного водопада… Смутившись, девушка убегает в дом, оставив на крыльце влажные следы. А я… С очами, намокшими в чужом молоке, пускаюсь догонять Пепи. Бегу и все боюсь расплескать образ юной незнакомки с кувшином молока на груди… А может, то всего лишь слезы встали в моих глазах?
— Нет другого Бога, кроме Иисуса Христа. Нет любви другой, кроме любви к Богу, — недовольно щурит рыже-зеленые глаза Пепи. — Если во спасение ты сумел презреть свою плоть, сумей, брат, устоять и перед соблазном плоти чужой. Неизбежен и ужасен распад и тлен ея. Так выбери безобразное сейчас, чтобы спасти красоту в веках! Красоту духа твоего и красоту духа тех, кто, будучи слаб, недоверчив и гордыней ослеплен, впредь пойдет за тобой… Помни, Парфений: благодать почиет на худшем. Да я тебе об этом говорил.
Я прихожу в себя, окончательно отделавшись от наваждения — образа молоденькой девушки, лишь упершись носом в стену громадной избы. Из распахнутых окон рвется наружу невообразимый стук, хрюк и несдержанный хохот, явно разогретый хмелем. «Кабак, что ли?» — соображаю я. Словно в подтверждение догадки, из избы на покосившиеся ступени вываливается наполовину человеческое, наполовину звериное. Упав на четвереньки, нечленораздельно мычит и долго, страшно блюет.
И тогда я срываюсь с места. Вмиг обезумев, ношусь вокруг кабака, подобно тому, как бегал кругом храма. Но каменьями никого не гоняю, не бью. Напротив… На мгновение укрощая безумный свой бег, целую по очереди углы питейного дома — закопченные, зассанные, проклятые, кажется, даже чертом… Я целую невидимого, обнимаю незримого, бормочу неведомо кому нежно и страстно, шепчу сокровенное, смысл которого мне и самому недоступен.
— Ну, а в этот раз что ты чувствовал? — заглядывает мне в глаза пигмей. Я сижу на земле, устало опершись спиной о стену корчмы. Добегался… Хм, неужто шуту и в самом деле жаль меня или он по обыкновению издевается?.. Нет, он все тот же. Пепи безжалостен и настойчив в своем дознании. Бог с тобой… Я послушно поддаюсь его напору, сначала без особой радости, а затем загораясь, заводясь все сильней и сильней.
— Так что это было?
— Что-то нежное и очень чистое, как… как… Бог, — душа моя ликует, от избытка чувств я не нахожу слов — я как бы вновь переживаю те чудесные мгновения, когда прикасался к прекрасному.
— То ангелы, Его посланники…
На место восторга немедленно приходит крайнее удивление.
— Ангелы?! Шутишь?! Чего они на улице оказались? Да еще рядом с таким гадюшником?
— Подумай сам, — снова щурится Пепи — кажется, два маленьких рыжих солнца заходят в глубинах его души. — Что перед тобой — божий храм или вертеп пьяниц и разбойников?
— Спрашиваешь! Вертеп!
— То-то и оно. Слышишь грешников смех непотребный?.. Смех, что изгоняет Бога из души, ангелов из домов человеческих. Блуд, разврат, пьянство порождают хохот бесовской. Услышав его, несчастные ангелы опрометью бегут из домов оскверненных, ютятся на улицах, аки собаки бродячие…
— Таких ангелов… — начинаю было я, но Пепи перебивает, недовольный, что я влез в его речь.
— Таких ангелов беспризорных ты, Парфений, сейчас обнимал-лобызал, слово надежды шептал им. Запомни: не смех, а строгость и кротость потребны истинному христианину.
Смешливым заказана дорога в рай.
— Ну почему?! Почему тебя раздражает людской смех? Ведь смех — это здорово! Смех лечит, смех обличает!
Шут не сразу отвечает. Долго и пристально смотрит на меня, словно не доверяет моим словам, словно испытывает меня: не смеюсь ли я над ним?
— Смех… Смеяться над миром, погрязшим в блуде и грехе, может лишь абсолютно чистый душой и сердцем человек. Когда смеется лицо твое, да не веселится вместе и ум твой. Иначе смех из меча и щита твоего превратится в союзника беса. Неслучайно в народе говорят: «Где грех, там и смех»… Не все так просто, Парфений. А знаешь ли ты, что Христос никогда не смеется? «Горе вам, смеющымся, яко возрыдаете», — говорит Он.
— Что же мне делать, Пепи? Я так люблю жизнь!
— Одно остается: прислушивайся к совести — голосу души твоей… Хочешь ли прямо сейчас испытать себя?
— Конечно, Пепи, но как?
Пигмей помогает мне подняться с земли, проводит меня до крыльца корчмы.
— Прощай, брат. Видать, не увидимся больше.
— Но почему?
— Иди, иди. И помни: когда смеется лицо твое…
11
Я шепчу, как заклинание, то, что должно оградить мою душу, и вхожу в кабак… Ба, знакомые все лица! Кажется, этих людей я знаю как облупленных. Всех до одного!.. Немудрено: пьяницы становятся родными, если ты пьянствуешь в одной с ними компании. Или собираешься это сделать. Корчма, куда меня угораздило завалить — по-другому не скажешь, — похоже, относится к тем питейным домам, что весьма любимы простым народом. Однако ж и люди с чином и при деньгах не гнушаются таким кабаком. В самом деле, кого здесь только нет!.. Правда, из всего пестрорядья лиц, рубах и кафтанов мой взгляд — взгляд одержимого и шута — в первую же минуту различает лишь одного. Некий малый, внешне как две капли воды похожий на меня или Пепи — не суть важно, на кого больше, — пристально пялится в мою сторону, как и я на него. Я вижу такие же цветные лохмотья, замызганные, изорванные, землистого цвета лицо, исхудалое, изрезанное морщинами, — с той лишь разницей, что измучено оно не постом и суровой аскетической жизнью, а горьким вином.
Проще говоря, передо мной заядлый пропойца… Вдруг он с заговорщическим видом подмигивает мне и, вынув из складок рубища тощий медяк, хриплым голосом требует к себе уважения:
— Эй, хозяин, тащи-ка вина да гороха! Эх-х, разойдется душа скомороха!!
То же мне, думаю, скоморох хренов выискался. А хозяину корчмы до пьянчужки вообще дела нет. И неудивительно: народу в кабаке столько набилось, что корчемник, толстый лысый мужик, едва поспевает всем наливать. Совсем запыхался бедолага — лысина блестит, как у черта зад.
Замечаю: пьяненький мужичок вновь моргает мне, да с таким видом, будто подает знак своему отражению в зеркале, — ждет от меня, что и я в ответ подмигну ему. На-ка, выкуси!.. Хм, мужичок не в обиде. Знать, пришел сюда доставать не меня, а хозяина.
— Эй, пес, кал тебе в нос, чего не замечаешь, вином не угощаешь! — в другой раз сипит оборвыш и кочетом наседает на затюканного корчемника. Но тому, вижу, хоть бы хны — ни бровью не ведет, ни сердцем не дрогнет, знай себе обслуживает богатых клиентов. Ну и ну! Вновь бросаю взгляд на упертого пьяницу: бр-р, да на него страшно смотреть! Надулся донельзя, покраснел, как рожа от зимнего ветра, очи на лбу, зубы на полу… Определенно этот упрямец начинает мне нравится. Может, потому что он чертовски похож на пройдоху Пепи. Осматриваюсь, надеясь отыскать в кабацком сброде еще хоть бы одно сочувственное лицо. Куда там! Сплошь пьяные тупые хари, лакающие бесовской напиток… да сами бесы. Бог мой, они самые! Вон же они — свиными рыльцами похрюкивают, копытцами постукивают, хвостами гулящему люду подножки ставят, зыркают бессовестно на оборванного пьянчужку да на лысого корчемника. При этом гутарят на непонятном мерзком наречии — похоже, решают, кто из двух грешников верх возьмет, кого первым в ад забирать… Черти поганые, это из-за вас нежные ангелы, яко сироты, ютятся на дворе, ни места не могут найти себе, ни покоя?! Ну, я с вами сейчас разберусь!.. Вознегодовал, вспылил не на шутку, но сделать ничего не успел — пьяница опередил. Чертов упрямец!
— Ах ты, трухлявый пень, — шевелиться лень?! Так я тебя пройму, кабак прокляну, на ветер пушу, чертей нашлю, Бога уведу, милость Его украду!..
Во мужичок выдал — не заклинание, а настоящая политическая речь! Неужто корчемник и сейчас устоит?..
— Да на тебе твою чарку, черт тебя подери!
С этими словами хозяин корчмы, поморщившись, как от зубной боли, сует оборвышу склянку вина. А вслед за этим, не заставив себя долго ждать, точно по сигналу, от гурта бесов отделяется самый тощий и вертлявый — и шмыг пьянице в чарку. Боже сохрани от такого подарка! Я начинаю невольно хихикать, пораженный таким поворотом событий; со всех сторон на меня удивленно косятся: мол, совсем дурак из ума выжил, хохочет без причины — ведь никому, помимо меня, не дано разглядеть свору бесов, набежавших в корчму. Хихикаю, значит, ожидая скорого конца незадачливого пьянчужки… Ха-ха-ха, но он молодец, какой же он молодец! Чарку-то в левую руку взял, а правой, как положено, перекрестился. В тот же миг черт как рванет из склянки с вином, будто ему зад горящей смолою заправили, да прямо корчемнику на лысину — с перепугу аль со злости нагадил на голову и был таков! А-ха-ха-ха! Я в жизни так не смеялся. «В чем живет смех, в том и грех», — любил повторять Пепи-юродивый. Ошибаешься, дружок. Добрый смех прогонит грех, а до греха доведет лишь тот, кто без причины ржет…
Гры-гы-ы… Рядом со мной кто-то как заржет: неужто, как я, паленого беса углядел? Ан нет. Мужик за соседним столом и не смеется вовсе, а корчится от боли — глаза выпучил, почернел весь, за горло хватается. Торопыга, видать, подавился иль поперхнулся чем-нибудь. Точно: на блюде перед ним рыбья кость лежит, наполовину обглоданная. А рыбья ли? Может, то хребет судьбы… Неважно. В такую минуту все неважно, кроме милости Божьей да жизни одной. В самом деле, вот стоит мужик, на руках его перстни драгоценные, на плечах кафтан дорогой, на ногах сапоги хоть куда, но встала смерть-косточка в горле — и в очах душа уже корчится, загибается. Все вмиг потеряло значение. Вот помрет он — купец ли, боярин ли, знатный ли вельможа, — разденут его донага — а там он такой же, как пьяница, докучавший корчемнику. И душа у них тоже одна — вином споена, бесом венчана… Тьфу! Не долго думая, я кидаюсь к несчастному, что есть силы сжимаю горло его — изо рта фонтаном бьет кровь, а сам бедолага без чувств и признаков жизни валится на пол.
Народ вокруг меня, разогретый вином, а похлеще — видом свежей крови, ропщет, сопит угрожающе, стиснув кулаки, сжимает тесный круг… Но мне все нипочем, в любом миру я блаженный, дурак, не страшащийся ни побоев, ни смерти телесной. Высоко над головой, точно крест, я держу рыбью кость, вместе с кровью вышедшую из горла грешника.
— Дивна дела Господня и неизреченныю судьбы владычни! И казнить попускает, и паки целит и милует!
Чужой сильный голос прет из меня, и я наравне со сбродом, собравшимся подле меня, преклоняюсь пред тем дивным голосом и трепещу…
«Спаситель мой! Христос послал тебя ко мне», — в который раз бормочет Прокопий Вятский. Так зовут воеводу, которого час назад я выручил от рыбьей косточки. На полной шее Прокопия еще сохранились черно-лиловые следы моих пальцев… Пустяк! Я не чувствую благодарности к его словам благодарности. Ведь он благодарит за тело свое, а я, дурак, спасал его душу. Но пусть будет так. Мне чудно наблюдать из оконцев его кареты за улицами, в чьей пыли я валялся часами… Воевода везет меня в знакомую церковь: Вятский желает поставить Богу свечку и одарить нищих милостыней. Обещает потом свозить в свой дом… Мне чудно наблюдать за миром, оказавшись в его Зазеркалье.
Выйдя из храма, воевода со смиренным видом кладет в жадную ладонь нищего горсть серебра. И в этот момент я слышу: «…Ста ради… ста ради…» Что это? Прямо дьявольское заклинание, а не кроткая просьба пожертвовать ради Христа. Неслыханно! Нищий открыто просит денег, нищему дела нет до имени Бога!.. А нищий ли это на самом деле? Едва сдерживая злость, я заглядываю попрошайке в глаза — и в следующую секунду гнев яростным воплем рвется наружу:
— Пепи, собака ты эдакая!! Ты же сам учил меня не просить милостыни! Да еще так: «Ста ради»! Ради денег, ради сребреников — ста! Деньги дьяволу собираешь?!
На глазах изумленного Прокопия Вятского, подобрав где-то палку, я гоню Пепи прочь от божьего храма. Как одержимый, гоню, словно в меня даже не демон вселился, а мститель редкий — божий посланник и воин, ангел небесный. Я бью несчастного Пепи по черной его голове и спине, гоню по рыночной площади, средь возов и кулей, ног и копыт, не разбирая дороги, не различая испуганных, удивленных, растерянных и хохочущих лиц. Для толпы наша стычка — хулиганская драка, потеха, чудачество двух уличных дураков; для меня же… Я вошел в раж, мне уже не вспомнить, за какой грех я так разгневался на шута, что худого он сделал Христу. Я преследую бедолагу с единственной целью — убить…
Мы стоим на краю какой-то воды. Долго не можем перевести дух, пыхтим и плюемся, но в глаза друг другу не смотрим — вхолостую разрядили очи свои, точно два усталых дуэлянта. Ведь и так все ясно — без лишних слов, без косых, затравленных взглядов. Одному из нас положено умереть. Одному — умереть… Большим пальцем правой ноги ковыряю сырую осеннюю землю, Пепи обреченно сопит, а за его спиной черный омут хладнокровно затягивает в себя солнечный свет и опавшие листья. Ненасытная бездна ждет — может, ожидание длилось века. Но вот пробил час: я пригнал на заклание грешника. Пепи больше не взывает к моему милосердию — приняв судьбу, молча пятится задом к воде, неуклюже скользит, изгибается, машет руками, пытаясь сохранить равновесие, наконец шумно падает в бездну. Беспомощно барахтается в ней, пока двумя ударами я не оглушаю его — шут замирает, безжизненно обратив лик ко дну.
Люди Вятского находят меня на месте убийства. Я покорно дожидаюсь их. Сам воевода пребывает в явной растерянности: «Везите покуда в хоромы, а там видно будет». Перед тем как забраться в карету, не удержавшись, оглядываюсь, чтобы бросить прощальный взгляд на пигмея — но мертвеца и след простыл.
12
Воеводскими хоромами неожиданно оказывается тот роскошный особняк, на крыльце которого Пепи проучил жадную молочницу. Пепи, где ты сейчас?.. На пороге дома нас встречает знакомая юная служанка. Вятский поручает ей заняться моей скромной персоной, вверяет мое уставшее тело в ее худенькие руки и, напоследок окинув меня взором, в котором смешались благодарность с испугом, уходит в свои покои. Девушка ведет меня в бани. Отчего-то я испытываю к служанке неприязнь, мне неприятны прикосновения ее рук. Неудивительно: моя плоть привыкла к презрению и глумлению над собой, но никак не к женской ласке и нежности…
Войдя в бани, я игнорирую мужскую половину и нарочно следую в женскую. Моя проводница с удивлением удерживает меня за рукав:
— Куда ж ты, Парфений? Там моются девки и бабы!
— Разве между двумя горницами есть какая-то разница? — делаю вид, будто мне и вправду неведомо это различие. — Ведь что здесь есть теплая и холодная вода, что там. А телу все едино, где на него вылить ковш воды.
— И то правда, — потупившись, как-то уж слишком быстро соглашается служанка и, оставив меня одного в женской бане, выходит вон. Меня ж охватывает сущий трепет: напросился, дурак! Лучше уж в геенне огненной очутиться, чем в бабьем царстве. И что ж теперь со всем этим делать?.. Оглядываюсь, вижу большой чан с водой, над ним поднимается пар, рядом — веник березовый, ковш, зола для мытья, кусок холста дорогого… Хм, я уже и не помню, какая вода на ощупь.
Внезапно слышу за спиной чьи-то шаги: похоже, служанка вернулась. Оборачиваюсь — и в тот же миг лишаюсь дара речи, цепенею. Стою, как кол в мешковине, не смея даже руку поднять, чтобы перекреститься иль отмахнуться, прогнать наваждение чудное… Боже, передо мной женщина, красивей которой я не видел на свете — ни на этом, ни на том, откуда пришел. Брови, глаза, нос, губы, стать — все говорит о породе. Боярыня! Как-то сразу догадываюсь, что прекрасная незнакомка приходится женой старому воеводе. Замечаю, что она не намного старше служанки, но сколько же в госпоже достоинства и благородной красы! Она совершенно спокойна, ни взглядом, ни жестом не выказывает никаких бурных чувств — ни крайнего удивления, ни неприязни, ни свойственного женщине безмерного любопытства… Похоже, о моем появлении ее предупредили заранее.
— Мне выпала большая честь привечать в моем доме божьего человека, — не отводя от меня ясных очей своих, наконец заговаривает она.
— Благодарствую, матушка, за вашу доброту безграничную, — склонив голову, решаюсь было поцеловать ей руку, но в последний момент отказываюсь от этой мысли. — Матушка зело любезна… Как же имя ваше?
— Магда… Магда Даниловна.
Ну и ну! Ко всему был готов — к Акулине, Авдотье, Прасковье, Василисе, Феодосье… Но чтоб жену русского воеводы Магдой звали?!
— Однако ж, матушка, имя у вас редкое…
Немецкое, чуть не ляпаю я, да вовремя язык прикусываю.
— На все воля Господня, — кротко и одновременно твердо отвечает она. Необыкновенная жена у Прокопия Вятского, ох и необыкновенная… Так же спокойно и уверенно, без ложного стыда и страха перед незнакомым телом Магда помогает мне раздеться. Я залажу в чан с водой — и дух мой захватывает от божественной неги. К телу, к которому я привык относиться хуже, чем к нечистотам, исторгаемым моим же телом, снова возвращается любовь. Пусть на миг — но возвращается… Я таю, омываемый нежной тканью воды, таю под нежным взором воеводской жены. Боже, как она меня искушает!
— Боже, какая у вас ужасная рана на плече! — в безотчетном порыве Магда склоняется надо мной, близко-близко подносит свечу — белыми жемчугами манят ее зубы в полуоткрытых устах, неизведанной прелестью светятся ее дивные очи, за тонкой сорочкой встает и опускается чудная грудь… Господи, как она искушает меня!
Не в силах больше сдерживать очнувшуюся плоть, презренную, униженную, но так до конца и не попранную, я в отчаянии выхватываю у молодой женщины свечу и сую в огонь руку. Усмирить тело немедленно! Наказать плоть, раз и навсегда подавить похоть! Пламя соблазна погасить — пламя пламенем погасить… Нестерпимо печет огонь, уже явственно воняет горелым мясом, а барыня все так же неподвижно стоит надо мной, будто дерево, пораженное молнией. Лишь слезы, что бесшумно текут и текут по ее прекрасному челу, выдают невыносимую душевную боль ее. Прости, Магда Даниловна.
— Прости меня, Парфений, — виновато шепчет барыня. — Наслышана я о твоей редкой святости и уме. Но вижу, недостойна даже прикоснуться к святомудрию твоему. А так хотелось попросить тебя о милости малой: снизойти ко мне, слабой женщине… да стать духовным наставником моим. Однако вижу, не суждено случиться тому.
Магда отбирает у меня свечу, целует обожженную руку.
— Прости меня.
— Прощай…
Едва завернув за угол воеводского дома, с невиданным исступлением принимаюсь рвать на себе новую льняную рубаху, что надела на меня юная служанка. Прорываю в белой льнянице прорехи и дыры, чтоб бренное тело мое ближе было к бренному миру сему, чтоб мой позор был всегда на виду, чтоб в дыры, как в окна, заглядывал Бог, помогая усмирить мою плоть. Опустившись на колени, осторожно посыпаю голову пылью, как пеплом… Затем, упав лицом в грязь, неистово катаюсь в ней, безбожно марая белоснежное рубище. Я вновь выбираю безобразие, дабы защитить чистоту.
…На центральной площади народу по обыкновению видимо-невидимо. Толпа требует сильных ощущений — даже от Бога люди ждут льда и огня. Что ж, сейчас вы получите сполна. Я появляюсь. Ничуть не согбившись, напротив, распрямив плечи, выкатив вперед грудь, величавой походкой, аки царь, я выхожу на средину площади. Глядя на мое безобразие, люди самозабвенно молятся Богу. И вправду, вид мой величествен и ужасен. Положив на тело свое кресты с веригами железными, а на верху главы своея колпак великий и тяжкий носяше, и у рук своих на перстех колца и перстни медяные и четки древяные носяще, и терпением своим тело свое сокрушая, Христу работая и злыя же темныя духи отгоняя, и у тайных своих колца медные ношаше… Так выхожу я к толпе. Показывая на меня пальцами, кто тихо молится, кто смиренно перешептывается, вспоминая имя мое, кто ропщет мятежно… Все ждут от меня смелых пророчеств и глумлений премудрых.
— Аз есмь червь, — глухо начинаю я, и народ, тяжко вздохнув, как перед смертью, затихает. Не этого он ждал, не уныния и печали беспросветной в голосе моем, а куража и безграничной радости. Бессовестной радости, которой не сдержать ни Богу, ни дьяволу… Но не зря нацепил я на себя вериги железные. Продолжаю упрямо. — Я есмь червь, пожиратель лайна душ ваших никчемных. Вы погрязли в благополучии греховном, яко в говне. От вашего благочестия зело смердит! Как сорому нет? И токмо блаженный сей, Парфений Уродивый, способен отвести вас от беды, отвратить от такой жизни, в недрах которой полно гнили зловонной, подобно тому, как червь способен отвратить голодного от спелого плода, где сердцевина давно уж мечена распадом… Я есмь червь, готовый гадить там, где кал, способный чистить то, что изгажено.
С этими словами, звеня веригами и крестами массивными, я задираю подол рваной рубахи и, прилюдно заголив зад, сажусь на корточки, упираюсь руками в колени… Ни одна черточка на моем челе не дрогнет, пока я делаю по-большому.
Несколько мгновений народ еще молчит, тупо глядя на кучу, которую я только что сделал на глазах у всех… Затем взрывается с безумной силой, визжит, как стадо свиней, Христом посланных убиться с обрыва. Толпа ревет! Неизвестно, чего больше в том реве — бесовского веселья или сатанинской ненависти. А в это же самое время, затерявшись в бушующей толчее, глядя на мою оскорбленную наготу, христианская кротость неслышно давится слезами раскаяния и стыда…
13
…Палермо позвонил в дверь Эросовой квартиры. Ноль внимания. Повторил в другой раз, в третий… «Оглох он, что ли?!» Дернул за ручку — дверь неожиданно поддалась, с легким скрипом уходя в глубь прихожей… «Черт, и вправду вонища! Кондрат не трепался». Отчего-то на цыпочках Палермо подкрался к комнатке Эроса. Принюхался. «Здесь явно кто-то блевал». Толкнул осторожно дверь…
— Эрос, ты? Ну и видок у тебя!
Палермо, присвистнув, встал на пороге.
— Эй, тормоз, да что с тобой?
Эрос упрямо не реагировал на приход товарища, не отзывался на его недоуменные возгласы. Все внимание по-прежнему было обращено к монитору: Эрос словно приклеился к нему взглядом… «Чего он, дурак, там увидел? Ведь монитор выключен… Ан нет…» Палермо подошел совсем близко к машине-аквариуму, поморщившись, кинул косой взгляд на невменяемого Эроса, наконец заглянул в экран, всмотрелся повнимательней… В ту же секунду сложную конструкцию из стиралки и монитора потряс мощный толчок. От неожиданности Палермо отпрыгнул назад, в ужасе уставился на Эроса — тот сидел все так же недвижим и беспомощен — и, случайно скользнув глазами по иллюминатору, встретился взглядом с пучеглазым чудовищем. «Вот мудило, тебя только не хватало!
Что, морской придурок, не спится? Людей пугаешь, сволочь…» Губы ардовского черта едва-едва шевелились, на тонкой удочке тускло мерцал крошечный огонек.
Еще пару раз матюкнувшись, потерев голый череп, Палермо решительно подошел к монитору. «Теперь мне хрен кто помешает. Так, что здесь… az.blazhen.b. Ни хрена себе! Домен дикий какой! Таких в природе не бывает — без привычного протокола „эйч-ти-ти-пи“ в начале, с бредовым твердым знаком в конце… Постой, постой, да это ж „ять“ — кажись, последняя буква в старом алфавите! Ну, полный улет! Что ж здесь за код используется? Глянем-ка…» Палермо, все больше волнуясь, вошел в меню «Вид», щелкнул по опции «В виде HTML»… В открывшемся окне текстового редактора полностью отсутствовали дескрипторы. По крайней мере, те иероглифы, замысловатые закорючки, из которых был составлен код невиданной веб-страницы, трудно было причислить к каким-либо знакомым дескрипторам HTML. В открывшемся тексте вообще ничего нельзя было разобрать и понять!
— Абракадабра какая-то, шифровка от Штирлица. Эй, Штирлиц… тьфу, Эрос, очнись! Где ты разыскал эту чушь?
Эрос медленно повернул голову: ресницы вздрогнули, зрачки чуть сузились, в них затеплился свет — сознание возвращалось к парню.
— Ну, наконец-то! — Палермо шумно выдохнул, словно вынырнул из многометровой глубины. — Пойди помойся. От тебя воняет черт знает чем. Блин, на хрена ты нацепил на себя…
Только сейчас Палермо обратил внимание на странную рубаху, в которую был одет Эрос. Безобразная рвань, очень смахивающая на заношенную до дыр женскую ночнушку, сплошь в дурно пахнущих пятнах.
Эрос встал и тут же опасно покачнулся.
— Эй, тебе помочь? — Палермо протянул было руку, но Эрос, не замечая ее, прошел мимо. Не моргая, точно зомби, точно морской черт, упрятанный в «Ardo», он поплелся в прихожую. Палермо провожал его ошалелым взглядом. Вот Эрос поравнялся с дверью в ванную комнату, не замедляя шага, проследовал дальше и, наконец, вышел вон из квартиры. Войдя в дом, Палермо забыл закрыть за собой дверь.
Эрос исчез. А Палермо продолжал стоять как столб, не в силах ни шагу сделать, ни пошевелить рукой… Первым к нему вернулся дар речи:
— Эрос совсем спятил. Во попали!
…Воскресный вечер неумолимо таял, сигаретным пеплом слетал под ноги прохожих. Несмотря на довольно позднее время, сырой и прямо-таки промозглый воздух, никак не вязавшийся с концом лета, разгулявшийся люд не спешил расходиться. Подростки по обыкновению кучковались, заплевывая тротуарную плитку подсолнечной шелухой, пили пиво и громко окликали друг друга. Люди постарше, одетые, без сомнений, дорого и солидно, однако уже нарушившие первоначальную респектабельность нетрезвой рукой, неверными голосами ловили такси. В ночь, по праву отнявшую город у вечера, пьяненькие пижоны разъезжались не одни — в компании щебечущих, непристойно одетых девиц. Одного такого съемщика с наружностью большого начальника упустила его пышная, полная достоинств и лишнего веса спутница. Прозевала за считанные минуты! Стоило мадам только, продефилировав по Соборной к Красной площади, зайти в «Каравай» за батоном и еще какой-то снедью, как муженек не преминул улизнуть с молоденькой шлюшкой. Позорное бегство супруга мадам скорее почувствовала, чем углядела в темные окна магазина. На улицу она выскочила, свирепо вращая очами, зажав в руке французский батон вместо деревянного меча… Увы, на этом неприятности ее не закончились. Уже в следующую минуту ей под ноги бросился грязный колобок и больно укусил за ляжку. Мадам дико взвизгнула. В первый момент она решила, что на нее напала бездомная собака. Но когда обнаружила, что ее укусил человек… Мадам завопила еще истошней:
— Какая мерзость! Да как ты смел, урод?!
На помощь женщине поспешили два здоровенных хлопца и один коротыш, зато с явно обозначенным комплексом собственной избранности. В жизни никому не помогали, но сейчас… Как раз перед этим приятели расправились с ржаными сухариками «Грызли», посреди тротуара растоптали пустые пакеты, отфутболили прочь две литровые пластиковые бутылки из-под «Черниговского», а теперь, скучая, озирали прохожих, раздумывая, кого бы первого задрать. Удобного случая долго ждать не пришлось.
— Ну шо, пацаны, — коротыш счастливым взором оглядел крепких своих друганов, — поравняем лоху харю?
Но не тут-то было. Лох, он же Эрос, он же, наверное, первый сумской юродивый, не стал дожидаться, когда его отдубасят в свое удовольствие три безбашенных подростка. Эрос кинулся наутек — едва ли не на четвереньках, точно всамделишный пес или кот. Добежав до ближайшего фонарного столба, ловко вскарабкался на него.
— Во лох дает! — с уважением хохотнул один из преследователей.
— Во лох дает!! — весело повторил сверху Эрос. Он до неузнаваемости преобразился. Ни тени уныния и стыда на безумном лице! С виной покончено навсегда! Эрос ударился в исступленную радость; как кошка, вцепившись в бетонное тело столба, принялся бесноваться, корчить рожи, издавать неприличные звуки, одновременно пугая и притягивая к себе зевак. От нечленораздельных выкриков и бесовских междометий он вдруг перешел к стихам. Эрос горланил странные вещи:
— Здесь дети бегают, как крысы, Из расцарапанных углов. То тут, то там их череп лысый Дрожит под градом тумаков. Для них звенящая угроза — Пирамидальные подростки, Чье тело в поршнях паровоза, Душа питается из соски; Чьи пальцы — длинные антенны Давно сплелись в стальные плети…Грозные лохмотья безумного Эроса развевались на ночном ветру, будто старый, вырванный из забвения флаг… Бросив пугать стихами, Эрос начал выкрикивать имена губернатора и мэра:
— Офелий и Гребень — Как огниво да кремень! Гребень да Офелий — Познай вора на деле!Народ у подножия столба зароптал, заулюлюкал — кто возмущенно, кто с одобрением, а кто дурашливо и гадко, радый любой возможности покуражиться. Тогда странный грязный оборвыш разошелся пуще прежнего:
— Гребень не князь, Гребень грязь! Когда ты в грязи, у тебя все на мази! Попробуй тронуть Гребеня — он пошлет тебя к ебеням!..
Толпа внизу довольно загоготала. Смеялись, похоже, все: и сторонники, и противники власти. Внезапно повиснув вниз головой, чудом удерживаясь на скользком столбе, фонарный юродивый перешел на ридну мову:
— Кажу це скрізь і відкрито: хто не ризикує, той не п’є шампанське! Буде настрій — буде дух! Це — доля мільйонів! Чуйні, уважні й мудрі люди! Шана їм і наша вдячність за те! А що робити «не кращим»? Каторжно працювати і шукати своє місце під сонцем! Я — не виняток! Мені не доводиться лукавити й хитрувати! Одні вважають мене жорстким, інші — навіть жорстоким! Кажу вам: я — не виняток! Мене творив час, я творив себе й сам! Мені був потрібен простір! Я був занадто різким і завжди намагався бути самостійним! Нікому в світі успіх не дається легко! Треба брати відповідальність на себе! Я запрограмований на рух уперед! Наш шлях — у глобалізований світ! Майбутнє хвилює всіх! Моя мати — це мій народ! Народ нас не зрозуміє, народ нам не пробачить, народ треба нагодувати й одягти! Надія — добрий сніданок, але погана вечеря! Ми втрачаємо дорогоцінний час! Коли обдурюєш людей на кожному кроці, тоді ти ніякий не політик, а звичайнісінький шахрай. Я — людина конкретної роботи і конкретних результатів! Треба не заробляти авторитет популістськими гаслами, треба думати й запитувати себе: влада в ім'я чого? Знання породжують печаль. З цим і повернуся до вас!..
Как из засады, из уличной темени вынырнул милицейский «УАЗик» — едва не врезался в толпу. Хлопнув дверцами, из машины выскочили четыре мента. Продырявив строй зевак, стали возле столба, задрав головы, с минуту-другую таращились на чокнутого. Вдруг один из ментов, кажется, старший сержант, выхватил из кобуры пистолет и, почти не целясь, выстрелил — стаей испуганных галок разлетелись в стороны ахи и охи прохожих. Эрос дико заверещал, заскулил, внезапно сорвался вниз по столбу — и прямо в лапы ментов. Они сгрудились вокруг него, накинулись, мешая друг другу. Старший сержант, замахнувшись, ударил было нарушителя порядка и спокойствия, но поганец ловко поднырнул под его летящую руку, в результате чего смачный удар командира патрульной машины достался ефрейтору — точно в его гладко выбритую скулу. Наткнувшись на ядреный кулак, голова ефрейтора резко откинулась назад и в сторону.
— Мыколаич, охренел, падлюка!! — только и смог прохрипеть контуженный милиционер, беспомощно приваливаясь спиной к столбу. Оставшиеся в строю три мента схватили за руки, за ноги Эроса, но тот, словно ящерица, вывернулся из их стальных объятий — да так быстро и виртуозно, что менты, упустив его, в первый момент похватали друг друга.
Народу кругом собралось видимо-невидимо. То и дело толпу сотрясали взрывы хохота и веселья. Такое шоу люди видели впервые.
— Заказуха, — с умным видом и довольно категорично предположил один наблюдатель. Его боевой пенсионный возраст не сулил ничего хорошего ни противникам, ни даже сторонникам его точки зрения. Тем не менее нашелся упрямец, привыкший ставить все под сомнение.
— Вряд ли, — не согласился он.
— Вне всяких сомнений, заказуха, — настаивал первый. — Губернатор с мэром решили, как любят говорить брехливые демократы, пропиариться. Лучшего способа не придумать.
Даже бомжи с интересом наблюдали за происходящим безумием. Двое из них, с протянутой рукой несшие караульную службу в дверях «Каравая», то и дело переглядывались с недоуменным видом. Они никак не могли взять в толк: откуда в их районе взялся этот сумасшедший чужак. Откуда?
14
— Ну, что я вам говорил? Вон он!
Палермо пальцем показал на кучу-малу, в которой стражи порядка злобно тужились огреть кого-то дубинками.
…Друзья долго блуждали по ночному городу в поисках сбежавшего Эроса. По Соборной вышли к Красной площади, внезапно наткнулись на огромадную даже для дневного, а тем более для ночного часа толпу. Немалая часть людей перегородила проезжую часть. Друзья обошли бы странное сборище, не имея ни малейшего желания нарываться на чужие разборки, кабы не странные крики, пробивавшиеся сквозь дружный, монотонный рев:
— Ха-ха-ха, этот придурок дал сержанту пинка! Силен чувак!
— Сам ты придурок! Это клоун! Я видел его вчера в цирке «Кобзов»!
— Да ты што?! Какой еще клоун?! Шут!! Черт бы меня побрал — настоящий шут!! Как в «Короле Лире»!
— Ну-ка, что еще за шут? — Гапон с интересом и даже с некоторой угрозой уставился на Палермо, будто тот и вправду знал ответ. Палермо, точно проштрафившийся школьник, невольно потупился. Любопытство заставило-таки друзей внедриться в толпу. Минуты полторы усердно поработав локтями и корпусом, подгоняемая, выпихиваемая, отторгаемая ревущей толпой упрямая троица прорвалась к центру круга. Такая картина предстала перед ними, до крайности возбужденными, запыхавшимися, жаждущими безумных впечатлений: они увидели, как четыре крутых милиционера крепко схватили друг друга, будто пытаясь продемонстрировать игру в регби или американский футбол, а между их ногами вылазит чумазый оборвыш и хохочет, хохочет безудержно. Веселится-то как!
— Мамочка родная, это ж Эрос!! — Ален как закричит — да тут же закрыла ладошкой рот, словно выдала страшную военную тайну. Потом давай трясти за плечи Кондрата, мычать непереводимое в лицо Палермо… Наконец Ален прорвало — она заговорила быстро-быстро, глотая окончания слов:
— Кондра… Палер… Ну, сделай… хоть что-ни…
Переглянувшись, парни бросились к милиционерам, те в свою очередь кинулись за ускользающим Эросом. Но безумец и в этот раз оказался ловчей и проворней: прыгнул в открытую дверь «УАЗика» — менты за ним, Эрос выскочил из второй дверцы, нырнул под колеса, ефрейтор попытался угнаться за ним, упал, неуклюже растянулся возле колес… Толпа зареготала с новой силой!
— Шут! Шут! — вновь послышались крики, пугая и радуя, как выстрелы пробок из-под шампанского. Словно ободренный ими, Эрос стрелой вылетел из-под брюха машины, метнулся в толпу — ахнув, она невольно подалась назад и в стороны. Люди охотно расступались, пропуская героя сегодняшней ночи, провожая его восхищенными взорами. За ним ринулся было ефрейтор. Уронив возле машины фуражку, расхристанный, с невероятно красной, прямо бордовой рожей мент завяз в первых же рядах зевак.
— Стiйте!.. Вже марно, — вконец запыхавшись, старший сержант с трудом отдал приказ. Услышав голос начальника, ефрейтор стал как вкопанный, будто только сейчас до него дошла бессмысленность погони.
— Бесполезно, теперь его не догнать, — словно вторя менту, отказался от погони и Кондрат.
— Да вы что, ребята, он же пропадет! — стиснув кулачки, Ален яростно наскочила на Кондрата — тот лишь криво усмехнулся.
— Не пропадет, — не согласился Палермо. — Он должен вернуться домой.
— Откуда ты знаешь?! Тебе лишь бы…
— Ален, прекрати истерику, — схватив девушку за плечи, Кондрат безжалостно встряхнул ее. Затем уставился на Палермо — казалось, еще миг и он пробуравит его взглядом насквозь.
— Палермо, в самом деле, откуда такая уверенность?
— Не уверенность. Всего лишь догадка. Понимаешь… Короче, все дело в сайте. Ты ж ему оставил компьютер, вот он и набрел…
— Хм, еще один «сайт мертвых»? — стараясь не выдать внезапного волнения, хмыкнул Кондрат.
— Нет, другой. Самое интересное, я не могу его опознать…
— Ты так странно говоришь, будто речь идет не о вебе, а покойнике.
— Нет, правда, он — другой, написан и сформатирован не в «аш-тэ-эм-эль». Чужой совершенно язык!
— Хватит, не грузи. Я все равно не пойму. Поехали к нему домой.
Ребята поймали тачку. Каково же было удивление Ален, когда она увидела таксиста… Нет, в ту минуту она была абсолютно не в состоянии удивляться — ничему и никому. Скорее, молодой водитель приятно был поражен, узнав красивую девушку… Но больше всех испытала радость, похоже, пассажирка, сидевшая на заднем сиденье.
— О мой мальчик, прикоснись ко мне! — воскликнула дебелая, не первой свежести сердцеедка — та самая, что в рюмочной пожирала очами Кондрата.
— С каких пор, тетя, я стал вашим? — устояв перед отчаянным напором, Кондрат решил сурово пресечь посягательство на свою свободу… и, возможно, на молодое тело. Он вдруг выхватил у разомлевшей дамочки сумочку и вышвырнул в открытое окно. — Фас!
— Какой нахал! Какой неотразимый нахал! Ах, мой мальчик!..
— Давай, давай вали, тетя!
Женщине не повезло — ей отказали в любви и месте в уютном такси. Троица рассмеялась ей вслед — беззлобно, просто потому что было смешно. Ехидно смеялся лишь таксист. Еще бы: он умудрился взять с пассажирки плату наперед…
Когда подъехали к дому Эроса, таксист выбил счет. На нем вместо чисел были стихи.
— Ну как? — робко спросил он.
— Уже лучше. Гораздо лучше, — Ален кивнула, даже не коснувшись взглядом стихов. И вдруг едва не взмолилась. — Но ради Бога, нам сейчас не до них!
Застали Эроса дома. Свернувшись калачиком, прижавшись спиной к машине-аквариуму, он спал, безмятежно посапывая, как ребенок. Правда, все в том же жутком, вонючем рубище.
— О Господи, Эрос! — у Ален вновь случилась истерика, но девушка быстро взяла себя в руки. На удивление, быстро. Зато растерялся Кондрат.
— Может, это не он… — неуверенно пробормотал он.
— Как не он?.. Он! — не понял Палермо.
— Может, это не он был там… у «Каравая»? — медленно закончил мысль Кондрат.
— Вот что я вам скажу: идите! Я сама им займусь! — решительно заявила Ален. И поспешила выпроводить ребят. В ответ парни недоуменно пожали плечами, пропустили ее вперед, вовремя поддержанную, укрепленную новой верой — в свои силы и звезду Эроса.
Затворив за ними дверь, девушка вернулась в комнатку Эроса. Ножницами разрезала лохмотья, осторожно сняла их со спящего любимого. Набрав в таз теплой воды, принялась губкой обмывать истерзанное тело. Где же он успел так исцарапать, изодрать его?.. Неожиданно врезала кулаком ему по спине:
— Кретин, что ж ты наделал?!
Рыдая в голос, по-бабьи голося, прижалась разгоряченным лбом к плечу Эроса. Тот даже не шелохнулся — ни от удара, ни от прикосновения. Продолжал посапывать, как ребенок. Закрыв руками лицо, Ален выскочила из комнаты.
— …Вредный сайт. Я чувствую его силу. Надо держаться от него подальше, — заключил Гапон, встав в метре от включенного монитора. Угрожающе-черный, он едва заметно искрился, подобно глыбе угля, вынутой на белый свет… Незамеченными хлопцы тихонько вернулись. Теперь Кондрат с безопасного расстояния наблюдал монитор, не решаясь подойти ближе. Тяжко, как старичок, вздохнул:
— Это ловушка для духа.
— Почему ловушка? — Палермо с некоторым испугом глядел на приятеля.
— Не знаю. Думаю, даже хуже: черная дыра, через которую Сеть поглощает наше эго.
— Что ж тут такого? — Палермо бессознательно тронул левый висок. — Ты ж сам призывал избавляться от эго.
— Не от эго, а от рефлексов и скороспелых желаний. Они — мусор нашего сознания. А мое эго, хм, мне еще пригодится.
— А Эросу? — вдруг спросил Палермо, не отводя глаз от спящего, словно боясь, что иначе тот исчезнет, растворится в собственном сне.
— Эросу?.. — Кондрат с едва скрываемой неприязнью посмотрел на неподвижного товарища. — О сонных, как и о мертвых, плохо не говорят… Пожалуй, ему уже ничем не поможешь. Вишь, как спит… блаженный шут.
— Юродивый, — машинально поправил Палермо.
— А ты откуда знаешь? — удивился Кондрат.
— Знаю. Пойдем отсюда. Оставим их вдвоем. Ален, ты останешься с Эросом?
Ален встала за его спиной. Никто не слышал, как она вошла.
— Да, — девушка кивнула и отчего-то покраснела. В тот же миг Кондрат резко обернулся, никак не предполагая, что Ален слышит их разговор. С неведомым доселе ужасом, благоговейным, проникнутым робким восхищением, он уставился на ее заметно поалевшее лицо. «Ради Бога, прости», — прошептал. В душе одной прошептал…
— … А вечером я сменю тебя, — шепотом предложил Палермо.
— Не надо, — Ален улыбнулась. Она снова была бледна. Бесподобно бледна! — Не стоит, Палермо. Я буду с ним.
— Сколько — вечность? — криво усмехнулся Кондрат. Ему было не по себе. Теперь он горел одним-единственным желанием — поскорее уйти.
— Вечность… А может, до самой смерти, — эхом доносится голос Ален.
Ни разу не обернувшись, ребята ушли. Закрыв за ними, Ален тихонько легла рядом с Эросом, незаметно для себя задремала. Во сне она увидела свет…
Он не знал, как долго проспал. Когда очнулся, не посмотрел на часы, а когда заснул — так тем более… Единственное, что его привлекло в момент пробуждения, заставило инстинктивно замедлить неукротимый бег к намеченной цели, была она — единственная. Пробудившись, он не узнал ее. Сон застиг ее в соблазнительной позе: своевольно уложил на мягком паласе, раскинул в стороны ее обнаженные руки, небрежно рассыпал волосы цвета пшеницы, залитой лунным светом, лег безответным поцелуем на спящих губах, фривольно задрал тесный топик, оголив плоский девичий живот и краешек юной груди…
— Какая красивая девушка!.. Спит… Но мне не до сна.
Вскочив бодро на ноги, устремился к компьютеру. Словно узнав старого товарища, черный экран замерцал ярче… Вдруг, подобно рубцу или морщине, ослепительная полоса пересекла его по диагонали сверху вниз!
15
…Вместе с моими передними зубами выпал первый снег. Как-то сразу, почти в один миг, наступили вдруг стужа и разочарование — холод души неимоверный. Неприкаянный, я брожу по древнему городу, засунув руки под мышки, пытаясь не отпускать на волю последнее тепло. Но многошвейные лоскуты, вдоль и поперек изодранные лохмотья, подобно папиросной бумаге, бессильны согреть меня. Я плетусь, едва передвигая окоченевшими, несгибающимися босыми ногами, и от отчаянья то скулю, будто бездомный пес, то бормочу нечленораздельное: а-а-а!.. Как вдруг слышу над своей головой, где давно уж не тает иней, голос твердый и обнадеживающий. Я не спутаю его ни с каким другим!
— «И я сказал: а-а-а, Господи! Я, как дитя, не умею говорить. Но Господь сказал мне: не говори „я дитя“, иди, куда Я пошлю, и говори все, что прикажу», — вовремя вспоминает слова пророка шут Пепи. От его голоса на душе сразу становится теплей, и даже ноги и руки, кажется, не так сводит от холода.
Я вижу впереди золотое свечение, чей-то прекрасный лик… Иль то зимнее солнце садится за город? На какой-то миг испугавшись, тревожно вглядываюсь — от озноба взор мой скачет, как прицел у перевозбужденного стрелка. Нет, то не закатное солнце манит меня сквозь студеное марево. Ведь светило умирает на западе, а золотое видение явилось мне с востока… Упоенно повторяя Его имя, направляю вконец одеревеневшие стопы навстречу чудному свету. С нетерпением жду избавления… Вдруг, оступившись, по пояс проваливаюсь в зимний пух — ров, полный чистого снега. И снова слышу голос Пепи:
— Он ждет тебя. Но прежде очистись от грязи мирской…
Скинув с себя остатки рубища, жадными пригоршнями хватая снег, я тру, тру, тру свое тело. Я снова его люблю…
16
Ален очнулась, в правом виске тревожно тикала жилка. Предчувствуя новую беду, провела рядом рукой — пусто. Лишь след на толстом паласе от недавно лежавшего тела. От следа пахло мылом и плесенью. Как-то сразу Ален догадалась: не гнилью, не гноем, а именно плесенью. Так пахнут древние книги и, возможно, вся святая старина. Но сама Ален еще так молода. И Эрос тоже очень молод. Эрос…
— Эрос?! Где мой Эрос?! — Ален немедленно подхватилась, одернула топик на высокой груди, задышала часто-часто, будто напуганная до смерти… Но уже в следующий миг обнаружила своего Эроса, замершего перед монитором. В первое мгновенье показалось, что это уже не человек, не ее возлюбленный, а успевший одеревенеть труп.
Поборов страх, она коснулась его виска — теплый. Трепещет, легонько подрагивает под пальцами. Но взгляд ужасный, остекленевший, будто Эрос принял слишком большую дозу…
— Эрос… Эрос! Черт бы тебя побрал, Эрос!! Миленький, я убью тебя, слышишь?!.. Боже, он что-то бормочет…
Близко-близко к его губам Ален склонила голову — теплый воздух нежно коснулся ее уха:
— …Прости засранца, прости засранца, прости…
Ален болезненно поморщилась — и в этот момент зазвонил телефон. От неожиданности она вздрогнула, косо глянула на телефон, стоявший слева при входе в комнату, — тот продолжал разрываться.
— Блин, тебя только не хватало!
Поискала взглядом, чем бы таким в него запустить. Телефон не будильник — ошибается не однажды, но верен всю жизнь… А он звал и звал.
— Вот зануда! Да, алло! Кто это?!
— Ален, — как с того света донесся слабый голос Палермо.
— Ну что тебе? — неприветливо отозвалась девушка, вновь вперив взор в безжизненное лицо Эроса. — Давай поговорим утром, я чертовски хочу спать.
— Постой, не клади трубку! Я знаю, ты хочешь это сделать!
— Отстань, Палермо! Лезешь со всякой ерундой… Эрос заговаривается. По-моему, он дошел…
— Ален, это все не так! Ален, он вернулся! — голос Палермо вдруг стал невыносимо громким, будто резко улучшилась связь или в ухе Ален пробило пробку.
— Не ори так! Кто — он? — на мгновенье она отняла трубку от уха, бессмысленно вытаращилась на нее, будто ожидая, как из трубки появится картинка того, из-за чьего возвращения Палермо лишил ее покоя…
— Карпов, Ален, Карпов вернулся!!
— Боже!.. — Ален повернула к Эросу вмиг побелевшее лицо. — Ты слышишь, Эрос, Андрей…
В следующую секунду — как будто слова Ален послужили тому сигналом — монитор озарила золотая вспышка. Невиданной мощи и красы!
— Ох ты! — девушка обмерла, не в силах пошевелить рукой, продолжавшей сжимать трубку.
Голос Палермо в ней уже пел от счастья.
— Что там, Ален?! Не молчи, Ален! — он вновь забеспокоился, почуяв неладное.
И вдруг раздался голос Эроса, с каждым мгновеньем становясь все крепче, радуя жизненной силой веры… Не веря своим глазам, Ален смотрела, как оживают губы любимого, как пробуждается в нем дух.
— …Господи, Ты услышал меня, Ты внял моим молитвам, Господи! — плечи Эроса сотрясали рыдания, он вытирал слезы рукой. — Господи, что б я делал без Тебя!..
Ален, не зная, что предпринять, терпеливо ждала. Вдруг Эрос осекся, замер, вжал голову в плечи, медленно повернулся к девушке. Она облегченно вздохнула, улыбнулась устало: лик его вовсе не был испуган и жалок. Напротив, долгожданным приливом к нему возвращалась жизнь.
— Ален, я…
— Я все знаю, мой дорогой, — она стала перед ним на колени. — Я все видела: ты сильный и чистый. Я люблю тебя, Эрос.
Научите меня верить в Бога И покройте древесной корой — Я раскинусь над потной Дорогой Огнедышащей летней порой. А потом с топорами придите И под корень срубите меня, Распилите и долго сушите У кормящего грудью Огня. Разведите закатные краски И придайте мне облик Христа… Я сомкну на раскрашенной маске Вместо губ четвертинку Креста.Те стихи, что Ален не успела прочесть в такси.





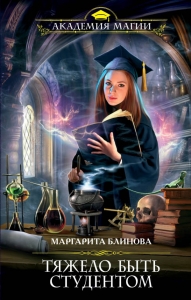

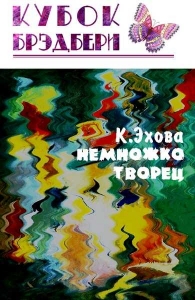



Комментарии к книге «Юродивый Эрос», Павел Федорович Парфин
Всего 0 комментариев