Четыре рассказа Андрей Жвалевский
© Андрей Жвалевский, 2017
ISBN 978-5-4483-7556-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Войнушка
Министр обороны Хорн и председатель объединенного комитета начальников штабов генерал-лейтенант Эйзенштольц встретились у малого конференц-зала.
Министр непрерывно потирал ладони. Эйзенштольц сразу понял – это неспроста. Это означает, что выход найден.
– Большие задницы дали бабла? – поинтересовался генерал-лейтенант.
Хорн поморщился. Его коробила привычка Эйзенштольца называть конгрессменов «большими задницами», а сенаторов – «большими вонючками». Только Президента генерал-лейтенант звал уважительно – «бугор».
– Нет, – ответил министр. – Но теперь они нам и не нужны.
Эйзенштольц не верил своим ушам. Неужели Хорн внял его уговорам, и они таки устроят небольшой, но очччень эффектный военный переворот?
– Я нашел бизнесменов, которые нам помогут, – продолжил министр и распахнул дверь конференц-зала.
«Правильно, – решил Эйзенштольц, входя вслед за Хорном, – бабло для переворота пригодится».
Внутри их ждали два подозрительно узкоглазых, низкорослых и желтолицых типа. Но генерал не страдал ксенофобией. В конце концов, он сам был черным, как гуталин. Или (это сравнение ему нравилось больше) как президентский «Кадиллак».
– Итак, господа, – сказал министр, как только они обменялись приветствиями и уселись, – теперь, когда принципиальное взаимопонимание достигнуто, осталось обсудить финансовую сторону дела.
«Дай бабла!» – перевел про себя Эйзенштольц.
– Мы исходим из того, – важно ответил китаеза, – что затраты окажутся в пределах оптимальных значений.
Эту фразу генерал тоже перевел без труда: «Бабла жалко».
– Однако следует учитывать… хм… особые условия нашей договоренности, – тонко улыбнулся Хорн.
(«Да не жмись, не коников из суглинка покупаешь!»)
– Я не уверен, – ответил улыбкой на улыбку бизнесмен, – что степени наших рисков сопоставимы.
(«Ага, а если дельце не выгорит, кто мне денежки вернет?»).
Министр сделал официальное лицо.
– На кону репутация армии, – сказал он твердо, – и моя личная. Это лучшая из возможных гарантий вкладываемых вами средств.
(«Зуб даю»).
Высокие договаривающиеся стороны, одна из которых была, впрочем, низкорослой, некоторое время помолчали. В воображении Эйзенштольца они обменялись выразительными жестами и гримасами.
– Наши эксперты определили, – сдался один из китайцев, – что для достижения заявленной цели вполне достаточно пяти миллионов долларов.
(«Вот тебе пятерик, и не кочевряжься!»)
– Наши специалисты, – покачал головой министр, – оценивают необходимую сумму в восемь миллионов.
(«Треху накинь, да?»)
– Мы готовы выделить еще около миллиона на непредвиденные расходы.
(«Давай так: пятерик фирме и лимон тебе, идет?»)
– Ну что ж, – важно кивнул Хорн, – мы постараемся обойтись этой суммой.
(«Идет»).
Воображение генерала тут нарисовало живописную картину: министр и китаезы смачно плюют на руки и скрепляют базар рукопожатием. Эйзенштольц не удержался и фыркнул. Все тут же вспомнили о нем и разом повернулись к генералу.
– Господин генерал, – спохватился Хорн, – у вас есть соображения по данному поводу?
Эйзенштольц не успел переключиться с воображаемого разговора на реальный, поэтому брякнул:
– Базара нет.
Министр оцепенел. Узкоглазые на мгновение превратились в круглоглазых. Генерал моментально поправился:
– Все высказанные мнения кажутся мне… э-э-э… ценными.
После этого появился секретарь с договорами. Министр и один из бизнесменов подмахнули его, не читая.
– Мы надеемся на эффективное использование средств, – сказал при этом второй китаеза.
Эйзенштольц снова перевел: «Кинешь – пожалеешь».
Уже когда они остались наедине, Хорн недовольно спросил генерала:
– Эйзенштольц, что это за «базар»? Откуда у вас такие выражения?
– Я вырос в Гарлеме, сэр, – высокомерно ответил генерал.
С таким же высокомерием древние римские бомжи восклицали: «Отвали, я Римский гражданин!», когда их пытались отправить в каталажку древние римские копы.
На лице у министра на мгновение промелькнуло все, что он думает об американской мечте, расовом равноправии и выходцах из Гарлема. Но он тут же взял себя в руки.
– Ну вот, – сказал он, – шесть миллионов как с куста. И без всякого Конгресса с Сенатом.
– Мало, – вздохнул генерал.
Министр все перечитывал и перечитывал контракт, словно не верил в свое счастье.
– Маловато, конечно, но это только пробный шар, потом будем дороже брать…
Эйзенштольц изумленно посмотрел на Хорна.
– Потом? – уточнил генерал.
Что-то в его голосе напрягло министра, и тот отвлекся от изучения бумаг.
– Конечно. У нас далеко идущие планы.
– Я понял, – Эйзенштольц понизил голос, – еще где-то правительства свергать будем?
Хорн не меньше минуты моргал и не произносил ни слова. Затем лицо его просветлело:
– Так вы думали, я на переворот деньги беру? И контракт под это подписываю? Ха-ха-ха.
Эйзенштольцу стало неудобно. Действительно, подписывать контракт, в котором одна сторона берется свергнуть законное правительство, а другая обещает дать на это деньги – это как-то… С другой стороны, кто их знает, этих бизнесменов?
Отхохотав, министр сунул листы генералу.
– Гляньте… вот тут… «Обязанности сторон».
Эйзенштольц глянул. И стал еще чернее, чем обычно, хотя это и противоречило законам физики. Речь шла вовсе не о военном перевороте. В крайнем случае, о перевороте в военном деле.
*
– Сегодня мы увидели то, чего никто и никогда не видел, – телерепортер тараторил так, как будто уговаривал зрителей не убивать его.
В каком-то смысле он был прав. Один из зрителей – генерал-лейтенант Эйзенштольц – не отказался бы убить кого-нибудь. Или, на худой конец, отключить ящик. Но он держался. Этот позор нужно выдержать до конца.
– Проехавшийся сегодня по улицам Кабула американский танк, – репортер даже выпучил глаза для убедительности, – не произведя ни единого выстрела, произвел эффект разорвавшейся бомбы.
Тут же появились кадры хроники. Генерал сжал кулаки, не заметив, что в одном из них – опустевшая бутылка «Будвайзера».
Красавец «Абрамс» шел по улицам афганской столицы. На его броне нагло красовалась надпись «Шо-Шу».
– Коммерческая реклама на борту боевой машины! – захлебывался за кадром комментатор. – Это нечто неслыханное! Но это еще не все! В наше распоряжение попали эксклюзивные кадры!
– Ага, – прорычал Эйзенштольц, – за сколько мы вам забашляли за этот «эксклюзив»… Шакалы…
На экране тем временем возникали приклады М-16. На каждом из них красовалось клеймо «Шо-Шу».
«Сейчас он начнет издеваться над нашим идиотизмом!». Генерала обуревали противоположные чувства. С одной стороны, ему было безумно стыдно за армию, которой он отдал жизнь… Ладно, пока не всю, пока только половину. С другой стороны, хотелось, чтобы все это поскорее закончилось, чтобы репортер втолковал этому тупому министру, что нельзя вот так: на боевом танке малевать какую-то непотребщину!
Но репортер нанес коварный удар. Он снова появился в кадре и, не снижая темпа, выдал:
– Рекламный ход оказался не только оригинальным, но и крайне эффективным! С тех пор как мы показали этот сюжет в утренних новостях, количество посетителей сети гипермаркетов «Шо-Шу» выросло на двенадцать процентов!
Генерал вырубил телек.
«Господи, – подумал он – как же все паршиво».
И, как обычно в тяжелые минуты, за его плечом возникла любимая жена.
– Милый, – сказала она ласково, – твоя левая рука.
Только теперь Эйзенштольц заметил расплющенную бутылку в левом кулаке. Слава богу, «Будвайзер» уже три года как перешел на пластиковую упаковку.
*
– Таким образом, – министр не вел совещание начальников штабов, а словно бы парил над ними, – вопросы финансирования армии впервые в современной истории решены окончательно и бесповоротно. Рекламодатели стоят к нам в очереди. Мы больше не должны выпрашивать подачки у больших задниц и больших вонючек.
Все вежливо похихикали и покосились в сторону Эйзенштольца – министр явно хотел развеселить генерал-лейтенанта. Эйзенштольц был единственным, кто не похихикал. За все время совещания он ни разу не пошевелился, не перевел тяжелый взгляд от писчего прибора на нем, вообще никак не отреагировал на победную речь Хорна.
– Господин генерал-лейтенант! – в голосе министра добродушие и официальность были смешаны в точно выверенной пропорции.
Эйзенштольц мог ограничиться коротким «Да?», не вставая с места – однако вскочил, прижав руки к бедрам и гаркнул:
– Да, сэр!
Хорн едва уловимо (но все-таки уловимо!) поморщился.
– Вы чем-то недовольны?
– Я солдат, сэр! – Эйзенштольц продолжал изображать новобранца на плацу. – Мое дело исполнять приказы!
Теперь поморщились уже все присутствующие. Ну ладно, решил зубы показать, а орать-то зачем?
– Ладно, – министр из последних сил пытался сохранить добродушие, – тогда я приказываю вам изложить свои сомнения.
Заметив, что Эйзенштольц снова набирает воздух, Хорн торопливо добавил:
– Не по уставу. И на нормальной громкости.
Генерал выпустил воздух и нехорошо прищурился.
– Не по уставу? Ладно. Херня это все, если не по уставу. Лажа и шняга. И еще хрень гадская. Дерьмо собачье. А также срань господня…
– Общее настроение я уже понял, – оборвал его министр, улыбаясь из последних сил. – А если конкретно?
– И конкретно то же самое, – генерал стоял набычившись. – Хрень и срань. Это же ни в какие ворота! «Кока-кола» на «Томогавках»! «Найк» на «Команчах»! «Макдональдс» на «Рэпторах»!
– «Макдональдс» на «Стелсах»! – робко возразил кто-то из начальников штабов, но под яростным взглядом Эйзенштольца сделал вид, что это уточнение родилось в воздухе само собой.
– Над нами же весь мир хохочет, – сказал генерал. – Анекдоты травят.
– А вот тут вы ошибаетесь, – министр был доволен, что может уесть этого неврастеника. – Референт! Будьте любезны, покажите нам кадры, предоставленные разведкой.
Погас свет и на стене одна за другой возникали фотографии. Министр не комментировал – все и так было понятно. Русские «МиГи» с надписью «Корбина» на фюзеляже. Французские «Леклерки» с рекламой «Рено». Китайские самоходки, размалеванные не только иероглифами, но подмигивающими девицами. И так далее. Эйзенштольц сел и закрыл лицо руками, чтобы не видеть этого идиотизма.
Но Хорн не собирался оставлять его в покое.
– А вот это кадр очень интересный, не убирайте его. Позвольте господину генерал-лейтенанту полюбоваться.
Пришлось отнимать руки от лица и смотреть. Снимок был сделан с большой высоты, видимо с беспилотника. Русская сводная эскадра – несколько десятков судов – выстроилась в какую-то явно не военную фигуру.
– Это не совсем коммерческая реклама, – пояснил министр. – Знак, который вы видите на фото, является логотипом футбольного клуба «Зенит». Думаю, русские моряки выстроили ее по собственному почину. Однако сама по себе идея интересная, я уже дал указание маркетологам Пентагона…
Услышав словосочетание «маркетологи Пентагона», генерал закрыл не только глаза, но и уши.
*
Когда дежурный офицер на входе в Министерство заступил ему дорогу, Эйзенштольц сначала попытался его обойти справа. Офицер сдвинулся вправо. Генерал, находясь в глубокой задумчивости, свернул влево, но и эту траекторию перекрыл дежурный.
– Майор! – рявкнул Эйзенштольц. – Тебе что, погоны жмут?
– Виноват, – ответил майор, но дороги не уступил и вообще выглядел не виноватым, а строгим.
Он четко сунул под нос генерал-лейтенанту какую-то бумагу:
– Приказано ознакомить вас, сэр, и добиться выполнения, сэр.
Эйзенштольц чуть в ухо не заехал наглецу. У него с утра испортилось настроение – пока ехал на службу, любовался унизительным репортажем с полигона ВВС: «умная» бомба с надписью «„Фанта“ – взрыв вкуса!» уходит на цель. То ли журналистам показалось забавным такое сочетание рекламы и носителя, то ли «Кока-Кола» занялась активным маркетингом, но репортаж шел по всем каналам. А когда генерал в ярости вырубил телек в машине, то заметил «Фанта» -бомбу на плазменной панели, которая украшала стену офисного центра.
Генерал пробежал приказ глазами. В нем оказалась какая-то галиматья по поводу орденских планок. Понять, что от него хотят, Эйзенштольц так и не смог, поэтому буркнул:
– Потом разберусь, – и сделал шаг.
Но тут же уткнулся в плечо бравого дежурного. Майор явно собирался пожертвовать жизнью, но не пропустить начальство на рабочее место.
– Виноват, сэр, – гаркнул он еще более наглым голосом, – но не имею права пропускать вас, пока вы не приведете форму одежду в соответствии с приказом, сэр!
Эйзенштольц тихо зарычал. Офицер попятился, но всего на полшага.
– Сэр, – сказал он почти испуганно, – вам этот приказ три раза давали на ознакомление, но вы были все время заняты, сэр. А это очень важный приказ, сэр. Цвет орденских планок поменялся, сэр.
Генерал отступил и, сдерживая ярость, внимательно перечитал документ. Цвета орденских планок, оказывается, теперь должны соответствовать фирменным цветам «Ксерокса», «Силикон Графикс» и еще нескольких компаний помельче. Эйзенштольц не стал упорствовать. Он просто сорвал свои колодки и швырнул в харю дежурному. И без замаха приложил левой в зубы. А потом добавил с ноги. Майор рухнул, как огородное пугало, которым, собственно, и являлся. Генерал довольно улыбнулся – помнят руки-то! И ноги-то! В спецназе он никогда не служил, зато по молодости болтался с всякими лихими ребятами по Гарлему.
Расправившись с майором (больше никто из охраны не рискнул останавливать свирепого генерала), Эйзенштольц двинулся прямиком к министру. Тот уже ждал его с ежедневной порцией укоризны и просьбами одуматься. Но сегодня генерал был не расположен выслушивать увещевания. Вместо этого он сухо проинформировал Хорна о своем намерении перевестись в действующую армию.
– Хм, – пряча радость, сказал министр, – это несколько необычно. Вам ведь в подчинение нужно не меньше корпуса дать…
– Дайте бригаду! – ответил Эйзенштольц. – Да хоть полк! Хоть роту! Лишь воевать, а не… херней страдать за бабло!
– Я постараюсь что-нибудь сделать! – уверил его Хорн.
Генерал откозырял и двинулся к выходу. Министр с удовлетворением проводил его взглядом. Сегодня как раз предстояло обсудить с начальниками штабов одну щекотливую проблему, а Эйзенштольц мог внести ненужное напряжение. Речь шла об использовании «маркированного» оружия (то есть оружия с нанесенной рекламой) в зоне боевых конфликтов. Заказчики считали, что демонстрация их логотипов в мирной обстановке кажется зрителю искусственной, постановочной. Иное дело – реальный танк, который ведет огонь по реальным террористам. На нем реклама должна работать в 8,7 раза эффективнее. А платить за нее собираются в 5 раз больше. Хорн вздохнул про себя: «Эх, не умеем мы пока торговаться…»
*
Эйзенштольцу дали расквартированную в Сомали бригаду, которая вела борьбу с пиратами. Вообще-то этого было маловато для его погон, но генерал-лейтенант только усмехнулся, узнав о назначении.
По прибытии на место он первым делом собрал старших офицеров и задал им вопрос из области зоологии:
– Это воинская часть или стадо бабуинов? Или, может быть, стая какаду?
Боевые офицеры недовольно переглянулись. Приехал тут какой-то штабной лузер и сразу наезжает. Тем не менее полковник Коруэлл ответил:
– Воинская часть, сэр.
– А похоже на стаю бабуинов! Что это у вас на обмундировании наляпано?
Эйзенштольц ткнул в полковника, на котором в художественном беспорядке были расположены яркие нашивки с названиями фирм и торговыми марками.
– В соответствии с приказом министра обороны… – начал Коруэлл, но генерал его оборвал.
– Немедленно снять всё, не предусмотренное полевым уставом! Или правила маскировки не для вас писаны? Со всех снять, вплоть до рядовых! Полчаса на выполнение!
Теперь офицеры переглянулись в замешательстве. Вперед вылез майор Клински, пухленький и румяный, как будто только что из печки.
– Разрешите обратиться, сэр, – попросил он так душевно, что Эйзенштольц непроизвольно кивнул.
– Нам самим это не нравится, сэр. Но, во-первых, половина этого безобразия, – пухлый майор обвел себя ручонкой, – пришита по прямому приказу министра обороны. Если отпорем, нас же и под трибунал отдадут.
«И ведь отдадут, – зло подумал Эйзенштольц. – Наши маркетологи, мать их, за лишний цент боевого офицера не пожалеют».
– Ладно, – буркнул он, – эти можете оставить.
И тут же встрепенулся:
– Вы сказали «половина»? А вторая половина откуда?
– А это, – майор смутился, – по индивидуальным контрактам. Рекламодатели хорошо платят. У меня две дочки, обеим скоро в колледж.
– А у меня ипотека, – раздался робкий голос из задних рядов.
– И сестре нужна дорогая операция…
– Кредит вернуть…
Майор вздохнул:
– Но мы, конечно, снимем, если прикажете. Придется, правда авансы вернуть… И неустойку заплатить…
Эйзенштольц обвел взглядом присутствующих. Все смотрели на генерала, словно щенки, у которых из мисок собирают забрать последнюю косточку. Эйзенштольцу стало тоскливо.
– Но мы снимем, – майор вздохнул горестнее прежнего, – раз надо. Одна просьба: позвольте хотя бы рядовым оставить контрактную рекламу. Парни семьи на них кормят… у многих… единственный источник…
Клински говорил все тише и, наконец, умолк окончательно.
«Ну что ты с ними будешь делать? – подумал генерал. – Какой смысл снимать половину рекламы, если вторая все равно останется? А парням будет обидно таскать на себе всякую херню, за которую еще и не платят».
– Хрен с вами, – сказал он голосом полководца, приказывающего оставить столицу неприятелю. – Оставляйте. А пока доложите обстановку…
*
Бригада Эйзенштольцу попалась неплохая. Все ребята обстрелянные, многие прошли Ирак, Афган и Иран. Командиры дело свое знали, интенданты воровали осторожно, даже медперсонал не злоупотреблял наркотой, как это часто бывает в дальних частях.
Генерал, конечно, все равно всех вздрючил, устроил пару ночных тревог, нараздавал заслуженных пендюлей – и заслужил тем самым уважение у подчиненных. «Новый-то, – говорили между собой сержанты, – службу знает, хоть и бывший штабной».
И Эйзенштольц остался доволен результатами тревог и общим состоянием бригады. Устраивало его и то, что время от времени приходилось вступать в настоящие боестолкновения. Пираты были оснащены не слишком хорошо, только стрелковым оружием, но нападали внезапно и так же внезапно отскакивали. Поэтому об их полном уничтожении можно было только мечтать. Эйзенштольц даже не ставил такой задачи – приказал беречь личный состав. И довольно долго у него не было ни одной «невосполнимой потери», то есть, проще говоря, трупа. А когда на исходе июля пираты все-таки ухлопали капрала из караульной роты, генерал поднял бригаду в ружье и устроил такую гонку за «гребанными ниггерами» по окрестным населенным пунктам, что местное население навсегда зареклось помогать пиратам.
И после этого Эйзенштольца за глаза стали звать «батя».
Окончательно своим он стал после того, как почта принесла пухлый пакет бумаг от жены. В нем оказалось душевное письмо, в котором супруга беспокоилась о его здоровье, рассказывала о последних новостях, а также сообщала, что ей нужен не герой в далекой Африке, а нормальный мужчина, который проводит с ней свободное время и учит сына запускать воздушного змея. Основное содержимое конверта составляли бракоразводные документы. Генерал-лейтенант в тот вечер в первый и последний раз надрался до поросячьего визга, но парадоксальным образом именно это событие показало, что единственная семья Эйзенштольца – это его бригада.
С офицерами он жил душа в душу, иногда допускал даже обсуждение собственных приказов (в меру и не в боевых условиях). Да и к солдатам относился по-человечески, помня, как сам тянул лямку в молодости.
Все было хорошо.
Вот только реклама отравляла жизнь. Из Вашингтона каждую неделю приходили циркуляры с уточнениями – какие логотипы и где следует размещать. Еще до назначения Эйзенштольца при бригаде обосновалась команда тележурналистов, в задачу которых входило освещение боевых действий. Вернее, не столько самих боевых действий, сколько рекламных нашлепок на оружии и обмундировании. С журналюгами генерал сначала разругался в дым, но потом посмотрел, как они работают – и немного остыл. Парни лезли в самое пекло, работали под огнем и, похоже, боялись только одного – низкого рейтинга. А когда они устроили небольшую вечеринку в честь Эйзенштольца, отношения потеплели до уровня: «Черт с ними, пусть снимают, что хотят».
Но однажды именно из-за телевизионщиков произошло событие, которое изменило судьбу генерала.
*
В один прекрасный день транспортный самолет ВВС США доставил целую толпу мужиков с телеоборудованием. Эта толпа мигом всосала в себя репортеров, которые работали с бригадой до этого, заняла одну из казарм и превратила жизнь Эйзенштольца в непрерывный кошмар.
Они лезли под руку, торчали на совещаниях, в казармах, столовых, донимали солдат во время отдыха, а самое ужасное – мешали боевой работе. Стоило подняться стрельбе, как телевизионщики, истекая слюнями от предвкушения «хорошей картинки», облепляли каждый куст.
И снимали, снимали, снимали. Называлось все это «Реалити-шоу „Война“». Эйзенштольц изощренно матерился, как только выходил из кадра, но помешать этому беспределу не мог. Мешал личный приказ министра обороны о всяческом содействии телевидения. Как только генерал пытался навести хоть какой-то порядок (например, вытурить телеоператора из солдатского нужника), телевизионщики жаловались в Пентагон. Эйзенштольц получал разгон и втык, а также полуторачасовую лекцию о субординации и интересах армии. Разгоны и втыки генерал вытерпеть мог, но лекции лишали его сил и душевного спокойствия.
В конце концов, расшатанные нервы генерала не выдержали. Дело было рано утром, часа в четыре. Пираты атаковали сразу с трех сторон. Эйзенштольц потерял трех бойцов убитыми и еще пять получили серьезные ранения.
Выслушав доклад о последствиях налета, генерал впал в неистовство и объявил общую тревогу. Эйзенштольц решил примерно наказать пиратов. Прямо так и заявил перед строем:
– А теперь пойдем порвем задницу этим ублюдочным ниггерам.
Бригада пошла и надрала. Рейтинг «Войны» взлетел до заоблачных высот, потому что разгар боевых действий пришелся на девять вечера по восточному времени, или шесть – по тихоокеанскому. Вся Америка прилипла к телевизорам.
А на следующее утро генерал-лейтенанта Эйзенштольца срочно вызвали в Пентагон.
*
Так резко министр обороны с ним еще никогда не разговаривал, и это означало, что с погонами Эйзенштольцу придется распрощаться.
– Господин генерал! – говорил Хорн, брезгливо морщась. – Вы хоть изредка думаете, прежде чем говорить?
«В рот тебе ноги, козел!» – подумал генерал, но вслух ответил:
– Да, сэр!
– Нет, сэр! – передразнил его министр. – «Порвем задницу этим ублюдочным ниггерам»! На всю страну! В прайм-тайм! Нас уже завалили исками! В основном от афроамериканцев, но секс-меньшинства тоже не отстают!
– А педики тут при чем? – проворчал Эйзенштольц.
– В вашем изящном спиче, – Хорн истекал ядом, – словосочетание «порвем задницу» они посчитали оскорблением анального полового акта.
Генерал собирался оскорбить анальный половой акт еще энергичнее, но решил не тратить времени. Ведь ясно же, к чему все идет.
– Мне писать рапорт? – уточнил он.
– Не трудитесь! Приказ о вашей отставке уже подписан. Так что отправляйтесь в бригаду, сдавайте дела – и назад. И готовьтесь предстать перед судом! Вернее, перед сотней судов во всех штатах!
Эйзенштольц усмехнулся, четко повернулся через левое плечо… и замер. Прямо ему в лицо смотрела телекамера.
– Это тоже пойдет в реалити-шоу! – ехидно сообщил Хорн. – Не в прямом эфире, конечно, но в виде отдельной вставки в «Войну»!
– «Война», – чуть не сплюнул Эйзенштольц. – Войнушка!
В бригаду он вернулся и дела сдал. А вот в Вашингтон не вернулся. Просто исчез в неизвестном направлении. Бывшие подчиненные генерала из уважения к нему подали рапорт о его гибели, но подлые телевизионщики показали кадр, в котором Эйзенштольц, одетый по-походному и навьюченный вещмешком, уходит в горы. Правозащитники пошумели чуток, но в конце концов все решили, что так даже лучше: если бы начались судебные разбирательства, то все решалось бы мастерством юристов. А так все понятно: сбежал – значит, дезертировал, значит, виноват.
А потом появились новости поинтереснее. Журналисты пронюхали о сговоре рекламодателей и армий. Оказывается, мониторинг рейтингов показал, что большинство товаров продается значительно хуже, если их товарный знак мелькнет на экране рядом с трупом или руинами. Поэтому военные под давлением бизнесменов договорились использовать холостые патроны и снаряды, если в зоне боевых действий рекламируются товарные знаки. Причем эти условия приняли даже террористы, кроме уж совсем отмороженных.
Военные сначала все отрицали. Но когда количество улик выросло до неопровержимого, несколько высокопоставленных чиновников из разных стран дали очень показательные интервью. «А в чем вы нас обвиняете? Что мы перестали убивать людей? Так эту идею еще Христос проталкивал. И потом, противник тоже ведь холостыми стреляет, стало быть, мы экономим жизни солдат. Так что валите вы со своими разоблачениями!»
Официально эти интервью никто комментировать не стал, но журналисты поняли, что слегка перестарались. Еще немного – и их обвинят в разжигании войны и подстрекательстве к убийству. Так что тему сговора благополучно спустили на тормозах, а рейтинги «Войны» и тому подобных шоу еще немного выросли. Сильно они увеличиться не могли, потому что и так зашкаливали. Для подогрева зрителя в боевые части отправляли популярных актеров. Брюс Уиллис стал военным полисменом, Стивен Сигал – поваром, Кевин Костнер отправился во флот и так далее. Некоторые звезды, типа Клуни, очень быстро дослужились до полковников, а Духовны даже стал первым «генерал-актером». У русских подобного успеха добился Гоша Куценко, у французов – Жан Рено, у англичан – Хью Лори, старенький, хроменький, но все равно безумно обаятельный.
Постепенно все командные должности в мировых армиях заняли или актеры, или киногеничные офицеры. Зритель все больше подозревал, что его дурят, поэтому постановкой боев занялись профессиональные режиссеры и мастера спецэффектов. И зритель смотрел «войнушку», не отрываясь от экрана. «Ну и что, что ненастоящее? – утешал он себя. – Выглядит, как настоящее. Даже лучше».
Конечно, не все приняли новые условия игры. Особенно много отказников от рекламы на оружии было среди террористов. Но деньги не знают пощады: буквально за пять лет все эти упрямцы погибли загадочным образом, а их места мало-помалу заняли харизматичные бородачи, которые не брезговали логотипами на чалмах и холостыми патронами.
Рекламные бюджеты армий, «Фронтов Национального Возрождения» и прочих военизированных организаций измерялись в шести-, а то и девятизначных суммах.
Где все это время пропадал бывший генерал-лейтенант Эйзенштольц, никто не догадывался. Да, честно говоря, не слишком и интересовался.
Так продолжалось двадцать лет.
*
На совещании были только свои: министры обороны стран НАТО, Китая и России. Причем последний держался немного насмешливо. На его лице было написано: «Что, когда по-настоящему припекло, то и нас позвали?». Но и у него вскоре усмешка сменилась тем напряженным выражением лица, которое обычно описывают как «глубокая озабоченность».
– Откуда они вообще взялись, эти повстанцы? – возмущался итальянец. – Мы же там, кажется, все уже контролируем.
– Не все, – вздохнула немка, – там джунгли все-таки.
– Прошу взглянуть на карту, – сказал американец, и красивая карта Центральной Африки нарисовалась прямо в воздухе.
Русский не удержался от гримасы, в которой читалось: «Тоже мне, фокус! И у нас тоже скоро такое будет! Вот только пикотехнологии освоим…»
– Значит, так, – американец ткнул пальцем в нижнюю часть карты, – юг контролируют «Дженерал Моторс» и «Ниссан».
– ФНЛА, – поправил его русский.
Американец нахмурился и пробежался пальцами по лежащей перед ним клавиатуре, такой тонкой, что казалось – министр долбит прямо по столу. «А вот это уже следующая технология, – с завистью подумал русский, – фемптотехнология, что ли?».
– Нет такой компании, – сказал американец.
– Фронт Национального Освобождения Анголы, – произнес русский. – Это он контролирует юг, а не «Дженерал Моторс» с «Ниссаном».
Он обвел министров торжествующим взглядом («Как я его уел?»), но поддержки не обнаружил. Сейчас было не до формальностей.
– С вашего позволения, – твердо сказал американец, – я буду опускать несущественные подробности.
Он вернулся к карте.
– На востоке – «Милавица» и «Шанхайские авиалинии». На западе – «Адидас» и «Пепси». На севере – «Кока-кола» и «Бритиш петролиум». Разумеется, тут есть более мелкие бренды, но их вклад несущественен. А вот эта часть джунглей, – он обвел указкой темное пятно в центре карты, – долгое время оставалась неосвоенной ввиду низкой рентабельности рекламного рынка.
– Вот отсюда они и появились, – сообразил эстонец.
– Отсюда появились, – подтвердил американец, – и начали беспредельничать. Уничтожать рекламные плакаты, замазывать логотипы на трофейном оружии…
– …И стрелять боевыми! – добавила возмущенная датчанка.
– И стрелять боевыми, – кивнул американец.
– Сколько? – спросила немка. – Сколько они хотят?
– Нисколько.
– Правильно! – подорвался русский. – Тактическое ядерное дешевле…
Его снова никто не поддержал. У всех в памяти еще не изгладился случай случайного пуска СС-20 с какой-то забытой богом и русским командованием точки. Ракета угодила в самый центр Монголии, но, к счастью, не взорвалась. Русские пытались убедить мировую общественность, что, во-первых, никакого пуска не было, во-вторых, все было под контролем, в-третьих, на то и щука, чтобы карась помнил о хрупкости современного мира. Пикантности добавило то, что спасательная экспедиция российского МЧС не обнаружила на ракете боеголовки. То ли она отвалилась по дороге, то ли шустрые китайцы успели раньше и свинтили ее – а вернее всего, боеголовки на ракете не было уже в момент пуска.
– Они не вступают в переговоры, – устало сказал американец, – расстреливают всех парламентеров, не выдвигают никаких требований.
– И космическая разведка ничего не дает, – с грустью заметил латыш, который очень любил всякие технические игрушки, – джунгли…
И тут неожиданно ухмыльнулся француз.
– Космическая разведка, – сказал он презрительно, – это баловство и расход бюджета. С людьми надо общаться! Всего пару зеркалец да стеклянных бус – и…
Он нажал на какую-то кнопочку на своей ручке – в центре зала возник фотопортрет очень пожилого негра. Тут произошла заминка, потому что портрет частично перекрыл голографическую карту американца. После короткого препирательства изображения удалось развести.
Американец всмотрелся в портрет и невнятно выругался.
*
– Вы уверены, что это ваш бывший генерал? – в четырнадцатый раз переспросил эстонец.
– Уверен, – американец сидел перед портретом в позе «мальчик, забывший пароль от сетевой игрушки». – Это он, Эйзен… мать его… штольц! Боевой опыт. Ослиное упрямство. Владение всеми военными секретами Пентагона.
Немке захотелось утешить беднягу. Она неформально погладила его по плечу и уточнила успокаивающим голосом:
– Старыми секретами. За эти двадцать лет многое изменилось.
Но американец оставался безутешен.
– Ага, изменилось! – саркастически воскликнул он. – Телекамеры на пулях появились! Пулеметы, отбивающие ритмы слоганов! Жидкокристаллические рекламные табло на вертолетах! Да для него это все похрену!.. Извините, дамы.
– Может быть, – подал голос бельгиец, – сыграть на его чувстве долга? Напомнить, что он давал присягу?
– Беспонтово, – американец окончательно перестал подбирать выражения. – Я, когда еще майором был, пытался его с одним важным приказом ознакомить, так он…
Министр не договорил, но за челюсть рефлекторно схватился.
– Но ведь как-то же с ним начальство управлялось? – спросил словак. – Не сразу же его из Пентагона поперли?
– Ну, теоретически, – скривился американец, – можно попробовать послать к нему Хорна… Он тогда был министром обороны и держал Эйзенштольца в узде.
На том и порешили.
Когда министры расходились, китаец, промолчавший все заседание, словно бы ненароком задержался возле русского.
– А по поводу тактического ядерного, – глубокомысленно произнес он, глядя на стену перед собой, – неплохая идея. Только, может быть, не тактическое, а стратегическое?
Русский недоверчиво покосился на него.
– Впрочем, – вздохнул китаец, – на такое может решиться только по-настоящему великая держава.
*
Бывший министр обороны США Хорн впервые летал на боевом вертолете. Это оказалось вовсе не таким приятным делом, как показывали в реалити-шоу «Война». И не таким веселым, как в сериале «Войнушка». Хорна немилосердно трясло так, что зубные протезы отбивали чечетку. Теперь он проклинал себя за то, что дал себя уговорить, но приказать пилоту вернуться не мог. Восемь камер жадно ловили каждое его движение, два десятка микрофонов готовы были передать любое его слово миллионам зрителей. Двадцать миллионов юаней ждали его на личном счету.
«Почему на телеэкране этой тряски не заметно? – подумал бывший министр. – Наверное, камеры виброустойчивые… Вот придумал себе приключение на старости лет!»
На условленном месте его ждал всего лишь один повстанец в маскхалате. Ни одной рекламной нашивки. Ни одного баннера на каске. Хорн выпрыгнул из вертолета и приветственно помахал рукой. Повстанец презрительно скривился.
«Надо было по гражданке одеться, – запоздало сообразил Хорн, – они же рекламу терпеть не могут».
На его полевом кителе переливались всеми цветами радуги призывные объявления.
Вертолет убрался, дважды облетев место встречи, чтобы не упустить ни одной рекламы на обмундировании бывшего министра. Только после этого на поляну стали выходить люди – все как один угрюмые, в неброских маскировочных накидках. Хорн почувствовал себя глупо, как рождественская елка в пустыне.
– Мне нужен генерал Эйзенштольц, – произнес он слегка высокомерно. – Я уполномочен…
– Ты упал, намочен! – раздался знакомый насмешливый голос и из-за спин повстанцев вышел Эйзенштольц.
Его форма ничем не отличалась от формы его подчиненных.
– Мы должны… – начал бывший министр, но Эйзенштольц стал слушать.
– Раздевайся! – рявкнул он.
Хорн беспомощно огляделся, ища поддержки у окружающих, но они оставались неподвижны.
– Снимай все это барахло! Не хватало еще меня для повышения вашего гребанного рейтинга использовать!
Хорн понял, что надо подчиниться. А еще он понял, что вся эта затея с переговорами с самого начала была идиотизмом. Он замедленно, как во сне, принялся расстегивать пуговицы. Кто-то из повстанцев не выдержал и рванул китель бывшего министра с такой силой, что тот лопнул по шву. Словно по команде (или Эйзенштольц на самом деле кивнул своим головорезам?) бойцы навалились на Хорна, срывая с него одежду. Обрывки они тут же бросали на землю и с довольным уханьем топтались по ним. Миниатюрные телекамеры, передающие картинку для реалити-шоу «Война», лопались под подошвами, как перезрелый виноград.
*
В палатке Эйзенштольца было душно, так что Хорн даже радовался, что не приходится париться в мундире. Теперь на нем красовался стандартный маскировочный балахон и бывший министр отличался от повстанцев только цветом кожи – ну и еще, может быть, перепуганным видом.
– Генерал, – несмотря на испуг, Хорн старался быть убедительным, – давайте обсудим условия сотрудничества.
– Давай, – неожиданно легко согласился Эйзенштольц. – Условие, в общем-то, всего одно. Мне. Нужна. Война.
– Никто же не против, – бывший министр прижал руку к сердцу, как будто собирался петь национальный гимн. – Воюйте сколько угодно! Только с учетом изменившихся реалий.
– Да ну тебя, – предводитель повстанцев явно веселился. – Каких, в задницу, реалий? Мне не войнушка нужна, а война! Реальная мужская война. С выстрелами, смертью, потерями мирного населения… хотя это на любителя. И главное – без всей этой, мать ее, рекламы!
Эйзенштольц вдруг перестал улыбаться, вскочил и принялся метаться по палатке.
– Я, мать твою так, желаю погибнуть в бою! Получить шальную пулю! Подорваться на мине! Но не сдохнуть в доме престарелых с клистиром в заднице и нашлепкой «Кока-кола» на лбу!
«Зачем я сюда приехал? – в отчаянии подумал Хорн. – Он же натуральный псих!»
– А самое важное, – Эйзенштольц остановился прямо перед своим бывшим начальником, – я хочу напомнить мужикам, кто они!
Вождь повстанцев принялся на каждом слове тыкать Хорну прямо в левый глаз. Видимо, чтобы тот лучше понял.
– Мужик должен воевать, а не корчить из себя гомика! Стрелять на поражение противника, а не зрителя! Резать, мать его, рвать зубами! Орать, как псих, втыкая штык в живое мясо! И получить свое на поле боя! Только тогда он получит на Страшном суде зеленый коридор в рай! Где его оттрахают самые крутые телки во Вселенной!
«Это из ислама, болван!» – подумал Хорн, но от комментария воздержался. Но и Эйзенштольц выдохся, сел на складной стул, сорвал с пояса флагу и принялся жадно пить. У бывшего министра оставался последний аргумент.
– Сейчас в зону боевых действий выдвигаются элитные части… – начал он.
Эйзенштольц захохотал так, что чуть не захлебнулся.
– Элитные кто? Кха-ха-ха! Части? Толпа голливудских пидоров со старичком Ди Каприо во главе? Ну, молодец, ну, насмешил!
Хорну стало все равно. Свою миссию он провалил. У него оставался только один вопрос, личный.
– Слушай, – сказал он, не пытаясь больше быть убедительным, – ты ведь с самого начала не собирался принимать наши условия?
Эйзенштольц, откашливаясь, кивнул.
– Так за каким хреном ты согласился принять меня? Убить хочешь? Отомстить?
Хорн хотел бы, чтобы вопрос прозвучал иронически, но не совладал с голосом. На слове «отомстить» он чуть не всхлипнул.
– Наоборот! – дружески ответил предводитель повстанцев. – Считай это моим подарком тебе! Ты сможешь погибнуть в бою, как настоящий солдат! Правда, круто?
Хорн замотал головой, не то протестуя, не то охлаждая мозги – и вдруг расплакался.
*
Министры обороны, сгрудившиеся вокруг радиоприемника, представляли собой трогательное зрелище. Они не дышали, боясь упустить хоть слово. Единственный уцелевший на Хорне передатчик был вмонтирован в зуб. Слова самого Хорна он транслировал четко, а вот речь Эйзенштольца становилась то тише, то громче, то вообще превращалась в набор отдельных слов.
– Неужели так трудно немного посидеть с открытым ртом? – укоризненно заметила немка. – Половины не слышно!
– Достаточно и того, что мы услышали, – ответил американец. – Он псих. Какие будут предложения?
– Воевать, – пожал плечами чех. – По-старому. Насмерть.
– А кто воевать-то будет? – поинтересовался португалец. – У нас давно в учебках одно актерское мастерство преподают.
– Ну должны же остаться какие-то ветераны! – возразила литовка. – Кто еще помнит!
Министры угрюмо задумались.
– Эх, Эйзенштольц, Эйзенштольц! – пробормотал американец. – Устроил ты нам развлекуху…
Неожиданно он схватился за ухо и резко развернулся к министру оборы России, который все это время безмятежно покачивал ногой, улыбаясь с видом ангела на отдыхе. Остальные министры один за другим повторили манипуляции американца.
– Что такое? – весело спросил русский. – В ухе стреляет?
– Стреляет, – мрачно подтвердил американец. – Только что из шахты под Читой вышла ракета стратегического назначения.
– Это учения? – робко предположила датчанка.
– Типа того, – кивнул русский.
И, не удержавшись, добавил:
– Будете знать, кто тут великая держава!
*
Высоко в стратосфере величественно плыла здоровенная пуля. Она степенно вращалась вокруг своей оси, подставляя летящей рядом с ней китайской крылатой ракете то один бок, то другой. Крылатая ракета не сводила со своей спутницы телеобъективов.
Рекламные надписи сменяли одна другую.
«„Газпром“ – твоей стране!»
«Я люблю „Веселого молочника“!»
«„Пежо“ – управляй мечтой!»
«Уссурийских тигров осталось всего семеро!»
Резонанс
В Резонанс я попал случайно. Туда все случайно попадают. То есть не попадают, а очутиваются. Или очутяются? Всем хорош Резонанс, одно плохо – говорить совсем разучаешься. Или разучиваешься? Нет, разучиваешься – это когда учишь-учишь, и наконец разучиваешь, а в Резонансе ничего разучивать не надо, надо просто правильно сесть. Или лечь.
Я, к примеру, сел правильно. Ну, может, и не совсем правильно – голова на подлокотнике кресла, а ноги на спинке. Только мне так удобно. Я на старой квартире всегда так лежал, и на новой решил попробовать. Еще вещи до конца не распаковал, а кресло уже в уголок поставил и решил, значит, передохнуть. А тут – шарах! То есть не «шарах», а скорее – бултых. Как будто с улицы на концерт «Мумия Тролля» завалил. В голове сразу так стало не то чтобы громко… тесно как-то стало, как будто там еще толпа народу толчется.
Я понимаю, толпа на то и толпа, чтобы толкаться, но я же и говорю – со словами у меня теперь немного напряженка. Вот и в первый раз в башке не слова зазвучали, а как будто бы картинки. Хитруковские мультики видели? Когда никто вроде ничего понятного не говорит, а все равно все понятно? Примерно то же самое, только еще понятней. Но я, наверное, буду это все словами пересказывать, не рисовать же вам мультики, правда?
Короче, только я вверх тормашками на кресло завалился, как мне кто-то прямо в мозги как завопит: «Стой! Не двигайся! Ни в коем случае не шевелись!». Я, понятное дело, не то что шевелиться – дышать забыл, торчу в полном ступоре. А тот, что внутри, вроде бы как дух перевел и продолжает: «Молодец! Теперь запомни две важные вещи. Во-первых, с ума ты не сошел. Если не веришь, можешь потом у врача провериться. А во-вторых, сейчас ты должен, не шевелясь, очень тщательно запомнить то место и позу, в которых ты оказался. А ну угомонитесь все!»
Это он на остальных прикрикнул. Он же у меня в мозгах не один оказался. Все то время, пока он меня в ступоре держал, там еще всякие другие посторонние «веселые картинки» мелькали. Такое было чувство, как будто я в центре кучи народа, один из них со мной говорит, а остальные вокруг шушукаются.
Тут, правда, все шушукаться перестали, но никуда не сгинули. Ну, я себя окинул этим, как его… «мысленным взором», позу запомнил. Собственно, чего ее запоминать – я в такой позе все экзамены учил когда-то в Политехе. «Ну, – думаю, – и чего теперь?»
Тут шум опять поднялся пуще прежнего. Кто смеется, кто свистит. А кто-то даже завизжал (вроде бы как девчонка): «Ой, да не ори ты!».
«Ничего, это у него с непривычки,» – говорит их главный. То есть не говорит, а как будто чем-то пушистым и теплым меня по спине гладит. Да и остальные тоже кто как может стараются: шарики всякие цветные переливаются, салюты с фейерверками и еще много всяких таких штук, которые все равно я вам не перескажу. Чувствую только, что рады мне все радешеньки.
«Ты, брат, теперь в Резонансе».
Так я стал, во-первых, братом, а во-вторых, в Резонансе.
2.
Если совсем честно, то Резонансом это дело я сам назвал, потому что как его остальные зовут, я и не знаю. Я даже не знаю, на каких языках они вообще говорят. Между собой мы и так разговариваем, безо всяких слов. Что это за канделябрина такая, никто толком не понимает. Я же говорю, в Резонанс все случайно попадают. Тут главное оказаться в нужной позе. Если повезет, поза будет удобной, как у меня, а не повезет – будешь, как Ёжик, возле стенки на четвереньках стоять.
Правда-правда, Ёжик сам рассказывал. У него однажды пуговица оторвалась, он полез ее искать, да вот таким вот, простите, раком в Резонанс и заехал. Девчонка одна – Ромашка – в Резонанс попадает, только если на табуретку залезет и вытянется по стойке смирно. А есть еще пару человек, которые вообще отказываются эту тему обсуждать.
Это, кстати, тоже не совсем понятная штука – почему некоторые мысли можно от всех спрятать, а некоторые нет. И врать не получается. Это – самое в Резонансе замечательное. Только привыкнуть сперва надо, что все люди разные, и никто тебе из вежливости поддакивать не будет. Все абсолютно равны, а если не нравится, стоит только пальчиком пошевелить – и ты уже снаружи. Сидишь, голова пустая, на душе тоска смертная, и одиноко так, как будто в тайге оказался, а вокруг тебя на триста верст ни единой души. Поэтому посидишь-посидишь, подуешься-подуешься – и опять на кресло лезешь. Или на табуретку. Или под шкаф.
Конечно, про то, что все мы тут одинаковые, я слегка приврал. Есть у нас и главные: Тесак, например, который меня первым заметил и «зафиксировал». Кроме Тесака еще есть человека четыре главных: Квадрат, Туча, Уголь и, пожалуй, Шмель. Никто их главными не выбирал и, уж конечно, не назначал, просто их всегда слушают и не спорят. Между собой главные не слишком ладят, поэтому у них организовалось что-то вроде дежурства: один уходит, другой приходит. Оно и правильно – и споров меньше, и новичка всегда есть кому принять.
Исключение делается только для Матраца. Он в Резонансе целые сутки. Новички ему сначала завидуют, а потом узнают, что Матрац на самом деле валяется где-то в реанимации в коматозном состоянии, и завидовать сразу перестают. А у него, бедолаги, одна мысль – только бы ему какая-нибудь добрая душа подушку не поправила. Но больница, судя по всему, бюджетная, потому что за последние полгода к нему точно никто не притрагивался. А может, наоборот, лежит Матрац где-нибудь в крутой барокамере, и с него пылинки сдувать боятся.
Мы ведь так и не знаем, кто где живет, не то что в городе – в какой стране кто, и то не знаем. И имен у нас нет нормальных, только прозвища всякие. Причем прозвище каждый сам себе дает. Точнее говоря, тебя при первом же входе спрашивают: «Ты кто?», и какая картинка у тебя первая появляется, так тебя и зовут. Я, например, Суслик.
Я поначалу не удивлялся – было там чему удивляться и без этого – а потом начал расспрашивать, а почему бы нам не обменяться адресами и телефонами, так, наверно, классно было бы вживую встретиться. Но, как только я эту тему развивал, все сразу как-то замыкались, прятались в себя. В конце концов я дождался, пока в Резонансе остались только мы с Матрацем, и припер его к стенке.
Тут-то мне и показали историю о Билле и Дюймовочке…
3
Я, оказывается, был далеко не первым, кто захотел раскрыться. Первым был Билл. Толковый, судя по всему парень, художник. Он все носился с идеей «снять маски», как на карнавале, но его так никто и не поддержал. Стеснялись, наверное, не хотели, чтобы карнавал заканчивался. Тогда Билл (его все знали как Булочника) решил для начала открыться в одиночку – мол, если кто захочет, приезжайте или звоните, поговорим вживую.
Правда, тут заминочка вышла: слова-то в Резонансе не работают, только картинки, или, например, ощущения. А какая картинка или ощущение могут быть для слова «Билл»? Клинтон в то время еще в губернаторах ходил. Но паренек, я говорю, был толковый, он быстро скумекал, что к чему, и однажды он просто показал в Резонанс лист белой бумаги, на которой большой малярной кистью было написано «Bill».
Таким же макаром он и телефон свой намалевал, и адрес, и даже «Welcome» в конце пририсовать не поленился.
А на следующий день Билл пропал. Ничего странного тут не было – мало ли что могло случиться: срочно надо было уехать куда-нибудь, или просто соседи залили его любимый коврик, на котором он в Резонанс входил. Но в тот же день пропала и Дюймовочка.
Это уже было непонятно – Дюймовочка торчала в Резонансе целыми днями. Если, не дай бог, собиралась отлучиться, то тут же предупреждала всех и каждого по нескольку раз. А тут вдруг как отрезало девчонку. И пропадала она целых две недели.
А когда она, наконец, объявилась, вся болтовня в Резонансе моментально застыла. Потому что всем вдруг стало страшно.
Мне Матрац передал, что мог, из того рассказа Дюймовочки – картинки, все почему-то черно-белые.
Вышибленная дверь дома. Осколки вазы на полу. Плачущий, но уже даже не скулящий французский бульдог с перебитыми лапами. Аккуратные следы он пуль на незаконченном натюрморте. Тошного вида пятна на обоях. Потом картинка резко меняется: тот же дом, но уже совершенно ухоженный и даже нарядный. На крыльце с новехонькой дубовой дверью растерянная тетушка, которая недоуменно пожимает плечами. За ее спиной виден угол уютной и совершенно обжитой комнаты. Потом вдруг какой-то посторонний перекресток, куча покореженного металла, двое копов оттаскивают орущую женщину. Жуть, короче.
Сначала Дюймовочка просто выплеснула это все в Резонанс одной кучей и, похоже, была немного не в себе. Но наши, конечно, дружненько навалились, успокоили ее и попросили изложить все толком и по порядку. Дюймовочка успокоилась и изложила. Вот тут-то и стало страшно по-настоящему.
Когда Билл нарисовал свой адрес, оказалось, что Дюймовочка живет от него всего в часе езды. Она, ясное дело, обрадовалась, прыгнула в серый папин «Форд» и вдавила педаль по плешку. Домчала минут за сорок, но все равно опоздала. Судя по всему, кто-то увез Билла из-под самого ее носа, а вернее говоря, уволок.
Что в таких случаях делает женщина? Конечно, забивается на заднее сиденье машины и ревет полчаса без перерыва. Дюймовочка так и сделала. А когда отревела и как следует запудрила последствия, сообразила, что пора звонить в полицию. А для начала решила еще раз заглянуть в квартиру. Зачем? Никто из нас так и не понял. Но когда Дюймовочка снова поднялась на крыльцо, никакого погрома не было видно и в помине, а пожилая мисс ошарашено разъяснила ей, что никакого Билла тут нет, и, по крайней мере, лет десть не было. И так это все было похоже на правду, что Дюймовочка извинилась, решила заглянуть к психиатру, а папину машину тихонько вернула на место.
А на следующий день ее непьющий и трезвомыслящий папа решил на скорости 120 миль в час обогнать «Шевролле» по встречной полосе на повороте. По крайней мере, так им с мамой объясняли полицейские, на глазах у которых серый «Форд» на полном скаку впилился в кирпичную стену. Последней каплей стало то, что в серо-красной каше из металла и мяса, оказывается, лежал совсем другой человек. Как это выяснилось, никто опять так и не понял, потому что в этот момент Дюймовочка выпала из Резонанса. Резко и даже без намека на «до свидания».
4.
Вот такая история из жизни. Новичкам ее обычно не рассказывают, пока они не начинают слишком настойчиво продвигать идею всеобщего объединения и открытого общества. Ее вообще стараются не обсуждать. Хотя первое время после трагедии, как только стартовый шок прошел, обсуждение было очень даже бурное. У каждого была своя версия: и инопланетяне, и временные парадоксы, и параллельные миры всякие, и уж совсем религиозная чертовщина. Но, в конце концов, решили, что все гораздо проще – нас «прослушивает» какая-то спецслужба. (ЦРУшники, кто же еще!) Точнее сказать, не прослушивает, а «проглядывает», потому что зафиксировать они могут только несложные неподвижные картинки. Это наши ребята обнаружили с помощью каких-то фокусов и опытов. Каких – я уж и не интересовался. Обнаружили – и обнаружили, и слава богу.
Если б они по-настоящему к нам в мозги умели залазить, то таких бы дел наворотили, только держись. ЦРУ, наверное, тоже так думает, поэтому они за Билла с Дюймовочкой и ухватились. Только ничего у них не вышло, потому что ни того, ни другой мы больше в Резонансе не видели.
А разговоры о том случае потихоньку сами собой заглохли. Да и общаться между собой мы стараемся, обходясь без мертвых «стоячих» картинок, даже когда речь идет о погоде или нарядах – у девчонок, разумеется.
Ну и хватит об этом.
5.
Я все о Резонансе и Резонансе. Может показаться, что я в нем сижу, как семиклассники в Интернете – ночи напролет до одури в башке.
Хотелось бы, да не выходит. Есть еще «обычная» жизнь, с работой, женой, друзьями, водкой… Хотя водку я уже больше года как не пользую – пьяному в Резонанс нипочем не попасть. Может, позу правильную в пьяном виде удержать нельзя, а может, мозги настроиться не могут – а только пришлось мне придумать себе язву желудка, чтобы не лезли они ко мне со своей глупой водкой.
Да и с остальным тоже все сильно поменялось. На работе еще ничего, работа у меня не с людьми, а с компьютером, а вот когда с родственниками приходится общаться, чуть не тошнит. Смотрю я на них и четко понимаю – врут ведь, в глаза врут. Не потому что обмануть хотят с целью наживы, а просто по привычке, «потому что так принято».
«Хорошо выглядишь, старик!» – а сам, небось, думает: «Да, братец, доконала тебя твоя язва!» В Резонансе тебе в такой ситуации сразу скажут: «Шел бы ты проспался!» или «Тебе надо встряхнуться, давай потанцуем!»
Танцы в Резонансе – это особая статья. Я, опять же, не уверен, что все наши воспринимают эту штуку как танцы. Просто меня бог этим даром обделил, я под музыку только переминаться с ноги на ногу умею, а тут – как пойдешь кружиться, так дух захватывает. Тут тебе и танцы, и плавание, и ныряние, и бутылка хорошего вина. Только потом – после того, как отдышишься, – никакого похмелья. Наоборот, всю усталость как рукой снимает.
Но я отвлекся – я же об «обычной» своей житухе рассказывал. Хуже всего в этом смысле с женой. Я-то у нее весь день перед глазами, и немудрено, что она своим женским чутьем учуяла, что неспроста я, как с работы приду – прямиком к старому креслу. Ведь не понимает, дуреха, что к чему, а на бедное кресло изо всех сил ополчилась. Она его уже и переставляла, и выбрасывала, и продавать норовила. Каждый раз я его со скандалом откуда-нибудь добывал. Я теперь наркоманов хорошо понимаю, которые за очередную дозу под пули лезут.
Только не подумайте, Резонанс – это не дурь наркотная, Резонанс – это Резонанс.
А с женой я, конечно, давно бы развелся, но тогда пришлось бы квартиру разменивать, значит, уезжать из нее. А я о таком и думать боюсь. А дальше жить – тоже не выход: спалит она мое кресло, а на его место какое-нибудь пианино к полу привинтит. Словом, совсем я оказался в тупике.
И тут я Белочку в парке встретил.
6.
Есть тут у нас один «парк по-над речкою». Десяток елок, слегка остриженные кусты, монументальный общественный туалет и красавец-дуб. Такой древний и здоровенный, что его, по-моему, даже шпана местная побаивается. Во всяком случае, все скамейки под ним практически целые, и даже почти без ненормативной лексики на спинках.
Словом, возвращаюсь я домой почему-то через этот парк – троллейбусы, по-моему, тогда на бульваре Шевченко всем скопом остановились. Бегу-спешу к заветному креслу, и вдруг вижу – женщине плохо. Сидит она под дубом на скамеечке, голова неестественным образом запрокинута, глаза закрыты – концы тетка отдает.
Ну не зверь же я, правильно? Свернул к ней, бросился пульс мерить, а та как встрепенется, да как зыркнет на меня так зло, как будто я к ней в кошелек полез принародно.
«Молодой человек! – говорит, – мне вовсе не плохо, я не пьяна, и абсолютно не нуждаюсь в вашем внимании. Просто мне нравится отдыхать в такой позе. Если у вас больше нет ко мне вопросов, будьте любезны отпустить мою руку и уходите, куда шли!» Причет тараторит она эту тирадищу резво, на одном дыхании, как будто и не была секунду назад в полной отключке. Сразу видно, не впервой она таких, как я, жалостливых, отбривает.
Я навязываться, само собой, не стал, даже обрадовался, что не придется за «Скорой» бегать, потом ждать, пока она соизволит доехать, потом объяснять, что я ей никакой не муж и не друг. Можно сразу прямиком домой – и в Резонанс. И если моя благоверная меня еще раз из него выдернет своим дурацким пылесосом…
И тут меня как обухом по голове – мать честная, так ведь тетку-то я прямиком из Резонанса и выдернул! Оглядываюсь, смотрю – и точно, подруга моя голову запрокинула, чуть поерзала, как будто устраиваясь поудобнее, и замерла.
Я – опять к ней. Снова за руку потряс, отскочил подальше, чтобы сумкой не двинула, и пока она меня честить не начала, сразу в лоб спрашиваю: «Вы ведь сейчас в Резонансе, правда?» Тетка (кстати, не тетка, а вполне миловидная дама до тридцати), конечно, не того от меня ожидала, но и не поняла так, как я хотел. «Где? В чем?»
«Ну, это такое состояние, когда…» И тут я понял, что не объясню я ничего, только зря ее напугаю. В Резонансе я бы ей моментом все растолковал. И тут меня опять озарило – такой вот день был удачный. «Сиди здесь, – говорю. – Ни в коем случае никуда не уходи. И вернись туда, откуда я тебя выдернул. Я там буду через десять минут!»
Это был лучший спринтерский забег за всю мою жизнь. По пути я умудрился нарушить все правила движения пешеходов на перекрестках, перевернуть пару лотков с апельсинами, но, когда я ворвался домой и плюхнулся в кресло, Белочка была все еще в Резонансе. И ждала меня.
7.
У нас с Белочкой теперь только одна проблема – в Резонанс мы можем попасть только поодиночке. Сколько я не лазил по ее квартире и по окрестностям, ни одной точки входа, кроме скамейки под дубом, мне найти не удалось.
Но нас сильно успокаивает Градусник. Он у нас недавно, но во все очень быстро въехал, пришел в дикий восторг и грозится во всем разобраться и построить общую теорию Резонанса. (Правда, мы с него взяли честное слово, что он эту теорию никому не покажет. Или, по крайней мере протянет с ее опубликованием, сколько можно.)
Так вот, Градусник говорит, что вход в Резонанс, скорее всего, зависит не только от места и позы, но и от самого человека. К этому нужно иметь определенные способности, которые наверняка передаются по наследству. Поэтому, если у двух обитателей Резонанса будет общий ребенок, то – опять же, скорее всего – он сможет входить в Резонанс в любое время и в любом месте.
Ну что же, поживем – увидим. Ждать осталось каких-то пять месяцев.
Посвящение-12
Закону 436-ФЗ посвящается
– Дети! – торжественно сказала классная. – Сегодня в нашем классе праздник! Сереже Григорьеву исполняется двенадцать лет! Похлопаем!
Все захлопали. Те, кто уже отпраздновал свое двенадцатилетие, – сдержанно и слегка испуганно. Малышня, которой двенадцать должно было исполниться чуть позже, – весело и с радостными криками.
– Поэтому сегодня он узнает, – учительница на секунду сбилась с пафосного тона, но тут же овладела собой. – Сегодня Сережа узнает кое-что, что нельзя знать до двенадцати лет. Всех, кто моложе, прошу выйти из класса!
Малышня, разочарованно гудя, принялась собирать рюкзаки.
– А можно я останусь? – попросилась Лизочка. – У меня день рождения послезавтра! Какая разница?
– Елизавета! – теперь классной не пришлось добавлять радости в голос, она с некоторым даже облегчением перешла на привычный стальной тон. – Закон есть закон! Его писали очень умные люди, поумнее нас с тобой! Ты все узнаешь в свое время… то есть послезавтра! Давайте, дети, поживее! Вы сами себя задерживаете!
Сборы пошли поживее, скоро все лишние скрылись за дверью. Заодно попыталась смыться и Саша Шумилова, но учительница заметила и пристыдила:
– Саша! Вернись на место!
– Я плохо себя чувствую, – прошептала Саша, прижимая рюкзак к животу, – можно мне к врачу?
Она и правда выглядела неважно: вся белая, а лицо так даже зеленоватое.
– Пойдешь чуть позже! – классная поняла, что еще немного, и девочка хлопнется в обморок, поэтому добавила немного теплее. – Сашенька, всем нам непросто. Но ты же знаешь – Сереже будет гораздо легче, если в такой момент рядом окажутся друзья.
Саша побрела на место, пытаясь испепелить именинника взглядом. Тот замер в нехорошем предчувствии и растерянно заглядывал в глаза одноклассникам. Одноклассники смотрели на него странно: кто злорадно, кто с жалостью, кто, как Саша, с ненавистью. Сереже показалось, что они на все готовы, лишь бы не услышать то, что ему сейчас скажут.
– Мария Николаевна! – вскочил на первой парте отличник Корнеев. – А давайте я снаружи посторожу, чтобы никто не подслушал! А то в пятьдесят четвертой школе одна девочка подслушала и маме рассказала. А девочке всего одиннадцать было, так ту учительницу…
– Хорошо! – перебила его классная. – Иди посторожи! Молодец.
Историю про пятьдесят четвертую школу им рассказывали на недавнем совещании. Мария Николаевна очень не хотела бы оказаться на месте «той учительницы».
Теперь все с общей ненавистью смотрели вслед хитрому Корнееву, который так ловко сбежал перед самым началом.
Классная глубоко вздохнула, еще раз проверила, все ли на месте и нет ли лишних, и подошла к парте именинника. Тот послушно встал.
– Ты сиди, Сереженька, сиди, – сказала учительница совсем по-человечески.
От этого стало еще страшнее. Сережа сел. Мария Николаевна присела рядом с его партой на корточки, крепко сжала руками ладони мальчика, посмотрела ему в глаза и сказала:
– Сергей. Ты сегодня стал большим. Теперь ты имеешь право знать правду…
От тишины в классе звенел воздух.
– Во-первых… Колобка в конце сказки на самом деле съедают…
Саша на задней парте беззвучно заплакала…
Мама, я тебя убью!
Где-то
Лёнчик ненавидел свою работу, хотя многие считали ее крайне почетной и важной для общества. Лёнчик, бригадир Альбертыч да вечно пьяный Васька-Бидон помогали людям появляться на свет.
Они были могильщиками.
Строго говоря, бригада Альбертыча – как и сотни тысяч бригад по всему миру – извлекали на свет божий только тела. Рождение происходило в других местах. Чаще всего – на больничных койках. Иногда – просто в кровати, или в ресторане, или в автобусе. Если тело оказывалось в плохом состоянии, его укладывали на дороге и ждали, пока какой-нибудь нетрезвый водила наедет на него, вдыхая жизнь.
Но все равно, тела извлекали из могил именно могильщики. Как правило, родственники заранее облюбовывали могилку, навещали ее, унося свежие цветы, и ждали, пока памятник посветлеет, станет блестеть позолотой. Тогда они убирали его, ставили временный крест или просто столбик – и это означало, что ненавистный для Лёни момент близок. Вскоре приходилось раскапывать человека.
Ничего омерзительнее этой процедуры Лёнчик не видел и даже представить не мог. Покойники, иногда попахивающие, иногда – уже и без запаха, были очень похожи на живых. За маленьким исключением: живыми они не были. И это исключение выводило Лёнчика из себя.
Почему он не бросил свою работу? Почему не шел заниматься физикой, которая все яснее вырисовывалась в его мозгу? Лёнчик не мог объяснить. Не потому, что сам не понимал, а потому, что слов не хватало.
– Понимаешь, – говорил он Альбертычу в начале рабочего дня, еще совсем пьяный, – такое чувство, что меня кто-то заставляет уйти отсюда! Так вот хрен ему! Хрен с апельсином! Я ему не заводная курочка! Не марионетка!
– Кому? – обычно спрашивал Васька.
Он пока пребывал в ласковом благодушии. Ему бы не пить… но Бидон был алкоголиком, не пить было выше его сил. Он и пил, трезвея и мрачнея с каждой рюмкой… Но в начале пьянки Бидон искренне и почти ласково интересовался, против кого бунтует Лёнчик.
Лёнчик и сам не знал. Он поглощал одну рюмку за другой, зная, что скоро придет спасительная трезвость, которая заставит ярость притухнуть, как костер под дождем. В середине утренней пьянки, когда Альбертыч обретал способность говорить, он иногда пытался образумить Лёнчика (или подколоть?).
– А с чего ты взял, что он, – Альбертыч выразительно икал куда-то вверх, – хочет, чтобы ты ушел в свою физику? Может, наоборот, он хочет, чтобы ты тут оставался? Чтобы мучился, плевался… а уйти не мог?
На этот простой вопрос у Лёнчика не было ответа, и он обычно сразу бросался в драку. Бидон его всегда оттаскивал, вливал в рот водку, которая почти сразу оглушала Лёнчика, заставляла резко выдохнуть и притихнуть.
Прикончив бутылку, могильщики становились сосредоточенными и серьезными, а бунт Лёнчика утихал до следующей пьянки…
Тут
– Я поэт! – грозился Мика.
Мать смеялась и требовала, чтобы он шел работать. Жена ушла. Вернулась. Родила двойню и ушла уже окончательно к серьезному бизнесмену.
Мика не работал, даже не пытался. Он кричал:
– Я поэт!
Он никогда не пил. Даже не курил. Не бегал за каждой юбкой. Они за ним – да. Он за ними – нет. А еще он никак не мог повзрослеть. У Мики округлился животик, изморосью стала пробиваться седина, но он так и оставался Микой.
Мама его кормила. Как не кормить? Все-таки сын, хоть и непутевый. Иногда он приносил какие-то смешные деньги. Писал слоганы для рекламных агентств. Потом злился и сутками сидел над блокнотом. Как будто выпрашивал у себя прощения. Или нет – епитимью накладывал. Мол, потешил золотого тельца, теперь неси обильную жертву на алтарь Аполлона.
Но он льстил себе, поэт Мика. И телец был в лучшем случае оловянный, и алтарь Аполлона не замечал его взноса.
Были, были в его жизни строки, которые западали в память читателя или даже случайного слушателя намертво, но что это были за строки? «У Алены Лапиной на попе две царапины», «Настоящие бобры по утрам всегда бодры» да безумное четверостишие:
К нам недавно прибыли
Наполи и Триполи.
Эти гады нА поле
Бегали и трипали
И все.
За двадцать шесть лет непрерывного стихосложения.
Аполлон наверняка хватался за свою светлую голову и рвал на ней божественные кудри. Возможно, матерился на языке древней Эллады. Но Мика был глух к древнегреческому и невосприимчив к матерщине. Он кричал:
– Я поэт!
А мама кричала:
– Ты олух! Ты камень на моей шее! Вот помру – кто тебя будет кормить?
– Кормить меня не надо! – ответствовал пасынок Аполлона. – Стихи моя отрада!
По ночам мама видела сны о том, как Мика падает с балкона, а она не может его поймать.
Где-то
Лёнчик глядел на крест, сжав кулаки. Это был очень старый крест, Лёнчик помнил его с тех пор, как впервые взял заступ и извлек из земли первого покойника. Крест был ржавым и облупившимся.
Всегда.
Лёнчик считал его своим талисманом. Крест, в отличие от соседних надгробных украшений, не становился новее. Это давало надежду, что Тот, который решает, не может контролировать всё. Крест останется ржавым и облупившимся во веки веков.
Так надеялся Лёнчик.
Но Лёнчик ошибался.
Сегодня он вернулся на работу после месячного отпуска, зашел в дальний угол кладбища, чтобы убедиться – крест не изменился, Всеобщий Хозяин до него опять не добрался… И заметил, что краска на кресте заметно светлее, чем месяц назад. И ржавчины явно поменьше.
Он молодел, этот чертов крест, как молодеет все вокруг! Не так чтобы сильно – но становился свежее и ярче, и даже торчал из земли как будто поувереннее!
Тот, который Наверху, не упускал ничего, ни единой мелочи. Все двигалось по одному закону.
Но самое ужасное – Лёнчик вдруг понял, почему так происходит. «Энтропия постоянно убывает, – всплыло в мозгу, чтобы застрять там навсегда, – второй конец термодинамики»…
Лёнчик в тупом оцепенении стоял и вслушивался в мысли, которые в первый момент казались непонятными, но тут же осваивались в его голове, как у себя дома. Он узнавал, что такое «энтропия», как тепловая энергия превращается во все другие виды энергии, как Вселенная неминуемо движется к страшной катастрофе – Большому Взрыву…
…Всеобщему хозяину было недостаточно подновить старый крест. Он упорно вбивал в голову Лёнчику то, чего тот упорно не хотел знать – физику…
Тут
Мика устроился на работу впервые в жизни только после маминого инсульта. Проблема заключалась даже не в холодильнике, который вмиг опустел. Это бы Мика еще вытерпел. Но когда в туалете не обнаружилось свежего рулона бумаги, он запаниковал.
Он вдруг понял, что имела в виду мама.
«Я умру!» оказалось не абстрактной угрозой. Мама на самом деле могла умереть, и тогда… В голове не укладывалось, что, собственно, случится «и тогда». Какой-то холодный кошмар. Пустота. Разруха.
И полное отсутствие пипифакса.
Мика даже не крикнул по обыкновению:
– Я поэт!
Он позвонил однокурснику Корнилову, который уже давно звал его к себе – поработать. Корнилов писал сценарии для сериалов, ему нужны были идеи. Ему нужен был размах. Благородное безумие. Да хоть что-нибудь свежее, в конце концов. Ему нужен был поэт Мика.
Но раньше Корнилов мог рассчитывать только на гневную отповедь в духе: «Подавись своими грязными грошами». Теперь Мика позвонил сам и дрожащим от стыда голосом попросил «Дай чего-нибудь пописать». Корнилов дал «чего-нибудь» – комедийный сериальчик, который наполовину состоял из чужих песен. Нужны были только прокладки между песнями, но у самого Корнилова руки все никак не доходили.
Мика принял заказ с благодарностью… и заодно выпросил ноутбук. Компьютера у него дома никогда не было.
Он принес сценарий через неделю, хотя работы там было на день.
И он получил свои первые «изи мани» – пятьсот полновесных долларов. Хотя Корнилову и пришлось потом переписать половину. Но Корнилов пошел на это.
Он любил Мику, как любят котенка с переломанной лапкой. Мику все любили именно так.
На вырученные деньги сценарист Мика заплатил за квартиру (мама пять раз напомнила), накупил пельменей, рыбных консервов в масле… и много-много рулонов туалетной бумаги.
Где-то
Альбертыч был мудр не по годам – его откопали всего пять лет тому, на восемь дет позже Лёнчика и на два года – Васьки-Бидона. Но он был мудр. Наверное, именно поэтому бригаду доверили ему.
Альбертыч сказал, положив руку Лёнчику на плечо:
– Ну и за каким кандибобриком ты так себя изводишь?
Лёнчик стерпел и «кандибобрика», и фамильярный жест. Он в последнее время редко просыпался пьяным, поэтому и к отрезвляющему горлышку бутылки прикладывался все реже. Соответственно, и самообладание у него стало покрепче.
Но все равно Лёнчик сделал вид, что не понимает, о чем это Альбертыч.
– Харэ! – подключился к беседе Бидон. – Живем однова! Все будем в…
И Васька с цветистой злобностью описал то место, в котором каждый человек завершает свое земное существование.
– Он прав, – сказал мудрый бригадир, – это рождаемся мы по-разному, а помираем все одинаково… Хватит тебе киснуть у нас.
– Мне и тут нормально, – ответил Лёнчик с таким остервенением, что самому стало противно.
Потому что и ненормально ему тут было, и Всеобщий Хозяин понемногу брал верх. Знакомый крест уже сиял свежей краской.
– Харэ! – возразил Бидон, в словаре которого было не так много синонимов. – Я видел, как ты вчера циферки царапал!
Тут Лёнчику стало совсем стыдно. Он вчера… так… забавы для… попытался решить систему линейных уравнений. И ведь решил! Но, выходит, увлекся, ослабил бдительность, не заметил, как Бидон подглядывает. Несмотря на полную трезвость, захотелось двинуть Бидона по чайнику так, чтобы зазвенело, перекатываясь по пустому черепу, слово «Харэ!»
Но Альбертыч вдруг заговорил мягко, как с покойником, который пришел в себя на операционном столе и растерянно вертит головой.
– Леня… Ну что ты, в самом деле? Мы, правда, не знаем, чего хочет Он…
Все вслед за бригадиром посмотрели на кучевые облака в зените.
– Может, – продолжил Альбертыч, – и пес с Ним? Ты сам-то чего хочешь?
К счастью, тут подкатил очередной клиент и избавил Лёнчика от необходимости отвечать на вопрос, на который не было ответа…
…Через неделю он решал линейные уравнения в уме…
…Пьяным проснулся только один раз, да и то – так, слегка…
…Через месяц он нашел оброненную кем-то «Квантовую физику». Сел и читал, пока восток не окрасился в красный цвет…
…Еще через неделю понял, что «Квантовую физику» ему купили вскладчину и подбросили друзья-могильщики, но даже ругаться не стал. В голове вертелось матричное уравнение, в котором явно было что-то не то…
…Когда Лёнчик прощался с Альбертычем и Васькой, Бидон вдруг с тоской произнес:
– А я токарный станок во сне видел…
Альбертыч и Лёнчик невесело рассмеялись.
– Да, – сказал Альбертыч, – скоро один тут останусь.
– А вы? Во сне ничего не видели?
– Не, я тут до самого конца… Да вы не волнуйтесь, Леня, без помощников не буду, каждый день по десятку откапываем.
Напоследок Леня зашел посмотреть, как там его старый друг – крест. Возле креста на корточках сидел плешивый мужичонка и старательно смывал малярной кистью краску. Почувствовав спиной взгляд Лёнчика, мужик буркнул:
– Это мой родственник… Дальний…
И в доказательство своих слов кивнул на табличку – ржавую, гнутую, явно только что со свалки. По уцелевшим цифрам можно было разобрать дату откапывания. До него оставалось еще лет пятьдесят.
Лёнчик смотрел на крест, который под неумелой рукой дальнего родственника приобретал привычный обшарпанный вид, и чувствовал себя немного предателем.
Тут
Следующий сценарий Мика сдавал уже не так легко. Корнилов из педагогических соображений пять раз возвращал текст, придираясь ко всем мелочам, которые только мог обнаружить. Мика ни разу не возмутился. Все переделал. Все поправил. Даже усвоил, что в сюжете мало придумать эффектное начало – нужен не менее эффектный финал. И фраза «а потом они как-нибудь убегут» не катит даже в самом предварительном варианте сценарной заявки.
Второй сценарий Корнилов вернул всего два раза.
Третий не вернул, хотя читал с пристрастием.
Четвертый сценарий Корнилов переправил редактору, не читая – и с тех пор поступал так всегда.
Мика, к удивлению своему, втянулся. Работал целыми днями, купил уже себе собственный нотик, быстро завоевывал репутацию. Как только он перестал горланить мантру «Я – поэт, пошли все нафиг», сразу исчезли причины спорить с окружающими. Окружающие – продюсеры в особенности – очень это в Мике оценили.
Ему давали самые срочные и гиблые проекты – и он умудрялся их вытянуть до приемлемого уровня за разумные сроки. Только один раз, когда линейный продюсер в угаре энтузиазма поручил сваять двенадцать серий за три дня – только тогда Мика немного растерянно возразил:
– Но это же… по шесть часов на серию… если не спать…
Линейный продюсер устыдился впервые за свою карьеру на телевидении. И увеличил срок до двух недель – чуть больше суток на серию.
Мика успел. Получилось криво и косо, но никто не ожидал даже и такого результата.
И никто не догадывался (Мика в том числе), что все это он делает для того, чтобы не оставаться наедине с мыслью: «А вдруг мама умрет?»
Нет, он не избегал маму, посещал почти каждый день… Ну, если не нужно было сотворить трудовой подвиг… Он ежедневно, в 17.00 звонил ей, если не мог прийти. У койки веселился и хвастался, давая маме возможность гордиться своим сыночком, который взялся-таки за ум.
Но потом, дома, один на один с телевизором, Мика начинал паниковать. Ему представлялось, что вот прямо тут, на столе, будет стоять гроб. А в нем…
Мика не давал себе возможности думать об этом долго. Над ним всегда висел очередной дедлайн, и метроном в голове отсчитывал: «До сдачи серии осталось…»
Где-то
Лёнчик вернулся домой. В серый дом со скромной табличкой «Институт физики».
И плевать на Того, кто всем рулит, – пусть это даже была его затея – Леня все равно был счастлив. Его окружали сумасшедшие люди, которые были его братьями. Колченогий деревянный стул был, казалось, создан для его, Лёнчика, седалища. Экспериментальная установка, с виду непонятная и зловещая, слушалась его рук, как любимая лошадь верной уздечки.
И формулы…
Он играл с ними, они были для него песнями и стихами, будили фантазию, заставляли грустить и смеяться. Вся жизнь была подчинена формулам, она текла по ним, как река по руслу… Нет! Как вода по трубам, заранее проложенным в определенном направлении. По одним – чистая и свежая, по другим – грязная и отработанная.
Теперь Лёнчик знал, что его вынесло течением в правильную трубу. Пусть трубы созданы кем-то другим, пусть кто-то другой стоял у вентилей… Разве это было важно? Когда Леня вчитывался в формулу, он видел четкий и ясный закон, закон всеобщий. И это его примиряло с детерминизмом бытия, с существованием судьбы. Теперь он знал, что им управляет не КТО, а ЧТО, не личность, а закон. Что стыдного в том, чтобы подчиняться закону?
Тут
Однажды Мика упал в обморок прямо в больнице. Хорошо еще, что из маминой палаты успел выйти. Его деловито, без ненужной паники, привели в чувство и предъявили очень недовольному врачу. Тот после несколько небрежного осмотра сообщил, что опасности никакой нет.
– Вы как часто спите? – спросил врач.
– Часто, – ответил Мика, – стараюсь каждый день.
Врач сухо обматерил его и прописал, во-первых, ежедневный восьмичасовый сон, во-вторых, не меньше одного выходного в неделю. А раз в полгода – двухнедельный отдых подальше от дома. Мика, который уже давно ни с кем не спорил, пообещал выполнить все в точности.
И очень удивился, когда в воскресенье утром врач объявился у него дома. Одет врач был по-походному: камуфляж, кирзовые сапоги и широкополая панама.
– Мы едем на рыбалку, – сообщил он Мике. – Оденьтесь потеплее. И давайте быстрее, нас ждут.
Все слабые доводы Мики о срочной работе, о недописанной серии, о странности происходящего врач даже не стал оспаривать. Они просто пролетели сквозь утреннего гостя, как солнечные зайчики сквозь идеально вымытое окно. Мика еще продолжал спорить, но уже одевался в практичное и теплое. Врач доброжелательно, но нетерпеливо молчал. Рот открыл только раз, когда Мике позвонил Корнилов и стал требовать «как-нибудь ускориться». Врач по лицу Мики понял, что кто-то пытается сбить пациента с пути истинного, отобрал трубку и сообщил:
– Я – Михаил Валентинович, врач Михаила Петровича. Он мне срочно нужен… Нет, отложить нельзя, потому что он может умереть, всего доброго.
Мобильник так и остался у Михаила Валентиновича до конца рыбалки. Он несколько раз звонил, врач проверял – и дал Мике пообщаться только один раз, с мамой.
Мика поначалу дергался, прикидывая, как и когда он будет наверстывать упущенное, но в лодке, куда его усадили бодрые друзья врача, вдруг успокоился. А когда у него – единственного из всех – начался бешеный клев, все мысли о работе вообще выветрились.
И до самого вечера, до возвращения с богатым уловом («Новичкам всегда везет!») Мика словно жил в другой вселенной. Да и по возращении в квартиру он не ринулся к компьютеру, а сел чистить окуньков. Потом жарил их. Ел с аппетитом. За клавиатуру сел только в час ночи, но писать ничего не стал. Вместо этого он перечитал присланное ему задание, нахмурился и набрал Корнилова:
– Не спишь? Ну да, я тоже… Нет, не написал… Слушай, – тут Мика на миг обомлел от собственной наглости, – мне посерийник не нравится, можно, я перепишу? Ну и что, зато лучше будет… А я все равно перепишу…
Где-то
В лабе это называлось «трындеть».
– Потрындим? – предлагал, например, завлаб Коля и хитро косил зеленым глазом.
И все радостно соглашались. Темы были самые разные, от смысла жизни до женских ножек, но, правду сказать, ножки мелькали в разговорах не так уж и часто. Обычно трындели на профессиональные темы. Коля очень любил задать заковыристый вопрос о сути материи, а потом, когда глотки уже сорваны и мэнээсы хватают друг друга за халаты, он неожиданно предлагал решение, простое и изящное. Лёнчик сильно подозревал, что Коля заранее знал все ответы, хотя тот клятвенно заверял в обратном.
Но сегодня они трындели на неприятную тему.
– Мне скоро уходить, – сообщил Коля с нетипичной для себя грустью.
Сотрудники наперебой принялись убеждать, что, мол, что за ерунда, откуда такие панические настроения.
Убеждали неубедительно.
Лёнчик, кстати, даже и не пытался участвовать в этом хоре подхалимажа. Коле пора было уходить. Он все чаще путался в формулах. Стал забывать, как включается установка. А главное – Коля вызывающе посвежел и, кажется, перестал бриться. Этот румянец, этот бьющий через край темперамент, этот внезапный склероз вопили: «Коле пора уходить».
Судя по всему, ему оставалось жить лет двадцать. Максимум, двадцать пять. Через пять лет пребывания в институте он поглупеет настолько, что не сможет взять простейшего интеграла. Еще через десять, выйдя из школы, с трудом станет разбирать буквы и цифры.
И последние шесть-семь лет будут угасанием – ярким, красивым, полным жизненной энергии и безотчетной радости. Смерть как будто даст ему напоследок насладиться жизнью.
– Слушай, – спросил Лёнчик, прерывая водопад фальшивых утешений, – а ты с мамой своей знаком?
Все притихли, укоризненно глядя на Лёнчика. Говорить о маме, о существе, которое тебя убьет? Да еще в такой момент? Это было верхом бестактности. Но Коля даже глазом не повел.
– Конечно. Мы живем вместе.
Теперь мэнээсы с удивлением воззрились на завлаба. Да, многие из них знали своих мам, но старались держаться от них подальше. Все так делали, пока угасание не брало верх и не заставляло забыть о предстоящем ужасе смерти.
– Она очень хорошая, – продолжил Коля. – А твоя?
– Я ее пока не знаю, – ответил Лёнчик. – И знать не хочу.
Тут
Маму выписали из больницы. Мика под это дело взял три дня выходных. Продюсеры поворчали, но согласились. Теперь, когда бывший поэт дорос до хэдрайтера, он сам писал немного, больше редактировал молодых авторов. Три дня молодые могли пописать и без мудрого руководства. В крайнем случае, Мику обещал подстраховать Корнилов, хотя он и перебрался на плечах Микиного таланта до поста продюсера.
Мама держалась бодро, только немного припадала на правую ногу. Хотела было немедленно устроить генеральную уборку, но Мика чуть не в ноги ей бросился, упросил посидеть. Сам носился с пылесосом и новенькой, специально купленной чудо-шваброй. Мама руководила, поправляла и по привычке охала:
– Бестолковый ты, сынок, вот помру я…
– Не помрешь! – отвечал Мика, притирая пыль на древней хрустальной вазе времен брежневского изобилия.
– Жениться тебя надо, да кто ж тебя возьмет, такого охламона, – вздыхала она.
– Некогда мне жениться, – отмахивался Мика, подметая осколки свежеразбитой вазы, – у меня работы много.
– Хоть бы платили за ту работу, – завела свое мама.
И тут Мика не выдержал. Взыграло ретивое, он распахнул шкаф, вскрыл наивную заначку под носками и извлек на свет божий растрепанную пачку долларов.
Мама сначала испугалась, что Мика пошел кривой дорожкой и стал грабить банки. Потом сама себя опровергла («Да какой из тебя грабитель!»), но не успокоилась, пока Мика не предъявил стопочку авторских договоров. Ничего мама в этих договорах, конечно, не поняла, но его фамилию и инициалы, вписанные от руки, изучила тщательно.
Но еще больше встревожилась. Пришлось Мике прерывать уборку и срочно относить деньги в банк – непременно государственный! – класть на счет почти всю растрепанную пачку.
А когда он вернулся, то нашел маму безутешно заплаканную.
– Совсем вырос, – повторяла она, пока Мика растерянно гладил ее по седой маленькой голове. – Теперь и без меня можешь.
Где-то
Мама Лёнчику сразу же не понравилась.
Она была темноволосой и стройной. И лицо слишком спокойное, раздражающее. Раздражало потому, что такое выражение Лёнчик видел тысячу раз – у откопанных им тел.
Мама лежала в богатом темном гробу на столе в окружении целого моря цветов. Сам Лёнчик был против такой праздничной декорации, но набежавшие неизвестно откуда родственники и слушать ничего не хотели. Все эти люди, о существовании которых он раньше не подозревал, заполнили собой квартиру, переставили мебель, завесили зеркала и вообще вели себя по-хозяйски.
Лёнчик не выдержал и сбежал. Пошел в лабу, не очень понимая, что он собирается там делать в субботу вечером. К его удивлению, ключей на вахте не оказалось.
– Так ваш завлаб там, – пояснил вахтер.
И добавил, понизив голос:
– Слушай, а кто вместо него будет?
– Он и будет, – раздраженно ответил Лёнчик. – Он еще вас переживет.
И ушел, спиной чувствуя укоризненный взгляд седого вахтера.
Коля перебирал бумаги. Это были его собственные записи, длинные выкладки формул.
– Привет, Лёня, – сказал он, услышав звук открываемой двери. – А я тут считал, считал… А потом понял, что на первой странице знак перепутал. Минус вместо плюса…
Лёнчик сел рядом, но говорить ничего не стал. Что тут скажешь? Теряет завлаб хватку, это процесс неизбежный. И неприятный.
– Но вот что интересно, – Коля поднял взгляд, и Лёнчик с удивлением не заметил в нем печали, – совсем другая картина мира получается. Очень интересная. Смотри.
Лёня посмотрел. На последней странице обнаружилась полная чушь, не имеющая физического смысла. Тогда он посмотрел на первую. Ошибку он нашел бы сразу, даже если бы она не была обведена красным маркером. В классической формуле волновой функции перед t стоял минус. Трудно сказать, для чего Коля пытался сделать время отрицательным. Впадение в детство, не иначе. И дальше этот минус выгибал все вычисления в какую-то странную, невероятную сторону.
– Ну как, – с надеждой спросил Коля, – уловил?
Лёня добросовестно принялся листать страницы.
И вдруг, странице на пятой, его прошиб пот.
– Но это же… – он не смог подобрать слов.
– Другой мир! – довольно сказал Коля. – Мир с обратным течением времени. Где причины и следствия поменялись местами. Где солнце встает на востоке и садится на западе. Где энтропия неуклонно возрастает. Где водку пьют, чтобы опьянеть. Где матери не убивают людей, а рождают их.
Коля был прав. Это был другой мир. Немыслимый, но возможный. Чудовищный, но вероятный. Теоретически возможный, но реально не существующий.
– Прикольно, – только и сказал Лёнчик.
– Нет, – возразил Коля. – Он реален. Мы можем в него попасть. Или, если угодно, создать его.
Коля и Лёня подняли взгляд от формул и долго смотрели глаза в глаза.
– Но ты не сможешь… – тихо сказал один.
– Да, – согласился второй, – но у тебя есть время.
…Назавтра Коля торжественно представил ректору своего преемника. Ректор долго тряс Лёне руку и выражал надежду, что под его руководством (бла-бла-бла). А Лёнчик думал только об одном – очень скоро его мама, его убийца, оживет.
Тут
Врач Михаил Валентинович, который в свое время пинками приучил Мику к отдыху, периодически навещал маму, осматривал и хвалил за отличную форму.
Михаил Валентинович бессовестно врал. Маме становилось все хуже. Она то и дело повторяла:
– Эх, внуков так и не дождусь…
Или:
– Ты потом мою комнату отремонтируй…
Мика возмущался и бодрился, однако Микина бодрость успеха не имела. Наоборот, мама то и дело принималась тихонько плакать.
Однажды под утро у нее случился второй приступ. Врач «скорой» не обещал, что довезет больную до больницы…
…Мика метался по приемному покою второй клинической с таким отчаянным видом, что даже закаленные сестрички не выдержали. Одна из них, пожилая и строгая, сначала отпоила Мику чем-то остро пахнущим, а потом заявила:
– Марш домой, чтобы я тебя тут не видела! В реанимацию тебе все равно нельзя. Будут новости – тебе позвонят.
И, видя, что Мика ничего не соображает, сестра за руку вывела его на улицу и усадила в такси.
Пока он доехал домой, успокоительный раствор растворился под напором отчаяния. Мика принялся метаться по квартире, разбил стекло в двери, долго соображал, чем же убрать осколки. Ничего не придумав, принялся собирать их руками и порезался.
Кровь текла густо и не больно. Мика сидел на полу, плакал и думал только об одном: о кровопускании. Двести лет назад так лечили чуть не все болезни: от поноса до меланхолии. Помогло кровопускание и на сей раз.
В голове стало пусто и бессмысленно. Зато вернулась способность выполнять простые операции. Перевязав руку, он взялся за веник и совок. Уже когда подметал, тупо сообразил, что рану надо было бы обработать йодом. Размотал, минут пять смотрел на руку.
И понял, что надо срочно что-нибудь написать. Сначала пытался придумать стих, но быстро отказался от этой идеи. И начал писать то, что писал все это время: сценарий.
Вернее, синопсис сериала. Тиви-муви. Четыре серии (по выбору канала – восемь, но не больше). Сюжет: Криминальный авторитет, который выбился в легальные бизнесмены, узнает, что смертельно болен. Нужна срочная трансплантация печени. Однако у него редкая группа крови, какие-то еще медицинские заморочки (не забыть уточнить в «Википедии»! ) – словом, абы какая печень не подойдет, только печень близкого родственника. Причем не кусок – вся печень (натяжка, конечно, но можно списать на условности кино). Герой – парень без комплексов, он ради себя, любимого, готов завалить папу римского. Однако есть закавыка: он сирота, воспитывался в детдоме, родственников нет вообще. Верный помощник (нет, лучше любовница-сожительница) подсказывает: «Обратись в детдом, вдруг твои родители все-таки живы». Герой обращается – и узнает, что его мать вполне может оказаться живой. В картотеке детдома есть три кандидатки, три женщины, которые могут оказаться его матерью. Конец первой серии…
(Нет, надо закончить серию чуть раньше. Последнюю фразу произносит сожительница: «Я нашла!» – и крупный план лица героя, который сгорает от нетерпения. Остальное – в начало второй серии)
Герой бросается на поиски своей предполагаемой мамы. Одна серия – одна история поисков. Первые две кандидатки, само собой, оказываются посторонними (Не забыть: продумать, как меняется герой, общаясь этими женщинами).
Четвертая серия – настоящая мама найдена. Она непутевая, не слишком симпатичная, вздорная. Но герой вдруг понимает, что не может ее убить. Не может – и все тут!
Нет, не так.
Героя колбасит по полной программе. Он и жить хочет, и маму не убивать, и рыбку съесть. Тут в игру вступает хитрая полюбовница. Если ее друг милый, но неофициальный помрет раньше, чем они узаконят отношения, то фиг она получит долю в наследстве. Любовница борется за жизнь героя отчаяннее его самого. Сожительница идет к матери героя (которая пока не подозревает о происходящем) и вываливает на нее радостную весть: «Здравствуйте, хорошо выглядите, у вас нашелся сын, но ему нужна ваша печень, так что вам придется помереть».
Расчет оказывается верным. Мать, хоть и бестолковая, и пьющая…
(Нет, нельзя пьющая – печень должна быть здоровой)
Бестолковая и гулящая мать все равно остается матерью. Она добровольно соглашается лечь под нож хирурга.
И тогда главный герой, понимая, что он не может принять этой жертвы (пафос в конце – это правильно, только не переборщить), пишет завещание на имя матери и вышибает себе мозги из верного «Макарова».
Допечатав до этого места, Мика почувствовал дискомфорт. По уму, красивым суицидом можно было бы и закончить… Но хочется хоть какого-нибудь позитива.
Тогда так – на могиле героя встречаются две безутешные женщины: внезапная мать и соломенная вдова. Взаимные упреки, выяснение отношений… И полувдова признается: она носит под сердцем ребенка героя. Аборт делать нельзя по медицинским причинам. Она планирует сдать ребенка в детдом. «Нет, – умоляет мать, – сына я уже потеряла, оставь мне хотя бы внука…»
«Вот теперь все», – подумал Мика. Синопсис получился крепкий и выразительный. Осталось добавить только название. Мика задумался всего на секунду и отстучал:
МАМА, Я ТЕБЯ УБЬЮ!
Где-то
Леня проснулся среди ночи с ощущением ваты в голове. Пришлось выпить димедрол, который обычно моментально бодрил. Но сейчас вата внутри черепа не пропала, а как-то скукожилась, как будто политая водой.
И тут он с удивлением понял, что сошел с ума. В висках стучала, как метроном, безумная идея.
«Мама, я тебя убью… Мама, я тебя убью…»
Напрасно он убеждал себя в бредовости идеи. Напрасно повторял, как заклинание: «Убивать могут только матери, больше никто». Даже в прохладную ванну залез и сидел в ней, пока она не нагрелась чуть ли не до кипятка.
Ничего не помогало. Мысль, простая и невозможная, не отпускала. У Лени даже появилось ощущение, что кто-то нашептывает ее прямо в мозг.
Он выбрался из ванны и решительно направился в комнату с гробом. Чтобы рассуждалось легче, стал говорить вслух.
– Убить… То есть сделать так, чтобы она не жила…
Неподвижное тело и так не жило, но лежало теперь как будто с тревогой и осуждением.
– Но все умирают только одним способом. Этим способом владеют только женщины…
Тут логика уперлась в здравый смысл и забуксовала. Невиданным усилием воли он отодвинул в сторону здравый смысл и дал волю логике.
– Надо просто сделать так, чтобы она не смогла функционировать…
Мозг закипел. Возможно, в этом кипении и родилось бы что-то конструктивное, но тут явились мрачные санитары. Они деловито подхватили твердое тело подмышки и уволокли его, по пути ругая новые дома, в которых перестали делать грузовые лифты.
До оживления мамы оставалось не более суток.
Тут
– Она просто с того света вернулась, – сообщил врач Михаил Валентинович. – Внезапная спонтанная ремиссия. Так бывает.
Однако вид у него был такой озадаченный, что Мика сразу понял – так не бывает.
Он даже знал, что на самом деле причиной необъяснимой ремиссии стал его синопсис. Тоже, если вдуматься, не очень объяснимый. Почему, как жутковатая история об умирающем бандюге смогла вылечить маму Мики? Мика не знал. Но знал, что вылечила.
Само собой, Мика не то что объяснять – рассказывать никому о своем странном синопсисе не собирался. Однако, как оказалось, за него это сделали рефлексы.
Уже когда он, окрыленный, прощался с врачом и договаривался об очередной рыбалке, позвонил Корнилов.
– Ну ты дал! – сказал он вместо приветствия. – Прям жесть!
– Э-э-э?.. – только и смог спросить Мика.
– Да я про твой синопсис, – пояснил друг-продюсер. – «Мама, я тебя убью»… Название чего стоит.
В одно мгновение память-предательница сообщила Мике то, чего он знать не очень-то хотел. Как вчера вечером он, одурманенный потерей крови и творческим экстазом, на полном автомате отправил плоды своего судорожного творчества туда, куда он обычно отправлял выполненные заказы – Корнилову.
Мика попытался объяснить, что это не заявка, это так, это вообще для другого, но смог добиться только обиды и подозрительности.
– Я понимаю, – сказал друг, – ты фрилансер, сам себе хозяин. Но вообще-то я думал, что у меня право первой ночи. Все-таки я тоже для тебя кое-что сделал…
И бросил трубку.
Пришлось перезванивать и рассказывать почти правду: что мама со вторым инсультом в больнице, что он сам не свой, что синопсис писал лишь бы отвлечься, успокоить нервы…
– А мама-то как? – встревожился Корнилов.
– Обошлось. Ремиссия.
– Слава богу. Ладно, не знаю, для чего ты все это писал, но я заявку покажу на НТВ. Только сразу морально подготовься, что они попросят серий побольше. И труп в каждой серии, а лучше два. У них разнарядка на трупы, ты же знаешь…
Где-то
В больницу Леня забежал перед работой, чтобы был повод побыстрее уйти.
Женщина на койке выглядела ужасно, гораздо хуже, чем в гробу, окруженная цветами. Похоже, над ней потрудились гримеры, смывая пудру и прочую краску.
Желтая кожа обтягивала острые скулы. Глаза были прикрыты, но это только усиливало впечатление безотрывного взгляда. И вообще весь строгий облик внушал желание повиниться и спрятаться куда-нибудь.
«Я тебя убью, – повторил Леня, – обязательно. Вот только придумаю как»…
…В лабе уже кипела жизнь, привычная и размеренная. Маховик исследований, запущенный Колей, раскачивался вроде бы без посторонней помощи. Тем не менее Лёня не поленился, проверил парочку расчетов, заставил заново собрать лазерную установку, в которой выходное зеркало показалось ему кривоватым, дал пару ценный указаний помельче.
Нет, Лёня не демонстрировал свое начальственное положение. Просто не хотел, чтобы Колина работа притормозилась.
Поруководив, Лёня заперся в кабинете. Извлек из верхнего ящика стола стопку мелко исписанных листиков. Обратный мир, выраженный в формулах… Обратное течение времени…
Почерк был уже его, Лёнин. Он заново проверил, что получится, если перед t будет все-таки минус, а не привычный плюс. Получилось даже грандиознее, чем у Коли.
В этом мире вместо закона всемирного отталкивания действовал закон всемирного тяготения.
В этом мире материя постоянно саморазрушалась.
В этом мире все было задом наперед.
В этом мире Лёнчик мог реально убить свою маму…
Тут
Название пришлось заменить.
Генпродюсер канала лично позвонил Мике и пространно разъяснил: «Мама, я тебя убью» оттолкнет многих зрителей. Оказывается – Мика не подозревал – основную часть телеаудитории составляют женщины. Даже детективы смотрят преимущественно домохозяйки. Нельзя им вот так в лицо: «Мама, я тебя убью!». Они же сразу на себя все переносят…
Мике пришлось раз пятнадцать согласиться с генпродюсером, прежде чем тот успокоился.
Напоследок они договорились, что название останется рабочим, а настоящее придумается потом, перед постпродакшном.
Все остальное – «окей», вот только пусть главный герой не будет криминальным авторитетом. Все уже накушались этими «ревущими девяностыми». Пусть будет… бывший военный. Это и к народу поближе. И еще – не надо трех кандидаток. Коню понятно, что правильная кандидатка – третья…
Мика слушал, как его идею, цельнометаллическую, гармоничную, нерушимую, режут на части, потрошат и пришивают аляповатые заплатки.
Он не спорил. Он понимал, что генпродюсер по-своему прав. И Мика знал, что напишет все так, как нужно заказчику. И трупы там будут. Например, одну из неудавшихся матерей главный герой задушит подушкой (Мика давно собирался куда-нибудь вставить этот старомодный способ, который ему нравился еще по «Пролетая над гнездом кукушки»).
Но параллельно он будет писать книгу.
И оставит в ней и криминального авторитета, и трех кандидаток в мамы, и все прочее, что родилось сразу вдруг, как будто надиктованное кем-то. И уж этого он не даст испахабить ни одному продюсеру. Вернее, ни одному редактору.
На мгновение Мике захотелось написать роман в стихах, но только на мгновение.
Тут нужна была проза. Простая и сочная, с рваными диалогами и предельно точными описаниями.
Да и, если честно, разучился Мика писать стихи.
Мамино состояние оставалось стабильным.
Где-то
Мамино состояние оставалось стабильным.
Она тяжело, с надрывом дышала. Лёня часами слушал этот выматывающий душу сип. Это могло показаться мазохизмом – а могло и оказаться мазохизмом, но он не мог отойти ни на шаг. Часами проматывал в голове одну и ту же картину: он берет подушку, кладет ее на желтое лицо и крепко прижимает. Углекислый газ перестает поступать в легкие, они не функционируют. Мама умирает.
Это было логично.
Но это было невозможно.
Так не может быть, потому что так не может быть никогда.
Лёнчик в жизни не додумался бы до подобной ереси, если бы не увидел ее своими глазами. Это был даже не сон – бред наяву на вторые сутки бодрствования у маминой постели. Перед стеной вдруг возник крепыш в очень хорошем костюме, который закрывал подушкой лицо какой-то женщины. Женщина умирала в муках.
Как только Лёню посетило это видение, он не мог от него отвязаться.
Дикая идея – еще не значит неверная. Физика вся состоит из диких идей. «В конце концов, – решил Лёнчик, – я имею право на эксперимент. Если он получится… Это будет переворотом в естествознании. Нет… Ну, значит нет».
Он взял подушку с соседней кровати (она пустовала все время, что он тут находился), собрался с духом, зачем-то поднял подушку повыше…
…Мама впервые пришла в себя и посмотрела прямо в его глаза. Она сразу его узнала.
– Сыночек… Ты ел сегодня?..
Лёня не смог осуществить эксперимент. Вовсе не потому, что мама могла оказать сопротивление. Просто представил, как она снова перестает дышать, застывает на койке… и не смог.
– Да, я перекусил, – ответил он, – не волнуйся.
Тут
– Не волнуйся, я перекусил, – сказал Мика, глядя маме прямо в глаза.
Она только пошевелила пальцами, что в ее положении было равносильно взмаху рукой: «Врешь!»
Мика не врал. Наверное. Он просто не помнил – ел или нет. Скорее всего, что-то ухватил из холодильника. А может и показалось.
Уже неделю он находился в угаре. Сценарий и книга рождались одновременно, почему-то совсем не мешая друг другу. На нотике Мика постоянно держал оба файла открытыми, и ни разу не ошибся окошком. Эпизоды сценария – плотные, энергичные, почти без диалогов – рождались словно сами, по отработанной схеме. Книга выбиралась наружу мучительными потугами, надолго застревая на каком-нибудь месте. Некоторые страницы приходилось переписывать полностью по пять-шесть раз, чтобы потом выкинуть из текста.
Мика не был уверен, что он ел каждый день. Это было неважно. Придуманный им мир становился реальнее окружающей действительности. В придуманном мире еда не представлялась обязательным элементом. Разве что как фон для какого-нибудь действия или диалога.
Но мама всего этого не знала, а знала бы – тревожилась бы еще больше. Этого Мика допустить не мог. Она и так стала прозрачной, как восковой муляж наливного яблока. Почти не говорила, и Мика выучил скупой язык ее жестов и мимики. Вот сейчас она чуть-чуть нахмурилась, и он понял, что маме нужно поспать.
– Побегу я, – сказал Мика, поднимаясь, – сценарий надо сдавать.
Теперь на бескровном морщинистом лице появилось подобие улыбки. Она гордилась своим замечательным сыном. И снова шевеление пальцев, которое на сей раз означало: «Иди, сынок, работай!». А потом чуть поджатые губы: «Но покушать не забывай»
Мика улыбнулся и вышел. Его всегда смешило слово «кушать», оно вызывало в воображении образ купчихи, которая двумя пальчиками извлекает изюминку из вазы с сухофруктами.
Так, улыбаясь, он сделал несколько шагов по коридору и вдруг замер. Он понял, чего – вернее, кого – недоставало в его романе. Там должен быть молодой ученый, поздний сын одной из женщин. Физик? Пусть физик. Мика дрожащими от нетерпения руками вытащил нотик из сумки и примостил его на подоконнике. Зачем там молодой физик? Непонятно… Но он точно нужен! Он… он…
Мика с трудом дождался, пока нотик проснется, и лихорадочно застучал по клавиатуре. Он не знал, к чему в романе новый герой, зато пальцы отлично знали. Они вписывали нового персонажа, казалось, совсем без участия Микиного мозга. И не было никакого мучительного подбора слов, сомнений и колебаний. Текст уже существовал, Мике оставалось лишь набрать его.
…Мика вздрогнул, когда почувствовал чью-то руку на своем плече.
– Я говорю, хорошие новости, – Михаил Валентинович говорил громко, видимо, не до конца поверив, что Мика вернулся в реальный мир. – Твою маму можно подлечить!
Это подействовало ободряюще. Мика забыл о нотике, об оборванном на полуслове предложении, он засыпал врача вопросами. Михаил Валентинович отвечал терпеливо, словно Мика сам был больным, которого следовало сначала успокоить, а уж потом лечить.
Есть клиника в Швейцарии. Как раз по профилю. Стоит дорого. Нет, в рассрочку нельзя, надо внести деньги сразу, с россиянами они иначе не работают. Одолжить? Да, есть пять тысяч евро, но это все. Когда начнут лечение? Как только, так сразу. Но, сам понимаешь, лучше пораньше.
Всё выяснив и записав, Мика бросился на улицу. Вспомнил про нотик, вернулся. Еще раз поблагодарил врача. Поймал такси и попросил отвезти в ближайший банк…
…Кредит ему не дали. Пришлось выпрашивать деньги у продюсеров. Мика шел на поклон от отчаяния, он не очень-то верил в щедрость и благородство малознакомых людей. Однако первый же продюсер – генпродюсер канала – согласился выплатить аванс. Огромный аванс. Как раз такой, что хватило на половину суммы за лечение. За это пришлось подписать кабальный договор, но Мика не колебался ни секунды.
Остальные деньги добывал по знакомым. На крайний случай подумывал заложить квартиру, но обошлось: сумму собрал полностью за два дня.
И все эти дни продолжал писать. Теперь роман писался как будто сам. Мика видел своего героя, который понемногу выходил на первый план, оттесняя остальных. Мика просто записывал то, что видел.
Вот сейчас он катает свою старенькую мать в кресле-коляске по парку. Осень только начинается, прядки желтых и красных листьев похожи на мелирование в прическах девочек-кислотниц…
Где-то
Осень уже заканчивалась, последние прядки желтых и красных листьев были похожи на мелирование в прическах девочек-кислотниц. Лёня подумал это и удивился: раньше он такими красивостями в уме не оперировал. Это все мама. Она стремительно шла на поправку, Лёне нравилось катать ее по парку и слушать, как она вслух читает книжку стихов. Книжку он, к своему удивлению, обнаружил в шкафу и принес в больницу. Автора – какого-то Мику Кудрявцева – он никогда не слышал, зато маме он пришелся по вкусу. Некоторые вирши она даже выучила наизусть: «Ах, сударыня, полноте… Полноте ждать помидоров…» Видимо, повлияло и на Лёника.
Так она его звала – Лёник. Услышав в первый раз, он хотел возмутиться, но момент был неудачный. Он осторожно перекладывал почти невесомое мамино тело с кровати на каталку. Во второй раз «Лёник» почти не царапнул, а в третий имя прозвучало очень по-домашнему. Никто его так не называл. «Лёник» стал паролем, интимным словом, которым они пользовались только наедине.
Мысли об убийстве иногда возвращались, но он никак не мог поверить в такую возможность. Потому отгонял бредовую идею бредовыми отмазками: «Она такая слабая», «Сегодня я слишком устал», «А вдруг врач зайдет?».
В кабинете, за письменным столом (он окончательно ушел в теорию), иногда накатывал тот животный страх несуществования, из которого и родилась идея убить маму. Абстрактно он понимал, что просто защищает свою жизнь. Погибнуть должен кто-то один – так почему не эта дряхлая женщина?
Но когда садился к маме на краешек кровати и начинал рассказывать о своих успехах, о новой безумной теории, о шуме, который поднялся после его выступления – она смотрела на него в таком искреннем восхищении, с такой ясной искрой любви в глазах… Абстракции таяли от этой любви. А вернее всего, происходило не таяние, а сухая возгонка, потому что даже лужиц не оставалось от абстрактных страхов.
В один прекрасный день Леонид получил сразу две приятные новости: маму выписывали домой и его отправляли на БАК. По парадоксальной логике жизни, два плюса дали в итоге большой жирный минус. Дома за мамой требовался уход, без Лёни она не могла выполнить элементарных вещей. Но и командировку на Большой Адронный отменить было никак нельзя. Группа Леонида разработала эксперимент, который надо было ставить сразу после пуска БАКа, пока энергии были еще велики. Вернее, должны быть велики – ведь коллайдер пока никто не запускал. Потом, если верить расчетам, энергии будут только падать, и проверить безумную идею не получится.
Надо было оставаться с мамой, и надо было ехать. Впрочем, не зря Леонида считали лучшим логиком в институте. Он нашел третий выход:
– Мама, мы поедем вместе…
Тут
– Мама, мы поедем вместе, – сказал Мика в стотысячный раз, но взгляд мамы оставался все таким же тревожным.
Она с самого начала была против этой поездки в чужую страну, где все не так. Где можно сделать что-нибудь неправильно, и тебя за это накажут. В лучшем (или худшем?) случае отругают. Это же Швейцария!
Но Мика на жалобные взгляды не поддавался. В оплату лечения сразу входил проезд и проживание одного сопровождающего, и Мика решительно послал всех – даже генпродюсера, с которым подписал кабальный контракт.
– У меня мама умирает, – говорил совершенно спокойным голосом, – и есть шанс ее спасти.
У собеседника тут же вставали колом в горле слова о дедлайне и скорых съемках. Никто не пытался отговорить, а один влиятельный режиссер даже помог срочно оформить загранпаспорт с визой.
Пока летели на санитарном самолете, мама еще как-то держалась. Но при прохождении швейцарской таможни с ней чуть не приключился удар. Все к ней вежливо обращались на незнакомых языках, кресло-каталку пропускали без очереди, а собственно таможенный досмотр прошел вообще незаметно. Когда мама поняла, что никто не собирается ей хамить, никто не процедит сквозь зубы: «Тебе на кладбище пора…» – она расплакалась тихими отчаянными слезами. Мике пришлось на ходу утешать ее и пояснять девушке с лошадиным лицом, которая встретила их в аэропорту:
– Ши из фром Раша… Ви ар фром Раша…
Девушка понимающе кивала, отчего еще больше становилась похожа на лошадь. На добрую лошадь, которая тащит на себе поломанную телегу.
Мама тихо плакала все время, пока ее госпитализировали. Она уже привыкла, что «госпитализировать» – значит подолгу держать больного человека в приемном отделении, потом ворчать, что сестра все напутала и вообще мест нет. И только после долгого наматывания нервов на кардан терпения пациента его могут положить в душную палату на восьмерых. А могут и в коридор.
Вместо этого улыбчивые женщины, щебеча что-то по-французски, ласково и бережно раздели ее, сунули в ванну (маме, бедной, пришлось глаза закрыть, чтобы не было так стыдно), нежно вымыли каждый сантиметр старческого тела, укутали в пушистый халат и отвезли в палату. Там ее уже ждал Мика. Палата была на одну персону, с кондиционером и огромным плоским телевизором.
Мама изредка плакала еще два дня, но потом привыкла, перестала шугаться улыбающихся нянечек и однажды вечером, когда Мика выкатил ее на прогулку, впервые за несколько месяцев сказала:
– Господи, какие тут красивые горы…
Где-то
– Господи, какие тут красивые горы…
Леник согласился. Тут было шикарно. Горы выглядели, с одной стороны, дикими и первозданными, с другой – ухоженными, как и все вокруг. И еще они были совершенно безлюдными. Только на одной вершине копошились альпинисты в оранжевых комбинезонах. То ли укрывали ледник огромным белым полотнищем, то ли снимали полотнище – Леня так и не разобрал.
Мама уже порывалась ходить, но он позволял ей прогулки только на небольшие расстояния. Когда они выходили из пансионата надолго, брал коляску на ресепшене и катал маму. Не только ради ее здоровья. Ему было просто приятно: мама, маленькая и восторгающаяся горами, сидит, он ее катит… И мама все понимала, позволяла ему играть роль прислуги.
Впрочем, таких прогулок становилось все меньше. Приближался пуск коллайдра, и страсти накалялись. Каждый день здание CERN пикетировали пару сот каких-то оборванцев с плакатами «Не дадим взорвать планету». Администраторы боялись провокаций и терактов. Охрана требовала на входе снять ботинки и стремилась засунуть металлоискатели в брюки всех сотрудников БАКа.
Но самое страшное творилось на совещаниях ученых. У всех были свои идеи, все требовали, чтобы их эксперимент оказался в начале графика. Язык, на котором шли дебаты, трудно было назвать даже английским. Это была жутчайшая смесь из наречий романской, германской и славянской групп. Китайцы и японцы пытались внести свою лепту в языковое разнообразие семинаров, но их совместный вклад ограничился словами «Банзай» и «Аригато». К счастью, формулы оставались универсальным средством общения, и никого не удивляло, как понимают друг друга финн и тайванец, лопочущие каждый свое – ведь при этом они тыкали в доску, исписанную клинописью значков квантовой механики.
Лёне пришлось проявить чудеса дипломатии, выпить литр саке и поклясться в любви английской королеве, но он добился своего: его права провести первый эксперимент почти не оспаривали. Когда кто-нибудь, забывшись, требовал вычеркнуть из графика «крэйзи шит ов крэйзи рашн», Лёня с недобрым нутряным рыком бросался к доске и покрывал ее такими еретическими выкладками, что его оставляли в покое. Всем было очевидно, что теория идиотская, эксперимент провалится сразу и бесповоротно, и это будет отличным поводом отправить «крэйзи рашн» в его «крэйзи Рашу» первым самолетом, чтобы не путался под ногами.
Никто не мог до конца осмыслить формул Леонида – просто фантазии не хватало. Потому что из выкладок следовало невозможное: после резкого разгона, а затем торможения адронов время повернет вспять…
Тут
«…после резкого разгона, а затем торможения адронов время повернет вспять!» – отстучал Мика на клавиатуре и оторопело уставился на монитор.
Реплика звучала красиво, очень «научно». Надо потом посоветоваться с каким-нибудь физиком, чтобы уж совсем ахинеи не написать. Но проблема была не в этом. Проблема была в том, что сюжет романа после ввода нового героя ушел куда-то вбок. Мика не сразу спохватился – уж слишком легко и просто тек текст. Да и некогда ему было особо анализировать в последнее время. Хлопоты переезда в клинику оставляли время только на то, чтобы быстро, не приходя в сознание, написать очередную порцию (десять тысяч знаков) и свалиться спать.
Теперь, когда за маму взялись хорошие швейцарские врачи, Мика наконец выкроил время, чтобы перечитать написанное.
Роман явно делился на две части. Первая, натужная и многословная, нуждалась в переписывании. А может и в выбрасывании. Особенно все описания природы, которые Мика с таким тщанием впихивал ради «литературности». С момента входа молодого физика начиналась вторая часть, динамичная и резкая. Текст напоминал больше сценарий, но это казалось правильным. Так и надо было вести эту историю – минимум прилагательных, минимум наречий, максимум глаголов. Каждая глава заканчивалась загадкой (тоже привычка сценариста – в «горизонталке» каждая серия должна заканчиваться «крючком»). Самое смешное, что подвешивая вопрос, Мика почти никогда не знал, какой ответ должен последовать. А если казалось, что знает, то быстро выяснялось, что ответ должен быть другим, не таким, как он виделся изначально.
И в результате получилось что-то очень интересное, что-то такое, что Мике нравилось самому – но роман писался поперек задуманного плана! Никогда, ни в одном сериале не допускалось ничего подобного! И вот теперь – нате: «Время повернет вспять…» Но Мика пишет драмеди, а не фантастику!
В отчаянии он уставился в огромное окно. Там красовалась Женева. Местные хвастались, что она не похожа ни на один другой швейцарский город. Мика не понимал этой гордости. Возможно, из-за того, что не был местным. Или из-за того, что не видел ни одного другого швейцарского города. Но вид озера его успокаивал. И вид домиков, аккуратно расставленных вдоль улиц. И горы, само собой.
Мика постарался ни о чем не думать. Через пару минут мысли перестали скакать и потекли спокойнее. Да, фантастика. Ну и что? Это снимать фантастику никто не хочет – дорого, а издавать-то, наверное, все равно что? Может, доже выгоднее издавать фантастику, чем лирическую комедию… Или как это у них в литературе называется?
А вообще мысль про поворот времени – прикольная. Все было бы задом наперед. Люди сначала вылезали бы из могил, потом молодели… Тут Мика сбился. Он вспомнил маму, когда ей было сорок два. Почему-то этот возраст застрял в памяти. Она казалась ему такой старой, а была такой молодой.
Ведь если время повернуть назад, она снова помолодеет! Она будет избавляться от всех своих бед и болячек. Она будет смеяться и веселиться!
Мика набросился на компьютер, как леопард на раненную антилопу. Не задумываясь, перемежал диалоги звучными, но непонятными терминами (потом уточним, потом!) и заставлял молодого ученого семимильными шагами осуществлять свою мечту.
И когда до последнего, решающего, эксперимента оставалось совсем чуть-чуть, Мика вдруг замер над клавиатурой.
– А я?..
Где-то
– А я? – спросил Леонид вслух, не смущаясь, что общается с самим собой.
Он в последнее время все больше и больше перетекал в полубезумное состояние, и это нимало его не заботило. Вот и сейчас он смотрел на доску, покрытую греческими и латинскими буквами, арифметическими и другими знаками, на всю эту красоту, которая казалась нефизикам абракадаброй – и видел мир, в котором время течет назад. Мама снова заболевает и возвращается на кладбище… И Леня возвращается туда же, чтобы… чтобы умереть?
– Чтобы умереть, – повторил он вслух.
Слова отразились от стен и вернулись к нему. Он понял, что проиграл. Он так боялся умереть сам, а потом так не хотел убивать маму, что с радостью ухватился за идею обратного времени. И в результате готовился всех убить: маму, себя, всех остальных.
– Они умерли бы и сами! – сказал Леонид, окончательно окунаясь в раздвоение личности.
Ответил себе молча: «Вот именно – сами. А теперь умрут из-за тебя».
Это был логический тупик. Леня в отчаянии смотрел на ряды формул, как будто они могли дать ответ на вопрос, который лежал совсем в другой плоскости. Если бы он был философом, то использовал бы термин «моральная дилемма». Но Леня не был философом, поэтому сказал просто:
– Твою мать…
Тут
– Твою мать, – сказал вежливый профессор с сложношипящей фамилией, – можно доставить в состояние ремиссии. Но это только на одно время.
Он с самого начала с достоинством заявил, что «учился русскому в совершенстве», однако совершенство оказалось неполным. Чудовищные грамматические конструкции заставляли Мику болезненно морщиться изнутри и вспоминать фразу «Люди так не говорят». Этой фразой были исчерканы первые Микины сценарии, которые он наполнял красивыми – и совершенно непроизносимыми диалогами.
– Когда одно время выйдет, – продолжал швейцарец, – ремиссия имеет прекратиться.
– Как долго будет длиться… одно время? – Мика невольно перешел на вывернутую стилистику собеседника.
– Около двух лет… Или шесть.
«От двух до шести лет», – перевел для себя Мика, без особой, впрочем, уверенности в правильности своей догадки.
– А потом?
– А потом следует повторить возобновление лечёбы… – тут профессор почуял, что с лексикой что-то не так, пошевелил губами, но не поправился.
– Хорошо, – сказал Мика. – Где подписать?..
…К своему стыду Мика старался ужать свой диалог – такой важный для мамы! – до минимума. Его не отпускала бредовая мысль, что все решат не врачи, а он. Вернее, его герой-физик. Этот парень закопался в своих уравнениях и дилеммах, в «да-нет», «туда-обратно», а выход был. Выход куда-то в третью сторону. Мика ощущал это каким-то неизвестным медицине органом чувств в районе солнечного сплетения. Прибежав в номер, он перечитал несколько последних страниц, на которых герой вписывал в формулу то плюс, то минус (Мика с наивностью дилетанта решил, что достаточно в Самой Главной Мировой Формуле поменять знак – и время двинется вспять).
«Минус или плюс, – с горькой иронией сказал Леонид, – вот в чем вопрос…»
Фраза на свежий глаз показалась слишком пафосной. «Люди так не говорят». Мика выделил и удалил предложение.
Задумался.
Что-то там было.
Не по форме, по смыслу.
Он нажал «контрол-зед».
«Минус или плюс»…
Дихотомия.
А бывает третий вариант? Если ни минус и ни плюс не подходят… тогда…
Ноль!
Где-то
Ноль!
Леня смотрел на формулу и не верил своим глазам. Коэффициент перед «тэ» – не единица и не минус единица. Коэффициент равен нулю. Вырожденный случай.
Он нетвердо, не веря сам себе, вписал ноль в уравнение. Третий член сразу исчез. И четвертый. В пятом – неопределенность, которая легко убирается Лапиталем. Остается всего три члена. И не нужно никакое Фурье-преобразование… Все просто, а, значит, все правильно.
Он стирал длинные последовательности переменных и вписывал на их место короткие. Или вообще ничего не вписывал. Через минуту закончил. Выражение, которое недавно плотно оккупировало всю доску, теперь свелось к двум строкам.
Очень изящным. Не «Е равно Эм Цэ квадрат», но все-таки.
И в голове, сама собой возникла схема установки, которая позволяла бы смоделировать его бредовую модель.
Модель, в которой нет переменной «тэ».
Нет времени.
Тут
– Нет времени! – отвечал Мика на все попытки персонала отвлечь его от сочинительства.
Он был одержим. Следовало очень быстро и очень достоверно описать действия молодого физика Леонида. Интернет в качестве консультанта не помог – сугубый гуманитарий Мика немедленно запутался во всех этих циклотронах-позитронах. В конце концов плюнул и решил, что эксперимент проводится на коллайдре. Находиться в Женеве и не слышать о Большом Адронном Чуде XX века – этого не смог даже Мика, живший почти отшельником.
Он решил не утруждать себя полным описанием установки, о которой не имел зеленого понятия. Сделал упор на противодействии коллег, на детективной составляющей, на том, что установку Леониду пришлось настраивать подпольным образом, обманув охрану.
Где-то
Установку Леониду пришлось настраивать подпольным образом, обманув охрану. Это была авантюра, провал которой стоил бы ему научного будущего. Но это мало заботило его – ведь он собирался лишить будущего все человечество. Весь мир.
В перерывах сбегал к маме, которой становилось все лучше в целебном альпийском воздухе, и повторял, как мантру:
– Мама, мы будем жить долго и не умрем никогда!
Тут
– Мама, мы будем жить долго и не умрем никогда!
Мама, у которой ремиссия началась в строгом соответствии с расписанием врачей, улыбалась и погладила его по руке. Ладонь ее оказалась твердой и жесткой, как пемза.
– Все умирают. А мне теперь и не страшно. Я такую красоту посмотрела. Горы. Озеро. Небо.
– Теперь так будет всегда! Вот увидишь!
Мама смеялась, а Мика не мог найти доводов в пользу своей безумной уверенности. Он прости знал, что все получится. Он специально не дописал главу, в которой Леонид нажимает на кнопку «Пуск», останавливая мировой бег времени. Хотел последние строки отстучать в торжественной обстановке – словно золотой костыль вбить.
Хотя заранее знал, как это все произойдет. Абзац был уже напечатан в мозгу, оставалось лишь перенести его на экран нотика.
«Леонид протянул руку к кнопке «Пуск», улыбнулся и сказал:
– Вы уж извините…»
Где-то
– Вы уж извините…
Он успел увидеть, как настороженно нахмурились коллеги, как начальник службы безопасности среагировал спинным мозгом и бросился к нему.
Но было уже поздно.
Палец Леонид впился в кнопку «Стоп», как умирающий от жажды впивается в истекающий соком ананас.
Где-то тут
Леня и Мика сидели на парапете и пили прохладное чешское пиво из банок.
– Из бутылок оно вкуснее, – заявил Мика, который пил настоящее чешское впервые в жизни.
Леня покачал головой. Он однажды был в фирменном чешском ресторане и потому был бесконечно более опытным.
– Не-а. Только разливное нормальное, остальное – развод для приезжих.
Мика не стал спорить. Отхлебнул и улыбнулся.
– Ладно. Проверим. Сейчас у нас куча времени на все.
– С точки зрения науки, – вытер пену с губ Леня, – времени теперь нет вообще.
– Вообще – нет. А конкретно – бесконечная куча.
– Крайности тождественны.
Они хохотнули. Спора не получалось, потому что не было в мире людей, которые так хорошо понимали бы друг друга.
– Крайности тождественны, – кивнул Мика. – А мамы все одинаковы.
И они разом посмотрели на своих мам, которые в своих креслах на колесиках оживленно обсуждали всеобщую поломку часов и солнце, застрявшее на небосводе.
Мамы тут же почувствовали взгляды и озабоченно обернулись.






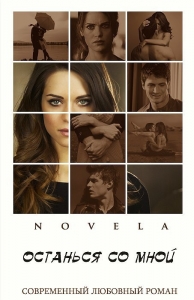



Комментарии к книге «Четыре рассказа», Андрей Валентинович Жвалевский
Всего 0 комментариев