Дарья Беляева Маленькие Смерти
Глава 1
Если однажды я в этой жизни добьюсь радио, а может быть и телевещания, то начинать передачу обязательно стану каждый раз одинаково, чтобы все узнавали меня по одной только фразе. Как насчет «Морские котики на грани вымирания из-за нас» или «Будьте благородны по отношению к китам и касаткам, ведь их на нашей планете осталось не так много». Не могу сказать, что рассчитываю на то, что люди мне внимут и построят свои отношения с касатками и морскими котиками на более гармоничной основе, но мое увещевание запомнится, и у зрителей в мозгах появится обо мне особый кластер, к примеру, «защитник водных млекопитающих по средам» или «этот морской зоофил в прайм-тайм».
Словом, я стану знаменитым. Если все-таки постараться унять мое неуемное тщеславие, то можно обнаружить, что немножко, самую капельку, я знаменит уже сейчас. По крайней мере, я уже могу начать писать краткое руководство под названием «Как дурачить людей в спорткомплексе, делая вид, что разговариваешь с их мертвыми» или, может быть, «Как заработать на чужом горе: распространенные ошибки в примитивных манипуляциях». Не знаю, как насчет оглушительной концовки в стиле «Шестого чувства» или «Других», но начало будет куда больше напоминать учебник, чем следовало бы. Будет так:
Пункт номер один, параграф номер один. Давайте будем честны друг с другом, родные и близкие: смерть это деятельность с высокой степенью неопределенности, как покер, например. Будучи вовлеченным в деятельность с высокой степенью неопределенности, человек становится более доверчив, лишенный, как говорят поэты, опоры, берега и причала.
Поэтому работает блеф. Грубо говоря, по тому же принципу работаю и я.
Пункт номер один, параграф номер два. Когда ты стоишь на сцене, вера твоим словам не определяется их логичностью или уместностью, как могло бы быть в личном разговоре. Вера, которую отдают тебе доверчивые, сочные, как американские гамбургеры, потерявшие своих близких, скорбящие сердцами своими, зрители определяется только твоей аттрактивностью. Неважно, кто потрясает своим видением мира: Иисус Христос Сын Божий, Спаситель, в вечном его сиянии или белый расист, размахивающий Библией. Если только вы хотите его достаточно сильно, он сможет начать свое благовещание.
Пункт номер один, параграф номер три. Дальше дело исключительно за техникой. «Кейт? Есть ли в зале кто-нибудь, кто знает Кейт?» Разумеется, в зале найдется не один человек, у которого умирала Кейт, Кэтти, Катарина или Кэтрин. Всегда найдется больше, чем один. Кто-нибудь всегда знает Кейт, Дэйви, Джейсона или Джоанну. Всегда-всегда, исключений нет. Никогда не надо выбирать людей, которые выкрикивают «я!», это слишком просто, в этом нет никакого шоу. Чуточку внимания, и можно увидеть тех, кто ничего не сказал, но у них — особые глаза. Страх, надежда, злость, удивление. Спектр эмоций, позволяющих мне работать довольно широк. И тогда я выбираю сам, указывая, например, на девушку с удивленными, грустными, прозрачными глазами. Предположим, у нее будут длиннющие ресницы, будто бы паучьи лапки. Предположим, у нее будет хипповая рубашка с легкими, широкими рукавами и желтый цветок, красующийся на щеке и напоминающий скорее о циррозе печени, чем о митингах у Пентагона. Но пусть она будет блондинкой и пусть у нее будут самые прекрасные в мире глаза, как небо в октябре. Так — в самый раз. Теперь нужно смотреть на нее и подмечать все, любой оттенок ее эмоций: страх, вину, радость, боль. Ее возраст, то, как она держит сумочку, есть ли рядом с ней знакомые. Все это поможет угадать, кто такая Кейт. Сестра, скончавшаяся в больнице от лейкемии, мать, схватившая сердечный приступ, стряпая яблочный пирог, жертва ее студенческого аборта после неловкого стояния на коленках во время студенческой вечеринки, лучшая подруга детства, попавшая под машину. Главное не забывать: Кейт может быть кем угодно, но девочка, смотрящая на меня из зала перед ней виновата. Люди, которые не чувствуют себя виноватыми перед своими мертвыми, ко мне не приходят.
Пункт номер один, параграф номер четыре. Все они ищут прощения, и я готов им его дать. Кэтти, например, отличное имя для девочки, которая так и не родилась. Мертвые не злопамятны, в этом я уверен точно. Кэтти прощает маму и говорит, что ей было совсем не больно.
Пункт номер один, параграф номер пять. Это все, в конце концов, незначительно. На самом деле люди верят всему, что сказано с британским акцентом.
В своих воображаемых записях, я всегда спотыкаюсь о пункт пять. Хорошая часть в том, что как раз на пункте пять в абсолютном большинстве случаев, я уже готовлюсь парковаться, в очередной раз чудом спасший живую изгородь от себя самого и своего гибельного Понтиака 1954 года выпуска по имени Франсуа. Не питаю ни малейшего чувства любви ни к Понтиакам, ни к французским именам, но первые слишком похожи на труповозки, чтобы я их игнорировал, а вторые актуальны в Новом Орлеане. Франсуа, впрочем, назван в честь Франсуа Дювалье, бессменного Гаитянского диктатора и электровозбудителя душ. Последнего я, как и любой мужчина, хотел бы добиться от своей машины. Плохая же часть в том, что я не успеваю дойти до безусловно важной информации о том, что несмотря на все пустые разговоры, которые я веду в переполненных спорткомплексах, я действительно медиум. Ну, или если быть бескомпромиссным и точным свидетелем моих поступков в этом недолговечном мире: медиум, который притворяется медиумом.
Грустная сторона нашей жизни заключается в том, что люди охотнее посмотрят на глупое шоу, где я пытаюсь угадать их мертвых, неловко блефуя, чем несколько часов к ряду будут любоваться на то, как я сладко сплю на сцене, действительно разговаривая с теми мертвыми, которых они принесли с собой.
Сон это скучно, в нем нет шоу, но сон это — маленькая смерть, через которую мы, скучные, настоящие медиумы, попадаем в мир настоящих, скучных мертвых.
Людям по природе своей вряд ли будет интересна правда, но конкретные ответы им все равно нужны. Неважно, настоящие они или нет.
С невеселыми мыслями об устройстве человеческого разума, я и оказываюсь дома. Мне двадцать два, но живу я с родителями: отцом, двумя дядями и тетей. Сложно было бы объяснить гипотетической девушке, которую я полюблю, что дело не в деньгах и не в жилплощади, а исключительно в семейных ценностях, которые я исповедую. Наша кухня, по крайней мере, пропагандирует семейные ценности в полной мере: бутылка виски на столе и три бутылки виски в холодильнике. Экзистенциальная, безграничная пустота простирается дальше спиртного, схороненного дядей Мильтоном на черный день. Я пытаюсь найти хоть что-нибудь, что продлит мое белковое существование, но безуспешно. В конце концов, я замечаю, что на полке внимают моим страданиями две пачки крекеров, и открываю их. Кухня, как думается мне, это сердце дома. Если так, то я и моя семья представляем собой типичных ирландцев, в сердце нашего дома исключительно алкоголь и крэкеры на случай, если откажет печень. На холодильнике красуется записка, сообщающая мне, что папа отбыл по своим срочным фармацевтическим делам во Франкфурт, оставив нас на попечение судьбе.
Мой отец, конечно, лучший человек в мире, по крайней мере для меня, потому что приятно считать половину своего генетического кода какой-то по-особенному качественной, тем более, что другая его половина остается для меня загадочной. Мама бросила меня и отца, по крайней мере, если верить легенде, когда мне не было и года. То ли отца так задел ее уход, то ли моя тетя или дяди решили не травмировать его лишний раз видом моей драгоценной мамочки, но ни одной ее фотографии в доме нет. Сложно сказать, что так задело папу, с финансовыми проблемами отца-одиночки, он, по крайней мере, точно не столкнулся, потому как является владельцем одной из самых больших транснациональных фармацевтических корпораций в мире.
Напрашивается вопрос: если мой отец один из самых богатых людей США, и уж точно самый богатый из имеющихся в мире ирландцев, то почему так одиноки крекеры на полке? Нет ответа.
Собираюсь сделать себе кофе, как единственную альтернативу здоровому завтраку, и увлекаюсь процессом так чрезмерно, что даже не замечаю, как на кухне оказывается дядя Итэн. Впрочем, есть ненулевая вероятность, что я не заметил бы его появления, даже если бы не был так чрезмерно увлечен кофе. У дяди Итэна есть одно чудесное свойство, связанное без сомнения с тем, что он самый младший в семье, а младшим, как известно, чтобы не подвергнуться обструкции, приходится не мешать старшим и вести себя очень тихо. Вторым, чуть менее полезным талантом дяди Итэна, является умение разбираться во многочисленных закорючках и палочках, оставленных после себя шумерами, аккадцами, ассирийцами и вавилонянами. Если бы дядя Итэн был хоть чуточку более самостоятельным, то решился бы покинуть семейное гнездо и отправиться работать куда-нибудь в Йель или Гарвард, но пока он преподает в Луизианском университете, пишет в равной степени гениальные и никому не интересные статьи, и, что самое главное, выглядит довольно счастливым.
Когда я поворочаюсь, и вижу дядю Итэна там, где, как мне казалось, еще секунду назад не было никого, я вздрагиваю, едва не проливая кофе.
— Дядя, тебе не двенадцать, ты уже можешь перестать красться, правда, — говорю я устало.
— Я просто не хотел тебе мешать, — отвечает Итэн, он поправляет круглые, смешные очки. Я вижу, что он сосредоточенно что-то записывает, но язык на котором он это делает с точностью определить не могу.
— Так случилось в этой жизни, что ты тоже живешь в этом доме, Итэн, и имеешь право пользоваться кухней, не стесняя себя в этом. Как насчет такой мысли, а?
Итэн издает какой-то неопределенный звук, находящийся ровно посередине между фырканьем и тяжелым вздохом.
— Тебе сделать кофе? — спрашиваю я.
— Да, было бы здорово с твоей стороны, — кивает Итэн. Итэну уже сорок лет, но иногда я чувствую, будто это я среди нас старший. Пока я завариваю вторую порцию кофе, Итэн продолжает что-то сосредоточенно писать, настолько сосредоточенно, что каким-то своим шестым чувством, не имеющим никакого отношения к одноименному фильму и миру мертвых, я понимаю: ему очень нужно что-то мне сказать. Как только я ставлю перед ним чашку, он подтягивает ее к себе и смотрит на меня самым кротким взглядом, на который только способен человек.
— У меня, — говорит Итэн. — Есть коллега. Чудесная пожилая леди.
— И что?
— Она умерла.
— Ага, это бывает с пожилыми леди, даже с самыми чудесными.
— Фрэнки, не паясничай, — отдергивает меня Итэн, но получается это как-то слишком тактично и ненавязчиво, так что никакого желания прекратить у меня не возникает.
— Так вот, — продолжает Итэн. — А еще у нее есть сестра, тоже чудесная, пожилая леди.
— И она тоже умерла?
— Нет, она вполне жива и продолжает преподавать. Они — близнецы.
— Только не говори, что ты встречался с одной из них, и теперь не можешь понять, какая умерла.
— Иногда ты очень мерзкий, Фрэнки. Даже отвратительный. Дело в том, что мисс Дюбуа, которая живая, подвергается нападкам миссис Дюбуа, которая мертвая.
Я молчу некоторое время, пытаясь справиться с очень противоречивыми чувствами. С одной стороны, Итэн единственный верит в то, чем я занимаюсь, с другой стороны желание по-настоящему помочь кому-нибудь в мире мертвых, может быть разрушительным не столько для карьеры, сколько для разума.
— Пусть приходит ко мне, когда я буду выступать, — говорю я медленно, надеясь, что можно будет обойтись этим.
— Мисс Дюбуа не нужно плацебо. Ей нужно помочь.
Итэн некоторое время молчит, а потом добавляет:
— Пожалуйста.
— Хорошо, что ты, по крайней мере, слезу не пустил, иначе я бы совсем перестал уважать тебя.
Итэн принимается водить ногтем по закорючкам, нарисованным им на бумаге, видимо, временно отступив. Отпив кофе, он чуть морщится и дело явно не во вкусе потребленного.
— Мисс Дюбуа, живая, очень несчастная женщина. Она потеряла единственного близкого человека, и ей очень страшно. Ты мог бы прийти к ней, просто прийти, и посмотреть, что там и как. Она могла бы тебе заплатить.
— Я не беру денег за то, что делаю по-настоящему.
— Какое сомнительное благородство, Фрэнки. Если бы твой отец не брал денег за те из его таблеток, что действительно помогают…
— То мы не потеряли бы и двух процентов прибыли.
Я и Итэн, мы оба, вдруг смеемся и — совершенно одинаково. Для приличия, я на некоторое время замираю с серьезным и сосредоточенным видом, а потом все-таки говорю:
— Да. Ладно. Я согласен. Но я еду к ней прямо сейчас. Я мошенничал всю ночь, отличное время для того чтобы поработать по-настоящему и поспать.
На самом деле, конечно, все было решено задолго до того, как я согласился. И я знаю, что Итэн это тоже знает, потому что выдернув из-под листочка с ассирийской, а может быть шумерской или даже аккадской, письменностью второй, на безусловно английском языке, он протягивает его мне. Там адрес мисс Дюбуа, коллеги моего дяди, которую не оставляет в покое призрак ее мертвой сестры.
Надо же, как чудесно начинается мой новый день.
Мисс Дюбуа, как оказалось, обладает недвижимостью во Французском Квартале. Меня, в таком случае, совершенно не удивляет смерть второй мисс Дюбуа — чье сердце выдержит потоки пьяных туристов под окнами каждую чертову ночь?
Французский квартал, отделенный от вполне современного Нового Орлеана почти бесконечной Канал-стрит, пестреет колониальной архитектурой, с ее резными балкончиками и длинными, имперскими колоннами. Почти в каждом доме Французского квартала, на окнах жалюзи, оставшиеся местным домам в наследство даже не от французской, а от испанской культуры. По всей улице разносится в равной степени душный и потрясающий запах пончиков и кофе, нарочито сладкий и возбуждающий аппетит. Во Французском Квартале, кажется, всегда жарче, чем в остальном городе. Может быть, всему виной высаженные вдоль улицы пальмы, слишком ассоциирующиеся с южным зноем, а может быть обилие туристов. Я, по крайней мере, изнываю от жары ровно с того момента, как вышел из машины. Вынужденный поддерживать имидж, я ношу похоронный костюм, безупречно-черный в любую погоду, а оттого в некоторые месяцы безудержно жаркий. Чувствуя, как разрушаются в моем организме от высокой температуры, белковые структуры, я продвигаюсь по улице с одной единственной мыслью о том, как сильно я ненавижу людные улицы, по которым не проехать на машине.
Мисс Дюбуа живет в самом конце квартала, так что я прохожу, по ощущениям, несколько кругов ада, прежде, чем передо мной предстает ее дом. Дом, надо сказать, не лишенный обаяния старого Нового Орлеана: железный, выкрашенный в черный заборчик, кирпичные арки над входом, подпирающие мансарду с невероятной красоты резной, металлической решеткой по всему периметру. Туристы бы отдали души, чтобы пожить в таком месте, но мисс Дюбуа явно была не из тех, кто меняет традиции на деньги.
Увидев сухонькую старушку, которая открыла мне дверь, я радостно, по инерции, улыбаюсь.
— Ты, наверное, молодой мистер Миллиган, — говорит она дребезжащим голоском с броским каджунским акцентом. На ней старомодное, бледно-голубое платье, напоминающее о знатных дамах начала двадцатого века из Старого Света, вовсе не о старушках, вынужденных жить в злачном месте. Она говорит, что ждала меня, и я мысленно посылаю пару зарядов бодрящей злости в сторону Итэна, который, зная, что я соглашусь, не только договорился заранее, но и указал время, к которому меня стоит ждать.
— Вы похожи на дядю, — продолжает она. Я чуть вскидываю брови, говорю:
— Как и все люди в очках.
Но ее совершенно не смущает моя реплика, она только улыбается, обнажая давным-давно искусственные, фарфорово-белые зубы. Странно, но сколько мисс Дюбуа лет, сказать сложно. Ей может быть в среднем от семидесяти и до миллиона, поэтому утверждать конкретную цифру я не решаюсь. Гостиная у мисс Дюбуа небольшая и больше похожа на антикварный магазин, чем на жилой дом. Ходики на стене отсчитывали время явно с тех пор, как Наполеон продал Луизиану Америке, а то и раньше. Столики такие хрупкие, будто бы их витые, металлические ножки стояли еще где-то в Европе. А фотографии на стенах, выцветшие от времени, давно уже приобрели желтовато-жутковатый оттенок. Мисс Дюбуа усаживает меня на диван, поколения клещей в котором, наверняка, превысили количество когда-либо живших и умиравших людей на земле. Сама мисс Дюбуа садится в кресло передо мной. Она живет бедно, и это видно. Но она живет утонченно, с каким-то аристократическим размахом нищенства среди увядающей, умирающей красоты. Она говорит:
— Даже не знаю, с чего начать, — я смотрю, как красиво покачиваются на ее черепашьей, сморщенной шейке бусины настоящего жемчуга, который она могла бы продать, но не продает. — Пожалуй, я начну с холодного чая. Вы выглядите так, будто бы перегрелись.
Она на некоторое время оставляет меня одного, уходит на кухню. Древние ходики показывают без пяти одиннадцать. Ночь без сна для меня ничего не значит, при желании я могу провести не сомкнув глаз даже двое суток, и все же тиканье часов почти заставляет меня задремать.
Мисс Дюбуа возвращается с подносом, на котором гордо возвышаются два высоких стакана, наполненных мятным чаем со льдом, и тарелка с пряным кокосовым печеньем. Она молчит, пока я не делаю глоток чая, и не благодарю ее, вполне искренне.
— Не за что, — приветливо отвечает она, но в ней остается и какая-то скрытая надменность, будто бы она не пожилая преподавательница университета, а аристократка с Мартиники. В темных, даже в старости, глазах мисс Дюбуа угадывается французская кровь, но снежно-белая кожа выдает в ней и англичанку. Мне вдруг становится правда интересно, кто она такая. И тогда мисс Дюбуа говорит:
— Меня зовут Эстелла Дюбуа. Я потеряла свою сестру, Шарлотту.
О, нет, эта часть одинаковая всегда. Такие бесконечно разные и очень похожие дома мертвецов, их скорбящие близкие — тут никогда ничего не меняется.
— Сколько времени прошло?
— Три месяца.
Я оглядываю ее светлое платье, говорю:
— Вы не носите траур.
— Траур носят по тем, кого потеряли. Я не считаю, что потеряла ее.
— Понимаю. От чего она умерла?
— Слабое сердце. Это случилось здесь, в доме.
— Она все еще беспокоит вас?
Мисс Дюбуа облизывает тонкие губы, будто бы «беспокоит» не совсем то слово, а какое — совсем то, она не знает. Наконец, мисс Дюбуа неторопливо отвечает:
— Она плачет по ночам. А вот что я нашла вчера под своей кроватью.
Она идет к древнему комоду красного дерева, открывает один из ящиков и берет из него фотографию, старую-старую. Возвращаясь, и протягивая ее мне, мисс Дюбуа говорит:
— Мне очень больно это видеть.
На фотографии, пожелтевшей почти до состояния охры, стоят две девочки лет двенадцати, и у них одинаковое все: одинаковые платья, одинаковые темные, тяжелые косы, одинаковые лица. Одна из девочек обведена красной ручкой, линия неестественно яркая на такой старой фотографии. С обратной стороны этой же красной ручкой, прерывистым, неровным, будто от боли почерком, написано «шлюха».
— Интересно, — говорю я без тени смущения. — Вы не думаете, что это может быть чья-то шутка?
— Я живу одна.
— Соседки-кошатницы?
— Не бывают в моей спальне.
Я рассматриваю почерк. Вообще-то, если дело правда в Шарлотте, то мисс Эстелла Дюбуа все это написала собственноручно, просто не помнит ни секунды. Между идентичными близнецами существует особый род связи, и если один умирает раньше другого, то граница между мертвым и живым остается настолько прозрачной, что мертвый близнец при сильном желании, может использовать тело живого для несложных манипуляций.
Шутка заключается в том, что близнецы не разлучаются даже после смерти, оставаясь единым целым. Мертвый не может уйти глубоко в мир мертвых, оставаясь на грани миров, а живой не может уйти далеко от этой грани, становясь чувствительным к потустороннему миру. Получается как бы так: две одинаковые девочки, а между ними тонкое стекло, которое ничем не пробьешь, и они прильнули к нему с обоих сторон, но коснуться друг друга не могут, как бы ни старались.
Я хочу сказать мисс Дюбуа, что мог бы загнать мертвую близняшку дальше, глубже в мир мертвых, но тогда появится ненулевая вероятность, что скоро мисс Дюбуа сама отправится за сестрой. Именно тогда мисс Дюбуа говорит мне:
— Вы не представляете, как тяжело слышать, что она так горько плачет. Я думаю: разве я перед ней в чем-то виновата? Мне только это нужно знать. Если я заслуживаю, я готова жить с этим, слушать этот плач. Мне нужно, чтобы вы с ней поговорили.
В голосе у мисс Дюбуа много-много боли, но глаза абсолютно сухие. Еще бы, ведь плакать недостойно. Только поговорить, значит.
— Мне нужно знать, за что она на меня злится. Я почти не могу спать из-за этого плача, а теперь еще и фотография. Пожалуйста, спросите ее. Вы могли бы?
Я откусываю пряное кокосовое печенье, некоторое время сосредоточенно наслаждаюсь его вкусом, а потом говорю:
— Я могу на пару часов занять комнату, где она жила?
— И умерла.
— Еще лучше. Так я могу?
— Разумеется. Вам что-нибудь понадобится?
— Только фотография, — отвечаю я. — И печенье. Правда очень вкусное. Спасибо.
Я, в конце концов, потомок голодающих ирландцев, во мне нет ничего аристократического.
Комната Шарлотты, просторная и светлая, до сих пор напоминает о временах, когда по улицам ездили не машины, а повозки, запряженные лошадьми. Кажется, выглянешь через ее окно, и увидишь пейзаж из немого кино. Солнце пробивается сквозь бледно-розовые занавески, падает на большое резное зеркало у туалетного столика. Простыни пахнут свежестью, а на тумбочке стоит полный стакан воды. Не скажешь, что Шарлотта Дюбуа оставила этот лучший из миров три месяца назад.
Я достаю из кармана кусок мела, черчу на деревянном полу знак бесконечности, а дальше от него, орнамент, напоминающий сведущим о вуду и папе Легбе. Я экспериментирую с обрядами разных народов и культур, чтобы найти свой, индивидуальный, удобный только мне стиль. Вокруг кровати разрастаются рисунки, а на полу у изголовья, я рисую дверь с замочной скважиной в виде сердца. Закончив, я откладываю мел, залезаю на кровать и достаю из кармана лезвие. Проколов себе палец, свешиваюсь вниз и оставляю кровяную точку ровно в центре сердца, скважины, замка.
Потом я долго и педантично счищаю краску с фотографии на месте лица Шарлотты, смазываю остатки крови на образовавшееся белое пятно, и ложусь на спину. Кровать такая мягкая, что мне кажется, будто я в ней тону. Закрыв глаза, я чувствую, как ветер пробивается сквозь распахнутые ставни, я слышу, как поют за окном птицы.
Я засыпаю.
Открыв глаза, я вижу перед собой ту же комнату, но солнечные лучи больше не пронзают бледно-розовые занавески, потому что больше нет никакого солнца. Темнота здесь такая абсолютная и страшная, что поглощает любой свет. В церкви такую темноту обычно называют смертной тенью, и видеть сквозь нее хоть что-нибудь могут только мертвые. Или медиумы, вроде меня, которые суть тоже — мертвые, по крайней мере были мертвыми хотя бы минуту. Один из секретов, которые безуспешно пытаются постигнуть разного рода ученые — сон. Сон, это маленькая смерть, а темнота, в которую мы проваливаемся, это и есть та самая смертная тень, к которой не приспособлены глаза живого человека. Сны, это только отголоски ночных путешествий в мир мертвых, которые совершает каждый из нас.
Медиумы видят сны почти каждый раз, как только засыпают. И в этих снах они видят не только обрывки и отголоски мира мертвых, они видят его целиком. Они приспособлены к жизни в мире мертвых, а потому могут контролировать в нем свое тело, хотя лучше сказать, конечно, свою душу.
Я поднимаюсь с кровати, и вижу, как то, что я нарисовал мелом, каждая линия, горит белым, ярким светом. Сон, это область сакрального, все, что есть священного, любой обряд, в который веришь, обретает здесь настоящую, реальную силу. Все под ногами горит белым светом, не разгоняющим тьму, но ярким и почти красивым в этой своей яркости, и только сердце, которое я отметил кровью, горит рубиново-алым. Мой аварийный выход в случае, если не хватит сил на обычное пересечение границы между мирами.
Половицы поскрипывают у меня под ногами, от недостатка света, невозможности видеть, будто бы днем, слух мой воспринимает каждый звук ярче. С фотографий двух одинаковых девочек, одинаковых женщин, одинаковых бабушек соскоблены все лица, и на каждой выведено пронзительно красным «Стелла и Лотти — лучшие друзья навсегда». Немного не согласуется с эпитетом «шлюха» для любимой сестрички, а может дело в том, что у меня просто нет сиблингов. Я выглядываю в окно, и вижу тот самый пейзаж начала века из немого кино, но будто бы не совсем готовый. Как если бы его создавали из воспоминаний человека, который уже мало что помнит. Повозки без кучеров, сепия повсюду, будто смотришь старую фотографию, темнота, скрывающая высокие шпили больше не существующих, а может быть и никогда не существовавших зданий.
Любой мертвый привязан к определенной части мира мертвых, будь то дом или школа, место работы или любимый бар. На кладбищах мертвых практически нет, они обосновываются в тех местах, которые много значили для них при жизни. И воссоздают их заново, используя воображение или память. Мир мертвых, это пластилин, темнота, из которой можно слепить что угодно, чтобы сделать свою жизнь в ней хоть чуточку более сносной.
Мертвые сами создают свой мир.
Довольно долго я хожу по комнатам, дом большой и пустой. Три месяца, это не совсем достаточно для того, чтобы его обжить. Первые пару лет, призрак пытается вспомнить, кем он был, что любил и ненавидел. Вот лет через пятьдесят, этот дом превратится в целый мир, за каждой дверью можно будет найти воспоминание, кошмар или мечту. Пока все здесь больше напоминает едва начатый переезд. Прохаживаясь по второму этажу, я все-таки слышу далекий, безутешный плач. Плачет совсем не бабуля, ничего скрипучего и хриплого в голосе нет. Так горько скулить умеют только маленькие дети. Я иду на звук, он становится все громче, пока не заслоняет собой все, так что я даже собственного дыхания не слышу.
Источник этого в высшей степени неприятного звука, я нахожу в ванной. Все зеркала там разбиты, а вода течет откуда-то из вентиляции, а вовсе не из крана. Вступив в образовавшуюся на полу лужу, я не чувствую ничего мокрого. У молодых призраков такое бывает: они не сразу вспоминают, как жжется огонь и ощущается вода. Первое время их мир бесцветен, безвкусен, он темный и бесформенный.
Ничего не напоминает? То-то же. И дух, так сказать, носится над водами. Девочка сидит в ванной, обхватив колени руками. Она совершенно сухая, хотя в воде по пояс.
Я смотрю на нее минуты с две, но девочка не замечает меня.
— Привет, дружок, — начинаю я. — Как ты здесь?
Девочка смотрит на меня, у нее бледные губы и синяки под глазами, но я ее все равно узнаю. Шарлотта Дюбуа, девочка с фотографии. Призраки совершенно не обязательно выглядят так, как выглядели, когда они умерли. Они выглядят так, как чувствуют себя, а оттого внешний их вид может меняться хоть каждый день. Молодые призраки чаще всего выглядят как дети, ведь они чувствуют себя маленькими в большом, незнакомом мире.
— Здравствуй, Лотти, — говорю я.
— Здравствуйте, — вежливо кивает она.
— Так как тебе здесь?
— Я умерла.
— Я знаю. Я тоже.
— Правда? — спрашивает Лотти настороженно, она чуть дергает головой, коса спадает с ее плеча, оказываясь за спиной. — Вы не похожи на мертвого.
Я протягиваю ей руку, ладонью вверх, детским и беззащитным жестом.
— Потрогай.
На ощупь я такой же, как все остальные мертвые здесь — холодный, будто металл или камень. Умерев один раз, остаешься мертвым, даже вернувшись с того света.
Лотти касается меня, самыми кончиками пальцев, как подобает с точки зрения приличий прикасаться к молодому человеку. Ну и что, что Лотти мне в бабушки годится, она-то этого не помнит.
— Я видела вас, вы пришли к Стелле, — говорит она, наконец. — Вы же живете на земле, какой же вы мертвый?
— Самый обычный. Знаешь, как говорят: убьешь меня один раз — позор тебе, убьешь меня второй раз — позор мне.
Лотти смотрит на меня секунды с две, а потом вдруг смеется, прикрывая рот рукой. Я сажусь на край ванной, опускаю руку в воду, и не чувствую воды.
— Твоя сестра скучает по тебе, дружок.
— Я знаю, — говорит Лотти после паузы. Губы у нее бледные, искусанные. — А ты знаешь, что это?
Лотти проводит рукой над водой, а потом добавляет, не дожидаясь моего ответа.
— Это слезы, которые она по мне проливает. Я в них тону. Мне и так одиноко без нее, а кроме того я постоянно чувствую, как невероятно больно ей без меня.
Я молчу, только слушаю очень внимательно. Лотти не похожа на воплощенного призрака. Чем больше боль, страх, сожаление или злость призрака, тем могущественнее он в реальном мире. Те призраки, с которыми мы сталкиваемся в реальности: полтергейсты или страдающие духи, очень редко бывают хорошими. Потому что силу они черпают именно в боли, в страстях, которые не могут победить. Они ищут суррогата жизни, чтобы избавиться от источника страданий, и вместо того, чтобы строить свой уголок в мире мертвых, в котором, признаться честно, можно жить вполне неплохо, они стараются попасть в наш мир. И чем сильнее их боль, тем скорее у них все получится. Лотти на такую не похожа. Ей грустно, но не больно. Она знает, что ее любили при жизни и будут любить после смерти. Лотти шмыгает носом, но почти тут же вскидывает подбородок, говорит:
— Я по ней скучаю, но она когда-нибудь ко мне вернется, — в голосе ее я слышу чуть вопросительные интонации, будто она не уверена или неловко лжет.
— Ей плохо от того, что ты плачешь по ночам, дружок, — говорю я осторожно. — И еще от этого.
Я протягиваю Лотти фотографию, она рассматривает ее, деланно-долго, будто не понимает, о чем я. Но я-то знаю, что понимает. А потом она вдруг берет меня за руку, рука у нее холодная, в ней нет совершенно ничего живого.
— Я не хотела этого делать! Мать заставила меня!
— Ну, спокойнее, дружок. Нам с тобой некуда спешить, не части.
Лотти замолкает, так резко, что зубы клацают, а потом снова заливается слезами. Я глажу ее по голове, зарываясь пальцами в тяжелые, темные волосы, стараясь ее успокоить.
Лотти облизывает губы, всхлипывает тоненько и как-то особенно жалобно, а потом говорит:
— Мама ненавидит Стеллу. Она всегда ненавидела Стеллу, потому что сестра опозорила нашу семью.
Надо же, мисс Дюбуа, какая у вас была бурная, наверное, молодость. А сейчас и не скажешь, вкушая ваши чудесные печенья, что вы были как-то разбитной молодой барышней.
Лотти продолжает:
— Мама хотела выгнать ее из дома, но я не дала. У Стеллы должен был быть ребенок, мать заставила ее совершить большой грех.
— Аборт?
Лотти смотрит на меня так, будто мужчина и слова-то этого не в праве произносить, а потом кивает.
— Мама уже очень давно сюда попала, лет двадцать, как. Но она ничего не забыла Стелле. Я плачу, потому что хочу ее предупредить. Пусть не рассчитывает быть рядом со мной, мама не пустит ее сюда.
Темные, как карамель, глаза Лотти снова блестят от слез, кажутся еще больше и печальнее. Наверное, в юности Шарлотта и Эстелла были красавицами.
— Мама и меня мучает, — говорит Лотти. — Из-за нее. Но я не злюсь, ведь она моя сестра. Только скажите ей, что мы больше не увидимся, что я потому плачу. И что я не хотела писать эту гадость, но мама может меня заставить. Скажите ей, что я ее очень люблю. Я не помню, сколько мне было, но я прожила долгую и счастливую жизнь, рядом с ней.
Она на чуть-чуть замолкает, а потом говорит:
— Ведь правда?
— Могу предположить, — говорю я. — Знаешь что, давай попробуем вам помочь? Как думаешь?
Не скажу, что сердце мое ликует от перспективы проводить сковывание призрака. Наоборот, сейчас я как никогда подвержен влиянию у-вэй, основного принципа даосизма. Не делай ничего, и не будет ничего не сделанного.
И все-таки, мисс Дюбуа, или даже обе, вызывают у меня смутную симпатию, а может быть дело в потрясающих кокосовых печеньях, потребление которых я хочу оправдать или я, как и любой ирландец, в сути своей достаточно детолюбив, и меня может подкупить любая девчушка, даже если ей около семидесяти.
— Где сейчас твоя мама?
Я забираю у Лотти фотографию, та выскальзывает из ее пальцев, почти лишенных воли, невероятно легко.
Лотти смотрит на меня темными, огромными глазами, а потом говорит шепотом:
— Везде.
И будто во второсортном фильме ужасов, я тут же, еще до того, как Лотти замолкает, отправляюсь в короткий и мучительный полет. Глупости все это, когда герой заявляет, что он сумел рассмотреть нападающего. По крайней мере, мой угол зрения сместился в потрясающее ничто, а может быть дело в том, что с меня слетели очки. Я ударяюсь о стену, и что-то во мне хрустит так жалобно, будто твердо вознамерилось со мной попрощаться. Как только мне удается сфокусировать взгляд, я вижу, хоть и довольно расплывчато, то, что когда-то было женщиной.
Многим призракам не удается, с годами, сохранять человеческий вид. Боль и злость деформируют их, а призрак, как известно, это то, как он себя ощущает. У того, что было когда-то женщиной, мамой Лотти и Стеллы, огромные, будто бы рыбьи зубы, и это единственная четкая деталь, все остальное расплывается, вовсе не по вине моей близорукости, в тени и дым, меняет свои очертания.
— Здравствуйте, миссис Дюбуа, — говорю я вежливо, пытаясь нашарить свои очки. Зубастая, дымная миссис Дюбуа смазанным, нереальным движением бросается ко мне, пытаясь применить свои зубы по назначению.
Что хорошо известно: умрешь здесь, умрешь везде. По возможности, избегайте этого. Я лезу в карман, достаю лезвие и полосую им, разумеется, себя. Против миссис Дюбуа лезвие не даст ничего, ведь у нее больше нет связи с собственной плотью. Оружие в мире мертвых ранит только медиумов, которые еще не утратили свое бренное тело.
Я успеваю выбросить пораненную руку вперед, рефлекторным движением закрывая шею, на которую нацелены зубищи миссис Дюбуа. И она вцепляется мне в руку, зубы ее входят внутрь, как входит в масло нож, но именно тогда — я улыбаюсь.
Боль пронзительная и яркая, как вспышка, бьющая по глазам. Так болят глаза от солнца в полдень или, может быть, от света фар, вылетающей на встречную фуры — ночью.
Боль в мире мертвых ярче, ощутимее, чем в реальности. И все-таки, все-таки, я уже победил, а от этого даже резь в руке становится терпимее. Я слышу, с необъяснимой ясностью, как визжит Лотти, но смотрю только на ее мамочку. Миссис Дюбуа из дымчатой, неясной, вдруг обретает ясные, женские очертания. Она отшатывается от меня, одновременно с этим почти принимая человеческий вид. Теперь я вижу, что она просто немолодая женщина, в черном, траурном платье. Мучительные морщинки, залегшие у нее вокруг рта, свидетельствуют, наверное, о дурном характере, но у нее, как и у ее дочерей, прекрасные карие глаза.
Когда она открывает рот, у нее больше нет зубов, и из уголка губ струится ленточка чистой темноты. Моя кровь. Здесь, в мире мертвых, кровь у меня черная, нечеловеческая. Вообще-то так быть не должно, но мне это здорово помогает. Потому что все в мире мертвых, куда попадает моя кровь, трескается и исчезает.
Моя кровь — растворитель для призраков.
— Значит так, — говорю я, поднимаясь. — Миссис Дюбуа, у вас есть около десяти минут.
Струйка темноты стекает дальше, и там, где она прошла, не остается ничего. Тонкая, длинная линия пустоты от уголка губ — к подбородку. Я стряхиваю темноту с руки на пол, и куски кафеля, на который попали капли, исчезают, не оставляя ничего, кроме тьмы. Меня уже прилично шатает, и я не хочу говорить, что если у нее есть около десяти минут, то у меня — около пяти.
Умрешь здесь, умрешь везде. Кровопотеря в мире мертвых куда ощутимее, ведь вместе с кровью, я теряю то, что связывает меня с миром живых. Наверное, не стоило себя резать, если мисс Дюбуа все равно в меня вцепилась? Тактика никогда не была моей сильной стороной. А чуть менее претенциозное выражение гласит — поступил, как идиот.
— Давайте выберем: пожить пару столетий в этой, — я сжимаю здоровой рукой фотографию. — Чудесной, оскорбительной карточке или, может быть, исчезнуть навсегда. Стать ничем.
В животе у миссис Дюбуа уже начинает разбухать дыра, сквозь которую видно малышку Лотти, обхватившую руками колени в ванной. Фрейд бы расплакался, надо думать.
Основное мое преимущество, как медиума — призраки не могут меня сожрать. С остальными представителями моей сложной профессии, они проделывают данный трюк с завидной регулярностью.
Медленно-медленно, моя кровь разъедает самую суть сварливой, призрачной леди, а я говорю:
— Процедура очень быстрая. Она избавит ваших дочерей от вашего присутствия, пока они не захотят с вами поговорить. Но вы будете продолжать существовать. Чуть менее комфортно, но будете. Так как коммуникация с вами в данной ситуации довольно затруднительна, если вы согласны, просто укажите на фотографию и сосредоточьтесь на ней хорошенько. Представьте во всех подробностях, а я сделаю все остальное.
Когда миссис Дюбуа протягивает руку к фотографии, пальцы ее уже исчезают, медленно, и я могу видеть, как под кожей струится, разрушая ее, моя темнота.
Сковать призрака самая простая задача, ничего проще нет вообще. Разве что, дурить людям головы во второсортных спорткомплексах, которые снимаешь за пятьдесят долларов на целый вечер. В тот момент, когда миссис Дюбуа выбирает, я сжимаю фотографию в руке. Нужно только пожелать, сильно-сильно, чтобы призрак оказался внутри, и он окажется. При одном единственном условии — призрак выбирает заточение добровольно. Против воли ни одного призрака никуда не заточишь. Разумеется, есть методы, чтобы обойти и этот запрет: ритуалы, артефакты и специалисты, способные пленить духа, не спрашивая его мнения. Но я, к сожалению и счастью одновременно, таковым не являюсь. Зато я знаю, что сейчас миссис Дюбуа желает оказаться скованной в фотографии, как никогда сильно. Исчезнуть — худшее наказание для большинства призраков, потому что смириться со смертью после смерти им куда сложнее, чем нам смириться со смертью после жизни.
Тяжело отказываться от того, чтобы быть, безо всякой надежды на продолжение. Миссис Дюбуа, судя по всему, действительно согласна, потому что она снова становится дымчатой и неясной, погружаясь в контуры фотографии, будто бы растворяясь в них. Всего несколько секунд, и рядом с девочками близняшками, стоит строгая женщина в черном платье. Вполне человеческого вида. Что ж, у нее будет время подумать над своим поведением. Может быть, довольно долгое.
Когда я протягиваю Лотти фотографию, она спрашивает:
— Что с ней теперь будет?
— Я оставил на фотографии каплю своей человеческой крови, из реального мира. Ей этого будет вполне достаточно, чтобы восстановиться после попытки меня сожрать. Так что, храни фотографию, а после смерти сестры, когда вы встретитесь, решите, хотите ли вы поговорить с мамой еще раз. Когда захотите ее выпустить, просто порви фото. Но лучше, конечно, через пару столетий после вашей смерти, когда наберетесь опыта общения со старыми призраками.
— Спасибо, мистер…
— Фрэнки, меня зовут Фрэнки.
Интересно, это звучит, как флирт? Наверное, не стоит говорить ничего, что звучит, как флирт ни двенадцатилетним, ни семидесятилетним.
— Удачного посмертия, Лотти, — говорю я. — С твоей мамой все будет в порядке. А отсутствие пары кусков кафеля в твоем новом доме, ты как-нибудь переживешь. Ну я пойду, дружок?
— Пока, — говорит Лотти, и вдруг улыбается, меня даже жуть берет от того, как красиво это выходит у мертвой старушки, которая считает себя маленькой девочкой.
В спальню, откуда я попал сюда, я возвращаюсь, прижимая раненную руку к себе. Меня трясет, я едва не падаю. Каждая капля крови, это маленький шажок к смерти, и я уже совершил, по ощущениям, целую небольшую прогулку.
Как только я подхожу к своей нарисованной двери в реальный мир, готовый постучать, чтобы мне открыли, то слышу странный, слабый треск. Такие звуки производят иногда копошащиеся насекомые.
А потом я слышу слова. Вовсе не голос, я слышу только слова, потому что кто бы со мной ни говорил, голоса у него нет, а может даже никогда и не было.
— Ты знал, что у Господа есть песик, Франциск? Смотри, чтобы он тебя не укусил.
Мне не хватает смелости посмотреть вверх, туда откуда доносится звук. Отчего-то не хватает, а ведь я не самый трусливый человек на свете.
Просыпаюсь я вовсе не от ощущения полета, как обычно, просыпаюсь я от того, что чувствую, будто меня окатывает чем-то теплым. В глаза мне бьет свет заходящего солнца, проникающий сквозь кажущиеся красными теперь шторы.
Из носа у меня хлещет такая же мучительно-красная кровь, и ее много, как никогда.
Через полчаса, из дома отпаивающей меня на этот раз горячим чаем, мисс Дюбуа, меня забирает дядя Мильтон. Я все-таки впихиваю упорно отказывающейся мисс Дюбуа деньги на химчистку.
Вот так, я не только не заработал ни пенни, но еще и вынужден был, с точки зрения собственных принципов, оплатить старой леди химчистку для заляпанного моей кровью постельного белья.
На прощание мисс Дюбуа спрашивает, всегда ли так происходит.
— Да, — говорю я. — Надо было мне на газетке поспать.
Конечно, я вру. То, что произошло во-первых необычно, неестественно и заставляет меня поволноваться за свое состояние, а во-вторых вряд ли как-то связано с историей мисс Дюбуа.
Так что я просто вручаю ей фотографию, в которой теперь заточен дух ее матери, и наказываю хранить ее до смерти и дальше. Дядя Мильтон уже дежурит под дверью, готовый помочь мне дойти. Машина меня уже ждет, американская и ярко начищенная, совершенно безвкусно красного цвета с совершенной, в то же время, красоты белой отделкой, явно дорогая, но при этом какая-то по-подростковому вульгарная.
Мой дядя Мильтон, первенец в семье, старший и бесполезный родственник, надо сказать, особенной заботой о чем-то, кроме своей машины, не отличается. В Ираке его контузило два раза, отчего он там почти женился. С тех пор, испугавшись до смерти такой перспективы, как семейная жизнь с женщиной в ковре, дядя Мильтон пьет не просыхая, а алкоголизм свой пудрит периодически кокаином.
— Доброе утро, Фрэнки! — говорит дядя Мильтон, и его красивое, нахальное лицо озаряет красивая, нахальная улыбка. — Колумбийский насморк — важное событие в жизни каждого мужчины, я тебя поздравляю.
— Спасибо, Мильтон, — говорю я слабо. Оказавшись в машине, я тут же укладываюсь на заднем сиденье, со всем комфортом, который может предложить скользкий кожаный салон.
Вообще-то в зеленых, ярких глазах у дяди Мильтона отражается искреннее волнение, и оттого я ему сразу все прощаю. Мильтон почесывает свою рыжеватую щетину, подыскивая нужные слова, но я освобождаю его от этой необходимости, выдавив из себя:
— Домой, шеф.
— Будет сделано, сэр. Шампанского предлагать не буду, хотя я взял с собой бутылку.
— Ты что пьяный? — вздыхаю я, и единственное, что утешает меня в момент, когда Мильтон в равной степени быстро и неаккуратно выезжает на дорогу, так это совершенно точное знание о том, что жизнь после смерти есть.
— Ага. Вообще-то я сегодня пытался работать. Вел группу смертельно больных в хосписе, но это оказалось так смешно, кроме того, я уже надрался. Потом мне позвонил Итэн, которому позвонила бабулька, и я сбежал спасать тебя. Как думаешь, меня уволили?
— Разумеется.
— Зачем твой отец заставляет нас работать? Мы же невероятно богаты!
— Чтобы мы ценили деньги, — говорю я без особенной уверенности. — Или чтобы ты не спился.
Мой дядя Мильтон — психотерапевт, просто очень плохой.
— Все это из-за тебя, Фрэнки. Меня всегда увольняют, потому что я слишком люблю свою семью.
— Особенно, когда тебя лишили лицензии за роман с пятнадцатилетней.
— Но я тогда тоже был моложе.
— На два года.
Я смеюсь, и он смеется, у меня выходит менее обаятельно и менее живо — тоже. А потом дядя Мильтон тут же спрашивает, быстро и взволнованно:
— Так что с тобой случилось?
— Путешествие прошло не так.
— Ты ведь не закидывался ничем у бабульки дома? Не то, чтобы я не одобрял, но…
— Нет. Я слышал существо, которое назвало меня Франциском, а потом очнулся, едва не захлебнувшись собственной кровью.
— Существо, которое назвало тебя Франциском? Наверное, это твой отец.
Я некоторое время лежу молча, потом говорю:
— Шутка смешная, но я тебя все равно ненавижу.
— Ты меня обожаешь, как все.
— Все тебя ненавидят.
— Шутка смешная, но я тебя все равно люблю.
Мильтон смеется, этим своим потрясающим смехом, которым всегда ужасно хотелось смеяться мне самому. Очки на мне, но деревья, проносящиеся за окнами машины, все равно вдруг превращаются в какое-то зелено-черное месиво.
Надо же, думаю я, опять меня вырубает.
И меня вырубает.
Глава 2
Но какую был свинцовую слабость я ни чувствовал днем, вечером я стою на сцене, сжимая микрофон, и вопрошаю, знал ли кто-нибудь человека по имени Анри.
Тоже уловка, иногда стоит употреблять имена чуть более редкие. Но не настолько редкие, конечно, чтобы не встретиться среди креолов или каджунов, которых в зале вполне достаточно.
Две девушки, чернокожая, с многочисленными косичками и мулатка, цветом как хороший кофе, поднимают руки, но я их игнорирую. Вовсе не потому, что я расист, просто мое правило гласит не выбирать тех, кто просит об этом вслух, это создает видимость объективности.
Сегодня, впрочем, объективность для меня чуть менее актуальна. Вид мой и безо всяких психологических уловок настолько загробный, что дальше просто некуда: бледный и изможденный даже по меркам бледного и изможденного меня.
Но привычка, вторая натура, поэтому я не иду по легкому пути, и выискиваю глазами тех, кто ничего не говорит об Анри, но знает Анри. Тогда-то я и замечаю его.
Он стоит совсем-совсем рядом, в первом ряду. Его видно так хорошо, что при желании я мог бы пересчитать все веснушки у него на носу. Я тогда думаю, странно, что я не заметил его раньше. По крайней мере, надо думать, у меня что-то не так с цветовосприятием, если он не бросился мне в глаза сразу. На нем лазоревая рубашка и мятный кардиган, и фиолетовая бабочка. Все такое яркое, что напоминает об экзотических птицах. В толпе он выглядит, как какая-нибудь райская птица, среди скучных городских ворон.
Он одет стильно, как в журнале, вот. Так одеваются для фотосессии в какой-нибудь модный глянец где-нибудь в Нью-Йорке, а не для того, чтобы послушать экстрасенса с глубокого Юга.
Но самым удивительным оказывается вовсе не чувство стиля и даже не то, какое невероятно, киношно-красивое у него лицо. Самое удивительное, что он улыбается. Я ни разу не видел здесь никого, кто улыбался бы, да еще так ярко. Зубы у него белые, блестящие, идеальные, что придает улыбке бриллиантовый вид. Как в кино.
Засмотревшись на него, я едва успеваю выбрать одного из мужчин, который вздрогнул, когда я произносил имя Анри. Брат или отец? Но сейчас меня совсем не занимает, кто такой Анри.
Если человек вздрагивает так сильно, то потеря недавняя. Мужчине лет сорок на вид, значит, возможно, отец. Или старший брат? Всегда есть случайности, вроде мертвых сыновей или лучших друзей, но я ставлю на статистическую вероятность. Продолжительность жизни мужчин в Америке около семидесяти шести лет. Могло бы быть и больше, если бы не потребление трансжиров и канцерогенов. Отец или брат?
— Анри говорит, что рад увидеть вас еще разок. Как тогда, на выпускном.
Отец или брат, не так важно. Выпускных в жизни человека среднего класса как минимум два, и уж на каком-то его родные точно найдут время поприсутствовать. А если не найдут, то никто не придет искать таких безразличных родных ко мне.
Я работаю, причем славно, за что отдельно стоит себя после тяжелого дня похвалить, но из головы у меня не идет тот парень из первого ряда. Мы явно ровесники, и он кажется мне смутно знакомым. Парень продолжает улыбаться, как будто бы конкретно мне.
А потом я замечаю вот что: он поднимает руку на каждом, абсолютно на каждом имени, которое я называю. Не пропускает ни одного, и улыбается так искренне и красиво. Может быть, это он так шутит. А может быть, только может быть, он знает столько мертвецов.
В конце я говорю напутственную речь, дурацкую, сопливую, всю о том, что смерть, это не конец, что мы всегда вместе с теми, кого любим и они не оставят нас.
Он смотрит на меня очень внимательно, а я смотрю только на него. Замечаю вдруг, что у нас чуточку, самую малость, похожие глаза. Нет, не по цвету, у нас, у всей моей семьи, зеленые глаза, а у него синие, как море. Признаться честно, я таких синих глаз еще ни разу не видел.
Он не отводит взгляда, и я не отвожу.
Я говорю:
— Берегите себя, родные и близкие.
В этот момент, ровно в этот момент, он подмигивает мне своим оглушительно-синим глазом, а потом высовывает свернутый в трубочку кончик языка.
И — достает пистолет. Движение у него такое быстрое, профессионально-быстрое, как у полицейских или солдат. Надо же, думаю, как я умру. Стану легендой, как Элвис от парапсихологии.
И все темнеет, оказывается пустым и незначительным. Теперь из зала на меня смотрят не живые, а мертвые. Многочисленные Анри и Кэтти, которых я звал сегодня. У них внимательные, но пустые глаза.
Я уже готовлюсь объявить им, что присоединился к ним, как мое плечо пронзает резкая, как ожог боль. И до меня доходит: выстрела не было, все потемнело за секунду до него, я оказался в мире мертвых до того, как в меня выстрелили. А выстрелили в меня сейчас.
С потолка я слышу тот же самый треск и шелест, и до меня доходит еще одно. Так маленькие лапки насекомых трутся друг о друга у чего-то внутри. Так звучат термиты, снующие в деревяшках.
Еще успеваю подумать о том, что в первый раз вошел в мир мертвых на сцене, где всем врал о том, что разговариваю с их усопшими.
И совсем не успеваю подумать о том, какой сегодня неудачный день.
Через некоторое время, я прихожу в себя. Для начала — в мире мертвых. Стрелявший в меня парень сидит передо мной на стуле, между нами стол. Во всей сцене есть нечто от гангстерских фильмов, которые я очень люблю, но вокруг слишком темно, чтобы стеклянный глаз камеры, мог зафиксировать эту композиционно идеальную сцену.
Синие глаза стрелявшего в меня парня в этой темноте кажутся еще ярче, он жует жвачку, и от него пахнет чем-то химически-фруктовым. Он говорит без тени смущения, хотя вижу, по блестящим его глазам вижу, он ни разу не был здесь раньше. Он говорит:
— Привет, Франческо.
Я говорю:
— Привет, Доминго.
Мы оба смеемся, будто бы вспомнили старую общую шутку. Он спрашивает почти с восторгом:
— Ты тоже смотрел этот мультик?
— В далеком детстве, случайно попав на мексиканский канал. Как он там назывался?
— «Путешествие святого Доминика», — он вертит в руке карандаш, так расслабленно, будто просто разминает пальцы. Наверное, этот карандаш он держал в реальности, прежде, чем сюда попасть. У парня невероятный, почти пародийно-яркий ирландский акцент, такой, что понимать его даже сложно.
— Ты смешно говоришь, — фыркаю я. Он некоторое время смотрит на меня, улыбаясь глянцево и блестяще, а потом выдает:
— Ты тоже.
Только тогда я замечаю, как сильно и по-южному растягиваю слова. Обычно на работе, я симулирую британский акцент, у меня получается почти идеально — три года обучения в закрытой английской школе не прошли даром хотя бы в этом отношении. Людям нравится британский акцент, любая чушь, сказанная тоном диктора BBC выглядит убедительнее.
Стоит мне расслабиться, впрочем, или наоборот, излишне разволноваться, и я начинаю говорить, как человек, родившийся и выросший на американском Юге. Я говорю с этим тягуче-карамельным акцентом:
— Ты сейчас в тюрьме?
Он улыбается еще шире, хотя казалось бы, это уже невозможно, и тянет, будто передразнивая меня:
— Не-е-ет.
— Как? Ты ведь выстрелил в меня перед сотней свидетелей?
Он продолжает жевать жвачку, рассматривая меня, затем выдувает ядерно-розовый пузырь и протыкает его ногтем, звук получается неестественно-громкий: щелк!
— Бум, — говорит он. — Вот так.
И, почти не выдерживая паузу, продолжает:
— Моя очередь. Ты вытащил меня сюда?
— Да, — говорю я. — Есть кое-что, что я могу в любом состоянии.
— Это хорошо. Значит, ты сильный. А то я зря тебя убью.
Он вдруг поддается вперед со спортивной, почти животной быстротой, втыкает карандаш, пробивая ткань моего пиджака, совсем рядом с моим запястьем, но я даже не вздрагиваю. Здесь, в моем мире, меня сложно застать врасплох.
Он чуть хмурится, как ребенок, у которого отобрали вечер перед телевизором с газировкой и чипсами в пользу мучительно-скучного похода к родительским друзьям, а потом дергает карандаш к себе, ткань у меня на рукаве натягивается, и я невольно подаюсь к нему, так что теперь химический запах его жвачки становится близким и душным.
— Ты здесь, наверное, просто не бывал, дружок, — говорю я, щелкаю пальцами и оказываюсь у него за спиной, мгновенно прижимая карандаш к бьющейся на шее жилке.
Если долго учиться и быть достаточно мертвым, то загробном мире можно пользоваться некоторыми приемами из арсенала призраков. Мертвые сами создают свой мир, могут менять себя, его и, разумеется, положение себя в нем. Мертвые — боги в своем доме. Достаточно хотеть чего-то настолько сильно, чтобы получить. Я не умею и половины того, что могут призраки, но перемещение в пространстве вещь довольно конкретная и простая, не требующая сложных мысленных конструкций.
Я чувствую, как под карандашом бьется его пульс и, к чести этого пульса, не так уж он взволнован. Я чувствую, хотя и не вижу, как он улыбается.
— Мать смотрит за тобой, — говорит он легко, будто мы обсуждаем понравившийся нам обоим фильм. — Нечестивцы и кровосмесители да будут прокляты. Ну или как-то так. Мама говорит, что я могу искупить наши грехи.
— Наши?
— А какая твоя любимая еда?
— Ты издеваешься? — я сильнее вдавливаю карандаш, так что кончик его пробивает кожу, выпуская наружу каплю крови. Темной крови, как моя собственная. Темноты. Кончик карандаша исчезает в этой темноте, чтобы никогда и нигде не появиться снова, исчезает, как исчезала миссис Дюбуа, например. А он смеется, смехом совершенно лишенным безумия, по-мальчишечьи обаятельным.
В этот момент, я чувствую, как сильно болит у меня плечо, и не могу больше удерживать в мире мертвых ни его, ни даже себя самого.
Первое, что я вижу, когда открываю глаза — смазанное пятно на том месте, где в моем комнате должна быть люстра. Близорукие люди, в общем и целом, существа довольно беззащитные, они даже в своей комнате ориентируются в отсутствии очков исключительно благодаря сочетанию памяти и интуиции.
Я чуть приподнимаюсь, пытаясь нашарить на тумбочке очки, и боль вдруг вгрызается в плечо с упорством маленькой, но очень злой собачки. Я издаю некий сложноопределимый звук между стоном и шипением.
— Ты уже проснулся, милый? — голос у тети Мэнди взволнованный, а вот выражение ее лица, будучи близоруким, я прокомментировать не решусь.
— Проснулся, и это не самое лучшее, что со мной случалось в этой жизни.
Мне удается найти и надеть очки, мир снова обретает ясность. Тетя Мэнди, к тому времени, уже садится на край кровати. Ее зеленые, по-кошачьи злые глаза совершенно спокойны, в них никакого волнения. Она наклоняется надо мной и целует в висок, оставляя, наверняка, пятно от алой помады.
Я люблю Мэнди, вот прямо за все ее люблю, но у нее имеется недостаток. Ровно один, но масштабный. Я никогда не мог оставить с ней друзей фертильного возраста так, чтобы не переживать за их преждевременное растление.
Мэнди выглядит как самая роковая из всех виденных мной роковых женщин, но впечатление действительно ровно до того момента, пока она не скажет, как сейчас к примеру:
— В следующий раз, если очередная пуля промажет и не попадет тебе в башку, ее тебе отрежу я. Понял меня?
— Да, Мэнди.
— И поверь мне, вместо мгновенной и милосердной смерти, тебя ждет агония, такая долгая, что даже твой средний половой акт покажется тебе вечностью по сравнению с этим.
— Эй! В меня стреляли, а ты мало того, что не хочешь меня пожалеть, так еще и сомневаешься в моей потенции? Серьезно? Какая ты после этого тетя?
Мэнди чуть вскидывает бровь, смеряя меня самым своим холодным взглядом, а потом ставит прямо на меня горяченную тарелку.
— Я тебе супчика принесла, — говорит она мстительно. — Куриного.
— Спасибо, Мэнди, — говорю я с искренней благодарностью, хотя в основном благодарность относится к тому, что она не вылила суп на меня. Мэнди, папина сестра-близнец, но человека более непохожего на папу я не видел никогда. Мэнди злая, резкая на язык и невероятно взрывная. По профессии она журналист, но ни одно издание не в состоянии было выдержать ее характер дольше месяца. Примерно поэтому папа купил ей собственную газету, которую она назвала «Господь ненавидит воскресенья», и выпускает по воскресеньям. В этой газете она поливает грязью всех и вся, начиная от политиков, ученых и религиозных деятелей и заканчивая коричными рулетами из кондитерской Du Monde, испытывая на прочность свободу слова в этой стране. Людям творчество Мэнди и ее не менее злобной редакторской команды нравится вполне, а вот папа уже, кажется, устал оплачивать судебные иски, поступающие со стороны героя практически каждой статьи.
Может создаться впечатление, будто Мэнди — сатана во плоти. У некоторых, в частности у ее младшего брата Итэна, это впечатление создается до сих пор. На самом деле человека более преданного и надежного я не знаю тоже.
Мэнди кладет руку мне на лоб, гладит, хотя прикосновение и получается довольно жестким.
— С тобой кое-кто хочет поговорить, ты готов? — Мэнди морщит острый, длинный носик. — Она уже прокурила всю гостиную. Я-то не против, более того с радостью к ней присоединилась, но Итэн умрет от приступа астмы, если концентрация никотина еще чуть-чуть повысится.
— Запускай ее, — говорю я, махнув здоровой рукой. — Я готов к интервью больше, чем Итэн к смерти.
Я прекрасно знаю, кто пришел. Человек, способный прокурить нашу огромную гостиную самостоятельно, в Новом Орлеане, кажется, только один. Моя двоюродная сестра Ивви. Ивви Денлон — внебрачная дочь Мильтона, которую он зачал, кажется, на первом курсе университета и благополучно забыл об этом до тех пор, пока ей не исполнилось двадцать пять, и она не нашла его самостоятельно.
Ивви Денлон работает в полиции.
Сейчас Ивви стоит в дверях, волосы у нее забраны в высокий, давно не мытый хвост, зато стрелки на брюках такие ровные, что по ним можно чертежи строить. Ей досталась вся красота Мильтона, но Ивви куда больше занимают трупы, документы на трупы и авторы трупов, чем собственная внешность. Кроме того, сложно работать в полиции, если выглядишь слишком очаровательно, потому что, в конце концов, тебе обязательно скажут: «этот очаровательный вздернутый носик суется не туда, где ему место». Вообще-то довольно обидно, и я понимаю, почему Ивви в два раза жестче, чем любой из ее коллег с Y-хромосомой.
— Ты можешь заходить, у меня здесь куриный суп, а не контейнер с филовирусами, — говорю я.
Она тоже садится на край кровати, совсем как Мэнди недавно, на колени себе она кладет папку с какими-то бумагами.
— Здравствуй, Франциск, — говорит она, голос у нее хрипловатый, грудной. Я, честно говоря, в Ивви немножко влюблен, вот уже целых два года, с тех пор, как увидел ее в первый раз.
— Не называй меня так, ради Бога. Надо уже сменить чертово имя. Фрэнки, меня зовут Фрэнки.
— В ваших документах, каждом из них, мистер Миллиган, написано, что вы Франциск.
— Это ошибка.
Она фыркает, звук можно было бы даже принять за смех, если не знать Ивви. Она постукивает пальцами по папке, и я говорю:
— Кури, я ведь не умираю.
— Это уж точно.
— И мне дай покурить.
Ивви закуривает сама, потом вставляет сигарету мне в зубы, мы некоторое время молчим. Я стараюсь не шевелить больной рукой. Скосив глаза, обнаруживаю, что повязка чистая и белая, никакой крови. Наверное, не так уж все серьезно.
— Пуля прошла по касательной, едва задела плечо. Врачи больше волновались насчет твоей нарколепсии, чем по поводу раны. Это чудо, потому что если бы ты не грохнулся в обморок за секунду до этого, тебе разнесло бы башку. Поверь, тот, кто в тебя стрелял, умеет это делать и делает это хорошо.
— Но это не обморок и не нарколепсия…
— Слышать ничего не хочу о твоих галлюцинациях, — говорит она, так что желание рассказывать ей что-либо пропадает сразу. Интересно, как она до детектива дослужилась с таким подходом?
Ивви затягивается, потом снова начинает постукивать пальцами по папке. Дело, наверное, все-таки не в никотиновом бешенстве. Что-то волнует ее и волнует по-настоящему. Ивви не то чтобы очень нежно относится к нашей семье, обычно обходится Рождественскими обедами и совместными днями Благодарения, но все-таки мы для нее что-то значим. Стало быть, она за меня волнуется.
Я спрашиваю, очень осторожно:
— Ивви, а взрыв там был?
Она смотрит на меня долгим, каким-то потемневшим взглядом, а потом кивает.
— Рвануло две машины на стоянке. В суматохе твой стрелок и сбежал. Все было очень хорошо подстроено, сразу после выстрела случились взрывы. Никто не погиб и даже не пострадал.
— Хорошо, — говорю я. — Тебя интересует его описание? Он синеглазый, у него веснушки, довольно бледный, на нем была синяя рубашка и зеленый, мятный, кардиган, и бабочка еще — фиолетовая.
— Ты так подробно описываешь, будто на свидание его собирался пригласить.
Я пытаюсь отмахнуться от нее привычным жестом, но боль в плече резко меняет мои планы.
— Еще, — говорю я. — У него сильный ирландский акцент, и он очень плохо цитирует Второзаконие.
— Ты с ним и поговорить успел? — спрашивает она.
— Да, — отвечаю я, но Ивви тут же добавляет к своему предыдущему вопросу еще один — сокрушительный.
— В реальности или нет?
— В реальности.
— Хорошо, в нормальной реальности или нет?
— В нормальной.
Она вздыхает, согласная играть по моим правилам:
— В мире живых?
— Нет. Но все равно запомни про ирландский акцент, хорошо?
Ивви медленно, как будто она слишком сонная для такой монотонной работы, раскрывает папку, потом ставит мою остывающую тарелку с супом на тумбочку, и начинает доставать один за другим листы.
— Что это? — спрашиваю я. — Мои гостинцы, чтобы я поправлялся?
— По крайней мере, очень в твоем стиле.
Я присматриваюсь, и вижу, что это. Копии заключений судмедэкспертов. Ивви продолжает их выкладывать, так что в конце концов, я оказываюсь в бумаге, как в одеяле.
Некоторые из этих свидетельств о смерти на английском: США, Канада, Австралия, Великобритания. Некоторые, и о них даже нельзя с точностью сказать, свидетельства ли это о смерти или заключения медика, написаны на французском, немецком, итальянском, испанском, на других языках, которых я даже узнать не могу.
Ивви говорит:
— Мы имеем основания связать все эти убийства с твоим стрелком. У всех жертв есть одна общая черта. Они занимались тем же, чем и ты.
— Мошенничеством?
Ивви кривится, будто у нее болит зуб, и я вижу, что ей физически неприятно говорить то, что она говорит:
— Спиритизмом.
И я вижу, как в ярких, красивых глазах, будто сказочные цветы, расцветают такие возвышенные слова: «Мой придурок-кузен вляпался из-за своего мошенничества».
— Хорошо, — говорю я. — То есть плохо. Ты считаешь, что стрелок только один?
— Он не только стрелок.
Ивви тыкает пальцем то в один, то в другой документ.
— Поджигатель, подрывник, отравитель и даже специалист по убийствам с помощью циркуля.
— По крайней мере, он лучше в математике, чем я. Не стыдно умереть от руки достойного человека.
Ивви смеряет меня таким взглядом, что я тут же понимаю, какая неудачная была шутка.
— Ладно, — говорю. — Неважно.
— Большинство этих убийств совершил стрелок. Но он явно не один. Те убийства медиумов, что совершались в Ирландии, были совершены группой людей. Да и судя по организации отступлений стрелка, не похож он на одиночного маньяка.
— А на кого похож?
— На религиозного фанатика. Из очень богатой и очень тоталитарной секты, раз уж он разъезжает по миру.
— Тогда в чем проблема найти эту секту? Я ошибаюсь, или секты обычно занимаются прозелитизмом?
— Заткнись, Франциск, и слушай. Если бы проблемы не было, я бы не допустила, чтобы в тебя стреляли.
— Ты же не знала, Ивви.
Наверное, ей всегда хотелось, чтобы у нее был младший братик, и сейчас я вдруг чувствую себя чуточку, но виноватым в том, что подверг себя опасности, даже если моя неосмотрительность заключалась в том, что я просто пошел на работу.
— Проблема в том, — продолжает Ивви. — Что мы ничего не знаем об этой организации. Ни в одной из стран, куда мы отправили запрос, ничего похожего нет.
— И что мы ищем?
— Вот именно, мы ищем, а не ты. Миллитаризированную религиозную организацию, может быть, с идеей нового крестового похода, может быть с идеей очищения от скверны, может быть, милленаристов, ожидающих скорого конца света. Пока слишком много вариантов. Скорее всего зародились в Ирландии — там происходили первые убийства.
— И что ты мне посоветуешь, Ивви? — спрашиваю я. Мне вдруг становится неуютно, и я толком не понимаю, отчего именно.
Ивви вздыхает, чуть вздергивает подбородок, нервное движение свойственное в равной степени ей и Мильтону. Забавно, какие вещи могут передаваться по наследству, они ведь даже не видели друг друга, пока Ивви не прожила на этой земле четверть века.
Ивви, прожившая чуть больше меня, но куда более опытная во всем, что касается убийств и других опасных преступлений, говорит:
— Как коп, я советую тебе просто быть бдительнее, но не нервничать, ведь слежка за твоим домом будет установлена. Как твоя кузина, я советую тебе уезжать, как можно дальше, никому, кроме семьи, не сообщая, куда ты уедешь.
Она молчит некоторое время, а потом добавляет:
— И как южанка, я советую тебе носить с собой огнестрел.
Когда Ивви уходит, я решаю заглянуть в ванную, чтобы рассмотреть толком, что именно происходит с моим плечом. Повязка на мне все еще чистая, ни пятнышка на ней нет. Я снимаю ее, обнажая рану, не слишком глубокую, такую, что я больше переживаю за свой костюм, чем за себя самого. Взгляд мой скользит по шраму на шее, похожему на диковинное и дурацкое украшение. Шрам мой проходит через всю шею, и так странно, что я совсем ничего о нем не помню. Не помню, как его получил, не помню, как пришел в себя в больнице. События того, нерадостного, периода моей жизни я могу восстановить только с помощью рассказов моей семьи.
Вроде как, меня едва успели спасти с больнице, от кровопотери я был в состоянии клинической смерти несколько минут. Тогда я впервые попал в мир мертвых, и путешествие туда помню куда лучше, чем причину, по которой оказался в больнице и саму больницу.
Я касаюсь пальцами шрама, на ощупь он гладкий, почти приятный, но я все равно вздрагиваю. Странность этой истории заключается в том, что шрам на моей шее такой длинный и, судя по его виду, такой глубокий, чтобы его оставить, кто-то должен был прорезать мне горло до кости. Удивительно, что моя голова до сих пор на месте. Впрочем, может быть мне просто так кажется.
В далеком детстве, когда мне было одиннадцать, по дороге из школы, меня порезал какой-то психопат. По-моему, мои родители до сих пор чувствуют по этому поводу вину. С тем маньяком история странная, он просто порезал меня, и оставил истекать кровью совсем около дома. Да и маньяком того парня сложно назвать — он не убивал никого ни до, ни после, не состоял на учете в психиатрическом диспансере, работал и был женат, словом, представлял собой вполне благополучного члена общества.
Впрочем, не сказать, что я ему не благодарен, по крайней мере он дал мне силу и смысл жизни. А так как я, лично я, ничего об этом досадном инциденте не помню, то вполне могу с ним жить.
Когда я возвращаюсь в комнату, туда заглядывает Итэн, и я тут же говорю:
— Приве-е-ет, дядя. Как ты вовремя, поможешь мне перевязать плечо!
Итэн делает неуверенный шаг назад, потом такой же неуверенный шаг вперед, как будто готовится танцевать фокстрот, но в конце концов, соглашается.
Перетягивает повязку дядя Итэн так слабо, как будто боится, затянув слишком сильно, начать ядерную войну в Западном полушарии.
— Тяни, Итэн, ты можешь! Давай! Ты же ходил на физкультуру в мезозойский период!
— Нельзя быть таким злым, Фрэнки, — вздыхает Итэн, но старается затянуть повязку потуже. Не исключено, что именно праведный гнев на меня его вдохновляет.
— Я тут подумал, — говорит Итэн. — Может быть мне нужны дети?
— Ну, тебе только сорок лет, так что, может быть, и нужны, — говорю я. — Или ты хочешь мою консультацию как медиума? Как медиум тебе скажу, что не стоит приводить в этот мир еще одно существо, чтобы мир его пережил. А почему ты вообще задумался о детях?
— Ну, знаешь, в Куре, загробном мире шумеров, у бездетных людей довольно безрадостная жизнь. Кур и так темный мир, полный пыли, а без детей там еще и хлеб горек.
Я вскидываю брови, потом говорю:
— Слова взрослого, ответственного человека.
Итэн некоторое время молчит, сосредоточенно заканчивая перевязку, а потом говорит:
— Ты будешь немного злиться.
— Нет, я буду только рад появлению кузена.
— Я позвонил Райану.
— Ты серьезно?
— Просто до того, как Мэнди и Мильтон объяснили мне, что случилось, я думал, что ты умираешь.
— Ты ведь пояснил папе, что я не умираю? — уточняю я, и именно в этот момент, звонит мой мобильный, давая Итэну время на то, чтобы ретироваться. Разумеется, звонит папа. Нет, разумеется, я не имею ничего против разговора с отцом, я просто не понимаю, зачем Итэн заставил его волноваться.
— Да, папа? — вздыхаю я, принимаясь за остывший куриный суп, впрочем, еще довольно вкусный.
— Скажи мне, — говорит папа. — Для начала, что не звонишь мне из своего мира мертвых, потому что тариф должен получиться еще более зверским, чем международный.
У нас с папой невероятно похожие голоса, так получилось, в причудливой игре генов, что мы вообще похожи до смешного, настолько, что когда мне было двенадцать, я приносил в школу папины детские фотографии, доказывая тем самым своим одноклассникам, что живу вечно.
— Я знал, что ты будешь волноваться за меня, папочка.
— У меня было около двух минут волнения, но я вовремя позвонил Мэнди, сочтя ее более надежным источником информации, чем мой младший брат. Как ты себя чувствуешь, милый?
— Как человек, который не впечатлен тем, что в него стреляли.
— Это мой мальчик. Ивви к тебе уже приходила?
— Откуда ты знаешь?
— Я примерно знаю, что представляет собой наша правоохранительная система и так же примерно знаю, что представляет собой моя племянница.
— Приходила, — говорю я. — Но ты приезжай, я тебе дома все расскажу, ладно? Как твои дела во Франкфурте?
— Закончены на неделю раньше, чем полагается.
Тут в мое сердце закрадывается первое, робкое подозрение.
— И где ты сейчас?
— Ожидаю посадку в первый класс.
— Ты что едешь домой? — спрашиваю я.
— Разумеется, не презрев все свои деловые встречи, как ты мог бы подумать. Не настолько ты мне дорог, Фрэнки.
— Пап, ты можешь оставаться во Франкфурте, мне ничего не угрожает, честно.
Конечно, не совсем честно, если учесть, что в меня стрелял один из неизвестного количества религиозных фанатиков, уже совершивших больше десятка убийств.
— Давай мы поговорим об этом дома, милый? Поверь мне, я не стал бы откладывать ни одного из своих по-настоящему важных дел ради тебя.
Даже не обидно, потому что оба мы знаем, что папа врет. У папы проблемы с искренним выражением эмоций, поэтому он предпочитает их обесценивать, но все мы к этому давно привыкли.
И все-таки что-то в его речи и голосе меня смущает. Папа говорит так, как будто он чуточку, только чуточку волнуется.
А я хорошо знаю своего папу, если он говорит, так, будто повод для волнения, пусть и маленький, но есть, это может значить только одно. Он в панике.
— Начинается посадка, милый. Примерно через двадцать пять часов, мы с тобой поговорим лично. Постарайся за это время не умереть еще раз, хорошо?
И прежде, чем я успеваю что либо сказать, папа бросает трубку.
— Ты явно соскучился, — говорю я напоследок, но отец вряд ли имеет удовольствие услышать мою реплику.
Вытащив из шкафа один из десятка одинаково-черных костюмов, заказанных в местном похоронном бюро, я переодеваюсь, чтобы спуститься в гостиную. Я еще толком не знаю, что мне делать. Представление назначенное на послезавтра, наверняка, придется отменить. Я впервые чувствую, что на самом деле меня постигла не рядовая неудача, в меня стреляли и от этого моя жизнь, хоть немного, но изменилась.
В гостиной Мэнди сидит на диване, положив ноги на стеклянный столик, в одной руке она сжимает стакан, янтарно-рыжий от виски, а в другой мобильный телефон. Я еще успеваю услышать:
— Райан, я прекрасно понимаю, насколько все серьезно, прекрати говорить так, будто бы…
Ага, значит посадка у него началась. Я чувствую легкий укол обиды, собираюсь в угоду этому чувству даже продолжить подслушивать, но Мэнди замечает меня, тут же кладет телефон на столик и отодвигает подальше, будто я застал ее за чем-то неприличным.
— Милый! — говорит она неожиданно радушно. — Хочешь виски с содовой? Ты уже съел куриный суп, теперь ты здоров и можешь пить.
Я сажусь рядом с Мэнди на диван, вытягиваю ноги точно так же и беру у нее стакан.
— И о чем вы говорили с папой?
Я отпиваю виски, чувствуя, как он обжигает мне язык, ожидаю ответа, но Мэнди молчит довольно долго, вытянув ноги и сосредоточенно шевеля пальцами на них.
Мне думается, что я мог бы подойти с другой стороны. Тогда я спрашиваю:
— А Ивви тебе все рассказала?
— Только про то, какого идиота дали ей в напарники.
И тогда я рассказываю Мэнди все, ничего не утаивая, абсолютно открыто повествую, так сказать, о секте и стрелке, о том, как я говорил со стрелком в мире мертвых, обо всем. Вот, посмотри, тетя, у меня от тебя секретов нет.
— И что мне теперь делать? — спрашиваю я, в конце концов.
— Не тупи, — говорит Мэнди. — Если он ирландец и фанатик, то скорее всего католик. Сходил бы ты в церковь Святого Альфонса, она построена ирландцами для ирландцев. Мы туда ходили, когда были маленькие. Послушал бы, что люди говорят.
— А ты не боишься, что стрелок сидит там и меня убьет?
Мэнди отбирает у меня стакан, делает глоток сама.
— Не боюсь. Фанатики не будут убивать людей в церкви и поблизости.
И почему-то мне кажется, что она прекрасно знает, о ком говорит.
— Я бы, — продолжает Мэнди. — На твоем месте взяла вот это.
Она выуживает из-под подушки пистолет, новенький браунинг, протягивает мне, и я в этот момент абсолютно уверен, что Мэнди лучшая тетя в мире.
— Если хочешь что-либо выяснить сам, лучше попробовать, пока твой отец все еще за пределами воздушного пространства Соединенных Штатов Америки.
Она цокает языком и подмигивает мне. Мэнди явно страдает от того, что не может мне чего-то сказать и так же явно отсылает меня туда, где я смогу узнать что-нибудь самостоятельно.
Самое время вспомнить ту пословицу, где сказано о том, как сделать все хорошо.
Церковь Святого Альфонса представляет собой жалкое зрелище. Здание такое ветхое, что напоминает о старой доброй Ирландии, две его башенки с белыми, начищенными крестами только чуть-чуть возвышаются над окрестными постройками, а цветом оно напоминает больше пряничный домик, чем дом Бога. Две растущие по бокам от церкви разлапистые пальмы и то выглядят величественнее.
Плечо болит немилосердно, так что я стараюсь двигаться не слишком резко. Поднимаясь по ступенькам к церковному дворику, отделяющему сакральное, так сказать, от профанного, я вдруг будто бы чувствую на себе чей-то взгляд. Как медиум, я привык доверять таким ощущениям, а оттого сую руку в карман, чтобы ощутить вдобавок еще и холод пистолета в ладони.
Никакой стрельбы в Божьем доме, грязные ирландские иммигранты.
Я успеваю как раз-таки к началу службы, на которой никогда не был. Мои родители ненавидят все, что связано с религией. Они говорят, что дело в моем деде, Моргане, который был по-ирландски истов в своей вере и тем самым навсегда отвратил от нее своих детей.
Отчасти я ему даже благодарен, потому что крошка Фрэнки Миллиган, в отличии ото всех своих одноклассников, спал по воскресеньям, а не вынужден был сидеть, разодетый по поводу службы, в душной церкви летом и в холодной церкви зимой, пытаясь не умереть от скуки.
Словом, никогда я не был у Бога в гостях, а оттого, когда я переступаю порог церкви, у меня вдруг перехватывает дыхание. Совершенно невзрачный и непривлекательный снаружи, внутри храм оказывается удивительно красивым. Кипельно-белые стены, с висящими на них распятьями, и устремляющимися вверх, к потолку, фресками Страшного Суда. Если посмотреть наверх, закружится голова от высоты, которая кажется недосягаемой. Я с трудом вспоминаю, как невысок этот храм снаружи. Алтарь, уставленный свечами, укрытый белым покрывалом, над которым нависает скульптура девы Марии, с ее невероятной, такой же недосягаемой красотой и печальными, скорбящими глазами и младенцем, приникшим к ней. Вокруг Марии клубятся золоченые ангелы с блестящими, почти страшными в этом блеске крыльями.
Наверное, я даже рот от удивления открываю, настолько неожиданна для меня эта красота. Воздух пахнет ладаном и миррой, но эти резкие, сладковато-пряные запахи меня совсем не душат. Я сажусь на последний ряд, людей вокруг немного, и все они имеют какой-то возвышенный вид. Последней, перед тем, как появляется священник, свое место занимает сухонькая старушка в монашеском облачении. Она садится рядом со мной, складывает руки на коленях и выпрямляет спину так, будто палку проглотила.
Когда входит священник, все встают, и я встаю вместе со всеми. Верущие читают Confiteor, который я прекрасно знаю только по одной причине — ее читают у нас дома, в основном, когда кто-нибудь сделает что-нибудь маленькое и дурацкое, разобьет тарелку или сломает какую-нибудь безделушку. Так что я повторяю вместе со всеми:
— Исповедую перед Богом Всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга: моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу Блаженную Приснодеву Марию, всех ангелов и святых и вас, братья и сестры, молиться обо мне Господу Богу нашему.
И удивляюсь, как возвышенно и правильно звучат эти слова, которые я привык воспринимать, как семейную шутку. Я было даже чувствую себя частью богослужения, как и все остальные верующие, но когда священник начинает свою речь с «Господь со всеми вами», а люди отвечают:
— И со духом твоим!
Я теряюсь, и продолжение диалога с паствой не улавливаю совсем. Монахиня рядом, зато, говорит очень громко. Священник ведет службу на английском, но монахиня молится на латыни, и даже когда священник замолкает, она шепчет что-то на латыни, наверное, проговаривает пропущенные части богослужения.
Ее шепот успокаивает меня, усыпляет, и очень скоро огни церкви передо мной гаснут, обнажая темноту. Свет свечей больше ее не скрывает, и теперь они выглядят как крошечные светлячки в беззвездную, глухую ночь. Я вижу, что на скамьях сидят мертвые, они тоже слушают, и свет, исходящий от них куда ярче любого физического света. Мертвые тоже находят успокоение в Боге, и я не хочу их тревожить.
Я хочу тихонько встать и осмотреться, но тут темнота распадается, свет свечей заливает меня снова и почти режет мне глаза.
— Молодой человек, — говорят мне. — Неприлично спать на службе.
— Извините, — отвечаю я смущенно. Со всем осуждением мира, на меня смотрит старая монахиня. Она вся испещрена морщинками, как карта реками, но у нее не по-старушечьи синие, удивительные глаза.
Того же цвета, что у моего стрелка. И такой же сильный, невыносимый ирландский акцент. Оставшееся время службы, я стараюсь незаметно ее рассмотреть. Довольно несложно, учитывая, что она увлечена своей практикой в мертвом языке.
Она явно очень стара, но еще сохраняет признаки былой красоты. Ее чистые, ухоженные руки сжимают розарий. Под ее покровом не видно ни волоска, она невероятно ухожена, что вдруг напоминает мне невротическую аккуратность отца, галстуки, рубашки и даже подтяжки которого всегда должны быть такими идеальными, будто именно их внешний вид поддерживает порядок в мироздании и удерживает его от падения в хаос.
После того, как служба оканчивается, и священник отпускает всех идти с миром, монахиня вдруг говорит мне:
— У тебя красивое имя. Ты знаешь, кем был человек, который его носил?
— Мужиком, разговаривающим со зверушками и птицами?
Она улыбается уголком губ. Я думаю, она бы и засмеялась, но в церкви этого делать, должно быть, нельзя.
— Нет, Франциск. Человек, в честь которого тебя назвали, проповедовал любовь. И использовал для этого самые прекрасные слова, которые только есть в человеческом языке.
— Кто вы такая? — спрашиваю я тихо, в храме мне не хочется повышать голос. Я не задаю очевидного, дурацкого вопроса, откуда она знает мое имя. Стрелок ведь его тоже знал, отчего бы его не знать бабушке или старой тетушке стрелка, от которой он унаследовал свои удивительные глаза.
Монахиня продолжает перебирать розарий, потом едва покачивает головой, будто я задаю неверные вопросы.
Она говорит, с ласковой полуулыбкой:
— Морин Миллиган. Я прихожусь тетей твоим родителям. Очень приятно познакомиться.
— И моей двоюродной бабушкой, так?
Она прикрывает рот ладошкой, будто боится засмеяться.
— Хорошо, — кивает она. — Ты способен на простейшие когнитивные операции.
И от ухоженной бабушки-монашки слышать слова моего отца несколько неожиданно. Она продолжает своим тихим, красивым и мелодичным голосом:
— Но ты снова задаешь неверные вопросы, Франциск.
Она вытягивает руку с розарием, почти касаясь воротника моей рубашки, но — не касается.
— Теперь спрошу я. Ты знаешь, на что способен отец, потерявший единственного сына, от любимой женщины? Ты знаешь, что он способен преступить законы мироздания ради своей плоти и крови? Ты когда-нибудь видел, чтобы твой отец плакал?
Протянув мне свою морщинистую, хрупкую руку, похожую на лапку обезьянки, она предлагает:
— Хочешь посмотреть?
Я делаю движение ей навстречу, но вдруг замираю.
— Не хочу.
— Однажды все равно увидишь, — говорит Морин легко и печально. — Ты представляешь, чем занимается твоя семья?
— Ну, в основном они бездельничают и пьют. Во мне же четыре с половиной литра чистой ирландской крови.
— Хорошее чувство юмора для трупа.
Звучит вовсе не как угроза, бабуля просто констатирует факт.
Она говорит:
— Передай, пожалуйста, папе весточку от тетушки Морин.
— Какую? — спрашиваю я, я смотрю ей в глаза, и в этот момент они синие и совершенно пустые.
— Последний же враг истребится — смерть.
Глава 3
Утром я и дядя Мильтон сидим на кухне одни. Мэнди и Итэн на работе, как функционирующие члены нашего маленького общества, а мы представляем собой семейный атавизм, лишенный смысла и наполнения, по крайней мере финансового.
Не то чтобы наша семья излишне нуждалась в финансах, но, как говорит отец, она нуждается в работе, как источнике радости и страсти.
Источником своей радости и страсти Мильтон сейчас похмеляется. А где мои радость и страсть, я даже думать боюсь. Я говорю, размешивая сахар в кофе:
— Ты не рано начинаешь, дядя?
На что Мильтон отвечает, обнажив белые, красивые зубы.
— Я еще не закончил просто.
Я люблю дядю Мильтона. Даже пьяного. В первую очередь это, конечно, показывает меня как человека терпеливого и способного за любовь пострадать.
Дядя Мильтон облокачивается на стол, потом почти укладывается на него, подтягивает к себе солонку и перечницу. Он говорит за солонку:
— Сдавайся, песчаный ниггер!
И говорит за перечницу:
— Аллах Акбар!
А потом разбивает перечницу вдребезги. Пока дядя Мильтон лицезреет останки своего воображаемого врага, я переливаю виски из его стакана в свой кофе.
— Слушай, — начинаю я. — А ты помнишь тетушку Морин?
Мильтон чуть вскидывает бровь, потом ставит солонку на место, говорит:
— Мы уехали из Дублина, когда мне было два года, близняшкам год, а Итэном Салли вообще была только беременна. Мы не помним родственников Моргана.
Своих родителей мои родители всегда называют только по именам.
— То есть, вы никогда не видели тетю Морин?
— Ну, Морган о ней говорил. Но я без понятия, по крайней мере подарки на дни рожденья она мне не посылала. Да и что там из Ирландии посылать? Картошку?
Мильтон хрипло, красиво смеется, потом смотрит в пустой стакан и вздыхает с трагичностью, достойной Гамлета. Надо же, думаю я, надо же. Мы о ней ничего не знали, а она о нас знает все?
— А письма? Открытки?
— Никогда!
— Ни одной?
— Ты думаешь я тебе вру? — пожимает плечами Мильтон.
— Не исключаю такой возможности.
— Правильно, — кивает Мильтон. — Я всем вру.
— Знаешь что? Мы тебя закодируем.
— Ты не можешь поступить так с собственным дядей.
— Или могу?
Мильтон раздумывает над этой неожиданной мыслью, являющейся в то же время ужасающей перспективой, а потом вдруг выдает:
— Райан о ней говорил. Что она существует, и у нее есть дочь, Морриган или как-то вроде того. Но это было давным давно.
Надо же, а кто-то, кто никогда и ничего мне не говорит, все-таки в курсе.
Я отпиваю кофе, жмурюсь от удовольствия.
— Отлично, — говорю. — А что он узнал о Морин? Только то, что она есть?
— Слушай, — тянет вдруг Мильтон, так что его южный акцент становится отчетливее обычного. — Ты же у нас болтаешь с мертвыми. Спроси того, кто точно знал эту Морин. Спроси Моргана!
— Господи, а ты и вправду неплохой психотерапевт.
— Плохое слово, не произноси его.
— Господи?
— Психотерапевт.
И тогда я вдруг подаюсь вперед и его обнимаю, Мильтон скашивает на меня взгляд, я говорю:
— Ты же знаешь, как я тебя ценю?
— Надо же, какое полезное знание, — фыркает Мильтон, но вдруг улыбается как-то по-другому, ярче и светлее.
— Я что один в этом доме способен выражать эмоции? — говорю я, и вспоминаю совсем неожиданно, что говорила Морин. — А папа плакал, когда я, ну, чуть не умер и немного все-таки умер?
— Конечно, он же всегда был тряпкой.
— Надо будет тебя все-таки закодировать.
Мильтон отвешивает мне подзатыльник, но какой-то очень бережный, как для моих лет. Ну что у меня голова что ли отвалится?
Забрав свой разбавленный виски кофе, я отправляюсь наверх, использовать чудесную идею Мильтона.
Если не знаешь точно, где находится нужный тебе призрак, то лучше позвать его с помощью доски Уиджа, чем шарить в темноте, пытаясь его отыскать. Я не могу быть уверен, что после смерти Морган обитает в доме, может быть у него были места дороже и значимее. Морган умер, когда мне было около года, кажется, так что я его совсем не знал. Устраиваясь на полу, я достаю из-под кровати свою спиритическую доску.
Фокусы с доской дело совсем простое, а вот настоящая работа — невероятно сложная. Взяв лезвие, я прохожусь им по ладони, вскрывая кожу и выпуская кровь. Когда красным окрашиваются все четыре угла доски, я беру указатель, чтобы распределить кровь по всей площади. Доску, как и любое средство связи между живыми и мертвыми, нужно кормить живой кровью по одной простой причине. Единственное средство связи между живыми и мертвыми — кровь. Пролитая кровь открывает завесу между мирами, потому что когда проливается кровь кто-то должен умереть. Даже если и символически. Кровь это пароль и допуск в мире мертвых, она питает призраков и сообщает миру мертвых о возможном пополнении.
Я беру указатель, и он скользит под моими пальцами легко, готовый слушать, так сказать, указания. Я перевожу его на строчку «Привет» и жду. Здороваюсь я вовсе не с конкретным призраком, а с доской. Своего рода этикет. Указатель тянется в сторону «да», и я знаю, что можно начинать.
Я вожу от буквы к букве, выписывая «Мне нужен Морган Миллиган, могу ли я поговорить с ним?». Я всегда вежлив с доской, ведь никогда не знаешь, кто там, сидит за ней и указывает ответы с другой стороны. Ощущение, когда доска отвечает тебе, если только она по-настоящему отвечает, не забудешь никогда. Такое бывает, когда отлежишь руку, она немеет и ее совсем не чувствуешь некоторое время. Здесь — так же, только куда сильнее, пальцы будто бы отнимаются, и больше тебе не принадлежат. Кто-то пользуется твоими движениями, а ты — только смотришь. Я — только смотрю. И мне отвечают: «Ты можешь. Говори.»
Пальцы снова начинают меня слушаться, и я выписываю указателем: «Здравствуй, дедушка. Как у тебя там дела? Извини, что никогда не заходил, я же тебя совсем не знал. Ты можешь мне помочь?»
Указатель скользит к слову «да», и я улыбаюсь, но не успеваю я оценить в полной мере сговорчивость моего деда, как указатель вдруг резко меняет положение и оказывается на самой низкой строчке, на строчке «прощай».
И не останавливается, начав выписывать мертвые восьмерки — знаки бесконечности. Вообще-то я мог бы закончить сеанс экстренно и безопасно, но не хочу. Я далеко не уверен, что справлюсь с любым духом, но если уж я хочу узнать, что происходит, то стоит идти до конца и смело смотреть в лицо опасности, а не прятаться в шкафу и ждать, пока она исчезнет, как я предпочитал делать в младшей школе.
Указатель швыряет от одной буквы к другой, у меня нет даже возможности ответить. Кто-то выписывает:
«Уходи. Уходи. Уходи. Он здесь. Он здесь. Он пришел. Навсегда. Он найдет нас. Я хочу тебе помочь. Прощай.»
Указатель замирает, и я снова чувствую свои пальцы, но только на секунду, потом ощущение немоты в руках возвращается, и указатель начинает бешено двигаться снова.
«Иди сюда».
И в один момент все гаснет, а буквы на доске, раскормленной моей кровью загораются рубиново-алым. Я снова в полной, непроницаемой темноте, смертной тени. Самое странное, что я вдруг понимаю, что не могу выйти сам. Бывает так, что я слишком истощен, чтобы попасть назад, для этого я и рисую врата, когда готовлюсь к переходу, но сейчас я не то что не истощен, я полон сил для великих свершений, но мир живых для меня оказывается закрыт.
Я поднимаю взгляд от доски, перед кроватью стоит девочка. Возможно, ей лет шестнадцать, не больше, может даже меньше. Возможно — потому что лицо у нее замотано бинтами, не видно ни рта, ни глаз, кое-где бинты пропитались кровью. Она бледная, той мертвенной бледностью, которая свойственна больным чахоткой или малокровием, у нее хрупкие, как стеклянные, запястья.
Она говорит, голосок у нее звонкий, девчоночий со сложноопределимым говором:
— Привет.
— Привет, дружок. Я — Фрэнки, а ты?
— А я — умерла.
На ней белое платье, совсем простое, так что даже сложно определить эпоху, когда ее в этом хоронили. Я смотрю на ее руки и вижу, что ногти у нее сорваны, а она, чувствуя мой взгляд, отводит руки за спину и сцепляет пальцы.
— Ты говорила мне уходить?
— Я, — говорит она. — Хотела тебя предупредить. Но уже поздно. Он же здесь.
Она поднимает замотанную бинтами голову и то же самое делаю я, невольно, без желания смотреть, кто же он такой. Он висит под потолком, и сначала я думаю, какой он забавный, будто демон из мультфильма: рога, один длинный и острый, другой обломанный, красные, как два драгоценных камушка глаза без зрачков, длинные-длинные зубы, с которых капает слюна. Он весь черный и израненный, так же обмотанный бинтами, как девочка. В местах, где бинты порваны проглядывают раны, в которых копошатся мухи и пауки.
Он протягивает мне свою когтистую лапку, и я уже готовлюсь засмеяться, такой он в сущности забавный, как вдруг снова слышу то, что не является голосом или звуком.
— Здравствуй, Франциск.
Я тут же забываю о том, как по-демонически оперетточно он выглядит оттого, как нездешне он говорит. Описать все чувства, которые во мне вызвали эти слова толком невозможно. Не только страх, не только отвращение, но и болезненную, нездоровую радость, почти переходящую в экстаз. Больше всего похоже на то, что я читал про религиозный трепет, благоговение от сочетания радости и страха.
Только тут чувство было неправильное, нездоровое и испытанное в доли секунды. Как только демон договорил, оно исчезло, не оставив после себя ничего, кроме опустошения.
Демон смотрит на меня своими красными, кровяными глазами без зрачков, а потом вдруг открывает пасть и говорит моим голосом:
— Наверное, не стоит больше шокировать тебя мной настоящим, как думаешь? Я могу позаимствовать твой голос, чтобы не смущать тебя.
Я хочу было вежливо ответить что-то вроде «да, спасибо», но не могу.
— Я же сказал, — повторяет демон. — Позаимствовать.
Он спускается по стене, с неестественной, не звериной и не человеческой, неземной вообще ловкостью. Когда я отвожу от него взгляд, девочки рядом уже нет.
— Говорить, как ты понимаешь, буду я.
Я щурюсь, потом морщу нос, пытаясь высказать свое отношение к такому одностороннему диалогу без слов. Мне кажется, будто вместе с моим голосом, демон позаимствовал и мою манеру говорить.
— Я оберегаю эту семью уже почти двести лет, по моим меркам, довольно немного, но по вашим — уже внушительно. Как ты понимаешь, это я спас тебя от пули Доминика, надеюсь ты благодарен. Впрочем, с точно таким же рвением я спасал бы Доминика от тебя. Пока живы вы, существую я. Вы все — моя паства, и я, как ваш пастырь, имею некоторые пожелания по поводу вашей дальнейшей жизни.
Интересно, я всегда так многословно и занудно говорю? Демон скалится, обнажая острые зубы, облизывает их длинным языком, копируя мое движение, и продолжает:
— Но ты пришел сюда, чтобы узнать о Морин Миллиган, так? Я тебе расскажу. Так как вопросы ты задавать не умеешь, я избавил тебя от этой необходимости. Морин Миллиган, дружок, практически Джин Диксон и Тереза Авильская в одном флаконе. Морин Миллиган, вместо того, чтобы заниматься тем же, чем ты, к примеру, посвятила себя Богу или думает, что посвятила себя Богу. Свои видения она принимает за дар Господень. Зря или не зря, это уже совсем другой вопрос. Когда Морган, твой дед, уехал из Ирландии, она осталась там и пошла в монахини, думая, что это поможет ей бороться со злом внутри нее. Она считала себя ведьмой, недостойной жизни, — демон указывает когтистым пальцем вверх. — на этой земле. В своем уютном монастыре, что в графстве Лаут, Морин Миллиган, двадцати двух лет от роду, умерщвляла свою плоть с завидным усердием. И вот тогда она обрела дар предвидения. Ее преследовали неизменно правдивые видения, настолько точные, что люди решили, что Морин Миллиган не ошибается никогда. К ней съезжались католические иерархи со всей страны, а потом и со всего мира. Морин Миллиган не ошиблась ни разу, заслужив себе огромный кредит доверия. К ней прислушивались, ее почитали, как святую, ее скрывали от мира. Но, думаешь, Морин стала святой? Знаешь, как говорят: от осинки не родятся апельсинки.
— А кем стала Морин? — спрашиваю я, не сразу понимая, что снова могу говорить. Демон молчит, смотрит на меня пристально, неестественно, угловато склонив голову. Он отдал мне голос, и теперь снова был бессловесен.
Некоторое время после того, как я просыпаюсь в своей светлой, живой комнате, передо мной все еще горят эти страшные, мультяшные глаза. Часы подразумевают, что я проспал около трех часов.
Мой мозг занимается судорожным подсчетом моих проблем. Итак, в меня стрелял мой, по-видимому, родственник — это раз. Мне угрожала моя, по-видимому, бабушка — это два. Они оба, судя по всему, сектанты, крепко вознамерившиеся стереть с лица земли всех мне подобных, да и к моей семье в целом не питают никакой приязни. В мире мертвых у Миллиганов есть покровитель, считающий себя нашим пастырем, но доверять кому-то, настолько напоминающему сатану из мультфильма, я тоже не спешу. Даже мои собственные родители скрывают от меня то, не знаю что.
Сектанты, пытающиеся меня убить, демоны, пытающиеся меня предупредить, семейные тайны. Я беру лист бумаги и ручку, черчу круг, внутри пишу наши имена: Мильтон, Мэнди, Райан и Итэн. И Франциск, конечно. Затем черчу второй, такой же неровный и неаккуратный, как первый, и там я пишу: Морин, Морриган, Доминик. Во вражеском кружке я рисую крест, а в собственном череп с костями, не отличающийся особенной красотой. Между двумя кружками я провожу линию, и над ней рисую моего нового рогатого друга в бинтах, пометив его тремя знаками вопроса.
Спустившись на кухню, чтобы вместе с тарелкой макарон с сыром, лучшим соратником в любом деле, поразмыслить надо всем мной написанным, я вдруг обнаруживаю свою семью сидящей за столом в полном составе.
О нет, нет, нет. Я не готов ни к очередной порции информации, ни к очередной порции тайн. На сегодня я абсолютно уверен, что обойдусь без добавки. Папа пьет чай с таким видом, будто не случилось совершенно ничего, Мэнди сосредоточенно перечеркивает что-то в блокноте с таким видом, от которого мне, как Элвису, срочно хочется покинуть зал. Итэн непрерывно вздыхает, как будто с минуты на минуту ожидает астматического приступа, а Мильтон и вовсе выглядит трезвым, что должно предварять рев Иерихонской трубы.
— Здравствуй, милый, — говорит папа, размешивая сахар в чае. — Как твое плечо?
— Болит, — осторожно отвечаю я, мне кажется, что я на экзамене и от меня ждут каких-то определенных ответов на все возможные вопросы. — Как Франкфурт, папа?
— Стоит.
Тут Итэн говорит робко:
— Ты вообще-то можешь садиться. Разговор, вроде бы, будет долгий.
— Хватит с меня, пожалуй, на сегодня долгих разговоров.
— Садись, — говорит Мэнди, и одновременно с этим, папа указывает на стул перед ним. Я некоторое время остаюсь топтаться в дверях, разрываясь между порочной практикой любопытства и недостойной теорией трусости. Все это время папа так увлечен чаем, что я думаю — он про меня забыл.
Когда я все-таки сажусь за стол, он говорит, как ни в чем ни бывало:
— Ты знаком со своим троюродным братом Домиником?
— Немножко. Но в последнее время, у меня возникает вопрос, знаком ли я с вами.
Я смотрю на Мэнди, и та незаметно мне подмигивает. Папа только вздыхает:
— Для начала познакомься с братом и другими нашими чудесными родственниками получше. Мильтон!
Дядя Мильтон протягивает мне пухлую папку, почти такую же как у Ивви, только мой папа, оказывается, куда осведомленнее полиции. Я достаю документы, посвященные Доминику Миллигану и первое, что я вижу — у нас один и тот же день рожденья. Не только тот же день, но и тот же год. Судя по бумагам отца, Доминик никогда не ходил в школу, никогда нигде не был зарегистрирован. Последний, а по совместительству и первый, его официальный документ — свидетельство о рождении. Осведомитель докладывает отцу о жизни Доминика начиная с того дня, когда моему новоприобретенному брату стукнуло пятнадцать лет. Жил в Аббатстве Куинн, воспитывался по специальной программе Opus Dei к тому времени уже около пяти лет, не допускался ни к кому, кроме бабушки и матери.
— Что такое эта специальная программа? — спрашиваю я.
— Из него растили убийцу, — отвечает Мильтон.
— Opus Dei — Дело Господне.
— Ага, спасибо, Итэн, бесценно, — фыркает Мильтон, а потом говорит. — Мелкому, в общем, с детства вдалбливали в голову, как лучше всего убивать людей, такие дела.
— В церкви? Серьезно?
— Читай дальше.
В двадцать лет мистер Миллиган забран из Аббатства Куинн по личной просьбе Римского Конклава. Я перебираю листы, чтобы узнать, что случилось дальше. И дальше меня ждет потрясающая смесь из копий его поддельных документов и свидетельств о смерти его жертв. Гражданин Испании, Италии, Франции, Колумбии, Мексики, Румынии, Великобритании, Сербии, Греции, Венесуэлы. Мертв, мертва, мертв, мертв, мертва, мертв, мертва, мертва, мертва, мертв. Мертвы.
— Значит, он киллер со стажем, — говорю я медленно. — И космополит.
— Причем, с большим, — кивает Мэнди. — Читай про его мамку.
С фотографии на меня смотрит женщина красивая, но слишком серьезная, чтобы быть привлекательной. Ее аккуратные, волосок к волоску темные волосы и синие глаза роднят ее с матерью и сыном. Качество фотографии настолько хорошее, что я вижу — на носу у нее рассыпаны веснушки, только они не придают ей девчачьего обаяния. Морриган вот уже десять лет как является главой прелатуры Exsultet. Несуществующей официально прелатуры. За все это время Морриган получила от Конклава более десяти миллионов долларов. Ребятки в красном явно возлагают на нее большие надежды.
Отец говорит:
— Exsultet — провозглашение пасхи в католической литургии. Понимаешь, что это значит?
— Смутно, — говорю я.
— Праздник Пасхи о том, что Господь победил смерть.
— Последний же враг истребится — смерть, — говорю я тихо.
— Да, это их девиз.
— Твоя тетушка Морин просила тебе это передать, — тяну я, и почти с удовольствием смотрю, как отец переводит взгляд на меня, выражая удивление. Хоть чего-то ты не знаешь.
Кстати, о Морин. Документов о ее жизни больше всего. Родилась в Дублине, в обеспеченной семье, но, получив хорошее образование, удалилась от мирских забот в монастырь, что в графстве Лаут. До этого два раза лежала в психиатрической клинике, оба из-за попыток самоубийства. Приняв постриг, начала получать видения. Я просматриваю занудные письма кардиналов о юном ирландском даровании, не ошибающемся никогда, пока не натыкаюсь на самое главное.
Морин Миллиган провозгласила возможность победить смерть. Подробности отсутствуют.
Всякие сведения о второй части семьи Миллиган прекращают поступать папе четыре месяца назад. Отложив папку, я спрашиваю:
— Ты знал, что они объявятся?
— Я догадывался, что рано или поздно это случится. Одной из причин моей поездки во Франкфурт было именно это. Мне хотелось бы обсудить с нашими европейскими коллегами потерю моих обожаемых фанатиков.
— То есть, твоими европейскими коллегами?
— Все по порядку, Фрэнки, — говорит Мэнди. — Не спеши.
— Сектанты знали, что ты играл в шпиона?
— И занимались тем же самым.
Я некоторое время молчу, молчат и мои родители, слышно только лихорадочный росчерк ручки Мэнди, которой она орудует в блокноте. В голове крутится миллиард вопросов, а я не знаю, какой задать, потому что, честно говоря, я очень устал задавать вопросы.
Вот бы кто-нибудь выпустил книгу «Краткая история Миллиганов» или «Эта запутанная Ирландия».
— Что им от нас надо? — наконец, выдавливаю из себя я.
— Их план по уничтожению смерти, по крайней мере, включает в себя уничтожение медиумов. Полная зачистка мира ото всех, кто владеет способностью перехода. Доминик только один из киллеров. Ну и самый необычный, разумеется. Во-вторых, их концепция победы над смертью противоречит нашей концепции.
— А какая у нас концепция, папа?
— Впустить мир мертвых сюда.
Отец поправляет очки, стучит ложкой по краю своей чашки, в то время как я постукиваю кончиками пальцев по столу.
— Вот значит как, — говорю я.
— Мы не могли тебе сказать, милый. Во-первых в этом не было нужды, а во-вторых, то, чем занимается моя корпорация и наша семья, это весьма опасная тайна. Посвящать тебя в нее без необходимости, значит только осложнить тебе жизнь.
Мэнди еще некоторое время обводит клеточки в блокноте, а потом говорит:
— Если соединить мир живых и мир мертвых, люди получат шанс делать то же самое, что и призраки, в реальности. Представь себе: изменять мир, просматривать воспоминания, перемещаться в пространстве, видеться со своими умершими близкими. Множество вещей, магия, о которой можно только мечтать. Если сделать все правильно, каждый из нас сможет делать то, о чем даже не мечтал.
— Загвоздка в том, что если все сделать неправильно, мы все умрем?
— Ага, — кивает Мильтон. — Здорово, правда?
Наверное, мой взгляд отражает достаточно скепсиса, чтобы уничтожить средней устойчивости самооценку, поэтому я стараюсь смотреть только на папину чашку.
— И давно вы этим занимаетесь? — спрашиваю я.
— Если быть точным: всю свою сознательную жизнь, — говорит отец. — При учете, что сознательная жизнь наступает после шестнадцати. Некоторое время мои мечты были бесплодными, но случилось кое что, что изменило мои представления о границах реального. Мой проект идеального мира состоит в том, что мы дадим мертвым свободу живых, а живым — магию мертвых. Разумеется, для этого нужно проломить границу между мирами. Пока что это возможно исключительно в рамках небольших флуктуаций, вызванных отдельно взятыми людьми. Но мы работаем над способом эффективно впустить в мир живых темноту.
Папа говорит так, будто представляет свой проект, который лично я мог бы выпустить на рынок. И мне вдруг становится неловко, потому что я вижу, что это его мечта. Настоящая мечта, как в фильмах и книгах — от нее горит сердце и светятся глаза. А я даже не думал, что папа может быть на такое способен.
— Но почему ты мне не сказал? Почему делал вид, что я занимаюсь чушью, хотя сам занимался…
Еще большей чушью? Масштабной чушью, с размахом.
Папа смеется, будто прочел мои мысли, говорит:
— Потому что ты не был готов.
— А теперь в меня стреляли, и я готов?
— А теперь неважно, готов ли ты.
Ночью я не могу заснуть довольно долго, все думаю о родственниках-сектантах, мечтающих каким-то образом уничтожить смерть и моих родителях, мечтающих о том, чтобы смерть пришла в мир.
А чего хочет наш пастырь с мультяшно-красными глазами?
А чего хочу я?
Легко постановить, по крайней мере, что я не хочу умирать. Я плохо себе представляю, что именно происходит, что делают все вокруг, а оттого чувствую себя будто бы неспособным ни на что повлиять.
Неспособным ни на что повлиять? Я даже щипаю себе ладонь, больно, надо сказать, чтобы отогнать одну эту мысль. Нет уж, если я чему-то и научился в этой жизни, так тому, что надо бороться, желательно еще и используя при этом данной природой мозг.
Сектанты — задача первостепенная, нужно не дать им тронуть нас с семьей, и не так важно, что именно родители затевают. Расставив приоритеты, я, наконец, чувствую вязкую усталость, которая накатывает, как волна перед тем, как засыпаешь.
Я ожидаю оказаться в мире мертвых или просто провалиться в глубокое беспробудное беспамятство, но получается совсем не так. Мне неожиданно, впервые за много лет, снится настоящий цветной сон, где нет никакой темноты.
Мне снится хорошо освещенный подвал, подвал нашего дома, только его едва можно узнать, столько там каких-то капельниц, столько никилерованно-блестящих инструментов и целый один анатомический стол, будто из фильма ужасов. Наш подвал никогда так не выглядел, по крайней мере, я его таким не помню.
Еще мне снится отец, которого я таким не помню тоже. Отец выглядит лет на десять моложе, у него другие очки, он в заляпанном кровью медицинском халате насвистывает какую-то нехитрую песенку и что-то шьет. Мой отец — фармаколог, а не врач, но он частенько рассказывал, как ходил на хирургический кружок в Йеле и получал удовольствие от занятий куда большее, чем многие будущие хирурги.
Мне радостно видеть отца моложе, сейчас ему не больше тридцати, и мы похожи еще сильнее. Отец продолжает насвистывать песенку, и я ее узнаю. Именно ее папа пел мне в детстве, хотя песенка совсем не детская. Я даже помню, о чем она. Там лирическая героиня спрашивает у матери, будет ли она красива и богата, а мать отвечает ей: кто знает, кто знает. Я даже радуюсь за папино настроение, а потом замечаю, что глаза у него красные, как у человека, который мало спал или много плакал.
Все эти мысли проносятся у меня в голове буквально за секунды, а потом я смотрю, что именно делает мой отец. На анатомическом столе лежу я, маленький я, одиннадцатилетний я. Ребенок, которым я был.
А мой отец пришивает мою голову на место. Хирургически-аккуратные стежки соединяют мою голову с телом. Стежки. Она благодаря ним держится.
Папа говорит, голос у него очень хриплый, как после долгого сна:
— Не бойся, дружок. Папа рядом, папа не оставит тебя, не позволит кому-то забрать тебя в холодное, темное место.
Папа касается пальцем кончика моего носа, нежно и аккуратно, но я не чувствую ничего. Я белый, как снег, во мне ни капли жизни, ничего нет. Я не человек, переживший клиническую смерть, я человек, чья голова пришита хирургическими нитками обратно к телу. В моих руках, наверное, штук пять игл, ведущих к капельницам с разноцветными, почти жизнерадостно-яркими жидкостями. Что это, доктор Франкенштейн?
Папин скальпель, делает надрез, а потом отец принимается орудовать пилой для грудины, так ловко и естественно, будто не собственного сына вскрывает. Я смотрю, как папа раскрывает мою грудную клетку, показывая мне такого себя, какого мне нигде и никогда не увидеть.
Мой папа вытаскивает мое холодное, мертвое сердце, с невероятной нежностью, как живую птичку.
Я слышу шаги, гулкие шаги человека, спускающегося в подвал, а потом слышу голос Мильтона:
— Райан?
Папа кладет мое сердце в эмалированную посудину, поправляет очки, оставляя на одной из линз пятно мертвой, вязкой крови.
— Я почти закончил, — говорит папа. Голос у него вдруг становится обычным, спокойным и деловым. — У египтян было всего три времени года: паводок, сев и жатва. Сейчас жатва. Единственное время, когда то, что мы будем делать — возможно. Хотя бы в теории.
— В теории, — повторяет Мильтон. — Вот именно, в теории.
Мильтон, с его вечной рыжеватой щетиной, темными волосами и по-мальчишечьи красивыми глазами, кажется куда моложе, чем сейчас. А ведь он уже был на первой своей войне, той что в Персидском заливе.
— Завтра ночью, мы вернем Фрэнки назад, — говорит папа, укладывая мое сердце в эмалированную миску.
Мильтон молчит некоторое время, он смотрит на мое сердце, лежащее рядом с папой, потом на мое тело. Мильтон выглядит таким спокойным и сильным, таким взрослым, каким я совсем не ожидаю его увидеть.
— Ты же знаешь, как я люблю Фрэнки? Знаешь? Как все мы любим его, Райан. Но я твой старший брат. Я должен сказать тебе то, что остальные не скажут. Это невозможно, Райан. Нельзя воскрешать мертвых. Никто не может использовать силу в реальности. Ни ты, ни я, ни Господь Бог.
— Ну Господь Бог, наверное, может, — говорит вдруг папа, и они оба смеются, и оба замолкают, как по команде, наткнувшись взглядами на мертвого, маленького меня.
Мильтон облизывает губы, потом продолжает:
— То, что ты пытаешься сделать — нереально. Так не бывает. В мире живых это не работает, здесь твои желания не сбываются, — он щелкает пальцами. — Вот так.
— Ты же понимаешь, что я не пытался бы, если бы не знал, как его…
— Воскресить, — подсказывает Мильтон. — Вернуть из мертвых. Райан, а если он вернется неправильным, ты готов будешь его убить?
Папа снова отворачивается к столу, смотрит на мои обескровленные губы, на мои заостренные черты лица, на синюшно-бледный цвет моей кожи, на меня, словом.
— Нет, — говорит отец. — Нет, не буду. К этому нельзя быть готовым. Но я сделаю это, если понадобится.
Папа тянется к моему сердцу, касается его кончиками пальцев, затянутых в латексные перчатки.
— Нам очень повезет, если мы все останемся живы, ты это понимаешь? Ты это осознаешь? Силы, которые ты пытаешься пробудить очень могущественны.
И тут я вдруг вижу, как папа скалит зубы. Иногда «скалиться» говорят о мерзкой улыбке, но папа обнажает зубы, как разозленное животное.
— Да, Мильтон. Силы, которые я пытаюсь пробудить очень могущественны. Я очень могущественен. И может быть, это не лучшая идея выводить меня из себя?
Папа стоит неподвижно, а потом, прежде, чем я успеваю понять, что случилось, скальпель со стола втыкается в стену над головой Мильтона. Впрочем, довольно высоко. Мильтон даже не вздрагивает, лицо его остается абсолютно спокойным, лишенным всякой улыбки.
— Я же знаю, что ты не причинишь мне вреда, братишка.
— А я знаю, что ты поможешь мне воскресить своего племянника, братишка.
Но как? Невозможно, невозможно, быть того не может. Как отец это сделал? Как он метнул скальпель в Мильтона, не двигаясь? В реальном, настоящем, живом мире? Как он воскресил меня?
Может быть, ответы на все эти вопросы содержались в дальнейшем повествовании, но дальнейшего повествования нет, все пропадает в одну секунду, я только слышу старушечий голос Морин Миллиган.
Она говорит:
— Хочешь увидеть, что было дальше, Франциск?
Ответить я не успеваю, проснувшись от надсадного звона разбитого стекла. Еще темно, и я включаю свет. На полу в окружении осколков стекла лежит камень, к которому резинкой привязана записка. Почерк неловкий, корявый, как у человека, которого никогда не учили, что буквы нужно выписывать красиво, хотя бы пытаться быть аккуратным. Каждая линия будто бы не соответствует другой, в них нет гармонии, а оттого письмо выглядит жутковато, в нем значится:
«Нам надо поесть вместе. В «Тако Белл». Полдень.»
Глава 4
Я ненавижу «Тако Белл» и прочие псевдомексиканские забегаловки. Ненавижу их буквально за все: за запах жира и острого соуса, за цветасто-яркие стены и столики, и, наконец, за такос и бурритос, наполненные загадками и тайнами, которые я не в силах разгадать.
Словом, сказать, что я не доволен выбором места встречи — ничего не сказать. В своем похоронном костюме среди праздничного, подходящего для детских утренников интерьера, я смотрюсь смешно и глупо.
Впрочем, говорит мне внутренний голос, а где в похоронном костюме ты не смотришься смешно и глупо, кроме гроба?
Где ты действительно должен лежать. Я касаюсь шеи, места, где под пальцами тут же оказывается мой заживший, длинный шрам. Меня подняли из мертвых и от меня это скрывали. Впрочем, сказать, что я не скрывал бы такое от своего ребенка, означает соврать.
Как там говорила моя новоприобретенная бабуля? Преступить законы мироздания? Не в стиле моего отца, который даже законы пользования микроволновкой преступить не способен и запрещает готовить в ней омлет.
* * *
Почему я жив? Может ли у меня голова оторваться, если закончится действие папиной силы? Животрепещущие вопросы, разумеется, но был и еще один, куда более волнующий меня конкретно в этой точке пространства и времени.
Собирается ли стрелок убить меня сейчас? С одной стороны, он уже пытался сделать это при сотне свидетелей, а другой — вчера он был в моем дворе, передавая мне весточку и попутно закончив жизнь моего оконного стекла совершенно бесславным образом.
Иными словами, желай Доминик убить меня, он без проблем устроил бы это вчера, без лишних свидетелей и сложностей. Но, видимо, мой троюродный брат и чокнутый киллер по совместительству, хочет со мной поговорить.
Второй вариант: ему нравится убивать при свидетелях, такой вид эксгибиционизма, к примеру. На этот случай я захватил с собой пистолет, который отдала мне Мэнди, но в глубине моей души нет уверенности, что в случае чего я смог бы выстрелить с достаточной надежностью.
Лет в шестнадцать Мильтон учил меня стрелять, как и любой южанин, я в состоянии обращаться с оружием, но особенных успехов в данной области никогда не проявлял, и вот уже четыре года минуло с того момента, когда я нажимал на курок в последний раз.
Доминик сидит в углу, под солнечно-радостным стендом с фотографиями лучших работников. Ровно над головой у Доминика улыбается самой счастливой на свете улыбкой некая Джолин Харрисон, на которую я очень стараюсь смотреть, чтобы не встретиться взглядом с моим новоприобретенным братом.
Я сажусь перед ним, оглядываю невероятное количество еды на его подносе. Жирные, наполненные мясом под завязку кессадильи, коричные палочки и коричные пирожки, одинаково золотистые и пахнущие маслом, начос, политые желтым американским сыром, кусок яблочного пирога, показавшийся аппетитным даже мне и ко всему прочему невероятно, нефизиологично большой стакан с кока-колой. Интересно, как человек может съесть все, что лежит на этом подносе, и остаться с прежним набором внутренних органов? Это вообще возможно?
Если учесть, что мои глаза транслируют всю правду о внешнем мире, то — еще как. Доминик макает коричную палочку в сырный соус, с увлечением и удовольствием жует, вслед за этим принимается за начос, которые посыпает сахарной пудрой от яблочного пирога, а кессадилью и сам пирог вообще употребляет едва ли не одновременно. Доминик так наслаждается жирным, вкусным фастфудом, как будто только что, в грязной, цветастой забегаловке с большим колокольчиком над кассой, нашел смысл своей жизни.
Я некоторое время вежливо сижу, наблюдая за тем, как Доминик подцепляет кусок расплавленного сыра и кладет его на коричный пирожок. Он все еще невероятно красив, и его удивительным образом не портит даже скорость с которой он пожирает еду из «Тако Белл».
Сначала я начинаю постукивать пальцами по столу, потом тяжело вздыхаю, но Доминик не реагирует, продолжая завтракать, а может быть и обедать.
— Ну? — говорю я, наконец. — И что ты мне скажешь?
Доминик подтягивает к себе стакан с колой, втягивает ее через трубочку, цокает языком с таким нескрываемым наслаждением, что ему стоило бы сняться в рекламе.
— Вот эти, — говорит Доминик, указывая на коричные палочки. — Вкусные.
Я некоторое время смотрю на него, стараясь справиться с поступившей мне информацией, потом говорю:
— Хорошо. А еще что ты мне скажешь?
Доминик задумчиво водит трубочкой в стакане, потом говорит:
— Вообще-то все вкусно. Ну, чтобы быть точным. «Тако Белл» — клевый.
— Замечательно. Ты ради этого меня сюда позвал?
Доминик вскидывает на меня взгляд, и синевой меня обдает как морской волной.
— А, — тянет он. — Ну точно. Привет, Франциск.
Доминик берет пластиковую вилку, вертит ее в пальцах, а потом ломает, откидывая кончик с зубцами и пробуя большим пальцем оставшуюся часть на остроту.
— Я могу убить тебя этим, — говорит он. — И чем угодно другим.
— Чудесно, я уже понял, — фыркаю я. — Что-нибудь еще?
— Не ешь мои коричные палочки, я же вижу, как ты на них смотришь. Иначе я воткну сломанную вилку тебе в руку.
Я некоторое время смотрю на его невероятно красивое лицо, пытаясь найти хоть тень мысли в его глазах, а потом поднимаюсь, собираясь уйти, но он перехватывает меня за запястье.
— Но ты же не за этим пришел, Франциск? Не чтобы воровать чужую еду?
— Вообще именно за этим, но раз ты против, то я потерял интерес к нашей встрече.
Я даже не уверен, что Доминик поймет шутку, но он вдруг смеется, заразительно и звонко. А потом так же вдруг перестает, будто его переключили. Теперь он говорит голосом совершенно нормальным:
— Мама получила насчет тебя другие указания. Ты уже предстал перед Ним, одетый плотью нетленной, да? Я просто не очень понял. Мама говорит, что тебя нужно ис-сле-до-вать. Исследовать. Ты первый со времен этого, как его, Лазаря.
Я снова касаюсь пальцами своей шеи, искренне надеясь, что моя голова останется на месте.
— Так что мы будем держать тебя взаперти и считать твой пульс, — заканчивает Доминик. А потом я вдруг подаюсь к нему, хватаю за воротник, зашипев:
— Если ты думаешь, братик, что можешь меня запугать, то ты очень и очень неправ. Ты можешь убить меня, разумеется. А еще я могу убить тебя, находясь от тебя за тысячу километров. И даже после смерти я могу мучить твою душу. Вечно. Ты же католик, ты должен бояться ада.
Доминик отправляет в рот последний коричный пирожок, сосредоточенно его жует и его взгляд не выражает абсолютно никакого страха, но я чувствую, что жилка у него на шее бьется чуть быстрее.
— Ад это плохо, — говорит Доминик, обнажая блестящие, белые зубы. Я считаю веснушки у него на носу, чтобы успокоиться и не двинуть ему. Потому что с большой вероятностью, если я ему двину, он меня убьет. — Так ты согласен? Хочешь коричную палочку?
Доминик продолжает лучезарно улыбаться, и я вдруг отпускаю его. Мне вспоминается та история из отцовской папки. Мальчик без жизни, без школы, без детства. Программа «Дело Господне», и все. Весь Доминик только строчка в отчетах прелатуры его матери. Я сажусь на место, почти пристыженный одной этой мыслью, смотрю на Доминика снова, глаза у него все такие же открытые и яркие.
— Давай начнем еще раз, — говорю я. — Привет.
— Привет, — кивает он.
— Ты меня ненавидишь? — спрашиваю я.
— Нет, — Доминик мотает головой. — Я ненавижу только если брокколи. Для всего остального ненависть — слишком сильное чувство.
Он смеется, и я смеюсь. Я далек от мысли, что Франциск Миллиган приручает чудовищ в перерывах между тупыми историями, в которые он влипает и мошенничеством.
Я пробую отнестись к нему по-человечески вовсе не потому, что хорошее отношение может остановить его от того, чтобы вскрыть мне горло пластиковой вилкой.
Просто все заслуживают в жизни, чтобы к ним относились как к людям, а не как к вещам.
— Хорошо, — киваю я. — Я тоже ненавижу брокколи. У нас есть общие семейные черты, правда?
— Скверна — наша общая семейная черта, — отвечает он спокойно, как отвечают те, кто отлично заучил задание к уроку. — Мы прокляты.
— Это, конечно, плохо.
Я улыбаюсь Доминику, а в ответ он хмурится, как будто не сразу может считать то, что я имею в виду.
— Если плохо, то чего ты тогда улыбаешься? Я читал об этом. О случаях, когда люди улыбаются. Чтобы понравиться. Ты хочешь мне понравиться?
— Конечно, ты же мой брат. Я всегда мечтал о брате. Ты знаешь, что у нас день рожденья в один день? Я родился в Новом Орлеане. А ты где родился?
— Не знаю, — говорит он. — Меня это никогда не интересовало.
Я некоторое время молча вожу ногтем по гладкому столу, стараясь свыкнуться с мыслью о том, что из любого ребенка можно, в теории, воспитать кого-то вроде Доминика. Из меня, например, тоже можно было.
— Понятно, — киваю я, наконец. — Я всегда хотел, чтобы у меня были брат или сестра. А ты?
— Хотел брата или сестру, — повторяет Доминик, будто пробует слова на вкус, не вполне понимая их смысл. — Да, хотел бы. Тогда мне доставалось бы меньше заданий.
Я смотрю на него, а он смотрит на меня, синие глаза у него темнеют, как море, когда наступает ночь.
— Я больше думал о том, что будет кому делать за меня домашки, — говорю я. — Но это почти то же самое.
Доминик фыркает, готовый засмеяться. И тогда я понимаю, что меня в нем смущает. Он — убийца, он пытался убить меня, но я не могу его ненавидеть. В нем нет ни хорошего, ни плохого. Он вообще не человек.
Но я отношусь к нему, как к человеку.
— А что тебе нравится?
Доминик отвечает не задумываясь:
— Есть, спать и шмотки. Люблю каталоги шмоток. Если спросишь про любимую книгу — каталог H&M.
Он замолкает на секунду, а потом с таким видом, будто что-то важное забыл, говорит:
— А ты?
— Что я?
— Что ты любишь?
— Ну, мне нравится все, за что ты меня немедленно убьешь.
— Ты все равно скажи.
Я постукиваю пальцем по столу, а потом действительно все равно говорю:
— Каббалу, таро, спиритизм, теософию и «События прошедшей недели с Джоном Оливером».
— А ты смешной.
— Что, убьешь меня последним?
— Возможно, — говорит он совершенно серьезно, будто этот вариант заставил его задуматься. — А твоя любимая книга какая?
— «Фрэнни и Зуи» Сэлинджера.
— А о чем она?
— О девушке, которая запуталась и не понимает, зачем она себе такая нужна. И ее брате, который запутался не меньше, но помогает ей. А каталог H&M о чем?
Доминик отвечает, не задумываясь:
— О красоте, — он протягивает руку и берет мои очки, добавляет: — По тебе сразу видно, что ты много читаешь.
Доминик примеряет их, скашивает глаза к переносице, вываливает язык.
— Нет, мне не идут.
— С такой-то мордой, которую ты скорчил — не удивительно. А Библия тебе нравится?
Тут Доминик замолкает, так и оставшись в моих очках. Он правда смешно выглядит, но взгляд у него становится серьезным.
— Местами — она интересная, ну когда там про войны и Апокалипсис, в основном. Мама говорит, что Библия — самая важная книга.
— Самая важная книга у каждого своя.
— Мама лучше знает, — неожиданно резко отвечает Доминик. — Я по одному только поводу переживаю.
Доминик, перегнувшись через стол, наклоняется ко мне, и я вижу, как из ворота его рубашки выскальзывает начищенный серебряный крестик.
— Хочу айфон, — говорит он осторожно, и тыкает пальцем куда-то в сторону девочек, напряженно делающих селфи за столом. — Но они изобретения дьявола.
— Они изобретения Стива Джобса.
— Это еще одно имя дьявола?
Доминик смеется, невероятно красиво, с переливами — так накатывает на берег волна, а потом отступает. Но когда он спрашивает, голос его холоден и серьезен.
— А смерти боишься?
Еще пару дней назад я ответил бы «нет, разумеется». Но сейчас первое, что встает у меня перед глазами — моя собственная раскрытая грудная клетка, откуда папа достает сердце, пятно моей крови на линзе его очков, моя собственная голова, которую отец пришивает обратно к моему собственному телу.
— Да, — говорю я честно. — Это страшно.
— Ты — проект «Лазарь» со вчерашнего дня, — замечает Доминик так, как будто я должен все сразу понять. Он снимает мои очки, возвращает их.
— Что это значит? — спрашиваю я.
Доминик смотрит на часы, они очень забавные — ядерно-оранжевые с открытым механизмом. Наверное, это модно.
— Это значит — уходи.
Он снова подается ко мне, но теперь зубы у него обнажены, так что становится даже чуточку жутковато. Как животное, которое пытается кого-то прогнать.
— Уходи, сейчас. Не надо было мне столько с тобой болтать. Мама правильно говорит, что болтать — плохо и грех. Все грех, все грех, нет спасения.
Последнее Доминик произносит задумчиво, будто бы его что-то резко отвлекло, а потом, сжав осколок от пластиковой вилки, полосует меня по щеке, легко и больно.
— Уходи. Сейчас. Иначе я тебя убью. Все равно будет лучше, если я тебя убью.
Я чувствую, как кровь обжигает мне щеку, ее совсем немного, но этого достаточно, чтобы вспомнить вчерашний сон. Впрочем, мне хватает мозгов не спрашивать у Доминика, что случилось и как с этим дальше жить.
Уже на выходе из кафе, я оборачиваюсь и смотрю, как Доминик одной рукой держит остатки кессадильи, а другой набирает номер на старом, каких я думал уже не бывает, телефоне.
Я выхожу на улицу, чувствуя, как хорошо, как потрясающе вдохнуть прохладный, летний и совершенно лишенный запаха канцерогенного масла воздух. Он пахнет сладко, от летних цветов, которых у нас в городе всегда много-много, а кроме того чуточку тянет болотом, но даже это до странного приятно.
Я стараюсь не медлить, услаждая свои органы чувств летним Новым Орлеаном, а добраться до машины как можно быстрее. Вдруг на Доминика нашло неожиданное и милосердное настроение, тогда стоит им воспользоваться.
Знаете, как это бывает в фильмах ужасов? Открывая дверь своей черной, блестящей, любимой машины, я уже чувствую себя в безопасности, можно сказать, что как дома. И именно в этот момент прекрасный, летний воздух вдруг превращается в горькое, химическое марево, от которого все потухает у меня перед глазами.
Я еще успеваю почувствовать тряпку прижатую к носу и подумать, что, может быть, лучше бы меня просто вырубили, и даже почувствовать под пальцами пистолет, но — только почувствовать.
А потом пропадает совсем все.
Пробуждение сложно назвать очень приятным, с одной стороны во рту у меня так сухо, будто бы я провел занимательный уикенд в пустыне, а с другой стороны — сверху на меня льется холодная вода. Я пробую отвернуться, чтобы она не попадала в нос, но ничего не выходит, шея крепко зафиксирована. Попытки дергаться, я тем не менее не прекращаю, они абсолютно рефлекторные, я просто стараюсь не утонуть.
Сквозь страх и желание вдохнуть, я слышу мужской голос с густым, как соус к пицце, итальянским акцентом:
— Стресс-тест положительный.
— Зрачки, — приказывает другой голос, женский и стальной, как тот голос, что объявляет названия станций в Нью-Йорке, но все с тем же явным ирландским акцентом, к которому я начинаю привыкать.
Кто-то давит мне на основание брови, заставляя открыть глаз.
— Сужаются на свет.
Сфокусировать взгляд у меня получается далеко не сразу. Только спустя пару секунд, я вижу женщину, склонившуюся надо мной. Она чем-то напоминает Доминика, у нее милое, веснушчатое лицо с чуть вздернутым носом, она выглядит куда моложе, чем на фотографии, которую я видел. Могла бы казаться молодой девушкой, если бы не жесткий, почти до злости, взгляд.
Я смотрю на Морриган, а потом выдаю первое, что пришло бы в голову любому южанину, начиная с Дэлавера и Мэриленда и вплоть до Миссури:
— Мой папа убьет тебя!
Тут я, разумеется, осознаю, что мне несколько больше десяти, и добавляю:
— То есть, я тебя убью.
Да, так намного лучше. Наконец, я могу осмотреться, хотя и с трудом. Голова у меня хорошо зафиксирована, руки и ноги тоже, я лежу на чем-то вроде операционного стола, что сразу вскруживает мне голову не самыми лучшими воспоминаниями о том сне, где у меня изнутри доставал сердце мой отец. Несмотря на операционный стол, в месте, где я оказался нет ничего больничного, пахнет сыростью и ужасно холодно, вокруг кирпичные стены крепкой кладки, кроме того довольно тесно.
— Вы что, как первые христиане живете в катакомбах?
Морриган чуть вскидывает бровь. На ней строгий темно-синий строгий костюм с аккуратно повязанным красным галстуком, куда больше она напоминает бизнес-леди, чем главу прелатуры Католической Церкви.
— Будь я в твоем положении, я бы не начинала с угроз и разоблачений. Святой отец, мне нужен его пульс, функция внешнего дыхания, температура и давление.
Святой отец, это, видимо, тот мужчина с итальянским акцентом, но он стоит у меня за спиной, и рассмотреть я его не могу, даже когда он прикладывает пальцы к жилке на моей шее.
— Вы будете требовать за меня выкуп? — спрашиваю я, хотя я прекрасно помню, что говорил мне Доминик, про проект «Лазарь».
Морриган снова вскидывает бровь, скрещивает руки на груди каким-то учительским движением.
— Разумеется, нет. Не переживай, долго мы тебя здесь держать не будем. Через пару дней, мы перевезем тебя в Италию.
— Потрясающе, но экскурсия по городу, я полагаю, включена в стоимость поездки не будет?
А потом Морриган вдруг смеется, и смех у нее оказывается неожиданно звонким, почти девчачьим. Она расстегивает на мне рубашку, обнажая шею, проводит аккуратно подстриженным ногтем по шраму.
— Слушай меня внимательно, Франциск. Меня интересует в тебе исключительно то, как ты, будучи обезглавленным, как цыпленок, в одиннадцать, умудряешься быть жив и здоров по сей день.
Она выхватывает пистолет, приставляет его, тесно и холодно, к моей щеке.
— А язык я тебе могу и отстрелить, если ты будешь использовать его слишком активно.
Я хочу было сказать, что все в совокупности прозвучало как экспозиция дешевого порно с доминантной дамой, но замолкаю, как только чувствую металл у своей щеки.
— Хороший мальчик, — говорит Морриган. Когда она убирает пистолет, я успеваю увидеть слова, выгравированные на нем.
«Но прежде мертвые воскреснут нетленными.»
— Святой отец, мне нужны все его жизненные показатели. Как можно быстрее. Я отошлю их нашим коллегам из Ватикана. И главное, ни в коем случае, не давайте ему спать, он медиум.
Морриган уходит, оставив меня со святым отцом, которого я, наконец, могу рассмотреть. Ничего особенно страшного, у нас таких потомков итальянских иммигрантов довольно много: у него темные, теплые глаза и кроткие черты лица, придающие ему какой-то дружелюбный вид. Разумеется, он в сутане и со снежно-белой колораткой.
— Падре, зачем вам похищать людей? Вы же слуга Божий? Или как? Вы ведь, наверное, и присягу какую-то давали.
Святой отец вместо ожидаемого ответа, просто сует мне в рот градусник.
— Чудесно, — говорю я неразборчиво.
— Потише, пожалуйста. Можешь сбить температуру, а нам нужно точно знать.
— Но вы не понимаете, я же…
Человек? Личность? Обладаю естественными правами на неприкосновенность?
Я замолкаю, стараясь прощупать хотя бы кончикам пальцев, как именно у меня связаны руки, защелка или узел удерживают меня. Ремни оказываются излишне крепкими, и до замка я не могу даже кончиками пальцев дотянуться. Машинально, чтобы делать хоть что-то, я стараюсь царапать кожу ремней, но этим я могу заниматься до того, как Иерихонская труба протрубит и ни капли не продвинуться.
— Это ты не понимаешь, — терпеливо объясняет мне святой отец, померив мое давление и выписывая теперь результаты в свой блокнот. Я пытаюсь повернуть голову, чтобы увидеть стол, за которым он сидит.
Серьезно, католики до сих пор живут в катакомбах?
— Благодаря тебе, мы можем научиться воскрешать мертвых.
— И что церковь снова станет великой и востребованной?
— Нет, — говорит вдруг святой отец, серьезно говорит и просто. — Но люди смогут вернуть тех, кого они любят. А мертвые смогут вернуться домой.
Кто же у тебя умер? Я сразу понимаю, что святой отец тут не просто так, не за идею. Большинство людей не будут идти за такими идеями. Слишком они далеки, слишком нереальны.
В воскрешение может поверить только тот, кто кого-то, когда-то терял. Давай, Фрэнки, ты ведь занимался мошенничеством на сцене, сможешь заняться и на кушетке. Я смотрю, как покачивается на груди у святого отца крест, золотой, красивый.
— Как вас зовут?
— Стефано.
— А меня Франциск.
Я искренне уверен, что зная имя другого человека, любой проникнется к нему чуть большим сочувствием и пониманием. Безымянные, бесчисленные жертвы нас, к сожалению, не трогают. Но все, кто наделен именами в нашем понимании настоящие, и нам куда легче им сочувствовать.
Я когда-то читал, что некоторые гностики считают, когда Адам давал имена всему Эдемском саду, этим и было по-настоящему закончено творение мира.
Падре Стефано сосредоточенно щупает мои лимфатические узлы под горлом, я дергаюсь, но не от боли, мне просто неприятно и унизительно, что со мной обращаются, как с собакой на ветеринарном осмотре.
Может быть, я для него не живой или не человек? Разумеется, медиум да еще и с пришитой головой. Так и не сумев вывернуться, я говорю.
— Вы ведь кого-то потеряли, да?
Падре Стефано смотрит на меня и не отвечает. На вид он чуть младше моего отца. Кого он потерял? Давай, Фрэнки, это ведь твоя работа. Потеряв жену, не идут в священники, потому что в мире всегда остаются другие женщины. Потеряв ребенка, не идут в священники, потому что всегда остается жена, а значит шанс завести еще одного ребенка и этим утешиться.
А вот потеряв жену и ребенка вместе, одновременно, человек может не найти в своей жизни больше ничего, что удержало бы его в мирском.
— Вы потеряли жену и сына? Да?
Он смотрит на меня чуть прищурившись. Я специально говорю не «ребенка», и впервые надеюсь не угадать. Пусть не думает, что я стараюсь применить свои способности.
— Дочку, — говорит он, видимо, прийдя к тому выводу, к которому я его подталкиваю. Я просто пытаюсь поговорить, никаких медиумских штучек.
— Одновременно?
— Да. Автокатастрофа.
Я молчу, перевожу взгляд на потолок.
— Мне очень жаль, — вздыхаю я, кстати говоря искренне, ведь нет ничего хорошего в мертвых детях. Он снова принимается записывать что-то в своем блокноте.
— Мне тоже. Я был виноват.
Тоже вполне понятно. Всем хочется исправить свои ошибки, всем хочется увидеть еще раз своих родных, извиниться перед ними, обнять.
Я говорю:
— Понимаю, почему вы этим занимаетесь. Я имею в виду, будь я на вашем месте, я бы тоже хотел все исправить. Я был бы рад, если у вас получилось. Даже непрочь сдать кровь или что-то такое, если это поможет кого-нибудь воскресить. Но, понимаете, дело в том, что у меня тоже есть папа. И он за меня волнуется. Я бы очень хотел его увидеть или услышать.
— Ты же понимаешь, что это невозможно?
— Нет. Вы же пошли в священники ради одной единственной, теоретической, никем не доказанной возможности воссоединиться с вашими родными после смерти.
Я, на свой собственный взгляд, завернул последнюю реплику так удачно, что тут же жалею, не оказавшись на сцене в тот же миг. Отец Стефано смотрит на меня долгим, но при этом почти неощутимым взглядом, а потом чуть двигает головой, так что движение нельзя интерпретировать с точностью как отказ или согласие.
И все-таки я знаю, что семечко, только маленькое семечко сочувствия ко мне, я все-таки заронил. Главное, чтобы оно успело прорасти до того, как я сменю свой юг на итальянский.
— Пожалуйста, мне не нужно, чтобы вы что-то делали, просто дайте мне заснуть ненадолго, и я сам. Просто скажу папе, где я, чтобы ваше начальство могло с ним договориться? Понимаете?
Но заснуть мне отец Стефано, разумеется, не дает. Вообще больше со мной не разговаривает, и именно поэтому я понимаю, что что-то у него внутри все-таки затронул. Он снимает бесконечные показатели: как я дышу, как бьется мое сердце, с какой скоростью сокращаются зрачки, прощупывает мои внутренние органы. Я даже узнаю, что последний неприятный процесс именуется пальпацией, и что как минимум у меня есть печень, и если долго пытаться ее нащупать, на животе остаются синяки.
— Не хотите стать моим терапевтом? — спрашиваю я, но отец Стефано мне больше не отвечает. Интересно, до того как стать священником, каким он был врачом? От хлороформа меня все еще очень клонит в сон, но подремать мне не дают. Если же я вырублюсь от усталости, то вряд ли смогу успеть выйти в мир мертвых, чтобы связаться с семьей.
Морриган возвращается примерно часа через два, хотя мне довольно сложно сказать — ощущение времени у меня теряется очень быстро, иногда даже в какой-нибудь особенно длинной очереди.
Святой отец передает ей все, что хотел сказать мой организм, она сосредоточенно читает.
— Отклонения от нормы минимальные? — спрашивает она.
— Да. Их практически нет. Перед нами здоровый молодой человек, все показатели соответствуют его росту и возрасту.
— Я близорукий, если это кого-нибудь интересует. Минус шесть, и я себе льщу.
Морриган оборачивается ко мне, смеряет меня своим учительским взглядом, потом медленно подходит, будто я укушу ее или еще что-то опасное выкину.
— Чудесно. Здоровый молодой человек, наверняка, выдержит долгий перелет и работу с ним настоящих, квалифицированных танатологов нашего Ордена.
Морриган снимает с меня очки, аккуратно складывает их и кладет на стол.
— А все католики такое воплощение зла или только вы, мисс? А вы — всегда или только…
На этот раз Морриган достает не пистолет, а шокер, и электрический заряд бьет меня так больно, что я злорадно думаю, как только меня отпускает: если у меня остановится сердце, то-то Его Святейшество Морриган не похвалит.
— Используйте вот это, святой отец, если он будет пытаться спать. И не дайте мальчишке-медиуму вас обдурить.
Она обжигает меня синим, холодным взглядом, и я кривлюсь в ответ.
Глава 5
Следующие пять часов проходят не лучшим образом. Я имею в виду, что лежать неподвижно затруднительно само по себе, но когда тебе кроме того не дают еды и перестают давать воду, жизнь начинает казаться сущим адом.
Отец Стефано неохотно объясняет, что завтра у меня нужно будет взять анализ крови, и они хотят видеть мою кровь как можно более чистой. Он старается на меня не смотреть, а я периодически рассказываю отцу Стефано, что сказал бы Бог, если бы падре дал мне хоть двадцать минут сна. Падре не реагирует, по крайней мере внешне, но я продолжаю верить в одно из двух: возможно либо пробиться в сердце человека, вызвав у него искренние эмоции, либо достать его так сильно, что он перестанет обращать на меня внимания.
Впрочем, пару раз, когда я пытаюсь незаметно задремать, святой отец, игнорируя все советы Господа Нашего по этому поводу, награждает меня электрическим разрядом шокера.
А потом в мою комнату, келью, палату или как ее назвать, заходит Морин Миллиган. Она перебирает свой розарий с видом кротким, будто рождественский агнец.
— Падре, вы можете отдохнуть, я посижу с ним.
Когда мы с Морин остаемся одни, она берет стул и садится рядом, говорит:
— Наверное, мы не самые гостеприимные люди.
— Наверное, — говорю я. Язык у меня во рту, кажется, ворочается с большим трудом, распухший и горячий. — Но если бы вы подали мне стакан воды, я бы все простил.
Морин смотрит на меня, потом мотает головой, аккуратным, осмотрительным движением.
— Нет.
— Вы ведь не ради анализа крови не даете мне пить? Вы хотите проверить, выносливее я, чем другие или нет?
Морин не кивает и не качает головой, просто смотрит на меня очень внимательно, своими совсем не старушечьими глазами.
— Умный мальчик.
Она еще некоторое время молчит, рассматривая меня, потом говорит:
— Ты можешь поспать, пока я здесь.
— Я хочу есть, я хочу пить, мне неудобно лежать, у меня болит каждая из моих двести восьми костей.
Но как только Морин кладет руку мне на голову, так, как делала бы это бабушка, которую я никогда не знал, мягким, ласковым движением, я тут же зеваю. Кто как, а я не имею привычки смотреть в зубы дареным коням, поэтому если уж у меня есть шанс поспать, я посплю.
Я долго пытаюсь оказаться в мире мертвых, но когда засыпаю, то снится мне снова цветной, настоящий сон, который нагнала на меня Морин. Мне снится наш сад, и прекрасная летняя ночь, из тех, когда все в мире кажется красивым, правильным, поправимым. Одурительно пахнет садовыми цветами и влажной, холодной землей. Я вижу Мэнди, которая сидит на краю разрытой ямы и болтает ногами. На ней летнее, легкое, но черное платье, и движения у нее такие же легкие.
Но она плачет. Никогда я не видел, чтобы Мэнди плакала. Мильтон говорит, что ей можно вырезать аппендицит без анестезии, и она не пустит и слезинки. Но сейчас Мэнди плачет, совершенно беззвучно, не всхлипывая, не вздыхая: слезы просто текут у нее по щекам, падая в бездну ямы, над которой она болтает ногами. Как только в саду появляется отец, Мэнди утирает слезы, говорит:
— А если яма будет слишком глубокая? А если она будет недостаточно глубокая? Он сможет выбраться?
Отец поправляет очки, смотрит внутрь, в темную пустоту ямы, и я уже понимаю, что это за яма. Моя могила. Это будет моя могила.
— Мы все рассчитали, Мэнди. Она должна быть в самый раз.
Мэнди и папа смотрят друг на друга, как будто оба не в силах понять, почему они обсуждают оптимальный размер могилы для ребенка, когда стоило бы обсуждать его оценки в школе или количество мультфильмов, разрешенных к просмотру за один вечер.
— Скоро мы начнем? — спрашивает Мэнди. Она встает, и я вижу, что Мэнди совсем босая, ноги у нее перемазаны землей. Мэнди вытаскивает у папы из кармана нож, и вдруг зубасто улыбается.
— Мне не терпится попробовать.
— Мне тоже, — папа смотрит на часы, потом говорит. — Двадцать пять минут и семнадцать секунд до полуночи.
Мильтон несет в сад меня. Я в черном, праздничном костюмчике, похожем на те, что я ношу сейчас. За воротником не видно стежков, которые соединяют мою голову с телом. По щекам у меня идут заметные даже в темноте трупные пятна, на которые я не хочу смотреть. Итэн следует за Мильтоном, у него в руках фонарик и книжка, слова из которой он повторяет, не издавая ни звука, только шевеля губами.
— Пора, — говорит Райан. — Нам нужно его закопать.
Мильтон, все еще удерживающий меня на руках, смотрит как-то странно, и мне кажется вдруг, что он меня не отдаст. Но, в конце концов, Мильтон гладит меня по волосам, как будто на прощание и послушно укладывает меня в разрытую могилу, бережно, как укладывают в кровать заснувших перед телевизором детей.
Итэн всхлипывает шумно, а потом говорит:
— Можно не смотреть?
— Нельзя, — говорит Райан. — Мэнди, милая, передай лопату. Закапывать должны мы с тобой.
Говорит папа деловито, как будто происходящее не вызывает у него ни единой эмоции, но руки у папы дрожат. Он и Мэнди закапывают меня. В какой-то момент папа останавливается, когда из-под земли торчат только мои пальцы, белые и безвольные. Папа смотрит в яму абсолютно пустыми глазами, как будто не совсем верит в то, что делает.
— Давай, — шипит Мэнди. — Давай, Райан. Ты можешь.
Она за все это время не останавливается ни разу, даже чтобы просто передохнуть. Когда яму они с отцом все-таки зарывают, папа разравнивает землю, как будто бы очень важно, чтобы все было до сантиметра аккуратно.
Мэнди щелкает пальцами перед носом Итэна, с увлечением повторяющего слова из своей книжки.
— Братишка, быстро принеси нам чашку из дома.
Итэн принимает слово «быстро» слишком близко к сердцу, потому что возвращается меньше, чем за минуту, изрядно запыхавшийся. Он приносит чашку с кухни, старую чашку, которую папа привез из Лондона. Сейчас от чашки уже откололся кусочек, но тогда она была еще целая и совсем новенькая. На ней изображен британский флаг, и я часто пью из нее кофе.
Мэнди берет у Итэна чашку, подкидывает в руке и ловит, потом поднимает с земли папин нож, и полосует себя по ладони, глубоко и сильно, даже не поморщившись. Кровь она стряхивает в чашку, и передает ее вместе с ножом папе. Папа делает то же самое, спуская кровь в чашку, много крови. Итэн и Мильтон поступают так же, и чашка оказывает почти наполненной к тому времени, как снова оказывается у Мэнди. Она делает глоток, размазывает остатки крови на губах тыльной стороной запястья. Кровь из чашки отпивают и все остальные, а потом отец кивает Итэну, и тот начинает что-то читать. Я не знаю языка, на котором он говорит, но Итэн старательно выговаривает каждое слово, будто бы от этого зависит его жизнь.
Моя жизнь. От этого зависит моя жизнь.
Первым к могиле подходит Мильтон. Он выливает остатки крови из чашки на могилу, говорит:
— Возвращайся, малыш.
А потом Мильтон берет нож и втыкает его себе в ладонь, расковыривая рану, так чтобы кровь не просто шла, чтобы она текла. Мильтон кривит красивые губы, а потом касается израненной ладонью земли, позволяя ей впитывать его кровь. Я машинально волнуюсь за дядю, который может подхватить столбняк или ботулизм, хотя прошло вот уже одиннадцать лет, Мильтон живет и здравствует, насквозь проспиртовав свой организм.
Итэн передает отцу книжку, и отец подхватывает чтение на полуслове, будто бы говорит на родном языке. Я не представляю, что Итэн без колебаний проткнет себе руку ножом, но он делает это быстро и решительно, с неожиданным спокойствием.
— Иди сюда, Фрэнки, — говорит мне Итэн.
Он прикладывает ладонь к земле, замирает, напоминая человека, который просто очень-очень сильно скорбит, упав на колени перед могилой.
Когда Итэн отходит и берет книжку назад, папа и Мэнди переглядываются, и мне кажется, что они беззвучно говорят о чем-то. Папа достает пузырек с таблетками, берет две: одну для себя, а другую для Мэнди.
Отец снимает пиджак, скидывает подтяжки, расстегивает рубашку и бросает ее на землю, оставаясь только в брюках, а Мэнди стаскивает платье, стоя в одном белье. Как-то неудобно смотреть на собственную тетю, когда она почти обнажена, но не смотреть я не могу тоже. Мильтон протягивает папе второй нож, а Мэнди берет уже окровавленный у Итэна.
Движения у папы и Мэнди абсолютно синхронны, до доли секунды, и они совершенно одинаковые. Папа и Мэнди наносят себе порезы, длинные и довольно глубокие: ключицы, руки, плечи, спина, живот. Куда больше это похоже на танец, чем на самоистязание, настолько проработанные, почти красивые у них движения. Отец не смотрит на Мэнди, а Мэнди не смотрит на отца, но каждый порез они наносят себе безошибочно точно. Кровь стекает вниз, капли падают на мою могилу, впитываясь в землю.
— Здесь лежит наш сын, — говорит папа. — Позволь ему перейти границу.
— Прими наши подношения, — говорит Мэнди.
— Его сердце взяли и вернули.
— Ты взял нашего мальчика, как мы взяли его сердце.
— Верни его, как мы вернули его сердце.
И я не узнаю их голосов. Они продолжают наносить себе порезы, ни разу не ошибившись в последовательности движений, не сбившись, и их начинает шатать. Зато я вижу, что кровь, стекающая на землю постепенно темнеет, как если бы они проводили обряд в мире мертвых.
Где-то в глубине, под землей, тканью одежды, моей кожей, плотью и костью, покоится мое сердце, которое папа вынимал из меня и вшивал обратно. И я не представляю, как оно сможет забиться снова.
Я слышу, что Итэн перестает читать, они с Мильтоном опускаются на колени у могилы, на этот раз не как скорбящие, а как просящие. Мэнди и папа одновременно останавливаются, Мэнди делает шаг назад, обессиленно опускается на колени между Итэном и Мильтоном, а папа остается стоять. Он раскидывает руки, в карикатурно-жертвенной позе, кровь стекает даже с кончиков его пальцев.
Папа замирает, а потом я вижу, что порезы появляются на нем сами по себе: два на щеках, два на шее.
И папа кричит, но явно не из-за ран. Кричит так, как будто внутри у него происходит что-то другое, невыразимое и страшное. Мильтон вскакивает было, чтобы метнуться к нему, но Мэнди и Итэн удерживают его.
— Нет, — говорит Итэн. — Его испытывают.
— Он должен почувствовать физически все свои страдания от потери сына. Если выдержит, предложение будет рассмотрено, — шепчет Мэнди.
Папа кричит так громко, что я радуюсь отсутствию соседей в обозримой области. А потом он вдруг замолкает, падает на колени, готовый, кажется, потерять сознание.
И я слышу, как с надсадным, невероятно громким звоном вылетают в доме окна. Звон такой оглушительный, что Итэн зажимает уши. А потом Мильтон вдруг говорит, вообще не своим голосом говорит. Как говорил тот демон с алыми глазами без зрачков до того, как позаимствовать мой голос.
— Ваши подношения приняты.
И все стихает, ночь снова становится тихой и летней. А потом я слышу шевеление, приглушенное, исходящее из-под земли. И остальные его тоже слышат. Папа остается на месте, совершенно неподвижный, а Мильтон, Итэн и Мэнди бросаются меня откапывать. Первыми из-под земли показываются мои пальцы с обломанными ногтями, испачканные грязью. Родители вытаскивают меня из ямы, а я кашляю, кашляю и не могу остановиться. Глаза у меня шальные и совершенно бессмысленные, но вот голова явно на месте. Они обнимают меня, Мэнди прижимает меня к себе, целует мне щеки и лоб, пока я пытаюсь надышаться.
— Детка, Фрэнки, нечего бояться, ты дома, ты дома, мой милый, мы нашли тебя. Все хорошо, сыночек, теперь все хорошо.
Я ничего из этого не помню, и более того, я не удивлен, что не помню этого. Кажется, я все еще не осознаю себя, меня трясет, и меня обнимают, чтобы унять дрожь.
Наконец, Мильтон приносит меня папе, папа с трудом поднимает голову, а потом тоже обнимает меня, касается губами моей грязной макушки. Мой папа, брезгливый и невротически зависимый от моющих средств.
Я понимаю, почему именно я называю своими родителями всех четверых. Потому что они дали мне жизнь, во второй раз, вместе. Они обнимают меня, испачканного землей, и пачкают кровью, и в этот момент я испытываю такую дикую благодарность. Такую невероятную, тянущую внутри, как открывшееся кровотечение благодарность, что даже просыпаюсь. А проснувшись понимаю, что именно сказали папа и Мэнди. Они сказали «наш сын». Мэнди вела себя вовсе не как женщина, которая потеряла племянника, даже очень любимого, она вела себя как будто потеряла сына.
То есть, все это время они лгали мне про мою сбежавшую маму? Моя мама вовсе не сбежала и всегда была рядом. Просто она была близняшкой моего отца. Думать об этом странно. То есть они…
Нет, эту мысль я стараюсь подавить в самом зачатке, насколько логично она бы не вытекала из того, что я узнал.
Я не чувствую отвращения или ощущения собственной неправильности, ничего такого. Мэнди ведь в любом случае заменила мне маму. Зато я чувствую обиду за то, что они никогда не рассказывали мне, кто я такой. Сын родных брата и сестры, да еще и зомби ко всему прочему.
Когда я открываю глаза, Морин все еще сидит на стуле, будто не двигалась все это время. Впрочем, я не знаю, сколько часов прошло, здесь ведь нет окон, чтобы увидеть день сейчас, вечер или ночь. Мне вдруг становится как-то невероятно тоскливо, но я даже перевернуться не могу, чтобы хоть как-нибудь изменить происходящее.
Морин говорит:
— Это то, что ты есть. Грязь и скверна, засохшая кровь. Тебя и быть-то на свете не должно.
Она говорит без злости Морриган, вообще без какой-либо эмоции, но мне почему-то становится так обидно, что я сам себе прикусываю пересохший язык, потому что слюны почти не осталось, и сплевываю кровь Морин на щеку.
Что-то во мне протестует против такого обращения со старой леди, но вот все остальное ликует. Морин стирает кровь с щеки, чуть склоняет голову набок, потом говорит так же спокойно.
— Твоя проклятая кровь меня не пугает: у меня такая же. Впрочем, дети Моргана понятия не имеют, что они наделали, и к кому обратились за помощью. Если они надумают поговорить со мной, пусть найдут меня в церкви святого Альфонса.
Морин подмигивает мне, потом поднимается на ноги, я вдруг понимаю, что не без труда, со свойственной старикам тяжестью движений. Когда вместо нее возвращается отец Стефано, я даже не пытаюсь с ним разговаривать, настолько я погружен в свои мысли. А потом отец Стефано вдруг прижимает к моим губам бутылку с минеральной водой. Разумеется, я пью с благодарностью и вовсе не думаю из гордости отказываться от воды. Неутолимая жажда, оказывается утоленной довольно быстро.
Я шепчу одними губами:
— Спасибо.
А потом вдруг говорю:
— Отец Стефано, — и он вздрагивает. — Дайте мне, пожалуйста, двадцать минут. Вы бы хотели, наверное, сделать для ваших родных то, что сделали для меня мои родные. Любой бы хотел. Просто представьте на секунду, что вы вернули себе дочку, хотя бы дочку, вырастили бы ее, она стала бы взрослой девушкой, и вы бы ей гордились, а потом она бы пропала, и вы никогда бы больше ее не увидели. Представляете?
Но падре не внимает моим словам, отходит к столу и ставит полупустую бутылку. У меня так невозможно болит каждая кость, что я даже не успеваю расстроиться из-за своего очередного дипломатического провала.
Через некоторое время оказывается, что мои слова не пропали даром. Когда я закрываю глаза, чтобы попробовать заснуть, выскользнуть в мир мертвых, то не получаю очередной удар током. Вряд ли святой отец потерял разом всю свою внимательность и не видит, что я закрыл глаза. Я даю себе зарок вернуться как можно быстрее, чтобы не подставлять несчастного падре под карающую руку, а тем более пистолет Морриган.
Открыв глаза в полной, непроницаемой темноте, я желаю оказаться в нашей дурацкой гостиной, в месте, где я разливал краски, когда был ребенком и разливал пиво, когда был подростком, в той самой гостиной, где мне никогда не нравился интерьер, и где мы с Мильтоном хотели раскрасить все стены в ядерные цвета. Я представляю гостиную во всех подробностях, и когда оказываюсь там, то понимаю вдруг, как невероятно люблю свой дом, как соскучился по нему, как боюсь больше никогда его не увидеть.
Но времени на переживания по этому поводу у меня нет. Я собираюсь уже подниматься в свою комнату за доской, но понимаю вдруг, что доска лежит на столе. Они, наверняка, уверены, что я буду пытаться с ними связаться.
Я подхожу к доске, шаги мои гулко раздаются в окружающей меня темноте. В гостиной тихо-тихо, но я не могу с точностью знать, есть ли кто-нибудь в мире живых.
Я беру указатель и касаюсь его острием слова «привет», оно загорается под пальцами. Я жду ответа, но ответа нет. Все равно, что пытаться дозвониться человеку на мобильный с выключенным звуком. Слово гаснет, и я снова веду к нему указатель, чтобы оно опять засияло голодным, белым светом. Чтобы пообщаться со мной, родители должны пожертвовать немного своей крови. Как жетончики, которые бросаешь в телефонный автомат. Я настойчиво требую общения, раз за разом указывая на одно и то же слово. Разумеется, я мог бы вызвать сюда, в мир мертвых кого угодно из них, но я истощен и не уверен, что справлюсь, а силы, которые я использую в этой попытке нужны мне для поддержания себя в мире мертвых.
Наконец, слово «привет» наполняется рубиново-красным светом. Кто-то кормит доску кровью снаружи. Я пишу:
«Папа? Мильтон? Итэн?»
Помедлив, я дописываю:
«Мама?»
Указатель начинает двигаться так быстро, что удерживать его сложно. Было бы жутковато, если бы я не знал, что мир живых с той стороны, и никаких ужасных чудовищ там отвечать мне не может.
Мне отвечают:
«Что с тобой случилось? Где ты? Где тебя найти?»
И хотя мне не ответили, кто со мной говорит, я вдруг отлично понимаю, это Мэнди.
Мама?
Я пишу:
«Я у Морриган, главы сектантов. Я все знаю про то, что вы меня воскресили. Они тоже все знают. Они хотят увезти меня в Италию, чтобы узнать, как воскрешать мертвых. Я — проект «Лазарь». Я в каких-то катакомбах. Тут холодно, как под землей, и темно. Морин Миллиган сказала, что вы можете найти ее в церкви святого Альфонса. Свяжитесь с ней. Я связан, и у меня все затекло.»
Послание получается сбивчивое, но больше времени у меня нет, да и сил осталось очень немного, нужно возвращаться.
Я, не дожидаясь ответа, открываю глаза в реальном мире, который в кой-то веке так же безрадостен и темен, как мир мертвых. Отец Стефано сосредоточенно пишет что-то в блокноте, делая вид, что не замечает меня.
Еще некоторое время я размышляю о том, дошло ли мое сообщение, что будут делать мои родители, что стоило бы сделать мне. Каждый из этих вопросов слишком сложный, чтобы я мог успокоить себя ответом.
Вскоре я слышу, как кто-то скребется в дверь, и я слышу голос Доминика. Доминик говорит:
— Мне сказали побыть с ним вместо вас, отец Стефано.
Первое, что говорит мне Доминик, когда падре оставляет нас вдвоем:
— Я соврал, — он заговорщически улыбается и продолжает:
— Но мама и бабуля все равно заняты, он не будет их отвлекать.
Еще некоторое время Доминик молчит, а потом добавляет:
— Привет, — он тихонько смеется. — Я не буду спрашивать, как у тебя дела, ладно?
— Ладно, — соглашаюсь я. — Как считаешь, Доминик, это будет начало отличной дружбы, если ты отцепишь меня на полчасика? Я имею в виду, мне в этой жизни еще пригодится способность ходить или хотя бы вертеть головой.
Доминик смотрит на меня, и взгляд его совершенно не читается, я не знаю что за ним, как не могу знать, что скрывается за закрытой на замок дверью.
Наконец, Доминик говорит:
— Разумеется. Если ты попытаешься сбежать, я тебя убью. Ты это знаешь?
— Осознаю.
Когда Доминик расстегивает ремни, я, пошевелившись, чувствую в затекших руках, ногах и шее такую боль, что сползаю со стола вниз, прямо на пол.
— Скоро пройдет, — говорит Доминик. — Меня так наказывали за непослушание в аббатстве.
Я с трудом поднимаю голову, чтобы посмотреть на него, а Доминик вдруг садится на пол совсем рядом, добавляет доверительно:
— Нельзя радоваться, когда убиваешь. Нужно убивать только для того, чтобы сделать дело. Понимаешь? Так решил Господь.
Разминая кисти, я стараюсь справиться с болью, которая, кажется, засела глубоко в костях. Доминик смотрит на меня абсолютно спокойно, его синие глаза кажутся темнее, чем они есть на самом деле, как и его веснушки.
— По-моему, Господь решил, что нельзя убивать. Вообще. Никого. Никогда.
— Из людей. А таких, как ты — можно.
Доминик водит пальцем по бетонному полу, морщится периодически, будто бы пытается нарисовать что-то красивое, а у него не получается.
— Я делаю то, чего Бог не может сделать, потому что он хороший, — говорит Доминик. — А я — плохой.
— Если тебе приходится это делать, может быть Бог тоже плохой, раз создал такой мир, где непременно надо убить живое существо, чтобы стать чуточку ближе к Нему.
И неожиданно для меня, Доминик говорит:
— Может быть.
Он говорит:
— Меня учили, что мы так делаем, потому что когда умрет последний из вас, медиумов, связывающих мир живых и мир мертвых, мы сможем уничтожить темноту. Ты знаешь, что такое темнота?
— С точки зрения физики, да и то — очень абстрактно.
Доминик улыбается уголком губ, вроде бы совсем чуть-чуть, но мне становится видно один из его блестящих клычков. Он некоторое время водит пальцем по полу, вычерчивая что-то, что я отследить не могу, а потом без предупреждения начинает рассказ.
— Темнота, которую я там видел, про которую мне рассказывали, и которая у меня внутри, и у тебя внутри, знаешь, что это?
— Ну?
— Трещинки в мироздании. В темноте нет Бога, но, кроме того, темнота вытягивает Бога. Мир мертвых полон этой темноты. И через медиумов, через призраков, она проникает в наш мир, как…
Доминик делает паузу, возводит глаза к потолку, будто ищет у Господа верное слово.
— Инфекция, вот. Накапливается в человеке, вызывает смерть. Травмы, болезни. Старые люди потому точно умирают, что в них уже много темноты. Но ее можно подхватить, когда угодно. Господь наш победил смерть.
— Сам таки создал и сам таки победил?
Доминик фыркает и продолжает, как ни в чем ни бывало:
— Мы тоже ее победим. Это хорошая цель?
Доминик останавливается, так и не доведя пальцем одну из своих невидимых линий до конца, смотрит на меня долгим взглядом, зрачки у него расширены и оттого кажется, что в глазах у него вместе с синевой плескается та самая темнота, о которой он говорит.
— Хорошая, — соглашаюсь я.
— А убивать ради этого стоит?
— Убивать вообще никогда не стоит.
Мы молчим, он смотрит на меня, у него совершенно бессмысленные глаза, будто бы я разговариваю на другом языке. Потом он вздергивает тонкий нос, усеянный веснушками, смеется.
— У тебя такой акцент, как будто бы гнусавый, — говорит Доминик. — Убивать это просто. Мне это нравится. Почему нет? Люди хрупкие.
Я смотрю на него с полминуты молча, мне ведь нечего сказать, по большому счету. В убийстве правда ничего сложного нет, обычное действие, не мешки ведь целый день таскать и не в шахте уголь добывать.
Мы с Домиником смотрим друг на друга и молчим. Глаза у него внимательные и яркие, даже в темноте, но в то же время никакого света в них нет. Я облизываю губы, тянусь до хруста в моих выстрадавших этот день косточках.
— Ты знаешь, Доминик, как хорошо это — жить?
— Конечно! Мне нравится, потому что жизнь позволяет тебе ходить в «Макдональдс».
Я мотаю головой, упрямо, почти зло, но говорю вдруг невыразимо спокойно, как я сам от себя даже даже не ожидал. Меня вдруг осеняет, как чудесно, как хорошо быть здесь и сейчас, несмотря на ситуацию, в которой я актуально нахожусь. Мои родители подарили мне жизнь, во второй раз. Математически шанс существует всегда, но фактически — они совершили чудо, пытаясь дать мне все это.
— Нет, ты не знаешь, — говорю я. — Вдохни сейчас поглубже, хорошо?
Он вдыхает, совсем как любопытный ребенок в ожидании фокуса.
— Чувствуешь? Это воздух. Смесь газов, химическое соединение. Чувствуешь, как сыро тут пахнет? Чувствуешь, как холодно? А теперь подумай, как хорошо это — дышать. Как хорошо чувствовать, как воздух наполняет легкие и как выходит, как изнутри становится самую малость прохладнее, как утоляется голод до кислорода. Самые простые вещи. Ты их даже не замечал никогда. Не вкусная еда, не деньги, не власть, не путешествия, не секс, понимаешь? Самое простое, что ты можешь делать, пока ты жив — дышать. И это уже здорово. Только это. А в мире миллиарды прекрасных ощущений, миллионы книжек, которых надо прочитать, тысячи мест, где надо побывать, сотни людей, с которыми надо подружиться, десятки самых лучших дней в жизни, которые надо прожить, и один единственный Джон Оливер, который разбирается в политике.
— Зачем ты последнее добавил?
— Это мое любимое шоу. Неважно. Ты же понял, что я говорю, Доминик?
Доминик улыбается, потом кивает.
— Тогда зачем ты забираешь это у других?
— Не знаю, — говорит он. — Почему нет?
— А почему да?
И я вдруг подаюсь к нему и глажу его по волосам, как младшего братишку, хотя мы совершенно одного возраста, вплоть до дня рождения.
— Сделаешь так еще раз — убью тебя, — говорит Доминик. — Просто так. Потому что хочется.
Он фыркает, но если бы прикосновение не было ему приятно, наверняка, он бы действительно меня убил.
Я ложусь на холодный пол, и Доминик ложится рядом, мы смотрим вверх, на потолок.
— Хочешь расскажу что-то удивительное?
— Хочу, только если это не про Джона Оливера.
— Ладно, тогда другое расскажу.
Я указываю вверх на изъеденный сыростью и плесенью потолок, говорю:
— Вот там, высоко-высоко сейчас небо со звездами. Наверное, уже поздно, совсем ночь. Но через несколько часов расцветет. Воздух станет серым, и пойдет туман. У нас здесь, на Юге, много болот, поэтому по утрам всегда будто в Лимбе оказываешься. Иногда у нас отменяли уроки из-за утренних туманов, потому что в такой дымке машина может просто не заметить тебя, идущего с рюкзачком наперевес. Из-за тумана рассвет кажется белым-белым, будто бы в один момент наступила зима. А потом выходит солнце. И это самый прекрасный, самый потрясающий момент, который ты можешь себе представить. Солнце прорезает утренние облака, и на целых несколько минут все становится золотым. Представляешь себе, когда туман — золотой?
— Как рай? — спрашивает Доминик. — Кажется, что ты на золотом облаке?
— Ага. Вот так.
— Это ты все к чему вообще сказал?
— А ни к чему. В Луизиане здорово.
Доминик молчит, и я тоже. Мы лежим рядом, так что локтем я касаюсь его локтя. А потом Доминик указывает пальцем на порченный плесенью потолок и говорит:
— Вот там я вчера видел созвездие — Гончие Псы. Кто это такие?
— Собаки Аркада, он был сыном нимфы Каллисто и Зевса. Его питомцев звали Астерион и Кара.
— Ты все на свете знаешь?
— Неа.
Доминик приподнимается на локте, некоторое время меня рассматривает.
— Не хочешь в Италию? Там хорошо. Я даже рад, что тебя увезут. Не придется тебя пока что убивать.
— А потом все равно придется?
— Ага. Жвачку хочешь.
Жвачку я беру с жадностью, стараясь урвать свою долю глюкозы на этот день. Вкус ее, неопределенно-фруктовый, кажется мне лучшим, что я чувствовал в жизни когда-либо.
Некоторое время я совершаю сосредоточенные жевательные действия, а потом Доминик говорит:
— Тебе пора обратно. А то мама заметит, что я тебя выпускал.
И я говорю:
— Помоги мне сбежать.
Но Доминик только мотает головой, упрямо, становясь похожим на перетягивающего веревку щенка.
— Извини. Ты же понимаешь.
— Понимаю, — отвечаю я, хотя не понимаю. Но не все делается в один момент, я не теряю надежды его уговорить. Кроме того, теперь родители знают, где я.
Когда Доминик застегивает ремень мне на шее, я хриплю:
— Ты же меня задушишь, — он действительно утягивает ремень так сильно, что в глазах у меня темнеет.
— Извини, — говорит Доминик просто. — Привычка.
Глава 6
Утро можно назвать безрадостным. Оно наступает уже через пару часов, после того, как уходит Доминик, и за эти пару часов поспать мне не удается ни разу, потому что больше падре Стефано своими обязанностями не манкирует.
Но утро наступает, и я это чувствую, каким-то странным, внутренним ощущением, будто бы каждая клеточка меня радуется наступлению нового дня, а я не могу, к сожалению, присоединиться к ней разумом.
Как раз во время завтрака, которого мне так отчаянно не хватает, появляется Морриган, злая, как сама смерть против которой она борется.
— Ты поедешь со мной. Ублюдки Моргана хотят что-то за тебя предложить.
— О, я уже и не такой незаменимый, правда?
И тут она дает мне пощечину, да такую сильную, что не будь моя голова хорошо зафиксирована, я бы за нее волновался. Я решаю не спрашивать, нет ли у меня опции сходить в душ, если ответы Морриган и впредь будут такими жесткими и однозначными.
— Мы выезжаем через полчаса, святой отец. Вы завяжете ему глаза и поедете с ним в машине. Очень надеюсь, что не случится ничего форсмажорного. Очень.
Я, как наверняка и падре Стефано, понимаю, что имеет в виду Морриган. Она, разумеется, уже догадалась, как к моим родителям попала информация о том, где я. И явно не была этим довольна.
Но отец Стефано делает вид, будто бы расценил слова Морриган, как обычное приказание, а вовсе не как скрытую угрозу. В назначенное время, он отвязывает меня и почти тут же завязывает мне глаза. Я почти рад перемене ситуации, потому что мой визуальный канал уже вполне сыт лицезрением кирпичных стен и плесневелого потолка, а вот свобода движений мне жизненно необходима. Что насчет определения своего местонахождения, у меня есть идея получше.
Поднимаемся мы довольно долго и вслепую это весьма нелегко. Я терпеливо считаю ступеньки, и насчитал их около восьмидесяти пяти, ни разу не сбившись. Поднялись мы явно в здание церкви, но какое-то опустелое, потому что запах ладана едва-едва заметен, будто бы в последний раз здесь служили много лет назад. Оказавшись на улице, я с наслаждением втягиваю утренний, холодный воздух, вспомнив, как рассказывал о нем Доминику. В машине оказывается вполне просторно, и ужасно удобно после кушетки. Почти тут же, оказавшись на заднем сиденье, я закрываю глаза, а открываю их уже в темноте совсем другого рода. Я стягиваю повязку с глаз, с удовольствием озираясь. Раз уж отец Стефано все равно завязал мне глаза, грех этим не воспользоваться. Отца Стефано, разумеется, нет. Видеть живых из мира мертвых, это особое искусство, род фокуса, на который я, конечно, способен, но расходовать силы не хочу. Я оборачиваюсь, и вижу, как исчезает позади меня церковь, охваченная языками алого и белого пламени. Сейчас это уже не огонь, а только воспоминания об огне. Может быть и хорошо, что будучи в мире мертвых изнутри церкви, я поспешил его покинуть ради дома, милого дома, даже не рассмотрев толком. Я знаю историю о Горящей Церкви в Пригороде. Когда мне было восемь, а то и все девять, в школе всячески педалировалась тема сожженной Ку-клукс-кланом католической церкви. Столь суровая кара настигла людей, проявивших терпимость и гуманизм, то есть молившихся вместе с чернокожими, совсем рядом. Рядом молились, рядом и умерли, потому что когда в середине службы сквозь запах ладана, пробился запах дыма, двери уже были забаррикадированы снаружи.
Не уверен, что я верю в данную историю сейчас, хотя в детстве она меня однозначно впечатляла. Но церковь действительно горела и там действительно погибли люди, судя по тому, как ярко взвивались языки призрачного пламени здесь. Все, что есть в мире мертвых связано с их воспоминаниями, в том числе и самыми последними.
Отлично, значит я не в Новом Орлеане, но недалеко от него. Перестав пялиться на сияющую от предсмертных воспоминаний церковь, я вижу, что у меня есть попутчики. Рядом со мной сидит молодая женщина в очках и медицинском халате, скромно, но аккуратно одетая, а на коленях у нее девочка, похожая на принцессу: ухоженная и счастливая. Ни дать ни взять — образцовая итальянская семья отца Стефано.
Некоторые призраки настолько любят кого-то или ненавидят, что выбирают даже после смерти не создавать себе новый дом, не копить воспоминания и мечты, а следовать за объектом своего сильного чувства, в ожидании воссоединения.
Женщина смотрит туда, где должен в реальном мире располагаться затылок падре Стефано, а его дочь, для которой он настоящий отец, а не духовный, тянет ручки в его сторону. Женщина, совсем живым, настоящим, материнским жестом, заставляет девочку убрать руки, говоря ей что-то на незнакомом мне итальянском.
Но я все равно уверен, что произнесено что-то вроде «это невежливо».
Заметив меня, женщина смущенно улыбается, произносит еще что-то, и я говорю:
— Здравствуйте.
Наверное, мы друг друга поняли, хотя я не уверен. Я стараюсь запомнить дорогу, а призраки сидят рядом молча. Я не могу сосредоточиться, все время смотрю в их сторону. И когда отец Стефано выезжает на пустой хайвей, я решаю, что для обострения собственного внимания стоит кое-что сделать.
Я переношу отца Стефано ко мне, в мир мертвых. Надо признаться, реакция у него отличная, оказавшись в темноте, он тут же сворачивает на обочину думая, видимо, что это мой план побега.
Нет, разумеется, так не сбежать. Тело-то мое останется в машине, и в него, если только я еще хочу задержаться в нашем лучшем из миров, придется вернуться. Впрочем, сбегать прямо сейчас я и не планирую, ведь меня везут к моей семье. Наверное, Морриган это тоже понимает, потому и не приказала связать мне руки.
— Эй! — говорю я. — У вас тут посетители.
Он оборачивается, и тут же замирает, будто бы сам становится призраком.
— Белла? — говорит он. — Беатриче?
А потом вдруг тараторит на итальянском так быстро, как обычно показывают в фильмах. Я и не думал, что итальянцы и вправду так быстро говорят. Белла и Беатриче слушают, впрочем, и улыбаются, не просят его говорить помедленнее, не переспрашивают. А потом и сами начинают говорить, так же быстро. Малышка произносит единственное слово из всей беседы, которое я понимаю. Первым делом она говорит:
— Папа!
Слово, которое по крайней мере в индоевропейской части нашего языкового разнообразия, вполне понимаемо. И благодаря этому слову, одному этому слову, я понимаю, как скучаю по собственному отцу. Чтобы не мешать воссоединению семьи, я увлеченно смотрю в окно. Ничего интересного там, разумеется, увидеть нельзя. Обычная темнота: темная земля, темное небо, темный лес впереди. Забавно, если бы никто из мертвых с начала времен не помнил этого места, не придавал ему значения, его бы здесь не было. Может быть чье-нибудь племя еще десять тысяч лет назад обитало именно тут, а кто-то только шестьдесят лет назад строил тут шалаши, будучи совсем мальчишкой.
Я, конечно, дал себе зарок ни в коем случае не расходовать сил, но ведь отец Стефано сделал для меня что-то неоценимое, а я хочу сделать для него хотя бы что-то хорошее. Я не думаю, что он плохой человек, не такие у него глаза и голос не такой. Наверное, он у сектантов врач, а не убийца.
Я слышу всхлипы и понимаю, что падре плачет, скашиваю глаза, чтобы увидеть, что случилось и вижу, как малышка гладит его по голове. Она выглядит совсем как человек, и в этом мире вполне осязаема.
Только очень холодная, и это страшно. Но отец Стефано обнимает ее так, будто нет для него ничего приятнее и целует свою жену так, будто нет никого желаннее.
Я снова отворачиваюсь, у меня нет привычки мешать милующимся парочкам.
Когда удерживаться в мире мертвых становится уже тяжело, я говорю:
— Отец Стефано, нам пора.
И он говорит:
— Я понимаю. Сейчас. Сейчас, конечно.
Но еще минут пять он обнимает своих девочек, говорит им что-то на текучем, нежном языке, а я постукиваю пальцами по оконному стеклу, ожидая.
Когда мне все-таки удается утащить нас обоих в мир живых, я уже довольно-таки выдохся. Я заваливаюсь на заднее сиденье, упираясь ботинками в стекло и забывая о правилах приличия.
И слышу, как отец Стефано плачет от счастья.
Дальнейшая поездка проходит в полном молчании. Только один раз отец Стефано говорит:
— Они меня простили. Спасибо.
Но я не отвечаю, бездумно рассматривая проносящийся за окном мир. Я могу думать только о своей семье, о том, что не видел их всего один день, но это был уморительно долгий день, о том, что скучаю, о том, что скоро я их увижу.
Встречу Морриган назначила в месте чуть более, чем символичном, а кроме того пустующем летом. В Иезуитской средней школе Нового Орлеана. В Иезуитской школе, о которой у нас в классе ходили легенды, смутные и осторожные. Готовят ли там охотников на вампиров или, может быть, кардиналов для папы Римского толком никто не знал. Зато все знали, какая строгая у учеников иезуитской школы форма и как их бьют линейками по рукам за недостаточно белые воротнички. Папа и Мэнди, то есть мама, угрожали мне обучением в этой школе, если я буду плохо себя вести.
И вот я здесь.
Наверное, у Морриган картбланш на все католическое в нашем городе лично от Папы Римского.
Иезуитская школа располагается в довольно уединенном месте, что способствует ее таинственности и удобству, как переговорного пункта. Войдя под сень деревьев, мы с отцом Стефано движемся через просторный сад с подвесными качелями и пустыми беседками. Вид, конечно, у школьного сада летом довольно запустелый и даже чуточку грустный. Все невероятно зелено, и самое время веселиться, но веселиться некому.
У входа стоят парни, которых я бы в причастности к католической церкви не обвинил никогда. Крепкие и рослые, куда больше они похожи на бывших военных и одеты совершенно обычным образом.
— Только вы тут выглядите как католик, падре, — говорю я.
Отец Стефано только хмыкает. Суровые парни с оружием стоят на каждом этаже, как будто здесь не ирландская стерва Морриган, а копье Лангина или гвоздь Господень охраняются.
Отец Стефано приводит меня в просторный светлый кабинет с длинным столом, где, наверное, во времена более мирные заседают учредители школы, а сейчас — мои родители.
Еще перед тем, как зайти, я слышу голос Мэнди:
— Отличное место ты нашла. Странно, что не в пабе, подруга.
Как только Мэнди видит меня, она угрожающе щурится, а потом вдруг незаметно показывает мне язык. Папа делает вид, что меня здесь вообще нет, как он делал обычно, когда его вызывали в мою настоящую школу. Отец Стефано указывает мне идти в кабинет, а сам остается за дверью.
Когда я занимаю место рядом с отцом, Морриган только улыбается своей холодной, неживой улыбкой и поправляет галстук. Рядом с ней сидит Доминик, на нем белая, снежно белая рубашка. Впервые, может потому что мамочка заставила, может потому что на белом кровь живописнее смотрится. А вот Морин здесь нет.
— Вам стоит понимать, что за вами следит снайпер. В худшем случае, я подам ему сигнал. Надеюсь, это знание остановит вас от глупостей, мисс и мистер Миллиган.
Выражение лица у папы не меняется совершенно, как будто Морриган упомянула что-то скучное, вроде погоды в Детройте. Зато Мэнди чуть вскидывает бровь, потом тянет как-то почти кокетливо, будто бы Морриган ей в общем даже и нравится:
— Нет, подруга, ты не очень понимаешь. В худшем случае, моя организация уничтожит твою организацию, а я убью тебя. Надеюсь, что это остановит тебя от глупостей.
— Мэнди, милая, — вздыхает папа. — Очень тебя прошу.
— Что? Это же схема «хороший коп — плохой коп».
— Да. Но только ты должна была быть хорошим копом.
Райан поворачивается к Морриган, улыбается ей, но глаза у него остаются очень внимательными.
— Здравствуйте, Морриган. Я хотел бы сказать «мисс Миллиган», но все мы здесь имеем отношение к этой фамилии. Итак, надеюсь то, что мы забираем сына — вопрос вполне решенный.
— Изложите мне свои условия для начала. Вопрос в первую очередь обсуждаемый. Вы не в том положении, чтобы навязывать мне решение.
— Разумеется, — кивает папа, смиренно, как монашка Морин. Мэнди закуривает, и с удовольствием смотрит, как Морриган чуть заметно, только на секунду морщит нос.
— Дело в том, что мой мальчик не представляет абсолютно никакого интереса для науки. Кроме, конечно, того факта, что он изумительно хороший медиум благодаря трем дням, проведенным в мире мертвых. Куда больше, чем три минуты клинической смерти, правда? Но медиумы вас интересуют, как я понимаю, исключительно мертвые.
Доминик улыбается своей блестящей жутковатой улыбкой, но ничего не говорит.
— Вы не найдете ничего необычного в его крови или плазме крови, ничего необычного в его физиологических показателях, ничего необычного в строении внутренних органов. Он вам просто не нужен. Он здоровый человек, не считая миопии, — папа снимает свои очки и принимается их протирать. — Но даже и в ней ничего необычного нет. Он живой. Такой же как мы с вами. Не зомби, не монстр Франкенштейна, обычный молодой человек. Разве что слишком любопытный. Ничего впечатляющего вы не найдете. Ключа к воскрешению мертвых вы не найдете. Если уж вы так серьезно озабочены идеей оживления мертвецов, может быть, лучше спросить у нас?
— Иными словами, подруга, если ты хочешь узнать, о воскрешении мертвых, спроси меня, как, — продолжает Мэнди. — Как ты уже, наверняка, знаешь от своей всевидящей мамашки, мы делали это. У нас секрет. Дело не в движениях и словах, а в чем-то, что не увидишь, сколько бы не перебирал четки. Мы можем тебе этот секрет рассказать, а можем и не рассказать. Именно поэтому, твой снайпер никого из нас не тронет, ты ему не прикажешь. Тебе очень-очень хочется знать то, что знаем мы. Понятия не имею, почему, ведь у меня нет мамочки-предсказательницы, но очень хочется. У нас же в свою очередь нет никакого желания посвящать тебя в какие бы то ни было тайны.
— Но, Морриган, вам чрезвычайно повезло, потому что несмотря на то, что мы не готовы подарить вам эти сведения, являющиеся в какой-то степени семейным сокровищем, мы согласны ими обменяться. Вам известно кое-что, неизвестное нам. Как насчет обмена? Готовы ли вы рассмотреть такое предложение?
Морриган и папа одновременно поправляют свои безукоризненно завязанные галстуки, и теперь я понимаю, что это не Райан Миллиган говорит со своей кузиной Морриган, а моя семья со всеми ее деньгами и влиянием говорит с католической церковью.
Папа достает из кармана пузырек с таблетками, берет одну, долго ее рассматривает, а потом кладет под язык.
— Сердце, — говорит он. — Сами понимаете.
— Может быть, мистер Миллиган, я не могу стрелять в вас или в вашу сестру. Но я могу приказать выстрелить в вашего сына.
Папа смотрит на меня, только секунду, улыбается мне уголком губ.
— Стреляйте, — говорит он.
— Эй! — говорю я, и Мэнди пихает меня коленкой под столом. Она говорит:
— В любом случае, подруга, подумай над нашим предложением, хорошо? У тебя есть что-то, что интересно нам. У нас есть что-то, что интересно тебе. Можем сделать друг другу приятненько вместо того, чтобы ссориться и драться.
— Кто-то здесь собирается драться? — Морриган вскидывает брови. Мэнди рассматривает Доминика, потом спрашивает:
— А кто-то не собирался? Ну, кроме Фрэнки, он идейный пацифист.
Морриган постукивает пальцами по столу, она думает, наверное, о резонности договоров с нечестивцами и кровосмесителями. Потом, видимо что-то для себя решив, спрашивает:
— Какого рода информация вам нужна?
— Как вы понимаете, мы, оказавшись в Америке несколько прервали связи с нашей исторической Родиной и предками, Морриган. В отличии от вас с матерью и наследником. Нам нужны сведения о проклятье, которое вы так настойчиво педалируете, об основателях рода, о его истории. То, чего разумеется не найдешь в архивах. Исключительную информацию, которую можете знать вы и наша тетя Морин. Нам нужна эта информация. Настолько, что мы готовы уступить вам секрет воскрешения Франциска.
Мой секрет что, серьезно так дешево стоит?
— Я должна буду посоветоваться с конклавом. Мы не можем предпринимать ничего без санкции вышестоящих лиц.
Я почти уверен, что Морриган лжет. Ей нужно посоветоваться с матерью.
— Мы забираем Фрэнки, — говорит Мэнди.
— Нет, ваш сын, если не хорош в качестве материала для экспериментов, то хорош в качестве залога.
— Как скажете, — кивает папа. — Дело суток, не более. Передавайте привет маме, Морриган. Очень приятно иметь с вами дело.
Морриган и мой безупречно вежливый отец встают одновременно, а у меня уже кости начинают ныть в ожидании возвращения в катакомбы. Я думаю, что ждать только сутки, а потом меня выпустят, следую за папой, чтобы хотя бы немножко побыть рядом. И именно в этот момент вижу, как папа достает пистолет, и приставляет его к голове еще не переступившей порог Морриган.
Морриган только улыбается, впервые за все время и тянет насмешливо.
— О, эти Гарвардские мальчики.
— Йель, если быть точным.
Морриган улыбается уголком губ, какой-то неловкой, свойственной хорошим девочкам, а не стервозным женщинам улыбкой. И именно тогда я понимаю, снайпер сейчас выстрелит.
— Пап! — вскрикиваю я, перед глазами у меня темнеет, будто я сейчас потеряю сознание или окажусь в мире мертвых. И я оказываюсь, но будто бы не так глубоко, как обычно, на границе с миром живых. Цвета остаются, просто тусклые, и темнота не такая уж абсолютная. Я вижу папу, Мэнди, Доминика и Морриган, чего никогда бы не случилось, будь я в мире мертвых. В тот момент я, разумеется, ни о чем не думаю, просто провожу рукой в воздухе, вязком и холодном, стараясь оттолкнуть папу от Морриган, но получается не это. Воздух под пальцами оказывается будто бы плотным, как ткань, и я эту ткань вспарываю, выпуская темноту. А потом все пропадает, стоит мне только моргнуть, и мир снова наполняется красками.
— Спасибо, Фрэнки, но не стоило усилий, о снайпере позаботятся — говорит папа. И именно в этот момент снова раздаются выстрелы, откуда-то снизу, судя по всему, и выстрелов этих много. — Нам стоит подождать.
Кто-то кричит, кто-то раздает команды. Мне кажется, что параллельно с дурацким фильмом ужасов внизу происходит военная хроника, и от этого несоответствия одной части моей реальности — другой, голова кружится. А может, оттого, что я больше суток ничего не ел.
— Давай, Доминик, — говорит Морриган. Меня в тот момент совершенно не хватает на то, чтобы удивиться, почему Доминик ждал ее приказа, как оружие, на чей курок обязательно надо нажать. Доминик достает два пистолета, и стреляет: в меня и папу. И в этот момент я понимаю, за что папа меня так сдержанно благодарил. Если я, конечно, сделал все хотя бы вполовину так хорошо, как мой отец. Стоит папе только взмахнуть свободной рукой, как перед ним расползается темнота, и от нее бьет холодом, могильным и отчетливым холодом мира мертвых. Пули, которые должны были бы угодить в нас, исчезают в этой темноте.
— Не всех медиумов так просто убить, правда, племянничек? — улыбается Мэнди, а потом вдруг выбрасывает руку вперед, будто кидает что-то, и отшвыривает уже Доминика, но вместо того, чтобы упасть, он зависает на расстоянии сантиметров двадцати от пола. Я вижу как крохотные ниточки, только ниточки темноты удерживают его, впившись в кожу на запястьях и щиколотках. Они проникают внутрь, заползают все дальше и даже смотреть на это чуточку противно, есть во всем происходящем что-то неестественное.
— Райан, спорим я смогу убить племянничка и не расплакаться?
— Если я буду с тобой спорить, милая, это будет значить, что я хоть чуточку в этом сомневаюсь.
— Только попробуй, сука! — рявкает вдруг Морриган, и тут же перестает напоминать прежнюю, стальную и стервозную женщину.
Папа касается пальцем шеи Морриган, и я вижу, как в пронзительно-синей жилке под ее светлой кожей, проплывает что-то темное, идет вместе с кровью.
— Знаешь, как умирают люди, кузина? Знаешь, разумеется, это ведь сфера твоих интересов. Будь, пожалуйста, благоразумна, если не хочешь познакомиться с такой неприятной вещью, как аневризма, например, или внезапным сердечным ударом.
Папа убирает пистолет в карман, но отчего-то я уверен, что то, что он поместил под кожу Морриган, в ее вены — оружие не менее смертоносное.
Мэнди с легкостью удерживает Доминика, и тот кажется таким бледным, что веснушки его приобретают чернильный, нездоровый оттенок.
— Нет, Мэнди, милая. Мальчик — наш племянник, наша кровь. Давай проявим к нему чуточку уважения, хотя бы на первый раз. Отпусти его.
Мэнди отдергивает руку, будто бы стряхивает что-то с пальцев. Доминик падает на пол, он не шевелится.
Выстрелы теперь слышатся ближе, и от очередной болезненно-звучной автоматной очереди, я будто бы включаюсь. Бросившись к Доминику, я щупаю его пульс, и нахожу пальцами биение под кожей.
— Что с ним, Мэнди? Что ты сделала?
— Все будет нормально, — говорит она. — Оклемается. Смерть приходит с темнотой. Вот, кстати, Морриган, отличный новый девиз для вас, не находишь? Темнота вытягивает из человека жизнь. Впрочем, чтобы убить его нужно было бы довольно много.
— Ну сколько же можно там копаться? — вопрошает папа.
— Может, он мародерствует?
— Кто он?
Ткань моей реальности порвалась еще на моменте с тем, как мой папа отправил с десяток пуль в мир мертвых, и теперь я судорожно пытаюсь сообразить хоть что-нибудь, но не могу. Я переворачиваю Доминика на спину, глаза у него закрыты, и он совсем бледен.
А потом я понимаю, кто именно этот загадочный, задержавшийся, мародерствующий он. Наверное, стоило догадаться. Мильтон с ноги открывает дверь, едва не зашибив папу и Морриган. Он удерживает за горло отца Стефано, приставив автомат к его голове. Дядя Мильтон в форме неизвестной мне армии, и я его таким раньше никогда не видел. Я имею в виду, я знаю, что Мильтон — солдат, и что Мильтон — чокнувшийся, и все это уживается в моей голове как-то совершенно отдельно. Но сейчас передо мной чокнувшийся солдат.
— Зачистка школы завершена, братик. Мы с парнями отлично поработали. Остался один католик, но он без оружия и без ансамбля. Мы оставляем свидетелей?
Глаза у Мильтона совершенно шалые, но при этом такие яркие и живые, совершенно непередаваемо красивые. Пьяные, но не от алкоголя, а от крови. И тогда я замечаю, что дядя весь в брызгах крови. Меня начинается подташнивать, и я рявкаю вдруг, сам от себя не ожидая, приказным тоном:
— Нет. Этот человек помогал мне. Отпусти его.
И Мильтон отпускает отца Стефано, улыбается мне, вдруг будто бы протрезвев.
— Привет, племяш.
А потом проводит пальцами по пятнам крови на щеках, превращая их в полосы, которые в фильмах рисуют для маскировки.
— Операция по спасению тебя завершена.
Я сглатываю комок внутри думая, что же я увижу, когда выйду из кабинета. Отец вздыхает, потом говорит:
— Отлично. Тогда пусть святой отец расскажет Морин, что мы здесь были.
— Пусть старушка замоет кровь, к примеру, — смеется Мильтон.
— И не забудет поить внука горячим чаем, — добавляет Мэнди. — Обязательно с сахаром.
— А если захочет увидеть дочь, то пусть свяжется со мной. Нам пора, сынок. Мильтон, я перепоручаю Морриган тебе, отправь ее под охрану, хорошо?
— Конечно, братишка.
Отец подталкивает Морриган к Мильтону, и напоследок она шипит папе:
— Что ты такое?
— Мне нужно сказать что-то пафосное, а я немного устал, поэтому давай отложим ответ до лучших времен?
Папа кладет руку мне на плечо, чуть сжимает. Я поднимаюсь, ноги слушаются меня довольно условно. Мы выходим из кабинета, и вместо суровых ребят Морриган, там стоят теперь люди в той же форме, что и Мильтон. Они держатся как военные, настоящие, вышколенные. У папы что маленькая личная армия? Я замечаю в конце коридора пятно крови, и кривлюсь. Нет, крови и трупов я не боюсь, иногда я работаю с такими вещами. Но и никакой приязни они у меня не вызывают тоже.
— Папа, а почему здесь нет полиции? Неужели никто не слышал выстрелов? — спрашиваю я.
— Никто. И сейчас не слышит. Знаешь, как бывает, когда в мире мертвых не можешь видеть живых?
— Да.
— При должной сноровке с помощью темноты можно скрывать и что-нибудь в мире живых.
Мы спускаемся по лестнице, и я поскальзываюсь на луже вязкой крови. Возможно, человека из которого это вытекло, убил мой любимый дядя. Мэнди ловит меня, говорит:
— Осторожнее, Фрэнки. Надеюсь, ты не разобьешь себе голову после того, как мы приложили столько усилий, чтобы спасти тебя.
— И захватить Морриган, сынок. Это не менее важная задача, надеюсь ты простишь меня за такую обидную прямолинейность.
Но я отчего-то знаю, что самая важная задача для них была именно спасти меня.
В машине, когда папа садится за руль, а мы с Мэнди на заднее сиденье, еще минуту я держусь, а потом вдруг утыкаюсь головой в тощие, острые коленки Мэнди и говорю:
— Я не понимаю, что происходит. Ничего не понимаю. Мама, папа, я совсем ничего не понимаю.
И даже не думая о том, что говорю, я называю Мэнди своей матерью.
— Тогда послушай меня, милый. И я тебе все объясню. Дело в том, что впервые я и Мэнди начали попадать в мир мертвых, когда нам было по девять. После того, как мы едва не умерли от пневмонии. Была зима, и мы простыли. Сначала Морган думал, что ничего нам не сделается, но вскоре мы едва могли ходить от температуры и слабости. Мильтона и Итэна к нам не пускали, мы лежали вдвоем, едва в сознании. Было жарко и горячо, а потом вдруг стало холодно и сыро, как в могиле. И мы очнулись в мире мертвых. Я не знаю, сколько мы там пробыли. Я и Мэнди, мы бродили в абсолютной темноте, пока не встретили девочку с забинтованным лицом. Она сказала, что нам нужно убраться оттуда, пока не вернулся он. Кто такой этот он — мы не знали. Девочка выкинула нас из мира мертвых, и мы очнулись. А могли бы, наверное, не очнуться уже никогда-никогда.
Девочка с забинтованным лицом? Та самая, которую я видел?
— Кто она?
— Мы не знаем. Больше мы ее не видели, — говорит Мэнди. — С тех пор, как мы чуточку умерли, сны перестали быть просто снами. Мы гуляли в мире мертвых, быстро научились делать кое-какие фокусы и прятаться от призраков. Короче, мы стали медиумами, как ты. Мильтон и Итэн нам не верили, потому что они придурки. И вот в один прекрасный день, мы смогли утащить их с собой, показать им все.
— Не скажу, что наши братья остались в восторге, — добавляет папа.
— А то, что вы делали…
Папа некоторое время молчит, а Мэнди сначала гладит меня по голове и только потом говорит:
— Ты про себя или про пафос и таинственность в школе для маленьких католиков?
Я чувствую, как щеки у меня горят и говорю слишком быстро:
— Про второе.
— Дело в том, сынок, — продолжает папа. — Что, как ты прекрасно знаешь, медиум не может использовать силу мира мертвых в реальности. Мы тоже так думали. Ровно до того момента, пока ты не…
Отец вдруг замолкает и поворачивает руль слишком резко, так, что ему даже сигналят.
— Не умер, — подсказывает Мэнди. — Вот тогда я и Райан в первый раз проявили свои способности в реальности. Неконтролируемо. Кажется, мы полдома тогда разнесли.
— Медиум может использовать силу в реальности, но для этого он должен испытать невероятной силы стресс, горе или страх, может боль. Я рад, кстати, что ты за меня так переживаешь, Фрэнки.
— То есть, я использовал какую-то там силу в реальности?
— Именно. Сегодня, когда стрелял снайпер. Я бы и сам справился, но спасибо. Механика, на самом деле, очень проста. В ситуации предельного стресса, ты оказываешься на грани перехода в мир мертвых, в прослойке между реальностями, откуда имеешь одинаковый доступ глубже, в темноту и обратно в жизнь. Знаешь иногда говорят «умереть как страшно» или «мне так плохо, что я сейчас умру». В этом есть доля правды. Попав на границу между двумя мирами, ты имеешь возможность тянуть силу из одного и направлять ее в другой. Так все и происходит. Те же фокусы, что ты успешно освоил в мире призраков, но перенаправленные сюда, в мир живых.
— Так просто?
— Нет, — говорит Мэнди, продолжая перебирать мои волосы. — Вовсе не просто. В девяноста девяти процентах случаев, это не контролируемо в принципе. Человек делает все случайно, как ты сегодня, потому что сила связана с аффектом. После того, что мы сделали с гостиной в день твоей смерти, мы задумались — можно ли направить силу. А если ее направить, можно ли…
— Воскресить тебя. Вернуть. Совершить чудо. И мы смогли. Благодаря силе боли, которую мы испытывали, разумеется.
— И благодаря таблеткам, которые ты создал.
— Спасибо, Мэнди, как бы я вспомнил о собственной гениальности без тебя. Да, я создал таблетки, которые симулируют ощущение предельного стресса, того самого. Стимулируют производство кортизола, адреналина и норадреналина, если говорить о фармакологическом действии. А дальше дело за малым, просто вспомни худшее, что ты когда-либо чувствовал, воспоминание окажется подкрепленным искусственным стрессом, и это вызовет то самое состояние, когда сила может проявиться в реальности. Но, так как стресс искусственный и воспоминания, к счастью, не есть реальность, ты можешь сознательно контролировать то, что делаешь. Разумеется, это не самая полезная вещь, которую ты творишь со своим организмом. Поэтому мы стараемся не прибегать к использованию темноты в реальности.
— Этим занимается твоя корпорация?
— Не только, еще мы выпускаем лекарства от гриппа и обезболивающие, — папа смеется. — Вообще-то мы выпускаем достаточно обычных лекарств, чтобы быть одной из самых крупных фармацевтических корпораций в Америке. Я все-таки в первую очередь фармаколог…
— А во вторую великий маг? — фыркаю я, но папа не обращает внимания.
— Тем не менее корпорация действительно занимается, как бы так сказать, медикаментозным обеспечением людей с экстрасенсорными способностями. В рамках эксперимента, который очень интересует наше правительство и им спонсируется. Я несколько расширил формулу таблеток, теперь они куда совершеннее, чем были те, которые мы пили перед тем, как попробовать тебя вернуть. Моя главная идея в том, что при должной степени стресса, в мир мертвых способен попасть любой.
Последняя фраза мне очень не нравится, и я переспрашиваю:
— Любой?
— Да. Любой человек. Не умиравший прежде. Не медиум. Если это окажется правдой, мы сможем выпустить таблетки на рынок, по крайней мере на военный.
— То есть, ты экспериментируешь.
— Разумеется.
— На людях.
— Возможно.
Я слишком хорошо знаю своего отца, чтобы не понимать: «возможно» значит «да».
— Добровольцах?
— Конечно. Не забивай этим голову, милый. Завтра ты сам все увидишь. Пришло время познакомить тебя с областью моих исследований.
— А Мильтон? — спрашиваю я бестолково. — Он же мне не привиделся?
— Разумеется, нет. Как ты понимаешь, такой организации, как моя требуется охрана, и Мильтон — ее глава. Мы хорошо им платим, в первую очередь за неразглашение. Впрочем, болтать на каждом углу им не очень выгодно. В основном, наши ребята — бывшие солдаты, совершившие военные преступления в Ираке или Афганистане. Не знаю, я не занимаюсь грязным бельем своих работников, этим занимается Мильтон.
— То есть, он шантажирует военных преступников?
— Не совсем, он выискивает нераскрытых военных преступников, а потом предлагает им хорошую работу. Никто никого не шантажирует, это просто мера безопасности на случай, если кто-то захочет поболтать за пинтой пива или чашечкой кофе о делах, которые они делают.
— Значит, они еще что-то делают? — спрашиваю я.
— А ты думаешь, они были наняты только для того, чтобы спасать тебя? — усмехается отец. Я замолкаю, покрепче обнимая Мэнди.
— А что такое темнота?
Мэнди вздыхает, потом говорит:
— Мы не знаем точно. Материя из которой состоит мир смерти. Смерть? Первичный материал из которого создавался наш мир? Пустота? Мы занимаемся исследованиями по этому поводу. Фрэнки, мы вообще знаем куда меньше, чем нам хотелось бы.
— А Морриган нам зачем?
— Чтобы узнать, кто такие мы, — отвечает папа. И с большим облегчением я вижу, что он сворачивает к дому. Иногда я думаю: разве есть мне разница, кто мы такие, если мы вместе?
Завтра, как дамочка из «Унесенных ветров», я подумаю обо всем завтра. А сегодня я посплю и поем, реализовав таким образом первую ступень пирамиды Маслоу.
Глава 7
Вечером, поев и выспавшись, я счастлив, как никогда. И дело вовсе даже не в количестве сахара, которое я употребил, снова встретившись с ванильными «Твинкис» после долгой разлуки, травматичной для всех нас.
Я лежу на диване, головой на коленях у папы, и ногами на коленях у Мильтона, вытянувшись во весь рост. Мэнди сидит, устроившись с ногами в кресле, а на ковре у ее ног курит Ивви, которой она пытается заплести косички. Рядом с Ивви, на полу, близко к телевизору сидит Итэн, пытаясь компенсировать свое плохое зрение.
На меня вдруг накатывает, как волна, почти первобытно-огромное ощущение безопасности. Вот она, моя семья. Даже Ивви пришла, чтобы узнать, как я, и осталась, несмотря на опасность парикмахерских экспериментов от Мэнди. Моя большая, моя самая лучшая семья, здесь, рядом со мной.
И, конечно, Джон Оливер, которого мы смотрим все вместе, тоже непременно исполняет свою роль в выбросе эндорфинов, гармонизирующих мое состояние. Сейчас, когда мы все вместе, и я так пригрелся у телевизора, мне не думается о крови на лице у дяди Мильтона или волнах темноты, исходивших от отца и Мэнди. Мне так хорошо, что я не думаю ни о чем, кроме отзыва дипломатических представителей Америки из Йемена, о котором рассказывает Джон Оливер.
— Вы слышали? — рявкает Мильтон. — Их девиз «Смерть Америке!»
— Если быть точным, — говорю я. — «Бог — велик, Смерть — Америке, Смерть — Израилю, да будут прокляты евреи и победы Исламу».
Ивви фыркает:
— Вот почему я голосую за Республиканцев.
— Я тоже! — смеется Мильтон. — Потому что мы должны их всех разбомбить.
Ивви некоторое время молчит, потом вздыхает:
— Да, жаль я не могу забрать свой голос.
Мэнди чуть дергает Ивви за волосы, говорит:
— Милая, как ты можешь голосовать за республиканцев, если ты наполовину ирландка?
— А кто-нибудь из ирландцев вообще голосует на выборах, если в списке кандидатов нет Кеннеди? — спрашиваю я.
— Ну…я.
— Спасибо Итэн, — говорит папа. — Бесценная для нас информация.
— И вообще, Ивви, детка, — продолжает Мэнди. — Разницы между республиканцами и демократами в военной политике на самом деле нет. Одни уничтожают экономику и население стран третьего мира под эгидой американского величия, а другие под эгидой американского милосердия. Но лучше голосовать за демократов, они по крайней мере притворяются миротворцами.
— Мэнди, не тяни меня за волосы. По-моему это лицемерие. Мой так называемый отец вот полностью ирландец, и все равно республиканец.
— У него повреждение мозга, — говорит Мэнди. — Он в детстве с дерева упал.
— Ты столкнула.
— Не думаю, что она виновата. Я всегда был уверен, что ты родился с нефункционирующим мозгом, — говорит папа, а чуть помедлив добавляет. — Как и все республиканцы.
Мильтон в попытке стукнуть отца едва не скидывает меня с дивана.
— Может решим, что делать с Йеменом? — робко предлагаю я.
— Бомбить, — говорит Мильтон, даже перестав лишать меня удобного места в попытках добраться до папы. — А у Америки есть другой вид внешней политики?
— Сложно сказать, — смеется Мэнди. — Вообще-то их два. Бомбить кого-то и говорить, что мы бомбим или не говорить, что мы бомбим, но все равно кого-то бомбить.
— Оба этих вида политики обусловлены богатством нашего военно-промышленного комплекса, — говорит папа.
— Значит война на Ближнем Востоке уже может считаться национальной идеей? — фыркаю я.
— Нет, потому что эту идею уже приватизировал для себя твой дядя Мильтон, — говорит Итэн, не отвлекаясь от происходящего на экране.
Мильтон все-таки вскакивает с дивана и пинает Итэна.
— Ай! Что я сделал?
— Если бы ты хоть что-нибудь сделал в своей жизни, то был бы чуть менее бесполезным, — дядя Мильтон возвращается на диван, я снова кладу ноги ему на колени.
А потом вдруг вспоминаю, быстро-быстро, будто картинку в голове переключили, как канал в телевизоре. Мой дядя Мильтон — в крови, перемазанный ей, как животное, радостный от этого, с автоматом в руках. Убийца.
Но у меня нет никакого желания отодвинуться от него, моя любовь к нему ни на грамм меньше не становится. Моя любовь к отцу не становится меньше, хотя, возможно, он проводит нелегальные эксперименты на людях ради своей магии, а может быть науки. Моя любовь к Мэнди не становится меньше, хотя она едва не убила человека у меня на глазах. Ни на грамм, как на электронных весах, которые используют наркодиллеры. Наверное, такие весы стоило бы ставить в царстве мертвых у древних египтян, когда взвешивают сердце и перо богини Маат. Мысль такая бредовая, и додумав ее, я понимаю, что начинаю засыпать. Просто засыпать, безо всяких загробных путешествий. Я проваливаюсь в дрему, слушая споры о политике и британский акцент Джона Оливера. Интересно, как там Доминик? Он жив? Мысль колет меня, будто иголкой, и я понимаю, что волнуюсь за него.
Но почти тут же понимаю, что чувствую — он жив. Жив, разумеется.
Мне кажется, что я закрыл глаза только на минуту, может быть на две, но уж точно не больше, однако когда я открываю глаза, то на диване оказывается только отец.
— Не хотел тебя будить, — говорит он с таким выражением лица, будто за время, пока я спал, он успел пожалеть, что я родился.
— Пап? — говорю я.
— Да, милый?
— А вы с Мэнди… Ну, Морин мне все показала.
— Она говорила.
— Так вот, вы с мамой…
Я замолкаю, папа тоже молчит. Не знаю, что я ожидаю от него услышать. Я спал со своей сестрой-близняшкой, благодаря этому на свет появился ты, Фрэнки? В нашей семье так принято, поэтому приударь за Ивви поактивнее? Я так виноват, так виноват?
Папа, наконец, говорит:
— Иногда люди просто любят друг друга, и сделать с этим нельзя вообще ничего.
Ответ меня более чем устраивает.
До кровати я добираюсь в полусне, уверенный, что мне ничего сниться не будет. Но посреди ночи я открываю глаза в темноте мира мертвых и на мне сидит девочка с забинтованным лицом. Сидит, надо сказать, недвусмысленно, так что коленками больно сжимает мне ребра. Я тянусь к ее бинтам.
— Можно, дружок?
Она дергает головой, а потом прижимает мои руки к постели. Я бы почувствовал ее дыхание на своей шее, если бы только у нее было дыхание. Такой прыти от викторианской малышки я никак не ожидаю. Бинты кое-где пропитались кровью, и одна из капель срывается вниз, коснувшись моей шеи. И Господи, я клянусь, что ничего холоднее в жизни своей не чувствовал. Я имею в виду: никогда. Холод ее крови, это холод могилы, и отчего-то я тут же чувствую себя совсем беспомощным перед ней.
— Он близко, — говорит девочка.
Мой срок за соблазнение малолетних близко, хочу было ляпнуть я, но вовремя вспоминаю, что на призраков законодательство не распространяется. Не хватало еще убого пошутить перед мертвой, викторианской обожательницей.
Она вдруг выпрямляется на мне, скрещивает руки на груди.
— Серьезно? Ты правда считаешь, что я тебя хочу? — голос у нее строгий и обиженный.
— Ты сидишь на мне верхом.
— И что? Я пытаюсь тебя напугать.
— Сексом? Мне двадцать два. Я прошел эту стадию в пятнадцать.
— Ты отвратительный пошляк, уже мне не нравишься.
Я смеюсь, но потом вижу в прорези ее бинтов блестящий, острый клык. Один только клык, но этого мне хватает, чтобы заткнуться.
— Слушай внимательно, — говорит она. — Из-за вас он смог выбраться, вы за это и отвечаете.
Я замечаю, что ногти на ее пальцах сорваны, и она тут же прячет руки за спину, будто я увидел что-то неприличное.
— Когда ты говоришь «вы», ты имеешь в виду меня одного, потому что ты вежливая викторианка или…
— Вы с семьей.
Я замечаю, что именно казалось мне в ней особенно жутким все это время. Она все время чуточку дрожит, неестественно, а оттого — едва заметно.
— А кто ты?
Она замирает, резко, будто вопрос больно ее ударил, а потом подносит руку к лицу, скалит зубы, едва видные за бинтами и кусает указательный палец, до крови, и более того — до хруста кости внутри.
Убрав руку и оскалив окровавленные зубы, она спрашивает:
— А на кого я похожа?
Просыпаюсь я оттого, что Мэнди сжимает мне нос, лишая возможности дышать.
— Ты решила меня задушить? — спрашиваю я сонно.
— По-другому ты не просыпался, и на мои увещевания не реагировал.
— Если я не ошибаюсь во всем, что знаю о тебе, обычно твои увещевания являются потоком самой грязной ругани в этой части США.
— Точно, — она смеется. — Райан и Мильтон хотят, чтобы ты поехал с ними на работу.
— А я хочу спать. Мне только что снилась забинтованная девочка, имевшая весьма двусмысленные притязания. Она сказала «Он близко, из-за вас он смог выбраться, вы за это и отвечаете».
— Не все призраки одинаково полезны. Собирайся, ты опаздываешь.
— Я лежу только пять минут.
— Но я разбудила тебя на двадцать пять минут позже.
Позавтракать я, предсказуемо, не успеваю, и уже через десять минут, недовольный ничем в своей жизни, сижу в машине, мчащейся в Батон-Руж.
— Я вижу, милый, что ты не в восторге, — говорит папа.
— Не переживай, все будет так скучно, что у тебя еще будет время поспать, — добавляет Мильтон. До города полтора часа, и я с каким-то мазохистким наслаждением смотрю на проносящиеся мимо леса и заправки.
— Почему ты раньше не показывал мне свою работу? — спрашиваю я.
— Кстати да, тот же вопрос.
— Спасибо, Мильтон.
— Просто если бы показывал вести машину мог бы ты, а я спать на заднем сиденье.
— Ладно, не за что Мильтон.
— Дело в том, милый, — начинает папа. — Что ты не был готов к этому сакральному знанию.
— И двадцати долларам за парковку.
— Да, я имел в виду именно это сакральное знание, Мильтон.
Папа и Мильтон, одновременно похожи и непохожи, как и все братья. У них одинакового цвета волосы и глаза, одинаковые руки, только Мильтон этими руками сжимает автомат, а отец переставляет пробирки. И в то же время, если есть люди, которые по абсолютно любому вопросу имеют диаметрально противоположные мнения, то это они. Итэн и Мэнди рассказывают, что так было с детства. А однажды, в десять, Мильтон даже пытался папу утопить, столкнув в реку. Мильтон — первенец, старший, а гордостью семьи оказался отличник и умница Райан, средний сын, которому полагалось бы ничем особенным не выделяться.
В общем, лет до шестнадцати Мильтон папу ненавидел, а папа Мильтона со свойственным ему спокойствием презирал. В свое шестнадцатое лето Мильтон понял, что сыт по горло авторитарным Морганом и размеренной жизнью в Новом Орлеане, и рванул в Нью-Йорк. Быстро оставшись там без денег, он ощутил легкий голод и желание попасть домой как можно скорее. Морган отказался принимать Мильтона назад и высылать ему деньги на обратную дорогу, а Мильтон отказался в этом случае возвращаться и пообещал умереть в канаве.
И тогда за ним поехал папа, истратив все скопленные за лето деньги и пропустив первую неделю учебы, что было для него еще более трагичной потерей.
— А как вы все-таки помирились? — спрашиваю я, уставившись на мучительно-зеленую, летнюю Луизиану за окном машины.
— Ну, Мильтон жил в какой-то дрянной квартире в Бруклине, и утверждал, что хозяин не должен знать, что он здесь живет. За стенкой располагался наркопритон, а полицейские застрелили какого-то парня прямо у меня на глазах еще на подходе к дому.
— Райан пришел ко мне, и это было чудо, что он меня еще застал. Я хотел убираться из той квартиры в тот же день. С тех пор, как я звонил оттуда Моргану, ко мне аж два раза ломились какие-то мафиози. Райан, словом, поправил свои очки, потому что всегда был унылым задротом, и сказал, что нам пора уезжать отсюда, если только мы хотим успеть домой до конца лета, потому что Райан ни за что не пропустит школу из-за меня.
— И Мильтон расплакался.
— Заткнись, я не расплакался, я ударил тебя в нос.
— И спросил, почему так долго.
— А потом расплакался.
Мильтон и папа смеются одновременно и — совершенно одинаково. В этот момент, они невероятно похожи и любой сказал бы, что они братья.
— Словом, — говорит папа. — мы отправились домой через всю страну, на автобусах и попутках. Самым сложным было выбраться из Нью-Йорка. Новые друзья Мильтона едва не отрезали мне палец.
— Последнюю ночь перед отъездом, мне пришлось приобщить Райана к тому, как это спать, когда у тебя в комнате выбито окно.
— А потом было вполне ничего.
— Настоящее путешествие.
Мы проезжаем цилиндры и вышки нефтеперерабатывающего завода и похожие на скелеты диковинных доисторических животных машины, обтянутые проводами, охраняющие въезд в город. Батон-Руж, в отличии от Нового Орлеана, большой, промышленный город. В нем нет ничего исторического, кроме Капитолия и пары церквушек, он весь состоит из небоскребов и фабрик, теснящихся рядом.
В центре города, сердце стекла и металла, все блестит от солнца, как блестят дешевые драгоценности. Дядя Мильтон надевает темные очки и закуривает.
— Выглядишь как герой дурного боевика, — вздыхает папа.
— По крайней мере, я выгляжу, как герой.
Здание, к которому мы подъезжаем кажется полностью стеклянным, а от того в утреннем и летнем свете сияет так, что глазам почти больно. Я с трудом вижу ровные, алые буквы наверху: Milligan`s Pharmaceutical Industries.
На улице жарко, особенно в костюме, и когда мы заходим внутрь, я чувствую себя будто бы в раю, только вместо Бога у меня кондиционер. Глубоко вдохнув холодный, стерильный воздух, я говорю:
— Отличное место, папа. Если бы ты возил меня сюда до приезда неприятных родственников из Ирландии, я получил бы еще больше удовольствия от поездки.
Хотя в глубине моей души сидит сомнение в том, что можно получить от чего-либо удовольствие большее, чем от мягкого и прохладного дыхания кондиционера. Первый этаж куда больше похож на холл дорогого отеля, чем штаб папиной злой корпорации. В центре даже имеется фонтанчик, активно призывающий меня своим нежным журчанием окунуть в него лицо и руки. Но я старюсь поддерживать вид достойного наследника семейного дела. Наши шаги отдаются эхом, и я вижу свою тень, отражающуюся на белом, мраморном полу.
— Ты вдохновлялся сетью отелей Карлтон? — спрашиваю я.
— Разумеется, они ведь получают миллионы совершенно ни за что. Меня всегда вдохновляли такие вещи. И, Мильтон, ради Бога, сними очки!
И тогда Мильтон снимает очки с папы. Со всем достоинством близорукого человека, лишенного главного канала связи с миром, папа нажимает кнопку лифта.
В лифте он, судя по всему, больно пихает Мильтона локтем под ребра и забирает очки обратно. Едем мы долго, этаж за этажом проскальзывают на табло, пока не загорается цифра двадцать пять. Перед тем, как двери открываются, отцу приходится ввести код, иначе лифт отказывается давать ему доступ. К двадцать пятому этажу папа явно перестал вдохновляться Карлтоном и принялся вдохновляться больницей. Стены и потолок в коридоре белоснежные до невероятности, а пол мраморный и черный, что, справедливости ради, клиникам не свойственно. Мне резко бьет в нос каким-то незнакомым, химическим запахом. Двери в коридоре, впрочем, совсем не похожи на больничные. Они стальные и запираются на засовы снаружи. Я чуть вскидываю брови, и папа замечает это.
— Все наши лаборатории ниже этого этажа занимаются исключительно созданием новых лекарств и благодеяниями для всего человечества.
— Кроме тех термофильных прививок за которые на вас подали в суд, — говорю я.
— О, эта история, слава Богу, прекратила течение свое. Надо думать, до понедельника.
— Зачем тебе железные двери на этом этаже? — спрашиваю я, и выходит почти строго.
— За этими дверьми мы занимаемся тестированием лекарств на добровольцах.
— Зачем двери, если это добровольцы? — повторяю я.
— Они выдают очень разные реакции, — отвечает отец. — Некоторые из вариантов таблеток обладают выраженным психотическим эффектом. Ты что серьезно думаешь, что за этими дверями страдают десятки медиумов с пробужденной силой? Если бы у нас получилась хотя бы половина из того, что мы задумываем, никакие двери бы их не удержали.
— Для этого нужны мы, — говорит Мильтон. — Я и мои солдаты.
Я вдруг чувствую холодок, поднимающийся по позвоночнику, проползающий вверх, будто большое, мерзкое насекомое.
— Добровольцы, Фрэнки. Мы не преступники. Не все из побочных эффектов безопасны. Не все сохраняют физическую и психическую целостность нашим доблестным участникам программы. Но все подопытные читали договор и знают, на что идут. По истечению срока каждый будет щедро вознагражден.
Мильтон усмехается, но глаза у него остаются неожиданно серьезными. А потом я вдруг слышу звук удара, как будто кто-то бросается на дверь. Мильтон и папа одновременно удерживают меня за плечи.
— Очень неожиданные, — говорит Мильтон.
— Побочные эффекты, — заканчивает папа. — Но мы ведь пытаемся минимизировать последствия для здоровья и максимизировать результат. Наука, как и красота…
— Соблазняет женщин?
— Нет, Мильтон, требует жертв.
Мы останавливаемся напротив одной из одинаковых стальных дверей. Мильтон отодвигает засов, и мы оказываемся в небольшом рабочем кабинете со стеклом во всю стену, открывающим вид на больнично-чистую и ослепительно белую, как вещи в рекламе порошка, палату. Наверное, здесь все комнаты типовые. Наверное, мой папа наблюдает отсюда иногда, как кто-нибудь бросается на стены, свихнувшись от таблеток. В палату ведет вторая дверь с электрическим замком. Папа снова вводит код, и замок пищит, возвещая о правильности папиного ответа. За двумя надежными дверями на кровати сидит Морриган Миллиган. На ней больничная, обезличенная одежда, и увидев ее, лишенную галстука и пистолета, как необходимых атрибутов, я вдруг понимаю, какая она хрупкая и маленькая. Впрочем, первая же ее фраза снова меня в этом разубеждает.
Она говорит, как только видит нас:
— И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.
— Привет, — говорю я.
— Доброе утро, Морриган, — говорит Райан.
— Почему наша кузина чокнутая? — спрашивает Мильтон. — Кто-нибудь кроме меня вообще считает, что она чокнутая?
Волосы у Морин распущены, и я замечаю, что они немного вьются. Она поднимает обжигающе-синий взгляд на нас, и в нем столько злости, что я машинально делаю шаг назад. А вот папа и Мильтон остаются на месте.
— Дорогая кузина, скажи мне, ты заинтересована в сотрудничестве с нами? — вздыхает папа. Он садится на кровать рядом с ней, и Морриган тут же отодвигается на другой конец. Впрочем, с той стороны садится Мильтон, и она оказывается между ними. Я остаюсь стоять, мне одновременно не хочется мешать родителям и жалко ее. Морриган выглядит, как генерал, потерявший свою армию. Впрочем, если Морриган и потеряла все, то у нее все-таки остался Бог. Она достает из-под ворота больничной рубашки золотой крестик, сжимает его и тут же отпускает. Взгляд у нее меняется, становится уверенным и спокойным. Твердым, как лед, и в глазах у нее ни капли воды.
— Вы не знаете, что вы наделали. Даже не представляете. Не представляете, как нагрешили. Ваши руки в крови, они все еще в ней. Грязные ублюдки, из-за вас все начнется. Уже началось.
Несмотря на то, что слова Морриган куда больше напоминают речь бомжа-пророка из Санта-Моники, где я был прошлым летом, голос у нее абсолютно серьезный, убийственно-нормальный.
Отец некоторое время молчит, постукивая пальцем по циферблату наручных часов, а потом говорит почти печально:
— Именно, Морриган. Мы ничего не понимаем. Совершенно ничего. Поэтому объясни нам пожалуйста, чего именно мы не представляем?
— Ты, Райан, понятия не имеешь, как велика моя сила, и кто за мной стоит. С чего бы мне отвечать тебе?
— С того, что ты как раз имеешь понятие о том, как велика моя сила и кто за мной стоит. Впрочем, другой твой двоюродный брат может…
Тут Мильтон с неестественной, абсолютно трезвой быстротой перехватывает Морриган за горло, чуть сжимает.
— Поговорить с тобой отдельно. Я говорил, что он работал в Абу-Грейб во время своей второй поездки в Ирак? Нам нужно больше узнать друг о друге, милая кузина.
Мильтон прижимает Морриган ближе к себе, чтобы лишить ее способности вырываться. Она шипит, будто любое прикосновение ее обжигает.
— Слушай меня, детка, — шепчет ей Мильтон. — Мне достаточно пятидесяти минут, чтобы выяснить полезна ты или бесполезна. Это будут не лучшие пятьдесят минут в твоей жизни, зуб даю, а вот мне все понравится. Хорошо, если ты окажешься полезна. Если же нет, то мы с братишкой…
— Сделаем из тебя медиума, Морриган. Мы это можем. Не обещаем тебе что-то вроде того, что ты видела, но обычного медиума мы из тебя сделаем легко. Будешь ходить в мир мертвых, Морриган. Хочешь быть грязью? Скверной? Хочешь загрязнять мир смертью? Быть одной из тех, кому следует умереть ради победы?
И вдруг Морриган делает то же самое, что и я, находясь в катакомбах под сгоревшей церковью. Она прокусывает себе язык и сплевывает алую, жидкую от слюны кровь папе на щеку. Папа со вздохом достает платок, стирает пятно и долго смотрит на него, как будто проходит тест Роршаха.
— Хорошо, Морриган. Ты выразилась довольно ясно.
Морриган держала меня взаперти, она убийца и сделала оружие из собственного сына. Но мне действительно жалко ее, хотя и совсем чуть-чуть, потому что я вижу, с какой силой давит ей на горло Мильтон. И знаю, с какой он может давить.
— Слушай, кузен, — говорит вдруг она, не из страха говорит, не из желания выбраться. — Внимательно слушай меня, потому что я не буду повторять.
— Вряд ли у тебя появится шанс повторить.
Мильтон все еще крепко удерживает ее, но на горло давить перестает. Голос у Морриган становится хриплый, она кашляет, прежде, чем начать:
— Вы и я, к сожалению, происходим из одного рода. Надо сказать, довольно знатного ирландского рода, но разорившегося незадолго до восшествия на престол королевы Виктории. Последние наследники этого рода, Грэйди и Зоуи Миллиган, уехали из графства Лаут в Дублин еще до великого ирландского голода.
Последние представители знатного рода? Брат и сестра? Нет уж, хватит с меня на сегодня инцеста. Легкими нарушениями основных человеческих табу я сыт уже по горло.
— Скажи своему брату, чтобы он меня не держал, — говорит Морриган. — Мне неприятны его прикосновения.
Райан кивает Мильтону, и он отпускает Морриган.
— Словом, они приехали в Дублин другими людьми. Ей было четырнадцать, а ему было девятнадцать. Как и все представители загнивающих родов, они обладали большим гонором и хорошим образованием. Только в Дублине им это не помогло. Жили они очень бедно, едва сводили концы с концами. Грэйди продавал трупы. По тогдашним законам в медицинских университетах можно было вскрывать только трупы преступников, а их категорически не хватало.
Я вдруг понимаю, что Морриган получает удовольствие от рассказа. Она говорит, сложив руки на груди, в учительской манере, и рассказывает тоже совсем как учитель, и даже взгляд ее будто переносит меня на пять лет назад, на урок, где я сижу и ничего не понимаю. Кем она была до того, как стать католической психопаткой?
— Грэйди грабил могилы. Ухоженный и образованный, знатный мальчик, который орудует лопатой на кладбище по ночам. Так продолжалось до тех пор, пока Грэйди не стал поставлять мертвецов для одного богатого чудака, Честера Каллахана, содержавшего доставшуюся от отца химическую фабрику, но совершенно ничего не смыслившего в деньгах. Честер был человеком мягким и влияемым, потихоньку они с Грэйди подружились, и Грэйди убедил его, что с фабрики можно получить куда больше дохода при разумном управлении. Что производить молочную кислоту для разрыхлителей теста, разумеется, интересно, но лучше направить свой взор в области более идеалистичные и прибыльные. Честера интересовала, конечно, только наука, человеческое тело, а значит, предложил Грэйди, можно было бы заняться лекарствами, люди ведь никогда не перестанут лечиться. Со временем Грэйди приобретал в доме Честера Каллахана все больше влияния, фактически это он управлял делом Честера, а тот смог вдоволь насладиться исследованиями. Их союз был вполне продуктивным, а Грэйди с помощью денег Каллахана смог вернуться к той жизни, к которой привык.
Впрочем, Грэйди все еще занимался какими-то темными, полукриминальными делами, но, по крайней мере, в тюрьму он так и не попал. К тому времени, как фабрика начала развиваться под началом союза Честера и Грэйди, Зоуи Миллиган исполнилось двадцать. Разумеется, чтобы скрепить этот деловой союз, Грэйди выдал Зоуи замуж за Честера. Условие было только одно: дети будут носить фамилию Миллиган. Честер, разумеется, пошел навстречу последним представителям этой династии. Зоуи, по крайней мере так говорили, была девушкой невероятной красоты, но не очень здоровой психически. Окончательно она сошла с ума, после того как забеременела. Зоуи говорила, что носит вовсе не ребенка своего мужа, а демона, которому ее отдал Грэйди. Не успев увидеть своего первенца, Честер Каллахан погиб при довольно загадочных обстоятельствах, впрочем в то время неожиданные смерти случались сплошь и рядом. Грэйди взял управление компанией в свои руки и, — Морриган разводит руками. — Я вижу, она процветает до сих пор.
Морриган рассказывает спокойно, будто мы ее ученики, а не она наша пленница. Она говорит:
— Грэйди действительно занимался оккультизмом. Я полагаю, он был медиумом. Большего всего его привлекали не богатство и не власть, этого он добился сам. Грэйди боялся смерти. И поэтому, — Морриган смотрит в глаза отцу и обращается, кажется, только к нему. — Знаешь, что он сделал? Он отдал себя демону, впустил в себя темноту, в обмен на себя самого и всех, кто будет нести его кровь. Зоуи. Нас с тобой, твоего братца.
Морриган показывает на Мильтона, а потом и на меня:
— И твоего сына.
Мне сразу вспоминается демон из мира мертвых с мультяшными глазами, который хранит нашу семью так долго. А Морриган вдруг срывает с шеи крестик, по-звериному быстро подается к папе и втыкает острием в место между его большим и указательным пальцами.
— Аду принадлежат все, в ком есть эта кровь! — выкрикивает она, экстатически и зло одновременно.
— Папа!
— Райан!
Мильтон перехватывает Морриган, оттаскивает от отца, прижав ее головой к стене. Папа шипит, вытаскивая крест из руки, потом швыряет его на подушку. По белоснежной наволочке тут же растекается карминово-красное пятно.
— Мильтон, поговори с нашей кузиной наедине. Сделай так, чтобы она была больше расположена к цивилизованному диалогу в следующий раз.
Папа встает, он берет меня за плечо и ведет к двери, и обернувшись напоследок, я вижу, как Мильтон за волосы тянет Морриган к столу. Мне ничуть не жалко сумасшедшую стерву, совсем-совсем не жалко, теперь уж точно.
И все-таки мне не кажется правильным все, что Мильтон будет с ней делать. Вряд ли ведь они будут пить чай или учиться плести фенечки.
— Папа? — спрашиваю я. — Ты ведь ее не убьешь?
Отец поправляет очки, и почти одновременно с ним это делаю я.
— Я не могу сказать с точностью, — говорит он. — Нам надо выяснить все, что она знает о нашей семье. Кроме того, если мы не убьем ее, она попытается убить нас. Не все настолько просто, Фрэнки. И не все можно решить с помощью старой доброй дипломатии. Они убивают медиумов, мы создаем. Они хотят уничтожить темноту, мы ее используем. Как ты видишь решение?
— Ну, позвонить ее Папе?
— Римскому.
Мы оба смеемся, и я слышу, как наш смех эхом отдается в пустом коридоре. В конце коридора, очередная стальная дверь, ведет она снова в кабинет, но через окно видно не палату, а просторное и свободное помещение, такое же белое, как и все остальные. Больше всего похоже на спортивный зал в моей средней школе после основательной побелки, которую восьмиклассники еще не успели заплевать и зарисовать частями человеческого тела, не столь в обществе приемлемыми.
Папа садится за стол, открывает ящик.
— Я думаю, милый, тебе стоит научиться пользоваться кое-чем из того, что умеем мы. Исключительно в рамках самозащиты, потому что твой пацифизм и близорукость в равной степени не позволяют тебе быть хорошим стрелком. Скажи мне, Фрэнки, больше всего стресса у тебя вызывает…
— Необходимость учиться магии не в Хогвартсе.
Я не то чтобы против опробовать плоды папиных невероятных стараний слить в любовном экстазе науку и спиритизм, но чуточку, только чуточку, мне страшно. В конце концов, что-то такое я уже делал, когда стреляли в отца, и не скажу, что ощущения были сверхкомфортными.
— Тревога и страх, — говорю я все-таки. Среди одинаковых пузырьков с разными номерами папа долго ищет нужный, и, наконец, выдает мне номер сто семьдесят пятый. Я трясу его, слушая хаотичный перестук таблеток внутри.
— Осторожнее, Фрэнки. Что касается страха, это лучшая наша разработка на сегодня.
— Ты серьезно хочешь сделать меня еще трусливее, чем я есть? — спрашиваю я.
— Между бесконечно большими числами нет ощутимой разницы.
— Ты мерзкий.
— И ответственен за пятьдесят процентов твоего генетического кода. Если выразиться проще — ты наполовину мерзкий. Итак, Фрэнки, ты пьешь одну таблетку и твой организм, примерно через десять минут, впадает в состояние безотчетного страха. Тебе нужно будет только направить его, вспомнив что-то определенное, и ты окажешься на границе между мирами. А дальше я попробую чем-то тебя научить.
— Вообще-то научить меня чему-то не так уж сложно, — фыркаю я. Вынув из пузырька таблетку, я долго рассматриваю ее, прежде, чем положить под язык. На вкус она неожиданно сладкая.
— Серьезно, папа? Она что клубничная?
— У нас оставался подсластитель для детского сиропа.
Папа достает свою таблетку, и я думаю, что же для папы является предельным стрессом. Мы входим в зал, и ничего особенного я не чувствую.
— А вдруг я к ней резистентен? Или наоборот, у меня будет…
И именно в этот момент я чувствую, что сердце мое бьется быстрее безо всякой на то причины. Сердце стремительно поднимается выше, к горлу, как птичка, для которой открыли дверь клетки. И когда оно оказывается примерно в глотке, я чувствую вдруг совершенно немотивированный страх, и страшно мне почти до слез. Отшатнувшись, я прислоняюсь к стене, обхватив руками локти, как будто это должно облегчить мне паническую атаку. Голова кружится, и я с трудом понимаю, где именно нахожусь. Я слышу папин голос:
— Сосредоточься. Это не настоящий страх, милый. Сосредоточься.
Сосредоточиться у меня, впрочем, получается только, когда я чувствую, как папа держит меня за плечо. Он со мной, он рядом, а значит бояться, наверное, и вправду нечего. Я закрываю глаза, и тут же чувствую, как уходит пол у меня из-под ног, но отец крепко меня удерживает.
— В следующий раз тебе стоит принимать полтаблетки.
Представить или вспомнить что-нибудь в таком состоянии оказывается едва ли не самой трудной задачей из всех, что я выполнял в своей жалкой жизни. Мысли скачут, никак не желая остановиться. Наконец, мне удается сосредоточиться. Я вспоминаю для начала тот момент, когда Доминик стрелял в меня, в зале. Вспоминаю его удивительные глаза и ощущение скорой смерти, направленный на меня пистолет. Я умру, я умру, я умру. Но открыв глаза, я вижу все в обычных, ярких цветах. Нет, не подходит. Тогда я вспоминаю мертвого себя на столе, в подвале. Я вспоминаю, как папа пришивает на место мою голову, вспоминаю свои закрытые глаза и трупные пятна, и темноту моих веснушек, и открытое горло, когда видно отбитую позвоночную кость. Я умер, я умер, я умер. Но и на этот раз мир не меняется перед глазами. И тогда до меня доходит: не надо представлять абстрактно-страшные моменты. Ведь был по крайней мере один, который действительно сработал и безо всяких таблеток. И я представляю иезуитскую школу, моего папу, стоящего рядом, снайпера, который, я знаю, вот-вот выстрелит, и что-то внутри у меня действительно обрывается. Страх, искусственный страх, мешается с воспоминанием о страхе настоящем. Я чувствую ощущение, которое бывает еще, когда взлетает самолет, чувство легкости и пустоты, которые почти болезненно отзываются внутри, где-то на уровне желудка.
Когда я открываю глаза, то вижу все в сером, сумеречном свете. Воздух холодный и вязкий, будто бы застывший, как желе из холодильника.
Папа улыбается мне, он спрашивает:
— Как ты?
— Неплохо, — говорю я.
— Тогда начнем. Итак, Фрэнки, телекинез, перемещения в пространстве и умение делать объекты незаметными — способности свойственные всем медиумам без исключения. Некий базовый пакет, который один достаточен для того, чтобы наш проект оплачивало государство.
Папа достает из кармана шариковую ручку, подбрасывает ее, и та зависает в воздухе. Может создаться впечатление, что перемещать вещи в пространстве — очень легко. На самом деле это требует в первую очередь пространственного мышления. Сила в мире мертвых функционирует только благодаря мыслям и представлению. Чтобы пустить предмет в долгий полет, мне нужно представить вектор и скорость этого полета в мельчайших деталях, поэтому…
И тут папа запускает ручку в меня, невероятно быстро, и даже не шевельнув рукой. У меня меньше секунды, и этого слишком мало, чтобы представить путь ручки, допустим, до стены. Но вполне хватит, чтобы представить, как ручка замрет прямо перед моим носом. И она действительно останавливается.
— Отлично, — говорит папа, а я отправляю ручку в стену с такой силой, что она едва не ломается. — Переместись.
Я щелкаю пальцами, и оказываюсь в другом конце зала. Щелкать пальцами совершенно не обязательно, но мне нравится звук, и на мой взгляд перемещение сразу выглядит по-пижонски изящно.
Чтобы меня не заметили сделать еще легче, просто представив, что место где я стою абсолютно пусто. Наверное что-то вроде того, но совсем в других масштабах, провернули папа и Мэнди в иезуитской школе.
— Молодец, — говорит папа. — С базовым пакетом ты вполне управляешься в мире мертвых, а значит и здесь. Теперь перейдем к тому, что дано лично нам, нашей семье. Как ты использовал свою кровь в мире мертвых?
— Как растворитель, — говорю я неохотно.
— Все равно, что использовать автомат для того, чтобы, скажем, землю копать. Теоретически возможно, а иногда и практически применимо, но совершенно не имеет отношения к его исходному назначению. В нашей крови, как ты уже понял, содержится темнота мира мертвых. Она все там создает и она же все там разрушает. Темнота формна и пустотна одновременно, как…
— Дао?
— Как твой разум, Фрэнки. Темнота, разумеется, содержится в крови. Трехсоставность человека?
— Пневма, сома и сарк. Душа, дух и плоть, — рапортую я, чувствуя себя на экзамене.
— Сарк, сома и пневма. Я чувствую все, я знаю все и я есть все. Плоть, как ты понимаешь, разума не имеет. Ты не можешь контролировать темноту в своей крови, и оттого она только разрушает. Как вылитая из пробирки кислота. Сила без контроля. Сома, дух, это разум, умение представлять, контроль без силы, с ним тоже ничего путного не сделаешь. А вот пневма сочетается в себе все и позволяет…
Папа едва заметно двигает указательным пальцем, и падшая на поле брани шариковая ручка возвращается к нему по воздуху.
— Разрушать, — говорит папа, взяв ручку, коснувшись ее только пальцем. Я вижу, как темнота проникает внутрь металла, и он исчезает. Очень похоже на то, что я делаю с кровью в мире мертвых. Ручка исчезает, как будто ее и не было никогда. — И создавать.
На пустой папиной ладони из дымной, клубящейся, как первородный океан, темноты, ручка восстает снова в своем первозданном сиянии.
Папа тогда ломает ручку на две части, и она распадается клубком темноты, из которой вышла.
— Как ты понимаешь, с маленькими и неживыми предметами все гораздо легче. Я ни разу не создавал из темноты ничего, сложнее кружки или перочинного ножа. Чем проще форма, тем больше шансов, что ты сможешь это сделать.
— Слушай, а разве темнота, это не…
— Да. Именно. Темнота опасна, как и вещи из нее сделанные. Сравни это с радиацией, Франциск. Если достаточное количество темноты попадет внутрь, человек умрет. Так что, скажем, восемь месяцев к ряду, создавая простейшие вещи и подсовывая их определенному человеку, можно его убить.
— Практически как видео про Убийцу с ложкой.
Папа смеется, а потом говорит:
— Именно. Впрочем, создавать тебе пока ничего не надо. Мы с тобой научимся кое-чему более простому и более зрелищному.
— Что может быть более зрелищно, чем появление зубочисток из Дао, первородного хаоса, Времени Сновидений или что это там?
И тогда отец выбрасывает руку вперед, будто хочет что-то подвинуть, и меня сбивает с ног целая волна, бесформенная, клубящаяся волна темноты, практически с меня ростом, холодная и острая, как лед.
— Что это было?
— Кое-что куда более легкое, чем создание радиоактивных ручек. Если не придавать темноте четкие форму и свойства, ты можешь пользоваться ей, как инструментом. Сбивать с ног, привязывать кого-нибудь, протыкать, если ты встал на тропу войны, или, по крайней мере, попытаться накачать ей кого-то до смерти, как Мэнди едва не поступила с твоим троюродным братом Домиником. Тебе не нужно в подробностях представлять форму и вид, только направление и действие. Практически как улучшенная версия телекинеза, попробуй.
— А откуда взять темноту?
— Из сердца, милый. Почувствуй, как она в тебе бьется, вместе с кровью, и вытащи ее отдельно от крови, вытащи ее из крови.
Я снова закрываю глаза, стараясь почувствовать, как сказал папа. Биение моего пульса, быстрое и жаркое, я больше не замечаю. Сердце перегоняет кровь, я могу ощутить пульсацию даже в кончиках пальцев. Я вспоминаю слова Морриган про то, что аду суждены все, в ком течет эта кровь.
Выпустить темноту. Я представляю, как с кончиков моих пальцев стекает, вырвавшись из сосудов, из-под кожи, ледяная, дымная темнота. Некоторое время я стою так, представляя каждую каплю, а потом и поток.
— Франциск, — говорит папа, и я открываю глаза. Вокруг меня стелится как туман темнота, расходясь метра на три, не меньше.
— Я же говорил, что ты сильный медиум. А теперь попробуй сделать с ней что-нибудь. И не закрывай глаза, твой противник может успеть тебя застрелить.
Я делаю осторожное движение рукой, представляя, как темнота конденсируется и пронесется быстро-быстро к противоположной стене, но она только продолжает клубиться, не делая ровно ничего.
Когда я переступаю с ноги на ногу, она ластится, как кошка. Я представляю во всех подробностях весь путь темноты от моих ног и до стены, но она остается на месте.
— Франциск, это не совсем то, что ты делаешь обычно. Работать с темнотой куда быстрее, потому что она чувствует твои желания. Попробуй пожелать, а не представить в подробностях что-то скучное. Тебе нужен какой-нибудь яркий, ощутимый образ, который тебе понравится.
И тогда я представляю в подробностях град из осколков стекла, усеивающий восхитительно-белый пол зала, звон выбитого окна, ведущего в кабинет. А потом я даже не вижу, я чувствую, как темнота, моя темнота, собирается, чтобы волной, вектором, рвануть к окну. Движение ее оказывается почти смазанно-быстрым, и вот я слышу звон, именно такой, какого я ожидал.
— Вполне впечатляюще, — говорит папа, и я горд неимоверно. Я почти властным движением маню темноту обратно, и чувствую, как она возвращается.
— Важное знание для тебя, милый. В тебе четыре с половиной литра темноты, ни больше, ни меньше. Если ты выпустишь ее всю, как сейчас, то внутри ничего не останется на случай крайней необходимости. Иными словами, если я надумаю стрелять в тебя сейчас, пока ты использовал абсолютно всю свою силу для вандализма, ты не сможешь остановить пулю.
— А я могу устать использовать тьму?
— Нет, это твой инструмент, ты можешь использовать ее столько, сколько требуется, просто рассчитывай пропорцию. Но, милый, твой организм устает от таблеток, к сожалению. Он работает на износ, как ты понимаешь.
И именно тогда я чувствую острую, яркую, как вспышка фотоаппарата, боль в сердце. Боль вдруг расцвечивает все в прежние, обычные цвета.
— Пап, мне плохо.
— Мне тоже, поверь. Именно поэтому у тебя есть около получаса чтобы творить магию невероятной силы. Твой организм не сможет выдержать дольше в состоянии предельного искусственного стресса, но мы работаем над этим.
Меня пошатывает, и я снова прислоняюсь к стене, стараясь вдохнуть поглубже. Я замечаю, что папа тоже очень бледен.
— Пойдем, милый. Время истекло, и нам с тобой неплохо было бы употребить какое-нибудь более классическое фармакологическое достижение.
Проходя мимо осколков, кроме острой боли внутри, я чувствую почти такую же острую гордость за себя и за то, что я умею.
— Пузырек с таблетками оставь себе, хорошо? Только используй их с умом. Мне еще нужно будет поговорить с Морриган, да и вполне обычной работы у меня достаточно, поэтому домой поедешь с Мильтоном, хорошо?
— Да, папа.
Мы снова спускаемся на лифте, папе приходится ввести код, чтобы покинуть этаж. Перед глазами у меня все плывет, пока мы идем в его кабинет. Обычный папин кабинет располагается на двадцать четвертом этаже. Ничего особенного он собой не представляет, никаких тайн не хранит, кроме разве что экономических, и выглядит как вполне обычное место обитания главы крупной корпорации, со всеми этими столами красного дерева, окнами во всю стену и удобными кожаными креслами.
Папа вручает мне вполне обычную таблетку от боли в сердце, и я принимаю ее почти с такой же благодарностью, как подарки на Рождество. Боль отпускает не сразу, и некоторое время я сижу в кресле с закрытыми глазами, рассматривая пульсирующий под веками узор из бьющейся в сосудах крови. Папа оставляет меня одного, и единственный звук, который я слышу — тиканье часов, мерное и успокаивающее.
Я люблю ощущение уходящей боли, медленного наслаждения, которое приносит облегчение. Я думаю, что часы тикают так успокаивающе, но сил отправиться в мир мертвых и посмотреть, что происходит в папиной корпорации с другой стороны, у меня совсем нет. Мильтон появляется минут десять спустя и сияет ярче прежнего, почти лучится красотой и хорошим настроением.
— Ну что, племяш, поехали бездельничать дома?
— Как Морриган? — спрашиваю я.
— А как ты думаешь?
Пока мы едем в лифте, я молча рассматриваю Мильтона. Он выглядит вполне счастливым, зубасто улыбается, и даже веснушки его кажутся ярче прежнего.
— Что, научить тебя фокусам из мира мертвых для Райана оказалось проще, чем для меня научить тебя стрелять?
— Не напоминай, мне и так кажется, что я недостаточно южанин.
Мильтон приставляет указательный палец к моему виску, говорит:
— Бам. На самом деле все куда проще, чем тебе кажется.
Глаза его в этот момент кажутся такими же мучительно-зелеными, как лето снаружи. Надо же, думается мне, Доминик и Мильтон в равной степени получают удовольствие от убийства живых существ, беспомощности и боли. Как они могут быть такими красивыми, когда говорят об этом? Как кто-то, кто совершает самые уродливые и мерзкие поступки, может оставаться прекрасным? Я замечаю на ладони у Мильтона кровь.
— Морриган меня укусила, — говорит он. — Бешеная сука.
— Я не думаю, что стоит мучить Морриган.
— Она насчет тебя не особенно сомневалась.
В холле Мильтон еще минут десять флиртует с одной из папиных секретарш, а я стою и жду, снедаемый не то завистью, не то холодом кондиционера, переставшим казаться таким благословенным.
— В общем, давай-ка завтра выберемся куда-нибудь, Брэнди, — говорит Мильтон.
— Шерри, — отвечает она. У нее блестящие светлые волосы, почти прозрачные серые глаза и неожиданно резкий, по крайней мере для юга, акцент Среднего Запада. Как раз девушка моего типа. Кроме того, я запомнил бы ее имя.
Но Шерри награждает Мильтона ослепительной улыбкой, очаровательной как пасторальное лето в Айове, откуда она, наверняка, родом. Сам Мильтон тоже улыбается, но куда больше при этом напоминает голодного волка, чем безмятежно флиртующего мужчину.
Я постукиваю носком ботинка по мраморному полу, говорю:
— Дядя.
— О, это сын мистера Миллигана?
— Да, но мистер Миллиган всегда был слишком занят на работе, поэтому фактически я растил его один. Он родился всего через два года после того, как я вернулся с войны в Персидском Заливе.
— Сколько вам было, когда вы отправились на войну в первый раз?
— Девятнадцать.
— А сейчас ему сорок два, Шерри, — говорю я. — И пора домой.
В машине дядя Мильтон говорит мне:
— У меня свиданье с девушкой с алкогольным именем.
— Практически как с девушкой с татуировкой дракона, — пожимаю плечами я.
— Знаешь почему?
— Потому что ты красивый, и она не обращает внимания на то, что ты говоришь?
— Нет, потому что на твоем безрадостном фоне я хорошо смотрюсь. Нам нужно больше времени проводить вместе.
Домой мы едем куда быстрее, превышая все мыслимые ограничения скорости.
— Пока здесь нет твоего занудного отца, почему бы не прокатиться как белые люди?
— Ирландский расист-ветеран с пушкой наперевес, ты представляешь собой самый любимый типаж для женщин Техаса. Может быть съездим туда летом?
Мильтон смеется и сильнее выжимает педаль газа. И именно тогда я замечаю, что он самую чуточку, но — бледнее обычного.
— С тобой все в порядке?
— Что?
— Ты хорошо себя чувствуешь?
— Да, — говорит он. — Разумеется, хорошо.
Машина с ревом проносится мимо автозаправки на въезде, где Мильтон всегда сбавляет скорость, но только на этот раз он скорости не сбавляет.
— Дядя, здесь нас остановят копы.
— Да? Да, конечно.
Он отвечает будто бы невпопад, и я говорю:
— Давай-ка я поведу.
Неожиданно, Мильтон соглашается. Тогда я думаю, что он заболел, ведь ни разу в своей жизни Мильтон не соглашался пустить кого-то за руль, если уж он решил погонять сам.
Глава 8
Успеваем домой мы как раз к обеду, но Мильтона еда интересует неожиданно мало. Он уходит наверх, говорит, что собирается поспать и просит принести ему чай.
Чай, вот в чем проблема. Не виски. Не текилу. Не канадскую водку. Не ром. Не шампанское. Не вино. Не одеколон, в конце концов. Он просит чай, и даже не просит добавить туда спирта для вкуса.
Мэнди и Итэн выглядят обеспокоенными и смотрят на меня, пока я занимаюсь чаем, с плохо скрываемым волнением, но я говорю:
— Он просто устал и его Морриган укусила, наверняка.
— Вот бешеная…
— Не заканчивай предложение, Мэнди, — вздыхает Итэн.
— Что? Вдруг она его чем-нибудь заразила?
— Чем? Католицизмом? — спрашиваю я, размешивая в чашке сахар.
Вручая чай Мильтону, я, впрочем, выгляжу чуть менее уверенным. Мильтон, бледный и какой-то потерянный, сидит, забравшись с ногами на кровать, как шестнадцатилетний.
— Что случилось, Мильтон?
— Голова болит.
— Мне позвонить папе?
— Нет, не звони. Я выпью таблетку и посплю. Как тебе такой план?
— Меня устраивает, но если тебе что-то будет нужно — кричи.
Спустившись вниз, я беру оставшуюся для меня порцию китайской еды и сажусь между Итэном и Мэнди.
— Все в порядке, ребята. Вы можете перестать волноваться. У него болит голова.
— Но он не пьет, — говорит Мэнди. — Ты же знаешь, когда у него болит голова, он пьет.
— Или издевается надо мной, — добавляет Итэн. — Когда он в последний раз просто шел поспать? Я кстати, очень хорошо помню. В его шестнадцатилетие, когда он сказал, что идет поспать и поразмыслить над своей жизнью, а потом сбежал в Нью-Йорк.
— То есть, думаешь он сейчас на пути к аэропорту Кеннеди?
Мы с Мэнди переглядываемся, я подцепляю еще одну порцию острой, жирной, китайской лапши и говорю:
— Не думаю, что у нас есть причины за него волноваться.
Я сам ужасно волнуюсь, но в отсутствии папы, я заменяю его, а значит должен поддерживать всеобщее спокойствие в неясных ситуациях.
— Да? — спрашивает Итэн.
— Да? — спрашивает Мэнди.
Наверное, не очень-то убедительно у меня получается кого-нибудь успокаивать.
— Я сказал ему кричать в случае чего.
В фильмах слишком очевидная композиция вызывает смех, а вот в жизни — непременное удивление. Да, первым моим чувством, когда сразу после конца моей довольно скверной шутки, я услышал крик дяди Мильтона, было именно удивление.
Крик настоящий, громкий, болезненный, какого я никогда не слышал от дяди Мильтона. Если быть честным, я даже не представлял, что взрослый мужчина может так громко орать.
Мы с Мэнди и Итэном бросаемся наверх почти одновременно. Мильтон не прекращает орать, кажется, ни на секунду, и это с одной стороны хорошо, ведь означает, что он вполне еще жив и легкие у него функционируют, а с другой — невероятно страшно.
Мы с Мэнди замираем в дверях, а Итэн — чуть позади нас. Ни один из нас не может заставить себя переступить порог комнаты сразу же. Мильтон сидит на кровати в той же позе, в которой я его оставил, карикатурно-подростковой. Обхватив голову руками он кричит:
— Заткнись! Заткнись! Заткнись!
— Мильтон! — взвизгивает Мэнди, но Мильтон ее будто бы не слышит. Мы с ней одновременно делаем шаг вперед, в комнату.
Мильтон раскачивается, мерно и жутко, его так ощутимо трясет. Оказавшись рядом с ним, я и Мэнди одновременно протягиваем к нему руки, пытаясь коснуться, но Мильтон отползает назад, прижавшись к спинке кровати.
— Нет. Нет, это большое зло. Нет!
Он смертельно бледен и глаза у него воспалены, больше всего мой дядя похож на сумасшедшего. Он смотрит на нас так, будто не узнает.
— О, Господи, — говорит он, а я ведь никогда не слышал, чтобы он звал Господа. — Господи, я согрешил и наказан. Я много грешил, я не знал, что такое плохо. Я все еще грешу. Мне жаль, Господи, мне жаль, пусть только это прекратится. Это из-за меня, папа? Это потому что я был плохим?
Мэнди прижимает руку ко рту, издает какой-то странный, показавшийся бы мне смешным, если бы не ситуация, писк.
— Это зло, — говорит Мильтон. — Это ведь такое огромное зло. Мне никогда с ним не справиться. Только не забирай меня!
— Мильтон, — говорит Мэнди хрипло. — Братик, о чем ты? Папы нет, папа умер.
И тогда Мильтон не то, что орет — он воет:
— Они все говорят одновременно, я не могу думать, мне больно. Как в аду, как в аду!
Мэнди замирает на месте, продолжая смотреть. Мильтон, ее старший брат, бьется и сходит с ума, здесь, рядом с ней, а она ничего сделать не может. И я не могу. С трудом мне удается найти телефон, и с еще большим трудом набрать папин номер.
— Отец! — начинаю частить я, еще толком не поняв, взял папа трубку или нет. — Мильтон, он…
Я оборачиваюсь, смотрю на Мильтона, пытаясь найти верные слова.
— Я не знаю, — говорю. — Извини, я не знаю, что с ним случилось. Я не могу тебе объяснить. Он кричит что-то про голоса и ад. Как будто сошел с ума. Что нам делать? Он умрет? Его заберут у нас? Пап? Папа? Папочка?
— Прекрати паниковать, Франциск. Дождитесь меня, я посмотрю, что с ним случилось.
— Он так кричит, ему, наверное, больно.
— Он говорит про голоса?
— Да.
— Я объясню тебе, где успокоительное, его надо вколоть. Готов?
Я сглатываю комок в горле, киваю.
— Готов.
Мильтон позади меня говорит:
— Он вернулся, теперь он здесь. Я этого не выдержу. Почему я? Почему я? Они все говорят одновременно. Я не могу это слушать, не могу. Так неправильно, так неправильно.
Папа терпеливо объясняет мне, где успокоительное, но найти я его могу далеко не сразу. А когда нахожу, то не сразу могу набрать шприц, так сильно дрожат у меня руки.
Что происходит с моим дядей? Это может быть из-за Морриган? Когда я возвращаюсь, дядя уже не кричит, он лежит на кровати, смотрит в потолок и твердит:
— Этот маленький поросенок отправился в город, этот маленький поросенок остался дома, у этого поросенка были масло и хлеб, этот поросенок тоже остался дома, а этот поросенок визжал всю дорогу домой.
— Папа сказал вколоть ему лекарство, — говорю я. — Подержите его, пожалуйста.
Итэн и Мэнди держат Мильтона, впрочем сейчас это не сложно, он почти неподвижен, только продолжает повторять считалку про свиней.
Я примериваюсь слишком долго, боюсь, что случайно попаду не туда, или что в шприце останется воздух, или что сам дьявол появится и заберет моего дядю, да чего угодно.
В конце концов, Мэнди отбирает у меня шприц и вкалывает Мильтону в руку успокоительное. Именно тогда он вскрикивает:
— Тысяча семьдесят, тысяча семьдесят! Он больше не демон, он бог.
От того, как Мильтон дергается, игла входит глубже под кожу и выступает капля крови, выдернув шприц, Мэнди снова прижимает руку ко рту. Я вижу, как Итэн, вместо того, чтобы продолжать Мильтона держать, поглаживает его по голове. Глаза у Мильтона широко раскрыты, но я почти уверен, что он нас не видит.
А потом его вдруг перестает трясти, он говорит:
— Мэнди, позвони Райану. Ему нужно убираться оттуда. Немедленно. Сейчас. Сейчас! Быстро!
В обычном своем настроении и обычном состоянии Мильтона, Мэнди не слезла бы с брата, пока не узнала, что к чему, но сейчас она только берет Итэна за воротник, утягивает его за собой.
— Собирайся, ты идешь в церковь.
— Зачем?
— За кем. И ты знаешь, за кем. Быстро! Я звоню Райану.
Оставшись рядом с Мильтоном в одиночестве, я сажусь на край кровати, зову его по имени, но он снова меня будто бы не слышит.
— Мильтон, — говорю я. — Мильтон, папа уже едет домой. Мы тебе поможем. Ничего не случится.
Эти слова скорее успокаивают меня, хотя бы в ту секунду, когда я их произношу.
Я говорю:
— Я так люблю тебя, дядя. Прости, что злился на тебя.
Он говорит:
— Он движется туда, это огромное зло.
Я говорю:
— Вообще когда-либо, даже в тот раз, когда ты меня чуть не застрелил.
Он говорит:
— Пожирая плоть и кровь, пожираешь душу.
Я говорю:
— Я так люблю тебя.
Он говорит:
— Слишком близко, слишком хорошо слышно их всех.
И тогда я ложусь рядом с ним, кладу голову ему на плечо, слушая сердце, закрываю глаза. И мне кажется, может быть только кажется, что так я утешу его лучше, чем любыми словами.
Слушая удары сердца Мильтона, слушая его дыхание, неразборчивый шепот, я вспоминаю вдруг, с невероятной отчетливостью, золотые пески в Сан Диего, где мы были, когда я был совсем маленький. Вспоминаю золотые пески и темнеющую гладь океана, чаек, обращающихся в точки на горизонте, плеск рыбок в прозрачной воде, и зеркало неба, отражающее земную, режущую глаза синь воды.
Невероятно, с какой точностью я могу воспроизвести галдеж детей на пляже, горький плач птиц наверху, накатывающие стоны прибоя и ощущение огромного моря прямо передо мной.
Тогда я впервые узнал, что есть что-то невыразимо большее, чем я, что прибудет всегда, до и после меня. Я вспоминаю о море, и чувствую, как успокаивается сердцебиение моего дяди. Я представляю все, выразительно, ярко, проговариваю каждый оттенок воды и песка, как будто рассказываю ему сказку.
Но ничего не говорю вслух. И в то же время знаю, что он воспринимает сейчас каждую мою мысль. Я не знаю, откуда пришло это знание и не думаю о том, что оно означает.
Я чувствую по мерному, спокойному, нездешнему дыханию Мильтона, что он засыпает, засыпаю и я, надеясь выяснить хоть что-нибудь. Открыв глаза в темноте, я слышу, как кто-то зовет меня за окном. Девочка с перевязанным лицом стоит снаружи и говорит:
— Выходи, Франциск. Выходи! — она смеется совершенно девчоночьим смехом и пропадает. Я встаю с кровати и выглядываю из окна вниз. Под окном, будто съев, слизнув наш сад, бьется дикое, непослушное, ночное море, о котором я вспоминал.
Вместо того, чтобы идти спускаться по лестнице, я щелкаю пальцами и оказываюсь внизу, у самой воды. Облизав мне ботинки, она откатывает назад, скрадывая песок. Девочка в бинтах плачет, ровно настолько же горько, насколько сладко секунду назад смеялась. Я сажусь рядом с ней и говорю:
— Привет, дружок.
— Отвали, — говорит она.
— Ты меня звала.
— Звала, — говорит она. — Все кончается.
Она шмыгает носом, бинт на ее лице мокрый от слез.
— Тогда чего ты плачешь? — спрашиваю я.
Она поворачивает голову и, наверное, смотрит на меня.
— Ты знаешь, как меня зовут?
— Ты не говорила мне, когда я спросил.
— Зоуи. Зо-уи. Хорошее имя?
— Хорошее, дружок. Ты — моя прапрапрапрабабушка?
— Ненавижу тебя, отвали и уходи.
Я смеюсь, и она бьет меня по плечу, совсем не больно.
— Чего ты плачешь, бабуль?
— Заткнись и не называй меня так.
— Тогда не рыдай.
Зоуи чуть склоняет голову набок, птичьим, смешным и страшным одновременно движением.
— Хочешь, — говорит она. — Расскажу тебе кое-что жуткое.
— Только быстрее. Я здесь, чтобы узнать, что случилось с моим дядей.
— Ага, — кивает Зоуи. — И об этом тоже, но чтобы понять историю, ты должен перестать быть таким придурком и послушать ее с самого начала.
— А для бабули ты довольно-таки суровая.
Но Зоуи не смеется и не бьет меня, она ложится на песок и смотрит в черное, слепое небо. Я ложусь тоже и вдруг думаю, что так же мы лежали с Домиником. Звезд не было видно ни тогда, на потолке, ни сейчас, на небе.
— Давным давно, — говорит она. — Хотя и не так давно, как ты думаешь, жила была на свете Зоуи Миллиган, и был у нее лучший на свете брат, которого она любила больше самой жизни и всего другого.
— А звали его Грэйди?
— Не перебивай. Но звали его действительно Грэйди. Грэйди, ее старший брат, был умницей. Настоящим умницей, правда-правда. Они жили в прекрасном доме, так говорил Грэйди, он еще помнил прекрасный дом, прежде чем его отобрали. Зоуи помнила только тесную комнатушку в Дандолке, где они с родителями ютились, оставшись без всего своего состояния. Зоуи и Грэйди любили своих родителей, старались им помогать. Когда родители умерли от туберкулеза, Зоуи и Грэйди едва не сошли с ума от горя. Но Грэйди, как я уже говорила, был лучшим старшим братом на свете. Он сказал: давай поедем в Дублин, там мы сможем найти работу. И Зоуи согласилась, а ведь не надо было соглашаться. Они добрались до Дублина без гроша в кармане, и Зоуи, признаться, подумала, что они оба умрут от голода. В желудке и в голове было одинаково легко, она была готова к смерти. Как истовая католичка, Зоуи верила, что попадет в рай, где много-много еды, ее ждут мама и папа, чтобы больше никогда не покинуть. Ей даже не было страшно. Но Грэйди раз за разом спасал ей жизнь, принося домой украденную на рынке еду или украденную на вокзале одежду, чтобы было не так холодно. Ты знаешь, как кусаются клопы? Клац-клац. Но ночам Зоуи и Грэйди грелись под одним одеялом, а рядом на койке сопела еще парочка чужих детей. Католический приют, где они ютились, всегда был переполнен, особенно зимой. Грэйди обнимал Зоуи так крепко, чтобы она не обращала внимание, что рядом есть кто-то, кроме него. Он же ведь правда был лучшим старшим братом. А еще он был умницей, поэтому Зоуи не удивилась, когда однажды он появился на пороге в новом пальто, держа в руках плитку шоколада и ее любимый пирог с почками.
— Фу! С почками?!
— Я рассказываю про викторианскую Британию, мальчик, там дела обстояли именно так. Даже в моей прекрасной стране.
Зоуи нащупывает на песке ракушку, подбрасывает ее и ловит не глядя, с нечеловеческой быстротой. Я замечаю, что у нее красивые руки — фарфорово-белая кожа и длинные, аккуратные пальцы.
— Словом, она не удивилась, что брат принес еду и повел ее в магазин за новым платьем. Она спросила, устроился ли он на работу, и Грэйди сказал, что устроился. Через неделю, они ушли из католического приюта, прихватив с собой только клопов из подушки. Их новая квартира в Дублине вовсе не была красивой или просторной, как лучший на свете дом, о котором рассказывал Грэйди, когда Зоуи не могла заснуть. И все же она была лучше, чем все, что Зоуи знала до этого. Она чувствовала себя королевой. Зоуи спрашивала, куда Грэйди уходит по ночам, и он отвечал, что работает сторожем на кладбище. Зоуи стоило спросить, откуда грязь под ногтями у Грэйди, что стало с его красивыми руками, но она не спрашивала. Зоуи нравилась новая жизнь, она была дурочкой. Ты ведь знаешь, чем занимался Грэйди.
— Воровал трупы.
Зоуи опускает руку в воду, лаская, оглаживая воображаемое море перед нами.
— Да. Он продавал их врачам и преподавателям. Зоуи долгое время не знала этого, пока Грэйди не привел в их дом Честера. Честер был богатый и чудной, но Зоуи он понравился. Он был совершенно безобидный, не страшный и не злой. Честер проболтался, как именно они познакомились с Грэйди, и весь тот вечер Зоуи рыдала. Вовсе не из-за позора, который Грэйди навлек на их семью, а из-за ада, который ожидал ее брата. Они не будут вместе в другой, вечной жизни, думала она. Грэйди пытался ее успокоить, он говорил, что отмолит все грехи, и Зоуи, дурочка, ему поверила. Он ведь был самым лучшим братом на свете, а лучший на свете брат ее не обманет. Грэйди все больше сходился с Честером, они вместе вели дела, и новая квартира Зоуи и Грэйди была еще больше, лучше, красивее. Грэйди уже не нужно было ходить ночью на кладбище, но он ходил, и руки его были в земле, когда Зоуи встречала его утром.
— Он продал свою душу?
Зоуи смеется, фыркает, потом говорит:
— Нет, Грэйди был слишком гордый, он никогда бы не продал свою душу, даже за вечное спасение, если бы это было возможно. Нет, Грэйди пытался проникнуть за грань смерти, узнать, что она такое.
— Он стал медиумом?
— Да, вы так это называете. Однажды он велел Честеру, его единственному другу, закопать себя в гробу, и отрыть только на следующий день.
Я думаю, насколько чокнутым нужно быть, чтобы велеть кому-нибудь заживо себя похоронить. Фактически, пройти через смерть. И с большой вероятностью — умереть. Я не вижу выражения лица Зоуи, не вижу ее глаз, но руки ее остаются спокойны, не дрожат.
— Но его не интересовали беседы с мертвыми, он искал силы. В ту ночь, в гробу, он чувствовал, как умирает. Он не сопротивлялся темноте, впустил ее в себя, и она его не опалила.
— Ты можешь выражаться чуть менее пафосно? Я ничего не понимаю.
Зоуи высовывает кончик языка, как Доминик, облизывает края бинта, заляпанный кровью, а потом говорит:
— Райан показывал тебе, как темнота разрушает и приносит смерть.
— Точно.
— А еще он показывал тебе, как темнота создает.
— Но чтобы темнота что-то создала, нужен замысел, творец.
— Или одна на шесть миллиардов случайностей.
— В викторианской Англии изучали теорию вероятностей?
— Ирландии, а не Англии. Не изучали, но быть мертвой довольно скучно, как ты мог бы заметить.
Зоуи закладывает руки за голову, а потом продолжает:
— Словом, Грэйди вернулся из мертвых, но не как обычный медиум. Он вернулся наполненным тьмой мира мертвых. Его не было долго, два дня, и Зоуи успела выплакать все глаза. Когда Грэйди вернулся, он был совсем другим, темным внутри, жутким, не совсем собой. Вы родились с темнотой внутри, вам не понять, как может измениться из-за нее человек. Грэйди был неуловимо не таким, каким Зоуи его знала. В ту ночь, они впервые разделили постель.
Я мотаю головой, говорю быстро:
— Об этом я слушать ничего не хочу. Слушай, а как думаешь, зачем он это сделал?
И еще быстрее я добавляю:
— То есть, я не о последнем, что ты сказала. Я о темноте. Зачем он впустил ее в себя и во всех своих потомков?
— Он начал изучать мир мертвых, чтобы спастись от ада, узнать о смерти. И понял, что ада нет. И рая нет. Есть только материал из которого можно творить что угодно. Первозданный океан. И он захотел частичку его внутрь, представив что можно будет творить с этой силой, создавшей целый мир. Грэйди выстрадал эту темноту, он ее добивался.
— Так что случилось дальше? — спрашиваю я. — Не в смысле…
Волна накатывает на берег, едва не облизав мои ботинки, и я вижу, как уходит в море песок.
— Я поняла, внучек, — фыркает Зоуи. — Слушай дальше. Грэйди хотел стать сильнее, и поэтому в мире мертвых он поедал призраков. Призраки ведь тоже состоят из темноты, поедая их, ты впитываешь силу. Он становился все сильнее, успешнее, здоровее, охотясь на призраков. Он процветал. Грэйди не применял темноту в реальности, по крайней мере в то время, но поедая призраков, он впитывал их воспоминания и умения. Грэйди, оставшийся сиротой так рано, не окончивший университета, вряд ли смог бы вести дела компании Честера самостоятельно, но, видимо, среди съеденных им попалась парочка банкиров и химиков. Грэйди выдал меня за Честера, но мы не жили с ним. Честера я, как женщина, не интересовала.
Когда Зоуи переходит на повествование от первого лица, оно вдруг кажется чище, доверительнее. Я машинально пропускаю сквозь пальцы песок, внимательно слушая ее голос. И в то же время ее голос становится злее, будто бы она перестает сдерживать эмоции. Я, наконец, понимаю, что не так она спокойна, как хочет показать.
— Но нам было рядом вполне комфортно, пока я не узнала, что беременна. Тогда я заразилась этим. Темнотой, которая едва не свела меня с ума, пока я носила этого ребенка. Я была не в себе, почти обезумела.
— Пропусти этот отрывок побыстрее, ладно? Переходи к сюжетообразующей части.
— Грэйди Честера убил.
— Кто бы мог подумать! Какой неизбитый, небанальный поступок для Грэйди Миллигана.
— И попробовал его плоть и кровь.
— Что?!
Зоуи вдруг садится, начинает переливать из руки в руку прозрачную морскую воду.
— Он подумал, что будет если съесть не призрака, а живую душу. Сколько душа находится в теле, прежде чем попасть в мир мертвых, маленький медиум?
— Двадцать четыре часа.
— Именно. После этого, Грэйди двадцать четыре часа мог делать то, что твоему отцу и не снилось. В реальности, а не в мире мертвых.
— Мой папа с таблетками может продержаться максимум полчаса.
— Да. Потому что твой папа не пробовал человеческой крови. А Грэйди пробовал, и с тех пор — довольно часто.
— То есть, он еще и каннибал, чудесненько. И что в этой чудесной семье случилось дальше?
— Долгое время не случалось ничего. Грэйди скрывал все от меня. Я не знала, чем он занимается. Все, что я тебе рассказываю, я поняла потом, позже. Прошли долгие годы, Франциск. Наш сын, считавший Грэйди дядей, уже пошел в школу, когда…
Зоуи сцепляет пальцы, и костяшки их белеют еще сильнее, хотя казалось бы, что это невозможно.
— Когда я узнала, чем занимается Грэйди, — голос ее в этот момент звенит, будто достигнув наивысшей ноты.
— И что ты сделала тогда? Сдала его полиции?
— Знаешь, что он сделал бы с полицией? Что он мог сделать к тому времени со всем Дублином?
За бинтами я не вижу, но, наверное, Зоуи горько усмехнулась. Впрочем, может быть и нет.
— Я убила его. Я любила Грэйди больше всех на свете, и я убила его. Всадила нож ему в сердце, потому что меня одну он пустил бы так близко к себе. Мне одной он доверял. Больше этого никто не смог бы сделать, а я должна была. Для всех Грэйди просто пропал. Впрочем, кое-что он мне все-таки оставил.
Зоуи начинает развязывать бинты на голове, и я вижу девочку четырнадцати лет, ровно столько ей было, когда она переехала в Дублин. Наверное, это был самый прекрасный момент, когда из комнатушки в провинциальном городке, она попала вдруг в большой город, и за руку ее держал самый лучший в мире старший брат.
— Да, — говорит Зоуи. — Ничего такой был момент, но мне просто нравится так выглядеть.
Зоуи до странного похожа на всех нас: на меня, на Доминика, на отца и Мэнди, на Морриган, на Мильтона и Ивви, на Итэна, на Морин. И в то же время — ни на кого конкретно.
У нее красивое лицо с острыми скулами, нос усыпан веснушками и волосы темные, самую малость в рыжину. А еще у Зоуи невероятно синие глаза, такие же, как у Доминика, Морриган и Морин. Засмотревшись в эти невероятные, синие глаза, я не сразу замечаю, что она мне показывает.
На щеке у нее длинная, кровоточащая рана. Такая не может остаться от ножа, но такая может остаться от когтей.
— Это он сделал?
— Ну, а кто? Нет, я тебе просто так показываю, как меня медведь подрал.
— Ирландки даже в викторианскую эпоху не были особенно трепетными, да?
Зоуи касается щеки, смотрит на кровь, оставшуюся на пальцах.
— Всегда кровоточит.
— А что с тобой случилось дальше?
— Я вырастила сына, увидела внуков и умерла в глубокой старости. Грэйди мог бы превратить мою жизнь в ад после того, что я сделала с ним, но не превратил.
— Самый лучший в мире старший брат?
— Возможно.
Я молчу, рассматривая песчинки на ладони. Некоторые из них переливаются, наверное, это стершиеся в пыль жемчужины. Наконец, мне удается спросить:
— А мой дядя? Что с ним случилось? Ты знаешь?
— Знаю. Это другая долгая история, которую я тебе расскажу. Но сначала, Франциск, подумай. Кем надо быть в этой жизни, чтобы отправиться убивать людей за деньги?
Зоуи замолкает ненадолго, а потом добавляет:
— Если тебе не нужны деньги.
Она чешет кончик носа, вздыхает:
— Просто пища для размышлений про американскую армию и твоего дядю. Но слушай вторую занудную бабушкину историю.
Я смотрю вверх, в беззвездное небо, где не ластится летний воздух и не дремлет луна. Небеса, будто пустой экран или толща земли надо мной, и мне становится чуточку неуютно. Зоуи начинает:
— Напитавшись невероятным количеством силы, Грэйди не стал обычным призраком, он стал… — Зоуи замолкает, и продолжает только еще раз промокнув пальцами рану на щеке. — Это сложно объяснить. Неким видом божества, наверное. Слишком много силы он получил. Он стал частью этого.
Зоуи обводит рукой мир мертвых, докуда мы его видим.
— И почти растворился в нем. И все-таки у него оставался разум, потому что оставался его род, люди, носящие в себе его кровь. Умри последний его потомок, связь Грэйди с миром порвалась бы окончательно, и он растворился бы в темноте, вернув всю забранную отсюда силу. Но у него были потомки, и он за ними наблюдал. Грэйди, хоть и стал божеством, но божественность его касалась одного единственного рода, единственной семьи. Чтобы освободиться ему нужна была добровольно отданная кровь его потомков.
И тут в голове у меня будто бы кто-то щелкает выключателем, включая свет, ослепительный и болезненный свет, от которого режет глаза.
— Когда мои родители поливали кровью землю, чтобы воскресить меня…
— Они просили этого у Грэйди Миллигана. Впрочем, они не знали, к кому именно обращаются. И до сих пор не знают. Все что им известно — есть большая сила, которая их оберегает. Не знали они и еще кое-чего.
Зоуи вдруг подается ко мне, проводит ногтями по моему шраму, говорит:
— Представь себе, с такой силой Грэйди мог бы не только воплощаться в мире, как самые свирепые из призраков, он мог бы его уничтожить. Но все, что моему брату оставалось — быть отражением, отблеском, шепотом в темноте. Около одиннадцати лет он нашептывал человеку, который отрезал тебе голову, что он должен сделать в определенный день и час, что в этом состоит его миссия на земле — убить этого ребенка, который станет, я уж не знаю, Антихристом, наверное. Одиннадцать лет — достаточно, чтобы человек поверил во что угодно или же — сошел с ума.
— Ага. Вообще-то обычно даже легче. Одной «Над пропастью во ржи» достаточно было, чтобы убить Джона Леннона, — говорю я, и замечаю, какой хриплый у меня голос. Я не могу засмеяться, Зоуи тоже не смеется.
— Ничего не хочу об этом знать. Словом, Франциск, твое убийство было запланировано еще до твоего рождения. Грэйди знал, что твои родители пойдут на что угодно, чтобы тебя вернуть. Знал, что Мэнди и Райан — сильные медиумы, знал, как ценна кровь всех четверых.
— И он сделал так, чтобы мне отрезали голову, потому что хотел от родителей добровольно отданной крови, способной его пробудить.
— Именно. И они его пробудили. Ты уже видел его в той форме, которую он обрел, вернувшись.
— Демон? Тот демон, который говорил, что хранит нашу семью?
— Он не демон, скорее божество. Демон подразумевает силу, стоящую за ним, а Грэйди — сам сила. Впрочем, он хранит нашу семью, это правда, потому что пока жив хоть один из нас, он не растворится в мире мертвых.
— А мной он, значит, пожертвовал? Уже ненавижу его.
— Он знал, что твои родители обратятся к нему, и когда они пожертвуют кровь, Грэйди легко тебя воскресит.
— Но откуда он знал, что родители к нему обратятся?
Зоуи грозит мне пальцем, и движение настолько чрезвычайно старушечье, что мне становится смешно видеть его в исполнении девчонки.
— Вот мы и добрались до основной сути, молодой человек. Кто такой Мильтон Миллиган?
— Дядя? Солдат? Алкоголик? Неудавшийся психотерапевт?
— Он первенец, — говорит Зоуи. — Старший сын. И в настоящее время — действующий наследник Грэйди Миллигана. Глава рода, как бы смешно это ни звучало в отношении малыша Мильтона.
Слово «малыш» в контексте Мильтона рассмешило бы меня еще больше, но я весь обращаюсь вслух, пытаясь понять, что стряслось с дядей.
— А значит, — продолжает Зоуи. — Его пророк. Через Мильтона Грэйди говорит, и Мильтон чувствует присутствие Грэйди.
Я вспоминаю, как тогда, после окончания ритуала, под звон вылетевших стекол, на просьбу папы и Мэнди ответил именно Мильтон.
— Через Мильтона он сказал, что именно нужно делать твоим родителям и когда.
— Так что с ним сейчас?! — не выдерживаю я.
— То, что происходит с ним сейчас может говорить только об одном. Грэйди там, на земле, в мире живых, и Мильтон его чувствует. Чувствует ток его мыслей, слышит голоса душ, которые Грэйди поглотил.
Я вспоминаю: присутствие Бога в мире оглушает пророка. Между богом и миром пропасть, противоречие. Разница между абсолютным и относительным, способная свести с ума. Но вместо курса философии религии, мне предлагают посмотреть на собственного дядю, дуреющего от голосов в голове.
— Как он там оказался? Как Грэйди попал в мир живых?
— Твоя тетя Мэнди довольно надолго выкинула в мир мертвых Доминика. Видимо, там он встретил Грэйди. Грэйди мог что-то ему предложить, ведь нужно согласие. Этого я не знаю, я не видела, как это произошло.
— Как помочь моему дяде и Доминику?
Зоуи вздыхает, говорит:
— Лучше бы тебя волновало, как уничтожить безумное божество из мира мертвых, являющееся твоим первопредком. Потому что это ключ к решению обеих проблем. Пока Грэйди здесь, твоему дяде не станет лучше. И пока Грэйди здесь, он постарается уничтожить душу Доминика, чтобы занять его тело навсегда.
— Тогда что я должен делать?
— Тебе все известно, ты и думай.
И в этот момент Зоуи вдруг напоминает мне папу, я мотаю головой, чтобы отогнать ощущение.
— Ты знаешь, как его уничтожить? Знаешь?
У меня даже в горле пересыхает, но Зоуи продолжает смотреть на меня спокойно. Ее синие глаза не выражают ничего, они совершенны и абсолютно пусты, как придуманное море.
— Так же, как и любого другого человека. Так же, как я сделала это в первый раз. Но учти, пожалуйста, что перед тобой воплощенное божество в теле профессионального убийцы. К нему будет сложно подобраться.
— Стой, я не хочу убивать Доминика, — говорю я. — И не собираюсь его убивать!
— А кто сказал, что это должен быть ты?
— И не хочу, чтобы кто-нибудь его убил!
— Тебе все известно, ты и думай, — повторяет Зоуи, и море начинает шуметь, будто приближается шторм.
Резко, будто нырнув в холодную воду, я просыпаюсь. Папа сидит на краю кровати, он не сразу замечает, что я открыл глаза. Мильтон еще спит, и отец гладит Мильтона по голове, медленно, ласково и напряженно одновременно. Губы у отца страдальчески искривлены, он бы никогда не позволил себе такой гримасы, зная что кто-нибудь его видит.
— Братик, — шепчет он коротко, едва слышно. И слово такое непривычное в его исполнении, детское, дурацкое, вдруг до боли ранит меня. Мильтон еще спит, он дрожит во сне и дышит тяжело, глубоко вдыхая и надолго затихая.
— Папа? — шепчу я. Выражение лица у отца тут же меняется, становится спокойным и не показывает больше ничего, ни горя, ни волнения. Он отдергивает руку.
— Фрэнки, — говорит он.
— Я говорил кое с кем в мире мертвых.
Папа смотрит на меня, ожидая продолжения, но как только я набираю воздуха, чтобы продолжить, кто-то вдруг звонит нам в дверь: раз, другой и снова, как сумасшедший.
— Разбудят твоего дядю, — с досадой говорит отец, мы с ним оба вскакиваем, чтобы проверить, кто пришел. Выглянув на лестницу мы видим, как Итэн открывает Морин Миллиган.
Мэнди стоит у двери, скрестив руки на груди.
— О, кого мы не ожидали здесь увидеть, — говорит она. Морин в своем монашеском одеянии переступает порог без стеснения и даже без приглашения.
— Да? Забавно, потому что твой брат искал меня в церкви, — говорит Морин.
— Здравствуй, тетя. Что тебя суда привело? — спрашивает папа максимально нейтрально, будто не его брат болен и, возможно, безумен.
— Пришла выторговать назад дочку? — фыркает Мэнди. — Это хорошо, потому что нам от тебя кое-что нужно.
— О, так вы еще не знаете, почему я пришла? — говорит Морин. — Прибытие заранее может быть хуже опоздания.
И именно в этот момент, у отца звонит телефон. Отец берет трубку и слушает что-то, что для меня слышится далеким и неразборчивым голосом его секретарши. Шерри? Брэнди? Лицо у отца совершенно не меняется, когда он спрашивает:
— Сколько?
И когда он спрашивает:
— Кто-нибудь остался?
И даже когда говорит:
— Спасибо, Шерил Ли. Свяжись, пожалуйста, с теми, с кем мы связываемся в таких случаях, и скажи им, что я буду у них завтра утром.
Папа выключает связь и говорит:
— Доминик пришел за мамой, явив собой чудо героизма и сыновний долг во плоти. Он вырезал охрану, а к ней вдобавок уничтожил почти всех наших зарождающихся медиумов.
— Доминик, — говорит Итэн. — Ведь профессиональный убийца, так, Райан?
— Да, — говорит папа спокойно. — Проблема в том, что судя по описаниям выживших, он делал физически невозможные вещи.
— И в том, — добавляет Морин. — Что это был не Доминик.
— А кто? — спрашивает Мэнди.
— Я не знаю, — и Морин впервые кажется отчаявшейся, взволнованной старушкой. — Но это не мой внук, и он забрал мою дочь.
— Но знаю я. Я хотел тебе, папа, рассказать, когда мы были у Мильтона.
— Хорошо. Ты нам и расскажешь, — кивает папа. — Морин, извини, но у нас нет времени и возможностей тебя утешить.
Но я говорю неожиданно жестко:
— Пусть она останется. Дело в ее внуке, в нашем дяде, во всех нас, и в ней тоже.
Глава 9
Пока я рассказываю им все, что говорила мне Зоуи, все молчат. Один только раз, когда я подбираюсь к той части, где Грэйди открывает для себя каннибализм, папа переспрашивает:
— Что-что?
— Для того, чтобы использовать темноту в реальности, он использовал человеческие плоть и кровь.
— А, хорошо. Чудесно.
— Папа!
Я рассказываю все, что говорила мне Зоуи Миллиган с невротичной аккуратностью, стараясь ничего не забыть, ни единой детальки, могущей оказаться решающей. Даже Мэнди не перебивает, и когда я заканчиваю, все они смотрят на меня, ожидая, что я продолжу.
— Все, — говорю я. — То есть, совсем все. Больше она ничего не сказала.
— То есть, бабуля не дала нам напутственных советов? — спрашивает Мэнди.
— Нет.
— И не намекнула на слабости Грэйди? — спрашивает Итэн.
Я качаю головой.
— И не сказала, что будет посильно нам помогать? — спрашивает Морин.
— Не сказала.
И только папа молчит и внимательно смотрит на меня, чуть склонив голову набок. Проходит секунд двадцать, прежде чем он спрашивает:
— Если Грэйди умрет, то что будет с тобой?
— Я не спросил.
— Я не удивлен.
Я прекрасно понимаю, что папа не может сделать выбор между братом и сыном, поэтому говорю излишне быстро:
— Но я спрошу.
Мэнди тогда пихает папу локтем в бок, говорит:
— Что насчет того, как Доминик вытащил Морриган, Райан?
— Сложно сказать, потому что Шерил Ли явно требуется консультация хорошего психолога, прежде чем она здравым образом сможет описать все, что произошло. Я понял только, что «как будто ад следует за ним». Морин, ты не хочешь рассмотреть кандидатуру моей секретарши в твою секту. По-моему, ее подход более перспективен у вас, чем у нас.
Но Морин не улыбается даже уголком губ, ее синие глаза сейчас очень темны, как темно бывает небо, когда начинается гроза.
— Я могу показать, — говорит она. — Вам всем. Нам нужно взяться за руки, если вы не возражаете. Так будет гораздо удобнее.
— Не переживай, тетушка, мы родственники, — успокаивает ее Мэнди.
— Нет, кстати, в этой семье, после рассказа Фрэнки, я больше никого за руку не держу, — смеется Итэн. В одной руке я сжимаю по-старушечьи мягкую лапку Морин, в другой папину руку, и закрываю глаза, готовый увидеть Доминика, который так впечатлил Шерри.
И вижу. Вернее, сначала я вижу его кипельно-белые конверсы, заляпанные кровью. Подошвы покрыты красным полностью, и оттого приобрели ужасно милый клубничный цвет, а носок покрыт ровным слоем алых крапинок, выглядящих даже стильно. Можно было бы забыть, что это кровь, но забыть не получается, потому что пол ровным слоем покрыт ей. Наверное, не так-то просто понять, что именно я имею в виду, но попытаюсь объяснить. Нет луж из крови или чего-то вроде. Кровью покрыто все, будто Доминик идет по мелкому ручью. Иногда он подпрыгивает на одной ноге, по-детски весело, и тогда брызги поднимаются вверх, как малиновый фейерверк. Хорошо, думаю, что я не чувствую запахов в видении Морин. Очень хорошо.
Доминик улыбается, как человек, у которого без единой на то причины очень хорошее настроение. Он подходит к двери Морриган, но вместо того, чтобы просто отодвинуть засов, он чуть отводит руку, выпуская тьму, и та с устремлением и быстротой волны не просто выламывает дверь, а проделывает в ней сияющую, дымящуюся дыру с человеческий рост. Он хватается за край, чтобы пройти, и сталь под его пальцами плавится, как подтаявшее мороженое, не обжигая его самого.
К экрану с кодом на второй двери Доминик тоже прикасается, поглаживает его кончиками пальцев, выпуская тончайшие ниточки темноты, забирающиеся внутрь. Экран искрит и гаснет, и вторая дверь открывается. Переступив порог Доминик говорит:
— Мамочка! — он широко улыбается, по-настоящему счастливо, и в этом счастье нет даже ничего жутковатого, несмотря на кровь испачкавшую его кеды. Морриган встает с кровати, смотрит на него, подносит руку ко рту.
— Господи, — говорит она.
— Я пришел, мама. Я пришел и очистил это место от скверны и тьмы.
Доминик делает шаг к Морриган, потом еще один.
— Ты знаешь? — спрашивает Морриган. — Почему мы убиваем их?
— Они скверна, они приносят в мир тьму и смерть, как инфекцию. Они приносят ее с собой из мира мертвых и распространяют здесь. Из-за них в мир приходит смерть, — говорит Доминик, явно просто произнося заученную фразу.
А потом Морриган бьет его, наотмашь бьет, так что черная, пропитанная темнотой кровь идет у Доминика носом. Морриган брезгливо стряхивает ее капли с руки, шипит:
— Что ты сделал с собой, Доминик?
Доминик утирает кровь рукавом фиолетовой рубашки, шмыгает носом, смешно его сморщив.
— Я никогда не оставил бы тебя, мамочка. Я люблю тебя. Я пришел тебя спасти.
Я замечаю, что два ногтя на правой руке у Морриган сорваны, и думаю о том, что сделал с ней Мильтон.
— Мамочка, — говорит Доминик. — Пойдем.
Он протягивает ей руку, доверчивым, детским жестом. В линиях, по которым гадают на судьбу, струится у него темнота. Морриган смотрит на него брезгливо, она повторяет:
— Что ты сделал с собой?
Доминик молчит, он смотрит в пол и вертит носком конверса, будто пытается стереть пятно крови на кафеле, от него же оставшееся. Наконец, он улыбается:
— Я продал тело дьяволу за то, чтобы спасти тебя.
— Что?
— Но ведь не душу, мамочка.
И я даже не мог представить, что Морриган может залиться слезами, как двенадцатилетняя девчонка, но она плачет. Некрасиво, утирая слезы рукавом так же, как утирал кровь Доминик. Доминик пытается обнять Морриган, но она отшатывается.
— Не смей прикасаться ко мне, дрянь, — говорит она, моментально перестав рыдать. Она выходит в коридор, не дожидаясь Доминика, зажимает рот и нос рукой. Морриган босая, и когда она вступает в кровь, я слышу влажный всплеск, как когда вылезаешь из душа, вступив в воду на полу. Она что-то шепчет, но я не могу расслышать что. Наверное, она молится.
Доминик плетется за ней, как нашкодивший щенок. Морриган нажимает кнопку вызова лифта, она ничем больше не показывает, что испытывает отвращение, но по тому, как она бледна, я вижу: ее вот-вот стошнит.
В лифте крови на полу куда меньше, зато ее брызги длинными полосами украшают зеркало и потолок. Кодовая панель дымится и даже чуточку искрит. Доминик нажимает кнопку первого этажа, оставляя на белой цифре красное пятно. Свет в лифте мигает, то исчезая полностью и оставляя их в темноте, то люминисцентно-ярко высвечивая брызги крови, кеды Доминика, босые ноги Морриган, испачканные в крови. В беспощадном свете ламп, лицо Морриган кажется еще бледнее, глаза Доминика еще синее, а кровь еще ярче. Они молчат. Лифт с тактичным перезвоном возвещает о прибытии на первый этаж, и Морриган говорит:
— Но как мы выйдем отсюда — в таком виде?
— Это больше не проблема, — говорит Доминик. — Ничто больше не проблема.
Они выходят в холл, оставляя на блестящем, начищенном мраморном полу следы. Шерри сидит за стойкой, как ни в чем ни бывало, и увлеченно читает какой-то журнал.
Она что не заметила, как Доминик вырезал целый этаж с охраной и пациентами? Серьезно?
— Она нас не видит, — говорит Доминик. — И не слышит.
— Ты не убьешь ее.
— У нее туфли от Лабутена.
Шерри покачивает носком своей лакированной туфельки с невероятной шпилькой и перелистывает страницу. Доминик говорит:
— Я кое-что забыл. Самое важное, мамочка.
Доминик раскидывает руки, кружится на месте, и я вижу, как с потолка начинает сочиться кровь. Сквозь десятки этажей, буквально за секунду. Кровь сочится с потолка, ее ленты и линии, ровно-алые, тягучие, как сироп, собираются и падают вниз. Я вижу, как белый отсвет лампы, отраженный в лакированной туфельке Шерри, сменяется красным, а потом первая капля приземляется ей на носок.
А потом, будто бы стеной дождя, свежего, летнего, ливневого Луизианского дождя, кровь проливается вниз. Доминик продолжается кружиться на месте, подставляя лицо, открывая рот, Морриган замирает, будто бы не совсем верит в то, что происходит, а Шерри продолжает переворачивать заляпанные кровью страницы глянцевого журнала, будто не происходит ничего.
— Какого черта ты делаешь?! — кричит Морриган, забывая, видимо, даже о своей набожности.
— Я плачу! — говорит Доминик. — Свою цену.
Он смеется и плачет, ловит кровь языком.
— Как жалко джинсы, — говорит он. — Прости меня, мамочка.
Шерри не замечает ничего, рассматривая мокрую от крови фотографию свадебного платья. Проведя по ней ногтем, она замечает, что бумага мокра и рвется, расходится от прикосновения. Только тогда морок, видимо, спадает и Шерри визжит так громко, что мне кажется, я сейчас оглохну.
Доминик отбрасывает ее к стене одним, едва заметным жестом, удерживает ее. Одна из измазанных кровью лакированных туфелек срывается вниз и падает, обнажая ступню, затянутую в чулок, с крохотной дырочкой на большом пальце.
— Тихо, — говорит Доминик. — У меня сейчас голова взорвется.
Он говорит:
— Этого достаточно.
И только потом поворачивается к Шерри.
— Единственная причина, по которой я тебя не убью — Кристиан Лабутен. Видишь, насколько туфли определяют все?
Он смеется, Шерри смотрит на него большими, светлыми глазами, кажущимися еще светлее, потому что Шерри вся перемазана темной кровью.
Он отпускает ее, и Шерри падает, проехавшись локтем по мокрому насквозь журналу.
— Пока-пока, — говорит Доминик. — У нас нет времени поболтать.
Он берет за руку Морриган, которая, кажется, ни движения не совершила с тех пор, как с потолка полилась кровь.
И как только Доминик касается Морриган, я слышу вдруг звук из внешнего мира, вырывающий меня из видения. Кто-то отодвигает стул рядом со мной, разбивая мой контакт с Морин. Открыв глаза, я вижу Мильтона, он сидит, положив ноги на стол.
— А мне можно поучаствовать в единении семьи? — спрашивает он, и вместо его заметного южного, с сильной оттяжкой акцента, я слышу незнакомый, хотя и очень похожий на ирландский. Хотя почему это незнакомый? Точно также говорит Зоуи Миллиган. Мильтон бледен, под глазами у него залегли синяки, а движения самую малость раскоординированные. Но самое главное — его глаза. Глаза у Мильтона, как у кошки, светло-светло зеленые, с узкими точками зрачков, в них отражается свет и движение, но не отражается ни мысли, ни чувства, ничего не происходит внутри.
— Привет, Грэйди, — говорит Мэнди. Она приходит в себя быстрее остальных, и голос ее не выражает никакого страха.
— Привет, Мэнди, — кивает он. Кто он? Мильтон? Грэйди? Я не знаю. — Привет, все!
Он скалит зубы Мильтона, острые и белые.
— Что тебе нужно? — спрашивает Морин, и впервые в голосе ее я слышу какую-то эмоцию, и эмоция эта — ненависть.
— Мне? Положим, познакомиться с вами всеми!
— Если бы ты не делал это в теле моего старшего брата, знакомство могло бы начаться приятнее, — говорит папа.
— Это условности, — Грэйди постукивает пальцами Мильтона по столу, продолжая улыбаться. — Впрочем, признаюсь, что твое тело подходит мне куда больше, мы с тобой похожи, ты унаследовал от меня лучшее. Итак, родные и близкие, как я понимаю, вы здесь организовали клуб по интересам, главным из которых является устранение меня? Плохая идея. Я показал бы вам, почему, но из этого тела не могу.
— То есть, мы можем тебя убить? — спрашивает Мэнди неожиданно резко.
— И потерять любимого братика. Я же говорю — плохая идея. Мне объяснять, почему? Хотя я все равно объясню, так что не трудитесь отвечать, мой чудесный выводок. Морин, девочка, я знаю, что ты молишься, не молись, это не поможет.
Грэйди вздыхает, позволяя воздуху проходить через легкие Мильтона, потом добавляет:
— Мои славные мальчишки и девчонки, если мы все хотим повеселиться, стоит усвоить некоторые правила. Если вы меня убьете, — он вздыхает. — Я заберу с собой Доминика и, с большой вероятностью, Мильтона. Видите, мне больше всех по нраву убийцы.
На слове «убийцы», светло-зеленые, кошачьи глаза Мильтона от точки зрачка до края радужки краснеют, но почти тут же приобретают свой прежний вид.
— Печальная правда в том, что мы с вами в той самой ситуации, которую придурки из консервативной Англии назвали бы патовой.
Он на секунду задумывается и добавляет:
— Или шахматисты. Шахматисты, да, они бы ее тоже так назвали. Если вы убьете меня, то потеряете своих близких. Если я убью вас, то потеряю шанс на свою вечность. Впрочем, помните, мне достаточного одного потомка, может двух — для надежности. Так что мое пространство для хода куда больше вашего.
— Отпусти Мильтона и пользуйся телом Доминика сколько угодно!
— Пользуйся телом Мильтона, он твой наследник, и отпусти Доминика.
Папа и Морин говорят почти одновременно, и Грэйди качает головой, возводит глаза к потолку.
— С таким подходом мне нечего и опасаться, — он поворачивает голову ко мне, и я понимаю, что жуткого в его движениях. Так водят новую машину, с этой осторожностью, непривычностью руки на руле, когда поворачивают на дороге, даже на пустой, медленно и некрасиво. — Здравствуй, Фрэнки, детка. Помню тебя еще лежащим в саду под толщей земли.
Я сглатываю, отвожу взгляд, а папа говорит:
— А что если мы предложим тебе другое тело? Не Мильтона и не Доминика.
Иногда я завидую папе, не знающему совершенно никаких моральных терзаний.
— Я бы рад, детка, но я ведь не могу. Меня в состоянии принять только тот, кто несет в себе мою кровь.
— Как с отрицательным резус-фактором?
— Доверяю тебе в этих вопросах больше, чем себе.
Грэйди смеется, смех у него веселый и заразительный.
Наконец, мне удается выдавить из себя вопрос:
— Чего ты хочешь?
Взрослые смотрят на меня так, будто я использовал самое отвратительное клише из всех просмотренных ими фильмов. Впрочем, я его действительно использовал.
— А чего хочешь ты? Жить. Может быть, попробовать современную кухню. Может быть, скататься в Долину Смерти. Может быть, купить машину, завести дом за белым штакетничком и еще несколько маленьких Миллиганов. Может быть, вернуться в Ирландию, раз моя Родина, наконец-то, свободна.
— Зачем тебе кровь?
— Господь всемогущий, Райан, ты такой любопытный!
— Зоуи сказала, что Мильтона можно спасти, если тебя убить.
— Крошка Зоуи наговорит очень много, лишь бы вы попытались.
— А ты?
— А я наговорю очень много, лишь бы не попытались. Никому нельзя доверять!
Я даже не замечаю, что Морин достает пистолет, а вот папа замечает, отбрасывает его движением руки, как Доминик поступил с Шерри. Он ведь не пил таблеток. Наверное, стресс у него и без того предельный.
— Спасибо, Райан. Впрочем, подозреваю, что ты сделал это не для меня. И, Морин, неужели ты так сильно меня ненавидишь?
— Грязь, — говорит Морин. — Проклятая богом грязь.
И в этот момент она невероятно похожа на свою дочь.
— Вполне доходчиво, — отвечает Грэйди. — Словом, детки, вам все известно…
— Вы и думайте, — завершаю я, прежде, чем Грэйди успевает договорить.
— Именно. Чао, как говорят другие католические иммигранты в этой стране!
— А ну стой! — Мэнди хватает его за руку, но запястье в ее руке снова принадлежит Мильтону, он хватается за нее, говорит:
— Никак не остановятся, все говорят и говорят, сестра, когда они замолчат? Они вообще замолчат?
Глаза у Мэнди в этот момент огромные, и я вижу, как она дрожит. Я перехватываю руку Мильтона, глажу его по запястью.
— Отпусти, дядя, отпусти. Мы сделаем так, чтобы они замолчали.
Я не добавляю, что обещаю, потому впредь решил избегать дурацких киноклише. Когда я веду Мильтона в комнату, он шепчет что-то о боге, который слишком близко и о боли в голове. Мильтон идет, как пьяный, и мне приходится его поддерживать.
Когда я слышу, как он говорит, мне вдруг становится страшно и одиноко, оттого только, что я чувствую, как страшно и одиноко ему. Усадив его на постель, я встаю перед ним на колени, стараясь заглянуть в глаза, но глаза у него не выражают ничего. Где ты, где ты? Я так хочу, чтобы ты вернулся. Пальцы у Мильтона чуть подрагивают, будто бы его непрерывно бьет крохотным разрядом тока.
— Дядя, мы найдем какой-нибудь выход.
— Они все обещают, все говорят.
Я думаю, что суть не в том, что именно я говорю, суть в интонации. Я говорю:
— Обязательно что-нибудь сделаем. Что угодно, вот увидишь. Скоро снова сможешь пить и ничего не делать или там пытаться устроиться на работу. Помнишь, когда мне было шестнадцать, и меня выгнали из колледжа, ты пытался со мной поговорить? Так вот, есть то, что я тебе тогда не сказал. Я хотел, чтобы меня выгнали, поэтому купил у однокурсника целый, по ощущениям, куст травы. Она же в качестве кустов функционирует до того, как стать косяком? Видишь, какой я правильный мальчик, дядя. Потому что я очень хотел домой. Я мог бы вам просто сказать, но мне было шестнадцать, как ты понимаешь, и в этом возрасте менее стыдно быть наркодиллером, чем семейственным птенчиком.
Мильтон смотрит на меня, чуть склонив голову набок. Наверное, он не слышит того, что я говорю. Наверное, мои слова заглушают души, поглощенные Грэйди и орущие теперь у него внутри. Интересно, как Грэйди не свихнулся? Может быть, он свихнулся? А как не свихнуться моему дяде? Я вдруг обнимаю его колени и чувствую, как сильно меня трясет, и понимаю, что я плачу, только без слез, сухими, болезненными спазмами.
Будь Мильтон Мильтоном, он дал бы мне подзатыльник, погладил бы по голове, назвал бы тряпкой и слюнявчиком, что угодно. Но сейчас он сидит неподвижно, слушая голоса умерших давным давно людей, их вопли и плач.
Меня трясет еще некоторое время, я чувствую, как в горле что-то сжимается и разжимается, и кажется мне, что это мое сердце. Когда в детстве, было мне лет семь, я спросил у Итэна, что значит умереть, он сказал мне представить клетку с птичкой, и вот если клетка упадет и разобьется или кто-то откроет дверцу, птичка вылетит. Но с ней, на самом деле, все будет в порядке, а вот клетку можно будет выбрасывать.
Поэтому я не боялся смерти, по крайней мере в детстве. Я всегда думал о себе, как о той птичке и не видел боли в том, чтобы однажды умереть. Жить хорошо и прекрасно, но и в смерти нет ничего страшного.
А сейчас, обнимая колени Мильтона и вздрагивая от бессмысленных, болезненных рыданий, я вдруг думаю, можно ли отпустить птичку, которую любишь больше жизни? Что будет, если мы не спасем Мильтона? Мне не приходит ответов и даже вопросы у меня такие глупые. Я втягиваю носом воздух, говорю:
— Хорошо. Нечего распускать сопли, слюнявчик.
Прислонившись лбом к колену Мильтона, я повторяю себе:
— Хорошо, хорошо.
Но ничего хорошего нет.
— Я люблю тебя, — говорю. — Поэтому я пойду заниматься делом. Я как-то слышал, что так поступают взрослые, ответственные люди. Надо и мне тоже попробовать.
Впрочем, оказывается, что совершенно зря я спускаюсь вниз, ведь внизу ад. Все говорят наперебой, кроме Итэна, с таким увлечением изучающего пол, будто на нем изображена как минимум невиданная доселе редакция «Энума Элиш».
— К сожалению, — говорит папа без какого-либо сожаления. — Нам придется убить Доминика.
— Ах, какая потеря для общества — киллер-психопат! Что нам теперь делать, чтобы ее восполнить? — смеется Мэнди.
— Если только попробуете тронуть моего внука, я уничтожу вас всех.
— Старческим проклятьем? — спрашивает Мэнди.
— Воинствами Папы Римского? — спрашивает Райан.
— Возможно, — отвечает Морин неопределенно. — Но вообще-то даже в том случае, если вы убьете Доминика, предположим, что вам это удастся — Мильтон тоже умрет, как сообщил нам Грэйди.
Данная деталь сразу же в некоторой степени остужает пыл папы и Мэнди по поводу убийства Доминика. Я вижу, как под столом они на секунду хватаются за руки, переплетают пальцы, движением в равной степени любовным, родственным и отчаянным.
— Если мы не найдем другого выхода, нам придется попробовать. Зоуи утверждала прямо противоположное.
— Зоуи, с большой вероятностью, подстрекает вас попытаться его убить, — пожимает плечами Морин.
— Где твоя прелестная дочурка, кстати говоря? Ты знаешь?
— Нет, у меня не было видения насчет того, куда они пошли дальше. По крайней мере, домой они не вернулись.
Домой, это в катакомбы? Ох уж эти христиане!
— А ты чего улыбаешься? — спрашивает меня Морин.
— Простите, — отвечаю я машинально.
— Не делай замечания моему сыну, — шипит Мэнди.
— Успокойтесь, леди, мы здесь не для того, чтобы ссориться!
— Заткнись, Райан!
— Сама заткнись, Мэнди!
— Мой брат вас что вообще не воспитывал?
То, что начиналось, как переговоры или нечто отдаленно на них похожее, постепенно превращается в балаган, и тогда Итэн говорит:
— Вуду?
— Ты тоже обезумел? — спрашивает папа.
— Нет, — говорит Итэн и повторяет уже с менее вопросительной интонацией. — Вуду.
— Вы еще более отвратительные нечестивцы, чем я о вас думала, — вздыхает Морин.
— Еще одно библейское слово в адрес нашей семьи, и я действительно взбешусь!
— Мэнди!
И тогда Итэн вдруг делает то, чего от него не ожидал не только я, а наверное даже Господь Бог. Итэн ударяет ладонью по столу, и все замолкают разом.
— Спасибо, — говорит Итэн так же мягко, как обычно. — Я имею в виду, что вуду — религия, сосредоточенная на обожествленных духах предков. Если воспринимать обряды определенной религии, как язык магии, один из многих, то это именно тот, что нам нужен. В вуду есть довольно много обрядов для изгнания и пленения Петро-лоа, злых духов первопредков. Как минимум трое из нас настоящие медиумы, умеющие пользоваться этим в реальности, а значит обряд будет иметь силу. Я не очень хорошо знаю лянгаж…
— Ну я, к примеру, даже не знаю, что это такое, — говорит Мэнди.
— Язык богослужения в вуду, — отвечаем мы с папой одновременно. И я продолжаю:
— Вообще-то Итэн прав. Я знаю вуду.
— Я тоже!
— Итэн?
— Итэн?!
И только Морин не выражает никакого удивления, видимо, потому что кредита доверия к нам у нее нет.
— Я же лингвист, мне нужно быть образованным всесторонне. Кроме того, я всегда завидовал Райану и Мэнди, хотел тоже чему-то научиться.
— Тогда вот он, твой звездный час, вперед, — говорю я. Для меня самого вуду — неплохое хобби, но не скажу, чтобы я занимался этим когда-либо настолько серьезно, чтобы спасать с его помощью свою семью.
Итэн смущенно смотрит в пол, потом вздыхает с видом каким-то неуверенным и тоскливым.
— Дело в том, что обряд сопряжен с некоторыми трудностями.
Папа вскидывает брови, вздыхает:
— Серьезно? Большие трудности, чем потеря наших родственников?
— Нет, не большие, но… Во-первых для обряда нужны будут все потомки Грэйди. Сложность, которая ожидает нас уже на стадии подготовки — найти Морриган и уговорить Ивви. Мэм, — он обращается к Морин, и мы с Мэнди не выдерживаем, фыркаем. — Вы уверены, что мы единственные потомки Грэйди Миллигана?
— Абсолютно точно уверена, — говорит Морин таким тоном, что я не сомневаюсь, если еще потомки у Грэйди Миллигана и были, то они в могиле. Спрашивать, впрочем, не решаюсь.
— Это все облегчает, — кивает Итэн. — Вторая сложность — место. Обряд должен проводиться в святом месте, идеально, разумеется, святом для всех участников.
— Может просто постелим ирландский флаг? — спрашивает Мэнди.
— Или сядем вокруг телевизора, — говорю я.
— Вы довольно невыносимы. Я предлагаю кладбище — святая земля для Морриган и Морин, и не менее важное место для нашей семьи, хотя и по-другой причине.
— По какой?
— Не будь идиотом, Итэн, ты все равно не заменишь нам Мильтона. Там лежат Морган и Салли, наши предки. С какой-то точки зрения, это единственная святая земля, которая нам доступна.
Итэн постукивает пальцами по столу, а я говорю:
— Кроме того, это будет опасно. Если мы не доведем обряд до конца с первого раза, провести его второй раз будет уже нельзя. А Грэйди, разумеется, не даст так просто себя пленить. А кто-нибудь подумал о том, что сердце Морин может не выдержать папиных таблеток?
— Какая жалость!
— Папа!
— Что?
Морин говорит резко:
— Если я согласна даже шагнуть к аду, то, наверное, шаг к инфаркту пугает меня гораздо меньше.
И я вдруг вижу в этой старушке ту упорную монахиню, которой она была, монахиню старавшуюся избавиться от проклятья и прийти к Богу. Может быть, Морин Миллиган и была интриганкой, оставившей дочери секретную легатуру Ватикана, но ведь зачем-то она ушла когда-то в монастырь. Всю жизнь Морин посвятила церкви и Богу, а теперь отказывалась от всего, чтобы спасти внука и дочь.
Морин, разумеется, не была так принципиальна, как Морриган, но она была католичкой, выбравшей когда-то затворничество. И я знаю, как ей тяжело дается сейчас решение.
Наверное, Морин любит Доминика больше, чем Морриган. А может Доминика и вовсе никто никогда не любил, и оттого он такой. Мне вдруг нестерпимо сильно хочется его увидеть, спросить, как он, сказать, что он все сделал правильно хотя бы потому, что ради любого из своих родителей я сделал бы тоже самое.
— Итак, хунган из меня, наверное, будет не очень, но если мы с Франциском найдем все важное сегодня, то завтра ночью могли бы провести обряд, — говорит Итэн.
— Отлично. А мы с Мэнди возьмем Морин и попытаемся пока разыскать ее блудную дочь.
— А Ивви? — спрашиваю я.
— Твою кузину будем уговаривать в последнюю очередь, — говорит папа. — Если мы умрем, отбиваясь от Доминика, будет нехорошо ее разочаровывать. Кстати говоря, Морин после счастливого воссоединения семьи, нам стоит обговорить условия на которых мы разойдемся, не устраивая кровавую резню.
— Стоит, — кивает Морин. — Но мы обговорим их, пока будем искать мою дочь, ты ведь не против?
Голос у Морин вполне обычный, но что-то в нем выдает скрытое напряжение, струну, натянутую в нем. И папа не спорит, даже не добавляет ничего.
Наверное, он понимает, что значит потерять своего ребенка.
Нет, он совершенно точно это понимает.
Глава 10
Машину веду я, и оттого, что дело на мой взгляд не терпит отлагательств, выжимаю педаль газа чуть сильнее, чем стоило бы. Итэн спрашивает меня:
— Ты уверен, что мы не разобьемся?
— Уверен, — говорю я. И на некоторое время Итэн замолкает, изучая проносящийся, красующийся за окном городом, а потом спрашивает снова:
— А если все-таки разобьемся?
— То умрем, — говорю я просто и смеюсь. Раньше я тоже думал, что нет ничего плохого в шутках про смерть, но самое удивительное, что с тех пор, как я увидел собственную отрезанную голову, в этом смысле мало что изменилось.
Итэн поднимает палец вверх, провозглашает с лицом пророка и демагога:
— Если в нас кто-нибудь врежется, мы доберемся до места медленнее, а не быстрее. С точки зрения…
— … меня, шанс того, что мы доберемся быстрее стоит риска.
— Ты неосмотрительный.
— По крайней мере, я не зануда.
Именно в этот момент мне едва удается развернуть машину, чтобы не окончить жизнь своего Понтиака вместе с жизнью чьего-то блестящего новенького Форда единовременно.
— Видишь, — вздыхает Итэн. — Я же говорил.
— Дядя, у тебя в школе или университете вообще были друзья?
— У меня друзей было даже побольше, чем у…
— Аутистов.
— А вот это причина, по которой у тебя никогда не будет друзей, Франциск.
Нам обоим невероятно приятно вести дурацкий, ненапряжный, будто бы совершенно обычный разговор. Мне смешно смотреть на дядю Итэна, такого смущенного, но будто бы необычайно собранного.
— А ты правда читал оккультную литературу, потому что завидовал родителям?
— Ну, — говорит Итэн. — Завидовал не совсем правильное слово. Я хотел быть полезным. Мильтон солдат, Мэнди и Райан медиумы, а я всегда был просто Итэном.
Я смотрю на него долго, пытаясь поймать оттенок его голоса, а потом говорю:
— По-моему просто Итэном быть здорово.
— Правда?
— Я бы не отказался.
— А Мильтон?
— Вот он бы отказался.
Мы замолкаем, будто бы произнесли что-то совсем не то, будто даже имя Мильтона должно быть запретным, пока мы не найдем способ его вернуть.
Черные кварталы Нового Орлеана — особое, неповторимое больше ни в одном штате Америки и нигде на земле место. Низкие, неаккуратные домики, увешанные, как школьница дешевыми украшениями, неоновыми, завлекающими буквами. Пахнет карамелизированными сладостями, пряностями, жареным мясом и чем-то алкогольным: земными, вкусными, невозможными нигде, кроме Нового Орлеана лакомствами. Шумит толпа, кто-то с хриплым, грудным говором зазывает туристов посмотреть, как жрец проводит обряд с помощью настоящего, живого питона.
Питон у упомянутого маркетолога в руках выглядит настолько несчастным, будто готов отдаться на сумку, лишь бы не продолжать влачить свое жалкое существование.
Черный квартал обладает своим, учащенным, будто от танца или алкоголя, пульсом. И я ясно чувствую этот пульс всем телом, и мне кажется, что если остановиться, можно ощутить, как под ногами неторопливо кружится земля. Это мир лишенный солнца, он функционируют только ночью, когда зажигаются фонари и наполняются бары, когда луна скучает на небе, готовая принимать подношения. Мир удовольствий и магии, я его люблю. Мимо нас проплывают разнообразные вывески магазинчиков вуду, их авторы соревнуются друг с другом в умении стилизовать черепа и умении обещать самые шокирующие обряды, в действительности имеющие не больше отношения к вуду, чем уличная магия Дэвида Блейна.
Сахарные черепа, которые куда больше напоминают о Дне Мертвых в Мексике и куклы вуду, связанные из разноцветных ниток, мелькают будто сменяющие друг друга картинки в путеводителе, но нам с Итэном не нужна ни одна из лавочек, где косяками вертятся между банок с заспиртованными змеями туристы.
Нам нужно кафе-мороженое с непримечательным названием «У Шивон».
— Ты уверен, что нам туда? — спрашивает Итэн, когда я открываю дверь.
— Ты теоретик, дядя, а я практик.
— Если бы ты сказал, что хочешь мороженое для девочек, я бы тебя и так понял.
Я возвожу к глаза к потолку, разрисованному цветочками и бабочками невероятно ярких цветов. Кремовые, аккуратные столики и надписи, прославляющие молочные коктейли, на окнах, довершают удручающую, с точки зрения дяди Итэна, картину.
Мы с дядей садимся за стойку, и я говорю:
— Привет, Лакиша.
Уже довольно поздно, и все желающие вкусить мороженое днем, разошлись по барам ради мохито и клубничного дайкири вечером. Но Лакиша не закрывает кафе, потому что всегда готова к клиентам другого рода.
Она встряхивает волосами, заплетенными в длинные, тонкие косички, достающие ей до пояса. В некоторые из них вплетены цветные нити, розовые, белые и голубые, прямо под цвет декора кафе. Кожа у Лакиши темная-темная, а сама она тоненькая, и оттого похожа на какую-то диковинную статуэтку. Она дочь Шивон Джонсон, действующей мамбо Нового Орлеана.
Лакиша подается ко мне, улыбается, почти вонзая в пластиковую стойку аккуратно накрашенные ядерно-оранжевым ногти.
— Здравствуй, Фрэнки, моя сладость. Ах, как давно я тебя не видела.
— Осознание того, что я не могу ходить сюда каждый день, буквально застило мне солнце, Лакиша.
Лакише семнадцать, и она чудо как хороша. Пятьдесят процентов моего увлечения вуду, обусловлены моим увлечением ей, но наш союз в штате Луизиана все еще нелегален. Кроме того, есть у нас на юге такой термин — «огнестрельная невеста». Суть его заключается в том, что у девушки, за которой ты в недобрый для тебя час приударил, может оказаться отец, чей гнев легко навлечь вниманием к его дочурке. Гнев, облаченный в форму свинцовой пули, выпущенной из ружья, может настигнуть тебя сразу на следующий день. Помню, Мильтон когда-то говорил, что хотел бы племянницу, которую мог бы защищать от посягательств с обрезом в руках.
Так вот, папа Лакиши, если узнает, что его ненаглядная дочка даже в теории могла бы встречаться с белым, как снег и богатым, как Крез, ирландцем, с радостью не только отстрелит, а может быть и отрежет мне все те части тела, что в теории могли бы помочь в общении с противоположным полом.
Так что мы с Лакишей Джонсон занимаемся обоюдоострым флиртом, он обоих нас держит в тонусе, а кроме того щекочет нервы.
— Мой хороший белый мальчик, — говорит она. — Другим белым здесь не так рады, поверь мне.
— А где нам вообще рады?
— Ну, есть много мест. Правительство, гольф-клубы, Юта.
— Но я тебе нравлюсь?
— Но ты мне нравишься. Думаю дело в том, что твои предки попали на эту землю не так давно и не успели обрасти паскудным расизмом.
— Ну почему же? — говорю я. — Некоторые успели. Но это мой дядя Итэн, он не успел, он вообще всегда опаздывает.
Лакиша смеряет Итэна долгим взглядом, тягучим, выглядящим, как вызов и при этом игриво-заинтересованным.
— Ага. Фрэнки, тебе как обычно?
— Да.
— А вам, мистер Миллиган?
— Черный кофе.
— Да ты сегодня просто рвешь границы дозволенного, правда Итэн? Черный кофе после шести вечера?
Но когда Лакиша приносит мое «как обычно», наступает время смеяться для Итэна. Лимонное мороженое с шоколадным сиропом и карамельками в виде бантиков приводит Итэна в такое хорошее настроение, в каком я его никогда не видел.
— О, — говорит он. — Серьезно, Фрэнки? Как обычно? Думаю, мне стоит рассказать об этом твоему старшему дяде.
— Что? Карамельки просто такими делаются, вот и все. Какая разница? Это не смешно.
— Нет, это очень смешно. И еще смешнее будет об этом рассказывать.
Я аккуратно оттопыриваю средний палец, а Итэн возводит глаза к потолку.
— Оскорбительно и непростительно для человека, сидящего в кафе с бабочками и поглощающего мороженое с бантиками. Почему мы вообще теряем время?
Свой ароматный кофе Итэн, впрочем, употребляет с заметным удовольствием.
— Потому что, как теоретик, ты, разумеется, не в курсе. За магические предметы нельзя платить. За настоящие, я имею в виду. Но кушать-то хочется, поэтому ты платишь формально за еду, но на самом-то деле за магические штучки, которые мы возьмем позже.
— Наценка, наверное, чудовищная.
— Я все слышу, — фыркает Лакиша. Когда она оставляет нас одних, спустившись куда-то в подсобку, я, ковыряя ложкой между карамельных бантиков, говорю:
— Как думаешь, чего по-настоящему хочет Грэйди?
Лимонная сладость проливается мне на язык, и на секунду о Грэйди я даже думать забываю, настолько мне вкусно. Забавно, что человеческое тело способно переключиться на такие простые удовольствия практически в любом состоянии.
— Что ты имеешь в виду? — спрашивает Итэн, грея кончики пальцев о чашку.
— Ну, знаешь, как в кино. Мирового господства? Я имею в виду, вот папа хочет чтобы люди умели пользоваться магией в реальности, Морин хочет уничтожить смерть, а Грэйди-то чего хочет?
Итэн некоторое время размешивает сахар в кофе с таким видом, будто именно этим способом узнает все ответы.
— Я думаю, что ты пересмотрел фильмов, Франциск. Иногда людям и даже чудовищам ничего особенного не надо, кроме как еще пожить на этой земле.
— Думаешь?
— Думаю. По крайней мере, я бы только этого и хотел, проведя двести лет в мире мертвых. А еще знаешь, что?
— М?
— Я бы сошел с ума. Если бы не сошел до того, став каннибалом, к примеру.
— Как ты глубоко вжился в образ Грэйди.
Я подталкиваю к Итэну тарелку с мороженым, он пробует, жмурится и говорит:
— Слишком вкусно, чтобы было стыдно, да?
— Именно. Дядя, а как думаешь, почему Зоуи мне все рассказала, а не папе? Или маме?
Я снова не замечаю, как называю Мэнди мамой.
— Этого я не знаю, Фрэнки, — он некоторое время молчит, а потом добавляет по-детски:
— Я никогда не был в настоящем магазине вуду.
— И не побываешь больше, ты же белый.
— Ты тоже.
— Знаешь, сколько усилий я приложил к тому, чтобы сюда попасть? Я месяц ходил есть мороженое, даже пристрастился к нему, прежде чем Лакиша пригласила меня вниз и…
— О, Господи.
— Нет!
— Тогда ладно.
Я слышу резкий, грудной голос Лакиши:
— Ну? Фрэнки ты закончил с мороженым или как?
Я беру дядю Итэна за рукав, тяну за собой. На двери, ведущей в подсобку написано «Опасно! Идут работы!». Табличка совсем не подходит для помещения, и Лакиша говорила, что ее папа достал табличку на свалке. Дверь ведет к длинной, темной лестнице. Дядя Итэн держится меня с отчаянием, возможным только для человека, который по-настоящему боится темноты. Я темноты не боюсь, по крайней мере с тех пор как стал медиумом. Ничего страшного в ней нет и даже ничего загадочного. В реальности, как и в мире мертвых, мы можем лепить из темноты, что угодно, представляя, что скрывается внутри. И зачем-то куда чаще мы представляем монстров, чем что-нибудь приятное.
Лестница длинная и скользкая, мы спускаемся в подвал, и я чувствую влажный запах отсыревших стен, зябко ежусь от подземного холода. Лакиша ждет нас внизу, между длинными рядами шкафов, похожих на те, в которых хранится вино в погребах. Может быть, однажды именно вино они и хранили, но сейчас содержимое их настолько разнообразно, что у Итэна рядом дыхание перехватывает.
— Настоящее? Все это настоящее?
— Ну, разумеется, — чуточку обижено отвечает Лакиша.
Здесь на полках теснятся вываренные черепа животных рядом со статуэтками Девы Марии в болезненно-алом мафории, самые обычные на вид монетки рядом со связками самых обычных бус, цилиндры и маски, живые и мертвые змеи, тростниковый ром и клочья чьих-то волос, разноцветные свечи, каждая соответствует своему ритуалу, и разнообразные масла. Все будто бы находится в беспорядке, не имеет никакой структуры, но я знаю, что внизу находится самая безобидная магия, которую любая домохозяйка сможет применить в адрес соперницы с большим количеством голосов на выборы в школьный комитет. Вверху же находятся вещи, которые могли бы уничтожить не только человеческую жизнь, но и душу. Или, даже того хуже, обречь дух на вечные страдания. И, главное, никаких кукол вуду. Вольты делаются исключительно человеком, который хочет их использовать, и никем другим. Впрочем, нитки и солома для их создания вполне имеются — наверху.
Лакиша рассказывала мне, что если ты отдаешь магические вещи, то не можешь отказать клиенту. Считается, что он выбирает именно то, что ему нужно. Собственно говоря, поэтому, Лакиша предпочитает скрывать по-настоящему опасные приспособления, переставляя их повыше.
— Так чего вам? — спрашивает она. — Только конкретнее. Твоему дяде нужно выглядеть привлекательнее для женщин? Тогда пусть просто снимет очки.
Итэн фыркает, а я говорю:
— Если быть точным, нам нужно изгнать духа нашего первопредка и пленить его в какой-нибудь склянке. Будь он обычным призраком, я бы сам мог запереть его где угодно, но он что-то вроде божества.
— О, неужели у белых тоже есть такие проблемы? — смеется Лакиша. Она проходится между шкафами с животной, привлекательной грацией, потом говорит:
— Душа черная?
— Чернее, чем ты можешь себе представить.
Лакиша смеется, обходит один шкаф, осматривая его содержимое, подходит к другому.
— Дело в том, — говорит Итэн. — Что нам нужно что-то, где не будет использоваться его кость или земля с его могилы, потому что мы здесь, а он лежит в Дублине.
— Понимаю, — говорит Лакиша. Она берет стул, ставит его перед шкафом и забирается на него, так что я могу видеть край ее чулка под юбкой. — Но вам понадобится пожертвовать кровь. И в обряде должны участвовать только кровные родственники.
— Это мы знаем, — говорит Итэн с гордостью. — Кроме того, я думаю, нужен тотем. Животное, заменяющее первопредка. Его кость сойдет, чтобы заменить кость…
Он хочет было сказать «Грэйди», но отчего-то не говорит.
— Какой у тебя умненький дядя, Фрэнки.
— Это потому что у него нет друзей.
Лакиша достает коробку с разнообразными черепами, она тяжелая, и я помогаю Лакише не упасть, спускаясь. Коробка большая и наполнена костями доверху, их острые края опасно выдаются вперед, а разнообразные зубы хвастливо скалятся.
— Выбирайте, — говорит Лакиша. — Но выбирайте сердцем, это важно.
Я сажусь на холодный пол перед коробкой, один за одним вытягиваю черепа. Череп оленя с ветвистыми, острыми рогами и резкими линиями я откладываю в сторону сразу.
— Олень, — говорю я Итэну. — Благородство и смелость. Не про нашу семью, неправда ли?
Осклабившаяся пасть черепа волка меня не привлекает также.
— Волк — сила и верность.
— Фрэнки, выбирай молча и не позорь нашу семью, — говорит Итэн. А потом вдруг садится рядом со мной, тоже принимается вынимать кости. Лакиша смотрит на нас с интересом.
Итэн вертит в руках хрупкий и зубастый череп кота, и я шепчу:
— Коварство и привлекательность.
— Уже ближе.
— Если бы не ты, извини.
Длинный, гладкий череп лисицы мы вертим в руках довольно долго, что-то искрит под пальцами, но только чуть-чуть.
— Хитрость и предприимчивость, — говорю я. — В тотемах я разбираюсь отлично, поверь мне.
А потом Итэн достает череп свиньи, и как только я его касаюсь, будто электрическим током меня прошивает, совсем легонько, и я чувствую под пальцами щетинку, теплое биение крови, гладкость пятачка, и в то же время вижу только череп.
Вообще-то череп свиньи выглядит почти мультипликационно смешно. Из-за строения заднего ряда зубов кажется, будто мертвая свинка улыбается, чуточку виновато и неловко, но вполне искренне, а вот клыки, искривленные, расставленные в разные стороны, оказываются неожиданно острыми для обладательницы такой нежной улыбки.
— А свинья? Что это значит? — спрашивает меня Итэн, пока я глажу череп, касаюсь линии глазниц, ложбинки носа, и чувствую то жизнь, то смерть, текущую в этих костях.
— Ну, — говорю я. — Удача и процветание.
— Думаю, нам подходит, — говорит Итэн. Вряд ли он почувствовал то же самое, что и я. Он ведь не медиум, но очевидно что-то именно в этом черепе его все-таки привлекло.
— Отличный символ для насквозь белой семьи, — смеется Лакиша. — Череп будет служить образом первопредка, поэтому перед началом обряда, вам всем нужно будет смешать кровь и полить череп ей. Это для изгнания духа из тела. Он войдет сюда, в череп.
Я прижимаю череп свиньи к себе, как новую игрушку, пока Лакиша снова встает на стул и роется на самой верхней полке. На этот раз она достает бутылку темного стекла, говорит:
— Вот сюда можно было бы поймать даже Мэтра Каррефура, поверьте. Мне даже немного боязно доверять вам такую сильную магию. Ты уверен, что справишься, Фрэнки?
— Мы уверены, — говорю я.
Бутылка совершенно обычная, в такой мог храниться ром век назад, на ней выжжен крест, тонкий и аккуратный, но больше ничего необычного я не вижу. До тех пор, пока не протягиваю за бутылкой руку. Еще не коснувшись ее, я чувствую сметающую с ног энергию, силу, магию. Она проникает мне под кожу, обжигая, вторгаясь в мою кровь, пробуя меня на вкус.
— Ощущения могут быть не самые приятные, ты же медиум. Верхний слой — чистая сила земли. Если ты медиум, земля не знает тебя, ты принадлежишь смерти, миру духов.
Но тут бутылка под пальцами вдруг разогревается, становится податливой и теплой.
— Сейчас — куда лучше, — сообщаю я, и Лакиша хмурится. — Тепло.
— Странно. Она хорошо реагирует на зомби, разве что.
— Почему?
— Потому что мертвые, в отличии от медиумов, принадлежат земле. Она раскрывает для них свои объятия.
— Значит, бутылка испытывает ко мне довольно амбивалентные чувства, — смеюсь я. — А что дальше — после первого слоя?
— Приманка, к которой любого из духов всегда будет неодолимо тянуть. Чистая сила жизни, то, чего не хватает любому из мертвых, вселись он хоть в тысячу живых. Духа непреодолимо тянет внутрь, но выйти он не может из-за защиты.
Лакиша скрещивает руки на груди, потом вздыхает:
— Короче, очень сильная вещь, ты даже не представляешь, насколько. Хорошо, что она тебя приняла все-таки, а то твоя душа могла бы оказаться вместе с духом твоего первопредка в конце обряда. Только помните, духи не дураки. Он будет понимать, что вы пытаетесь с ним сделать.
Лакиша вдруг выхватывает у меня бутылку и бросает ее на пол со всей силы.
— Видите? Бутылка не разобьется, ее нельзя расплавить. Пока не начнется обряд, она неуязвима.
— Как кольцо всевластия? — спрашивает Итэн, и я снова возвожу глаза к потолку.
— Ну, вроде того, — отвечает Лакиша, чуть вскинув брови. — Но как только вы начнете обряд, бутылка откроется. Разбить ее могут только те, кто принимают участие в ритуале. Дух всеми силами будет стараться вас запутать и заставить разбить бутылку. Если вы ее разобьете, то за второй не приходите.
— Почему?
— Ее не существует.
— Вот, — говорит Итэн. — Я же предупреждал, обряд можно провести только один раз.
Мы поднимаемся наверх, и Лакиша приносит нам счет. За мороженое и кофе мы платим две тысячи долларов.
— Серьезно? — спрашивает Итэн, но Лакиша смеряет его таким взглядом, что все возражения тут же пропадают, не успев зародиться внутри.
Я чувствую силу, которую источает из себя бутылка и отлично понимаю, что плачу достаточную цену за то, что содержится внутри. Когда мы выходим на улицу, вдыхая наполненный потрясающими запахами воздух, Итэн спрашивает:
— А что символизирует свинья на самом деле?
— Жадность и ненасытность, похоть и ритуальную нечистоту. Но через год я планирую пригласить Лакишу на свидание, поэтому не хотелось бы мне посвящать ее в тонкости нашей семейной геральдики.
— Чудовищно, Франциск. Ты ведь не хочешь развязать расовый конфликт между Мильтоном и родителями этой прелестной девушки?
— Прекрати демонизировать Мильтона. Стоит тебе добавить еще что-нибудь, и можно официально объявлять его военным преступником.
— По-моему, он и есть военный преступник.
Мы прогуливаемся, наслаждаясь тем, как течет здесь, сладковато и пряно, настоящая луизианская ночь. Фотографии с питонами и аллигаторами, сувенирные лавки, дешевые кафе, где можно попробовать каджунскую кухню, все это сливается в один продолжительный карнавал для моих органов чувств. Пляшут огни вывесок, кружатся вокруг меня звуки тягучего джаза, и я чувствую, как приятно, будто бы в такт, колет кончики пальцев прикосновение к бутылке.
Итэн несет череп и выглядит, как одурелый от силы местного завлекательного маркетинга турист, позволивший всучить себе бесполезный сувенир.
До машины мы идем молча, наслаждаясь происходящим, но как только двери моего Понтиака захлопываются, Итэн вдруг говорит:
— Я был в настоящей лавке вуду.
— И в настоящем кафе-мороженом.
Я замечаю, что звезды усыпали небосвод, как крошки самого вкусного пирога усыпают стол. Ты знаешь, что они часть чего-то несоизмеримо большего, но любишь их и отдельно.
— Там, — говорит Итэн, указывая рукой куда-то вверх, прямо через лобовое стекло. — Завтра будет Жертвенник. Знаешь историю о нем?
Я мотаю головой и улыбаюсь. Когда я был маленьким, именно Итэн смотрел со мной на звезды. А когда я однажды сильно заболел, он лежал со мной в комнате и рассказывал, какие звезды сейчас надо мной, как они прекрасны, как проплывают бесконечно высоко в черной глади неба.
Мне не нужно было видеть их, чтобы чувствовать, как они красивы.
— Зевс, Посейдон и Аид заключили на нем союз перед тем, как начать войну с титанами. Зевс, Посейдон и Аид были братьями, Франциск, и они сражались против своих прародителей, против темного хаоса собственной крови.
— Довольно символично.
— Я рассчитываю, что это хороший знак.
Мы выезжаем на пустую дорогу, и я чуть прибавляю скорость. Я практически никогда не гоняю слишком быстро, даже ночью и на пустой дороге — мне не хотелось бы стать причиной смерти для опоссума или ужа.
— Включи музыку, — говорит Итэн. — Только не ужасную.
И я включаю радио, передающее какую-то неизвестную мне кантри-песню. Ужасность или, напротив, прекрасность этой музыки для Итэна остается для меня загадочной. В песне поется о человеке, долго искавшем Бога из желания спастись. Лирический герой убеждает меня в том, что как только он нашел Господа, то сразу же пожалел, что спасен, а не проклят.
Я в такого Бога, при всем уважении, не верю. Бог позволит нам любить себя и других, а не заставит нас ненавидеть. Может быть, Бог и позволяет случаться ужасным вещам в этом страшном мире, но он дал нам и самое прекрасное — бескорыстную любовь, умение радоваться, возможность быть счастливыми. И однажды мы все поймем, что если будем помогать друг другу, жизнь станет намного лучше.
И когда мы это поймем, нам станет, может быть, не легче, но самую малость правильнее.
В этих своих мыслях, достойных золотого десятилетия студенческих забастовок и хиппи-фестивалей, я едва успеваю затормозить, увидев фигуру на дороге. К чести моей нужно отметить, что торможу я всегда, с присущим мне чувством ответственности и принципом ахимсы, заранее. К стыду моему стоит еще добавить, что пару раз из-за этого в мою машину въезжали менее параноидальные люди, ехавшие позади.
Фигура на дороге отходить никуда не собирается. Кто-то, в первую секунду едва видимый в свете фар стоит очень спокойно, будто нет ничего, что могло бы сдвинуть его с места.
Когда ослепительная вспышка скользнувшего по фигуре света проходит, я вижу, что это Доминик. А может быть, только может быть, существо, уже ничего общего с Домиником не имеющее. Я запускаю руку в карман пиджака, нащупываю пузырек с таблетками и кладу одну под язык, чувствуя нервирующую сладость. Страха, впрочем, у меня и без таблетки достаточно. Я давлю на газ, чтобы рвануть вперед и объехать Доминика по пустой встречной, и — не могу. Понтиак недовольно, шумно рычит, стараясь сдвинуться, но остается на месте. Я вдавливаю педаль газа так, что ступню пронзает резкая, режущая боль, но машина не продвигается вперед даже на сантиметр.
Я вижу, могу поклясться, что вижу, как несуществующим, невиданным мной прежде оттенком красного сияют у Доминика глаза. Он говорит, и я тут же понимаю, что не он говорит.
Мы совсем рядом с домом, и я думаю: был ли он там снова? Были ли там родители?
— Франциск! Итэн! Вечерний автопробег?
Итэн рядом со мной, кажется, вжимается в сиденье так сильно, что я слышу, как в нем что-то подозрительно хрустит.
— У нас проблемы с машиной, — говорю я. — Не мог бы ты отойти и, может быть, они разрешатся сами собой.
Я открываю окно, выглядываю из Понтиака и вижу, как колеса опутывают, будто из-под земли выросшие, щупальца темноты. Они проникают в резину, пропарывают металл. И я думаю, что ни разу в жизни не видел ни одного материала, который был бы так мягок и так тверд одновременно.
— Я бы хотел, — говорит Грэйди в теле Доминика. — Осмотреть машину. Откройте дверь, покажите багажник.
— Ты пересмотрел фильмов про копов, — говорю я. На самом деле я тяну время, надеясь, что скоро начну сходить с ума от страха. Сердце бьется быстрее и болезненнее.
Грэйди смеется, а потом в руке у него появляется, сотканный из чистой темноты, мегафон.
— Выходите с поднятыми руками мальчики, — говорит он. И устройство, не созданное из земного материала, искажает его голос, превращая его то в хрип, то в вой, то в рычание, так что я едва могу различить слова.
— Знаешь, что он может с нами сделать? — говорит Итэн.
— Догадываюсь, конформист, — отфыркиваюсь я.
— Мы должны выйти.
— Сейчас мы выйдем. Спрячь бутылку и череп. Только не в машине.
— Бутылку я положу в карман, но как я спрячу по-твоему, череп?
— Не знаю! На голову его себе надень.
— Хватит переговариваться. Вы окружены. Выходите из машины с поднятыми руками. Повторяю: выходите из машины с поднятыми руками.
Грэйди щелкает пальцами, и я буквально чувствую, как темнота поднимается от колес по корпусу машины вверх, к окнам. Именно в этот момент знакомое ощущение перехода, но на этот раз плавное, как будто тебя накрывает волна на море, окатывает меня. Я касаюсь сначала бутылки, потом черепа, покрывая их едва различимым слоем темноты, как стекло покрывают тонким слоем амальгамы, чтобы получилось зеркало.
— Ты думаешь он не заметит? — шепчет Итэн.
— Есть идеи получше? Я выхожу первым.
Когда я распахиваю дверь машины, щупальца темноты, будто бы обжегшись, опадают.
— А ты сильнее, чем я думал, — говорит Грэйди. Я замечаю что на асфальте, за спиной Грэйди, оставленные им кровавые следы кед Доминика. До сих пор? Или он еще кого-то сожрал? Кто-нибудь это видит? Сбоку, на обочине, стоит машина. Малиновый Шеви, девчачий на вид, явно краденный.
— Никто не видит, — говорит Грэйди. — Потому что я не хочу, чтобы кто-нибудь видел.
— Что тебе нужно от нас и нашей машины? — спрашиваю я.
— Нашей? Серьезно? — спрашивает Итэн.
— Моей, — поправляюсь я. Мы с Итэном стоим рядом, очень спокойно. Итэн держит свиную голову, которую не увидит ни один человек. Но, наверняка, ясно видит Грэйди. Он, впрочем, не показывает своей осведомленности. Рассматривает нас, сжимая свой призрачный мегафон в руке. Потом тьма начинает расползаться от его пальцев, и вот вместо мегафона, Грэйди уже сжимает пистолет.
— Не заставляйте меня применять силу, мальчишки, — он вздыхает, наставляет пистолет то на меня, то на Итэна. — Я решил навестить семью, чтобы выполнить последнее пожелание Доминика — спасти его бабушку из лап мерзких нечестивцев и кровосмесителей, но дома никого не оказалось. Наверное, мы разминулись. И я решил немножко подождать. А тут смотрю, вы едете. Дай, думаю, пообщаюсь с моими милыми родственниками. Дай, думаю, их обниму. А они, мои дорогие, даже видеть меня не хотят.
Грэйди, наконец, стреляет ровно между нами. Пуля, кажущаяся настоящей, врезается в лобовое стекло моей машины, которое тут же взрывается звенящим салютом из осколков. А потом тьма вдруг разливается в машине, будто попала туда не пуля, а дымовая шашка. Я оборачиваюсь и вижу, как в этой темноте исчезает моя машина, тает, скрывается, впитывается в нее.
Мне становится вдруг обидно, будто мне шесть лет, и кто-то взрослый отобрал у меня что-то любимое. Я снова смотрю на Грэйди, а он, улыбнувшись улыбкой Доминика, говорит:
— Ах, как жаль, — и смотрит куда-то за мою спину. Оглянувшись снова своей машины я больше не вижу. Радостно только, что Итэн забрал череп и бутылку. Все остальное, по меньшей мере, очень грустно. Моя раритетная машина отправилась в страну вечных хайвеев, а я могу только стоять и надеяться, что туда же не отправимся мы с Итэном.
— Где же вы были? — спрашивает Грэйди. — Что-то задумали, да? По глазам вижу, что-то задумали.
Он подходит ближе, оставляя за собой следы. Походка у него нетвердая, но в теле Доминика он явно чувствует себя лучше, чем в теле Мильтона. Когда Грэйди оказывается совсем близко, я вдруг чувствую, что от Доминика больше не исходит запаха жвачки. От Доминика пахнет теперь смертью и землей, увядающими цветами, кладбищем. Запах такой сильный, что едва не сбивает меня с ног. Судя по тому, как хватается за меня Итэн, ему тоже не очень понравилось. Грэйди хрипло смеется, как никогда не смеялся Доминик:
— Не нравится вам?
А потом вдруг рычит, совершенно нечеловеческим голосом, и зрачки у него одномоментно становятся алыми, как кровь:
— Вы правда думали, что у вас получится провести меня детским фокусом?!
И когда он только протягивает руку к Итэну, я вдруг чувствую, что готов и более того, что сейчас — самое время. Наверное, мой нынешний стресс сильнее, а может быть нужно защитить Итэна, поэтому я не медлю, мне не нужно ждать, пока моя темнота соберется у кончиков моих пальцев. Я могу выбросить ее сразу и всю, с невероятной быстротой. В процессе я осознаю и еще кое-что: я могу предать ей определенные качества. Я и добавляю остроту, твердость, чтобы моя темнота стала оружием. И тут же вижу, как волна, рванувшаяся от моей ладони, приобретает очертания, острые края, будто в момент обрастает осколками стекла, длинными острыми лезвиями, словом тем острым и твердым, что я могу представить. Волна достигает Грэйди, и я еще успеваю подумать, что не хотел бы причинить вред Доминику, прежде, чем понимаю, что ему уже нельзя причинить вред. Черные, острые края моей темноты проходят через него насквозь, пробивая ему грудь, и я ожидаю, что прыснет кровь, но Грэйди мгновенно исчезает, растворяясь в темноте, которая стелится по земле, как тень в полдень. Но я не собираюсь останавливаться, я веду свою волну дальше, за этой тенью, взрывая асфальт, как землю.
— О, Господи, — говорит Итэн. — То есть, нихрена себе.
Свободную руку я протягиваю Итэну.
— Отдай бутылку. Свиной череп мы, наверняка, найдем, если что еще раз.
Итэн отдает мне бутылку, я чувствую ее обжигающий жар в руке, и это, кажется, придает мне сил.
— А теперь не стой, а попробуй добыть нам тот Шеви на обочине!
Тень Грэйди поднимается все выше и уходит все дальше, но и я правлю своей волной, пытаясь достать эту дрянь. Мне кажется, что если я захочу, моя черная, похожая на сотни лезвий кровь могла бы пропороть даже небо. Но, в конце концов, как папа и говорил, моя темнота кончается, полностью покидает мое тело, замирает в виде, похожем на ледяную скульптуру причудливого узора, на высоте около трех метров. Тень Грэйди легко скользит между острыми краями моей темноты, и на вершине, он снова принимает образ Доминика, замерев на одной ноге, балансируя на самом верхнем из острых, похожих на осколки, краев.
Грэйди замирает, раскинув руки, как канатоходец, и носок красно-белого конверса замирает неподвижно тоже, оставаясь на острие.
— И это все, на что ты способен? — спрашивает он певуче.
— Ты правда пересмотрел фильмов. Серьезно. Прямо пересмотрел.
Но Грэйди будто бы меня не слушает, продолжая увлеченно балансировать.
— Впрочем, это довольно много. А теперь, если позволишь, я покажу тебе, что есть у меня.
Ступня Грэйди скользит вниз, будто он готов съехать, как особенно непоседливые дети катаются с перил. Но тут же, Грэйди исчезает снова. Я пытаюсь отозвать свою темноту обратно, чтобы увидеть его, и почти тут же чувствую оглушительный толчок в грудь, заставляющий меня свалиться на асфальт, крепко треснуться об него затылком. Бутылку я все еще сжимаю в руке, и жар от нее будто бы поднимается выше, к локтю. А может быть я просто стукнулся.
Грэйди оказывается сверху, и я вижу перед собой синие глаза Доминика с красными зрачками Грэйди. Он перехватывает меня за горло, пальцы его, большой и указательный, давят мне на шею.
— Глупенький мальчик, ты правда считаешь, что победишь? Я вернул тебя из могилы. Я вытащил тебя из-под земли. Ты был бессловесным, лишенным дыхания и сердца, мертвым. Знаешь, как легко я могу вернуть тебя в это состояние? Только представь. Помнишь, что чувствуешь, когда умираешь? Помнишь, Франциск Миллиган?
И я вдруг чувствую, на грани между воспоминанием и реальностью, как под пальцами Грэйди, будто под лезвием мясницкого тесака, расходится кожа и брызгает кровь. Я чувствую, как не хватает воздуха, как больно, как быстро темнеет в глазах, как хрустит моя кость.
Только чувствую, этого не происходит. Но и чувства раскрошенной под ножом кости вполне достаточно, чтобы едва не сойти с ума. Я чувствую, что умираю.
Калигула говорил палачу перед казнями: «Бей так, чтобы он чувствовал, что умирает.»
Неужели это моя последняя мысль? Пальцы мои слабеют и немеют, я чувствую отдаляющийся холод в них. В конце концов, я выпускаю бутылку, и она с тихим звоном катится по асфальту.
Я даже пошевелиться не могу, так пусто у меня внутри, будто вся кровь моя оказалась снаружи меня. Мне холодно, страшно и темно.
Я умираю, а Грэйди даже не душит меня, просто сидит сверху, крепко удерживая. Его красные зрачки, неподвижно-узкие, похожи на зрачки какой-то неведомой ящерицы.
Мир рассыпается перед глазами, как разбитое стекло, по кусочкам исчезает. А потом я вдруг снова могу вдохнуть, а потом вдруг могу и слышать. И я слышу невероятно громкий, нечеловеческий, будто бы на одной ноте, крик Грэйди. Открыв глаза, я с полминуты не вижу ничего, а потом вижу Морриган, которая бьет, Грэйди выроненной мной бутылкой, судя по всему не в первый раз. И Грэйди, судя по всему очень больно совсем не от силы удара.
Он оборачивается к Морриган, но кто-то будто останавливает его движение.
Я слышу Доминика, он говорит:
— Нет!
А потом мне становится легко и спокойно, как никогда еще не было, и я закрываю глаза, думаю, что, наконец, вспомнил, как это, умирать.
А вот так: совсем не страшно — в самом конце.
Глава 11
Когда я снова прихожу в себя, первым моим ощущением становится тепло. Будь я мертвым, я бы чувствовал только холод, поэтому глаза я открывать не спешу. Мне некуда спешить. Я чувствую, как чей-то острый нос утыкается мне в висок. Еще ничего не видя, я понимаю, что лежу дома, в своей комнате.
— Мэнди? — спрашиваю я.
— Так ты не умер? — спрашивает она. Я открываю один глаз и вижу Мэнди, у нее взволнованные глаза, но улыбается она скорее зло.
Она говорит:
— Я думала, что ты в коме, честно говоря.
— Как ты спокойно об этом говоришь?
— Ой, ты только не ной.
Я замолкаю на пару минут, пытаясь прислушаться к себе. Нет, поводов ныть у меня нет: ничего не болит, и я чувствую себя вполне отдохнувшим.
— Что произошло?
— В машине, которую пытался угнать Итэн, потому что ты плохо на него влияешь, оказалась связанная Морриган. Так что вы выполнили нашу миссию и получили свои честно заработанные два балла.
— Нет, я имею в виду что случилось в Грэйди?
— Морриган огрела его бутылкой так, что он едва не принял свой настоящий, демонический вид и рванул в лес.
— Где бутылка?! — спрашиваю я, вдруг приподнимаясь так резко, что едва не скидываю Мэнди с кровати. — Где она?
— У нас, не волнуйся так. Выглядишь, будто у тебя трубы горят.
Она смеется своим резким, злым смехом, и я ей улыбаюсь.
— Итэн вкратце объяснил нам, что это не просто бутылка.
— Больше всего меня в ней прельщает то, что если стукнуть ей Грэйди, он убегает в лес.
Мэнди снова смеется, но теперь я — вместе с ней. А потом она вдруг обнимает меня, порывисто и почти до боли крепко.
— Ты мой храбрый слюнявчик.
— Я не слюнявчик.
— Слюнявчик, ты же облажался. Но храбрый.
И тепло, которое от нее исходит вдруг становится таким приятным, будто мне шесть лет, и я простудился, а со мной сидят. Я позволяю себе еще немного просто помолчать, ощущая, как хорошо и легко мне рядом с ней.
— Где остальные? — спрашиваю я.
— Готовятся потихоньку. Не переживай. Все хорошо. Со всеми. Кроме Мильтона, но с ним никогда ничего хорошего не бывает.
— Ты жестокая, — говорю я, и Мэнди щелкает меня по носу. Мне было бы странно называть ее мамой, но она растила меня, как мать. Я не могу сказать ей что-то драматическое вроде «я так нуждался в тебе, мама», потому что когда я в ней нуждался, она была рядом. И даже не могу сказать «вся наша жизнь — ложь!», потому что жизнь у меня была отличная, и мама моя — лучше всех. А несказанные слова ведь не так и важны.
— Почему, интересно, Морриган меня спасла? — спрашиваю я.
Мэнди пожимает плечами, тянет:
— Суке стало стыдно?
— Ну, я серьезно.
— Думаю, что она настолько ненавидит Грэйди, забравшего ее мальчика, что готова даже тебе помочь.
Я молчу, рассматривая белый потолок с каким-то смешанным, неясным чувством внутри.
— Мне показалось, она не любила Доминика.
— Так иногда кажется, — пожимает плечами Мэнди. И говорит неожиданно серьезно:
— Не наше с тобой это дело.
А я не могу толком сформулировать, что кажется мне неправильным и обидным. Я смотрю на сонную муху, ползущую по потолку к какой-то только ей известной цели, пока моя мысль, наконец, не оформляется.
Обидно, думается мне, что Доминик не знал, что мама любит его, пока был с ней рядом. А теперь любовь уже никому не поможет.
— Все, — Мэнди щелкает меня по носу. — Прекрати свои слюнявые экзистенциально-либеральные мысли и собирайся, раз уж ты в порядке.
— Куда?
— Мы с тобой должны уговорить Ивви сидеть с нами ночью на кладбище, резать себе руки и слушать бормотания на чужом языке.
— Будет сложно. Она же, как это еще говорится, нормальная.
— Именно, поэтому едем мы. Нас с тобой она ненавидит меньше, чем всех остальных. Может быть, она нас послушает.
Если честно, я с трудом представляю, как уговорить Ивви, по крайней мере, выслушать нас. Но если сегодня вечером мы должны будем выгнать Грэйди из нашего уютного мира, придется постараться как следует.
Мэнди скидывает меня с кровати, говорит:
— Ты собирайся, а я еще полежу.
— Какая ты грубая, — отвечаю я с досадой, — Нельзя так с людьми.
Но мои усилия по реморализации Мэнди, я знаю, пропадут втуне, поэтому продолжаю собираться молча, напряженно проигрывая все варианты забористой ругани, которые мы имеем возможность услышать от Ивви.
Ивви живет в небольшой квартирке на Саут-Уайт стрит, что не так далеко от полицейского департамента. Папа не раз предлагал ей переехать в место поспокойнее и покомфортнее, но Ивви Денлон упрямо не желала ни брать нашу фамилию, ни получать наших денег.
Подъезд, в который мы с Мэнди заходим, пахнет кошками и сигаретами так резко, что Мэнди кривит губы и морщит острый нос.
— Дрянь какая, — говорит она. Мэнди могла вести себя сколько угодно грубо, но неприглядная для нее правда заключалась в том, что она была богатой белой девочкой, окончившей Гарвард, и были контексты, в которых как бы ей ни хотелось обратного, она вела себя соответственно своему статусу.
Ступени щербатые, как зубы у среднего обитателя местных квартир. Прямо под каблуком у Мэнди отлетает от ступеньки средних размеров камушек, и я поддерживаю ее, чтобы не упала.
— Наверное, — говорит Мэнди. — Наша девочка хочет быть поближе к преступникам, которых ловит.
— Не все бедные — преступники, Мэнди.
Я стараюсь не ловить себя на стереотипах, свойственных богатому южанину. Все черные — наркоманы или дешевая рабочая сила, все бедные — фермеры или преступники, все, кто не любит соус барбекю — русские коммунисты, а все, кто живут за Дэлавером — чертовы янки.
И только ты сидишь и попиваешь холодный чаек на своем увитом зеленью балконе, уверенный, что находишься в сердце Америки.
Хотя, разумеется, я понимаю, что позиция не лишена привлекательности, по крайней мере с точки зрения комфорта ее исповедующего. Дверь, за которой находится квартира Ивви, представляется мне довольно хлипкой, несмотря на новые, блестящие замки, которыми она обзавелась.
Выпавший глаз кнопки звонка болтается на проволоке. Мэнди пытается его приладить и позвонить, но в конце концов стучит в дверь ногой. Ивви открывает не сразу. Я уверен, раздумывает, стоя возле глазка, зачем мы пришли и стоит ли показывать, что она дома. Но в какой-то момент природная ответственность Ивви берет верх над природной недоверчивостью, и вот она распахивает дверь с таким видом, будто мы помешали ей, как минимум, стричь ногти на ногах, а как максимум преодолевать линейную концепцию времени и выходить в вечность.
— Да? — говорит она. — Все живы?
Ивви задает этот вопрос со вполне понятной задумкой. Если все живы, можно будет закрыть дверь. В зубах у нее дымится сигарета, а зеленые, яркие глаза чуть прищурены, как будто она не совсем уверена, что мы те, за кого себя выдаем.
Ивви явно не в духе, и это плохо. В худшем случае, она примет все, что мы говорим за неудачную шутку и выгонит нас. Мэнди говорит вдруг тоном невероятно серьезным:
— Можно нам зайти?
Она не отвечает на вопрос Ивви, и тем самым вынуждает ее нас, по крайней мере, пропустить. Но более того — не отвечает с таким видом, что рядом с недоверием у Ивви в глазах рыбкой всплескивает волнение.
Квартира у Ивви небогатая, тесноватая и темная, но всегда чисто прибранная. Комната всего одна, довольно аскетичная и едва обставленная, как будто Ивви старательно избегает оставлять следы собственного существования в этой квартире. Кухня со старой газовой плитой напротив говорит о присутствии Ивви терпким, резким запахом табака, впитавшимся, кажется, в ее стены.
Когда Ивви приводит нас на кухню, я говорю:
— Твоя газовая плита продолжает наводить ужас. Не боишься, что если будешь здесь курить, подорвешь все к чертям?
— Этот риск стоит возможности засунуть голову в духовку, если ты мне надоешь, зануда, — отвечает Ивви, как и всегда лучащаяся дружелюбием. Единственное в кухне окошко выходит на окна противоположного, кирпично-красного дома, так что видно только уголочек молочно-белого неба. Сегодня пасмурно, и я отмечаю бледный оттенок облаков, которые вот-вот разойдутся, выпуская дождь.
Ивви ставит электрический чайник, включающийся далеко не с первого раза. Я знаю, что несмотря на убогость обстановки, Ивви любит здесь каждую деталь, всякую вещь, потому что заработала все сама. Создала это место, как мертвые создают свои рай или ад.
Какое оно ни есть, но все — ее. Мы с Мэнди занимаем места на колченогих табуретках и смотрим на Ивви чуть склонив головы набок совершенно одинаковыми движениями.
— Вы, наверное, хотели мне что-то сказать, а не просто проникнуть в мой дом? — предполагает она.
— Нам нужна твоя помощь, — говорю я.
— Я обязалась служить и защищать, так что вряд ли у меня есть выбор.
Ивви делает нам растворимый кофе, и от одного вида банки, губы у Мэнди снова непроизвольно искривляются. Забавно, мы не особенно близки, но Ивви точно знает, что я пью кофе с двумя ложками сахара и молоком, а Мэнди без сахара и без молока вовсе.
Поставив перед нами чашки, Ивви садится напротив, уставившись на нас, как на подозреваемых, которых допрашивает.
— Какого рода помощь вам нужна?
— Только давай так, — говорит Мэнди. — Сначала ты выслушаешь нас, а потом скажешь все комментарии по этому поводу.
Я отпиваю кофе такой горячий, что, к счастью, не чувствую его вкус.
— Ивви, — говорю я. — Как насчет того, чтобы совершить ночную прогулку по историческим местам? Таким, как кладбище Сент-Луис.
Бровь Ивви опасно ползет вверх, и я добавляю:
— Я ведь знаю, что если скажу честно, ты нас пошлешь.
— Честность — лучшая политика, кузен.
— Хорошо, — говорит Мэнди. — Нам нужно, чтобы ты приняла участие в обряде.
— И ты туда же, Аманда?
— Ивви, все, что я тебе сейчас скажу — правда. Поэтому не перебивай меня, хорошо?
Я слышу, как по стеклу постукивают первые, робкие капли дождя. Обернувшись я вижу, как будто кровь из свежей раны, из облаков рвется проливной дождь. Разрозненные капли превращаются в ливень. Мэнди говорит:
— Мы должны спасти твоего отца, Мильтона. И еще одного мальчишку — твоего троюродного брата.
Я думаю, что Мэнди совершенно верно не говорит, что загадочный троюродный брат — тот убийца, список жертв которого видела Ивви.
— От кого? — спрашивает Ивви, и я чувствую, как несмотря на весь ее скепсис, что-то внутри у нее все-таки вздрагивает, волнуется.
— От нашего первопредка из Ирландии.
— Звучит невероятно бредово, — шипит Ивви. — Что случилось с моим так называемым отцом?
Мэнди с полминуты молчит, видимо, решая, какую часть правды Ивви нужно рассказать. Наконец, она говорит:
— Если ты не поможешь, он сойдет с ума.
— Я сейчас сойду с ума! Что происходит?
— Ладно, — говорю я. — Дело в том, что основатель нашего с тобой рода был чокнутым маньяком и колдуном.
— Что?
— И он сбежал из мира мертвых, а Мильтону, как старшему в роду, от этого очень плохо.
— Что, прости?
— Ивви, я и без тебя знаю, что это бредово звучит.
— Если Мильтон допился, я готова ему помочь. Что нужно сделать? Отвезти его в реабилитационную клинику?
— Нет, пойти с нами на кладбище и заточить в бутылку дух нашего первопредка с помощью свиной головы.
— Ты не рожден дипломатом, Франциск.
Я вижу, как Мэнди запивает таблетку дрянным кофе. Она молчит больше, чем ругается, что ей совершенно не свойственно.
— Господи, Ивви, — говорю я. — Ты готова, чтобы из-за твоего упрямства пострадали люди?
Я не говорю «семья», ведь у Ивви не такие понятия о семье, как у нас.
— Хочешь, — предлагаю я. — Свожу тебя в мир мертвых?
— Нет! Я ничего не хочу об этом знать. Семейка экстрасенсов, даже очень богатых, меня не радует, перспектива участвовать в вашей шизофрении меня не радует, и я хочу знать, как я могу помочь отцу нормальным, человеческим способом.
— Попытаться поверить в то, что тебе говорит брат. Достаточно человечно для тебя?
Я замечаю, что мы с Ивви уже почти орем друг на друга, и думаю, что раньше никогда с ней не ругался по-настоящему. Дождь припускает сильнее, будто бы кто-то там, наверху, включил кран на полную мощность.
Мэнди пьет свой дрянной кофе спокойно, будто бы вообще ничего не происходит, и вдруг напоминает мне папу этой невозмутимостью.
— Ты что не понимаешь, как это звучит, Франциск?!
— Какая разница, как это звучит, если это правда, Ивви?!
Я и не замечаю, что мы с Ивви уже стоим, пытаясь друг друга перекричать, пока не встает Мэнди. Она упирается руками в стол, и от пальцев ее расползаются, как червячки или змейки, ниточки тьмы, складываясь в необычно красивый узор, похожий на кружево. Ниточки взбираются вверх, по чашкам, и те мгновенно разлетаются на куски.
Ивви замолкает, и я замолкаю, будто у нас обоих враз отняли дар речи. Отдернув пальцы от стола, пока полоски тьмы не коснулись ее, Ивви делает шаг назад, продолжая смотреть на стол.
— Не туда смотришь, девочка, — говорит Мэнди. — Смотри на меня.
И я вижу, что на кухне становится куда темнее, и тени ползут по стенам и потолку. Если бы за окном не было ни облаков, ни неба, я подумал бы, что Мэнди вытащила нас в мир мертвых. Но Мэнди, казалось, вытащила мир мертвых — к нам.
Ивви смотрит на нее, и я смотрю. Вдруг я понимаю, что то, что происходит с Мэнди страшнее и зрелищнее теней, ползающих по стенам. Мэнди кажется ведьмой или богиней, кем-то совершенно не имеющим отношения к человеку. С первого взгляда не понятно, что именно не так: у нее не отросли длинные зубы или когти, она не летает над полом, от нее не идут волны пламени.
Но я вижу, как она искрится от силы и на нее больно смотреть, как на солнце. Кожа ее кажется еще бледнее, чем есть на самом деле, будто бы она находится на самой грани между жизнью и смертью, а глаза горят ярко и лихорадочно. В ней пляшет что-то странно-величественное, почти пугающее, как отсвет пожара.
Она выглядит как человек, который, по крайней мере теоретически, способен стирать с земли целые города. Нет, не как человек, как существо. Темнота струится из-под ее пальцев, спускается вниз, ползет вверх, пульсирует, и мне думается о древних богинях снова — о хаосе и тьме за пределами ойкумены, откуда жизнь зарождается в самом начале и куда она уходит в самом конце.
— Ивви, — говорит Мэнди, голос ее будто бы наполнен чем-то изнутри, чем-то, что я принципиально не могу описать. И я думаю, что это истинный облик Мэнди, то, что она на самом деле есть — не вполне человек.
А значит то, что я на самом деле есть — тоже?
Я думаю, что сейчас Мэнди могла бы сделать с Ивви одним только движением. Как легко было бы запугать ее, как Ивви уже напугана. Я вижу, как Ивви сует руку в карман. Я знаю, она всегда носит с собой пистолет.
Но я прекрасно знаю, что Ивви не выстрелит. Впрочем, ни одна пуля не причинила бы Мэнди вреда сейчас.
Кроме того я знаю, что Мэнди не тронет Ивви, не тронет только потому, что Ивви — ее кровь. Только поэтому, ведь сейчас ничего благого в Мэнди я не вижу, ничего, что обычно свойственно людям и сообщает им о том, как поступать хорошо, а как поступать плохо. От нее исходит сейчас какое-то первобытное, лишенное добра и зла ощущение, как от земли, которая с равной радостью даст тебе пищу и поглотит тебя мертвого.
И для нее не будет разницы.
Мэнди даже не касается стола кончиками пальцев, просто проводит рукой над ним, и на древесине остаются царапины, будто от когтей. Она ведь только припугнет Ивви, только немножко припугнет?
Но вместо того, чтобы Ивви пугать, Мэнди со всей этой своей силой, струящимися вокруг тенями, вдруг становится на колени, и тени пляшут вокруг нее, собираясь на полу, напоминая спавший вниз плащ.
— Пожалуйста, — говорит Мэнди. Она, почти богиня сейчас, просит у Ивви, и от этого мне становится так странно.
— Я умоляю тебя, Эванджелин Денлон. Не ради твоего отца — ты не знала своего отца. Ради моего брата, которого я не хочу терять. Я прошу у тебя помощи.
Ивви не может ни слова из себя выдавить, она смотрит на Мэнди так, будто не знает, поймет ли Мэнди то, что Ивви скажет ей на человеческом языке.
Мэнди продолжает, она не поднимает на Ивви глаз, смотрит в пол, но я не могу понять, тяжело ли ей просить.
— Если ты не поможешь нам, ничего не получится. Однажды мой брат сказал мне, что нет ничего страшнее, чем знать, что ты беспомощен сделать что бы то ни было. Я не хочу это испытать.
Мэнди молчит, потом добавляет:
— Еще он сказал: хорошо, что таких ситуаций не бывает. И: отключите меня от аппарата, если у меня не будет вставать на медсестер, когда я стану старым.
Странно, но даже последние слова Мэнди не сбивают накал силы вокруг нее, не делают ее более человечной, злой или смешной. Она в принципе оказывается вне системы координат, лишенная качеств, которые я могу назвать человеческим языком.
Ивви делает шаг назад, утыкается в закрытую дверь, мотает головой.
— Господи, — говорит Ивви. — Господь Всемогущий, кто ты?
— Сестра твоего отца, — Мэнди замолкает ненадолго, а потом смеется. — Это еще тетей называется.
Ивви вдыхает воздух и, кажется, забывает выдохнуть. Она испугана, но есть и что-то еще. Понимание. По крайней мере какая-то часть того, что Ивви хочет понять, становится ей понятной.
— Ты поможешь нам? — спрашивает Мэнди.
— Я попытаюсь, — отвечает Ивви, голос у нее едва слышный.
— Тогда слушай, потому что ты часть семьи и имеешь право знать.
Мэнди рассказывает все с самого начала. Все, что я узнал от Зоуи и рассказал ей. Я бы посмеялся над игрой в испорченный телефон, но Мэнди передает все невероятно точно, мне кажется даже точнее, чем передал я.
Мэнди встает с колен, и вместе с этим исчезают тени, и та невероятная сила, которая ее преобразила.
— Тогда в одиннадцать сорок будь у входа на Сент-Луис. Хорошо, девочка? И извини за чашки, случайно, честно говоря, получилось. За стол тоже извини!
Мэнди идет в коридор, а мы с Ивви остаемся стоять.
— Ты в порядке, кузина? — спрашиваю я.
— А ты как думаешь? — огрызается Ивви. А потом серьезно добавляет:
— Впрочем, я в порядке намного большем, чем думала, что буду.
Еще немного помолчав, она говорит голосом почти обычным:
— До вечера, кузен.
— Фрэнки, мне долго тебя ждать? — кричит Мэнди. И я, еще чуточку посмотрев в зеленые глаза Ивви, по которым никакого страха уже не прочесть, иду за Мэнди.
На улице, стараясь перекричать шум дождя, я спрашиваю:
— Что это было?
— Я просто перестала сдерживать свою силу, — говорит Мэнди.
— Ты была похожа на богиню.
Но Мэнди только смеется:
— В детстве мы с Райаном играли в Исиду и Осириса.
— Думаешь Ивви согласилась из страха?
— Из причастности, — говорит Мэнди. — А может быть теперь, когда она все видела, уже нельзя было сказать «прекрати нести бред, я не собираюсь участвовать в вашей шизофрении».
К чести Мэнди — передразнить Ивви получилось у нее смешно, легко и успешно. Я молчу, чувствуя, как вымокаю до нитки и как дождь хлещет мне по щекам и лбу почти больно.
Только оказавшись в машине Мэнди — оранжевом Мазератти, я понимаю, почему Ивви согласилась.
Ощущение, когда Бог говорит с тобой и просит тебя. Наверное, что-то такое чувствовал Авраам.
И он не мог отказаться. Не мог не оставить Харран, хотя может быть, только может быть — очень не хотел его оставлять.
Сама мысль кажется мне страшно грустной.
Глава 12
Мой папа невероятно пунктуален.
Однажды в детстве, когда мои моральные нормы не были еще крепкими, как кости, а были мягкими, как детские хрящики, я украл один из подарков Данни Блума, который имел неосторожность пригласить волка в моем лице на свой день рожденья. Робот-трансформер в яркой упаковке соблазнял меня так долго, что в конце концов, я стащил его прямо со стола и принес домой. Сам не понимаю, почему. Родители купили бы мне такого же, если бы я попросил. Но меня пленял именно этот робот, он был для меня особенным, несмотря на тысячи точно таких же в магазинах по всей стране. Наверное, потому что он принадлежал Данни Блуму.
Когда папа узнал о краже, я вынужден был гулять рядом с домом Данни ровно сорок пять минут, чтобы робот в моем рюкзачке призвал или же, впрочем, не призвал меня к раскаянию.
Вне зависимости от того верну я робота в первые пять минут или не верну вообще, я должен был подумать над своим поведением. Стоит ли говорить, что робота я вернул примерно на двадцатой минуте, как бы мне ни было жалко с ним расставаться. Бродить вокруг дома Данни и знать, что он там, наверняка, ищет среди других подарков тот, о котором мечтал, было довольно неприятно.
С Данни мы с тех пор не общались, потому что я был раскаявшийся, но вор.
А папа мой приехал ровно через сорок пять минут, даже не поинтересовавшись, вернул я краденное или нет. Сорок пять минут — время урока, вот и все. А научился ты чему-то за это время или нет — исключительно твое дело.
История, на поверку, не о пунктуальности, а о выборе и сложных моральных вопросах моих девяти, но папино чувство времени показывает отлично. Словом, мой папа действительно никогда не опаздывает, поэтому ровно в одиннадцать тридцать пять мы паркуемся недалеко от кладбища Сент-Луис, а ровно в одиннадцать сорок — стоим у входа и ждем Ивви.
Кладбище Сент-Луиса даже в нашем необычном городе — необычное место. Ежегодно тысячи туристов испытывают свои нервы на прочность, пытаясь там заблудиться. Традиционных могилок на кладбище нет, а есть маленькие каменные склепы, увенчанные ровными крестами, обставленные свечами, которые у нас принято зажигать, чтобы душа мертвого не заблудилась по пути в рай. Склепы мы строим не от излишней аристократичности или избытка архитектурных фантазий. Дело в том, что земля в Луизиане болотистая, влажная, поэтому хоронить трупы в земле довольно антисанитарно и способствует распространению кадаврина, а не тихой, чистой скорби. Кроме того пару раз, на заре существования города, наводнения приносили неожиданных гостей из-под земли, так что решено было обезопасить мертвых каменными стенами.
Поэтому главное наше кладбище больше всего напоминает не кладбище, а некий хитроумно спланированный город мертвых со своими улицами и проспектами. Одни склепы новые, бело-меловые, другие — щербатые и серые от времени, которое текло через них, но все они спланированы примерно в одном стиле. Наверное, населением нашего города руководит некая подспудная солидарность в смерти.
Мы стоим у входа, огороженного невысоким черным забором. Каменный столб с крестом, вбитый между воротами кажется еще внушительнее в темноте. Морин и Морриган держатся чуть в стороне от нас. Даже решив с нами сотрудничать, они не стали любезнее. Отец и Мэнди поддерживают Мильтона — его ощутимо шатает.
— Это против Господа, против его мира, это так неправильно, — бормочет Мильтон. Голос у него хриплый, усталый, и глаза ужасно воспаленные, а бледный он настолько что, кажется, почти светится в темноте. — Это запрещено, это запрещено, это против правил.
Морриган, явно согласная с Мильтоном, складывает руки на груди, говорит:
— Итак? Где эта ваша Ивви?
— Она придет, — говорит Мэнди. — Поверь, подруга, в ней я сомневаюсь меньше, чем в тебе.
— Что ты сказала?
— Леди, — говорит Итэн. — Может быть нам стоит относиться друг к другу с большим…
— Заткнись! — говорят Мэнди и Морриган одновременно.
— Пониманием, я хотел сказать пониманием, — продолжает Итэн чуть менее уверенно.
Морин вздыхает:
— Успокойся, Морриган. Мы здесь вовсе не для того, чтобы пререкаться с осквернителями мира Господа нашего.
— Спасибо, — говорю я. — Чудесно, что мы так хорошо друг друга знаем.
Но Морин не обращает на нас внимания.
— Мы здесь, чтобы вырвать твоего сына из места, которое хуже, чем ад.
— Из «Бургер Кинга»? — спрашиваю я.
Морин, в отличии от ее раздраженной дочери, выглядит совершенно спокойно. Будто и не собирается пачкать свою душу темными ритуалами на кладбище.
— Как ты думаешь, где сейчас душа твоего брата, Франциск? — спрашивает меня Морин. Глаза ее синие и холодные, как северное море. Не дожидаясь моего ответа Морин продолжает:
— Среди всех поглощенных Грэйди душ, совсем один в месте, где каждый плачет или кричит от боли.
Морин говорит без жалости, просто констатирует факт.
— Это практически ад. Только в аду ты мучаешься и умираешь вместе со всеми. А тут ты один — живой, а все вокруг тебя страдают и ненавидят тебя за это. Поэтому Доминик сейчас в месте худшем, чем ад.
— Знаешь, Морин, описание действительно напоминает «Бургер Кинг», — говорит папа, видимо справедливости ради.
Расклад, словом, получается примерно такой: папа и Морин делают вид, что не происходит ровным счетом ничего особенного и они все контролируют, Морриган и Мэнди готовы врезать друг другу в любой удобный момент, Мильтон изрекает из себя самые мрачные пророчества со времени его опасений, что я стану геем, а мы с Итэном чувствуем себя как на студенческой вечеринке, где неловко и интересно примерно в равной степени.
Наконец, появляется Ивви. Чувствует она себя явно еще более неловко, чем мы с Итэном вместе взятые. На Ивви старые, рваные на коленях брюки и застиранная белая рубашка. Мне кажется, я легко могу проследить ход мыслей Ивви, который заключался в очень простом предположении: психи, наверняка, будут поливать друг друга кровью и одежда окажется безнадежно испорчена.
— Здравствуйте, — говорит Ивви. Она, я вижу, старается не смотреть на нас с Мэнди. Зато, когда видит Мильтона — делает шаг назад, скрещивает руки на груди, ровно тем же движением, что и Морриган.
— Что с ним? — спрашивает она, и в голосе ее все-таки звучит хорошо скрытое волнение.
— Дочь Вавилона, — говорит Мильтон. — Опустошительница. Блажен тот, кто отомстит за все, что ты сделала нам.
— Сто тридцать шестой псалом, — говорит Райан. — Он пытается молиться, но не помнит, как это. Это не тот псалом, Мильтон! Номер девяносто, тебе нужен номер именно он.
И тогда я понимаю, что пугает меня больше всего, больше даже его глаз и голоса. Меня пугает что Мильтон, так ненавидевший религию, пытается молиться, вспоминая псалмы, которые Морган заставлял его учить в детстве. Ему так страшно и так отчаянно от того, что он слышит?
Место хуже, чем ад.
Ивви вдыхает поглубже, говорит:
— Отец?
— Отец наш небесный! — говорит Мильтон. — Точно! Если попросить у него, тогда все пройдет, перестанет болеть.
Он улыбается, обнажая красивые зубы, но сама улыбка красивой не выглядит — выглядит мучительной и жуткой. Болезненной, больной. Ивви берет Мильтона за руку, больше она ничего не говорит, но я чувствую между ними что-то, что связывает нас с папой. Что-то другое, чем воспитание, благодарность за данную жизнь или привязанность. Что-то очень важное, особое, что можно почувствовать только к своим родителям.
Рассудочно Ивви не за что Мильтона любить, но каким-то подкорковым, невыразимым чувством она переживает за него, и оттого маска ее сдержанной отстраненности на секунду трескается, обнажая напуганную, но решительную, совсем другую девочку.
Мою кузину.
Ивви поворачивается к папе, говорит:
— Хорошо, мистер Миллиган. Давайте пойдем и займемся вашими глупостями, если только они не включают оргию.
— К счастью, а может быть и к сожалению, не включают, Ивви. Морин, Морриган — это Эванджелин Денлон, дочь Мильтона и помощник инспектора. Хотя я все еще только очень приблизительно понимаю, как эти два факта могут уживаться в одном человеке. Ивви, а это Морриган и Морин Миллиган. Твои двоюродная тетя и бабушка, соответственно.
— А если моя бабушка — монахиня, тогда откуда у меня тетя?
— Какой интересный и своевременный вопрос, правда Морин? — говорит папа, как ни в чем не бывало. Я смотрю на часы: до полуночи остается десять минут.
— В моей жизни был период, когда я снимала монашество. Епископ благословил меня вернуться в мир, чтобы завести семью и оставить потомство, — говорит Морин коротко. — Моя кровь была важна для церкви. Я не хотела распространять эту кровь. И не стала бы делать это, если бы не настояние.
Но, как я понимаю, сила Морин не передалась ее дочери. Как, наверное, неудобно вышло для католических иерархов.
Морин разворачивается и идет к воротам, окликая папу только у входа.
— Лучше бы, вместо того, чтобы разглагольствовать, ты открыл нам ворота. Времени остается все меньше.
— Ты считаешь, что я опаздываю, Морин?
Папа и Морин разговаривают так, будто бы их связывают вполне деловые и даже приятные в какой-то степени отношения.
— Мэнди, милая, ты не могла бы открыть для нас ворота?
Мэнди только касается указательным пальцем замка, просунув руку между прутьями, и цепи, удерживающие ворота, с мягким звоном падают на землю. В колоде Таро один из старших арканов называется «Сила», на карте изображена девушка, укрощающая льва и раскрывающая ему зубастую пасть с такой легкостью, будто это котенок. Вот что сейчас может Мэнди, вот кого она мне напоминает. Сегодня Мэнди совсем не то, чем она была, когда мы просили Ивви, но что-то особенное, притягивающее взгляд в ней есть.
Мы проходим на территорию кладбища. Я, как и всегда, чувствую этот переход. Будто бы вступаешь в океан, оглушительно-холодный по сравнению с жарким днем. Меня окатывает прохладой, поднимающейся от позвоночника к мозгу.
На кладбищах мало душ мертвых — обычно они выбирают памятные места, где они работали, где они любили. Душа покидает труп через двадцать четыре часа после смерти. Но когда она уходит, вырваться ей довольно сложно. Душе приходится буквально отдирать себя от тела, в котором она прожила свою жизнь. И какие-то ее частицы остаются в трупе. Это может быть кусочек воспоминания или какое-то желание духа. Отправляясь дальше, призраки оставляют на кладбищах крохотные частички своих душ — неразумные, несамостоятельные. Оттого на кладбищах такой холод, оттого на кладбищах так неуютно. Множество частиц призраков покоятся в каждом из мертвых лежащих здесь, и составляют тревожное, хаотическое, холодное содержимое кладбища.
Пару раз в моей недолгой карьере были случаи, когда я приводил сюда призраков, потерявших при выходе из тела важные воспоминания и мечтавших с ними соединиться при моем скромном содействии.
Честно признаться, кладбище из мира мертвых зрелище жутковатое, но — совершенно безопасное. Частицы призраков, как запрограммированные голограммы воспроизводят одно и то же воспоминание, а иногда даже одну и ту же фразу. Они не разумны, с ними нельзя вступить в контакт. Они просто есть, и выглядит все это очень печально.
Мы заходим на территорию кладбища, и взглядам нашим открываются длинные ряды одинаковых склепов, изредка украшенных не крестами, а замысловатыми памятниками — плачущими ангелами, вянущими деревьями, надтреснутыми колоннами.
Не так давно в Сент-Луис перестали пускать всех желающих, ограничив посещение официальными туристическими группами и людьми, имеющими документ о том, что здесь похоронен их родственник.
Как по мне, так неплохое решение. Разумеется, здесь некого тревожить, разумные призраки на кладбищах встречаются очень редко, но зачем расстраивать еще живых родных и близких, которым приятнее думать, что память их мертвых никто не обидит слишком громким шумом.
Словом, по ночам на кладбище присутствует охранник, доблестно защищающий его от посетителей. С охранником, кстати, я ожидаю серьезных проблем, когда вижу, как он направляется к нам — человек в летах с табельным оружием.
— Посещение кладбища по ночам запрещено, — говорит он. Наверное, решил быть вежливым, раз мы не похожи на стаю подростков, ищущих острые ощущения.
Но папа просто говорит:
— Отдохни, — щелкая пальцами пальцами у него перед носом. Папа даже не останавливается, ведь до полуночи остается пять минут.
— С ним все будет в порядке? — говорю я, увидев, как охранник оседает на землю, устроив свое увесистое тело между двумя склепами.
— Вполне. Восьмичасовой сон еще никому не вредил.
Могила Моргана Миллигана располагается не так далеко от входа. Обычный склеп, не слишком ухоженный — дети Моргана явно не испытывают пиетета перед его прахом. Жена его, Салли, лежит в отдельном склепе. Она настояла на том, чтобы не быть с Морганом в смерти.
Вот насколько его не любила семья.
На дверце, через которую в склеп помещали гроб, значатся даты жизни Моргана и — места рождения и смерти.
Дублин — Новый Орлеан. Как билет с обозначенными пунктами отправления и прибытия на нем.
— Мне жизненно необходим комментарий Мильтона по поводу происходящего. Видишь, Мильтон, братик, — говорит Мэнди. — Мы навещаем старого муд…
— Мэнди, милая, — говорит папа. — У нас мало времени.
— И что теперь? — спрашивает Ивви.
— Садимся в круг вокруг могилы? — интересуется Морин.
— Рисуем пентаграмму? — предполагает Морриган.
— Просто постоим в кружочке? — предлагает Ивви.
Все они трое говорят без особенного дружелюбия или же энтузиазма.
— И, — говорит Мэнди. — Приз за лучшие познания в эзотерике получает Эванджелин Денлон.
Когда мы встаем вокруг могилы, я оказываюсь между Ивви и Морин. Морин, Мильтон, Мэнди, папа, Итэн, Морриган, Ивви и я. От старшего к младшему, если только у круга есть начало и конец. Я почти физически чувствую, как пропущено место Доминика — рядом со мной.
Я еще раз смотрю на часы, говорю:
— Двадцать три пятьдесят девять.
— Именно поэтому мы не торопились. Начинать нужно ровно в полночь — ни на секунду раньше.
Папа вздыхает, наблюдая за стрелкой на собственных наручных часах, а потом говорит почти непривычно резко:
— Возьмитесь за руки.
И даже Ивви хватает меня, ничего не спросив.
Рука у нее лихорадочно-горячая, гладкая — совсем непохожая на морщинистую, холодную, как у ящерицы лапку Морин.
Как только мы беремся за руки, замыкается какой-то контакт, и меня выбрасывает в мир мертвых. Я вдруг резко оказываюсь в хаосе из звуков, запахов, вижу, что зыбкие как голограммы призраки стоят у своих могил.
Какой-то мальчик подкидывает мяч, снова и снова, и я слышу аплодисменты, которые на самом деле давно отзвучали.
Пожилой человек сидит на бетонной крыши своего склепа, то и дело, вечным движением, запуская руку в карман и вытаскивая крошки для голубей.
Девушка с длинными, светлыми волосами повторяет: «Я люблю тебя, Джекки, я люблю тебя, Джекки, я люблю тебя, Джекки». С одной и той же интонацией, бесконечно, будто проигрывается одна и та же запись на пленке.
Кто-то плачет на одной ноте, сам не понимая, почему.
Все вокруг наполняется голосами, которые больше не звучат, их проблемами и чаяниями, давно прошедшими днями. Темнота кладбища озарена только их сиянием, робко-синеватым, как рассвет, но совершенно не живым.
Я отворачиваюсь, но продолжаю слышать фразы, которые они говорят.
Я люблю тебя, Джекки?
А скоро осень?
Куда мне поехать учиться?
Ты уверена, что я проснусь, мама?
Чтобы отвлечься, я смотрю на отца. Они с Мэнди больше не держатся за руки, поэтому и нам можно, но Ивви упрямо не отпускает мою ладонь. Папа достает из кармана скальпель, демонстрирует Итэну, и Итэн начинает читать что-то на незнакомом мне, похожем на французский языке. Мильтон что-то говорит, но шепотом, так тихо, что я не слышу, что именно.
Мэнди достает из сумки бутылку и череп, и чашку, ту самую, в которой они мешали кровь для моего воскрешения. Папа режет себе руку, спускает кровь в чашку, ничуть не изменившись в лице, не поморщившись даже, передает скальпель Мэнди. Мэнди пускает кровь себе и помогает Мильтону, ведя его руку. Когда очередь доходит до меня, чашка заполнена на четверть. Я думаю, как легко смешивается наша кровь с кровью Морин — ничего не пенится и не пузырится от ее веры в католического Бога.
Я надавливаю скальпелем на ладонь, проводя по линии жизни. Под кожей показывается кровь, вырывается наружу, как живой ручеек после засухи. Я вижу, как кровь стекает в чашку, и ее капли растворяются в красном море папиной крови, крови Мэнди, Мильтона, Морин. Передав скальпель Ивви, я смотрю, что она будет делать. Ивви медлит, смотрит на меня, потом на Мэнди и на папу.
Боли она не боится, это я знаю. Но ей неуютно, не хочется, ей кажется жутким все, что происходит. Потом Ивви смотрит на Мильтона: долго, пристально. И в конце концов оставляет линию на запястье — длинную и вполне глубокую, не жалея себя.
В следующий раз, когда чашка снова идет по кругу, мы пьем кровь. Я помню, когда Мильтон, Мэнди, папа и Итэн делали то же самое. Кровь, связь, сила. Папа пьет кровь с абсолютно безразличным видом, а Мэнди почти с удовольствием, и меня удивляет, что Мильтон пьет ее спокойно, как будто Мэнди дала ему воды. Морин сидит с чашкой довольно долго.
— Давай, — шепчет Мэнди. — Все христиане делают это.
Папа пихает Мэнди локтем в бок, а Морин даже не смотрит на них, она смотрит в глубину чашки и видит там, наверное, что-то особенное, к чему не может прикоснуться. В конце концов, сделав над собой усилие, Морин пьет. Я пью легко, во рту тут же становится солоно, но я не обращаю внимания. Кровь не вызывает у меня отвращения. Ивви смотрит на меня большими глазами, и я пожимаю плечами. Она прижимает руку ко рту, мотает головой.
— Ивви, — говорит Райан. — Пожалуйста. Один глоток. Я понимаю, что просьба довольно своеобразна, но в этом нет ничего невозможного.
Ивви зажмуривается, крепко-крепко, подносит чашку к губам. Глотать ей явно тяжело — первым, рефлекторным движением, она едва не сплевывает кровь. Она не знает, в отличии от нас, что кровь это драгоценность. И все-таки, она принимает кровь — пусть тридесятая дочь из семьи Миллиганов, но она так же наследует Грэйди, как и Мэнди, к примеру.
Морриган пьет спокойно, даже не раздумывая и не показывая, что ей неприятно. Итэн ни на секунду не перестает что-то говорить на языке богослужения вуду, и выглядит сейчас, будто ведет какую-то особенно интересную лекцию в университете. Отпив кровь, как отпивают чай в паузе между словами, он продолжает.
Остатками папа обливает череп свиньи на бетонной плите у могилы. Череп, окрашиваясь красным, будто бы наполняется жизнью, и я чувствую — мы не ошиблись. Судя по тому, что Морин опять хватает меня за руку, пришло время снова замкнуть круг. Ивви вцепляется в мою руку, ту самую, которую я порезал, причиняя мне боль, но я ее не останавливаю. Я смотрю, как стекают дорожки крови вниз по черепу свиньи, как краснеют острые, кривые зубы, как капли проваливаются в глазницы.
Когда круг замыкается, а контакт восстановлен, меня вдруг будто прошивает током и глубоко внутри накрывает волной, из-под которой нельзя выплыть. На самом деле, строго говоря, чувство, что я испытываю описать нельзя. Оно вообще неизлагаемо. Я будто оказываюсь связан со всеми и одновременно, все мои нервные окончания равно подключены к каждому, и образуют огромную сеть, которую я даже представить себе не могу.
Кровь, связь, сила. Кровь.
Я оказываюсь одновременно в мире мертвых, в реальности и еще — внутри нашего маленького круга. По-настоящему внутри, в центре циркуляции волн, в биении крови, в жаре нервных импульсов. Мое сознание одновременно цельно и нет. В голове бьется только одно: кровь, кровь, кровь.
Я чувствую жар и не сразу понимаю, что это жар песка и солнца в далекой стране, где я никогда не был. Ощущение вовсе не такое, как если получаешь видение. Нет, я присутствую там, нахожусь там, чувствую исходящий от низкого синего неба зной. Я вижу Мильтона, стоящего на КПП. Может, его смена заканчивается, а может только началась. Из-за шлема я не сразу могу увидеть его лицо, но сразу его узнаю, каким-то особенным чувством. Мильтон курит, и я подхожу ближе, чтобы его рассмотреть. Из-за песка под ногами сложно идти, он горячий, обжигающий, и мне так невероятно жарко.
Здесь можно сойти с ума от жары. Стать как одуревшее животное.
Что это? Багдад? Кербела? Абу-Грейб? Все одно — золотое от солнце, страшное от бедности. Я вижу на дороге расстрелянную машину. Старую, я даже не представляю марки, может быть я таких не видел. Лобовое стекло выбито начисто, рассыпано осколками по капоту. И все заляпано кровью, я не могу рассмотреть то, что осталось в машине от людей. Кровь и осколки костей, ничего на месте лиц. Кто-то из солдат открывает багажник, не обращая внимания на тела, достает оттуда оружие.
Мильтон махает им с КПП, как принцесса Диана, должно быть, приветствовала поклонников.
— Я знал! — говорит Мильтон. — Прям сердцем чувствовал!
И его густой южный акцент напоминает о топях Луизианы, а не о сухой, жаркой пустыне.
Когда вытаскивают трупы, они оставляют за собой длинный след крови, и Мильтон наблюдает за этим следом с ленивым удовольствием охотника. Я вижу, он улыбается, обнажая красивые, хищные зубы.
Кровь, ему нравится кровь. Да он без ума от крови, одурел от жары, почти свихнулся. Льет кровь, как воду.
Кровь это удовольствие, пища для сердца.
Четкого перехода между одним кадром и следующим — нет, я будто плыву в каком-то невидимом море, ожидая, куда меня выкинет волна. И вот меньше, чем за секунду я оказываюсь в чьей-то ванной. Убого покрашенные стены, мокрые от воды, влажный коврик на полу, грязное зеркало и шум бегущей, чуть ржавой воды. Под душем стоит Морриган, совсем молодая — ей не больше семнадцати. Длинные мокрые волосы доходят ей до бедер, и оттого смотреть на нее может быть, чуть менее стыдно. Вода стекает с ее спины, приобретая розовый оттенок. Когда она поворачивается, я вижу длинные раны на ее спине — такие может оставить кнут. Кровь льется быстрее от горячей воды, стекает вниз, не останавливается.
Морриган не прекращает плакать, плечи у нее конвульсивно дрожат. Кровь течет так быстро, что не зная Морриган, можно расценить ее водные процедуры при наличии таких глубоких ран, как неудачную и небанальную попытку самоубийства.
Морриган уже не просто плачет — ревет бессловесно и громко, как ребенок, у которого отобрали игрушку: с горьким осознанием своей беспомощности.
Кровь, это боль. Унижение. Сад Господень поливают кровью.
Я чувствую ее горечь так сильно, как чувствовал радость и азарт Мильтона, и мне почти хочется зарыдать вместе с ней, но тут я оказываюсь в Новом Орлеане, в прекрасном лете, окрашенном вечной зеленью.
Ивви сидит на скамейке, ладони у нее покрыты кровью, она смотрит на них, будто слепая, которая впервые увидела цвет.
— Господь Всемогущий, — говорит она. — Я пыталась помочь, я же пыталась помочь.
Напарник Ивви, Эллиот, говорит ей что-то дурацкое, и я не могу разобрать слов. Я не сразу понимаю, почему, ведь я стою близко, а потом догадываюсь — потому что Ивви не помнит этих слов.
Она продолжает смотреть на свои руки, потом говорит:
— Я не убийца, я коп. Я не хотела.
— Он был преступником, — говорит Эллиот. — Ты пыталась его остановить.
— Но мне нельзя было стрелять на поражение.
Я слышу вой подъезжающей машины скорой помощи, а может и полицейской машины — мы с Ивви не знаем.
— Мы вызывали коронера? — спрашивает Ивви.
И снова добавляет:
— Господь Всемогущий. Может, он жив?
Но не плачет.
Кровь, это вина. Кровь не смывается ни одним веществом на планете.
Мне хочется сказать Ивви что-нибудь правильное, чего не сказал ее напарник, но я оказываюсь в собственной комнате, только много лет назад. Судя по антуражу, комната явно еще не принадлежит мне. Стены разрисованы черным маркером: я вижу дерево со схематичными повешанными человечками, перевернутый крест, зубастую, жутковатую улыбку Чеширского кота. По стенам развешаны плакаты «Tiger Lillies» и «Slipknot». У окна стоит, наполовину высунувшись наружу, девчонка лет пятнадцати. На ней кожаная юбка, такая короткая, что я бы спросил у девочки, уверена ли она в своем выборе прежде, чем она выйдет на улицу.
Особенно, если эта девочка — моя будущая мать. Мэнди орет:
— Я ненавижу тебя, Морган! Я хочу, чтобы ты сдох! Это единственное, ради чего я жила все это время! Я хочу туда!
Наверняка, Мэнди говорит о каком-то концерте. Когда она, едва не выпав из окна, захлопывает его, я вижу, что виски у нее выбриты, а длинные волосы собраны в высокий хвост. Стиль ее макияжа больше всего напоминает панду на героине, ставшую вдобавок вампиром.
Я замечаю, что на кровати сидит папа, вернее подросток, которым он был. Отец читает «Ступени органического и человек» Плеснера. Папа выглядит, как полная противоположность Мэнди. Он аккуратный мальчик в очках, ухоженный и спокойный. На крик Мэнди он даже не реагирует, просто перелистывает страницу, говорит:
— Если бы ты оделась как монашка и сказала, что идешь поставить свечку в церкви, он бы тебя отпустил.
— С чего бы мне оправдываться?
— Это называется лгать, — поясняет папа терпеливо.
— С чего бы мне лгать?
— С того, что ты можешь сколько угодно воровать вещи в магазине, но живешь в его доме и ешь его еду. Как ты понимаешь, я не испытываю ничего теплого по отношению к Моргану, тем не менее мы должны понимать контекст сложившейся ситуации безошибочно.
— Сука, — говорит Мэнди. Она садится на кровать, роется в тумбочке и достает сигареты, закуривает, неловко щелкая зажигалкой и глубоко затягивается. Мэнди достает из полупустой пачки сигарет лезвие. Ей даже не надо задирать юбку, чтобы провести лезвием себе по бедру, со внутренней стороны. Я вижу одинаковые ряды заживших царапин. Папа не реагирует, как будто то, что его сестра-близнец режет себя при нем является делом совершенно обычным.
Кровь, это облегчение. Если ты ненавидишь мир, выпусти немного своей грязной крови, и это поможет.
Наверное, Мэнди будет неловко, если она узнает, какое ее воспоминание попало мне. А может быть это и папино воспоминание. Я не могу сказать точно, у меня нет того безошибочного ощущения, что бывало в прошлых воспоминаниях.
Впрочем, еще более неловко, чем моим родителям, должно быть Морин. Я вижу ее молодой, в монашеском одеянии, в полном покрове — ни волоска за ним не видно. Она сидит со священником в глубине собора. Морин говорит:
— Святой отец, я согрешила.
— В чем, дочь моя? — спрашивает он.
— В помыслах своих, — отвечает Морин. И на лице ее видно только намек на улыбку. — Я мечтаю о том, чтобы это…
Морин вдруг демонстрирует открытую руку, а потом быстрым движением прокусывает себе подушечку указательного пальца. Я вижу рубиновую каплю крови, набухающую на коже, растущую, готовую сорваться вниз.
— Продолжалось, — говорит Морин.
Так вот как ты выпрашивала разрешение завести дочь, старая ты стерва, думается мне.
Кровь — это соблазнение, красота. Цена любого вопроса.
Но с куда большим удовольствием я готов смотреть на Морин и ее епископа, у которого она вымаливает дочурку, чем снова на моих собственных родителей. Им около семнадцати. Папа такой же аккуратный, как и всегда, даже галстук у него завязан как будто он вот сейчас готов участвовать в токшоу, а Мэнди сменила свою юбку на кожаные штаны. Она лежит на кровати, спина ее полностью обнажена. Рядом с ней миска с чем-то красным, куда папа макает кисточку. Кровь, он макает ее в густую, темную кровь. Я только надеюсь, что это не человеческая кровь. Папа рисует на спине у Мэнди руны, сосредоточенно, как будто делает домашнее задание.
— Хагалаз, — говорит он. — Град. Руна разрушения.
— Бред какой, — говорит Мэнди.
— Между наукой и магией разница исключительно в социализованности первой.
— Что ты мне еще скажешь? — смеется Мэнди.
— Религия это социализованный бред, психическое расстройство. Соответственно, психическое расстройство — не состоявшаяся религия, нереализованная киригма, Откровение.
— Ты ужасен.
Папа вырисовывает следующую руну.
— Ансуз. Бог. Видение.
Они смешно смотрятся рядом — мой папа с видом будущего студента Йеля и моя мама с видом чокнутой представительницы неизвестной субкультуры. Близнецы. Исида и Осирис.
— Между наукой и магией нет разницы, Райан, — тянет Мэнди. — Но есть война, хотя и вялотекущая, диффузная, без явно обозначенной линии фронта. Так что ты тупой.
— Йера, — говорит папа. — Руна процветания. Только представь, что мы могли бы сделать, если бы использовали научный подход к так называемой магии.
Дорисовав руну у Мэнди между лопатками, папа снова макает кисточку в кровь.
— Дагаз, — говорит он, касаясь кисточкой ее белой кожи. — День. Озарение.
Кровь это сила, знание. Могущество, которое меняет твою природу. Я снова не знаю, принадлежит воспоминание папе или Мэнди. Они неразделимы, неразличимы, как будто в конце концов являются одним целым.
Почти с облегчением я снова оказываюсь в своем доме, но на этаж ниже. Я вижу Итэна, который приходит после работы. Он моложе, лет на десять, и я вдруг понимаю, что, возможно, сейчас увижу. Дома никого, нет и настроение у Итэна отличное, как никогда, поэтому так заметно, как изменяется его взгляд, когда он видит длинный след крови, тянущийся из коридора на кухню.
Крови много, будто она хлестала не останавливаясь, и след как будто выведен краской. Я точно знаю, что Итэн увидит в комнате. Он увидит меня, увидит мою голову, отделенную от тела, и на это я смотреть не хочу. Итэн идет по следу, как собака-ищейка в мультике — низко склонив голову, будто бы не понимая, кровь это или сироп.
Кровь.
Кровь это страх, ужас, который охватывает тебя. Смерть.
Я думаю — что же они все видят обо мне? Что-то дурацкое вроде того, как мне разбили нос в тринадцать или мои потаенные, скрытые воспоминания о том, как это — когда тебе вскрывают горло и отрезают голову.
Но я ничего не вижу о себе. Я не вижу своих воспоминаний, потому что они покинули меня, слившись с этим бесконечным океаном, в котором я оказался.
Когда запах крови становится нестерпимым, я открываю глаза.
Кровь дымится на черепе свиньи, от нее поднимается пар, она испаряется, уходит, освобождает силу, скрытую внутри.
Химическая реакция — наука и лженаука, именуемая магией. Последняя мысль кажется мне чужой, будто бы не принадлежащей мне, и я понимаю — это папина мысль.
Связь между нами не отпускает меня, она растет. Просто я перестал ее ощущать, как перестаешь ощущать что-то, влившееся в тебя, ставшее твоей частью.
Итэн продолжает читать — интересно, он ни на секунду не замолкал? Как он вообще может сосредоточиться сейчас?
Луна в темном небе над нами не освещает ничего, кроме черепа. Ее слепой глаз падает на кости, высвечивает их белизну и яркость крови на них.
— Здесь лежит наша кровь и кость, — говорит Райан под аккомпанемент слов Итэна.
— Покажи нам его, — говорит Мэнди. — Прояви нам его.
— Здесь лежит предатель рода человеческого.
— Впустивший в себя тьму Каина и Иуды.
— Выпусти его, дай нам совладать с ним.
Ивви шепчет мне:
— А это всегда такая чушь?
— Ну, — говорю я. — Вообще-то неважно, что именно ты говоришь, а важно — чего именно ты хочешь. Голос просто манифестация, но слышат тебя не так.
— Тогда зачем так пафосно?
Я собираюсь было ответить, но мы с Ивви ловим папин взгляд, тот самый, что я получил после того, как украл робота у Данни Блума. Такой взгляд не предполагает разговоров.
Папа чуть щурится, а Мэнди жестом показывает, что следит за нами.
— Мы призываем Грэйди Миллигана, — говорит папа.
— Покажи нам его, — добавляет Мэнди.
Я замечаю, что Ивви трясет. Для первого раза — слишком сильные обряды. Вообще-то в неписанных правилах безопасности для медиумов говорится о том, что новички не должны принимать участия в сильных обрядах — от этого они могут даже заболеть — тело еще не приучено впускать в себя столько тьмы.
Но Ивви не девчушка-медиум, в первый раз оказавшаяся на кладбище после заката. В ней наша кровь, а значит она способна принять куда больше темноты мира мертвых, потому что эта тьма уже содержится в ней, в ее крови.
Папа и Мэнди расцепляют руки, и я вижу, как от кончиков пальцев у них струится темнота, льется, чтобы свиться вокруг окровавленного свиного черепа. Я вдруг чувствую себя вовсе не в нынешнем году, а за тысячи лет до этого.
Чувствую себя дикой тварью, едва узнавшей слово и в немом восторге пляшущей у костра. Чувствую силы, протекающие в земле, в воздухе, в небе. Чувствую силы, связывающие меня с теми, кто одной со мной крови. Мир вдруг становится будто бы совсем другим: незнакомым, опасным, полностью заколдованным и освещаемым только пламенем костра. Я оказываюсь в бурном потоке, который люди разучились чувствовать на берегу Инда, Нила и Евфрата. Давным давно, когда были созданы первые города и люди забыли, что это такое — быть совершенным одним в едином ритуале с теми, кому принадлежит одна с тобой кровь.
Непрерывный поток крови.
Я стою на могильнике, и сила, которую я могу взять в любой момент поднимается и опускается под землей, будто кто-то дышит, тяжело и глухо.
Темнота проникает в глазницы свиного черепа. Тотем — это мертвый предок. Все очень просто.
А потом я вижу, как череп свиньи раскрывает пасть. Кровь повисает на остром носу каплями, свисает нитями между клыков. Я слышу то, что когда-то было голосом Грэйди Миллигана.
Череп свиньи говорит, хотя у него нет языка, как у Грэйди больше нет голоса.
— Серьезно, ребята? Вы решили просить у меня изгнать меня?
— Не лишено остроумия, правда? — улыбается папа.
— Кроме того, нам не у кого больше просить — ты наше божество, — добавляет Мэнди.
Грэйди смеется, он говорит:
— Кто сказал, что я выполню то, чего вы хотите?
— А ты не можешь не выполнить, — пожимает плечами папа. С окровавленным свиным черепом он разговаривает предельно серьезно, как на переговорах с партнерами в Нью-Йорке, наверное. — Дух предка не может отказать в услуге, если мы зовем его с помощью нашей крови для спасения представителя нашей семьи.
Забавно, что это папа так про Доминика говорит, думается мне.
— Этот закон помог тебе выбраться, но первое, что тебе стоит выучить, оказавшись в современном мире: любой закон — штука обоюдоострая.
Глазницы свиньи темны и неподвижны, но я чувствую взгляд, который исходит у них изнутри. А потом я вдруг слышу свиной визг — нестерпимо громкий, и череп вспыхивает, разрешаясь высоким костром. Он горит ярко и горячо. Я вижу, как пламя костра освещает лицо Ивви, ее удивленные глаза. Зрачки у Ивви тут же сужаются в точку от резкого света, и она выглядит как человек, который вот-вот свихнется. Я покрепче сжимаю ее руку, хотя это и довольно болезненный процесс для моей израненной ладони.
Теперь все становится правильным — последний штрих нанесен, и картина закончена. Мы стоим у огня, в круге света, и я знаю, что самое страшное, что может случиться — случится, если огонь погаснет.
Я знаю — каким-то удивительным, шестым чувством, что сейчас рук разнимать нельзя и говорить нельзя. Мы там, где любой обряд бессловесен, а суть его в том, чтобы не дать божеству себя обмануть.
Я слышу, как по-животному болезненно воет Мильтон и вижу, что Морин и Мэнди удерживают его.
— Он здесь! Он здесь! Как болит голова, Господи! Сделай так, чтобы это прекратилось!
Грэйди Миллиган здесь — внутри нашего круга. Он божество, которое вынуждено нас оберегать. Но Грэйди Миллиган и снаружи — чокнувшийся мертвый каннибал и медиум, закопавший себя заживо, чтобы стать сильнее.
Я чувствую его присутствие внутри и снаружи, но знаю, что оборачиваться нельзя. Я слышу его шаги, слышу, дыхание Доминика, потому что самому Грэйди дышать не надо. Я знаю, что он позади, но не могу увидеть. Он прохаживается мимо меня, останавливается. Я чувствую дыхание Доминика на своей шее.
Папа смотрит на меня, и я знаю, что он имеет в виду. Не оборачивайся, Фрэнки, не оборачивайся, не смотри.
И я закрываю глаза.
Грэйди останавливается за моей спиной, я чувствую тепло, исходящее от тела Доминика и холод, исходящий от Грэйди.
— Здравствуй, Франциск, — говорит он. — Как твои дела, мой мальчик?
Голос принадлежит Доминику, но интонация — Грэйди.
Я чувствую, что говорить можно только с ним, но на него нельзя смотреть.
— Все хорошо, дедушка, спасибо, — отвечаю я вежливо, вспоминая, ощущения от его пальцев на горле. Грэйди наклоняется ко мне ближе, и я ощущаю его длинные, нечеловеческие зубы там, где бьется у меня на шее жилка. Я слышу перестук паучьих лапок, жужжание мух у него внутри.
Мне нестерпимо хочется увидеть его, но я знаю, что этого нельзя. Зубы у Грэйди острые, как иглы. Он говорит:
— Я знаю, чего ты хочешь, Франциск.
Я смотрю на огонь, который тоже — Грэйди. Чистая сила, готовая нам повиноваться, ждущая приказа.
— Ты хочешь жить. Как и все воскресшие, больше всего ты жаждешь жизни. Подумай только — каждый день до конца мира ты будешь просыпаться и знать, что ты продолжаешь жить. Чувствуешь, как вкусен воздух? Чувствуешь, как хороша ночь? Как ярок огонь? Мы похожи, Фрэнки. Мы оба любим жизнь.
Нет, думаю я. Тот, кто по-настоящему любит жизнь не станет делать с собой то, что сделал Грэйди.
И все-таки, все-таки — воздух сладок.
— Мне нужно согласие каждого, желание каждого — в противном случае у вас ничего не получится. Одно твое слово, Франциск, и я дам тебе целый мир. Ты же помнишь, как страшно умирать. Ты хочешь еще раз испытать это?
Удушье последней секунды, тоска и одиночество. Я вспоминаю их так ярко, что сладость воздуха становится нестерпимой.
— Я могу дать тебе вечную жизнь, Франциск. Мы с тобой можем гарантировать друг другу вечность, ты и я. У меня будет живой потомок, а у тебя — божество, оберегающее тебя от смерти. Всегда.
Зубы больше не касаются моей кожи, но я почти чувствую их на себе.
— Одно твое слово, Фрэнки, и тебя ждут миллионы лет на этой земле. Смотреть, как разбиваются и растут империи, чувствовать вкус, видеть солнце. За это можно многое отдать.
Он не совсем прав. За это можно отдать не многое, а почти все.
Грэйди касается пальцем моей шеи, и я чувствую его коготь там, где безустанно бьется жилка. Но вместо того, чтобы ощутить холод умирания и боль, которую причиняет нож, я чувствую все, что так люблю.
Запах книжек, которые только открываешь, запах лилий, запах свежей краски, запах бензина и запах дождя, вкус мороженого, мяса с кровью, картошки фри, холодного чая и каджунского аллигатора в томатном соусе, звук голоса Джона Оливера, шум машин, двигающихся по шоссе, мерный и помогающий заснуть, гул мотора моего собственного авто, пение птиц и шум прибоя, ощущение бумаги под пальцами, снега в волосах, гладкости стола в моем любимом кафе, вид Океана, огромного, как небо, вид неба осенью, низкого и мягкого, как вата, вид дождя из окна, вид горящего огня.
Все вещи, которые я так люблю — простые и такие нужные.
Вечно смотреть, как встает и ложится солнце, видеть, как меняется небо в течении года. А сколько еще есть всего, что я не узнал, не увидел, не ощутил. Целый мир, который меня ждет.
За это действительно можно отдать не многое, за это действительно можно отдать почти все.
И все-таки я знаю, чего Грэйди не дал мне ощутить. Он не дал мне ощутить химически-горький запах лекарств, исходящий от папы, и вкус кофе, который готовит Итэн, и звук голоса Мильтона, когда он рассказывает о войне, и ощущение от волос Мэнди, когда ее расчесываешь, и вид Ивви с ее синяками под глазами и сигаретой в зубах.
— Нет, — говорю я.
— Ты знаешь, от чего ты отказываешься?
— И знаю, ради чего я отказываюсь.
Глаз я не открываю, мне иррационально страшно. Но под веками вспыхивают карминово-красным сосуды, и я знаю — огонь разгорелся ярче.
Грэйди делает шаг к Ивви. Я слышу, что он шепчет ей. Я чувствую ее дрожь, чувствую ее короткие ногти, впившиеся мне в кожу.
Грэйди шепчет ей о том человеке, которого она убила. О том, что может воскресить его, поднять из могилы, как поднял меня. Это не сложно, если знать, как.
Я открываю один глаз, чтобы посмотреть на Ивви. Она стоит прямая, будто палку проглотила. Я вижу, как ей хочется сказать «да», и снять с себя крест убийцы, который она несет. Но она говорит:
— Нет.
Она готова расплакаться от того, что теряет. Но Ивви отказывается. Не потому, что не верит, а потому что выбирает.
Я глажу косточку на ее запястье большим пальцем, и она улыбается уголком губ. Грэйди не видно в темноте, будто он часть этой темноты. Я знаю, он еще в теле Доминика, и в то же время он не совсем Доминик. Я мог бы увидеть его, если бы обернулся, но этого делать нельзя. Костер разгорается еще ярче, и я чувствую движение Грэйди во тьме.
Морриган дергается, и я знаю, она почувствовала его присутствие. Ей хочется взять крест, но она не может разнять рук. Морриган молится. Я слышу:
— Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!
И может быть, Бог, что выше и сильнее Грэйди, защищает ее, а может Грэйди понимает, что от нее ничего не добиться, но он двигается дальше, я чувствую это.
С каждым отказом огонь горит ярче, набирает силу. Но я знаю, стоит кому-то согласиться — и он погаснет.
Что Грэйди шепчет Итэну, я не слышу. Итэн уже ничего не читает — колдовство вуду закончилось, язык культуры, которую мы использовали — закончился. Осталась первобытная обнаженность сил, с которыми мы имеем дело.
Итэн улыбается самодовольно, качает головой. Огонь снова озаряет темноту, разливая золотые искры мне под ноги.
А вот в глазах у отца я вижу сомнение — сомнение настоящее, а не как у остальных. Я вижу как Мэнди впивается ногтями ему в руку, почти до крови. И папа говорит:
— Нет, конечно, нет. Но спасибо за предложение.
И все-таки Грэйди предложил отцу что-то такое, от чего ему было сложно отказаться.
Мэнди постукивает ногой в ожидании, но замирает на половине движения, когда Грэйди оказывается рядом. Сила и ощущение от этой силы достаточно велики, чтобы даже она почувствовала себя маленькой и незначительной. Мэнди отказывается, не раздумывая. Просто мотает головой, даже не говорит ничего.
Когда Грэйди оказывается рядом с Мильтоном, глаза у Мильтона вдруг становятся осмысленными — в их кошачьей зелени появляется какое-то движение.
А потом Мильтон посылает Грэйди так изобретательно и далеко, что у меня краснеют кончики ушей, а душа моя содрогается от осознания возможности попадания Грэйди в такие места и наличия их на земле в принципе.
Что Грэйди предлагает Морин, я слышу неплохо. Он предлагает ей очищение. Он говорит, что заберет тьму, которая охватывает ее. Очистит ее, отпустит ее, лишит ее собственного наследия.
Морин не колеблется, ее старушечье личико, не лишенное еще остатков былой красоты, приобретает очень жесткий вид, который бабушкам в целом не свойственен.
— Лишь Господь может очистить нас. Ты — не можешь.
Огонь поднимается вверх все выше, вспыхивает, едва не опалив нас, но — не опаляет.
И хотя жар его нестерпим, шаг назад я сделать не решаюсь.
— Оставь, — говорит отец. — Тело Доминика. Оставь Мильтона, как своего пророка. Освободи их.
Огонь извивается, рев его становится таким громким, что я почти не слышу папиных слов. А потом Мильтон падает, и Мэнди не удерживает его. Он лежит у волны пламени, но пламя его не трогает.
Я слышу, как позади меня тоже кто-то падает. И знаю, что обернуться, наконец, можно.
— Помоги оттащить его на свет, — говорю я Морин. И та с неестественной для ее возраста быстротой мне помогает. Прежде чем я успеваю устыдиться, что попросил помощи у старушки, я вижу Доминика. Из носа у него течет кровь, он без сознания, как и Мильтон.
Я вижу — если Мильтон повредился в уме от присутствия Грэйди, то Доминику было плохо физически. Он выглядит невероятно бледным и больным, истощенным.
Огонь озаряет его лицо с заострившимися чертами. Я устраиваю Доминика с другой стороны от Мильтона. Из-за золотого света, падающего на его бледную кожу кажется, будто Доминик мертв и церемония — погребальная. Но он дышит — я вижу как мерно опускается и поднимается его грудь.
Они с Мильтоном в центре, в кругу огня, рядом с огнем. Инстинктивно я понимаю, что это самое безопасное место, поэтому я перетащил туда Доминика.
— Все? — спрашивает Ивви дрожащим голосом.
— Ты даже не представляешь, насколько еще не все, — говорит Грэйди не из чьего тела.
Огонь гаснет, в один момент, будто его залили водой. Он опадает и исчезает, не оставив ни искорки. Мы остаемся в полной темноте, которую не освещает луна.
Бутылка валяется ровно между Домиником и Мильтоном, огонь ее не раскалил и, кажется, даже не разогрел. Крест на ней, который выглядел просто царапиной на стекле, вдруг наполняется жизнью, светится, будто бы демонстрируя силу, которая там спрятана.
— Не отходить и не разрывать круг, — говорит Райан. — Мы не закончили.
И именно в этот момент я чувствую движение слишком быстрое, чтобы его увидеть. Кто-то двигается по кругу, но теперь не ходит по земле, а будто бы перемещается совсем по-другому, цепляясь за деревья. Я вспоминаю Грэйди в его истинном, похожем на мультяшный, виде. Мысль о том, как он прыгает по деревьям, будто злодей в Диснеевском мультике, даже заставляет меня улыбнуться.
А потом что-то огромное, темное, неприкрыто-сильное, буквально: чистая сила, спрыгивает вниз, врезается в круг, не сумев проникнуть в него. Что-то невидимое не впускает его в круг, что-то твердое, как стеклянный купол. Ивви дергается, и даже Морин задерживает дыхание.
— Сейчас бутылку можно разбить. Может, ее взять? — предлагаю я.
— Нет. Она защищает круг, — говорит папа.
— Я думал, это ты.
— Спасибо, конечно. Очень приятно, что ты считаешь, я могу сдерживать божество. Хорошие новости: без тела он уязвим, его легко поймать.
— А плохие? — спрашиваю я.
— Плохие все еще в том, что чтобы его поймать, нужно взять бутылку. А если взять бутылку, защита спадет.
— То есть, мы в патовой ситуации? — спрашивает Морриган. — Потому что вы идиоты?
В этот момент Грэйди, слишком быстрый, чтобы его можно было заметить, снова предпринимает попытку оказаться внутри круга, на этот раз со стороны Морриган. И Морриган вдруг взвизгивает, как девчонка.
А потом будто бы черт дергает меня посмотреть вверх, и я вижу Грэйди. Он висит на дереве вниз головой прямо надо мной. Бинты спадают с него, обнажая дыру там, где должно быть сердце. Дыру в месте, куда воткнула нож Зоуи. Из нее медленно выползают мухи и пауки, спускаются вниз, как линии крови.
Грэйди скалит острые, невероятные зубы, но его глаза без зрачков пусты. Он чуть склоняет голову набок, и один из его длинных рогов, целый, почти касается моей щеки. Но не касается. У меня есть сантиметр, но это сантиметр абсолютной безопасности.
Морин некоторое время смотрит на бутылку с сияющим силой крестом. А потом она говорит:
— Мне кажется, происходящее в какой-то степени наш профиль. Правда, Морриган?
— А что вы собираетесь делать? — спрашивает Ивви осторожно.
Но Морриган и Морин уже читают что-то на латыни. Ивви шепчет:
— Они хотят призвать еще одного демона — на нашу сторону?
— Было бы довольно забавно, — говорю я.
Но как только Грэйди предпринимает еще одну попытку проникнуть в центр, к бутылке, я вижу, что именно делают Морин и Морриган. Они своей верой усиливают ту часть магии, которая отгоняет зло. Теперь граница поля, которое нас защищает проходит не рядом с нами, не за сантиметр от моей кожи, а дальше. Грэйди, не ожидавший этого, смешно взвизгивает и отскакивает, забравшись на дерево.
— Нам нужно его отогнать, — говорит папа. — Чем больше расстояние, на котором они смогут держать защиту, тем больше секунд у нас будет, чтобы добраться до бутылки.
— Говоришь, как алкоголик, причем довольно несчастный, — фыркает Мэнди. — Короче, если истерички справятся, мы выйдем из патовой ситуации и поймаем дедулю в бутылку.
— Говоришь, как внучка алкоголика.
— Райан!
Грэйди шипит, он вытягивает длинную, когтистую лапу, стараясь почувствовать, где начинается защита. Когти его наталкиваются невидимую силу, оставляют искры, двигаясь и, мне кажется, я даже слышу скрежет.
Мне вдруг думается, что Грэйди выглядит мультяшным, смешным и милым демоном только если оценивать его с точки зрения демона. Если оценивать Грэйди с точки зрения того, что он существо, бывшее когда-то, хотя бы когда-то, человеком — то, во что он превратился кажется страшным уродством.
Грэйди оскаливает зубы, ниточки темноты, как слюна, тянутся между его бесконечных клыков.
— Суки, — говорит он. — Грязные католические сучки.
Морин и Морриган читают так синхронно, будто латинский текст был, есть и будет единственным, в чем они стремились достичь совершенства всю жизнь. Голоса их разносятся все выше, и я понимаю, в чем сила их веры, как же я хорошо это понимаю.
Они абсолютно, невероятно, непоколебимо убеждены в том, что Бог их защитит. Как там в Библии говорится про то, что истинно верующий может передвинуть горы?
Они, я уверен, в этот момент могли. В них нет ничего темного, будто они враз очистились от крови, которая их наполняет. Морин и Морриган сейчас просто приемники, ретрансляторы чего-то невероятно сильного, не связанного с нами, непознаваемого.
Бог больше божества, и Бог побеждает.
Грэйди шипит, неправильными, жуткими движениями двигаясь вверх по дереву, не способный противостоять боли, которую вызывает у него прикосновение к растущей силе вокруг нас.
— А что монашки так умеют? — спрашивает Ивви.
— Не думаю, что все.
А потом Морин и Морриган одновременно заканчивают. Они говорят «Аминь», и будто бы одно это слово вызывает резонанс. Грэйди буквально отбрасывает с дерева. Сила расширяется, как динамическая модель Вселенной, которую я силился представить на физике. Грэйди исчезает, вынужденный ретироваться, хотя бы временно, раствориться в ночи, которая одна способна его защитить.
— Готово, — говорит Морин.
— Не за что, — говорит Морриган.
Их ирландский акцент после невероятного латинского звучит почти комично.
— Отлично, дамы, — говорит папа деловито. — Остались сущие мелочи.
И именно тогда меня вдруг накрывает приступом кашля настолько сильным, что я падаю на колени, задыхаясь. Я чувствую присутствие Грэйди, но это вовсе не похоже на одержимость. Грэйди не захватывает мой разум и не пользуется моим телом, ведь я не старший мужчина в семье и не давал согласия. Я кашляю и понимаю, что сплевываю темноту. Не кровь, а именно тьму — клубящуюся, горькую.
В этот же момент я понимаю, что Грэйди совершенно не для развлечения держал меня за горло там, на дороге. Он оставил в моем теле достаточно темноты, чтобы попасть внутрь круга через меня.
Я слышу не-голос Грэйди, но не понимаю, откуда он раздается.
Возможно, у меня изнутри.
— Никому не двигаться, потому что в противном случае — он умрет. Раз уж так исторически сложилось, что я проник в мир с помощью него один раз, то ничто не мешает мне сделать это снова.
Я не могу вдохнуть. Гниль и тьма у меня внутри выползают наружу, и мне кажется, будто я сейчас выплюну, вместе с ними, какой-то из своих внутренних органов, а может даже все сразу. Я вдруг оказываюсь мгновенно лишен иллюзий по поводу собственной жизни. Я труп в который вернули душу с помощью магии. Труп, чью связь с душой поддерживает только темнота в моей крови. Я падаю на колени, и боль в легких становится нестерпимой. Если Грэйди заберет свою темноту — я умру, потому что нет больше ничего, что удерживало бы мою душу.
Мне не становится себя жалко или что-нибудь в этом роде. Становится немного грустно и еще — обидно, что Грэйди с помощью меня разрушил наш план.
За темнотой я не вижу толком ничего: ни родителей, ни Морриган и Морин, ни Ивви. Не слышу их голосов — настолько темнота непроницаема. Так непроницаема смерть, которая отделяет тебя от всего мира. Зато отлично вижу Доминика, ведь он лежит совсем рядом со мной, стоящим на коленях. Я вижу его темную кровь — из носа, в уголках губ. Веснушки на его побледневшей коже настолько темные, что похожи на пятнышки засохшей крови.
Надо же, вот я умру, и Грэйди победит, и последнее что я вижу — веснушки Доминика. Как тогда, когда он стрелял в меня.
А потом Доминик открывает глаза, и первым делом я думаю — вот теперь точно все. Теперь я вижу его синие глаза, с черными, настоящими зрачками не порченными алой кровью Грэйди. Какие красивые глаза. Как в тот вечер, точно как в тот вечер.
И сейчас я умру.
Доминик говорит:
— Привет, Франческо.
И я хочу было ответить: Привет, Доминго. Но не могу, слишком задыхаюсь от покидающей меня темноты, клубящейся вокруг, готовящейся стать Грэйди.
Доминик быстрым, неуловимо-привычным движением вскидывает руку, и я вижу, что у него в руке нож. Не удивительно для Доминика.
Отлично, что он меня убьет. Наверное, из милосердия, чтобы я не мучился. А может, чтобы Грэйди не успел сквозь меня пройти.
Но Доминик вгоняет нож мне в плечо: туда же, куда стрелял, и проворачивает его. Боль вполне выносимая, хотя и сильная, но главное — вполне земная. Это вовсе не боль умирания. Когда Доминик вынимает нож, кровь, черная кровь, вместе с темнотой, в которой Грэйди, хлещет на землю. Он — везде: в моей крови, в моих легких.
Я вижу, что Мильтон вполне пришел в себя тоже. Только его и Доминика я вижу за темнотой. Мильтон хватает бутылку, крест на которой продолжает светиться, и Мильтон вскрикивает, потому что бутылка обжигает ему руку, как мне в магазине.
А потом он приставляет бутылку к ране на моем плече, и кровь хлещет уже туда. Я хотел бы сказать что-то вроде «вы с ума сошли?», но на это меня тоже не хватает.
Вдруг в легких у меня пустеет и воздух проникает в них, холодный и режущий. Наверное, примерно такие ощущение вызывает трахеотомия. Я вижу, как темнота, вместо того, чтобы шириться и расти, редеет. И понимаю, что ее затягивает внутрь бутылки в руке у Мильтона.
— Долго я должен держать волшебный пылесос? — спрашивает он.
— Пока не уберешься так, чтобы ни пылинки не осталось, братик, — я слышу папин голос.
Постепенно темнота рассеивается, и луна, открывшаяся мне, кажется солнцем. Она снова светит, и я понимаю, что все закончилось. Наша семья стоит вокруг нас с Мильтоном и Домиником, и вид у всех, даже у Морриган, самый взволнованный.
Когда последнее облачко темноты оказывается в бутылке, Мильтон закупоривает ее, встряхивает, как будто смешивая коктейль.
— Готово, — говорит он.
Но как он узнал, что нужно сделать? Как Доминик узнал? Каким образом я вообще жив, если Грэйди заперт в бутылке, и во мне его частицы не осталось? Как много нужно узнать.
Я говорю, наконец:
— Привет, Доминго.
И втягиваю носом холодный и вкусный, как фруктовый лед, ночной воздух.
Есть такое удивительное чувство: ты сделал все важное и нужное, а теперь можешь возвращаться домой.
Никогда до этого момента я не испытывал его с таким первобытным восторгом. Может быть, дело в том, что кровь все еще льется из моей раны на плече, и кровопотеря делает сознание легким, а может быть я правда так счастлив оттого, что все закончилось.
До наших машин мы бредем в полном молчании. Морриган ведет Доминика за руку, и мне думается, что это вершина материнской нежности, которую она может себе позволить. Меня поддерживают папа и мама, а Мильтона Ивви и Итэн.
Только Морин вышагивает впереди в гордом одиночестве и осознании, видимо, собственной значимости как самостоятельной личности.
Наверное, надо будет заехать в больницу. Наверное, надо будет расспросить папу обо всем, что случилось, потому что папа все знает.
— Ты держишься, слюнявчик? — спрашивает мама. И я вдруг ловлю себя на том, что опять и опять мысленно называю Мэнди мамой.
— За исключением того, что довольно обижен, потому что ты обзываешься?
— Да, милый, за этим исключением, ведь никого не волнуют твои чувства, — улыбается папа. И я слышу, как он беззастенчиво лжет.
Ноги я переставляю со значительным трудом, но есть одна мысль, которая придает мне сил.
Мы возвращаемся домой и, если врачи в больнице будут достаточно расторопны, сшивая края моего боевого ранения, я смогу успеть на повтор «Событий прошедшей недели с Джоном Оливером» в шесть утра.
Глава 13
Зоуи ждет меня в мире мертвых, темном и бесприютном. Сегодня здесь Дублин, лишенный всяких огней. Я иду по мостовой, какой ее помнит Зоуи и смотрю на дома, какими их помнит Зоуи. Дублин — яркий, цветной город, но здесь нет цветов.
Впрочем, я уверен, Зоуи любит свой дом и таким.
Она качается на качелях в одном из дворов. Это ведь город Зоуи, здесь все, что она когда-либо помнила в том порядке, в котором она хочет. Я слышу далекий шум моря.
Качели цепочные и поскрипывают жалобно, нежно, будто о чем-то своем поют.
Я сжимаю в руке бутылку с Грэйди Миллиганом. Мне стоило некоторых усилий перетащить ее в мир мертвых, но мы постановили, что так будет безопаснее.
Зоуи говорит:
— Здравствуй, Франциск.
Она резко останавливается, тормозит, упершись ногами в землю, подняв песок вокруг туфелек. Ее рассеченная щека обнажает белые зубы, как жемчужины в алом бархате.
— Все еще кровоточит? — спрашиваю я.
— И всегда будет. Я ведь братоубийца.
— А вот, кстати, и твой брат, — говорю я, протягивая ей бутылку. Она берет ее в руки, рассматривает, прикладывает к уху, как раковину, чтобы услышать море.
— Спасибо, Франциск. Я буду ее беречь.
Глаза у нее вдруг становятся совсем грустными, и она отворачивается. Теперь я вижу только прекрасную сторону ее лица.
— Ты молодец, вы все молодцы.
— Он не вернется? — спрашиваю я.
— Чтобы он вернулся, нужно найти бутылку, провести обряд и разбить ее. Без обряда с ней сделать ничего нельзя. Словом, все довольно надежно, если я правильно понимаю.
— Почему ты выбрала именно меня? Почему ты говорила со мной, Зоуи?
Она молчит, некоторое время рассматривая что-то далекое, чего не видно мне.
— Ты меньше остальных похож на него внутри. В тебе меньше всего Грэйди. Это забавно, потому что в тебе больше всего его крови.
— И именно эта кровь в бутылке, — говорю я. — Потому что в ней был Грэйди. Какая ирония.
— Частица его темноты, соединившись с которой, он пытался попасть в круг. Часть притягивает целое.
Я смотрю на качели, продолжающие качаться без Зоуи.
— Но как об этом догадались Мильтон и Доминик?
— Мильтон слышал все мысли Грэйди, но кроме того и мысли всех убитых им. Думаю, он проделал неплохую умственную работу, чтобы вычленить нужное. Мои комплименты.
— А Доминик?
— Не знаю, Франциск. Спроси у него сам.
Мы оба молчим. Зоуи поворачивается ко мне, но ее длинный шрам вовсе не вызывает у меня страха и отвращения. Я улыбаюсь ей, и она улыбается мне, как самая красивая девочка может улыбаться самому счастливому мальчику.
— Забавно, до чего ты похож на Грэйди внешне.
— У меня неликвидные рога и глаза цвета мультяшного дьявола?
— Нет, но однажды Грэйди был человеком.
Она вдруг подается ко мне, и мне кажется, будто сейчас она меня поцелует. Но Зоуи только хлопает меня по плечу, говорит.
— Если что — заходи. Мы ведь семья.
Утром я просыпаюсь довольно поздно и с удивлением осознаю, что плечо не ноет. Наверное, начинает привыкать к неудачам с ним приключающимся. А может быть, обезболивающее еще действует.
Первым делом я захожу в комнату Мильтона. Он валяется на кровати в окружении пустых пачек из-под сигарет, шоколадок и орешков. Мильтон еще с ночи играет человека как минимум дважды смертельно больного.
— Твоя мать надела мне тарелку с хлопьями на голову полчаса назад, — говорит он.
— Спорим, ты был невыносим?
— Возможно.
Мильтон собирает автомат, части его валяются среди цветастых оберток, разорванных упаковок и прочего мусора.
— Вот ты свинья.
— Вот ты слюнявчик.
Я сажусь на край кровати и улыбаюсь ему.
— Как ты себя чувствуешь?
— Ха! Хреново! Но банка «Доктора Пеппера», возможно, могла бы это исправить.
— Почему ты сам не можешь взять?
— Потому что мне хреново. И еще потому что на кухне твой отец и Морин ведут переговоры.
— Переговоры? — переспрашиваю я. — А Доминик там есть?
Мильтон делает круглые глаза и высовывает кончик языка.
— А вот сходи мне за газировкой и узнаешь.
— Как думаешь, дядя, что мне сказать Доминику? Он пытался меня убить, потом он меня спас, ну и вообще-то я очень странно к нему отношусь. Но он же мой троюродный брат. Что мне с ним делать? Он ведь мне не чужой человек.
Мильтон морщит нос, потом тянет:
— Вариантов два. Первый, его не рекомендую. Разберись во всем, вы же оба взрослые. Познакомься с ним поближе, постарайся найти контакт и тогда брат сможет привнести в твою жизнь что-то новое, светлое и радостное.
— Вообще-то здоровская мысль.
— Но я все-таки советую второй вариант. Всади ему пулю в затылок и покончи с этим.
— Что?!
— Я могу назвать парочку примеров из моей жизни, когда я пытался все разрулить, найти взаимопонимание. Быстрее и проще просто грохнуть человека, поверь мне.
Мильтон наставляет собранный автомат на меня, улыбается своей зубастой улыбкой.
— Знаешь, почему ты плохой психотерапевт?
— Потому что у меня нет банки «Доктора Пеппера».
— Ладно, сейчас я принесу.
На кухне папа и мама сидят с одной стороны стола, а Морриган и Морин с противоположной. Доминик стоит рядом с Морриган, в руках он вертит вилку. Вышел бы замечательный кадр из остросюжетного триллера, если бы не плита и холодильник на заднем плане.
Папа говорит:
— А теперь уезжай, Морин. Уезжай далеко-далеко и не возвращайся никогда-никогда, — папа показывает зубы в улыбке, и они на секунду кажутся мне острее, чем должны быть. Я вспоминаю Грэйди и все, что сказала Зоуи.
Потом папа замечает меня, взгляд у него меняется. Он поправляет очки, спрашивает:
— Мильтон и тебя старается поработить?
— Да. Я за газировкой.
Пройдя мимо стола, я ощущаю напряжение, как перед грозой, и поэтому на обратном пути тяну Доминика за рукав, увожу. Во-первых, мне хочется с ним поговорить. А во-вторых, нечего чокнутому киллеру делать на таких напряженных переговорах.
Мы выходим в сад. Я сажусь на крыльцо, и Доминик садится рядом. В руке он все еще сжимает вилку. Мы молчим.
— Ты уезжаешь? — спрашиваю я, наконец.
— Ну, — говорит Доминик. — Вроде как. Мама сказала, что пока что нам нет смысла драться.
— Потому что мы вместе спасали тебя и Мильтона?
— Нет, потому что нам нужны ваши секреты перед тем как вас уничтожить.
— Какой ты честный.
Доминик протягивает мне открытую ладонь.
— Дай «Доктора Пеппера».
Я вручаю ему банку, и Доминик пробивает крышку вилкой, поднимает банку высоко и подставляет язык трем крохотным струйкам газировки.
— Зачем ты пьешь так?
— Веселее.
Некоторое время Доминик увлечен газировкой, а я зацветшими яблонями.
— Как ты додумался воткнуть в меня нож?
— Тоже веселее.
Я фыркаю, а Доминик продолжает:
— Если в тебе скверна, выпусти ее. Я видел, что в тебе скверна, и я ее выпустил. Все.
— Спасибо.
— Тебе спасибо. Вкусная газировка.
— Я про то, что спас мне жизнь.
Доминик вдруг улыбается, и улыбка делает его лицо совсем детским, открытым.
— Как насчет того, чтобы созвониться? — предлагаю я.
— Можно. Ты хочешь со мной дружить?
— Еще не знаю.
Наверное, «дружить» просто не то слово для убийцы. Но у Доминика не было выбора.
— Ты спас мне жизнь.
— Я случайно.
Тогда я поднимаюсь, решив, что вряд ли Доминик очень настроен на задушевные разговоры. Но он вдруг хватает меня за руку, говорит:
— Братик.
— Брат, — говорю я.
— Посиди со мной.
И я снова сажусь рядом. Доминик не шевелится, как будто боится меня спугнуть, и я не шевелюсь, как будто боюсь спугнуть его. Мы оба молчим, но смотрим в одну сторону, на кусок неба, отгороженный яблоневыми кронами.
Сидим мы так долго, наверное, полчаса, а может и больше. Нам пока не о чем говорить, но я думаю, что это ненадолго.
Наконец, Доминик встает и молча уходит в дом, забрав свою газировку. Я смотрю на солнце и небо, улыбаюсь им оттого, что их вижу. Доминик не попрощался и попрощался одновременно.
Ко мне выходит папа. Он стоит, и я смотрю на него снизу вверх.
— Привет, милый, — говорит он. — Попрощался с братом?
— Да. Они уезжают?
— Именно. Я выдал им пару военных тайн, пусть пользуются ими.
— Например?
— Например, как медиум может воскресить мертвого и победить смерть. Хотя бы в отдельно взятом случае. Так что, по крайней мере пока, они не торопятся вырезать нас. Это хорошо, потому что я и без того еще должен отчитаться за магическую резню, которую Доминик устроил в моей Корпорации.
Папа снова поправляет очки, и я машинально делаю то же самое.
— Думаешь, они не вернутся?
— Вернутся. Но для начала пусть попробуют поставить на поток воскрешение мертвых.
— У них не получится? — спрашиваю я, и папа стучит указательным пальцем мне по макушке.
— Если бы у них могло получиться, я ничего бы им не сказал. Нет, Франциск, у них не получится.
— Но почему? У них ведь не божество вроде Грэйди, у них настоящий Бог.
— Знаешь, милый, почему ты не погиб, когда мы заточили Грэйди? Знаешь, почему ты вернулся таким, каким ушел от нас? Без изменений, не зомби и не зверем.
— Почему, папа?
— Любовь. То, что удерживает твои душу и тело вместе, это не магия Грэйди. Магия Грэйди их соединила. Но то, что удерживает душу, это любовь. Иисус может воскресить всех мертвых, ведь он любит их всех. Иисус не знал Лазаря, но он его любил.
Я облизываю губы, задумавшись над тем, что говорит папа.
— Но человек не в силах полюбить всех.
— Какой ты сегодня патетичный.
— Вот, например, я не в силах полюбить тебя, — фыркает папа.
— А хвастаешься, что умеешь врать.
— Не отбирай у человека последние иллюзии. Возможно, лишь они поддерживают его самооценку.
— Если твоя самооценка стоит на таком хрупком фундаменте, она подлежит сносу. А знаешь, что я могу, папа?
— Издеваться над старшими?
— Я могу сказать: я люблю тебя.
— Я могу сказать: О, Боже, как неожиданно, Франциск, ведь я ответственен за твое появление на этой земле.
Но в этот момент я как никогда ясно чувствую, что отец меня любит.
Он стоит, положив руку мне на голову, а я улыбаюсь, чувствуя, как солнце греет мне нос. Небо ясное и потрясающее, и я так люблю его, будто впервые увидел. И если однажды я добьюсь радио или телевещания, то обязательно придумаю себе ту самую фразу. С большой вероятностью, это будет что-то вроде: однажды мы все оживем для вечной жизни. Или, может быть: в мире больше хорошего, чем плохого, родные и близкие. Солнце смотрит на меня своим лимонным глазом, видевшим все дни до меня и увидящим все дни после. А я смотрю на него. И, честное слово, ничего лучше и быть не может.





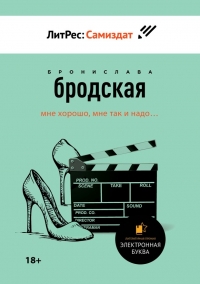



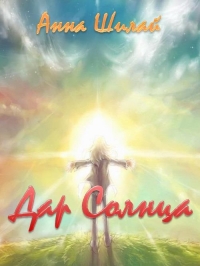
Комментарии к книге «Маленькие Смерти», Дария Андреевна Беляева
Всего 0 комментариев