Отвратительное чувство! Тяжёлые веки, словно два слепленных вареника. Мышцы глаз вяло подёргиваются. Они похожи на свернувшихся червей, потерявших надежду выбраться наружу из высохшего яблока.
В его больном воображении вдруг появились мясистые, ехидно посмеивающиеся губы. Покуривая трубку и время от времени шевеля щёткой усов, губы плюются короткими словами с грузинским акцентом…
«От количества принимаемых лекарств и не такое привидится», – подумал он.
В надежде прогнать остатки кошмарного сна, взмахнул левой рукой, но тут же упёрся пальцами во что-то твёрдое, висящее низко над головой и на ощупь напоминающее стекло. От неожиданности его выцветшие брови поползли на лоб и потянули за собой кожу век. На приоткрытые щёлки глаз жадно набросился тусклый луч света, случайно застрявший в темноте и, вероятно, тоскующий по общению.
Он опустил глаза и увидел колышек собственной бородки на фоне чёрных отворотов пиджака. Его левая рука, оторвавшись от неопознанной тверди, шлёпнулась на гладкую ткань костюма и, переставляя сухие пальцы с жёлтыми ногтями, ползком добралась до кисти правой руки, сердито сжатой в кулак и безжизненно лежащей на животе. Густая тишина опустилась вязкой массой, монотонно загудела в голове и щекочущий, извивающийся шустрыми змейками страх, стал расползаться по его оцепеневшему телу.
«Что за чертовщина, неужели я умер?» – подумал он.
Мысль липкая, тошнотворная поднялась по пищеводу, разбухла, застряла в горле и, заграждая доступ воздуху, вызвала рвотный рефлекс.
С трудом превозмогая слабость, он кое-как продохнул. Пытаясь осознать происходящее с ним, вспомнил, как лежал в кровати, как пил противный куриный бульон, как заходил лечащий врач, как надоело болеть. Он тогда ещё подумал, вот окрепнет, неплохо будет снова отправиться на охоту. Неважно, что в инвалидном кресле, главное, обстановку сменить, природой полюбоваться.
А теперь, присмотревшись к тому немногому, что попало в его ограниченное поле зрения, он ужаснулся: «Да это же склеп. Господи! Похоже, я действительно по дороге на тот свет. Или уже там?… Лежу в прозрачном ящике. Угораздило же меня!.. – он страдальчески зажмурился. – Нет, глупости! „Cogito, ergo sum“ [1] . Но тело… Чужое… Застывшее… Да, со мной, бесспорно, что-то не так».
Вдруг послышались шаги. Щелчок. Зажёгся свет. Он вздрогнул. Через редкую решётку ресниц всё видно, хоть и нечётко.
Суетящиеся блики за стеклом приняли очертания фигуры в белом.
«А вот и ангел», – подумал он.
Ангел очкастый и лысый махнул крыльями над крышкой склепа, чихнул, неприлично ругнулся, крылом утёр нос.
Стекло прошипело – ш-ш-шип, – сдвинулось в сторону. Вместо ангельского оперения, он увидел рукава белого медицинского халата и выпуклые бычьи глаза за толстыми линзами.
Страшная догадка хрипло ахнула, протекла под брюки, согревая холодное тело тёплой влагой.
«Патологоанатом, – подумал он, – аутопсия! Какой кошмар!..»
Лысый свистнул, заулыбался:
– Здравствуй, ВИЛ, наполоскался в луже? Давай знакомиться. Меня зовут Торпеда.
«Не вскрывайте меня, батенька, прошу вас! Смотрите, я – жив»!
– Его губы беззвучно шевелились.
Торпеда ухмыльнулся:
– Не бзди, кент, скоро чурёк шамать будешь [2] .
Непонятная фраза растворилась в раскатах музыкальных звуков. Он прислушался… «Знакомая мелодия… Напоминает Аппассионату… Правда, аранжировка странная и фортепиано звучит необычно».
Музыка прекратилась.
«Какая эфемерная реальность, – подумал, – а может быть, мне всё это снится? Вот и лупоглазый патологоанатом зачем-то приложил к уху продолговатую коробку и разговаривает сам с собой».
Уставшие веки сомкнулись, а его чудом обострившийся слух принялся вылавливать отдельные слова из потока непонятной речи.
– Готово, Хозяин! Чего? Штейну башню клинит? Рано, говорит? А Зюга что? Кипятится? Пусть кончают гнилые базары. Хоть ВИЛ бацильный, но макитра варит. А тебе, начальник, не резон роги мочить. Догоняешь? [3] Ну, всё, пора сматываться! Алё! Алё! Сдохла мобила. Японский городовой!
Лысый сунул коробку в карман, сплюнул, схватил неподвижное тело за ноги и, вытянув его из саркофага, переложил на тележку. Покатил по коридору.
2. Изоляция«Где я?» – он тяжело вздохнул и, кряхтя, приподнялся на локтях. Прямо над ним в металлической раме высветился квадрат. Замелькал. Появилось лицо широкоскулого незнакомца с вишнёвой бородавкой на лбу. Заговорило:
– Приветствую вас, Владимир Ильич! Добро пожаловать в «Разлив». Туалет и душевая за дверью. Завтрак на столе. Приятного аппетита. Будем на связи, – лицо исчезло, квадрат погас.
Он поморщился: «Что за чушь?.. Померещилось», – успокоил себя. Подтянулся, чтобы сесть. Получилось, на удивление, легко. Осторожно спустил с кровати хилые ноги. Огляделся. Незнакомое помещение. Без окон, но светлое, хоть источник света не обнаружил. Дверь. Стеклянная полка с дюжиной разноцветных пижам. Широкая кровать, атласное постельное бельё. Напротив – огромные часы в форме солнца с острыми железными лучами. Обеденный стол с четырьмя стульями. На столе стоит прозрачный сосуд с водой, соединённый длинным шнуром с розеткой в стене. На прикроватной тумбочке стакан. В нём плавает зелёный мешочек с хвостиком наружу, наверное, чай. Рядом на тарелке печенье и ломтики лимона. Возле сахарницы бумажная салфетка, сложенная треугольником с двумя чёрными буквами «СС» на половине красного флага.
Пальцы дрожат, но печенье ухватили. Надкусил, запил глотком чая. Вкус незнакомый, особенный. Промокнул губы обратной стороной салфетки с буквами «СР». Посидел, блаженствуя, несколько минут с закрытыми глазами и снова улёгся на кровать.
Его ноги, погружённые до колен в пушистые гольфы, отдыхали, лёжа на взбитых подушках. Мягкая розовая пижама обволакивала тело. А запах! Ммм!.. Запах в комнате напомнил детство, мамино трюмо, изящный флакон с рисунком кокетливой дамочки и размашистой надписью «Лила Флёри» на её пышном бюсте. Он улыбнулся воспоминаниям.
«Да! Вопросов миллион, – подумал, – а этот прилив сил? Так хорошо я себя чувствовал лет десять назад. Ай да немцы, ай да молодцы, всё-таки поставили на ноги припадочного. Никак высеялась заразная гадость – отсюда карантин. Изоляция организована в лучшем виде. И почерк организатора узнаваем. Ясное дело – Феликс Эдмундович. Узнаваем, батенька, как устав партии узнаваем. А какая ясность мысли. Наденьке спасибо. Выходила. А грузин, наглец, усомнился в преданности моей жены! Его необходимо остерегаться»…
Он спустил с кровати ноги, с опаской всунул их в глазастые и усатые тапки, склонился, погрозил тапкам пальцем и шепотом сказал:
– Эй, Коба, параноик! Следишь? Четырьмя глазами? Выискиваешь компромат? – пошевелил ногами. Глаза виновато заёрзали.
Встал. Выпрямился. Бодро прошлёпал к единственной двери. А внутри!.. Зеркальная стена, в полном наборе туалетика, рулон тонкой бумаги… Увидел себя в зеркале. Отпрянул:
«Ну и страшён же ты, батенька, в гроб краше кладут».
Заложил руку за мнимую жилетку, подумал: «типично еврейский жест. Наследие предков. Недаром я по матери – Бланк».
Взглянул на морды тапок, прищурился. Смочил туалетную бумагу, разделил на четыре части.
«Ну, любезнейший, получай по заслугам!» – уселся на крышку унитаза, наклонился и, напевая третью часть сонаты номер два Фридриха Шопена, известную, как похоронный марш, приклеил кусочки влажной бумаги к пластмассовым дрожащим глазам.
3. В Разливе«Хороша Орловщина! А воздух, каков? И синьку для неба природа не пожалела! Пруд получился глубокий, вода чистая. Ожил родимый. Лучше высохшего будет, долговечнее», – так думал хозяин новенького чёрного джипа, въезжая в бесшумно раскрывающиеся резные ворота. Машина остановилась возле заснеженного брезентового шалаша.
Широколицый мужчина, лет пятидесяти, в твидовом пиджаке, на лацкане которого болтался ярлык с именем А. У. Тарнадин, пригнувшись, шагнул под брезент. Его прилизанные тёмные волосы разделял прямой пробор, заканчивающийся бордовой овальной родинкой точно посередине лба. Родинка напоминала индийскую бинди и придавала его азиатскому облику экзотическую загадочность.
Внутри шалаша находилась мастерская, пахло клеем и красками. Лысый очкарик в рабочей спецовке насаживал на деревянный кол вывеску из синтетического материала, напоминающего пробку. А на ней выжжено:
...Пруд «РАЗЛИВ»
под охраной КПРФ
– Привет, Торпеда! Зюга был?
– ЗдорОво, Хозяин! Держи ксиву. [4] При мне сварганил.
А.У.Тарнадин развернул скрученный в трубочку тетрадный лист, сморщился, мотнул головой.
Лысый развёл руками:
– Надел крыло – живи по понятиям. Кентовка решает, когда фраера в Шизо упечь, а когда ему фанеру ломать. А ты, будь спок! ВИЛ в ажуре. [5]
– Хорош, Торпеда! Будет тебе бухтеть! Я тут харчи привёз. Доставь на кухню и будь на стрёме, а я к себе поднимусь, прикорну минут сто двадцать и – в дорогу. Бывай!
На территории бывшей усадьбы Тургеневых, каменный забор обхватил куб воздуха над участком в один гектар земли, с недавних пор ставший личной собственностью помощника генсека КПРФ – товарища А. У.Тарнадина. В ста метрах от забора поблескивал гранитной облицовкой трёхэтажный добротный дом с пятикомнатным подвалом, начинённым новейшей электронной техникой и домашней утварью. В одной из комнат подвала обосновался профессор Анатолий Львович Штейн, в соседней, большей по размеру, – охранник по прозвищу Торпеда. В конце коридора находилась огромная кухня, оснащённая лучшим кухонным оборудованием, включая, самые дорогие в мире электротовары фирмы – Miele.
Комната Торпеды часто пустовала, хоть и была задумана, как пункт наблюдения. Три монитора, пульт с кнопками на длинном, узком столе. Под потолком – голова оленя. На его ветвистых рогах висело несколько пар носков. В углу дивана ютились скрученные постельные принадлежности, и завершал интерьер плакат, на котором под кепкой хмурился защитник угнетённых масс и показывал оленю огромный кулак с дулей. Смежная с плакатом стена раздвигалась, соединяя комнату Торпеды с потайным помещением, в котором проходил постсмертную реабилитацию вождь мирового пролетариата В. И. Ленин.
4. Феерия реальностиПрофессор Штейн получил бессрочный отпуск за свой счёт в московском НИИ, и на неопределённый срок переехал в Разлив. Он навещал Ильича ежедневно. Впрыскивал ему внутривенно витаминизированный состав для укрепления организма, созданный на основе лекарственных трав и с успехом испробованный на мышке Муське.
Моторно-двигательные функции ожившего организма полностью восстановились буквально за сутки. Речь возвращалась постепенно, подгоняемая мощным интеллектом.
Во время длительной болезни Владимир Ильич повидал немало врачей в белых халатах со шприцами в руках, поэтому обратился к профессору Штейну по-немецки, считая его ещё одним, выписанным из Германии светилом медицины.
– Скажите, любезнейший, вы из группы профессора Борхерта, Клемперера? Как к вам прикажете обращаться?
– Я рад слышать ваш голос, Владимир Ильич. Меня зовут Анатолий Львович, – ответил Штейн, наклеивая прозрачный пластырь на взбухшую от укола вену, – я ваш соотечественник, и, если вы не возражаете, мы сможем продолжить разговор по-русски.
– Очень приятно, Анатолий Львович! Знаете, батенька, я, по правде сказать, не привык так долго находиться в изоляции. Я бодр и чувствую себя прекрасно. Обнадёжьте, голубчик, скажите, что карантин подходит к концу. Кстати, какое сегодня число? Без газет я потерял счёт дням. Причина, по которой меня не навещают товарищи, понятна – инфекция и тому подобное, но газеты ведь инфицировать невозможно?! – Ильич улыбнулся собственной остроте и шёпотом добавил:
– А вы не боитесь заразиться?
«Ну, вот и наступил щекотливый момент, – подумал профессор Штейн, – даже раньше ожидаемого»…
Линия поведения Анатолия Львовича в данной ситуации была тщательно продумана и утверждена на последней встрече с Завьяловым Юрием Геннадьевичем – генсеком коммунистической партии России. Сошлись на эффективности шоковой терапии. Для этой цели из архива был выписан целый ящик со старыми газетами, который дожидался своего звёздного часа в комнате Торпеды.
– Владимир Ильич! Я отлучусь на секунду, – Штейн скрылся за отодвинувшейся стеной и тут же вернулся с двумя газетами. Положил их на тумбочку.
– Приятного чтения! Всего доброго! До завтра!
5. ПаникаНа следующий день Анатолий Львович просматривал запись аппаратуры слежения. То, что показали экраны, вызвало у него сердцебиение и душевную боль. На углу кровати, опустив голову и обняв щуплые колени, прикрытые жёлтыми штанами, сидел светоч коммунизма. Он истерически хохотал. Перед ним на полу валялась газета «Правда» за 24 января 1924 года. Под жирным заголовком « некролог », в траурной рамке было написано следующее:
«Умер Ленин. Мы уже никогда не увидим этого громадного лба, этой чудесной головы… Милый! Незабываемый! Великий! Единственный и неповторимый, гениальный выразитель миллионов, диктатор в лучшем смысле этого слова, горячо любимый своим окружением… Н. Бухарин».
Хохот продолжался не менее двух минут, после чего Ильич немного успокоился, выпил остаток остывшего чая, взял следующую газету и, развернув её на первой странице, прочёл вслух:
«1 января 1926 года И. В. Сталин Пленумом ЦК ВКП(б) был утверждён на пост Генерального секретаря ЦК ВКП(б)».
Потрясённый прочитанным, он пытался трясущейся рукой смахнуть со лба жуткую информацию, но она уже просверлила череп, угрожая вклиниться в хрупкое левое полушарие, ещё не полностью отошедшего от беспамятства мозга.
– 1926 год! Что за чушь! Владимир Ульянов, ты сходишь с ума! – произнёс он, стуча кулаком по лбу и нервно комкая газетный лист. Стараясь понять цель фальсификации, он читал всё подряд. Читал вслух. Стонал. Подносил измятую бумагу вплотную к глазам. Слюнявил палец, пытаясь стереть типографскую краску с пожелтевшей от старости бумаги. Хватался руками за голову, метался по комнате от стены к стене, десятки раз огибая зловещий прямоугольник кровати с разбросанными на ней дьявольскими газетами. И, вконец обессиленный, съехал по двери ванной комнаты на пол, прополз метр, протащив за собой разворот с некрологом, прицепившийся к усатому тапку, одиноко болтающемуся на левой ноге. Голова упала на грудь. Измученный тщетным желанием понять происходящее, В. И. Ленин заснул неспокойным, мучительным сном, забившись в угол комнаты и вздрагивая всем телом от собственного, жалобного повизгивания.
Когда профессор Штейн постучал в комнату Ленина, ответа не последовало. Отодвинув стенку, он вошёл, держа в руках очередную партию газет. Владимир Ильич обедал. По цвету накрахмаленной салфетки, заправленной за ворот сиреневой пижамы, можно было определить ассортимент съеденной закуски. Как подтверждение – тарелка с рыбьим хребтом, огрызком хлеба и винегретным пятном уже покоилась на нижней полке сервировочной тележки, в которой Торпеда привозил Ильичу пищу собственного приготовления.
Пищевые пристрастия Володи Ульянова сформировались ещё в детстве, поэтому перетёртый кабачковый суп со сметаной, рагу из молочной телятины в чесночном соусе, воздушное картофельное пюре, взбитое с маслом и сливками, квашеная капуста с луком, а на десерт – компот из сухофруктов вызвали приятные воспоминания и перенесли его в Симбирск. Вот он, восьмилетний мальчик, в новом, недавно купленном доме. К воскресному ужину собрались десять человек: мать с отцом, шестеро детей, педагог-репетитор Василий Андреевич Калашников и, няня, Варвара Григорьевна Сарбатова. Запах печёной утки с яблоками перебивал остальные гастрономические ароматы и витал над эмалированной гусятницей, над пиалами с домашними солениями и над блюдами с разноцветными салатами, украшающими стол, сервированный старинной фарфоровой посудой.
«Да, – подумал Ильич, – что бы там ни говорили Маркс и Энгельс, если моему отцу, простому учителю хватало жалования, чтобы прокормить такую семью, то в царской России всё же было что-то хорошее…»
Спохватившись, он прикрыл жирные губы ладонью, чтобы, не дай Бог, крамольная мысль не вылетела наружу. У этих стен, наверняка, есть уши.
– Ну, вот, я так и знал, наши советские учёные уже научились читать мысли, – пробормотал он сквозь зубы, увидев на пороге Анатолия Львовича Штейна.
– Простите, Владимир Ильич, за вторжение. Здесь двойная стена и, видимо, не слышно стука. Я зайду позже.
– Ну, что вы, голубчик, присоединяйтесь к трапезе. Или я, по состоянию здоровья, обязан есть в одиночестве? А не хотите ли вы, дорогой профессор, вместе со мной почитать фантастическую литературу, которой Вы, батенька, снабжаете меня уже второй день?
– Спасибо, товарищ Ленин, за оказанную честь. Я уже отобедал, – корректно ответил Анатолий Львович, абстрагируясь, однако, от язвительного замечания о литературе, – но вечером, после укола, мы с вами непременно выпьем по стакану чая с фирменным кексом семьи Штейн по рецепту моей прабабушки. Обещаю, будет вкусно. А, впрочем, кто знает, может быть, этот божественный вкус вам давно знаком.
Штейн пошёл к выходу, оставив на краю кровати нейлоновый пакет с газетами.
– Кстати, – он повернул голову в пол оборота, – сегодня вечером вы получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы. Спокойной ночи.
6. Рассуждения«Так, вот, Владимир Ульянов! Напряги мозги и начинай соображать, для чего на самом деле членам ЦК понадобилось тебя изолировать!? Чтобы снабжать специально отпечатанными газетами ещё не наступившего будущего, в надежде на скорое помешательство? А не проще было бы отравить тебя больного, беззащитного, сославшись на летальный исход последнего приступа?»
Об этом думал Ильич, пережёвывая разбухший в компоте чернослив. И, шурша газетой в предвкушении ещё одного феерического сюжета, усаживался на стульчак туалета.
7. Свято место пусто не бываетСлухи об исчезновении тела Ленина гнали журналистов-газетчиков на Красную площадь. Иностранных туристов, желающих попасть в мавзолей, с каждым днём становилось всё больше, несмотря на свидетельства уже побывавших там. Усопший лежал на месте.
Эшелоны власти всё кружили по Кольцевой, а пешеходы отбивали чечётку «путём-путём» на хрупких камушках российских мостовых. Первый машинист имел при себе журавлиные крылья, чтобы, если понадобится, взлететь на недосягаемую для млекопитающих высоту. Причин собралось хоть отбавляй, а сейчас, как назло, исчезновение издавна почитаемых мощей и замена их восковой фигурой некстати пошатнули рутинные планы государственной думы, взбудоражив, пригревшиеся там, внутренние распри.
8. ШтейныПрофессор Анатолий Львович Штейн заведовал лабораторией в одном из НИИ Москвы. В свои шестьдесят два года он был ещё полон сил, и своей необычайной работоспособностью удивлял руководство, которое закрывало глаза на его пенсионный возраст. Сотрудники лаборатории после работы расходились по домам, а он допоздна оставался в компании пискливых мышей. Наблюдая за поведением грызунов, он что-то записывал. Прищуриваясь, всматривался в содержимое плоских стеклянных банок. Осторожно подносил их к яркому свету точечной галогеновой лампочки, которая повисла на длинном шнуре и сияла над его рабочим столом, напоминая хрустального паука на нитке паутины. Взбалтывая кровянистую субстанцию, профессор пожимал плечами, чему-то удивлялся, а потом радостно кивал головой, абсолютно соглашаясь с возникшей мыслью. В мутноватой жидкости развивалось драгоценное детище – мышечная ткань, выращенная из стволовых клеток донора.
Два ряда многоярусных клеток с мышами занимали половину лаборатории, создавая подобие длинного коридора, в конце которого находился секретный отсек – небольшое тёмное помещение, типа чулана.
На металлической двери чулана висел большой замок, стороживший сотни пронумерованных вакуумных пакетов со срезами мозга великих людей прошедшего столетия. Пакеты хранились в навесных аптечных стеллажах с выдвижными ящиками, разделёнными на ячейки. На одной из ячеек было написано: «В.И.Л.666».
Любимая работа спасала Анатолия Львовича от тоски по жене, которая тридцать лет тому назад отправилась в лучший мир, оставив его с двухлетним сыном Веней. В душе вдовца поселилась тайная мечта о воскрешении незабвенной Эвелины. Анатолий Львович был оптимистом, жил ради Мечты и сына, отмахиваясь от мыслей, грозящих наполнить душу претензиями к судьбе.
Веня слыл вундеркиндом, учился блестяще, увлечённо. Самостоятельно постигая премудрости компьютера, добрался до немалых высот, с которых на золотой медали удачно приземлился в МГУ. Учёба давалась ему легко, а капитанство в КВН, знание нескольких языков и игра на самодельном саксофоне из бамбука, купленном по случаю на блошином рынке, пополняли ряды воздыхающих поклонниц. Готовясь к аспирантуре, молодой человек искал прилично оплачиваемую работу. Зашёл на сайт московского горкома КПРФ. А там объявление: коммунистам требуется компьютерщик. Послал резюме. Пригласили. Поехал на собеседование – без розовых надежд – будь, что будет.
В кабинете начальника отдела кадров, к его немалому удивлению, восседал сам генсек, Завьялов Юрий Геннадьевич, перелистывал бумаги. На вошедшего – ноль внимания. Зевнул в ладонь, сжал зевок в кулаке, так и сидел, не выпуская, будто удерживал в этом кулаке часть своей духовной сущности. Рекомендательное письмо разворачивал нехотя. За пять минут раз десять на часы посмотрел. Наконец выдавил:
– В течение двух дней с вами свяжется секретарь.
Молодой человек протянул ему два номера телефона: свой и отца, на всякий случай. Тут Зюга (так Завьялова в кулуарах называют) возьми да спроси:
– А чем отец-то занимается?
Ну, Веня и рассказал ему в двух словах. Генсек в момент оживился, с кресла привстал резко, чуть не боднул монитор. Заинтересовался, глаза горят, детали выспрашивает. Полчаса продержал. Вдруг, как хлопнет кулаком по столу и говорит:
– Поздравляю, Вениамин Анатольевич! Вы приняты на работу. Завтра, в 8.00. будьте добры явиться в кабинет моего помощника Александра Устиновича Тарнадина. Там находится центральный компьютер партии, – руку пожал, обнял, по плечу похлопал, чуть ли не расцеловал. А Веня от неожиданности забыл закрыть рот, откуда, повертевшись на языке, вылетел деликатный вопрос:
– Простите, Юрий Геннадьевич, а на какую зарплату рассчитывать?
Тот хмыкнул и говорит:
– Окажетесь ценным работником для партии, – в обиде не оставлю. Слово коммуниста!
9. Муська и Моня«Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь», – бубнил себе под нос Анатолий Львович Штейн, запирая входную дверь лаборатории за ушедшей уборщицей и снимая замок с кладовки (так профессор называл секретный отсек). Потешно шевеля пальцами, натянул резиновые перчатки, зацепил за уши плотную марлевую повязку, спихнувшую очки на лоб, достал из холодильной камеры шприц с кровянистой эмульсией и, выпустив каплю из иглы, шагнул в темноту загадочной комнаты. Включил свет. В коробке с ватой неподвижно лежала любимица Анатолия Львовича, белая мышь по имени Муська. Ей, бездыханной, он сделал очередной укол в миниатюрную пульку.
Мышиная оспа, поразив за сутки практически все внутренние органы несчастного зверька, протекала бессимптомно. Поэтому обогревание, от которого гибнет вирус оспы, не помогло, и белоснежная Муська тихо скончалась, оплакиваемая самцом Моней. Моня сам ещё не оправился от двух операций по пересадке мочевого пузыря. Его красные глаза слезились от душевной боли (или так казалось Штейну), вызванной невыносимой мыслью, что третью, последнюю операцию, ему придётся перенести без сочувствия покинувшей его подруги.
Две недели и день застывшее тельце Муськи с удалёнными внутренностями находилось в изоляторе и не подавало признаков жизни. И только сегодня розовый цвет оживающей кожицы стал вытеснять желто-зеленые трупные пятна с лапок и брюшка. Анатолий Львович заметил эти изменения ещё утром. Не мог поверить собственным глазам. Подгоняемый подскочившим адреналином, он ждал шести вечера, когда разойдутся сотрудники лаборатории, а вслед за ними уборщица тётя Даша, чтобы снова взглянуть на Муську и сделать ей очередной укол.
О таком сногсшибательном результате профессор даже не мечтал. Случались, конечно, успешные опыты. Например, выращенная ткань мочевого пузыря, спасшая жизнь Моне. Вот он, красавчик, лапки скрестил, нюхает воздух.
Профессор остановился у клетки, стоящей особняком от других.
– Эй, приятель! Что, грустишь? Знаю, по Муське скучаешь.
Просунул палец между решётками, погладил шрам на розовом животе:
– Понимаю тебя, дружище, ой как понимаю. Не убегаешь, смотришь на меня с мольбой, как на икону. Не о себе, о любимой просишь. Только я не Бог. Ты Ему молись, Его задабривай! Он решает, быть мне, Анатолию Львовичу Штейну, творцом твоего мышиного счастья или сатаной, который выбросит дохлую Муську в мусорник, а затем, не пощадив и твою невинную душу, изрежет уже дважды исполосованное, настрадавшееся тело и, на этот раз, навсегда. Прости, дружок, если Создатель выберет второе.
Из открытой кладовки послышался еле слышный звук.
И откуда берётся почти юношеская энергия? Штейн буквально влетел в мышиный изолятор.
– «Барух ата Адонай, элоэйну мелех аулям!» [6] – дважды успел повторить заученную с детства молитву, прежде чем тоненький писк, вновь раздавшийся из коробки, заставил его оторвать от лица дрожащие ладони.
Муська требовала пищу.10. Опасения генсекаДискуссия о возможном перезахоронении В. И. Ленина, продолжающаяся в России на протяжении последних десятилетий, воспринималась Завьяловым Юрием Геннадьевичем, как личное оскорбление. Он возмущался, призывал тех, кто «за», прекратить дёргаться и оставить в покое беззащитное тело. Интуитивно чувствовал, что оно, это безжизненное тело, которому покланялась половина Земли, ещё не завершило своей исторической миссии. Будучи материалистом по определению, он зачастую втайне от партии, от родных и даже от себя самого, покидая прозаическую повседневность, пускался в философский вояж – летал в облаках. Ещё в юношестве увлёкся ведической литературой Махабхарата. Интересовался наукой. Особенно достижениями отечественной генетики, о которых узнавал из одноимённого журнала, с 1965 года подписки.
Юрий Геннадьевич Завьялов – коренастый мужчина средних лет, всю жизнь боролся с лишним весом и с мировым империализмом. Кроме того, он был крайне суеверным. При виде кошки, незаметно скрещивал пальцы, даже если она была белой и пушистой или вовсе красовалась на рекламе кошачьего питания. Ещё в бытность студентом, досконально изучив историю партии, он навсегда усвоил устав жизни: «Бережёного Бог бережёт!». Комнатные тапочки Юрий Геннадьевич не оставлял брошенными крест-накрест, ориентировался на рекомендации астролога, стучал костяшкой пальца по дереву, плевал через левое плечо, панически боялся конца света и слепо верил предсказаниям Ванги. Знаменитая фраза провидицы «Когда мёртвое тело вынесут, начнётся третья мировая война», с момента прочтения ассоциировалась в его сознании с апокалипсическими картинами: опустевшим мавзолеем, мумией Ленина, превращающейся в прах под могильной плитой Ваганьковского кладбища между памятником Япончика с одной стороны и надгробием никому не известного Давида Давидовича Нассо с другой. Всё это плюс заросший сорняками гранитный Ильич с отбитым носом и протянутой к радиоактивному небу рукой не раз являлись вспотевшему от страха председателю ЦК КПРФ в тревожных и, даст Бог, не пророческих снах. Чувствуя, что в борьбе за статус-кво существующего положения вещей, он имеет серьёзный шанс потерпеть поражение, Юрий Геннадьевич стал подумывать о, казалось бы, невероятном. Его убеждения, развившиеся под влиянием материалистической философии и обильно сдобренные мистической приправой, ни в коей мере не противоречили принятию легитимации научных опытов по клонированию человека, несмотря на то, что противников этого метода с каждым днём становилось всё больше. Стагнацию мёртвой ткани учёные пока не обсуждали вообще, тем не менее, оживление В. И. Ленина представлялась Завьялову естественным результатом восьмидесяти трёх летнего ожидания и единственным выходом в создавшейся пред Армагеддоновской ситуации.
Поэтому звон в правом ухе, начавшийся с утра и усилившийся по дороге на работу, сообщение о преждевременно начавшихся родовых схватках у жены начальника отдела кадров А. Б. Морусько, плюс необъяснимое решение лично сменить отбывшего в роддом супруга на остаток рабочего дня, и, как апогей цепочки событий, появление Вени Штейна – Юрий Геннадьевич расценил, как знак свыше.
11. Эвелина ШтейнНаверное, так чувствует себя археолог, – думал Веня, раскапывая могилы старой, вроде бы, на века погребённой информации. Однако, на бескрайнем информационном поле то тут, то там появлялись пустые ямы. Новое место нахождения их исчезнувшего содержимого выслеживалось дотошным программистом, а найденные данные переносилось на жёсткие диски и хранились, закодированные, в специальных файлах.
Веня отпросился с работы на два часа раньше. Сегодня грустная дата – тридцать лет со дня смерти мамы. И погода, как всегда в этот день, дождливая. Решил, что возьмёт такси. Позвонил отцу. Договорился заехать за ним в институт, а оттуда – на Новодевичье кладбище.
«Вот же как! – подумал, – кто-то решил, что чёртово колесо жизни обязано брать разгон для вращения непременно снизу, возле земли, подбирая людскую боль для того, чтобы развеять её высоко в небе. А сколько раз в году это колесо делает полный круг? О, то-то и оно! Чем старше человек, тем чаще обороты – накопившееся горе подгоняет».
Маму, Эвелину Аркадьевну Штейн Веня, как ни странно, помнил. Она была пианисткой. И руки её помнил. И себя помнил – двухлетним, соглашавшимся сидеть на горшке только в гостиной возле массивной рояльной ноги, усеянной просверлёнными шашелью дырочками, в которые папа делал уколы страшным железным шприцом. А мама играла на рояле, играла бесконечные гаммы и только после гамм – красивые мелодии. Одну, самую красивую маленький Веня научился узнавать.
В наушниках звучало несравненное «Адажио» Альбинони. Прикрыв голову полиэтиленовым пакетом, на перекрёстке Малого и Большого Сухаревских переулков, Веня Штейн ловил такси, то и дело, пытаясь увернуться от хлюпающей каши грязи, вылетающей из-под колёс шумного транспорта.
– Нормальные люди заказывают такси заранее, господин-балда, – прошипел, стиснув зубы, – осенью пользуются зонтом и… кстати… не забыть бы купить цветы, – он оттянул рукав, – часы показывали пять.
Кто-то постучал по спине. Оглянулся.
– Юрий Геннадьевич?
– Залезайте под зонт! Я слышал, вам на Новодевичье? У меня тут машина припаркована, идёмте, подвезу.
– Ой, спасибо! Но мне бы сначала заехать за отцом.
– Говорите куда!
– Институт Вавилова на Губкина 3, знаете?
С внутренней обивки новенького Мерседеса ещё не была сдёрнута прозрачная защитная плёнка, и Венины замызганные брюки не угрожали испачкать осенней грязью аристократическую, нежно-абрикосовую кожу ортопедических кресел.
– Да, не плохая тачка, – подумал, усаживаясь на заднее сидение. Опоясался. Машина беззвучно завелась и поплыла по мокрой улице.
Анатолий Львович Штейн пытался спастись от внезапно разгулявшегося ветра и колючих щёток дождя под вывернутым наизнанку зонтом. Зажав мобильный телефон между ухом и плечом, он двумя руками удерживал развевающийся чёрный парус, пытаясь перебежать улицу.
– Серебреный Мерседес? Где-где? За Москвичём? А, вот, вижу! Сейчас буду.
Наконец, он пробился к автомобилю, передняя дверь которого учтиво распахнулась. Замешкался. Голые спицы зонта вцепились в мохеровый шарф. Отбивался от них, как боксёр от противника, утрамбовывая прыгающими шажками грязные разводы тротуарного ринга.
Веня выскочил из машины.
– Папа! Остановись на секунду! Да постой же! Нужно снять с тебя шарф! Вытащить из него спицы зонта – не реально… Ну, вот и всё, слава Богу! Садись сюда, на переднее сидение.
Засунув под мышку, спаренные намертво и уже бесполезные, сломанный зонт и продырявленный шарф, Веня помог изрядно промокшему отцу усесться в машину.
– Юрий Геннадьевич! Знакомьтесь! Мой папа – Анатолий Львович Штейн.
– Очень приятно, Анатолий Львович!
– Здравствуйте, Юрий Геннадьевич! Я Вам премного благодарен. – Он промокнул носовым платком капли дождя с ладони и протянул её для рукопожатия.
По дороге на кладбище завязался разговор.
Завьялова интересовали последние генетические разработки. Спрашивал, удастся ли учёным оживить мамонта. Ну, этого, что недавно нашли во льдах. А человека? Как насчёт человека? И главное – никакого риска – мёртвые не умирают. И попытка – не пытка.
О новом препарате, оживившем мышку Муську, научное окружение профессора Штейна ещё не было информировано. А тут, случайно повстречавшись с человеком, просто интересующимся генетикой, Анатолий Львович не удержался и, как на духу, выложил ему, вконец обалдевшему, детали своего последнего открытия. Правда, уже через минуту профессор пожалел об этом и, ругая себя за эмоциональную несдержанность, принялся разглядывать показавшийся купол Новодевичьего монастыря.
Завьялов молча рулил, переваривая услышанное, и посматривал на профессора с благоговением, дополнительный раз, убеждаясь в правильности собственных предчувствий.
Возле кладбища он остановил машину:
– Вот мы и приехали. Профессор Штейн, позвольте мне сопроводить вас. Без зонта вы промокните до костей.
– Юрий Геннадьевич, я вам очень признателен.
Завьялов припарковался. У кладбищенских ворот усатый продавец торговал цветами. Веня купил букет белых хризантем и присоединился к отцу и боссу, которые шли к памятнику, спасаясь от припустившегося дождя под надёжным зонтом Юрия Геннадьевича.
Гранитную плиту с портретом улыбающейся женщины и гравированной надписью:
...Эвелина Штейн
1950–1977
ливень вымыл основательно и… прекратился.
Эвелина улыбалась сыну, мужу, грузному незнакомцу и цветам – морю лепестков, тесно прижавшихся друг к другу. Она была благодарна родным за память о ней, за ухоженный памятник, за любимые хризантемы, за терпение дорогого мужа, подробно рассказывающего ей на протяжении тридцати лет о взрослении сына, о его успехах, радостях и не прекращающейся тоске по матери.
Мерседес довёз Штейнов до подъезда их дома. Веня вышел из машины, размялся.
Профессор покачал головой и смущённо пожал плечами:
– Даже не знаю, как вас благодарить, Юрий Геннадьевич, – я ваш должник.
Завьялов довольно улыбнулся:
– А знаете, Анатолий Львович, мне бы очень хотелось побывать у вас в лаборатории и своими глазами увидеть чудо генетики – ожившую мышь.
– Добро пожаловать, – в любое для вас удобное время.
Веня всунул голову в кабину автомобиля и легонько потянул отца за локоть:
– Папа, выходи уже! Отпусти человека, скоро ночь, а ему ещё до центра баранку крутить, – и добавил – Юрий Геннадьевич, спасибо! Увидимся на работе. Спокойной ночи!
Завьялов не торопился уезжать. Прикусив губу, он наблюдал, как Веня, заботливо приподнял воротник на старомодном пальто отца, взял его за руку, и медленно обходя две сросшиеся прямо на переходе лужи, завёл его в подъезд, придерживая ногой тяжёлую дверь.
Шарф Штейна старшего, запутавшийся в спицах чёрного сломанного зонта, выглядел несчастным зверьком, угодившим в пасть огромной летучей мыши. Вся эта конструкция ещё долго пролежит в автомобиле марки «Мерседес Бенц», полноправным хозяином которого и поныне является Завьялов Юрий Геннадьевич – главный коммунист бывшей социалистической страны.
12. Заманчивое предложениеКогда утром следующего дня перед выходом на работу профессор Штейн копошился в прихожей, вспомнив в последний момент, что нужно сменить домашние тапки на ботинки, зазвенел мобильный телефон:
– Алло, Анатолий Львович? Говорит Завьялов. Приветствую вас! Если вчерашнее предложение ещё в силе, я бы хотел им воспользоваться. Это возможно?
– Конечно, Юрий Геннадьевич! Приезжайте к концу рабочего дня, скажем, часам к шести. К этому времени сотрудники уже разойдутся, и нам никто не помешает. Я вас жду.
Завьялов прибыл вовремя. Профессор Штейн провёл его через мышиный коридор к двум крайним клеткам. В одной из них резвилась Муська, в другой – отдыхал после третьей операции перебинтованный Моня.
Юрий Геннадьевич кивнул в сторону пухленькой самочки:
– Если допустить, что это проворное существо ещё недавно было безжизненной тушкой, то напрашивается вопрос – с какой целью провидению понадобилась наша с вами встреча? – он поднял над головой указательный палец и прошептал, – вы понимаете, к чему я клоню?
– Н-н-не совсем, – Штейн задумался, опустив углы губ.
– Ну, как же? – Завьялов доверительно обнял его за плечи и, переведя взгляд с клетки на пучок волос, седой щеткой, торчащий над ухом профессора, усмехнулся, – ваша мышь, дорогой Анатолий Львович, вполне может стать первой ласточкой на пути к столь желанному человечеством бессмертию. Вы, наверняка, мечтаете продолжить эксперимент. Я предлагаю вам не тратить драгоценные годы на воскрешение больных мышей, на кошек и собак, сбитых бессердечным транспортом, а в конце жизни, если останется время, на оживление почившего от старости крупного рогатого скота. Давайте, сразу перейдём к человеку. Вы говорили, что для создания вакцины необходим биологический материал. В этом я не вижу никакой проблемы. На нашем мертвеце с учётом усыхания – не менее полутора квадратных метров кожи. Кроме того мне известно, что в вашем институте хранятся образцы его мозга, – Завьялов пристально посмотрел на профессора Штейна, – теперь вы понимаете о ком идёт речь?
– Вы имеете в виду, – Анатолий Львович провёл рукой по воздуху, горизонтально полу…
– Да, дорогой профессор. Одно из двух. Или вы необычайно сообразительны, или мои мысли транслируют чёткое изображение. Я надеюсь, что на раздумья вам хватит одной недели? – Юрий Геннадьевич закрыл глаза и произнёс:
– Москва. Красная площадь. Мавзолей…
Когда Завьялов ушёл, Анатолий Львович взъерошил волосы и, тяжело вздохнув, плюхнулся на стул. Он, не отрываясь, смотрел на потёртые носки своих, когда-то коричневых, кожаных ботинок, купленных в ГУМе по случаю Вениного семнадцатилетия, окончания школы и церемонии вручения ему золотой медали.
«Буду носить до Вениной свадьбы, – подумал он, – только дожить бы до неё.
…А вот до предложения воскресить Ленина – уже дожил.
Ей, Богу, какие странные люди. Как будто это так просто – взять и воскресить! Ха! Что может быть элементарнее? Обычное дело. Можно подумать, что по улицам шныряют толпы бывших мертвецов.
Конечно, с одной стороны, здесь хотя бы есть за что ухватиться. В отличие от конвенционального разложившегося трупа, у этого имеется кожный покров – профессор подумал о покойной жене и, шмыгнув носом, вытер скатившуюся слезу, – но надеяться на желаемый результат, оживив месяц назад, всего одну мышь, – он пожал плечами и неуверенно покачал головой – глупо и безответственно. И, кроме того, стать современным доктором Франкенштейном – честь довольно сомнительная. Меня вполне устраивает вторая половина этой фамилии. Но, с другой стороны, я уже не молод и, отказавшись от осуществления мечты всей моей жизни, я должен понимать, что другого такого шанса больше не будет. А если допустить почти не вероятное – предположим, достигнута цель эксперимента и к подопытному с жизнью вернулось сознание… А не подло ли это по отношению к самому ожившему? Очутиться в незнакомой эпохе, когда воспоминания о прошлом проносятся в пробудившемся мозгу призрачными картинами – скорее наказание, чем подарок. Как поступить? Ответить отказом на предложение Завьялова, исходя из морально-этических соображений, значит продемонстрировать какую-то степень благородства и всё такое, но эго учёного… оставить его неудовлетворённым – жестоко в той же мере. Юрий Геннадьевич выделил мне неделю на муки. За это время, хочешь, не хочешь, придётся что-то решить».
После долгих размышлений и нескольких продолжительных бесед по телефону с Завьяловым, профессор Штейн, наконец, принял окончательное решение. Они договорились встретиться в консерваторской «Кофемании». Там за чашкой кофе Анатолий Львович подробно изложил Юрию Геннадьевичу план эксперимента по оживлению Ленина.
Завьялов вытащил мобильник, открыл в нём календарь и, постучав указательным пальцем по квадратику «1-ое декабря», заговорчески приблизился к Штейну.
– Анатолий Львович! В этот день мавзолей закрывается для посетителей на месяц по случаю замены водопроводной инсталляции. Я уже организовал вам свободный вход в помещение на срок ремонта. Если я правильно понял, вам предстоит ежедневно вводить инъекции в тело Ильича на протяжении трёх недель?! – Завьялов вопросительно выпучил глаза.
Штейн утвердительно кивнул.
– Тогда – лады, – Юрий Геннадьевич запанибратски похлопал профессора по плечу и встал со стула, заталкивая вылезающую рубашку в брюки, – будем на телефонной связи.
13. Начало эксперимента«Кашу маслом не испортишь». Об этом думал профессор Штейн поздно вечером, добавляя каплю тягучего вещества в революционную эссенцию, которая так невообразимо оживила мышку Муську.
Тончайший срез головного мозга, изъятый из спрессованного пакета с наклейкой «В.И.Л. 666» полтора месяца плавал в плоской банке с питательной средой. Результатом ожиданий явилась зеленоватая субстанция, по мнению Штейна в своём беспредельном потенциале способная перевернуть существующие представления о жизни и смерти и, как следствие, изменить направление человеческой эволюции.
Впервые Анатолий Львович увидел Ленина тридцать пять лет назад, за несколько дней до праздника 7-го ноября. Он помнил, как, заранее заказанный мини-автобус доставил полусонную и нескончаемо зевающую делегацию сотрудников НИИ на Красную площадь. В этот день в виде исключения мавзолей открыли не в десять утра, а на рассвете, чтобы дать возможность группе тульских коммунистов, приехавших в Москву на один день, увидеть высохшее тело Ильича и вдохнуть формалиновый запах советского бессмертия. Город ещё не проснулся, но к мавзолею уже тянулась серая очередь молчаливых, не выспавшихся людей. Кто-то ответственный за порядок, видимо парторг, нервно топтался в хвосте очереди, попеременно поглядывая то на часы, то в сторону отбившихся от коллектива ненадёжных элементов, самовольно рассматривающих Троицкую башню Кремля. Было темно, холодно и ветрено. Парторг старался удержать в руках вырывающийся транспарант, на котором большими чёрными буквами было написано: «РАБОТНИКИ ТУЛЬСКОГО ПИЩЕПРОМА ПОЗДРАВЛЯЮТ ДОРОГОГО В. И. ЛЕНИНА СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ОКТЯБРЯ».
Молодой генетик Штейн тогда ещё подумал: «А подарки, а торт, а пожелание здоровья? В принципе – иди, знай! Может, внизу, в банкетном зале мавзолея в эту минуту накрываются столы. Жирные окорока и аппетитные тушки перепелов, обрастающие румяной корочкой в пузырьках кипящего соуса, возлежат на огромных резных подносах, забивая запах разлагающегося тела ароматом изысканных приправ. А на десерт – ммм! Вкуснятина какая! Пальчики оближешь! Пирожные, сладкие булочки, начинённые экзотическими фруктами, коврижки всевозможных форм и, безусловно, натуральные тульские пряники. А что? Чем плох сценарий? После жертвоприношения коммунисты вознесут хвалу истукану, пропев для него ритуальную молитву „Ленин всегда живой“, а затем удовлетворённые, с большей уверенностью в завтрашнем дне, уедут в родную Тулу».
Да! Картинка тридцатипятилетней давности чётко всплыла в памяти.
А сегодня, 1-го декабря 2007 года профессор Штейн во второй раз посетит мавзолей.
В 20 ноль-ноль Анатолий Львович положил шприц в медицинский саквояж времён А. П. Чехова, переходивший по наследству от отца сыну в течение трёх поколений, запер дверь лаборатории и, спустившись лифтом с пятого этажа, вышел на заснеженную улицу. Холодный ветер угрожающе выл, пытаясь сорвать шапку с головы профессора.
Мерседес Завьялова дважды моргнул фарами, призывая озиравшегося по сторонам Анатолия Львовича сделать несколько шагов вправо.
В темноте траурного зала мавзолея, слабо освещенный, поблескивал купол стеклянного саркофага. Завьялов нажал на кнопку пульта, и купол отъехал в сторону.
На зависть чёрным мумиям египетских фараонов лицо светоча коммунизма, в который раз отшлифованное и загримированное, как и положено, светилось, излучая коммунистические флюиды по всему периметру усыпальницы.
Анатолий Львович снял пальто, повесил его на спинку чёрного кресла, под которым валялась, видимо не замеченная уборщицей, шелуха от семечек. Затем с треском натянул стерильные перчатки, вынул из саквояжа шприц и осторожно приблизился к спящему вечным сном вождю пролетариата. Уколов его бескровную шею и зачем-то протерев место укола ваткой со спиртом, профессор Штейн улыбнулся Завьялову, который, не прекращая, теребил свой галстук.
– Не волнуйтесь так, Юрий Геннадьевич. Синяка не будет. У этого препарата, дорогой мой, – единственное побочное действие. Он вызывает бессонницу.
14. Адью, мавзолей!Через две с половиной недели ежедневных инъекций тело Ленина стало подавать первые признаки жизни. Вместо исчезающего формалина развивались внутренние органы, заполняя собой брюшную и грудную полости. Сформировавшийся желудок начал сокращаться, с треском выталкивая собравшиеся газы, что в свою очередь повлияло на внутреннее ухо, чутко реагирующее на дробный звук слабым подёргиванием головы. Окрепшие мышцы спины, наливаясь кровью, приподнимали верхнюю часть туловища.
Всё было готово для встречи с оживающим Ильичём. Из Рязани прибыл Кузьма Вертухаев, срочно вызванный Тарнадиным. Был назначен день и час проведения операции по освобождению воскресшего вождя из восьмидесяти трёхлетнего заключения. Чтобы обеспечить Владимиру Ильичу нормальный быт, Александр Устинович оборудовал подвал загородного дома в «Разливе» всем необходимым.
Когда подельник Тарнадина Кузьма Вертухаев (или попросту Торпеда) вырвался из гранитных застенок с подпрыгивающим на каталке полуобморочным Лениным, было уже далеко за полночь. До ожидавшего их чёрного джипа оставалось ещё метров сто.
Во мраке морозной ночи его раскрытый багажник напоминал разинутую пасть огромного чёрного медведя. Пасть захлопнулась, проглотив бесценный груз. Железный медведь икнул и понёсся, сверкая пятками колёс, оставляя за собой осиротевший склеп, Красную Площадь, сонную Москву с унылыми москвичами, которым, в принципе, до лампочки, как существование мавзолея, так и сам вождь пролетариата, мёртвый или живой.
15. В архивеУчёба в аспирантуре Веню не обременяла, а, довольно простая и рутинная работа в КПРФ неожиданно оказалась прилично оплачиваемой.
Покупка настоящего саксофона фирмы «Yamaha» приноравливалась к повестке дня, пока ни обосновалась там надёжно, хоть и ненадолго. Инструмент был куплен, а повестка освобождена для следующей фантазии – автомобиля марки «Toyota Corolla».
Подписав документ о неразглашении, Веня Штейн получил специальный пропуск и, по заданию А. Тарнадина, отправился в центральный архив партии, находящийся на улице Большая Дмитровка 15.
Почти вся документация почивших РКП (б), ВКП (б), КПСС и воскресшей КПРФ уже была переведена в электронный формат. Но один обособленный отсек под вывеской: «Секретно! Вход только для членов ЦК» был обойдён процессом модернизации. Тарнадин был уверен, что полузабытые папки содержат дополнительные килограммы компромата против обесчещенной партии и эту информацию необходимо держать под контролем. Вене надлежало отсканировать секретные документы, загрузить их в центральный компьютер в виде отдельных восьмидесяти (по количеству папок) файлов, и распределить по годам, значащимся на обложках.
Перебирать пыльные бумаги оказалась нудной и утомительной работой. Привезенные ноутбук и сканер отбарабанили до пяти вечера. В такси по дороге в ЦК молодой человек, не прекращая, зевал. Приехав, первым делом выпил крепкий кофе с бутербродом-канапе, купленным в кондитерском бутике секретаршей Светой. Подзарядив израсходованную энергию, Веня до десяти вечера переводил собранную в архиве информацию на главный компьютер.
«Вот дела! Кто бы мог подумать, что я буду вкалывать, как папа Карло, да ещё на компартию, – размышлял Веня. А мой отец!? Воскрешение мумии выходит за предел понимаемых мной вещей. И ужаснее всего, что кто-то всерьёз планирует явление „размороженного“ народу. Зачем?.. Может быть?.. – сморщил брови. – Ну, не знаю, не знаю! Время покажет…»
16. НаходкаАлександр Тарнадин в 32 года стал подполковником МВД и сотрудником главного московского управления благодаря исключительной природной интуиции и умению сохранять нужные связи. В начале 30-тых годов дед Александра Устиновича был направлен в Хакасию государственным уполномоченным для осуществления плана ЦК – массового раскулачивания области. Там он обзавёлся семьёй и очень скоро стал председателем русского животноводческого совхоза. Маленький Саша учился технике выживания на примере деда и отца, которым удалось не только избежать трагической участи множества земляков в страшные годы репрессий, но и существенно продвинуться по партийной линии, приноравливаясь к любой среде, подобно некоторым рептилиям, путём изменения окраса.
Решив переждать смутные Горбачёвские годы вдали от Москвы, Александр Тарнадин вернулся на Алтай в посёлок Майма, заранее обеспечив себе должность начальника колонии строгого режима.
Новая должность оказалась по плечу бывшему МВДешнику. С подчинёнными он находил общий язык, а жаргон заключённых освоил нахрапом, призвав в учителя некоего Кузьму Вертухаева, лагерного повара по прозвищу Торпеда. Бывший вор в законе, отбывающий восьмилетнее наказание за вооружённое ограбление, ботал по фене так, что иначе, как искусством это не назовёшь. Перед Тарнадиным раболепствовал, надеясь на досрочное освобождение.
Немалые средства, получаемые на содержание колонии, Тарнадин распределял по своему усмотрению. А смотрел он преимущественно на непоколебимость собственного материального благополучия, постигая виртуозную технику бухгалтерских махинаций.
Так случилось, что заместитель Тарнадина Е. Б. Гнусин случайно обнаружил документы, свидетельствующие о суммах денег, на которых хозяин нагрел руки. Моментально настрочил в центр донос, но зная, что вся без исключения корреспонденция проходит цензуру начальника, носил письмо в кармане, ожидая подходящего случая отправить его с посыльным за пределы колонии.
Но то ли Тарнадин обладал сверхъестественным чутьём, то ли на лице самого Гнусина читалась подозрительность, – через два дня произошёл несчастный случай. На заместителя начальника с крыши барака свалился сто килограммовый мешок с цементом.
Торпеда действительно вышел на волю раньше срока, оставив хозяину адрес старухи-матери в Рязани, куда и отбыл в добрый час, получив пачку «деревянных» рублей на необходимые нужды.
После распада СССР Тарнадин вернулся в Москву. Досконально изучив ситуацию, сделал ставку на беспроигрышную, по его убеждению, лошадку – компартию, став за короткий срок доверительным лицом и помощником генсека, Завьялова Юрия Геннадьевича.
Утром на рабочем столе Тарнадин нашёл записку: «Александр Устинович! Сейчас 11 ночи. Загрузил 80 файлов. Очистил ноутбук, как Вы просили. Осталось определить степень допуска к документам. Просмотрите файлы и оцените каждый в отдельности от одного до пяти. Результат запишите в моём блокноте. Приеду к двенадцати утра, не раньше. Нужно выспаться. Веня».
Работать с компьютером Александр Устинович не любил, да и не умел. Он прочитал Венино сообщение, страдальчески сдвинул брови и нехотя включил экран. Появились документы секретного отдела ЦК КПСС и КГБ. Они описывали проводившиеся в 1951-ом году кампании террора против граждан страны. Список файлов, с выставленной Тарнадиным оценкой секретности, успешно перелез на третью страницу блокнота, как вдруг… откуда ни возьмись, на экране мелькнуло число – 1916.
«Странно, – подумал. – Что здесь делает этот документ? 1916-ый год? И написано по-немецки».
Немецкий язык Тарнадин учил в школе, азы помнил, так что прочитанное кое-как переводилось, с каждым понятым словом повергая Александра Устиновича в шок. Он увидел старинный вексель, выданный 28 декабря 1916 года господину В. И. Ульянову, в скобках – Ленину – на сумму в двести тысяч немецких марок, находящихся на его личном счету (номер счёта 611361) в банке «Credit Suisse», по адресу: Цюрих. Улица Парадеплатц 8.
О том, что Германия финансировала большевиков, и октябрьская революция, фактически, была оплачена немецким правительством, Александр Устинович знал ещё от деда. За 70 лет стараний, партии так и не удалось вытравить этот позорный факт из памяти народа. Но память памятью, а наткнуться на реально существующий вексель, который за девяносто один год, наверняка, накопил умопомрачительную сумму денег, ясное дело – подарок судьбы.
Тарнадин сидел отрешённый, перечитывал вексель, изучая каждую печатную и рукописную закорючку и, автоматически, повторял: – какие бабки, какие бабки, какие бабки!..
Возле кабинета послышались голоса. «Никак Веня пришёл?» – подумал Тарнадин. Неожиданно в его голове пронеслась фраза: «Звуки атас цинкуют» [7] . Вздрогнул, рука с мышкой заёрзала в лихорадочном поиске команды «удалить», которая, как назло, не находилась. Успокаивал себя мыслью, что мальчишка не читал содержимого папок. И тут, на тебе, явился!
– Здравствуйте, Александр Устинович! Извиняюсь за опоздание.
– Что ломишься без стука? – внезапно, потеряв над собой контроль, рявкнул Тарнадин. – Напряги бестолковку, медикованный! Вали отсюда! Или не волокёшь? [8]
Замолчал. Сморщился до боли в скулах и, не отрываясь от экрана, перешёл на понятный Вене язык.
– Мне ещё минут на пять-десять работы осталось. Сущая ерунда. А ты, Вениамин Анатольевич, иди на кухню, попей кофе с крендельком. Вон Света-секретарша коробками со сладостями весь кухонный стол завалила. Кровь стучала в висках так оглушительно, что он, не услышав собственного голоса, сорвался на крик, – чего стоишь, иди, тебе говорят!
Оглянулся, Вени в комнате не было.
«Где эта чёртова кнопка?» – изображение векселя издевательски не исчезало. Наконец обнаружил долгожданное окошко. Облегчённо вздохнул: «С Богом! Готово! Поехал дальше». Раскрасневшийся, потный, читает, записывает, выставляет коды. А годами тренированный мозг уже чертит план последующих действий.
Одно бесспорно – нужно торопиться!
17. Веня анализируетОшеломленный выходкой начальника, молодой человек уселся на стул для посетителей перед закрытой дверью кабинета, в которую вот уже семь месяцев ежедневно входил без стука. Анализируя происшедшее, он думал о том, что неадекватное поведение Тарнадина наверняка небеспричинно. За время совместной работы, Веня неплохо изучил черты характера Александра Устиновича, поэтому предположил, что сегодняшняя сцена явилась результатом чего-то экстраординарного, вызвавшего всплеск неуправляемых эмоций у человека, умеющего, по мнению Вени, как никто, скрывать свои чувства.
Неожиданно из кабинета выскочил Тарнадин в шапке-ушанке. Надевая на ходу дублёнку и сжимая в зубах ремень от сумки, вихрем промчался мимо Вени. Хлопнула входная дверь.
«Да что это с ним, как с цепи сорвался! Волкодав! А, может, с пробудившимся не всё в порядке?» Возникшая мысль заставила Веню пройти вглубь коридора, где за массивной дверью из красного дерева находился кабинет Завьялова. Постучал:
– Можно, Юрий Геннадьевич?
– Заходите, Виниамин Анатольевич! Заходите, дорогой! – и почти шёпотом, – а я в Разлив на пару дней собираюсь. Нужно выехать пораньше. Пять часов в дороге – не шутка. На сегодняшний вечер запланирован серьёзный разговор с Ильичём. Что Анатолию Львовичу передать?
– Ну, мы с ним вообще-то по нескольку раз в день на телефонной связи, а сегодня он не отвечает на звонки. Откровенно говоря, я волнуюсь, всё ли там в порядке!?
– Я с вашим родителем, Веня, разговаривал буквально минуту назад. Там все живы и здоровы.
– Вот, спасибо, Юрий Геннадьевич, успокоили. Я попробую созвониться с отцом позже. А, впрочем, передайте ему, что я не выгляжу дистрофиком. Вы представляете, папа считает, что я недоедаю, хоть он и оставил мне холодильник полный деликатесов собственного производства. По-правде сказать, мой отец – кулинар от Бога. Если вы, Юрий Геннадьевич однажды попробуете кусочек его фаршированной рыбы с картофелем, сваренным в юшке, то, уверяю вас, будете готовы на все (вплоть до обрезания – подумал Веня и улыбнулся), лишь бы ещё раз испытать удовольствие от этой божественной еды. Ну, счастливой вам дороги, а я побежал работать.
18. ВексельТарнадин приехал на Большую Дмитровку. Нахохлившись, сидел в автомобиле, наблюдая за бегущими куда-то пешеходами, до которых ему не было никакого дела, но своим муравьиным мельтешением они успокаивали развинтившиеся Тарнадинские нервы, напоминая ему колонию и суетящихся заключённых. И не было никакой разницы между этими людьми – быдлом, марионетками, болтающимися на свитых случаем верёвках, которые время от времени закручиваются в тугие петли не шеях зомбированных кукол. Убогие, они верят в справедливость и в светлое завтра не столько из-за реальных для этого предпосылок, сколько из-за упрямства и глупости. Тарнадин нутром чувствовал, что прямое предназначение этих существ, ничем не отличающихся от насекомых, быть не более чем живым фоном для стержневых образов, монументальных и судьбоносных, к которым Александр Устинович причислял себя. Из пухленького портфельчика-барсетки он достал паспорт. В девяностые годы щёгольские барсетки стали незаменимым мужским аксессуаром, дополняющим преимущественно малиновые пиджаки. Сегодня на Тарнадине был рыжий, кожаный пиджак, от «Жиль Сандер». Рядом на сидении лежала тёмно коричневая дублёнка «Тоскана» и шапка из настоящего «мужского» меха – баргузинского соболя. Александр Устинович заметно нервничал. Капля пота облюбовала родинку на лбу, но, не удержавшись, сорвалась на красную корку его паспорта, растекаясь на золотых крыльях двуглавого орла блестящей шестиконечной звездой.
«А что, если Завьялов прав, и приметы что-то значат?» – подумал. Но тут же выбросил идиотскую мысль из головы, промокнул носовым платком паспорт, напялил шапку и, прихватив дублёнку, решительно распахнул дверь джипа.
На самом деле найти, изъять и вынести драгоценный вексель из пыльного лабиринта архива не составило труда.
Папка под номером 1916 нашлась моментально, как будто специально высунулась, чтобы узкие глаза Тарнадина смогли её обнаружить. Пожелтевший вексель, ослеплённый электрическим светом, не замедлил нырнуть в тёмную барсетку, прижавшись к близкой по духу, новенькой чековой книжке.
Александр Устинович направлялся к своему автомобилю достаточно бодро для человека, потерявшего, как ему казалось, немало нервных клеток.
«Всех дел – пятнадцать минут против двух часов волнений. А, с другой стороны, Бог с ними, с клетками. Разве овчинка выделки не стоит? Только бы получилось!»
Мозг Тарнадина лихорадочно работал, перебирая варианты дальнейших действий. Не успел опомниться от волнений, глядь, а перед носом дверь собственного кабинета.
На экране центрального компьютера всё ещё находились файлы, требующие включения кодов, которые Александр Устинович аккуратно прописал в блокноте.
«Нуднее работы не бывает», – жалобно зевая, Веня продолжал следить за вереницей цифр.
Через полтора часа, проверяя сделанное, он не досчитался одного файла. «Жаль, что стёр содержимое лэптопа, не с чем сверить», – подумал он и открыл корзину «Recycle bin».
И, действительно, последнее действие было сбросом файла под номером 1916.
«Как он туда попал? Видимо, я сам его случайно сбросил, – подумал, – ну, иди сюда, шлемазл, возвращайся к собратьям, а то ютишься в корзине, как бедный родственник. Вот, совсем другое дело. Раз, два, три, четыре, нет – пять документов. И последний, кудрявый – сюда же… Все на месте».
Дверь кабинета открылась. Повеяло сквозняком. Вернулся хозяин.
Веня за компьютером. А на экране – о, Боже! Всё тот же вексель, уничтоженный и невообразимо воскресший.
На секунду потеряв дар речи, Тарнадин взял себя в руки. Подумал, что непредвиденный поворот событий нужно использовать для собственной выгоды. Как ни в чём не бывало, обратился к Вене:
– Что скажешь, Вениамин Анатольевич? Думаешь, удастся деньги по векселю получить?
– Какие деньги, вы о чём? – Глаза молодого человека недоумённо округлились.
Тарнадин закивал головой и, тряся пальцем, указал на экран.
Веня вытянул шею. Беззвучно шевеля губами, он внимательно прочел немецкий текст, обрамлённый витиеватой рамкой и, оказывается, называемый векселем.
– А, вот что Вы имеете в виду!? Вы серьёзно? – и убедившись, что Тарнадин не шутит, – пожал плечами, – не знаю,… не сведущ, – по таким вопросам, обычно, банк выдаёт справки.
– Ну, и ладненько! Созвонись, товарищ Штейн, со швейцарским банком и выясни что к чему. И запомни, Завьялову пока ни слова!19. ЧаепитиеВ пять вечера после оздоровительной процедуры Анатолий Львович, как и обещал, организовал чаепитие. В центре стола, накрытого на три персоны, красовался румяный кугель и банка с вареньем из черешни, начинённой абрикосовыми косточками. Засвистел чайник. Властное колоратурное си бемоль, почти минуту продержавшееся на пике возможностей данного электроприбора, скатилось по хроматическому ряду, напоминая звук сдувающегося шарика. Кипящие пузырьки, толкающиеся в стеклянном сосуде, постепенно угомонились.
– Товарищ Штейн, а кого мы ждём? – хитро прищурился Ленин, с интересом разглядывая кружевной арнамент подстаканников. – Ну, кого же? Не томите, голубчик… Надежду Константиновну?
– Нет, Владимир Ильич! Мы ждём другого человека. Сегодня вам предстоит услышать и отчасти увидеть историю, которая наверняка покажется фантастической, но на самом деле она так же реальна… ммм… как, например, ваша красная пижама.
В комнату вошёл Завьялов. Поздоровался. Пожал Ленину руку. Представился.
– Присаживайтесь, товарищи! – профессор Штейн отрезал от кугля три сочных треугольника. Юрий Геннадьевич положил на стол айфон. Пролистав ленту изображений и остановившись на обзорном видео Красной площади, сделал глубокий вздох и сказал:
– Дорогой Владимир Ильич! Сегодня – 21 марта 2007-го года…
20. ДиалогБыло два часа ночи, когда визитёры ушли, выключив в комнате электричество. И только свет ночника, огибая спину сидевшего на кровати старика в красной пижаме, распластался на противоположной стене вокруг гигантской тени человека с вытянутой рукой и в кепке.
Ощупывая голую лысину, Владимир Ульянов изумлённо рассматривал тень. Он пытался отыскать разумное объяснение сему необычному явлению, но, не найдя такового, решил не отчаиваться. Лукаво прищурив глаза, он произнёс:
– Ну, как вам вечерок, товарищ Ленин? И вы ни капли не удивлены? Или, узнав свой реальный возраст, – сто тридцать шесть лет, – вы окончательно потеряли дар речи, восемь часов не произнеся ни слова?
– Отстань от меня со своими вопросами! Нет, нет, и ещё раз нет! Я не верю, что на экране с якобы живыми, двигающимися людьми действительно запечатлён я, усопший. Труп в гробу может быть загримированной куклой, а подобие пирамиды на Красной площади, которое они называют мавзолеем – театральной бутафорией.
Тень шевелилась и говорила голосом вождя, всё больше удивляя Владимира Ульянова:
– Товарищ Ленин, не будьте упрямым ослом! Вы видели своими глазами аппарат, умещающийся на ладони, который показывает живые картинки. Это вам не кино, которое «из всех искусств для нас является важнейшим». Ваша, батенька, знаменитая фраза оказалась пророческой, но с тех пор прошли десятки лет. Наберитесь мужества не отрицать очевидное. Вы только что просматривали запись демонстрации военной техники на Красной площади 9-го мая 2006-го года. Неужели, даже эти чудовища на колёсах не могут убедить вас в том, что сегодня не 1924 год?
– Хватит, Ульянов! прекрати надо мной издеваться!
Я, можно сказать, ощущение жизни теряю, не знаю, кто я, где нахожусь. Если верить их сказкам, – месяц тому назад я, Владимир Ильич Ленин, ещё был набитым чучелом, которому поклонялись советские люди на протяжении восьмидесяти трёх лет. Невероятно! Дьявольщина в чистом виде. За какие грехи со мной так поступили?
– О, товарищ Ленин! Не прибедняйтесь! Чем-чем, а этим добром вы набиты по самое не хочу. Вы наверняка помните, кто объявил террор допустимым средством революционной борьбы? Да ещё и публично. А кто не возражал против политических убийств? А кто создал первые концлагеря? А кто…
– Довольно, Володя! У тебя словесный понос. Тебе, слюнтяю, не оценить степень необходимости перечисленных действий в революционной борьбе.
Ульянов наступал:
– А расстрел царской семьи? Последний русский император, Николай Второй, хоть и отказался от престола, но, кажется, в виде обезглавленного трупа, облитого серной кислотой, был менее опасен для осуществления ваших параноидальных амбиций? А обезображенные останки его супруги, его детей, слуг, – сброшенные в Ганину яму, словно тушки бешеных собак? Скажите, батюшка, эти картины радовали вашу душу? Сознайтесь, Владимир Ильич – ведь чрезвычайно радовали!..
– Заткнись, Вовка! Ты наглый трус! Ты сам обо всём знал. И молчал. Когда я принимал решения, ты лично присутствовал. И молчал. Когда я отдавал приказы – молчал. Что же ты, душа змеиная, в то зыбкое время, когда ещё можно было что-то изменить, не остановил меня, как Бог Авраама? Что ж не отвёл руку с клинком от невинных душ? Или ты зрелищами русского Колизея тогда наслаждался, мечтая опустить палец вниз и затеряться в толпе? Так не читай мне мораль! Убирайся! Я ненавижу тебя! – Тень затряслась, теряя чёткие очертания.
– Ай-ай-ай! Зачем так волноваться, товарищ Ленин? Волнение может навредить вашему забальзамированному организму. И будьте скромней, не берите всю вину на себя. Вчера мы оба слышали, какого уровня зла достигли Ваши последователи, планомерно уничтожая цвет нации вплоть до крушения Советского Союза. А дело врачей, что вы думаете об этой акции? Ещё не успели подумать? А я вам подскажу. Но только между нами, по секрету. Джугашвили с большим удовольствием перенял опыт немецких союзников в расправе с неугодной нацией.
Помните, как вчерашний визитёр описывал вторую мировую войну, а профессор Штейн рассказывал о гибели шести миллионов евреев?
– Допустим, ты прав, Ульянов. Но корень зла! Где он? Нет, молчи, не хочу слышать…
– Ну, что же вы, Владимир Ильич снова на себя одеяло тянете? Самомнения у вас – хоть отбавляй. Вы, дорогой мой, только крохотный листочек в ядовитых зарослях истории. И хоть все мы – продукты совокупления добра со злом, в вашем случае – небольшой перевес в пользу второго проявился достаточно ярко, чтобы осветить дорогу вслед идущим хищникам, переплюнувшим вас, увы, идеологически и практически. Разве ваши попытки реализовать коммунистическую утопию, ограничивающиеся жалкими 4-мя миллионами жертв, могут сравниться с гением Иосифа Виссарионовича Сталина создавшего машину смерти – Гулаг, или с размахом Мао Цзэдуна, заморившего «бледным» [9] голодом свой, и так не розовощёкий народ, или с исчадием Ада – Адольфом Гитлером? Каждый из этих посланников Сатаны уничтожил десятки миллионов людей! Да, товарищ Ленин, уничтожены десятки миллионов людей! Вслушайтесь в звучание этой фразы. Не кажется ли вам, что так должен звучать Реквием по человечеству?
– А не кажется ли тебе, Владимир, – тень развернулась на 180 градусов – что оплакиваемое тобой «человечество» создало в моём лице козла отпущения, самого несчастного человека на Земле? Меня жестоко наказали. Более изощрённой кары трудно себе представить. В первый раз изувечили моё мёртвое тело, сделав из него чучело для всеобщего обозрения. А во второй раз, издеваясь над природой, оживили это многострадальное тело через восемьдесят три года, когда кроме воспоминаний, старых газет и могил соратников не осталось ничего, ради чего стоило бы жить. А цель? Ха-ха-ха! В этот раз я умру со смеху! Скомпрометированная коммунистическая партия, вновь охотясь за сторонниками, решила сделать из чучела наживку, – партия, которая дважды так бессовестно надругалась над своим вождём.
– Не сгущайте краски, товарищ Ленин! Не всё так плохо.
– Нет, Володя! Всё намного хуже. Не думал я, что когда-то буду вымаливать у Господа Бога смерть, как избавление от самых страшных пыток – терзаний совести. Тебе, Ульянов, придётся нести свой крест самому, и я надеюсь, что Создатель наградит тебя возможностью по-человечески разложиться в родной Земле, когда, наконец, закончится миссия твоего израненного тела в этом мире.
Владимир Ильич Ульянов потянулся, зажмурил глаза, покрутил головой по часовой стрелке и глубоко вздохнув, посмотрел на стену. Тень съежилась, забилась в угол и, постепенно превращаясь в точку, исчезла во мраке.
21. Леон КраузеВсю вторую половину воскресного дня Леон Краузе – директор департамента международного финансирования банка «Credit Suisse» провёл со старшим сыном Арнольдом на Цюрихском озере, занимаясь рыбной ловлей. Недавно, после двухгодичной стажировки Арнольд получил должность нотариуса, чем безмерно порадовал отца, потратившего на образование сына немалые средства. Краузе любил такой отдых, потому что, сидя в лодке и бездумно наблюдая за поплавком, его мысли отдыхали от назойливых цифр и постоянной тревоги за всё ухудшающееся финансовое положение банка. За кружкой пива и пустыми разговорами он чувствовал себя беззаботным и помолодевшим. Выходные пролетели быстро, оставив у Леона послевкусие озёрного кислорода и пива «Heineken».
В понедельник второго апреля 2007 года ровно в 8.00 утра господин Краузе вошёл в свой кабинет. Это был неопределённого возраста высокий мужчина, сутулый, с непропорционально длинной и чрезвычайно подвижной шеей. Под стёклами очков бегали тусклые точки крохотных глаз. Редкие серые волосы, обильно смазанные гелем, были тщательно зачёсаны за уши, но, потеряв эластичность, смешно топорщились на затылке при каждом повороте головы. На мужчине был костюм под цвет волос, бледно серая рубашка и такой же галстук. Он открыл массивную дверь дубового шкафа, смахнул с висящей на распялке куртки несуществующую пылинку и тяжело вздохнул. Закрыл шкаф и, оттянув полы пиджака, направился к тёмному полированному столу, на котором белела пачка документов на подпись, свежая газета и стакан горячего чая. Краузе подтянул брюки, уселся в кресло и, опустив в стакан два кубика сахара, стал неторопливо помешивать их серебряной ложечкой. На первой странице газеты «Хандельсблатт» под заголовком: «Выстоит ли Швейцарский Голиаф?» была опубликована статья, которая не способствовала поднятию духа чиновника. В ней писалось: «Чистая прибыль одного из крупнейших швейцарских банков – Credit Suisse, снизилась на 76 % по итогам первых трёх месяцев 2007 г. В швейцарских банках продолжаются сокращения штатов. Закончились времена банковской кадровой стабильности и высоких зарплат. Стоит ли молодым сейчас вообще выбирать эту профессию?» Дальше господин Краузе читать не стал. Он отпил несколько глотков остывающего чая, постучал костяшками пальцев по столу и, подёргивая шеей, как будто его стеснял ворот рубашки, начал просматривать собравшиеся документы.
– Войдите! – раздражённо ответил на тихий стук в дверь.
– Доброе утро, господин Краузе! Срочно требуется ваше вмешательство.
Молодой чиновник, сиреневоглазый альбинос в очках с выпуклыми стёклами выжидающе смотрел на босса, чуть согнувшись в почтительном поклоне.
– Говорите!
– Некто Вениамин Штейн из Москвы, – альбинос свесил лицо над листом бумаги, прижатом двумя руками к пиджаку на уровне диафрагмы, – интересуется возможностями получения денег по векселю, выданному нашим банком частному лицу в 1916-ом году. Он отказывается переслать копию векселя по факсу, как ему было предложено и в связи с необычностью ситуации настаивает на конфиденциальной беседе с вами.
– Пусть пришлёт на мой имейл. – Краузе взмахнул рукой с «Паркером», рисуя закорючку в воздухе, похожую на «V». Ионизированный сквозняк ворвался в раскрытое окно кабинета и надушил обитые деревом стены ароматом реки Лиммат…
Через час, Леон Краузе, нахмурив брови, попеременно смотрел то на дату – 28-го декабря 1916 года, выставленную в углу старинного векселя, изображение которого появилось на экране его компьютера, то на имя получателя – Владимир Ильич Ульянов (Ленин).
– На фальшивку, вроде, не похоже, но это может определить только эксперт, – пробормотал он. После прочтения сопроводительного письма, в котором говорилось, что некто господин Ульянов, проживающий в Москве, заинтересован в получениии своих денег, у Краузе появилась спасительная мысль об однофамильце, но под натиском железной логики мысль рассыпалась на мелкие части.
«Этот Улианов, или, как его там, должен быть сегодня, как минимум сто двадцатилетним стариком, а такого не бывает, – подумал он, – чего только не придумают русские жулики. Ворьё! Ни перед чем не останавливаются. Однако, размах имперский! Двести тысяч немецких марок за девяносто один год!?.. Кругленькая сумма!»
Он поклевал указательным пальцем электронный калькулятор. Возникло число с шестью нулями. «Что ж! Аппетит у новых русских действительно не пролетарский».
Веня протянул Тарнадину только что полученное письмо:
...Господину В. Штейну от директора департамента международного финансирования банка «Credit Suisse» мистера Леона Краузе:
«Уважаемый господин Штейн! В ответ на Ваш запрос от 2 апреля 2007 года, я высылаю Вам перечень необходимых условий для получения денег со счёта № 611361.
1. Наличие векселя (оригинала).
2. Присутствие получателя, на имя которого выписан вексель.
3. Наличие удостоверения личности у получателя.
С почтением. Леон Краузе.»
22. Новые горизонты.Александр Устинович решил форсировать события. Ранним утром следующего дня, заранее закупив провизию, он спешно выехал в Разлив. Необходимо было, во что бы то ни стало, убедить Анатолия Львовича в целесообразности поездки Ленина в Швейцарию.
Незапланированный приезд Тарнадина удивил Торпеду:
– Офигеть! От когда в дороге, начальник? Небось, кишка ссохлась? Попандопали, чурёк наканифолим чесночком, да по борщу с пердучей фасолью вдарим. [10]
– Не сейчас, Торпеда. Как там, у Штейна с Лениным?
– Норманды! Всё в шоколадке! [11]
– Отнеси харчи на кухню, – Александр Устинович открыл багажник, прикурил и направился к дому.
Анатолий Львович сидел за компьютером и, сосредоточенно выискивая нужную ему информацию, аккуратно записывал её на листке школьной тетрадки. Увидев Тарнадина, обрадовался:
– Вау! Александр Устинович, мы ждём вас через две недели, а вы тут, как тут. Какими судьбами? Присаживайтесь, дорогой, – профессор Штейн засуетился, с грохотом перетаскивая второй стул, исполняющий роль прикроватной тумбочки, – вот, выпейте стакан воды с дороги – это полезно! – Он пододвинул кувшин с водой и стакан поближе к гостю, по-хозяйски развалившемуся на стуле.
Сделав несколько глотков воды, Тарнадин промокнул губы салфеткой:
– Как жизнь, профессор, что нового у вашего подопечного?
– Сейчас он, как всегда после обеда, отдыхает. Двухчасовой дневной сон заряжает его энергией. Выспавшись, он в состоянии бодрствовать до восьми, а иногда даже до девяти вечера.
– Анатолий Львович, а как бы вы среагировали на предложение вывезти мум… э… Ильича на отдых, скажем, в Швейцарские Альпы?
– О, для него это было бы полезно и в физическом, и в моральном плане, – профессор Штейн удивлённо посмотрел на Тарнадина, – вы говорите о реальном предложении?
– Более чем. Вопрос: а вы сможете его сопровождать?
– Я предполагаю, Александр Устинович, что такая поездка может продлиться энное количество времени. Мне бы не хотелось надолго оставлять Веню одного.
– Само собой, Анатолий Львович. Кто ж не понимает? Вениамин Анатольевич непременно поедет с нами.
– И вы тоже собираетесь в Швейцарию?
– А как вы думаете? И я, и Торпеда… Должен ведь кто-то крутить баранку и готовить пищу?! – Тарнадин поднялся со стула и, повесив на плечо барсетку, запанибратски похлопал профессора Штейна по плечу:
– Так вы говорите, не помешает воскресшему вождю горным воздухом подышать? Что ж, этот оздоровительный минимум партия обязана предоставить своему основоположнику, так сказать, отцу родному. А не то, от кислородного голодания, упаси Господи, он ещё концы отдаст. Когда Завьялов позвонит, так ему и скажите; мол, измученному формалином организму позарез требуется Швейцарский курорт, мол, иначе – делу хана, а месяцы нервотрёпки пойдут коту под хвост. А вам, Львович, я в ближайшие дни сообщу дату отъезда, – он шагнул к двери, на пороге обернулся, махнул рукой:
– Будем, профессор! Лечу к Завьялову бабки выколачивать. Ленина подготовьте, – он посмотрел на часы, – правда, Торпеда меня борщом соблазнял, но… – развёл руками, – ничего не поделаешь, надо торопиться, здоровье вечно живого превыше всего.
Тем не менее, на полдороги к джипу Тарнадин развернулся и, сбежав по мраморным ступенькам в подвал, шмыгнул в кухню:
– Эй, подельник, кишковать охота, – он вдохнул смачный запах борща, – по-быстрому, наполни шлёнку [12] баландой, и чтоб ложка в фасоли стоймя стояла.
По дороге в Москву Тарнадин обдумывал предстоящий разговор с Завьяловым. Он был уверен, что Юрий Геннадьевич не пожалеет партийных денег на святое дело – привести в рабочее состояние бывшего постояльца мавзолея.
Встреча с Завьяловым длилась не более получаса. Главный коммунист с пониманием отнёсся к предложению Тарнадина. Обещал в течение двух дней организовать деньги на поездку, используя специально созданный для таких мероприятий фонд «ЦОП» (центральный отдел партии). Кстати, в кругу членов ЦК и их семей, разъезжающих по международным конгрессам, съездам, а, в основном – курортам, под эгидой обмена опытом с компартиями ближнего и дальнего зарубежья, название фонда произносится исключительно справа налево. Такая аббревиатура с большей точностью определяет, как и возможности самого фонда, так и характер его создателя.
23. Зоя Олеговна СосунЭтой ночью Тарнадин заснул с трудом. Он ворочался, у него пучил живот, а появившееся под утро сновидение, истерзало его картинами погони: гниющая мумия фараона преследовала убегающего от неё Александра Устиновича, который тащил за собой пулемёт и ни на минуту не прекращал отстреливаться от мумии пулями, удивительно напоминающими вчерашнюю фасоль. Однако, ни раскаты пулемётной дроби, ни даже собственное зловоние хоть и мумифицированного, но всё же разлагающегося тела, не остановили разгневанного фараона. Семимильными шагами он приближался к, стремительно терявшей силы жертве, оставляя позади себя километры просмоленных лоскутов, липко покрывающих московские улицы…
На работу Тарнадин пришёл поздно. В конце дня позвонил какой-то Зое Олеговне и договорился с ней о встрече. Вытянув губы трубочкой и почти облобызав кнопки мобильника, он шепнул:
– Я бегу к тебе, зайка, – схватил куртку и, бросился к двери. Остановился, посмотрел на Веню и, погрозив ему пальцем, сказал: – Послушай, Вениамин Анатольевич! Я должен ненадолго отлучиться, а ты сиди, не рыпайся и хавалку – на замок! – Он сделал резкое движение рукой, как будто застегнул губы на молнию, и выскочил из кабинета.
Александр Устинович Тарнадин гнал джип на Площадь Революции. До закрытия музея оставалось два часа.
Зоя Олеговна Сосун, коммунистка, почётный библиотекарь Российской федерации, незамужняя брюнетка средних лет заведовала библиотекой музея В. И. Ленина уже четверть века. Поговорив с Тарнадиным, она закрыла глаза, томно забросив голову назад, ощупала пальцами кожу шеи и, взглянув на часы, направилась к служебной комнате за книжными стеллажами. Вставив ключ в замок, она оглянулась по сторонам и, шагнув в темноту подсобки, заперла за собой дверь. Щёлкнул выключатель и, лампа дневного света, висящая на двух цепях в углу обитой полосатыми обоями комнаты, осветила колыхнувшуюся фотографию Иннесы Арманд, во много раз увеличенную и прибитую к стене напротив тахты шиферным гвоздём. О том, что библиотекарь Сосун внешне напоминает любовницу Ленина, в музее говорили все, что доставляло Зое Олеговне огромное удовольствие и выделяло её из серой массы синих чулков или книжных крыс, часть из которых, по оценке коммунистки Сосун, максимум, могли претендовать на сходство с Надеждой Константиновной Крупской.
Задёрнув занавеску на окне, Зоя Олеговна легла на старую тахту, распластав своё костлявое тело на видавшем виды плюшевом покрывале с изображением тигра. Прямо над её глазами с трёхметрового потолка спускался крючок, на котором когда-то висела люстра. Во время последнего ремонта электрики пытались вытащить непослушную железяку, но это им не удалось. Зато развороченный металл приобрёл схожесть с мужским членом и остался торчать в обновлённом потолке, который, наотрез, не желал отказываться от обретённого мужского достоинства.
Неторопливо расстегивая пуговицы трикотажной кофты и не отводя осоловевших глаз от обляпанного побелкой крючка с каплей застывшей извёстки на конце, товарищ Сосун подталкивала край скрутившейся юбки под тощие ягодицы, упираясь головой в ободранную стенку старой тахты. Она разгорячённая терзала свои прелести и, подпрыгивая на скрипучем матрасе, глухо стонала. Морда плюшевого тигра вздыбилась, накрыв потное лицо Зои Олеговны. Её тяжёлое дыхание участилось:
– Да, Ильич, да, мой тигр, да, да, – рычала она. И взвыла от блаженства, когда вопль «Да здравствует Коминтерн!» вырвавшийся из её груди стремительным сфорцандо, прозвучал заключительным аккордом в этой рапсодии страсти. Перевернувшись на живот, она сползла с тахты, поправила покрывало, привела в порядок одежду и, подойдя к почерневшему от времени зеркалу, руками, ещё помнящими жар любви, пригладила волосы.
Поскрипывание паркета прекратилось возле двери комнаты свиданий, которой по необходимости пользовались ещё две библиотекарши музея. Раздался тихий стук.
– Зайка, это я!
Зоя Олеговна приоткрыла дверь, впустив запыхавшегося Тарнадина, который, без лишних слов впился толстыми губами в её жилистую шею. С этой ношей, в раскорячку, он протопал к тахте и рухнул вместе с объектом вожделения на злополучного тигра. Настойчиво пытался скинуть оба мокасина, но скинул только один, поддев острым носком правого пятку левого. Ещё на зоне Александр Устинович установил для себя правило – не заниматься сексом в обуви, что, кстати, не распространялось на одежду, включая пальто. Левый мокасин стукнулся об пол, а Тарнадин, подтянув колени, стал безмолвно и торопливо раскачиваться над вцепившейся в него ненасытной Зайкой. Его возбуждённое воображение рисовало картины вожделения другого плана. Тряся на половину съехавшим с левой ноги носком и озабоченно поглядывая на часы, он мечтал обладать, пусть даже временно, вековой, молоткастой, серпастой, краснокожей паспортиной, той самой, которая принадлежала когда-то вождю пролетариата – Владимиру Ильичу Ленину.
Коммунистка Сосун отдавалась взмокшему Тарнадину бурно и многословно. Называла его то – Владимиром, то Володей, а то просто Вовой. А на пике наслаждения, прохрипев, «Да, Ильич, ещё, ещё!», она вдруг застыла без движения, закатив глаза, чем конкретно напугала Александра Устиновича. Безрезультатно похлопав её по щекам, он вскочил и, торопливо просовывая ногу в ботинок, услышал:
– Говори для чего пришёл! Только быстро и внятно. У меня мало времени.
– На месячишко паспорт Ленина одолжи. Срочно. Нужно позарез.
– Жди меня в читальном зале!
Зоя Олеговна проворно убрала следы любви и, заперев дверь подсобки, направилась в отдел музея, где хранилась коллекция личных вещей В. И. Ленина. Этим отделом заведовал молодой научный работник Сергей Игнатьевич Кукушко. Он был небольшого роста, с бородкой и картавил, что так нравилось библиотекарше Сосун.
24. Оленька ЛыськоЧерез час Тарнадин ехал домой в хорошем расположении духа. Его сердце согревал паспорт Ильича, подлинный, перекочевавший во внутренний карман кожаной куртки с полки под стеклом – своеобразного мавзолея для документов, моментально заполненного «дубликатом бесценного груза». Такими дубликатами располагал музей, почти на каждую единицу хранения.
Сегодня осталось получить заграничные паспорта, которые уже были подготовлены для Казановы-Санечки Ольгой Игнатьевной Лысько. Оленька была почётным работником министерства иностранных дел Российской Федерации, вдовой и заботливой соседкой по лестничной клетке. Санечка скрашивал её одиночество два раза в неделю, в понедельник и четверг, после вечерних новостей и до сериала «Улицы разбитых фонарей». Сериал Оленька обожала, не пропустив за 6 лет ни одного фильма. Сегодня вторник, но этот факт для Тарнадина не имеет значения. Вместо обычных пятнадцати минут, сегодня Александр Устинович будет благодарить пышногрудую Лысько целых полчаса, окрашивая пеной любви её раскладной вдовий диван.
25. СборыПодготовка к отъезду в Швейцарию заняла меньше недели. Завьялов Юрий Геннадьевич выделил значительные денежные средства на проект оздоровления Ленина. На предложение присоединиться к турне – отказался.
– Безответственно оставлять партию без присмотра. Поезжайте без меня. Я надеюсь, что свита из четырёх человек сумеет обеспечить достойный уход за Владимиром Ильичём и оградит его от посторонних глаз. Не торопитесь домой. Пусть поправляется, набирается сил. Они ему, огого! как пригодятся. А я, покамест, разработаю план по вовлечению Ильича в жизнь партии. Мы вместе таких дел наворотим, мало не покажется.
Другого ответа Тарнадин и не ожидал, поэтому о фургоне, заказанном в салоне автопроката «Аврора» два дня назад и располагающим только пятью спальными местами, он учтиво промолчал. Распрощавшись с Завьяловым, Александр Устинович прежде всего поспешил в посольства за визами, а потом в бухгалтерию КПРФ за швейцарскими франками, доставленными посыльным из банка.
26. По дороге в РазливВ пять утра 3-го мая, когда солнце ещё не взошло, а единственный на весь двор фонарь в целях экономии не включили, Веня с небольшим рюкзаком и саксофоном сидел на скамейке у подъезда своего дома и ожидал появления транспорта, арендованного Тарнадиным для поездки за границу. Под скамейкой дремала местная достопримечательность – полуслепая кошка, потерявшая в борьбе за выживание левый глаз и часть хвоста. Тем не менее, в её, частично забельмованном правом глазу, всё ещё искрилась, поблескивая изумрудом, надежда на лучшую жизнь.
Когда возле подъезда остановился роскошный дом на колёсах, и тягучее Венино «ууухххтыыыжж!» прервало тишину ещё не проснувшегося двора, кошка вылезла из укрытия. По достоинству оценив подъехавшее железное великолепие, она среагировала по своему кошачьему разумению, выдавив из себя остаток вчерашнего ужина, широкий ассортимент которого был щедро предоставлен ей мусорным баком.
– Здорово, интеллигент, залезай! – Тарнадин отодвинул дверь кабины.
– Доброе утро, Александр Устинович! Вау! Какие хоромы!
Веня устроился в кресле рядом с Тарнадиным, рассматривая внутренний дизайн автодома. Машина плавно скользнула в тоненький предрассветный ручеёк городского транспорта.
– Ни дать, ни взять – корабль! А, Веня? Ну, прямо вылитая Аврора, точно как название автосалона, из которого я её вывел, словно супругу из загса, и прямёхонько в свадебное путешествие по Европам. А может, так и назовём её? «Аврора!?» Как тебе названьице, Вениамин Анатольевич?
– Аврора, так Аврора. Годится!
У Александра Устиновича было превосходное настроение, граничащее с эйфорией. Обнажённая Фортуна повернулась к нему миловидным лицом и, показывая пухлый зад остальным представителям человечества, прижалась к его широкой груди, нашёптывая на ухо: «Всё может быть, и то чего не может быть, чаще другого случается»…
Веня с удивлением посмотрел на раскрасневшегося Тарнадина, который, ни с того ни с сего, заголосил, распевая песню о вожде:
«Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной,
в горе, надежде и радости…»
«И знаю я: когда придётся круто,
Когда слепая молния в лицо блеснёт,
Простой, как правда, в трудную минуту
Ильич ко мне на выручку придёт».
Его щёки пылали, а от природы поставленный голос вылетал из открытого окна трейлера, вызывая смех у проезжающих водителей, даже не подозревающих насколько правдивы, а главное, актуальны для исполнителя эти, от души идущие, слова.
– ЭЭЭЭЭХ! Получай удовольствие, Вениамин Анатольевич, коль случай представился. Что, Аврорушка понравилась? То-то же!! Ты судьбу благодари за то, что встретил Александра Устиновича Тарнадина! – он поднял указательный палец, – да, Веня, считай, тебе крупно повезло. А что касаемо финансов и влияния, – плох тот программист, которого не прельщают лавры Билла Гейца и глуп тот еврей, который не хочет богатства Ротшильдов, – он рассмеялся, выставив крупные, жёлтые зубы.
– Шутка! На самом деле – цель нашей судьбоносной поездки – оздоровить ожившего и снабдить партию деньгами. Не она ли единственная наследница Ленинского состояния? Она, родимая! Кормилица наша ненаглядная! – Тарнадин вытащил из пакетика салфетку и основательно высморкался.
В полемику о партии Веня решил не вступать и правдоподобно зевнув, закрыл глаза:
– Что-то на сон потянуло, – сказал, – посплю чуток, может светлое будущее приснится.
Он достал из рюкзака бутылку с минеральной водой, отпил глоток и, повернув голову в сторону бокового окна, притворился спящим.
«Ну и жучище, – думал он, – марксизмом-ленинизмом прикрывается. Завьялову о векселе слова не сказал. Что-то здесь плохо пахнет», – засевшее под ложечкой чувство опасности, сверлило душу, напомнив Вене шашель, питавшуюся старинным маминым «Стейнвеем», оставляя крохотные дырочки, в которые папа впрыскивал ядовитую жидкость. Дурацкое словосочетание «дырявая душа» прилепилось, как банный лист, к разрозненным Вениным мыслям. Что за напасть! С ним такое бывало. Привяжется какой-нибудь мотив или рифма и, что ни делай, ничего не помогает. Часами назойливо сверлит мозги. Чушь какая-то. Так и крыша может поехать. Заснуть бы по-настоящему! – он зажмурился. Луч солнца облюбовал полоску стекла, оставшуюся не погружённой в оконную прорезь. Веня нашёл кнопку жалюзей и, спустив паутинчатый навес, погрузился в сон. Приобретшая контуры, «дырявая душа» повисла в воздухе, благосклонно разрешая истончённому лучу штопать ненавистные дыры. Заштопанная, она стала похожа на заварной крем, ванильным ароматом раздражая рецепторы запаха и вызывая у Вени нарастающее чувство голода. Он открыл глаза и увидел алебастровые щёки и нос Тарнадина. Александр Устинович надкусывал наполовину завёрнутый в салфетку квадратик «Наполеона», обильно припорошенный сахарной пудрой. Слоёные крошки падали на длинное белое полотенце, покрывавшее его вязаный свитер и фирменные джинсы.
– Ну, что, покемарил часок? – Тарнадин облизал губы. Хочешь торт? Бери! Тут, под крышкой. В термосе кофе, а за тобой на сидении одноразовые стаканы. Брызни нам по четверть литра. Без остановок скорее приедем.
Машина одиноко плыла по унылому шоссе, направляясь на юг. Пейзаж, крошечной точкой маячивший впереди, раздваивался. Его обе половины мчались навстречу Авроре, демонстрируя её пассажирам красоту серпуховского района.
– Слышь, Вень, Торпеда баранину замариновал к нашему приезду. Шашлычками побалуемся. В этих апартаментах имеется приличный холодильник, – Не оборачиваясь, Тарнадин ткнул большим пальцем руки в затемнённый салон автодома, – у меня там водочка охлаждается и припасены кое-какие деликатесы. Попируем, переночуем в Разливе и двинемся в сторону Белоруссии, прямёхонько к Минску.
27. Ну, с Богом!В Разливе прибытия москвичей ожидали с нетерпением. Анатолий Львович мечтал, наконец, увидеть сына.
Торпеда, желая угодить начальнику, усердно ухаживал за дачей. А мечты о скором путешествии за границу пробудили его дремлющее воображение: к восторгу Ленина и Штейна, он ежедневно баловал их кулинарными новшествами.
Владимир Ильич вспоминал молодость, красоту Швейцарии и гостеприимный Цюрих. При мысли о том, что ему снова посчастливится дышать воздухом Швейцарских Альп, старик еле сдерживал слёзы и глотал ком счастья, стремительно подступающий к горлу. Он пристально вглядывался в экран компьютера, на котором появилась карта деревеньки Нидеррордорф, что в восемнадцати километрах от Цюриха. А профессор Штейн с интересом наблюдал за реакцией древнего старика на колдовство нынешней техники.
В полдень Торпеда дефилировал у распахнутых ворот Разлива. Козырьком приставив ладонь ко лбу, он вглядывался в серпантин пыльной дороги, в конце которой, наконец, появилось неопознанное транспортное средство, напоминающее то ли барак будущего, то ли мутацию автобуса.
«Офигеть, не очухаться!» – воскликнул он, почёсывая затылок, а потом размахивал руками и бежал за машиной до самого дома.
Профессор Штейн осторожно поднимался по гранитной лестнице, ведущей из подвала в сад. Он держал под руку улыбающегося старца в тёмных очках, над которым впервые за восемьдесят три года и четыре с половиной месяца простиралось полотно голубого неба.
Веня с Торпедой выгружали продукты из холодильника.
Из кабины автофургона выпрыгнул Тарнадин, размял затёкшие ноги. Заметил Ленина, укутанного в полосатый плед. Поморщился. Ехидный жёлтый цвет штанов на тощих ягодицах Ильича и тапки с торчащими усами показались Александру Устиновичу в свете дня шутовским нарядом. Он подумал, что предводителю угнетённых масс не прилично даже приближаться к шикарной Европе в подобном карикатурном виде и что, при первой же возможности, следует купить старику комплект благопристойной одежды. Он пригладил волосы и направился к лестнице.
Заметив Тарнадина, Штейн натянул на плечо Ленина сползающий плед:
– Владимир Ильич! Сейчас я познакомлю вас с хозяином этого дома.
Подошёл Тарнадин, протянул руку:
– Приветствую вас, товарищ Ленин! Как самочувствие?
– Спасибо, неплохо. А я вас помню, батенька, – Ильич дрожащим пальцем указал на бордовую родинку, – и засмущался, – вы в …этом, в кино надо мной висели, или… простите, не знаю, как сказать… – он ответил на рукопожатие, вложив сухую ладошку в растопыренную пятерню.
– Веничка! Здравствуй, мой мальчик! – Анатолий Львович расцеловался с подбежавшим сыном, – Владимир Ильич! Разрешите представить: выдающийся программист, без пяти минут кандидат наук, полиглот, музыкант, красавец, ну это и так всем видно, Вениамин Анатольевич Штейн – мой сын.
Веня пожал морщинистую руку.
– Папа! Ты верен себе, заставляешь меня краснеть.
– Молодой человек, ваш отец счастливец. Если бы у меня в своё время родился сын, – Владимир Ильич опустил глаза и, нахмурив брови, сказал слабым, надтреснутым голосом, – возможно, история писалась бы иначе.
– Братки! Будет канитель разводить. За стол пора. У меня мясо поспевает. Торпеда загребал руками воздух, приглашая всех к обеду.
За домом, на свежескошенной траве стоял стол, накрытый белой скатертью и сервированный на пятерых. Поблизости в кирпичной жаровне, нанизанные на десять шампуров, румянились куски маринованной баранины, разделённые кружочками репчатого лука и помидорными дольками. Весенний ветерок подхватил дым, пропитанный запахом жареного мяса, и погнал его в сторону рассаживающихся за столом людей.
– Наливайте, товарищ начальник! Вождю поднесите рюмашку. Слюну глотает. – Торпеда хозяйничал за столом, распределяя блюда с закусками вокруг центрального участка стола, предназначенного для подноса с шашлыками и с печёным картофелем. – Севрюжку пальцАми цепляйте, Владимир Ильич, а то вилкой весь ассамбляж испоганили. Кирнём, братки. За континенты!
Дважды опрокинув по 100 грамм и понюхав корку ржаного хлеба, густо натёртого чесноком, Торпеда направился к жаровне.
За столом царила непринуждённая обстановка. Говорили о маршруте предстоящего путешествия, о том, что горный воздух обладает целительными свойствами, о продвинутой современной медицине и о предположительных причинах, по которым космонавты больше не летают на луну.
Шашлыки получились сочные, в меру перчёные. В горячих клубнях молодого картофеля, покрытых хрустящей корочкой и надрезанных по центру, плавились кусочки сливочного масла. Запахи свежего укропа и домашних солений разжигали аппетит ещё сильнее, не давая чувству насыщения прекратить разгул чревоугодия. Тарнадин и Торпеда пили много, убухали почти два литра водки, были навеселе, но не пьяны.
Владимир Ильич ел с удовольствием. Приставив ладонь к уху, прислушивался ко всему, что говорилось за столом. Сам молчал.
Перед сном всё необходимое было перенесено в трейлер-Аврору: набор кастрюль, скороварка, мясорубка, миксер и много других кухонных принадлежностей.
Назавтра, 4-го мая в семь утра, компания путешественников собралась у раскрытых дверей автодома. Две его комнаты были оснащены компактными спальными местами с ящиками для постельных принадлежностей, подвесными столами, складными стульями, интегральными шкафами и антресолями для багажа. Помещение имело миниатюрную кухню, туалет и душ. Оно было спроектировано настолько рационально, что пятнадцатиметровая жилая площадь трейлера оказалась вполне достаточной для полноценного проживания пяти взрослых людей.
– Ну, с Богом! – Веня и Анатолий Львович помогли Ильичу осилить подъём по ступенькам и оказаться внутри уютных апартаментов. Тарнадин сел за руль, настроил навигатор, а Торпеда пристроился рядом, для страховки поддерживая раскрытую карту на уровне глаз начальника.
По радио транслировали авторскую песню Леонида Сергеева. Хриплый голос с переменным успехом вырывался из поскрипывающих усилителей:
«По пустым дорогам ходим все под Богом.
За последним стогом темные леса.
Там места глухие, тени там лихие.
Забредешь во мхи – некому спасать».
Александр Устинович нервно переключил передатчик на другую волну:
– Ша, ворон, раскаркался!
Трескотня настройки сменилась речью Завьялова на последнем пленуме ЦК КПРФ:
– Дорогие товарищи! Дорогие наши соотечественники! С чувством глу…
– Пусть и этот помолчит. Наслушался его бредней, по самое не хочу, – Тарнадин выключил радио и, прибавив скорость, выехал на центральную трассу.
28. На границеЗа окнами, украшенными весёленькими занавесками, проплывали полотна лугов, отражая все оттенки зелёного цвета, от светло салатового до бутылочного. Ветер насвистывал жалобную мелодию и летел за Авророй, вплоть до контрольно пропускного пункта Россия – Белоруссия, где долговязый таможенник, на вид лет девятнадцати, взимал оплату за транзит. Простояли минут сорок. Паренёк вскочил на подножку кабины и, выхватив из рук Торпеды пачку паспортов, заглянул в салон:
– Тарнадин, Вертухаев, Штейн, эээ, ещё один Штейн и Ульянов – все здесь? – сверил фотографии с повернувшимися к нему напряжёнными лицами и, пересчитав полученные деньги, вернул паспорта и пожелал всем счастливого пути.
– Быстро и безболезненно, – сказал Тарнадин, нажимая на газ.
– Как укол в отмороженный зад, – согласился Торпеда.
29. МечтыТёплый ветер трепал каштановый завиток на густой шевелюре Штейна младшего. Пейзаж за окном почти не изменялся и наводил Веню на мысли о бренности существования. В конце концов, философские раздумья набросали на холсте его здорового воображения эскиз семьи, собравшейся за большим круглым столом и с аппетитом уплетающей гефилте фиш, приправленный бордовым, обжигающим хреном. Очаровательная хозяйка и трое прелестных детей нарисовались настолько чётко, что, если бы молодой человек встретил их в реальности, то наверняка бы узнал.
Он извлек саксофон из войлочного чехла, ласково провёл рукой по сверкающей поверхности. Инструмент запел тихо, почти шёпотом импровизацию в стиле ритм-энд-блюз, нанизывая на хрустальные нити звуков сокровенные Венины мысли, ещё не сложившиеся в слова, но уже улетающие в вечность из приоткрытого окна Авроры.
30. Первый рассказ профессора ШтейнаЗа чашкой крепкого кофе профессор Штейн рассказывал Ленину историю своей семьи:
– На северо-восточной границе Минска находится лесное урочище Куропаты – место массовых захоронений жертв репрессий довоенных лет. Там покоятся около двухсот пятидесяти тысяч человек. Среди них – мой дед, Исаак Наумович Штейн, известный хирург, который был арестован органами НКВД и расстрелян в 1939 году. Да, Владимир Ильич, это происходило недалеко от шоссе, по которому мы сейчас едем. Двадцать пять лет назад я посетил братскую могилу в Куропатах. Тогда я не думал, что ещё раз побываю в этих местах, но, как видно, судьба распорядилась иначе.
Так вот! В начале войны Цилию Иосифовну Штейн (мою бабушку) с десятилетним сыном Давидом успели отправить в Среднюю Азию, в эвакуацию. Её старший сын, восемнадцатилетний Лёва (мой будущий отец) в это время уже был на фронте. Остальные члены семьи остались в Минске.
Немцы сгоняли евреев в гетто. Когда мою парализованную прабабушку, Фаину Гарт родные усадили в инвалидное кресло, чтобы снести с третьего этажа, сосед по лестничной клетке, наполовину немец, «от души» помог беспомощной старухе. Он выбросил её из окна вместе с креслом. А ведь этот сосед полжизни прожил бок обок с Гартами и даже лечился у моего прадеда – Моисея Львовича, знаменитого офтальмолога, умершего за несколько лет до войны… – Анатолий Львович глотнул кофе и вытер вспотевший лоб салфеткой, – вначале нацисты избавлялись от тех, кто не мог работать, затем началось тотальное истребление евреев. Уничтожали всех подряд.
Началась эпидемия тифа. В один из погромов убили почти всех больных в больнице гетто. В детском отделении в это время находилось семеро детей. Туда ворвались два пьяных полицая и ножом зарезали всех семерых. Они плевали на мёртвых малышей, брезгливо морщились и называли их ублюдками и погаными жидами. Потом, уселись на пустую кровать, курили папиросы, ели шоколад, а шариками из серебристой обёртки целились попасть в безжизненные детские лица, на которых бледными масками застыло выражение ужаса.
Рядом находилось отделение тифозных. Туда убийцы побоялись войти. Это спасло жизнь бабушкиному племяннику, десятилетнему Фимочке, который во время этой резни находился в инфекционной палате и всё происходящее видел через стеклянную дверь. Тогда Фимочка чудом остался жив. А потом… начались трёхлетние скитания осиротевшего ребёнка. Днём он прятался в канализации, ночью рылся в помойных ямах, выискивая остатки человеческой пищи, хоть основным его питанием были крысиные отходы. В сорок третьем году абсолютно седой парнишка, почти разучившийся говорить, случайно попал в партизанский отряд, а после войны вернулся в Минск… калекой без обеих ног. Он передвигался на самодельных ходиках, отталкиваясь от земли культями. Оставшиеся в живых родственники, приютили Фимочку, спасли его от неминуемой смерти. В то страшное, послевоенное время исчезали десятки инвалидов с разрушенных улиц Советских городов. Убогих попросту уничтожали власти, действуя по принципу: «нет человека – нет проблемы».
В возрасте тридцати четырёх лет Ефим Наумович перенёс инсульт и через месяц после этого ушёл из жизни, если можно назвать жизнью двадцать четыре года ежедневных страданий, искалечивших тело и психику этого несчастного человека.
Да, Владимир Ильич, не весёлый рассказ получился, не весёлый… Но что поделать? Наша память неизбирательна, но зато ассоциативна, – профессор Штейн задумчиво посмотрел в окно и, тяжело вздохнув, перевёл взгляд на часы: – пойдёмте-ка, дорогой мой, я сделаю вам укол…
На ночь путешественники обосновались в кемпинге вблизи от Минска. Перед сном решили пройтись, осмотреть территорию, и, завернув Ильича в плед, бодро ступили на Белорусскую землю. Прошли метров десять. Воздух был пропитан тошнотворным запахом. Судя по громкой беседе пожилой супружеской пары, также вышедшей из автомобиля подышать свежим воздухом, причина зловония – знаменитый мясокомбинат, беспрерывно источающий перегар жира и терроризирующий этим минчан, оказавшихся на редкость живучими. Пришлось возвращаться обратно. Салон трейлера с включённым кондиционером выглядел сомнительным, но всё же спасением от непредвиденного удушья.
– Ещё один день без движения, и я боюсь, что у нас атрофируются конечности, – Анатолий Львович, зажав нос, подталкивал к машине Владимира Ильича, который последовал примеру профессора и, скорчив гримасу, старательно засеменил, придерживая сползающий плед.
31. Первое непредсказуемое поведение организмаНа следующий день, пройдя пограничный пункт «ВАРШАВСКИЙ МОСТ» – «ТЕРЕСПОЛЬ» в три часа дня компания прибыла в Варшаву.
Когда Аврора проезжала по одной из многолюдных улиц, Ленин внезапно высунулся из окна по самый пояс и, выбросив правую руку вперёд, взвизгнул – Здравствуйте, товарищи!
– Да, что ж это такое! Владимир Ильич, здесь вам не броневик! – Анатолий Львович спонтанно произнёс эту фразу, но, тут же извинился, сожалея о своей несдержанности. «Привычка – вторая натура», – подумал он и принялся страховать любопытного старика, ухватившись за ворот его голубой пижамы.
На шумной стоянке гигантского торгового центра «Аркадия», Тарнадин припарковал машину, предупредил, чтоб никто не выходил на улицу и отправился искать магазин мужской одежды. Через полчаса он вернулся с двумя пакетами.
– Вот вам прикид, товарищ Ленин!
На джинсы и серый трикотажный свитер в красную полоску Ильич смотрел, подозрительно прищурившись, но, взглянув на кроссовки фирмы «Найк» с подсветкой на задниках и на белые спортивные носки в рубчик, снизошёл до чуть заметного кивка одобрения и, собрав всё в охапку, заковылял в душевую переодеваться. Атласная пижама соскользнула с костлявого тела и засверкала голубым озером вокруг тощих ног. Со всех сторон осмотрев себя в зеркале, Владимир Ильич пришёл к неутешительному выводу: – «раб божий – обшит кожей». Одевался он долго. Штейна, стоящего за дверью, не впускал. Торпеда крутился в кухне, варганил на быструю руку обед, предварительно закрыв окна в салоне и включив кондиционер. Веня натирал саксофон и потихоньку насвистывал колыбельную Клары из «Порги и Бесс». Тарнадин, воспользовавшись остановкой, задремал, ритмично похрапывая в такт колыбельной…
– Вот это да! – воскликнул Штейн.
– Круто! – согласился Веня.
– Оп-п-ааа!!! – проснулся Тарнадин.
– Ни струя себе фонтан! – констатировал Торпеда.
В проёме туалетной двери, на фоне белого унитаза, широко расставив ноги в светящихся кедах и засунув руки в карманы джинсовых брюк, стоял Владимир Ильич Ленин.
– МММ! Вкусно пахнет! Что у нас на обед? Шшш! Не подсказывайте! Жареная картошка и сосиски. Угадал? – он потёр ладони и обратился к Торпеде:
– Любезнейший! Не затруднит ли вас приготовить мне на ужин манную кашу с желтком и маслом? Моя мама готовит это блюдо, когда ей кажется, что я худею. – Он пригладил несуществующий чуб, приставил палец к губам и, боязливо оглядываясь, прошептал:
– Плюс пять-шесть килограмм и можно появиться перед мамой…, – присел на край табуретки, и… уронив голову на грудь, мгновенно уснул.
Тарнадин первым нарушил шоковую тишину, затянувшуюся на долгих две минуты:
– Львович, что это с ним? А? Сделай что-нибудь, чёрт возьми, ну укол какой или массаж черепа.
– Нужен свежий воздух! – Веня кинулся открывать окна.
– Ты жердочку [13] щипашцами [14] не мусоль, – Торпеда преградил ему дорогу.
– Не ты тута хозяин окна открывать. Кипишной ты, Венька, белку [15] гонишь. Ну, напустил бы гулу людского до полной контузии слухового аппарата, а выхлоп от этого, какой? Потеря времени и баста! Но тебе, что втусовывай, что не втусовывай – один чёрт! Не репа, [16] а пердобак. [17]
– Да, тише вы все! Успокойтесь! – профессор Штейн нащупал пульсирующую жилку на шее спящего Ильича и, застегнул на предплечье аппарат для измерения артериального давления. – Пульс в порядке. Давление тоже. Никакой угрозы для жизни. Человек просто переутомился и заснул. С каждым может случиться. Пусть отоспится. Да, помогите же мне его уложить!
Отобедали молча. Молча отправились в путь. В семь вечера Аврора пересекала город Лодзь. Ни изысканность архитектуры Лодзинских дворцов, ни ретро-трамваи, снующие по бульварам наперегонки с велорикшами, ни обилие мигающих реклам, агрессивно внушающих доверчивому народу «что хотеть», не интересовали путешественников, обеспокоенных неадекватным поведением Ильича. Он ровно дышал, не реагируя на шлепки по щекам, на брызги ледяной воды и даже на запах манной каши, поднесённой Торпедой под его очевидно пожелтевший нос. А трейлер всё ехал, ехал по инерции, не сворачивая с намеченного маршрута, теперь одному Богу известно зачем.
Ночь провели на крестьянском подворье, не доезжая города Познань, ещё не так давно – столицы Великой Польши. Никто не мог уснуть. И только на рассвете, оставив безрезультатные попытки разбудить Ильича, Анатолий Львович уговорил Тарнадина поспать хотя бы два часа.
– Александр Устинович! Вы же не хотите, не дай Бог, заснуть за рулём и сделать аварию? Оттого, что мы все вместе ойкаем над спящим Лениным, ничего не изменится. Поэтому немедленно закрывайте глаза и начинайте считать овец. Кстати, глубокий сон на латыне – «Сопор сонд», а «Спор цон» на иврите – считай овец! Если запомните – передавайте дальше, чтобы народ знал, откуда ноги растут.
32. РегрессияВ семь утра аромат чёрного турецкого кофе, заваренного Торпедой с добавлением мускатного ореха и гвоздики, наполнил воздух и, сконцентрировавшись в углу салона, повис над лысиной Ильича, вызвав слабое подёргивание ноздрей и шевеление усов. Качнувшийся клинок бородки, словно стрелка измерительного прибора, заёрзал и остановился, направив рыжее остриё прямо на, зажатый джинсами, орган мочеиспускания. Жалобно похныкивая и сжимая обеими руками ещё не прорвавшуюся плотину, Ильич сполз с дивана и, стиснув колени, засеменил в туалет. Ещё секунда, и небольшая заминка с непривычным действием – расстёгиванием молнии, – могла стоить Ильичу подмоченной репутации. Но на то и существуют друзья, чтобы вовремя протянуть руку помощи, и не одну. Вмиг, все оказались рядом. Вместе они с лёгкостью преодолели возникшее препятствие, спасая переполненный мочевой пузырь от, казалось, неминуемого взрыва. По примеру отважного пузыря и другие шлаковыводящие органы вступили в борьбу по очистке организма от вредных элементов.
Помыв руки, отхаркавшись и переодевшись в пижаму, Владимир Ильич вздохнул полной грудью.
– Вы нас до смерти напугали, товарищ Ленин. – В голосе Тарнадина слышался упрёк. – Вы спали и спали и, похоже было, что никогда не проснётесь. Я лично, чуть не сошёл с ума. Пятнадцать часов в неведении. Шутка ли?
– Прошу прощения, любезнейший! Если бы я знал, что мой продолжительный сон повредит Вашему рассудку, то непременно проснулся бы раньше. – Ильич с удовольствием поглаживал оранжевый атлас пижамы. – Друзья! Виноват, не при параде, но если, в виде исключения, вы разрешите мне позавтракать в домашнем наряде, я вам буду очень признателен. А выходную одежду стоит приберечь для Швейцарии. Наверняка, там меня ожидают встречи в верхах и торжественные обеды. – Его глаза задорно щурились, кожа лица разгладилась, и даже казалось, что он стал выше ростом.
Анатолий Львович внимательно наблюдал за поведением своего подопечного. Вчерашнее высказывание о встрече с матерью и внезапный, затянувшийся сон, вызывали тревогу, но, с другой стороны – неожиданное красноречие и явно помолодевшая внешность… О своих подозрениях он предпочёл не высказываться, но дьявольское слово «регрессия» не оставляло его в покое и, нарушая ход мыслей, звучало в голове, при каждом взгляде на цветущего Ильича.
33. Второй рассказ профессора ШтейнаВ семидесяти километрах от Берлина, на границе с Польшей, огибая заброшенные колышки столбиков, по всей видимости, символизирующие пропускной пункт, трейлер «Аврора» беспрепятственно въехал в начищенную до блеска Германию.
Появился Штраусберг, милый городок с пышным страусом на гербе. Ехали не торопясь, наслаждаясь видом ухоженных деревянных домиков, утопающих в цветах герани. За остроконечной церквушкой живописным лего разлёгся пёстрый базар. Решили припарковаться, пройтись, и заодно купить что-нибудь вкусненькое на десерт. Торпеда остался готовить обед.
На рыночных прилавках были аккуратно разложены овощи, фрукты, плетеные корзиночки с лесными ягодами, домашний творог, кадки со сметаной и многое другое. На одном из прилавков Тарнадин увидел печёные яблоки в шоколаде, сложенные горкой и, заручившись кивками остальных, оплатил покупку. Все четверо, не сговариваясь, развернулись и торопливо зашагали к Авроре, над раскрытыми окнами которой витал запах сибирских пельменей в жареном луке со сметанным соусом, удивляя недоумевающих немцев: «Тут русский дух? Я-я-я! Тут Русью пахнет!»
В это время Торпеда готовил поистине божественный обед. До приглашения к трапезе пришлось, глотая слюну, прождать ещё пятнадцать минут, – мелочь, кажущаяся вечностью. И действительно, атакованный аппетитными запахами, мозг настраивается только на одну мысль – как бы побыстрее насытить капризную, как ребёнок, утробу, требования которой растут пропорционально количеству яств и их ароматов, предлагаемых вредной, если не сказать, развратной кулинарией. Так и сегодня – жареные в глубоком масле креветки, обваленные в яйце и золотой хлебной крошке с горчичным соусом, хоть и вызвали чувство насыщения, являлись, всего лишь, закуской, и были вынуждены потесниться в безразмерных желудках, уступив место пельменям. И даже дальнейшее поедание душистого жаркого с кусками сочной коричневой картошки, не явилось заключительной нотой в припевах этой гастрономической вакханалии. Всё съеденное было залито русским квасом и утрамбовано в распухших животах немецкими яблоками в шоколаде.
И вот уже снова плывёт Аврора по рекоподобному шоссе, приближаясь к Берлину, ласково называемому его жителями «Афины на Шпрее».
Профессор Штейн вглядывался в дымку приближающегося города.
– Владимир Ильич! О том, что в 1933 году в Германии пришли к власти фашисты с Адольфом Гитлером во главе, о Второй Мировой войне, закончившейся капитуляцией немцев в мае сорок пятого, вы уже знаете из предыдущих многочасовых рассказов. А дальше было вот что. Не хочу вас утомлять, расскажу вкратце. Советам не составило труда навязать идеи социализма освобождённым странам восточной Европы, а так же прибранной к рукам, восточной части Германии, в то время как западная часть, оккупированная союзниками, стала демократической страной, быстро набирающей экономическую силу. Обе половины когда-то единого государства, стали представлять собой модели США и СССР в миниатюре.
– Владимир Ильич! Вам не надоело меня слушать? – спросил Штейн.
– Я весь внимание.
– Тогда продолжим…
Восточная Германия отделилась от западной демократии уродливой бетонной стеной. Но даже этот монстр не останавливал перебежцев. Самодельные воздушные шары, верёвки, перекинутые между окнами соседних домов, таран стены бульдозером – буквально всё шло в ход. Люди сопротивлялись насилию, а по ним стреляли. В итоге – больше тысячи убитых – взрослых и детей.
Анатолий Львович добавил кипяток в стакан Ленина, – Владимир Ильич! Пейте чай! У Вас пересохли губы.
Ленин сделал несколько глотков:
– А что было потом?
– О том, как развалился Советский Союз и как разобрали берлинскую стену на сувениры, я расскажу вам в следующих беседах. А сейчас, Владимир Ильич, посмотрите в окно! Видите колонны? Это Рейхстаг. Здесь начался и закончился Третий Рейх.
На лице профессора мелькнула тёплая улыбка:
– Кстати, в мае сорок пятого года мой отец, Лев Израилевич Штейн – солдат Красной Армии, оставил надпись на стене Рейхстага: «В доме, где свастикой хвастал злодей, стену гвоздём процарапал еврей».
Ленин вздохнул:
– Ах, Анатолий Львович! Будь я на месте вашего отца, счастливее меня не было бы человека.
Штейн обнял старика:
– Укройтесь пледом, Владимир Ильич, стало прохладно.
34. Турецкий БерлинДабы осуществить решение большинства и отужинать на сей раз вне Авроры, Веня погрузился в чтение путеводителя.
– Послушайте! Здесь написано: «Чтобы вкусно поесть поезжайте в Кройцберг, традиционно турецкий район Берлина. Здесь вас ждут: знаменитый донер, овощные супы, салаты, долма, турецкий чай, пахлава и многое другое», – Как вам такое предложение?
Все, кроме Торпеды, предпочитающего ужин «аля Кузьма Вертухаев», одобрительно закивали головами.
– Идёт! – Тарнадин выставил в навигаторе слово «Кройцберг», и электронный указатель побежал по экрану, рассекая карту города красной линией, будто старался напомнить туристам о недавнем прошлом разделённого стеной Берлина.
– Да, Владимир Ильич! По всей вероятности восточный Кройцберг отличается, скажем, от Стамбула или любого другого турецкого города не более чем архитектурой. И тоже не всегда. Обратите внимание! Перед вами мечеть! – профессор Штейн следил за пробегающими вывесками, на которых латинские буквы складывались в непонятные для него слова. Толстые матроны в цветных платках с орущими детьми на руках толкали перед собой коляски, наполненные овощами и зеленью, а усатые мужчины в бордовых войлочных фесках с кисточками сидели лицом к проезжей части улицы и попивали чёрный кофе из крохотных медных турок, заедая его рахат-лукумом.
Ах, немцы, немцы, вы патологически изощрённо заботились о чистоте расы, уничтожая целые нации, не вписывающиеся в созданные вами же критерии. И чего вы добились? Чужаки, улицы, захламленные старым скарбом, наркоманы, валяющиеся прямо на тротуарах, выкрики мусульман на призывы Имамов – и всё это в самом сердце Берлина! Поистине преступление влечёт наказание. Если бы молодому Гитлеру привиделось будущее Германии, он бы, наверняка, предпочёл стать художником. Кстати, критики говорят, что у него это хорошо получалось.
Остановились возле небольшой закусочной в центре Кройцберга.
От порции кебабов с чипсами Торпеда отказался, принципиально не притронувшись к турецкой пище. За столом он сидел в пол оборота, скорчив брезгливую физиономию, исподтишка поглядывал на миниатюрные пиалы с диковинными восточными салатами и на ещё пыхтящие лепёшки, напоминающие луну в кратерах. Удовольствие, с которым все остальные поглощали чужеземную пищу, било наотмашь по уязвимому самолюбию Торпеды, а звуки смачного пережёвывания и причмокивания после каждого глотка холодного пива Кёльш, отдавались гулом в его чутких барабанных перепонках.
35. Угрызения совестиРасположились на ночь в кемпинге. Спать не хотелось. Тарнадин, Веня и Торпеда устроили променаж за пределами автопарка. Ленин и Штейн остались играть в шахматы.
– Анатолий Львович, на «пат» не рассчитывайте! – Владимир Ильич прикусил губу, обдумывая решающий ход. – Мы пойдём другим путём. Шах, батенька, и – Мат! – Он удовлетворенно откинулся на спинку стула, зажав подмышками большие пальцы рук, и стал декламировать:
– И если сердце съедено тоской,
И если в нем не заживает рана, —
Склонись скорей над шахматной доской:
Здесь тот же мир, но только без обмана.
Княгиня Нина Михайловна Подгоричани, батенька, знаете такую?
– Да, Владимир Ильич, доводилось читать. А вот, скажите, кто автор этих строк?
«Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.
Сказали ему: „Проклятый,
Пей, осуши до дна…
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!“»
– Дорогой мой, я вижу, вы озадачены?! Тогда – небольшая подсказка: – это перевод с грузинского. Ммм!.. Ничего вам не говорит?.. Иосиф Виссарионович Джугашвили! Удивлены? Да, в юношестве он писал стихи. Вы знаете, некоторые биографы сравнивают Гитлера и Сталина и даже называют их братьями-близнецами. Представьте себе иллюстрации одного людоеда на стихи другого… Жуть какая-то получается. Зло и его подноготное. Да, несомненно и тот и другой – две стороны одного сатаны. Кстати, не думайте что…
– Довольно! Анатолий Львович, голубчик, – Ленин прижал ладони к ушам и, потупив мученический взгляд, замотал головой.
– Пощадите! Не препарируйте живую душу! Вы, батенька, подарили мне вторую жизнь, чтобы ткнуть носом, как нашкодившего щенка в лужу мочи. Но зачем мне урок воспитания? Что я, беспомощный старик, могу изменить сегодня? Вернуть к жизни убиенных?
– Владимир Ильич! Бог с вами! О чём вы говорите? – В эти ужасные времена вас не было, то есть, вы находились в мавзолее и ответственность за жертвы ни в коем случае не лежит на вас.
– Ах, Анатолий Львович, голубчик! От памяти никуда не денешься. За сталинские репрессии и ужасы войны я действительно не в ответе, но на моём счету достаточно преступлений, за которые мне место в аду на одной сковородке с этим, как его… Адольфом Гитлером. Мне бы свою душу отчистить, вот только не знаю как.
Владимир Ильич скорбно сдвинул брови, умоляюще посмотрел на Штейна и вдруг… заплакал. Он шмыгал покрасневшим носом. На худеньком дрожащем плече не удержался скользкий атлас пижамы, обнажив впалую грудь, наспех обтянутую прозрачными кусками желтоватой кожи, на которой зарубцованные шрамы топорщились келоидными узлами и свидетельствовали об экзекуции, сотворённой верными ленинцами над объектом своей веры.
«А разве забальзамированный Ленин не заменял тысячи распятых Иисусов в сотнях разрушенных церквей, пока перестройка не воскресила Веру, репрессированную и расстрелянную всё теми же ленинцами?» – Анатолий Львович ухватился за показавшуюся подходящей мысль.
– Владимир Ильич! Люди толпами ходили в мавзолей, как в храм. Чуть ли не молились на вас. Вы стали религией для нескольких поколений землян. И по сей день, коммунисты мира превозносят ваше имя.
Анатолий Львович обнял всхлипывающего Ильича, ласково поглаживая его лысую голову. Пытался утешить, как мог. Однако даже сравнение с Христом не реабилитировало бывшего вождя класса неимущих в его собственных глазах.
Ночью, когда все спали глубоким сном, Владимир Ильич с ужасом наблюдал за причудливо изменяющейся синтетической обивкой потолка Авроры. На неё чётко проецировались картины его пробуждающейся памяти.
Оживший Ульянов, и только он, точно знал истинные побуждения революционера Ленина, любившего вскидывать руку почти так же, как сумасшедший австриец…
Утром отправились в путь. Торпеда колдовал на кухне: «Не боись, братва! Будь на шконках. Шо, душняк смердит? Ща фатеру проветрю. Хош тута напряг с пайкой, баландер у вас знатный! Будь спок! Меня на понтяру не возьмёшь! А турок – он лох и фармазонщик, как чмо, даже не может как я. Осталось силос в керосине замочить и тесто помацать. Чую, не пирог прорежется, а пьедестал в натуре. Ууу – а, аж фиксы слюне потонули» [18] .
И действительно, к трём часам дня, когда Аврора въехала в суперсовременный Штутгарт, Торпеда с самодовольной улыбкой набок, мол, «я вам говорил», вынимал из печки толстопузый пирог с пупом, извергающим ароматный пар. Голодные взоры Штейнов и Ленина моментально обратились к дышащей золотистой корочке, а блуждающий взгляд Тарнадина к освобождающейся стоянке.
36. НидеррордорфВ шесть тридцать вечера, не заезжая в Цюрих, Аврора прибыла в симпатичный посёлок с трудно произносимым названием – Нидеррордорф. При въезде стояла скульптура стрекозы странного кирпичного цвета, или, может быть, её железное тело давным-давно покрылось ржавчиной из-за обильных дождей и количества водоёмов в этой низкокамышовой местности.
Цимер, зарезервированный Тарнадиным в Москве, нашелся без проблем.
Этот просторный деревянный дом с окошками, украшенными цветами, находился в тени гигантского плакучего кедра. Хозяева шале (так швейцарцы называют свои дома), видимо супружеская пара, увидев подъезжающий трейлер, выбежали на поляну, улыбались и раскланивались, указывая на просторную стоянку неподалеку от входной двери.
Познакомились, обменялись приветствиями и занесли в дом багаж. В большой светлой гостиной было тепло и уютно. Над гостиничной стойкой висела овальная металлическая тарелка с изображением деревушки и выпуклой надписью – «Нидеррордорф». Потрескивал камин. В резном корпусе старинных напольных часов усыпляюще раскачивался медный маятник. Из гостиной был выход на стеклянную веранду, украшенную яркими занавесками и горшками с геранью, а круглый стол, покрытый клетчатой скатертью, был сервирован на пятерых.
Внезапно раздался звенящий бой, сопровождаемый изумительной мелодией.
– Ave Maria! – Воскликнул Веня. – Обожаю эту музыку.
Часы пробили семь раз.
– Слишком громко. Ночью спать не сможем. – Тарнадин сморщился, постучал по стеклу «Ролекса» и зажал уши.
– Не волнуйтесь, в этих часах автоматически отключается ночной бой с одиннадцати вечера до шести утра, сказала фрау Зибер по-немецки, увидев жест постояльца.
– Nein, Nein, Alles klar! [19] Профессор Штейн чуть поклонился женщине и сделал успокоительный жест рукой.
– Ach, sagen Sie auf Deutsch! [20] – улыбнулась она, подбрасывая в камин дрова и, щипцами смешивая древесные угли. – Несмотря на последний месяц весны, вечерами спускается с гор холодный воздух и необходимо обогревать дом, – сказала она и, повесив на подставку раскалённые щипцы, сняла замшевые перчатки.
Поднялись на второй этаж, волоча по деревянной скрипучей лестнице чемоданы на колёсиках, ритмично подпрыгивающие на ступеньках. В комнатах витал запах чистоты и глаженого постельного белья. Первым делом Веня наполнил водой сверкающее никелем кнопок джакузи, находящееся в центре просторного холла. Белоснежные полотенца, казалось, ждали момента окутать разгорячённые тела гостей мягкой, ворсистой махрой. Приняв душ, компания направилась к джакузи, оставляя мокрые следы ступней на тёмном паркете. Блаженствовали безмолвно, закрыв глаза и предоставив бурлящей воде полную свободу действий ровно на 15 минут, не нарушая рекомендацию медиков, висевшую в рамке на стене.
В белых гостиничных халатах и в таких же тапках, проголодавшиеся россияне спустились к ужину. Расселись вокруг стола. Тут же появилось первое блюдо – огромная миска, наполненная кремовой субстанцией. Хозяйка обстоятельно кивала, подробно, в течение пяти минут рассказывая о достоинствах яства, и продолжала бы ещё, но Веня, с присущей ему деликатностью и прижатой к сердцу рукой, произнёс благодарственную тираду на немецком языке и, наконец, перевёл сказанное:
– Друзья! Это национальное швейцарское блюдо. Сырное фондю. Что за ухмылка, Торпеда? Вам не нравится название фондю? Так вот, чтобы понятнее – это расплавленный сыр с белым вином и специями. Подается фондю в специальной миске – какелон. Опять смешок! Ай-ай-ай, Торпеда, Вас нельзя пускать в высшее общество. А сейчас самое главное. Каждый вынимает из салфетки странную длинную вилку с двумя зубцами, проворно насаживает на неё кусочек хлеба и макает в фондю. Господа! Приятного аппетита!
К чаю подали сдобный яблочный пирог с взбитыми сливками. Десерт привычный, не требующий объяснений.
Пожелав хозяевам спокойной ночи, утомлённые трапезой постояльцы, гуськом поднялись на второй этаж. Обосновались в трёх комнатах, руководствуясь общностью интересов – профессор Штейн с Лениным, Тарнадин с Торпедой, Веня с саксофоном. Заснули, не считая овец. Просто не успели – моментально улетели в астрал, поручив земной действительности сторожить разомлевшие тела до альпийского рассвета.
Утром, после плотного завтрака фрау Зибер проводила гостей в крытый бассейн, находившийся за домом возле небольшой времянки. Из раздвинувшихся стеклянных дверей, за которыми виднелись спортивные тренажёры, выбежал мускулистый молодой человек. Представился: Ганс – профессиональный массажист и тренер по йоге и пилатесу.
Тарнадин затянул ослабевший пояс халата.
– Товарищи, мы с Веней хотим осмотреть окрестности. Вот только переоденемся и – на разведку. Отлучимся на несколько часов. К обеду будем точно. А вы тут не скучайте. Развлекайтесь. Пока!
Он обнял Веню за плечо и повёл к дому. Что-то настоятельно объяснял, подчёркивая важность информации, шевелением указательного пальца. Анатолий Львович смотрел им вслед, покусывал губу и нервно скручивал длинную нитку, свисающую с воротника халата.
37. БанкТакси подъехало к шале семьи Зибер точно в назначенное время. Тарнадин с Веней едва успели переодеться. Они решили ехать в банк, не созваниваясь заранее с Краузе.
– Никуда не денется, примет нас, как миленький. – Александр Устинович похлопывал себя по колену в такт румбе, нёсшейся из стереоустановки Фольксвагена.
– Я в этом не уверен. Его просто может не оказаться на месте. Командировка, болезнь… я знаю… – множество причин. Хотя приблизительное время приезда мы с ним оговорили ещё в Москве. Будем надеяться на то, что нам повезёт.
Банк только что открылся. Его служащие, преимущественно женщины, вели нудные переговоры с немногочисленными клиентами, не отводя глаз от мониторов и не прекращая ни на миг отбивать пальцами километры текстов на заезженных клавиатурах.
Тарнадин вошёл в свободную от посетителей ячейку, на которой была приклеена табличка с именем «Эльза». Опёршись двумя руками о стол, он склонился над скрученным узелком бесцветных волос и пустил в ход всё своё обаяние.
– Гуд Морген, фрейлин Эльза! Как вы прелестны! Не обменяться ли нам телефонами? – красивый мужской голос, томный взгляд прищуренных глаз и перевод Вени возымели действие на кровообращение анемичной фрейлин. Её щёки порозовели, и на лице появилось подобие улыбки. На прошелестевший ответ Тарнадин воскликнул: «зер гуд» – и многозначительно закивал головой.
Веня незаметно дёрнул его за рукав и, стиснув зубы, монотонно произнёс:
– Она спрашивает, чем вам помочь. Это был вопрос. Ферштейн?
– Во-первых – не учи учёного. Во-вторых – скажи ей, что мы специально прибыли из Москвы и что у нас назначена встреча с господином Краузе.
Выслушав Веню и стеснительно поглядывая на Тарнадина, девушка подняла телефонную трубку. Из всего ею сказанного Александр Устинович разобрал всего два слова: «Русланд» – в начале и – «Руссен» – в конце.
– К вашим услугам, господа! – Молодой альбинос в очках, с водянистыми глазами, трижды увеличенными за счёт выпуклых линз, возник ниоткуда, словно привидение.
– Глянь Веня! Вот те на! – сжав губы, процедил Тарнадин, – это же вылитый официант! Не хватает только полотенца через локоть.
Он обратился к чиновнику с приветствием:
– Герр Краузе, разрешите представиться… – в воздухе повисла протянутая рука.
– Ich bin die Sekretärin von Herrn Krause. Er nehmen Sie innerhalb einer halben Stunde. Sie können es im Wartezimmer warten, heraus.
– Опустите руку, Александр Устинович. Это не Краузе, а его секретарь. Он говорит, что господин директор примет нас в течение получаса и чтобы мы подождали его в приёмной, – прошептал Веня.
Жестом, пригласив посетителей следовать за собой, альбинос зашагал в направлении эскалатора.
Светлая приёмная, обставленная мягкой элегантной мебелью, несомненно, предназначалась для персон Ви-Ай-Пи.
– Kaffee, Tee, alkoholfreie Getränke oder etwas stärker? – Блондинка в мини-юбке и в босоножках на шпильках предлагала всевозможные напитки.
– От рюмки коньяка не откажусь и тебе, Веня, советую. За последние четыре дня, я тут, упаси Бог, чуть трезвенником не стал. Следует наверстать упущенное.
– Два коньяка, если можно, – попросил Веня по-немецки.
– Три, – уточнил Тарнадин, глядя на ноги удаляющейся девице.
Обратный путь занял немало времени. Скопившиеся заторы на дорогах напоминали Москву.
– Ох-охох! Окно такси – всё равно, что экран телевизора. Картинки и только. Никакого ощущения реальности, и удовольствие – ноль, – Тарнадин махнул рукой, – а, везде одно и то же…
– Александр Устинович! Что-то мне ваше настроение не нравится. Вы ведь не рассчитывали прямо сегодня, с бухты-барахты получить деньги? По-моему, всё идёт нормально. Желание Краузе посмотреть на Ленина легитимно. И то, что его приезд сегодня вечером, возможно, повлечёт за собой ряд дополнительных действий – тоже не конец света.
– Иди, знай! А его раздражающая ухмылка, когда ты сказал, о ком идёт речь? А то, что он хотел зажулить вексель под предлогом экспертизы? Нашёл дурака! Я боюсь, Веня, что этим спермахетовым чиновником движет исключительно нездоровое любопытство.
– Ну, почему же нездоровое? Разве вам не хотелось бы увидеть ожившего мертвеца?
– Так, то оно, так, только чует моё сердце, что надо менять тактику. Жаль, конечно, от торта отрезать кусок, но ничего не поделаешь, придётся дать начальнику на лапу. Мгм… Партии достанется меньше. Кстати, что касается сегодняшней вечерней встречи… Я переговорю с Краузе прежде, чем он начнёт общаться с Лениным, а ты, Веня, во время нашей беседы переводи в точности каждое моё слово, и никакой отсебятины! Понял?
38. Рождение идеиТакое развитие сценария Тарнадин не предвидел. На конкретное предложение комиссионных и просьбу представиться Ильичу без указания должности, – чиновник среагировал уже знакомой ухмылкой. Он ухмылялся, пожимая руку Ленину, ухмылялся, разглядывая его музейный паспорт.
На выходе он выдвинул немыслимое требование – идентифицировать личность получателя с помощью ДНК, после чего ухмыльнулся и уехал.
Полночи Тарнадин разгуливал по комнате. Курил, стучал дверью бара, звенел бутылками пива, и так далее, короче, – издавал звуки, мешающие Торпеде спать.
– Эй, начальник! Хиляй тимать! В хате бычки смердят. Хоть шнобель затыкай. И на пердобак шептало с противогазом натяни. Атмосферу чушканишь. Накосячил чего или жмур напрягает? Ты, слышь, головняк завтра разгребёшь, а чичас – на жену и тимать! Всё! Баста! [21] Торпеда перевернулся на другой бок и зарылся в одеяло с головой.
Тарнадин проснулся раньше всех. Поплавал в бассейне, принял контрастный душ и в восемь утра по московскому времени уже разговаривал с Завьяловым по телефону, сидя в шезлонге и наслаждаясь сигаретой и кофе-эспрессо с ароматом ванили:
– Юрий Геннадьевич, тут у меня идея родилась… Ну, вы уж и шутник… Да, да, роды стремительные… Я подумал, не пригласить ли… э… Бланка из Израиля сюда на отдых. Что-что? День рождения? Прекрасно! Да, да, Вы меня поняли. И старику знак уважения и э-ээ… ВИЛу, так сказать, подарок. Мне кажется, эта встреча скажется положительно на состоянии его здоровья. Нет, нет, с ним всё в порядке, ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами последний раз разговаривали, но дополнительные эмоции не помешают. Да, да! Вы абсолютно правы. Согласен на все 100. Так Вы созвонитесь с ним или мне это сделать? Вы? Хорошо. Только о встрече с братом старику пока не рассказывайте. Пусть увидят друг друга на месте. Всего доброго! Будем на связи. – Тарнадин допил кофе и, сделав глубокую затяжку, бросил окурок в пепельницу.
39. Шмуэль БланкНаконец Яэль нашла ресторан, полностью отвечающий требованиям события. Небольшой, уютный, в пяти минутах езды от дома, само название которого «Баба Яга» пророчило необыкновенный вечер. До дня рождения дедушки 14-го мая оставалась неделя, а дел – невпроворот… А тут конец семестра, экзамены. Подумать страшно, одна анатомия чего стоит. Косточки по ночам снятся, и мышцы лягушками скачут. Отвлечёшься на время – вся древняя латынь из головы птеродактилем вылетает.
Яэль вздохнула. Но дед-то не виноват, что в этом месяце родился. И дата солидная – девяносто лет! ДЕ-ВЯ-НОС-ТО! Уму непостижимо!
Если бы Шмуэль бен Захария остался жить в России, его называли бы Самуилом Захаровичем. От отца, Захара Александровича Бланка, Шмулик унаследовал оттопыренные уши, близорукость, знание русского языка и преданность еврейским национальным традициям, к которым, не раздумывая, вернулся потомок выкрестов Захар Бланк, влюбившийся в дочку польского раввина. О родстве с Лениным, о дне, когда шестилетний Самочка приезжал с родителями в Горки навестить больного дядю Володю, о том, что тётя Надя угощала их чаем с ватрушками, Самуил Захарович вспоминал часто и не упускал случая в тысячный раз поделиться воспоминаниями, как только появлялся терпеливый слушатель.
К собранию сочинений Ленина Шмулик относился трепетно. Как новенькие красовались пятьдесят пять девственных томов за стеклом книжного шкафа домашней библиотеки. Зато классики русской литературы, зачитанные до дыр и неоднократно подклеенные, порядком обтрепались.
Из Польши в подмандатную Палестину Бланки эмигрировали в 1926-ом году, а в начале сороковых прогрессивно мыслящий Шмуэль вступил в компартию и вскоре стал ответственным за её финансовое обеспечение. И, наконец, в девяностом, как представитель израильской коммунистической партии, он прибыл в Москву на двадцать восьмой съезд КПСС, где познакомился и даже подружился с депутатом съезда, энергичным партийным деятелем, товарищем Завьяловым Ю. Г. Завьялов лично отвёз израильского гостя в мавзолей и, по-хозяйски обойдя длинную очередь желающих поглазеть на мумию, прошёл в усыпальню, подталкивая опешившего Шмулика к тому, который когда-то был его двоюродным братом, а сейчас, торжественно одетый, лежал, как восковая кукла, откровенно, мало чем отличаясь от экспонатов музея Мадам Тюссо.
По случаю съезда партийцы устроили банкет в ресторане «Конь и пёс». Скошенные кресты в центре накрытых столов порядком удивили близорукого Шмуэля. При ближайшем рассмотрении они оказались картонными табличками, насаженными на стебли искусственных тюльпанов. На рассматриваемой Бланком картонке краснела фломастерная надпись – «ЗАСРАСТ». Слово не знакомое израильтянину, было понятным партийцам и обиходным в среде официантов. Завьялов обнял растерявшегося Шмулика за плечи и, прикрыв ладонью интимную встречу своих губ с его оттопыренным ухом, прошептал: «заслуженные работники соц. труда. Таков перевод». Улыбнулся, покачал головой, мол, язык сокращений, ничего не поделаешь, традиции нужно уважать…
Когда из Москвы позвонил сам генеральный секретарь компартии Завьялов, Шмуэль был приятно удивлён, так как до этого на свои дни рождения, он всегда получал только телеграммы. Но когда Юрий Геннадьевич сообщил о решении товарищей оплатить ему и внучке Яэль отдых в Швейцарии, как дань благодарности верному ленинцу за продвижение коммунистических идей на ближнем востоке, старик так растрогался, что Яэль пришлось отвезти его в приёмный покой ближайшей больницы. К счастью, всё закончилось благополучно и через час они вернулись домой.
– Ты знаешь, Яэлюшка, товарищ Завьялов попросил сообщить ему дату празднования юбилея и адрес ресторана. Я тут записал на салфетке его номер телефона. Ты прости, мамеле, своего древнего деда. Одни хлопоты с ним. – Он махнул рукой и принялся смотреть любимый израильский сериал «Авторитет».
40. Опасения отцаПрофессор Штейн заметил, что после завтрака Тарнадин что-то настойчиво втолковывал Вене.
«Нужно серьёзно поговорить с сыном, – подумал он, – в последнее время Вениамин не так откровенен со мной, как раньше. Чтобы только глупостей не наделал».
Анатолий Львович прикрыл ладонью лицо и прошептал молитву «Шма, Исраэль».
41. Предложение, от которого нельзя отказаться– Да, Вениамин Анатольевич, ты меня правильно понял. Считай, что я сделал тебе предложение, от которого нельзя отказаться – Тарнадин засмеялся, выставив крупные зубы, – хочешь, не хочешь, тебе придётся полететь в Израиль и привезти сюда последнего, оставшегося в живых девяностолетнего родственника Ленина. Это наш единственный шанс доказать швейцарским болванам «ху из ху». А сейчас слушай внимательно! Старика зовут Шмуэль Бланк. Его двадцати восьмилетняя внучка, Яэль, уже год проживает с дедом, а её родители – учёные микробиологи – работают в Соединённых Штатах. Девушка сопровождает деда повсюду, поэтому мы вынуждены были пригласить и её в Швейцарию. Яэль скоро с тобой свяжется. – Тарнадин глянул на часы. – Кстати, она же встретит тебя в аэропорту «Бен Гурион». Сейчас мы поднимемся ко мне в комнату, и я дам тебе денег. Сегодня же закажи билет в Израиль. Да, чуть не забыл важную деталь, – проверь, чтобы паспорта Бланков не были просрочены и постарайся достать семейные фотографии. Я имею в виду фотографии с Лениным. Наверняка старик хранит их, как драгоценную реликвию. Любые доказательства родственной связи с Ульяновым: письма, свидетельства о рождении, другие документы – всё в кучу и сюда. Ясно? А, как Бланкам объяснишь надобность этих доказательств – твоё дело.
42. Яэль14-го мая в 17 часов и 50 минут согласно расписанию Боинг 777 швейцарской авиакомпании «Swiss Air» приземлился в аэропорту «Бен Гурион». Через пятнадцать минут Веня держал в руке горстку Святой Земли из вазона с декоративным растением, украшающим вход в зал ожидания. – Ну, вот я и дома, по Сеньке и шапка, – произнёс он и сам удивился абсурдной мысли, облечённой в ещё более абсурдные слова. На его груди висела заранее приготовленная картонная табличка с фамилией «Stein», и он ждал появления Яэль. Её имя он запомнил, но для большей уверенности, ещё раз прочитал в записной книжке. Из короткого телефонного разговора на прошлой неделе Веня узнал, что попадёт, как говорится, с корабля на бал, так как юбилей Бланка назначен на семь вечера, и по дороге в ресторан нужно успеть заехать за дедом, а это значит, что на всё про всё у них есть пятьдесят пять минут. Веня понимал, что даже для такой крошечной страны, как Израиль, это минимальный промежуток времени, особенно в часы пик.
У входа в здание аэропорта, одно за другим, останавливались такси. Водители помогали приезжим загружать чемоданы, шумно переговариваясь друг с другом на иврите. Веня вслушивался в гортанное месиво звуков, из которого выделить отдельные слова ему не представлялось возможным.
И вдруг приятный женский голос прошелестел возле его утомлённого уха:
– Добри вечер, Венья! Я – Яэль. Ми будем знакомы потом. Надо бистро бегать. Нету времья. Вы видите на другую сторону возле тэкси тот маленький фиат? Туда, Венья. Excuse Me, my bad Russian! [22]
Веня перебегал дорогу вслед за девушкой, лицо которой не успел разглядеть, но, зато, ноги.… Любуясь такими ножками не грех опоздать не только на день рождения к двоюродному брату Ленина, но и на приём к самому Папе Римскому. В туфлях на высоких каблуках, загорелые, с тонкими щиколотками проворные ножки слишком быстро юркнули в красный фиат, и маленькое чёрное платье и блестящие рыжие волосы, схваченные на затылке бисерным зажимом скрылись за высоким подголовником. На переднем сидении лежал прямоугольный пакет в золотой обёртке с гигантским бумажным цветком. Видимо, подарок деду. А в панорамном зеркале мелькала симпатичная чёлка. Когда Веня рассмотрел всё лицо, фиат, сорвавшись с места, помчался в Тель-Авив. «Какая милая», – подумал он и, оттолкнув от себя рюкзак, продвинулся к центру.
– Господин Штейн, больше хорошо видеть природу в окнах авто, чем в зеркале. – Она лукаво улыбнулась и, оценивающе взглянув на себя, добавила:
– Я буду радоваться, если Израиль найдёт симпатию в ваших глазах.
Через полчаса они уже въезжали во двор многоэтажного дома.
– Яэль, вам нужна помощь?
– Нет, нет, спасибо, вы будете ждать не больше пять минут, а мы с дедушкой будем скоро спускаться. – Она побежала к подъезду, но, вдруг, оглянулась и замахала рукой.
– Ой, я не имею память! Нужно убрать, пожалуйста, подарок туда, где ваш мешок.
– Не волнуйтесь, Яэль, уже убираю. – Веня вышел из машины, освободил для юбиляра переднее сидение и спрятал подарок за рюкзаком. На осмотр двора времени не осталось. Яэль уже направлялась к фиату, ведя под руку деда, одетого в светло серый костюм и белую рубашку с красным галстуком. Свободной рукой он поочередно приглаживал, то пушистый венчик серебристых волос, огибающий остров блестящей лысины, то уголки крахмального воротничка.
– Дедуля, познакомься, это – господин Штейн из Москвы. Он будет идти на твой праздник, будет пожить у нас на 2–3 дня, а потом возьмёт нас на Швейцарию. Яэль представила деду подошедшего к ним гостя.
– О! Рад знакомству, молодой человек. Старик протянул руку – Шмуэль Бланк! Вы у нас в Израиле впервые?
– Раньше бывать не приходилось.
– Хаверим [23] , давайте поторопиться. Некрасиво, если виноватый торжеством опаздывает.
– Виновник торжества, Яэленька.
43. ЮбилейИз «Бабы Яги» доносилась тихая фортепианная музыка. Ближайшие родственники уже прибыли и, собравшись у входа в ресторан, шумно общались между собой. Им не терпелось облобызать именинника, вручить ему поздравительные конверты и, наконец, приступить непосредственно к цели торжества – поглощению праздничного ужина.
Когда нарядный Шмулик появился в сопровождении внучки и незнакомого мужчины, привлекательность которого была моментально замечена и оценена женской половиной присутствующих, разговоры прекратились, уступая уютное пространство, утопающего в зелени двора исключительно звукам рояля. «Кем бы ни был этот молодой человек, но произвести на него хорошее впечатление не помешает», – так думала преданная Бланку родня, ни на секунду не забывая о возрасте его незамужней внучки. Как ни крути, как ни верти, а в двадцать восемь лет её мама – единственная дочь Шмулика, Рут, – уже имела шестилетнюю Яэль…
Собравшиеся гости напоминали Вене многослойный торт «Дружба народов», который превосходно готовит его отец, как только на рынке появляются необходимые экзотические фрукты.
Блондины, брюнеты, рыжие, румяные старушки под руку со сгорбленными старичками, мужчины с ермолками на затылках, мужчины без оных, смуглые женщины с голубоглазыми мужьями, очень красивые дети и одна темнокожая пара. Веня с любопытством прислушивался к звучанию иврита: «Как интересно! – думал он. Какие разные люди!»
А в это время каждый из них, запечатлев поцелуй на выбритой щеке Бланка, по привычке желал старику здоровья до ста двадцати лет, хоть в данном конкретном случае эти пожелания звучали даже как-то неприлично. Боли в суставах, донимающие его уже несколько лет, Шмулик научился игнорировать, о мире ином не задумывался. Он строил далеко идущие планы, соответствующие его неугомонному характеру и влечению юной души.
В зале ресторана юбиляра ожидал сюрприз. На стене, напротив изысканно украшенных столов и разодетых в чехлы стульев, на которые шумно рассаживались родственники и друзья, висел огромный полотняный экран. На нём застыло дымчатое изображение лежащего на животе лопоухого младенца. На полувыцветшем паспарту довольно чётко просматривалась чернильная надпись: «мамин птенчик». Это была проекция фотографии Самочки (так ласково родители называли первенца и продолжателя рода Бланков – трёхмесячного Самуила Захаровича). И, как продолжение главного сюрприза, Яэль прилюдно преподнесла деду подарок в шикарной обёртке, оказавшийся красивым дигитальным альбомом и неоспоримым свидетельством взросления «птенчика».
Старинный друг Шмулика – высокий седобородый старец – рассмешил гостей, указывая на экран и, видимо, комментируя понравившуюся деталь.
– Он говорит, что его подруг, без злого глаза, хорошо подрос за сто, без минус десять лет, а его уши сохранились в тот же размер.
Яэль переводила Вене тосты и реплики гостей, а он, умиляясь забавностью произношения, зачаровано смотрел на движения её губ, испытывая непреодолимое желание их поцеловать.
На экране менялись фотографии. Вот Самочка в матроске, вот на плечах у отца, а вот он еле удерживает в руках огромного пушистого кота. Когда появилась фотография человека в инвалидном кресле, обнимающего конопатого мальчишку с оттопыренными ушами, Шмуэль Бланк попросил внимания и, поддерживаемый внучкой, встал на ноги.
– Яэль! Если вам не трудно, переводите мне речь дедушки в общих чертах, а то я чувствую себя глухонемым, – попросил Веня. Не понимая значения ивритских слов, он ощущал красоту древнего языка, вслушиваясь в таинственную музыку фраз. Да!.. Бланк бесспорно владел ораторским искусством. Яэль переводила, как могла, поэтому из многословной речи старика, лишь частичка доносилась до Вениного слуха, а тёплое дыхание очаровательной девушки усиливало разрастающееся желание прикоснуться к её сочным губам хотя бы ухом.
– Дорогие мои! Сегодня мне девяносто лет! А, ведь, совсем недавно я был шестилетним ребёнком, каким вы видите меня на этом древнем снимке. Тогда я был уверен, что жизнь бесконечна. – Он протянул руку к экрану. – Многие из вас, мои дорогие, узнали человека в инвалидном кресле. Это Владимир Ильич Ульянов, сын моей тёти – Марии Александровны Бланк, мой двоюродный брат. Я гордился своим братом, хоть и называл его дядей Володей. Мы виделись один раз в жизни. В Горках. Он был серьезно болен, дремал, сидя в кресле, неразборчиво говорил, а меня почему-то называл Гаврошем. – Бланк усмехнулся, потёр глаза под очками. – Взрослые говорили о скучных вещах, а я носился по дому, выискивая, чего бы натворить. Когда мы уже собрались уходить, неожиданно проснувшийся Ленин произнёс странную фразу. Он посмотрел на меня каким-то особым взглядом, от которого, признаюсь, мне тут же захотелось скрыться за маминым длинным пальто, и вдруг сказал: «А с тобой, Гаврош, мы ещё встретимся, только придётся подождать». – Шмулик вздохнул и нахмурился.
– Через три дня нам сообщили, что дяди Володи не стало. Вскоре мы уехали в Польшу, а оттуда в Палестину. Но, по каким-то магическим законам связей, этот человек, так или иначе, всю жизнь влиял на моё мировоззрение и поступки. Конечно же, духовную общность он имел в виду, когда говорил о встрече.
Бланк отпил глоток воды и, промокнув губы салфеткой, продолжил речь.
Дальнейшее повествование Веня не слышал. Голос Яэль: «И вдруг он сказал, чтобы мой дедушка долго подождал, и тогда они опять встретятся» – гудел в голове, отчего напрочь заложило уши.
«Вениамин Штейн, тебе необходимо проветрить мозги», подумал Веня и, шепнув Яэль, – I am sorry [24] – вышел из-за стола.
Во дворе перед рестораном стояли обычные зелёные скамейки. Двор, как двор. Ничего особенного. Единственно, что было необычным – деревья! Экзотические, названия которых, Веня не знал. Он присел на край скамейки, стараясь не думать о том, что его привело в смятение. Он крепко сжал виски: «Интеллигентный человек двадцать первого века не должен верить в предвидения и пророческие предсказания. Всё это – потусторонний бред!»
Но жёлтое лицо Ленина застряло между диковинными листьями незнакомого дерева и в упор глядело на молодого человека, подмигивая прищуренным глазом.
«Кто он, этот щуплый, картавый мужичок? Нетленная историческая личность, единственная в своём роде? Инопланетянин? Может быть Мессия? А почему бы и нет? На фоне происходящих событий – мысль вполне реальна». Веня зажмурился: «Немедленно взять себя в руки! Думать о чём-то другом! Быстро, к людям!»
В это время официанты подавали основное блюдо трапезы, а пожилая дама с ярко накрашенными губами выразительно считывала рифмованное поздравление с тетрадного листа.
Веня незаметно протиснулся между столами и почти бесшумно уселся на свой стул.
– А я вам делала заказ. Курочкина нога с яблоком. Угадала? Если нет – будем заказать что-нибудь другое.
– Спасибо, Яэль, я обожаю курочек, особенно их ноги, а если ещё с яблоками – ууу! – объедение – не то слово! А вы, я вижу, любите рыбу? Где ваш бокал? Давайте я вам налью сухого вина.
– Говорю вам под секретом. – Девушка прикрыла губы ладонью и прошептала Вене на ухо. – Я умираю по крабы и мидии, но в кошерный ресторан рыбьины блюды – альтернатива. А какое ваше кушанье, больше любимое?
– Блинчики с вареньем.
– А за что мы будем пить?
– Я предлагаю выпить за здоровье вашего дедушки. Если бы не он, я бы, возможно, никогда не встретил вас, Яэль.
Часть гостей, не горящих желанием отведать десерт, начала расходиться, раскланиваясь с безусловными любителями сладкого. Прощались с хозяином торжества многословно, положительно кивали головами, а женщины мастерски жестикулировали чрезмерно окольцованными растопыренными пальцами.
Цветные шарики мороженого, политые карамельным сиропом, треугольники шоколадного торта в красивых бумажных корзиночках и крем-брюле были отчасти съедены, а остатки, подхваченные проворными официантами, многоэтажно отправились на кухню.
44. Тель-АвивКвартира Бланка находилась в начале улицы Аяркон, на третьем этаже старого дома, недалеко от ресторана.
Стены небольшой гостиной были увешаны фотографиями и живописью.
– Познакомьтесь, Веня, это моя Симочка. – Шмуэль указал на большой портрет в тяжёлой резной раме. На нём была изображена женщина – точная копия Яэль. – Симочка была детским врачом, – продолжал Бланк. – Вы когда-нибудь видели, чтобы гены передавались с такой филигранной точностью? Я иногда смотрю на рыжую Яэльку и поражаюсь. Только она унаследовала от бабушки цвет волос. А черты лица, а улыбку, а голос? Даже характер. Моя покойная супруга, вечная ей память, – была не только настоящей красавицей, но исключительно заботливым и преданным человеком, а сейчас вот Яэленьке приходится ухаживать за старым дедом.
Шмуэль с трудом подавил зевоту:
– Что-то я разговорился. Вы уж, простите старика. С вашего позволения, молодой человек, я пожелаю вам доброй ночи.
Из тускло освещённого коридора показалась Яэль.
– Венья, я вам сделала место спать, – она завела его в небольшую комнату, – за эту дверь есть туалет и душ. Вода, мило, шампо, а в этом шкафике – эти… затереть себя после душ, ну… полотенцы. А сейчас я говорю – спокойной ночи и, чтобы вам были красивых снов. Она повернулась к двери, но Веня взял её за руку и, притянув к себе, поцеловал в губы.
45. ПрогулкаЯэль заканчивала предпоследний, четвёртый год обучения на факультете общей медицины в Тель-авивском университете. До конца семестра осталось три дня, и она усиленно готовилась к экзамену, назначенному на 17 мая.
Утром Веня позвонил Тарнадину и сообщил ему о дне приезда:
– Вылетаем восемнадцатого мая. Раньше не получится. Внучка Бланка сдаёт экзамены.
– Так бери старика и дуй сюда, а девчонка потом подъедет.
– Этот вариант исключается, Александр Устинович. Наберитесь терпения, и всё будет в порядке. Не звоните мне. Просто ждите. Ну, пока! Всем привет!
Второй день в Израиле. Настроение – супер! Погода – сказка! Яэль уехала в университет, оставив обильный завтрак на кухонном столе и два слова в записке – «bon appetit». Веня и Бланк допивали кофе с взбитыми сливками, который, почему-то, в Израиле называют «перевёрнутым».
Бланк выглянул в окно:
– Веня, как вы смотрите на то, чтобы пройтись по набережной? Я – за!
«Ну вот, снова эта неловкость. – Веня закусил губу. – Каждый раз, когда нужно обратиться к почтенному старцу и произнести детское имя – Шмулик или официальное – Шмуэль, буквы не складываются в слово и обращение остаётся безымянным. Отчество в иврите не употребляется даже русскоговорящими израильтянами». Подумав о том, что к этой специфике языка нужно привыкнуть, Веня ответил:
– О, с превеликим удовольствием. Именно об этом я только что подумал.
Медленно прохаживаясь вдоль каменной террасы, Бланк рассказывал Вене историю Тель-Авива. Лучи слишком щедрого ближневосточного солнца слепили глаза, играя с кружевными барашками волн сине-фиолетового моря. Стеклянные стены гостиниц искрились.
– Вы знаете, Веня, эта набережная считается одной из самых красивых в мире, а ещё 30 лет назад кроме двух-трёх заброшенных построек и разгульного ветра, здесь можно было встретить лишь престарелых проституток да случайных клиентов, ищущих дешёвые удовольствия. Буквально за несколько лет эта прибрежная полоса превратилась в самую дорогую и престижную часть Тель-Авива. Да что там, набережная… самой стране всего пятьдесят девять лет. А как она выглядит!..
Вдоль широкой прогулочной аллеи, выложенной разноцветной брусчаткой, выстроился ряд резных, деревянных беседок для отдыха, в которых полукруглые каменные сидения утопали в цветниках. Там, скрываясь от палящих солнечных лучей, играли в нарды пожилые люди.
– Посмотрите вокруг, мой мальчик. Велосипедисты, пешеходы, дети на скейтах, [25] молодость, движение. И, видя всё это, думаешь: «чёрт возьми, как жизнь прекрасна! Сделать бы ещё один её виток… И почему человеку не дана такая возможность?»
«Господи, – подумал Веня, – что будет со стариком, когда он увидит своего брата живым?» – а вслух, улыбаясь, произнёс, впервые обратившись к Бланку по имени:
– Вы знаете, Шмулик, до меня дошли слухи, что Творец и Наука объединились для решения этой задачи и уже есть неплохие результаты.
Бланк грустно улыбнулся:
– Пойдёмте домой. Стало слишком жарко.
46. В ЯффоПосле лёгкого ужина, когда Бланк, ёрзая в кресле напротив телевизора, нашёл, наконец, удобное положение, укрыл ноги пледом и принялся смотреть любимый сериал, Яэль с Веней вышли из подъезда и, взявшись за руки, как 16-тилетние подростки, зашагали по оживленной улице, душистого, вечернего Тель-Авива.
Веня пребывал в приподнятом настроении. Выяснилось, что они с Яэль родились в один день с разницей в четыре года. Звуки, запахи, ощущение собственного тела – всё становилось иным в присутствии этой необычной девушки, а прикосновение к её шёлковой коже вызывало дрожь и с трудом контролируемую жажду обладания.
Не далеко от дома они поймали такси и отправились в ночной Яффо. По дороге, с трудом подбирая слова, Яэль рассказывала Вене о Яффских достопримечательностях.
– Скоро мы будем приехать в старый город, где 12 улиц имеют зодиАческие имена. Люди, что очень давно жили в этих улицах, могли пожениться только на соседи. Поэтому они называли улиц по… мазалёт… ммм, как это говорить по-русскому – гороскоп. Так это идёт, если человек будет найти свою улицу и прикоснуться к свой знак, и будет сильно думать про хотение, то оно будет исполниться. А ещё Яффо имеет гороскопный мост. Он тоже такой, ну, как супермен, тоже всё будет сделать, если будешь очень подумать. Ой, я так сильно плохо говорю по русскому!
Веня внимательно слушал рассказ Яэль, с серьёзным видом кивал головой, пристально следя за движением сочных, смазанных прозрачным блеском губ.
– Ну, что ты, девочка, я готов слушать тебя всю жизнь. – Он прижал её тоненькую фигурку к себе. Лизнул её губы. Они оказались вкуса клубники. Раздвинув их твёрдым языком, долго и пылко целовал, пока такси ни остановилось возле часовой башни в центре Яффо.
Попасть за 20 минут из европейского центра Тель-Авива в лабиринт переулков загадочного Востока – аттракция для туриста. Арки, двери, выкрашенные голубой масленой краской, смешные фигурки Наполеона, витиеватые металлические заборчики, таинственная подсветка, создающая ощущение театральных декораций. Веня всматривался в крошечные витрины уютных арт-галерей и затейливых магазинчиков, уставленных всевозможными безделушками, среди которых, ему казалось, прячется от любопытных глаз подлинная лампа Аладдина. На одной из улиц они оказались под фейерверком звуков фортепиано. Посмотрели наверх, откуда раздавалась музыка. Внешние ступеньки привели их в гламурный пьяно-бар. Пожилой пианист полустоял, склонившись над клавиатурой. Он был в узких джинсах, заправленных в ковбойские сапоги, в цветной тунике, на которую спадал хвост длинных седых волос и виртуозно играл джазовые композиции. На крышке старинного пианино подпрыгивала раскрашенная фигурка Наполеона из папье-маше, и в бокале дрожало красное вино. Несколько пар, несомненно, кайфовали, облокотившись на стойку бара и потягивая коктейли через согнутые трубочки.
– Яэль, я обратил внимание, это уже четвёртый Наполеон. Сколько их здесь? – Веня, прикоснулся губами к розовому ушку, кокетливо выглядывающему из спустившегося на шею локона.
– Это, чтобы нам запомнить про французскую армию, что два месяца была в Яффо и, по правде, делала только разбой и насилование. – Яэль подняла пальчик над рыжей головой, сияющей словно солнышко, в помещении освещаемом преимущественно свечами. – Эти Наполеончики лучше било делать с рогами и хвостами и капитами.
Они уселись за самой дальней частью стойки и, заказали два коктейля «Блади Мери».
– Яэль, Яэлька, Яэленька, Яэлюшка, – он произносил уже полюбившееся имя на русский лад. Горная козочка. Ведь это правильный перевод имени Яэль?
Она удивлённо смотрела на него.
– Я слышу, ты понемножку научился иврит? За двух недель ты узнаешь больше хорошо иврит моего русского.
Веня закинул назад голову, закрыл глаза, присвистнул, заулыбался, обнажив два ряда красивых зубов. Потом сжал её тёплую ладонь и, взглянув ей в глаза, серьёзно сказал:
– А знаешь, девочка, мне кажется, я в тебя влюбился!
…Найдя, наконец, улицу Близнецов по голубой керамической табличке, прибитой к углу дома, другая сторона которого находилась на улице Тельца, Яэль и Веня одновременно дотронулись до выпуклых букв и загадали желания.
Когда они вернулись домой, Шмуэль Бланк крепко спал. Он жалобно храпел, а дверь в его комнату поскрипывала то ли в знак солидарности, то ли с целью разбудить храпуна, а скорее всего, оттого, что не была плотно закрыта и дребезжала. Пожелав друг другу спокойной ночи, раздосадованные влюблённые разбежались по комнатам. Веня долго боролся с бессонницей. Несколько раз порывался зайти к Яэль, но, в конце концов, решив, что с таким звуковым сопровождением ничего хорошего из этой затеи не получится, зарылся головой в подушку и к утру заснул.
47. СюрпризКогда Штейн младший проснулся, хозяев уже не было дома. На кухонном столе возле накрытых вафельной бумагой ещё тёплых блинчиков, стояла банка клубничного варенья и лежала записка: «I\'m in the university. Grandfather – in the chess club. The keys – in the hallway. We will be back in two o\'clock. Kiss you. Yael» [26]
«Это ж, когда она встала, заводная, чтобы приготовить блинчики?»
Вене так захотелось сделать для неё что-то приятное. Но что? На раздумья ушло не более четверти часа…
…В ожидании сюрприза, который прикатили на тележках трое симпатичных парней, Веня сделал две полезные вещи: забронировал три билета на чартер Тель-Авив – Цюрих, вылет 18-го мая в 9.45 и заказал в русскоязычном турагентстве автобусную экскурсию по Иерусалиму на завтра. Яэль говорила, что после экзамена у неё и у деда есть кое-какие дела, связанные с отъездом, так что сам Бог велел не болтаться под ногами у занятых людей, тем более что быть в Израиле и не посетить Иерусалим – это всё равно, что после пылкой брачной ночи остаться девственником.
Роль старого обеденного стола в гостиной Бланка окончательно определилась после ухода в мир иной хозяйки дома. Его непосредственные обязанности упразднились, а ещё прочная сосновая фурнитура превратилась в пьедестал для гигантской бронзовой скульптуры, изображающей серп и молот. Хоть двухпудовое изваяние, полученное супругой Бланка – Симочкой в наследство от родителей не имело ни антикварной, ни художественной ценности, оно было установлено Шмуликом в центре стола после многих лет хранения на антресолях.
Благодаря Вениному сюрпризу скульптура временно переехала на пол, а стол изменился до неузнаваемости: атласная скатерть, зажжённые свечи, бутылка сухого вина, бокалы, сверкающие столовые приборы и три тарелки, на которых красовались затейливо скрученные матерчатые салфетки. В центре стола рядом с пузатой супницей лежал огромный поднос, украшенный узорами из разноцветных морепродуктов. На толстенькой деревянной дощечке лежали остроконечные булки, а маленькие шарики сливочного масла в миниатюрных розетках выглядели мороженым для лилипутов, случайно попавшим на праздничный стол Гулливера.
Когда раздался звук дребезжащих ключей, и скрипнула входная дверь, Веня поспешил спрятаться за тяжёлыми гардинами. Оттуда он вслушивался в голоса Яэль и Бланка. Но колокольчиком прозвучавшее – Ой! Ма зэ? [27] – подцепило его, словно карпа, на крючок и выудило из душного парчового укрытия.
Взглянув в сторону шевельнувшихся штор, Шмулик поднял руку и, выставив большой палец, ликующе произнёс:
– Коль акавод! Им гевер казе аф паам ло тигии реева! [28]
Жест старика и его восторженные интонации приободрили Веню. Он шагнул к улыбающейся Яэль, обнял её, а Бланку, усевшемуся на обувный шкафчик, протянул руку:
– Гроссмейстер, разрешите вам помочь.
Ужин прошёл на ура.
– Венья! Большое спасибо! Это было больше вкусно, чем все блюды за двадцать восемь лет. А рыбиный суп – вообще делишес. Как в твою голову зашло заказывание «sea food?» [29]
– Также, как в твою, Яэленька, приготовление блинчиков в шесть утра.
– …В пять.
Бланк кивнул головой:
– Да, молодой человек, я присоединяюсь к Яэльке. Удивил на славу. Изумительные яства. А кто создатель этих разносолов?
– Ресторан «Престиж». Вечером они приедут забрать посуду. Оперативные ребята. Я боялся, что не успею всё устроить к вашему возвращению, и не получится сюрприза, но, слава Богу и интернету, задержки не произошло.
Прошу прощения, что серпу с молотом пришлось постоять на полу, но, как только освободится стол, я верну их на место.
– Место этой железе на антресоли, вэ шэягид – тода! [30] А стол – чтобы кушать!
Бланк с удивлением посмотрел на внучку.
– Да, да, деда, я, ужас, как боялась этот молоток и этот страшный разбойничный нож, ещё когда была маленькая. Боялась, если ночью они будут тебя убивать. И я хотела оставаться тут, чтобы давать тебе агана. [31]
Было, что мама и папа меня оставляли спать здесь, и я держала под подушку такую деревянную старую раскаталку, шель [32] бабушка, и, чтобы дверь была открытая, слышать, когда железы будут живые и будут идти к твой хедер шина. [33]
Бланк смахнул слезинку со щеки:
– Яэленька, солнышко, я это хорошо помню. Каждый раз, застилая твою постель, я находил под подушкой скалку, и мы с твоими родителями не могли понять, зачем она тебе понадобилась. Спрашивали у тебя. Но ты молчала. А ещё мы провели эксперимент. Как-то раз твоя мама специально купила и положила на видное место у вас дома точно такую же скалку. Там она пролежала несколько дней, но ты ею не заинтересовалась. А через некоторое время, когда тебя снова оставили у меня, и мама утром приехала, чтобы отвести тебя в детский сад, бабушкина скалка, как всегда, лежала под подушкой… Что же ты молчала столько лет? На самом деле к серпу и молоту у меня имеются кое-какие сантименты, но твоё спокойствие, девочка, мне дороже.
Он подошёл к скульптуре и, не наклоняясь, положил руку на набалдашник молота.
– Торжественно заявляю. Железный символ союза рабочих и крестьян, незаконно низвергнутый тридцать пять лет назад с высоты двухметровых антресолей до уровня обычного обеденного стола, по решению большинства возвращается на прежнее место. Ура! Дети, если у вас есть желание и силы возвести символ на должную высоту, вы можете это сделать прямо сейчас. Лестница в подсобке.
48. Сон ВениБланк почему-то не храпел. Веня лежал в постели, подложив руки под голову, и смотрел на пар, поднимающийся из стакана с чаем. После ужина он почти отважился поговорить с Яэль, но она рано ушла к себе в комнату, чтобы, как следует выспаться перед экзаменом. Веня думал об этой девушке. Он мог поклясться, что именно она неоднократно появлялась в его юношеских эротических снах. Веню удивляло радушие абсолютно посторонних людей, которые приняли его, как родного. Кто бы мог предположить, что всего за три дня они станут для него такими близкими и дорогими. Несмотря на безоговорочные указания Тарнадина – не рассказывать израильтянам о Ленине, он чувствовал почти физическую потребность всё же подготовить их к предстоящей встрече с Ильичом. Молодой человек понимал, что если этого не сделать, элемент неожиданности может подействовать фатально на организм старика-Бланка. Да, такой исход, не дай Бог, вполне вероятен. А если выложить всю правду, как на духу, Шмулик и Яэль точно сочтут его сошедшим с ума. И тогда – Яэль, действительно, ему будет только сниться….
До отъезда оставался один день. Нужно срочно что-то придумать. Мысли возникали, неслись куда-то наперегонки, толкая друг друга. Веня допил остывающий чай, закрыл глаза и уснул.
Душная Тель-Авивская ночь растворилась в его сознании, словно сахар в кипятке, уступая место московскому вечеру. И вот он дома, в двухкомнатной квартире, сидит на диване и смотрит телевизор. Передают новости. Диктор – глухонемой, – размахивает руками о дерзком ограблении, потрясшем весь мир. Веня удивлён. Он понимает язык глухонемых. Якобы, по неподтверждённым данным неизвестные ворвались в никем не охраняемый мавзолей и похитили тело Ленина.
Европейские СМИ заявляют, что похитители потребовали выкуп почему-то у швейцарского банка в размере двух миллионов долларов. Банк, в свою очередь, готов пожертвовать этой суммой в обмен на исторические мощи.
Также диктор сообщил, что, мировая общественность осуждает акт вандализма, Интерпол разыскивает похитителей, а Россия, как всегда, обвиняет Израиль. Со слов спикера Думы У. Х. Копец, израильская пресса раздувает слухи о несуществующем похищении.
Диктор сложил бумаги, напялил на голову кепку и, произнеся на языке жестов: «Мы пойдём другим путём», стал вылезать из разваливающейся коробки телевизора. Орудуя серпом и молотом, он кряхтел, сопел и, тужась, издавал звуки, напоминающие гул приближающегося реактивного самолёта.
Вытащив затёкшие под головой руки, Веня проснулся. Посмотрел на часы. Полвторого ночи. Стены комнаты сотрясались от раскатистого храпа.
Последние кадры сна назойливо мелькали в голове, как будто, специально выплескиваемые подсознанием.
И тут молодого человека осенило. Проблему решит… мобильный телефон. Только в одном случае репутация Вени не пострадает. Бланк должен увидеть и услышать Владимира Ильича до отъезда.
49. ИерусалимСтолица Израиля произвела на Веню ошеломляющее впечатление.
Иерусалим, казалось, сохранил без изменений не только светящиеся золотом старинные камни, но и людей со всей атрибутикой прошедших эпох.
Необъяснимая сущность, витающая над городом Давида, колдовала и завораживала, создавая чувство нереальности. Волшебное таинство сплетало прошедшее, настоящее и будущее в единый диковинный шар – модель Высшей обители со своей автономной атмосферой и населением, живущим по особым законам мироздания.
По древним мостовым Иерусалима семенили религиозные евреи – шустрики в чёрных велюровых шляпах, с широкими полями и в длинных шерстяных лапсердаках. Шляпы высоко сидели на макушках, словно вороны на фонарях, а под шляпами на бритые затылки спускались окантовки бархатных ермолок, отороченных муаровыми кантами.
В отличие от первых, величаво вышагивали другие ортодоксальные особи в меховых шапках-штреймлах. Их спиралевидные пейсы были настолько густы, что почти не развивались на ветру, а над белыми чулками, обтягивающими худосочные икры, блестели атласом чёрные халаты. И казалось совершенно невероятным появление на узких средневековых улочках святого города современных автомобилей, шаловливо занесённых сюда сорванцом-временем – первенцем самого Всевышнего, отделившего ночь от дня и этим самым создавшего Начало времён.
«Ах, если бы Яэлька была со мной, как тогда в Яффо», – подумал Веня и, спохватившись, посмотрел на часы. По времени экзамен уже должен был закончиться. Позвонил.
– Алё, Яэлюшка? – расплылся в улыбке, покусывая губы, – сдала? А я и не сомневался. Ты же умница… В Иерусалиме? Очень… Но с тобой было бы намного интереснее. До скорого. Целую.
В этот день, как, собственно, в любой другой, возле Стены Плача было настоящее столпотворение, но желание прикоснуться к Вечности и оставить послание Богу в письменном виде заставляло туристов пробиваться сквозь кордон раскачивающихся в молитве иудеев, используя любую лазейку. Вот и Венина записка благополучно вдавилась в спрессованный ворох корреспонденции, заполнившей почтовые щели огромных, испещрённых старостью камней. Теперь осталось только ждать и надеяться, что конкретная просьба, написанная разборчивым почерком, дойдёт до адресата.
С порцией Божественного умиротворения, полученной у Западной стены, пришлось распрощаться в музее памяти жертв Холокоста. Яд Вашем. Тяжёлое эмоциональное переживание. Никогда ещё причастность к своему народу Веня не ощущал физически, через боль и растущий ком в горле. Сегодня для него особый день. Он не просто поверил в существование души, он её обнаружил. Она дрожала у него в груди, была переполнена состраданием и болела, как болит голова, сердце или другие части тела. Теперь он понял – у неё предназначение такое – впитывать вселенское горе и болеть, и это жизненно важная функция для духовной субстанции. А когда душа становится лёгкой, почти невесомой, безвозмездно раздарившей самоё себя, говорят – душа радуется. Для неё это праздник. Праздник… души.
В шесть вечера туристический автобус приближался к Тель-Авиву.
Тёплый вечер медленно опускался на город, заталкивая за горизонт бледно розовый закат. Веня достал айфон и позвонил отцу:
– Пап, привет! Как вы там? У меня тоже всё в порядке. Да, завтра. К обеду. До дома? На такси. Всего достаточно. Пап, послушай, у меня к тебе просьба.
Да, очень важно. Расскажи Ленину о Бланке. Родственная связь?. Хорошо! Через минуту вышлю тебе эсэмэску со всеми данными. Спроси, хочет ли он поговорить с двоюродным братом по телефону. Да, да… Ну, сделай так, чтоб захотел и перезвони мне. Срочно. Тарнадину? Однозначно – нет! Жду!
50. Радостное известиеВ распахнутом махровом халате, с белой спортивной повязкой вокруг головы, раскрасневшийся и потный, спустился Владимир Ильич с полотна беговой дорожки на паркет спортзала, участливо поддерживаемый тренером Гансом. Подошёл профессор Штейн, принёс стакан с минеральной водой. Отпив несколько глотков, старик, с еле сдерживаемой ухмылкой, сказал:
– Если вы всерьёз готовите меня к олимпийским играм, ваш выбор оценят. Родину должны представлять лучшие.
После горячего душа, удовлетворённый своими спортивными достижениями, Ленин бодро шёл к дому в сопровождении Штейна.
– Владимир Ильич, вы помните, у вас был родственник, его звали Самочка – сын вашего дяди Захара? Их фамилия Бланк, как и у вашей матушки. Захар с женой и шестилетним ребёнком приезжали к вам в Горки незадолго до вашей…
Две глубокие морщины на переносице Ильича внезапно разгладились.
– Голубчик, называйте вещи своими именами. Не от вас ли, профессор, я впервые услышал забавное выражение из еврейского анекдота «умер, шмумер, лишь бы был здоров?» Мне сразу понравилось это выражение. Оно затронуло во мне что-то глубоко личное. А Самуила я, конечно, не забыл. И как такое забудешь? Он за час весь дом перевернул. А каким сообразительным он был – настоящий Гаврош!
– Был и есть. Ему девяносто лет. Веничка как раз сейчас гостит у него в Израиле. Если вы хотите поговорить с Бланком, то это можно устроить сегодня же.
– Невообразимо! И вы у меня ещё спрашиваете? – Владимир Ильич забежал вперёд, повернулся и, схватив оторопевшего Штейна за плечи, расцеловал его в обе щеки.
51. ИсповедьЯэль готовилась к полёту в Швейцарию. После экзамена, по дороге домой, она заехала в супермаркет купить молоко, оттуда – в шахматный клуб за дедушкой. В два часа дня она накормила его обедом и уехала обновлять гардероб. В четыре вернулась с покупками. Один из пакетов повесила на ручку кресла, из которого раздавалось равномерное похрапывание, остальные унесла к себе в комнату. До пяти успела напечь целую гору блинчиков, одновременно переговариваясь с проснувшимся дедом, который обнаружил обновку – голубой спортивный костюм – и, довольно покрякивая, натянул его на себя.
– Ой, саба, ата нира мэцуян. Мамаш цаир вэхатих! Вэ ацева атхэлет мэод матъим ле эйнэха. [34]
Выйдя из ванной, подкрашенная и надушенная, Яэль превратила гостиную в подиум, каждые несколько минут появляясь в новом наряде. Такой счастливой дед не видел её давно.
Ещё на лестничной клетке Веня почувствовал запах блинов. Подумал: «так должен пахнуть дом». За весь день он съел бутерброд с сыром и половину фалафеля, был голоден и заметно нервничал. Страх оказаться неубедительным в предстоящем разговоре с Яэль, заставлял его перебирать в голове разные варианты фраз, которые должны, нет, обязаны расставить всё по местам.
Дверь открыл Бланк.
– Ну, что скажете, молодой человек? Как вам Иерусалим? – и не дожидаясь ответа, – Яэль! Выходи! Корми человека.
Она была до такой степени красива, что, прервав свои размышления, Веня замер. Он стоял, не шевелясь, и смотрел тупыми, бычьими, как ему казалось, глазами на рыжеволосую диву в зелёном, обтягивающим талию сарафане с юбкой солнце-клёш. Юбка взметнулась и, надувшись словно парашют, закружилась, обнажая стройные ноги выше колен.
– Венья! Веньичка! Мы с дедой заскучили без тебя. Она подбежала к нему, взяла за руку и, приподнявшись на носочке туфельки-лодочки, поцеловала в щеку.
Веня шепнул ей на ухо:
– Пойдём к морю.
– А ужин?
– Ненадолго. Подышим морским воздухом и вернёмся.
Начинало темнеть. Набережная заполнялась нарядными людьми, а внизу неугомонные волны неслись наперегонки к опустевшему пляжу.
Прикреплённые к парапету динамики, заикаясь, начали выплёвывать рваные куски музыки, но уже через минуту под звуки восхитительной «Ай лав ю бэйби», молодые люди уединились в одной из беседок.
«Это место идеально подойдёт в качестве исповедальни», – подумал Веня, – но с чего начать разговор? Он перебирал варианты:
«Яэль, я хочу с тобой поговорить… ммм… или, лучше – Яэль! Мне надо сказать тебе что-то очень важное… не годится… а, может быть… – Яэль! То, что ты сейчас услышишь… ой, нет, нет… или просто… – Яэль, я должен признаться… Господи, всё не то».
Веня обнял девушку. Она прижалась к нему. Для них пел Франк Синатра и они медленно покачивались в такт мелодии, любовным эликсиром витающей в воздухе. Он лизнул розовую мочку её уха с крошечным брильянтиком, шепнул:
– Милая Яэль! Я волнуюсь и мне трудно говорить, но я влюблён в тебя, девочка, и поэтому не могу не сказать тебе то, что меня мучает почти с момента знакомства с тобой и твоим дедушкой. Нет, нет, ничего не говори. Только слушай, только слушай…
И Яэль слушала. Внимательно. Разные чувства можно было прочесть в её широко раскрытых, почти не моргающих глазах. За бесконечные полчаса Вениной исповеди на её лице удивление сменялось страхом, страх сомнением и снова удивлением. Но интуитивное женское желание довериться этому человеку сыграло решающую роль. Она взяла его за руку.
– Венья! В твой рассказ есть много колдунских вещей, что я не могу понимать, но я верью тебе, как ты честный, что всё это правда. Я по маленькому, по маленькому буду рассказать дедушке вся история, чтоб к нему не пришёл испуг, и ты будешь увидеть сам, как всё будет беседер… ммм… в порядку.
52. ПрогрессС приездом Вени Штейна здоровье Бланка заметно улучшилось. Даже изматывающие боли в суставах ослабли, о чём Шмулик не мог и мечтать уже долгие годы. Он почувствовал прилив жизненной энергии и отнёс это за счёт реально появившегося шанса выдать замуж обожаемую внучку. Именно московский гость, по мнению Бланка, мог бы стать для неё достойной партией. Он умён, образован, красив, щедр в проявлении чувств а, главное, неравнодушен к Яэльке, как и она к нему. В этом Шмуэль Бланк – старый донжуан – уверен. Он видел, какими пылкими взглядами они обменивались. Сегодня молодёжь не торопится обзаводиться семьями. С одной стороны их можно понять: жизнь коротка, особенно, с точки зрения старожила, а так хочется успеть «свернуть горы». Но, если посмотреть с другой стороны – тебе открывается истина: то, на что люди расходуют лучшие годы жизни, не что иное, как суета сует. А этот прогресс? Что в нём хорошего? Разве не он обворовал детей, отобрав у них двор, а взамен дал чёртову коробку, которая воспитывает их вместо занятых родителей? Молодые существуют сегодня, как они сами говорят, в виртуальном мире. Вот, вот, войдут в моду виртуальные свадьбы, пойдут виртуальные дети и потекут виртуальные реки виртуальной жизни. И так – до самой смерти, которая, к сожалению, не приемля прогресса, останется настоящей. И вот же парадокс! Окажется, что смерть и есть то единственно живое, ради чего ещё стоит просыпаться по утрам.
А вот здесь Самуил Бланк ошибся. Он ещё не знал, что Яэль торопится домой, чтобы сообщить ему потрясающую новость – прогресс добрался и до смерти!
53. Новый чайник, Иисус Христос и фантастический телефонный разговорКогда на пятом этаже раскрылись двери лифта, Шмулик стоял в коридоре на лестничной клетке. По выражению его лица (мол, слава Богу, пришли!) было видно, что произошло ЧП.
– Ну, наконец! А я тут, было, собрался попить чаёк с блинчиками, включил чайник и вдруг – бах! – в кухне потух свет.
– Ой, деда! Чтобы тебе было здоровье! Ты меня делаешь зайкой.
– Заикой, Яэль, заикой! – Быстрыми шажками Бланк поспешил за внучкой. Веня уже был в кухне и вытаскивал штепсель электрического чайника из сети.
– Где у вас тут предохранители? Всё, всё, я уже нашёл… Выбило… Рррраз! Ура! Да будет свет! А сейчас посмотрим, жив ли чайник. Штепсель, кыш, на место! Опять темно… Короткое замыкание… Чайнику – капут.
Снова выдернув шнур из розетки и снова подняв предохранитель, Веня подошёл к Яэль, шепнул ей на ухо:
– Отправляюсь в магазин электротоваров за новым чайником, – многозначительно посмотрел на неё, скосил глаза в сторону Бланка и скрылся за входной дверью.
Ближайший магазин бытовой техники находился в соседнем доме. Веня заметил его вчера, до поездки в Иерусалим. А сейчас было восемь часов вечера, и щуплый продавец, похожий на узбека, по старинке защёлкивал на двери массивный замок.
– Good evening! [35] – Веня приветливо улыбнулся.
Оглядев прохожего с головы до ног, худосочный хозяин магазина сверкнул золотым зубом и сказал:
– Чего язык ломаешь, говоришь по русскому?
Веня кивнул.
– Мы тута до восьми, – продолжал узбек, видишь, в конце улицы высокий дом? Иди тудой, они тама закрывают поздно.
Веня загадал: «Если мне удастся уговорить этого дядьку открыть магазин – всё будет в порядке».
– Мне нужен воооон тот чайник, в глубине витрины. Сколько он стоит?
– Парень, ты чего, глуховатый? Я ж тебе русским языком сказал, беги тудой, пока и они не закрыли.
Он ткнул пальцем с перстнем в сторону оживлённого городского пейзажа и постучал по стеклу золотых часов.
– Простите, но мне нужен именно тот чайник, что прячется за кофеваркой. С чёрной ручкой и шариком на крышке. От этой покупки зависит вся моя дальнейшая жизнь.
Продавец сморщился. Его почти сросшиеся брови превратились в неподвижную полоску чёрного меха.
– Парень, а может ты того, малость не в себе? Он покрутил пальцем у виска, подбросил связку ключей и, сунув их в карман куртки, повернулся, чтобы уйти.
– Продайте мне чайник, пожалуйста! – Но узбек был неумолим. Он торопливо зашагал по улице, нервно подёргивая плечами. Веня пошёл за ним.
– Послушайте, дорогой, остановитесь. Давайте вернёмся в магазин. Ну, что вам стоит? Я заплачу вдвойне.
Продавец пустился бежать, время от времени испуганно оглядываясь.
– Чокнутый! Чё ты прицепился? Посмотри налево. Магазин тама ещё открыт.
Веня не отставал. Он забежал вперёд и развёл руки в стороны, преградив путь изумлённому продавцу.
– Ну, хотите, я стану перед вами на колени? Продайте чайник!
Продавец застыл. Его узкие глаза округлились. Перед ним на коленях, раскрыв объятия, стоял сам Божий сын.
– Иисус Христос, – завопил узбек, схватился за голову и, пробормотав молитву «Шма Исраэль», развернулся и, подобно зомби, поплёлся обратно в сопровождении назойливого просителя. Не говоря ни слова, он снял замок с железной двери, вошёл в магазин и просунул руку в заставленную витрину.
– Вот! – он поставил чайник на прилавок.
– Без коробки? – спросил Веня.
– Так он же рекламный, – сказал узбек.
– Сколько? – спросил Веня, прижимая к себе пыльный чайник.
– Вообще-то – сто десять, но с Вас больше стольника не возьму.
Когда за «Иисусом Христом» закрылась дверь, продавец ещё долго сидел на коробке с обогревателем и, словно загипнотизированный, перебирал три купюры по сто шекелей, поджав губы и покачивая головой.
– Привет жаждущим кипяточка! – выпалил Веня прямо с порога.
Дверь была не заперта. В гостиной горел яркий свет. Шмулик сидел за столом, обхватив голову руками. Напротив – стояла Яэль и, накручивая на палец длинный рыжий локон, в чём-то старательно убеждала деда. Они оба посмотрели на Веню и, переглянувшись, синхронно протянули:
– Привеееет!
– Яэль, принимай технику! – Веня водрузил чайник на сервант. – Он мне достался благодаря искажённому представлению некоего узбека о внешности Иисуса Христа.
Выслушав абракадабру, сорвавшуюся с Вениного языка, Яэль и Бланк переглянулись. Девушка опустила глаза. Старик тяжело вздохнул.
– Дорогой Шмулик, я понимаю, что Яэль уже рассказала вам о чудесном оживлении вашего двоюродного брата. Нетрудно предположить, что вы думаете обо мне и обо всей этой истории. Поэтому, позвольте мне, несмотря на поздний час, соединить вас и Ульянова Владимира Ильича с помощью интернета. Заодно познакомитесь с моим отцом, Анатолием Львовичем Штейном, – и, не дожидаясь ответа, Веня набрал спасительный номер.
– Алё, пап? Добрый вечер. Он ещё не спит? Рвётся? Пап, нажми на кнопку «видео». Я включаю микрофон на полную громкость.
На экране возникло застенчивое лицо профессора Штейна.
– Я вас приветствую, Шмуэль. По телефону Веничка рассказал мне о вас так много хорошего, что я, да и все мы, с нетерпением ждём встречи.
Дрожащей рукой Бланк прикоснулся к лежащему на столе айфону.
– Здравствуйте, Анатолий Львович.
– Дорогой Шмуэль! Хоть завтра – не за горами, Владимиру Ильичу не терпится увидеть и услышать вас немедленно. Вы готовы к общению с ним?
Бланк что-то прохрипел. Пытаясь ответить, отпил пару глотков воды из стакана, поднесённого Яэль к его пересохшим губам. Его «да» получилось тоненьким и беззащитным.
Когда на экране появилось лицо Ленина, Шмулик, как будто, пришёл в себя, ухмыльнулся и чётко произнес:
– А что? Похож. Работа гримёров удалась. Я бы даже сказал – перестарались. Восемьдесят три года назад мой брат выглядел хуже.
– Во время нашей последней встречи я был очень болен, Самуил, я был при смерти. А ты, мой мальчик, остался всё таким же лопоухим Гаврошем, ну, прямо вылитый Захар Александрович.
В горле Шмулика что-то забулькало, но так и не став словами, превратилось в икоту. На увещевание Яэль – лечь, Бланк наотрез отказался. Выпил остаток воды. Осторожно взял айфон двумя руками, приблизил к слезящимся глазам.
– Повторите, пожалуйста, как вы меня назвали?
– Я назвал тебя Гаврошем. Про лопоухого забудь, если правда тебя обижает.
– Дядя Володя, неужели это действительно вы?
– Я, дружок, я! Сам удивляюсь. Твой завтрашний приезд я жду, как иудеи миссию. Не знаю, смогу ли заснуть сегодня ночью. Я готов пешком идти в аэропорт, чтобы время пролетело быстрее. Ну, да ладно, что-то я стал сентиментальным на старости лет. Обнимаю тебя, Самочка, а расцелую – завтра.
Короткий щелчок… Изображение исчезло.
Шмулик опасливо дотронулся до айфона, беспомощно развёл руками:
– Ребята, всё это действительно происходит? Неужели я бодрствую, и со мной на самом деле разговаривал Ленин? Яэль, ущипни меня! Сильнее! Ещё сильнее! Ой! Вроде, не сплю, – опираясь о Венин локоть, Шмулик с трудом оторвался от стула, кряхтя, выпрямился и, шаркая непослушными ногами, направился в сторону кухни, распевая единственное слово «Гаврош» – на мелодию старой детской песенки «В лесу родилась ёлочка».
Веня стал пританцовывать вокруг Яэль. Он был счастлив.
– Сейчас самое время вскипятить воду в новом чайнике и вспомнить о блинчиках. Не забудь, завтра ровно в семь утра мы обязаны выехать.
За поздним ужином Вене пришлось отвечать на вопросы, сыплющиеся градом с двух сторон. Одна тема осталась не затронутой – деньги, вложенные немцами на счёт Ленина в Швейцарский банк накануне октябрьской революции.
54. Недовольство ТарнадинаБыл солнечный день. На площадке перед домом, возле кедра, под большим цветастым зонтом стоял небольшой круглый столик, за которым сидели в плетёных креслах, разговаривали и пили минеральную воду профессор Штейн и Владимир Ильич Ленин. Александр Устинович Тарнадин безмолвно стоял рядом и был явно не в духе.
«Наш профессорский сынок просто безмозглый мальчишка, – думал он. – Ты ему палец в рот – он отгрызёт всю руку. А ведь знал свои полномочия, щенок, так нет, решил инициативу проявить, саксофонист хренов. – Слава Богу, с Бланком пока ничего не случилось, а ведь он мог запросто от ужаса окочуриться, так и не доехав до места назначения. И тогда – тю-тю, плакали мои денежки. А этот, придурок законсервированный: „товарищ Тарнадин, а вы знаете, ко мне двоюродный брат сегодня приедет“.
Этому, мутированному даже невдомёк, чьи мозги работали сутки напролёт, чтобы прийти к решению привезти сюда Бланка. Ну, да, чёрт с ними, они у меня ещё попляшут».
55. ВстречаВпо швейцарскому времени самолёт израильской авиакомпании Эль-Аль приземлился в аэропорту Цюриха Клотен. Через час возле поляны, примыкающей к дому герра и фрау Зибер, остановилось такси.
Забраться в такси после пятичасового перелёта – мучение для старика, больного артритом. А вот выбраться оттуда без посторонней помощи – задача, практически, не выполнимая. После того, как Веня и Яэль извлекли из кабины автомобиля ноги Шмулика в белых парусиновых сандалиях и ухватились за его трясущиеся руки – показалась лысина в венчике из пушка. Мученик прекратил ойкать, начал раскачиваться и, сделав заключительный рывок, оторвался от сидения. Долго не получалось распрямиться. Он стоял сгорбленный, качал головой и подсмеивался над своей беспомощностью.
– Ой, ребятки, я не зря храню в памяти знаменитую фразу Уинстона Черчилля: «Своим долголетием я обязан спорту. Я им никогда не занимался». – Но, смех смехом, а на самом деле трагедия старости заключается в том, что голова с годами перестаёт быть авторитетом для всех остальных частей тела.
Навстречу прибывшим спешили Ленин и Штейн. Опираясь для надёжности двумя руками о локоть профессора, Владимир Ильич передвигался по траве короткими, прыгающими шажками. Остановился в метре от Шмулика, потоптался на месте и, убедившись в прочности почвы, отпустил спасительный локоть.
– Ну, здравствуй, Самуил! Вот мы и встретились.
Веня и Яэль понимающе переглянулись, подхватили чемоданы и подошли к сияющему от счастья, Анатолию Львовичу. Все трое направились к столу под зонтом, где восседал Тарнадин. Он натужно улыбался, рьяно втирая окурок сигареты в железное основание пепельницы.
Погода изменилась внезапно. После нескольких увесистых капель, предупредительно шлёпнувшихся на брезент зонта, заморосил тёплый дождик и обрызгал разогретую солнцем поляну. Сладкий запах чуть смоченной травы наполнил воздух, который, при полном безветрии, завис дымкой над двумя стариками. Дождь им не мешал, они его даже не заметили. Рассматривали друг друга. Обменивались приветствиями. Взялись за руки. Вспомнив что-то радостное, смеялись. Потом, обнявшись, долго стояли с закрытыми глазами, и каждый из них пытался воскресить давно позабытые ощущения молодости.
Бланка подселили к Ленину и Штейну. Накануне, герр Зибер перетащил из соседней комнаты ещё одну кровать, облачив её в накрахмаленное постельное бельё. Шмулик переоделся, принял душ и уже разгуливал в белоснежном халате и тапках, ожидая, когда Яэль распакует чемоданы и достанет новенький спортивный костюм, так выгодно оттеняющий ещё сохранившуюся голубизну его глаз и создающий иллюзию стройного, подтянутого тела.
Для Яэль приготовили последнюю на этаже, четвёртую комнату. Она находилась в конце коридора и, по убранству, напоминала будуар. Комната имела собственное джакузи, выход на балкон и называлась «Romantisches Schlafzimmer» – романтическая спальня.
56. Ванильные пирожныеНе по времени поздний обед, поданный фрау Зибер, Торпеда украсил блюдом собственного приготовления. На кухонном столе Авроры четыре дня настаивался в рассоле кочан капусты, купленный в овощной лавке, мелко нашинкованный, смешанный с морковной стружкой, накрытый слоем марли под перевёрнутой тарелкой и придавленный железной мясорубкой. А сейчас постояльцы шале наслаждались швейцарским сырным супом с кубиками обжаренного хлеба, а квашеная капуста, сдобренная репчатым луком и кусочками яблока, поперчённая и обильно заправленная подсолнечным маслом, аппетитно золотилась в белой керамической миске, дожидаясь главного блюда – куриных окорочков и картофеля, запечённых в соевом соусе с мёдом и луковым порошком.
Две рюмки водки развязали Торпеде язык. Он встал, взял со стола бутылку и сказал:
– Я думаю так. Классная собралася банзуха. [36] И рубон [37] знатный. Всё пучком. Венька, а ты чё лопухи развесил и лыбу тянешь? [38] Для барышни мою ботню [39] на язык Пушкина перевести не могёшь? Так опрокинь чекушку цветка жизни [40] и головняк [41] , как рукой смахнёт, а то накосячишь чего не в жилу, всю развлекуху испоганишь. Ну, лады, а щас – к делу! Когда полтора ивана [42] со шкваркой [43] на природе облапились, я из окна зыкал, так аж за соплями слезу пробило. – Он громко высморкался в бумажную салфетку, смял её и сунул в карман. – Предлагаю бухнуть за обоих паханов [44] , шобы жили! – Разлил водку по рюмкам. – Ну, вздрогнем!.. – Причмокнул —… Хороша!.. Наполняй шлюмки, [45] братва, и вперёд – кишку бить [46] , а то на раз дистрофия скелет обнажит. Оно вам надо?
– Какой интересный говор, – заметил Шмулик, вытирая губы салфеткой, – я когда-то изучал наречия русского языка. Товарищ Торпеда, как мне кажется, использует диалект, так называемой западной или юго-западной зоны России?!
Тарнадин поперхнулся куском картошки и, откашлявшись, сказал, не поднимая глаз от тарелки:
– Это особая языковая группа, общий диалект для всех зон.
На десерт принесли ореховое мороженое, политое вишнёвым сиропом, фрукты, а главное – ванильные пирожные, при виде которых на лице Владимира Ильича появилась детская, озорная улыбка.
57. ХрамПосле обеда Бланк с Ильичём, взявшись за руки, изъявили желание прогуляться. Профессор Штейн, Веня и Яэль вызвались их сопровождать. Побрели на звон колоколов, которые по нескольку раз в день извещали жителей посёлка о церковных служениях. Молодые, как и следовало ожидать, отстали, метров на двадцать, постоянно целуясь.
– Видно, вправду скоро сбудется
То, чего душа ждала:
Мне весь день сегодня чудится,
Что звонят колокола…
…Анатолий Львович процитировал четверостишие, которое хранил в памяти с юношеских лет.
Ильич вскинул брови:
– Как красиво! Кто это написал?
– О, это Дмитрий Кедрин, замечательный поэт, один из плеяды советских поэтов сталинского времени. По официальной версии он погиб в 45-ом году от несчастного случая, а по слухам – Сталин не простил ему диссидентские стихи, дворянское происхождение и отказ стать сексотом. Кстати, книжка стихов Кедрина у меня с собой. Если хотите, я вам дам её почитать.
– Конечно, Анатолий Львович, очень хочу.
В восьми минутах ходьбы от дома Зиберов появилось, окружённое живым забором из вьюнов, старинное готическое здание католической церкви. Возле приоткрытой двери кто-то оставил велосипед с широкополой льняной шляпой, одетой на сидение.
В церкви пахло расплавленным воском. Через многоцветье витражных стрельчатых окон упрямо пробивались последние лучи заката, по дымчатым нитям которых, легко скользили звуки органа, скатываясь в огромную морскую раковину со святой водой. Органиста не было видно, священнослужителей тоже. Юноша, почти мальчик, чья кожа лица выдавала гормональный дисбаланс, сидел на скамье, склонив вихрастую голову над раскрытой библией. Высокий старик в брюках, схваченных по бокам прищепками, изливал душу мраморному распятию, монотонно бормоча, кланяясь и, время от времени, осеняя себя крестом.
– Анатолий Львович, батенька, мне чудится, или в этом провинциальном храме витает запах опиума? – сострил Ленин.
– А это, смотря, как классифицировать церковный запах, Владимир Ильич! – профессор Штейн задорно приподнял бровь, – ведь существуют безбожники, утверждающие, что религия и есть «опиум для народа».
– А что? – продолжал Ленин, – разве запах воска не пьянит? А два католика плюс два с половиной еврея – это разве не народ? – и тут же добавил: – прошу прощения, четыре с половиной еврея, прибыло пополнение.
В церковь бесшумно вошли Веня и Яэль.
Прыщавый юноша встал, перекрестился и пошёл к выходу.
– Нам тоже пора, – прошептал Веня извиняющимся голосом, – здесь быстро темнеет, а я забыл взять с собой фанарик.
Шмулик и Ленин шли, взявшись за руки, осторожно ощупывая подошвами землю перед каждым шагом.
– А вы знаете, дядя Володя, мне всегда был симпатичен человек по имени Иешуа Аноцри. В принципе он проповедовал Каббалу, тайное мистическое учение, а, по мнению тогдашнего раввината, разбалтывал засекреченные знания древних иудеев. За это Иисуса и распяли, а в наше время он стал бы преподавателем Каббалы, как например, раввин Лайтман, почитаемый миллионами учеников по всему миру.
58. «love story»Звуки саксофона, сплетаясь в чарующую мелодию, неслись по коридору, проникали во все закоулки пахнущего свежестью дома и, перекликаясь с шумом льющейся воды, ласкали слух профессора Штейна. Он, до пояса закутанный в полотенце, растирал намыленную спину Владимира Ильича, сидящего в душевой на табуретке. Клин белоснежной пены прицепился к колышку редкой рыжей бородки и, раскачиваясь, опустился сосулькой почти до самого пола.
– Всегда, когда Веничка играет, я, как будто, чувствую присутствие моей покойной жены, – профессор с шумом втянул носом воздух, и, выдохнув на ниспадающем – ай-яй-яй-яйяй-яй-яй, – сполоснул тело Ленина, вернув ему естественный жёлтый цвет.
– Не знаю, мне показалось, или он действительно влюбился? Владимир Ильич, как вам эта девочка, Яэль?
Два прищуренных глаза вынырнули из пушистого полотенца:
– Анатолий Львович, голубчик, я не объективен, хоть и знаком с нею не дольше вашего. Девушка, безусловно, хороша собой, но самое главное – она внучка Самуила, и, если вам важно моё мнение, этот факт ставит её вне конкуренции. А что будет дальше – поживём – увидим!
Атлас пижамы, прилипая к наэлектризованной коже Ильича, подчёркивал её келоидный рельеф, похожий на выпуклые ивритские буквы на обложке старинного молитвенника, доставшегося Штейну по наследству от отца.
Шмуэль Бланк, попарившись в горячей ванне, побритый и надушенный, лежал под пуховым одеялом. Счастливая улыбка не сходила с его лица. Он вспоминал события прошедшего дня, убеждаясь в своей несомненной избранности, позволившей ему, старому еврею, стать свидетелем научного чуда, встретиться с ожившим братом и гениальным профессором Штейном. С момента осознания произошедшего, у старика где-то в области селезёнки поселилась шаловливая надежда – дожить не только до свадьбы внучки, но и, дай Бог, до бар-мицвы её будущего сына, даже, если первым ребёнком будет дочь…
«А какой чудный парень Веня, – думал Шмулик, прислушиваясь к мелодии, доносящейся из-за стены». – Именно такую партию для Яэльки рисовало его воображение, когда на роскошной свадьбе Янкале – сына Фрумы и Баруха Ёселевичей – соседей с третьего этажа, – вместо лупоглазой невесты он представлял себе любимую внучку, а вместо лысеющего Янкале – красавца-брюнета, как две капли воды похожего на Вениамина Штейна.
Торпеда прекратил перекатываться с боку на бок. Красный от негодования, с пучками ваты, торчащими из ушей, он слез с кровати и, схватившись за голову, направился к окну.
Через открытую форточку проникали раздражающие звуки саксофона и, смешиваясь с храпом Тарнадина, создавали адские шумы, сводящие с ума несчастного человека. Подойдя к внезапно перевернувшемуся к стенке, но продолжавшему храпеть боссу, Торпеда громко захлопал в ладоши над бордовым ухом. Хлопки не прервали ужасающего звукового потока, но, судя по растянувшейся улыбке спящего, видимо были восприняты, как оглушительные аплодисменты. А вот звук, с треском закрывающейся форточки, Тарнадина всё же разбудил.
– Алё, пацан, ты чё шибуршишь? Затухни! – Щёлки глаз повернулись в сторону Торпеды. – Западло [47] шумиху разводить.
– Вона чё, начальничек! Ты всю дорогу дохать [48] не даёшь, плевальник разинул, аж челюсть отпала, тарахтишь, как атомный реактор, а я, блин – затухни? Ё моё, чё за паханы пошли! Венька, артист со своим самоваром взасос – лабу бацает [49] , дом сотрясает. Придурок, нет, чтоб со своей фифой кувыркаться. Чую у меня с ним марцефаль [50] назревает. Дождётся фраерок, я мордобой его фейсу [51] устрою, мало не покажется. – Торпеда вытащил из вещевого мешка чистые трусы, натянул их на лысину до самой шеи, выставив нос из прорези, придавил очками и залез с головой под скомканное одеяло, которое ещё долго вздымалось в разных местах, но постепенно улеглось, приобретая форму огромного человеческого зародыша. Зародыш подёргался и застыл, успокоенный внезапно наступившей тишиной.
Тарнадин закурил: «Недоносок хренов, угомонился наконец. Уууу, дебил недоделанный, тупица». Он блаженно затянулся и, бросив брезгливый взгляд на завёрнутого Торпеду, сплюнул, потушил сигарету и, повернувшись на бок, тут же захрапел.
Веня заметно нервничал. Переступая с ноги на ногу и покусывая губы, он стоял у двери, на которой, поддерживаемая раскрашенным купидоном, висела керамическая табличка «Romantisches Schlafzimmer» [52] .
Постучал.
– Открито!
Яэль сидела на пушистом пуфике напротив трюмо и накручивала на палец локон. Водопад её рыжих волос опускался до самой талии, огибая грудь, прикрытую тоненькой туникой цвета взбитых сливок с клубничным вкраплением.
Она улыбнулась, подбежала к Вене, обхватила руками его шею:
– Я слушала, ты играл «love story». [53] Как ты стал знать, что я её сильно обожаю?
Он подхватил её на руки. Кроме туники на ней ничего не было надето. Скользя влажным языком по её запрокинутой шее, он подошёл к кровати и бережно положил девушку на шёлк вишнёвого пододеяльника, не спеша разделся, обнажив загорелое мускулистое тело, и лёг рядом. Он целовал её, поглаживая длинными пальцами кожу живота. Лизнув мочку уха, вобрал её в себя, перекатывая во рту нежный комочек, напоминающий ягоду личи. Его рука скользнула вниз, в тёплую влагу её женской сущности. Она вскрикнула, выгнулась дугой. – Элоим! Ани роца отха, хомэд! [54]
Он не торопился, ласкал её медленно, шептал слова, от которых учащалось дыхание и вырывался протяжный стон. Он щедро дарил ей удовольствия любви, испытывая при этом целую гамму острых ощущений.
Миг, когда всё вокруг прекращает существовать, и нет мыслей, когда блаженство растекается по телу, и первое, что возвращает тебя в привычный мир – дрожь в коленях – этот миг наступил для Яэль на пике двухчасового наслаждения.
Разомлевшие, они лежали, прижавшись, друг к другу.
«Боже, как хорошо! – думал Веня, – в мечтах я проигрывал этот момент десятки раз, но непредсказуемая реальность намного изобретательней любого воображения».
Он приподнялся и нежно поцеловал её в плечо.
– Ты знаешь, девочка, прикасаться к твоему потрясающему телу – необычайное блаженство.
Яэль хотела спросить у Вени, всегда ли он так неутомим в постели, но не найдя подходящих слов, решила ограничиться фразой, которая по её мнению прозвучит без акцента и на правильном русском языке.
– Ой, Венья, жалко время! [55]
…Он удивлённо посмотрел на улыбающуюся девушку.
– Я не понимаю, Яэль, ты не удовлетворена? Ты хочешь продолжить?
– Нет, нет, я говорю – жалко время, какая я счастливая!
Он задумался, чмокнул её в щёчку, ухмыльнулся:
– Я чувствую, мне необходимы срочные уроки иврита. Уж больно хочется узнать, что имеют в виду израильтяне, говоря «жалко времени». Мне кажется, даже понятия в этом языке строятся справа налево.
59. Пищевые добавкиВопреки усердию проснувшегося солнца, поляна возле дома искрилась ещё не высохшими каплями пробежавшего дождя. Тарнадин и Веня неторопливо шли к дому после утреннего променажа и о чём-то оживлённо беседовали.
– Значит так! Завтра в восемь утра у Ленина и Бланка будут брать мазок на анализ ДНК. А версию я придумал такую: по заказу партии, цюрихский медицинский центр разработал программу оздоровления для наших динозавров. Чтобы установить, какие им требуются, скажем, пищевые добавки, необходимо определить состав флоры полости рта. Ну, как? Звучит правдоподобно? – Тарнадин упёрся руками в бока.
– Александр Устинович, я не врач, впрочем, как и вы. Но мой отец в медицине кое-что понимает и, если к пищевым добавкам флора полости рта не имеет отношения, то, будьте уверены, он тут же заметит нестыковку.
– Во-первых, не делай из мухи слона. Во-вторых – ты хочешь сказать, что твой отец не в курсе наших планов и ничего не знает о векселе? Трудно себе представить.
– Вы же сами просили меня, чтобы я никому ни-ни. И я обещал. Но это не всё. Если бы моему отцу стали известны ваши планы он бы воспрепятствовал моему участию в них. Что скажете, веская причина молчать? – в голосе Вени чувствовалось раздражение.
– Да, ладно тебе, остынь! Короче! Краузе пришлёт завтра медсестру, некую фрау Штольц. Подготовь дедов и проследи, чтобы они не чистили зубы и ничего не ели. Да, и ещё! В отношении фотографий Бланка, ты нашёл что-то подтверждающее его родственную связь с Лениным?
– Да. Насколько мне известно, Шмуэль привёз сюда несколько снимков, но я заранее предупреждаю – в чемоданах рыться не буду.
– О-хо-хо, какие мы нежные. Не боись, Виниамин Анатольевич, старик сам принесёт мне фотки.
60. Второе непредсказуемое поведение организмаПрофессор Штейн проводил фрау Штольц к двери. Ленин и Бланк сидели на диване, пили минеральную воду и обсуждали визит медсестры.
Шмулик вздохнул и принялся рассматривать свою морщинистую руку:
– Я вижу, что они взялись основательно за наше здоровье.
Владимир Ильич кивнул:
– Они тщательны во всём, Самуил. Узнаю швейцарскую скрупулезность. Особенно в документации. – Он взял и начал рассматривать покоящуюся на столе авторучку, которой пять минут назад расписался, подтверждая согласие на мазок. Поморщился:
– Я вспоминаю работника банка. В Цюрихе… А что я делал в банке? Ну, да… я расписывался. И деньги я помню, деньги… – на лице Ленина появилась странная отрешённость. Он вскочил с дивана и, взмахнув руками, понёсся по комнате, заглядывая под кровати, за шкаф, зачем-то стучал авторучкой по стенам, как будто искал невидимую дверь, которая впустит его в другое измерение, близкое ему и недоступное нынешнему окружению. Подбежал к профессору Штейну, схватил его за отвороты пиджака:
– Батенька, нужно срочно ехать в Горки. Обратитесь к Бельмасу, Александру Васильевичу, начальнику моей личной охраны, скажите от Владимира Ильича – он пропустит. Найдите Наденьку или Марию Ильиничну. Пусть принесут зелёную папку. Они знают. Ну что же вы тянете, голубчик, поезжайте, нужно успеть. – Он тряс сгорбившегося, еле сдерживающего слёзы Анатолия Львовича, странно безучастного к важнейшему, с точки зрения Ленина, предмету беспокойства.
– Владимир Ильич, а что находится в зелёной папке?
– Вексель на крупную сумму денег. Его нужно, во что бы то ни стало, уничтожить. Спалить! – он хотел сказать ещё что-то, но внезапно повалился на Штейна и… моментально заснул.
– О, господи, только не это! – Анатолий Львович подхватил Ленина, сделал несколько шагов назад, но, под тяжестью обмякшего тела, потерял равновесие и рухнул на пол.
В это время бледный, перепуганный Шмулик, беззвучно раскрывая рот, сползал с дивана, упираясь ногами в журнальный столик, который, не выдержав натиска, понёсся в сторону лежащих на полу Ильича и Анатолия Львовича.
– Ве-ня, Ве-ня, – закричал Штейн. На помощь!
61. Альберт не ШтейнФрау Штольц дошла до входной двери, исколотив массивными каблуками стонущий пол шале Зиберов. Став в бойцовую позу, она ухватилась за бронзовую дверную ручку и резко рванула её на себя. Неожиданное столкновение с Веней и Яэль, вернувшихся после короткой утренней пробежки, не пошатнуло мускулистый торс мужеподобной фрау. Она грубо оттолкнула их, отряхнулась, что-то прошипела и зашагала по направлению к чёрной «Ауди».
– Хо-ле-ра, – проговорила Яэль, обхватывая букву «О» круглыми розовыми губками. Показала язык отъезжающему автомобилю, закрыла дверь и, очутившись в крепких Вениных объятиях, сказала:
– Ой! Я надеюсь, что не у наших мужчинов было рандеву с этой крокодилой?
Веня промолчал.
Увидев, как фрау Зибер расставляет на столе всевозможные яства, Яэль изъявила желание остаться в гостиной до завтрака. Она подтащила кресло к веранде и, уютно устроившись в нём, стала наблюдать за действиями расторопной хозяйки.
На громоздкой деревянной подставке появились сыры, миска с горкой варёных яиц, свежие овощи, сливочное масло и варенье в кругленьких запечатанных упаковках, соблазнительные горячие булки, кувшинчик с молоком и прозрачный сосуд с кофе.
– Пойду, приведу наших. – Веня отправился на второй этаж. Он поднимался по лестнице, когда услышал крик отца. Побежал по тёмному коридору, заметил Тарнадина, шмыгнувшего в свои апартаменты и, распахнув дверь, влетел в комнату стариков.
– Папа, что тут произошло? – он бросился к съехавшему с дивана Шмулику, который безуспешно пытался встать на ноги.
Анатолий Львович сидел на полу возле спящего Ленина:
– Что с Бланком, он дышит? – спросил он.
– Я в порядке, профессор Штейн, просто от страха за Володю я, кажется, вскрикнул и захлебнулся водой. А вот как свалился с дивана – не помню. Хорошо, что голову не разбил, а только… Спасибо, Веничка подоспел вовремя. – Шмулик растирал ушибленное место.
– Сынок, помоги мне затащить Владимира Ильича на кровать. Ты видишь, он опять заснул, как тогда в Польше.
Профессор Штейн ухватился за угол подкатившегося журнального столика и, с трудом, встал на ноги.
– Господи, что же это такое?! – Веня поднял посапывающего Ильича на руки, уложил в кровать, раздел. Профессор Штейн закрепил на его предплечье манжет для измерения давления, присел на край кровати, вглядываясь в бегущие цифры на электронном приборе.
– Так, давление в норме, сердцебиение чуть замедленное, дыхание спокойное, размеренное. Во всяком случае, элементарные показатели в порядке. Перед нами здоровый спящий человек. Дай Бог, чтобы приступ прошёл без осложнений, – он склонился над Ильичём и, погладив его застывшие пальцы, тяжело вздохнул:
– Я сдаюсь. Поведение этого организма мне больше неподвластно.
Веня посмотрел на отца: «А папа действительно сдал. Постарел. Осунулся. В его возрасте ухаживать за двумя стариками – сомнительное удовольствие. Надо бы его сводить в парикмахерскую, а то всю жизнь стрижёт себя сам». Седой, растрёпанный, он Вене определённо кого-то напоминал.
– А ну-ка, пап, высунь язык!
– Зачем?
Ну, высунь на секунду… Точно! Один к одному. Альберт Эйнштейн!
Профессор Штейн махнул рукой:
– Ой, Веня, что ты выдумываешь?
– Анатолий Львович, а ведь ваш сын прав, вы действительно внешне похожи на Эйнштейна. А, как личности – каждый велик по-своему. Кстати, ЭЙН на иврите – отрицательная частица. Не случайно гений родился с фамилией НЕ ШТЕЙН, мол, истинный Штейн родится в следующем, двадцатом веке, а в двадцать первом совершит переворот в науке. А? Как вам моя теория?
– Я на досуге подумаю о ней, а теперь, Шмуэль, давайте вымоем руки и – на заправку. Не знаю, как вы, но я проголодался.
– А как же Ленин? Вы говорили о приступе, это – серьёзно?
В двери показалась Яэль, вошла в комнату, распространяя нежный аромат духов Шанель 5.
– Вот ви где?! Фрау Зибер сердитая, что все будут опоздать за стол.
Веня виновато потупил взгляд:
– Прости, милая, что я надолго оставил тебя одну. Мы уже готовы.
– Как готовы? А Ленин? Ми будем его разбудить или оставлять спать? Что здесь случается? Саба, ма коре по? [56]
Бланк обнял внучку.
– Яэль, я и сам с трудом понимаю, что произошло. Веня, может быть, сейчас вы объясните нам, что всё это значит?
– Сейчас мы идём завтракать. Все объяснения – потом.
62. РеликвияК завтраку Тарнадин спустился последним.
– Всем доброе утро. А где Владимир Ильич? Что-то я не вижу его за столом? – он уселся на своё привычное место, потёр ладони и, протянул Торпеде свою тарелку, взглядом указывая на продукты, которыми следует её заполнить.
Веня удивился.
– Александр Устинович, а я думал, что вы в курсе. Разве это не вы были в коридоре, когда Ленин внезапно заснул, а отец позвал меня на помощь?
– Нет, Вениамин Анатольевич, ты меня с кем-то спутал. – Тарнадин положил руку Торпеде на запястье, – может, с ним?
– Чё? Ты, начальник, набор костей [57] с меня сыми, – он отдёрнул руку и отодвинулся, – будет тебе арапа заливать [58] . Я те не дешёвка делать ноги, когда братану грев [59] нужен.
– Ё моё, Вертухаев, какие перлы! Фильтруй базар [60] , – сжав губы в ниточку, процедил Тарнадин. Оглянулся и, улыбаясь, добавил:
– Твоё вяканье всё равно здесь никто не понимает.
Веня мучил вилкой кусок брынзы, поглядывал на чавкающего Тарнадина и думал: «Странно, в прошлый раз, когда Ленин заснул, Александр Устинович места себе не находил, сон потерял, а теперь? Теперь он даже ради приличия не поинтересовался самочувствием Ильича. А то, что я видел именно его в коридоре – не вызывает сомнения. Но почему он это скрывает? Стыдится того, что не откликнулся на зов помощи? Вряд ли! И о сегодняшнем анализе ДНК – ни слова, как будто этой темы никогда не существовало».
Веня налил себе кофе… Ещё недавно он был уверен в том, что Тарнадин не посвятил Завьялова в истинную цель путешествия из благих намерений, решив взвалить все трудности на свои плечи и добыть для партии миллионы. А сейчас, искренность помыслов Александра Устиновича начала вызывать сомнения.
Разговор Тарнадина с Бланком, создающий фон для Вениных размышлений, теперь сложился в чёткий диалог:
– Самуил, неужели вы привезли с собой эту фотографию?
– Конечно! Я хотел показать её Володе.
– Очень интересно посмотреть.
– С удовольствием. – Он повернулся к внучке, – Яэль, я вижу, ты уже позавтракала. Принеси, пожалуйста, фотографии, которые мы взяли с собой. Я точно помню, они в твоём чемодане.
– Хорошо, деда. Уже бегую, – девушка промокнула губы салфеткой, чмокнула Веню в щёку и побежала к лестнице.
«Через пять минут последний вещдок будет лежать у меня в кармане рядом с уже имеющейся доверенностью за подписью – „Ульянов (Ленин)“, – подумал Тарнадин, соединяя две части булки, основательно смазанные маслом, – теперь можно расслабиться и спокойно ждать результата анализа ДНК. Краузе пообещал – максимум четыре дня. За оперативность и подкупленную медсестру этот жулик выторговал приличную добавку к первоначальной сумме барыша. Пусть подавится. Этот стяжатель отравляет мне жизнь. А тут под носом тоже не всё пучком. У мелюзги голос прорезался – пудель-Торпеда вдруг возомнил себя волкодавом. Ему эта выходка так просто не сойдёт с рук. Кусок дерьма. А вообще – они мне все осточертели. Очень надеюсь, что Ленин продержится в живых ещё дней пять. Ишь ты, куда его память затащила. Башка формалином забита, а про вексель вспомнил, зомбированный. Скорее бы получить бабки! Веньке скажу, что ничего из этой затеи не вышло. Он доверчивый, проглотит! У остальных придурков мозги вообще не в ту сторону повёрнуты. Да, затеряться в Европе для меня не вариант. Два миллиона швейцарских франков – деньги не великие для бездомного бизнесмена. Другое дело – Россия. Квартира в Москве, дом в Разливе, дорогой джип, приличная сумма в банке плюс высокооплачиваемая партийная работа – это, господа Штейны и Бланки, не каждому Рабиновичу по уму, даже если он крещёный или русский по матери», – Тарнадин проглотил тщательно пережёванный кусок булки и обратился к Штейну:
– Профессор, передайте мне, пожалуйста, сахар. Хорош кофеёк, только чашки маловаты.
Из фотографий, принесенных Яэль, Бланк выбрал одну, обёрнутую в прозрачный полиэтиленовый пакет и, не вынимая её из обёртки, бережно положил на ладонь.
– Вот, товарищ Тарнадин, смотрите. Это я, шестилетний, а это – Владимир Ильич. Здесь даже надпись имеется: «Дорогому Самуилу на память от брата. 1924 год», – дрожащим пальцем Шмулик провёл по выцветшим буквам на сером паспорту. Эта фотография – реликвия. Вы видите, в каком она состоянии? Я намереваюсь отдать её в реставрацию. Владимир Ильич тоже хочет иметь экземпляр этого снимка.
– Потрясающе! А вы знаете, Самуил, я, как раз собираюсь завтра в Цюрих. Захотелось пробежаться по музеям. Я бы мог утром отдать фотографию в мастерскую, а вечером привезти её обратно, отреставрированную и в двух экземплярах. Разрешите мне сделать вам личный подарок в счёт прошедшего дня рождения.
– Благодарю вас, Александр Устинович. Вы очень добры. Вот возьмите, – Бланк протянул ему снимок.
Веня допил кофе, встал и, приложив руку к груди, кивнул в знак благодарности фрау Зибер.
– Я поднимусь на минутку, проверю, как там Ленин.
– Я с тобой, Венья! – Яэль посмотрела на Бланка:
– Деда, сегодня обязательно будем пройтись. Нужно шевелить немножко ноги.
– А мы с Торпедой пойдём поплаваем, – Тарнадин посмотрел на часы, – день обещает быть солнечным.
Профессор Штейн и Бланк остались вдвоём.
– Анатолий Львович, вы мне обещали рассказать, что произошло с Володей.
– Даже не знаю, Самуил, с чего начать. Я бы сказал так. В изменённом сознании Владимира Ильича, как бы, смешиваются прошлое с настоящим, и эта новая реальность вводит его в глубокий сон. В прошлый раз он проспал 15 часов, а проснулся отдохнувшим и даже помолодевшим. Но как поведёт себя организм вашего брата в данном случае… – профессор Штейн развёл руками, – поживём – увидим. Идёмте, Самуил, попробуем его разбудить и будем надеяться на лучшее.
63. Заговор молчанияВладимир Ильич проснулся утром следующего дня. Он встал с кровати, потянулся, пробурчал:
– Что это со мной? В одних трусах лёг спать.
Направился в туалет.
Профессор Штейн услышал долгожданный голос, откинул пуховое одеяло, заулыбался, сладко зевнул и решил понежиться в постели ещё несколько минут.
Шмуэль Бланк открыл глаза. Потёр загнутое наболевшее ухо. Орудуя голыми ногами в поиске тапок, загнал их под кровать, махнул рукой и босиком прошлёпал до двери ванной комнаты. Постоял минуту, вглядываясь в прямоугольник матового стекла, приложил ухо, прислушался, услышал звук спускаемой воды, несколько раз повторил – «Тода ля Эль» [61] и на цыпочках, крадучись, поспешил обратно.
К завтраку спускались один за другим. Первым – Владимир Ильич. Подтянутый, в джинсах. Сойдя с последней ступеньки, подал руку брату.
«Немыслимо, – подумал Штейн, – Ленин выглядит лет на двадцать моложе Бланка. Значит эффект омоложения связан с внезапно наступающим сном, но сохраняется не более двух-трёх дней. Во всяком случае, так было в прошлый раз».
За столом Ильич склонился над кольцами румяного бекона:
– Запах жареного сала с луком возбуждает аппетит. Самуил, в вашей стране закон запрещает есть свинину?
– Религиозные правила для религиозных людей, Володя. Израиль – земля молока и мёда и у любителей не кошерной пищи, «барухашем», [62] – никаких проблем. А вот и Веня. Доброе утро, молодой человек. У меня к вам вопрос. Владимир Ильич интересуется вопросами кашрута в стране обетованной. За четыре дня пребывания в Израиле у вас сложилось какое-нибудь мнение на этот счёт?
Веня протянул руку для приветствия.
– Во-первых, утро, действительно доброе, добрее не бывает. Видеть великую троицу вместе – уже удовольствие. Что касается пищи в Израиле – я ел всякое: кошерное, не кошерное – всё очень вкусно, – он обнял подошедшую Яэль, – но блинчики, которые подают в Тель-Авиве на улице Аяркон – вне конкуренции. Вкус… Божественный!..
Яэль погладила Веню по щеке и подошла к Ленину.
– Дядя Володя, я радываюсь тебя видеть. Поцеловала его в щёку, – ты виглядишь – просто кусок!
Шмулик схватился за голову:
– Яэль! Так по-русски не говорят! Я тебе уже двадцать лет твержу, – не переводи каждое слово буквально. Володя, она хотела сделать вам комплимент. На иврите, когда говорят о привлекательной внешности человека, употребляют слово «кусочек», имея в виду смачный кусочек.
– Привет всей честной компании! – к столу подошёл Тарнадин. Он поправлял запонки на рукавах чёрной в серую полоску рубашки. За ним плёлся Торпеда, нёс хозяйские пиджак и барсетку.
– Очень извиняюсь, рассиживаться с вами, у меня нет времени. Торпеда, приготовь по быстрому бутерброд и чашку кофе, – Тарнадин мельком взглянул на Ильича:
– А вы, товарищ Ленин, назло империалистам хорошо спите и, на радость коммунистам, – он подмигнул Шмулику, – неплохо просыпаетесь. Неужели за восемьдесят три года проведенных в мавзолее вы ещё не выспались?
Засигналило такси. Александр Устинович надкусил бутерброд, глотнул кофе, сгрёб со стула свои вещи, бросил в воздух – «чао» и скрылся за входной дверью.
– Товарищи! Что происходит? – Владимир Ильич переводил взгляд с одного на другого и одновременно размешивал сахар в чашке чая, расплёскивая кипяток. – Почему вы сидите, как неживые? Случилось что-то, чего я не знаю?
– Да не было ничего, успокойтесь. Это Тарнадину тестостерон в голову ударил, – Веня промокнул салфеткой намокшую скатерть.
– Что ж, не хотите, не говорите. Ей Богу, тоже мне, заговор молчания.
Профессор Штейн сдался:
– Владимир Ильич, вы зря обижаетесь. Просто ваш сон опять продолжался дольше обычного. Мы не хотели вам об этом говорить, а Тарнадин выпалил. У него язык без костей.
Шмулик поёжился:
– Такой симпатичный человек, а ведёт себя странно. Вчера любезно предложил мне отреставрировать фотографию, а сегодня… этот пренебрежительный тон. Не понятно…
Торпеда в разговоре не участвует. Выстраивает на тарелке пирамиду из огурцов, помидоров и жареных гренок. Любуется. То с одного боку посмотрит, то с другого. Отдалившись, прищуривается. Щели яичницей-болтуньей замазывает.
– О, улыбнулся Веня, – перед нами русский Гауди – будущее отечественной архитектуры. Шепнул что-то на ухо Яэль, указывая на Торпеду. Пока шептал, «Гауди» слопал пирамиду, за три раскатистых глотка осушил чашку кофе, рыгнул и отправился к себе в комнату завершать трапезу, как и начал, чекушкой водки.
64. Коробка с деньгамиДо закрытия банка «Credit Suisse» оставалось полтора часа. Леон Краузе сидел за столом в своём рабочем кабинете. Перед ним лежал банковский формуляр о выплате долгового обязательства господину В. И. Ульянову или его доверенному лицу А. У. Тарнадину на сумму – два с половиной миллиона швейцарских франков. Как мотивировка, к формуляру была прикреплена потёртая фотография, пожелтевший от старости вексель и справка из лаборатории, подтверждающая родственную связь получателя с израильтянином Шмуэлем Бланком. Дарственная надпись на фотографии была адресована некоему Самуилу – лопоухому мальчонке в коротких штанах, стоящему возле инвалидного кресла, в котором сидел безумный старик с выпученными глазами. Лысиной и колышком редкой бородки он напоминал вождя мирового пролетариата – Владимира Ильича Ленина.
Краузе вздыхал, потел, промокал лицо бумажными салфетками, аккуратно складывал их отдельной стопкой и, подёргивая шеей, нетерпеливо поглядывал на часы. Заглянул в нижний ящик стола. Доверенность на получение денег, выписанная на имя А. У. Тарнадина и заверенная нотариусом Арнольдом Краузе находилась на месте. Из кармана пиджака чиновник достал записную книжку и принялся составлять список вещей, которые до сих пор не обременяли его семейный бюджет по причине дороговизны. Наконец, у него появятся средства на покупку новой модели «Порше-кабриолет». На это уйдёт порядка 170 000 франков. Небольшую яхту можно приобрести за 200000 франков. На переоборудование дома потребуются остальные 130000.
Он постучал ручкой по столу. Написал: 500000!!! Подумал: «Слишком большая сумма. Купить недвижимость исключается, яхту тоже нельзя, засекут. Поговорю с сыном о легализации доходов. Может быть, стоит открыть фиктивный счёт?.. хотя это тоже сопряжено с немалыми волнениями», – он встал, подошёл к окну, опустил жалюзи и включил свет.
Секретарь-альбинос завёл Тарнадина в кабинет начальника, от которого получил два подписанных и скреплённых печатью документа, и скрылся за дверью. Краузе предложил посетителю присесть, открыл бутылку коньяка, наполнил две рюмки, поставил на журнальный столик вазочку с орешками, что-то говорил. Тарнадин не слушал. Опрокинул рюмку. Потом ещё и ещё. Вытряс из бутылки последние капли. Поташнивало. Краузе пристально смотрел на него, как будто, вкручивал стальные винты в широкий Тарнадинский лоб. Ленивое время еле двигалось. Нервные пальцы Александра Устиновича лихорадочно расстёгивали и застёгивали замок на металлическом ремешке Ролекса. Ритмичные щелчки прекратились, когда вошёл альбинос с тяжёлой картонной коробкой, взгромоздил её на стол и, протянув Тарнадину авторучку и квитанцию на подпись, снова исчез.
Краузе запер за секретарём дверь, покрутил шеей, промокнул капли пота и раскрыл коробку.
Пачки швейцарских франков, плотно прижавшись друг к другу, заполняли картонное пространство сиреневым глянцем тысячефранковых купюр.
– Hier 2.5 million schweizer franks. Hundert Packungen von 25000 franks. Laden Sie jetzt!
Тарнадин понял, что ему предложено пересчитать два с половиной миллиона франков. В коробке оказалось 100 упитанных пачек. Мысль о том, что с двадцатью из них придётся распрощаться, усиливала тошноту и не давала справиться с начавшейся икотой. Скрепя сердце, он выкладывал деньги на угол письменного стола.
– Бери, блин, под… подавись!. На, получи! Будет чем платить за лекарства! Экс…экспроп… экспроприатор чёртов! – звуки заплетались и пьяно, со свистом выкатывались изо рта. Выросшая стопка франков отразилась в блестящем полированном покрытии стола и, оптически удвоенная, напомнила Тарнадину Салбыкский курган, почти полвека назад поразивший его детское воображение. Через минуту воспоминания о далёком, но родном Абакане ворвались в хмельную голову бурным потоком, похожим на воды разливающегося Енисея. Он увидел себя семилетним мальчуганом рядом с отцом, запихивающим под матрас скрученную наволочку, набитую золотыми монетами. Слова отца: «Санька, с такой валютой нам не страшны никакие реформы», клещами впились в его детское сознание, являясь основным постулатом, сформировавшим мировоззрение коммуниста – Александра Устиновича Тарнадина.
Свою часть денег Краузе сгрёб в ящик стола. Коробку с оставшимися двумя миллионами он прочно закрыл крышкой, дважды обмотал клейкой лентой по периметру, вывел широким чёрным фломастером предупредительное «Glas!!!» [63] и вызвал такси.
Всю дорогу Тарнадин боролся со сном. Он сознательно прижимался к острому ребру коробки левым боком, терзаемым на поворотах и при торможении. Наконец, электронный навигатор, вещающий язвительным женским голосом, сообщил, что цель поездки достигнута. Шофёр притормозил, бесшумно подъезжая к дому. Тарнадин перегнулся через спинку переднего сидения. Его указательный палец раскачивался, как дворник на ветровом стекле в дождливую погоду:
– Нейн! Нихт сюда! – и, указывая на трейлер, едва заметный на фоне тёмной, поросшей вьюном стены, он произнес, дыхнув перегаром прямо в лицо скривившемуся водителю:
– Дуй к автодому!.. Стоп!.. Хорош!
В салоне Авроры под одним из спальных мест открывался люк, о существовании которого знал только Тарнадин. Он преднамеренно скрыл сей факт от остальных пассажиров, заранее наметив это место, как идеальное, для хранения будущих денег. А теперь, он восторгался собственным чутьём и неординарной изобретательностью. Спрятав коробку, на четвереньках выполз из трейлера, запер кабину и, обойдя дом, поплёлся на свет фонаря над входной дверью. Скрутив пальцы обеих рук в две мясистые фиги, расстрелял ряд деревьев вдоль дороги, выплёскивая вместе со слюной – пуф, пуф, пуф!!! в чистый вечерний воздух, икал и строил рожи голове бледной мумии, почему-то оказавшейся в небе без бороды, без усов и вообще без тела…
65. ДебошВесёленький, Александр Устинович шумно ввалился в гостиную, благо, двери дома никогда не запирались. В глазах выпукло двоилось. Удивился нереально вздыбившемуся полу, который быстро превращался в шар, вынуждая, теряющего опору Тарнадина, балансировать на выгнутом паркете непомерно длинными ногами. Отяжелевшая голова кое-как удерживалась приподнятыми плечами, а его крепкие, мстительно скрюченные дули, уткнувшиеся в бока, подпирали пластилиновое тело.
– О, герр Тарнадин, Sind Sie hungrig? [64] —слабеющий голос фрау Зибер, доносившийся откуда-то издалека, обрадовал Александра Устиновича. С трудом координируя движения чрезмерно выросшего языка с непослушными мышцами рта, он, спотыкаясь, произнёс:
– Ешё ка-какой ху-хунгриг! Как волк!
Два пальца, указательный и третий, распрямились, разрушив дулю, и коряво вылезли наружу. – Извольте п-подать для цвей персон п-палку колбасятины, бутер с бротом и б-банку солёных г-гуркен [65] .
Александр Устинович прижимался к перилам, держа в руках провизию и, завёрнутые в салфетку, две вилки и нож. Барсетки, обычно болтающейся под локтём, почему-то не было. Он кое-как поднялся на второй этаж и отыскал свою комнату. Торпеда спал. Его левая рука лежала под головой, а правая свисала с кровати, сжимая горлышко пустой бутылки. Тарнадин раскрыл холодильник, достал водку.
– Эй, кореш, вставай! Будет дохать [66] , давай выпьем.
Матовое стекло ещё не распечатанного «Абсолюта» обожгло холодом тёплую Торпедову щёку. Тот с трудом продрал глаза. Напялил очки.
– Ты чё, начальник? – А-а-а! Цветком жизни [67] облагородиться? Это мы могём. Вижу, закусон надыбал!
Торпеда подтянулся, поелозил задом, уселся на кровати и, поджав волосатые ноги, смачно зевнул.
Тарнадин пристроился рядом. Наполнил водкой гранёные стаканы…
– Ну, баклан [68] , опрокинем ещё по одному. За понятия! – сказал Тарнадин, открывая вторую бутылку.
– Слабо!
– Ух, корнишоны хрустят. Ваще айс! [69]
– Гражданин начальничек, с чего это твой циферблат [70] сияет, как начищенное яйцо? Небось слимонил [71] чего или фифу отымел на халяву [72] ? – Торпеда наколол вилкой огурчик в пупырышках, оттряхнул, засунул в рот.
Опрокинув рюмку, Тарнадин загадочно ухмыльнулся, прищурил глаз:
– Глубже рой, подельник! У меня тити-мити [73] на два кислых [74] в заначке отдыхают. Настоящие, не ремарки [75] . Соображаешь? – Александр Устинович стругал колбасу, поглядывая на Торпеду. Он приготовился к восторженным возгласам и шквалу вопросов…
– Брехня! Не шлифуй мне уши! Балабол [76] ты, Амигос! Фуфло гнать [77] – я сам горазд.
– Ах ты, гондон штопаный! Плевальник закрой! Кубатурь [78] извилиной, когда с хозяином ботаешь [79] ! Моё слово под сомнением не вянет, а для такой шумары, [80] как ты – ваще божий постулат!
– Это ты меня шумарой назвал? – Торпеда вскочил на ноги и, не удержавшись на вибрирующем матрасе, повалился на Тарнадина.
Вцепившись друг в друга до хруста в суставах и, не выпуская из рук нож и вилку, они катались по полу, налетая на углы кроватей, рычали и матерились.
На красное лицо Тарнадина брызнула липкая рвота.
– Что за хрень? – заорал он и, прижав Торпеду к полу, зубами сорвал с него очки, съехавшие на кончик багрового шишковатого носа, отбросил их в сторону и, процедив: – Урою гада! – воткнул нож в извивающееся тело по самую рукоятку.
– Полундра! Ссучился мокрушник, – хрипло прокричал Торпеда.
– Что, яйца на пол уронил? Сдрейфил, жертва пьяной акушерки? А мне по барабану. Щас те репу [81] отрежу!
Сильный удар в пах подтолкнул Александра Устиновича вперёд. Раненый Торпеда поднялся на ноги и со словами: «Получай, мозгоклюй», набросился на Тарнадина.
Истошный крик всколыхнул тишину засыпающего дома. Первой прибежала фрау Зибер.
– Otto! – завопила она истеричным голосом, хватаясь за сердце, – rufen Sie einen Krankenwagen und der Polizei! [82]
Возле открытого туалета, уткнувшись лицом в кровавую лужу, лежал Тарнадин. Из его бычьей шеи торчала мельхиоровая вилка, кое-как сдерживающая поток крови, всё же вырывающейся из артерии довольно резвой струёй.
Обхватив унитаз двумя руками, с ножом в кровоточащей ягодице стоял на коленях Торпеда. Он содрогался, извергая в канализацию неугодный организму материал. Запрокидывал голову, хватал воздух и на трубном – «ЫЫЫЫ» – вновь опускал её в переполненное отверстие хрупкого на вид подвесного туалета фирмы Villeroy & Boch .
66. Лужи кровиВеня и Яэль вышли из соснового бора. Там они гуляли, наслаждаясь уединением, целовались, обнимались. Освещая карманным фонариком кусты малины, собирали сладкие ягоды. Часть из них опускали в нейлоновый пакет. До шале Зиберов оставалось не более ста метров, когда они увидели отъезжающий от дома амбуланс. За ним, подмигивая синим светом мигалки, следовала полицейская машина. Послышался вой включившейся сирены.
Не сказав друг другу ни слова, Веня и Яэль схватились за руки и побежали через поляну к распахнутому парадному входу.
Фрау Зибер ползала на карачках от лестницы до порога, смывая с пола пятна крови. Женщина была раздражена, бурчала что-то себе под нос и, бросая ненавистный взгляд на профессора Штейна, зло выкрикивала: – russische schweine [83] .
Анатолий Львович сидел в плетёном кресле, закрыв лицо руками, и нервно раскачивался.
Веня присел на корточки возле отца.
– Папа, что случилось? Где Шмулик и Владимир Ильич? – его голос дрожал.
Штейн обнял сына, посмотрел на Яэль. Она, бледная, как мел, сжимала Венину руку и, казалось, не дышала.
– Не волнуйтесь. С ними всё в порядке. Они наверху. Спят.
Девушка вздохнула с облегчением и начала плакать.
– А к кому приезжала скорая, пап?
– Тут Тарнадин и Торпеда… – Анатолий Львович сглотнул, стараясь побороть волнение. Они спьяну порезали друг друга.
Яэль вскрикнула, прикрыла рот рукой.
– Нет, нет. Они живы. Только много крови потеряли. Их увезла неотложка. Полицейские составили протокол. Забрали паспорт Торпеды, он лежал сверху на тумбочке, а документы Тарнадина не нашли. Просили, во что бы то ни стало, найти удостоверение личности Александра Устиновича и передать его фрау Зибер.
– Анатолий Львович, а мой дед и дядя Володя тоже видели эту побоищу и резание? – Яэль всхлипывала, нервно накручивая на палец рыжий локон.
Профессор Штейн печально улыбнулся:
– Нет, Яэлюшка! Самуил Захарович, спасибо Всевышнему, так храпит, что мало какие шумы в состоянии заглушить этот громоподобный звук. Владимиру Ильичу храп, как видно, не мешает. Мне труднее, поэтому, когда раздался вопль фрау Зибер, я уже выходил из комнаты. Хотел почитать на свежем воздухе… – он удручённо покачал головой, – ай-ай-ай, надо же такому случиться.
– Так! Необходимо действовать! – Веня потёр подбородок. – Яэль, побудь, пожалуйста, с папой, напои его чаем, а я постараюсь отыскать документы Александра Устиновича.
67. Случайная находкаКроме резкого запаха хлорки, в комнате Тарнадина и Торпеды ничто не говорило о недавнем происшествии. Веня огляделся по сторонам. На спинке стула висел пиджак, в кармане которого он нащупал связку ключей. Под окном – несколько пар обуви. В одной из тумбочек – блок сигарет. Барсетки, в которой Тарнадин держал все свои документы нигде не было. Ни в шкафу, где была аккуратно развешана одежда Александра Устиновича. Ни в походном рюкзаке Торпеды, который лежал под кроватью хозяина, словно преданная собака, проглотившая дюжину трусов, две пары носков, тройку мятых футболок и сваленный шерстяной свитер.
Веня искал везде, даже в холодильнике. На заиндевевшей полке, прижавшись друг к другу, мёрзли три бутылка водки. Это всё! Барсетка словно сквозь землю провалилась.
Собравшись уходить, он ещё раз обошёл комнату. Из окна увидел Аврору. Достал из пиджака Тарнадина ключи… Подбросил их… Поймал… Подумал: «глупо конечно, но для собственного спокойствия поищу и там».
Профессор Штейн и Яэль пили чай в безлюдной тишине гостиной, когда Веня, сбежав с лестницы, направился к входной двери.
– Ты куда?
– Я скоро вернусь.
– Ми тебя будем подождать. – Яэль улыбнулась. Послала воздушный поцелуй.
В Авроре было душно. Застоявшийся воздух, пропахший запахом квашеной капусты, проникал в дыхательные пути, вызывая тошноту. Веня направил фонарик на кресла кабины, осмотрел бардачок. Пусто. Лишь запылившаяся карта валялась на резиновом половике с отчётливым следом ребристой подошвы. Обследовал кухню, туалет, шкафчики, спальные места, но ничего не нашёл. И только, подняв подголовник кровати, на которой спал Тарнадин, он вдруг обнаружил дверцу с массивной металлической ручкой. Посветил вовнутрь открывшегося люка. Возле картонной коробки с пометкой «Glas» лежала ненаглядная барсетка.
«Ва-а-а-ау! Но, как она сюда попала?» – подхватил её за петлю ремешка, вытянул, закрыл люк. Внутри барсетки, среди всевозможных бумажек и денежных купюр, в целости и сохранности пребывали личные документы Александра Устиновича. Веня раскрыл паспорт. Из него выпал банковский лист, отпечатанный на немецком языке и датированный сегодняшним днём.
– Нет, уже вчерашним, – пробормотал Веня, взглянув на часы. Он присел на край кровати и стал читать, освещая документ фонарём…
«Невероятно! С ума сойти! Два с половиной миллиона!» – Подняв подголовник, он снова отодвинул крышку люка. Вытащил коробку. Разрезал плотную клейкую ленту остриём ключа…
«Чтоб я так жил! Ай, да жук, Тарнадин, ай, да молодца! Добился своего, сукин сын! Интересно, Александр Устинович не успел мне об этом рассказать, или не хотел???»
Он опустил коробку с деньгами обратно в люк и вышел из машины, тщательно заперев за собой дверь.
68. Разговор с отцомВене направился к дому. Ему предстояло рассказать отцу о нечаянно обнаруженных миллионах, начиная с предыстории путешествия в Швейцарию. Возросшее до небывалых размеров чувство ответственности за троих, самых дорогих ему людей, он ощущал почти физически. Но и чувство вины перед ними обосновалось прочно по соседству, создав свою собственную неприступную нишу в беспокойной Вениной душе. Не зря говорят мудрецы, что всё тайное становится явным. В данную минуту молодому человеку больше всего на свете нужен был отцовский совет.
Потоптавшись на плетёной подстилке, он вошёл в дом.
– Я вижу, ты нашёл сумку Александра Устиновича? Слава Богу! А где она была? – профессор Штейн вопросительно посмотрел на сына.
– Тарнадин случайно забыл её в машине.
Веня обнял Яэль, прижал её к себе.
– Солнышко! Уже два часа ночи. Иди отдыхать. Я ещё немного побуду с папой.
Оставшись наедине с отцом, Веня протянул ему свидетельство о получении Тарнадиным двух с половиной миллионов швейцарских франков.
– Пап, взгляни, пожалуйста, на этот документ. Я нашёл его в паспорте Александра Устиновича.
Просмотрев текст, профессор удивлённо посмотрел на сына.
– И какой реакции ты ждёшь от меня? Может я стал туго соображать, но понять что-либо на основании этой бумаги моя голова отказывается. Ульянов, Тарнадин, миллионы… Что всё это значит, Веня? Ох, чувствовало моё сердце, что шушуканье с Александром Устиновичем до добра не доведёт.
– Папа, я очень сожалею, что скрывал от тебя некоторые, как оказалось, серьёзные вещи. Прости. Сейчас я нуждаюсь в твоей помощи. – Веня положил руку отцу на плечо, – пап, выслушай меня. То, что я тебе собираюсь рассказать, до этой минуты было известно только Тарнадину и мне.
Молчавшие всю ночь часы, пробили – шесть, а отец и сын всё ещё сидели в гостиной, освещённой тусклым светом торшера, и обсуждали план дальнейших действий.
– В Москве сейчас – восемь утра. Пора звонить Завьялову. Пойдём в твою комнату, – сказал Анатолий Львович, зевая и похлопывая ладонью по губам, – надо же, за разговорами незаметно подкралось утро, – он часто заморгал, потёр глаза, – или такое светлое понятие, как утро, нельзя сочетать с глаголом «подкралось»?
Веня встал, потянулся.
– При нынешних обстоятельствах, вполне можно. А вообще-то я вспомнил фразу моих студенческих лет, идеально определяющую нашу теперешнюю ситуацию: «Копец подкрался незаметно, хоть виден был издалека»… За первое слово прошу прощения.
Профессор Штейн улыбнулся каким-то своим мыслям.
– Эта лирика мне знакома.
– Серьёзно?
– Да, только в моей компании «подкравшийся» назывался немного иначе.
– Папа, это ты говоришь? Я не ослышался? – Веня склонился над отцом, помогая ему встать, – пап, может быть, ты не догадываешься, но я тебя очень люблю.
– Взаимно, сынок, – профессор Штейн скорчил смешную физиономию, – хоть тебя это может удивить.
Они оценивающе посмотрели друг на друга, беззвучно рассмеялись и поднялись по предательски скрипящим ступенькам на второй этаж.
69. Разговор с ЗавьяловымЮрий Геннадьевич Завьялов проснулся в плохом расположении духа. Всю ночь ему снился страшный сон: большой чёрный кот брился, глядя в треснутое зеркало. Под слоем сбритой шерсти обнаружилось до ужаса знакомое, почти человеческое, лицо с огромной красной родинкой на лбу. Кот почесал родинку и, поддев её серповидным когтём мизинца, содрал с воспалённой после бритья кожи. Блаженно слизывая струйки крови со щёк длинным раздвоенным языком, он дьявольски захохотал, сплющился до толщины фольги и, протиснувшись в трещину, исчез за зеркальной гладью…
«А тут ещё мобильный телефон действует на нервы приевшимися чёрными очами, – подумал он, – обязательно сменю музыку на что-нибудь лазурное».
Завьялов посмотрел на спящую жену, перевернулся на другой бок и, нащупав в складках брюк, лежащих на стуле, неуёмно звенящий мобильник, вздохнув, приложил его к уху. Слушал молча.
Подтянувшись к спинке кровати, над которой в лубочной раме за стеклом висел портрет Владимира Ильича Ленина, он зачем-то нацепил очки для чтения, выудив их из потрёпанного сонника, затесавшегося между двумя подушками. Сначала Юрий Геннадьевич начал почёсывать нос, потом шею. Расчесал до крови грудь. И вдруг, как заорёт:
– Убирайтесь оттуда немедленно!
Жена фыркнула, натянула на голову одеяло.
– Ну, так забрала полиция. Что вам от меня надо? Заварили кашу – расхлёбывайте сами. Безобразие! Стыд и позор! И где? В Швейцарии, чёрт побери! Пьянь деградированная… Что ещё?.. Какие франки?.. Сколько?.. Босые ноги свесились с кровати, прошлёпали в уборную. Завьялов облегчил душу, почесал живот, вернулся в спальню.
– Кто, кто перевёл? Немцы? Это поклёп… пощёчина… плевок в лицо!.. Послушай, Штейн и запомни! Всё это враньё! Я ничего не знаю ни о каких деньгах, и знать не хочу. Оставьте меня в покое!
Он бегал по комнате, кричал, брызгая слюной, топал ногой и грозил мобильнику пальцем.
– Предупреждаю! Я не позволю проходимцам пятнать чистое имя вождя. И вычеркни меня из телефонного списка, не смей звонить! Чтоб я вас больше не видел и не слышал!.. Какой Владимир Ильич? Не понимаю, о чём ты говоришь. Ленин лежит в мавзолее. Точка!..
Он размахнулся и, не целясь, швырнул телефон в сторону кровати. Осколки разбитого стекла дождём посыпались с покосившегося портрета на кружевные подушки. Юрий Геннадьевич вздрогнул и, опираясь локтями о колени, испуганно зажмурился. Увидев через щёлки глаз укоризненный ленинский взгляд над равномерно приподнимающимся одеялом, он процедил, сквозь зубы:
– Сон в руку, прости, Господи! Эх, я, дурак, развёл Лениниаду на свою голову, – сделал несколько шагов и, в сердцах, смахнув на пол сложенную одежду, плюхнулся на стул.
– Тааак! Это можно было предвидеть! – Веня беспомощно вздохнул, – Завьялов разозлился, бросил трубку. Эпопея с деньгами его здорово напугала. Он не хочет видеть ни нас, ни Ленина. Ну, пап, ты же всё слышал. Что я тебе рассказываю… хотя, в одном Юрий Геннадьевич абсолютно прав. Мы должны срочно покинуть Швейцарию.
70. «Обладающий всем и снова всё боящийся потерять»На веранде звенела посуда: фрау Зибер накрывала на стол.
– Простите, фрау, можно вас на минутку? – сказал Веня по-немецки.
На него глянули бесцветные, холодные глаза.
– Was willst du? [84]
– У меня к вам огромная просьба. Если вам не трудно, позвоните, пожалуйста, в полицию и сообщите, что нашлись документы Тарнадина, – Веня протянул женщине злополучный паспорт, – и ещё… будьте добры, выясните, где находятся наши товарищи и когда можно будет их навестить.
Недовольно покачав головой, фрау Зибер вытерла полотенцем руки и, шепотом проклиная русскую мафию, всё же вытащила из кармана передника визитную карточку, на которой крупными витиеватыми буквами красовалась фамилия начальника криминальной полиции. Она сняла телефонную трубку и набрала, указанный в визитке номер.
Через пять минут фрау охотно передавала Вене услышанное, счищая ногтем мизинца застывшее пятнышко крема с тарелки, на которой горкой лежали ванильные пирожные и, как показалось стоящему в стороне профессору Штейну, злорадно улыбалась.
Выяснилось, что «русские дебоширы» находятся в сельской больнице, где пробудут ещё минимум неделю до начала расследования. Их палату охраняет полицейский, который кроме персонала туда никого не пускает. Также, в течение следствия ни о каких визитах не может быть и речи.
Узнав причину, по которой Тарнадин и Торпеда не спустились к завтраку, Владимир Ильич так загрустил, что даже отказался от любимого десерта – ванильного пирожного – поступок, прямо скажем, небывалый. Трапеза закончилась, а он всё ещё сидел за столом. Его отрешённый взгляд замер над сочной вишней, украшающей пышную шапку взбитых сливок на холмике запечённого теста.
Профессор Штейн склонился над Ильичом, заглянул ему в лицо, обнял за плечи.
– Дорогой мой, не расстраивайтесь так. То, что произошло с Александром Устиновичем и Торпедой – ужасно. Это никто не отрицает. Но мы будем надеяться на благополучный финал этой пренеприятнейшей истории. А вам, Владимир Ильич, следует подумать о себе. Абстрагируйтесь от негативных эмоций.
Ленин покачал головой.
– Ах, Анатолий Львович! Вы мудрый человек, но, тем не менее, не понимаете, что как раз о себе я и думаю!.. Исчезают две персоны из моего и так не обширного окружения. Мне больно и досадно. Да, я жалею их, но, пусть это слышится эгоистично, – себя я жалею намного больше!
По крайней мере, я честен. Эти люди были неотъемлемой частью моей жизни. Можно сказать… с… рождения… А теперь их нет. Пустота. Как будто меня снова лишили части внутренностей…
Он прищурился, посмотрел Штейну в глаза:
– Вы сказали, что мы должны срочно отсюда уехать, а для меня слово «уехать» звучит, как – «разъехаться». Самуил и Яэль отправятся домой в Израиль, вы с Веней вернётесь к своим обязанностям в Москве, судьба Тарнадина и Торпеды вообще неизвестна, а что будет со мной? Один из вариантов, хоть и не лучший – поместить меня обратно в мавзолей в выпотрошенном виде. А почему бы и нет? Место есть, одевать и кормить не надо. Но, с другой стороны, я слышал, что склеп и так не пустует. Так зачем напрягаться? Удобнее всего прекратить ежедневные инъекции, передать меня из рук в руки работникам партии, которые, не задумываясь, выбросят меня, умирающего, на свалку. Таковы мои предчувствия, дорогой Анатолий Львович.
– Владимир Ильич! Вы, хоть, слышите, что говорите? – профессор Штейн схватился за голову, – уши вянут от ваших предчувствий.
– А разве такой сценарий не реален? Если я не прав, – успокойте меня, скажите, что я ошибаюсь, что мы друг от друга никуда не денемся, потому что я, ожившее чучело, дорог вам, хотя бы, как необычный музейный экспонат… – он замолчал, стараясь проглотить застрявший в горле ком. Низко опустил голову. – Что мне остаётся?.. Только тешить себя надеждой… – тяжело вздохнул, по-детски поджав губы, – а вы знаете, Анатолий Львович, одно из стихотворений Дмитрия Кедрина я выучил наизусть.
Глядя в одну точку и, словно, погружаясь в собственную, не постижимую для окружающих боль, медленно и очень тихо Ильич начал читать:
«Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь
Всё имевший, всё потерявший
И опять всё нашедший вновь.
Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять,
Обладающий всем и снова
Всё боящийся потерять»…
– «Обладающий всем и снова всё боящийся потерять»… Вот сказано! Какая глубина понимания человеческих чувств! – Ленин промокнул заслезившийся глаз, – только я далеко не уверен, что эти гениальные стихи показались бы мне таковыми до моего второго рождения.
71. Единая семьяШмулик расставлял шахматные фигуры на доске, поблескивающей перламутровыми инкрустированными клетками, склоняя к игре, безучастно сидевшего напротив, Владимира Ильича. Даже фрау Зибер заметила, что старика что-то мучает. Она вынесла фарфоровое блюдечко с ванильным пирожным и поставила его на стол.
Солнце неумолимо подбиралось к зениту.
Анатолий Львович Штейн постучал в комнату сына, откуда раздавались вольные звуки саксофона, не обременённые узами музыкального произведения.
– Можно войти?
– Да, пап, – увидев отца, он испуганно спросил: – Всё в порядке?
– Веничка, мне нужно с тобой посоветоваться, – он присел на край стула и беспомощно уронил руки на колени.
– У Ленина депрессия. Только что в столовой он излил мне душу и, как я понял, этот легкоранимый человек больше всего на свете опасается одиночества. Уж так получилось, что кроме нас с тобой о нём некому позаботиться. Ситуация не простая, но, в общем-то, не безвыходная… Я тут подумал… Короче, что я хочу сказать… – Анатолий Львович потёр подбородок и пристально посмотрел на сына. – Поразмыслив, я решил вот что: мы втроём, должны присоединиться к Бланкам и лететь в Израиль, – и, не дожидаясь Вениной реакции, продолжил:
– Обьясняю! Во-первых, ты любишь Яэль. Мне бы очень хотелось стать дедушкой и нянчиться с будущими внуками, а не жить за тысячи километров от тебя. Во-вторых, Ильич несомненно не захочет расставаться с братом, а в-третьих, уход за Лениным – моя непосредственная обязанность. И ещё одна немаловажная деталь. Давным-давно, когда я ещё был ребёнком, на каждый пейсах, мой отец поднимал бокал с вином и повторял: «Башана абаа бе Иерушалаим», что значит – «В следующем году в Иерусалиме» – и добавлял: «Сынок, я не успею, но ты должен жить на Земле Обетованной, на земле наших предков»… – Сегодня, Веничка, сам Бог велит нам осуществить мечту твоего деда.
В голосе профессора Штейна прозвучало чуть заметное напряжение:
– Ну вот, я и сказал всё, что планировал. Если моё решение тебе подходит, я буду просто счастлив.
Анатолий Львович замолчал и выжидательно посмотрел на Веню.
Неловкое замешательство, казалось бы, создавшееся между ними, мгновенно испарилось.
Веня расплылся в улыбке, положил саксофон на кровать, где были аккуратно разложены аксессуары для чистки инструмента, схватил отца в охапку и закружил, радостно повторяя:
– Папка, ты прочитал мои мысли. Ты – гений! Гений, гений!
Усадив ошеломленного Анатолия Львовича обратно на стул, поцеловал его в лоб:
– Я бегу к Яэль, не уходи, я сейчас приведу её сюда…
Они вбежали в комнату, счастливые, раскрасневшиеся. Яэль склонилась над улыбающимся профессором Штейном, заглянула ему в глаза:
– Я самая везучная девушка на целый свет. Мне Бог дал счастье, чтоби любить вашего сына, а ви, его отец даваете мне чанс эту любовь доказывать. И я вам говорю много спасибо от всё сердце. – Она поцеловала Анатолия Львовича в щёку.
Втроём они вышли из комнаты. Им не терпелось спуститься вниз и сообщить старикам новость, которая, по мнению профессора Штейна, вернёт Ильичу утраченный оптимизм, который так необходим для выживания, особенно, когда все функции его организма зависят, в основном, от вовремя впрыснутой инъекции.
Облокотившись на спинку плетеного кресла, Ленин с откровенным безразличием поглядывал на шахматную доску.
Бланк обдумывал следующий ход.
– Владимир Ильич! Шмуэль! – Анатолий Львович окликнул их с порога, – можно вас отвлечь на минутку? Как это ни печально, но сегодня последний день нашего пребывания в Нидеррордорфе.
Профессор Штейн в сопровождении Вени и Яэль направлялся к столику под тентом, похлопывая в ладоши, как пионервожатый перед линейкой.
Ленин страдальчески сдвинул брови, тяжело вздохнул и беспомощно пожал плечами. Весь его облик свидетельствовал о вынужденном повиновении бесцеремонной судьбе и готовности к её предстоящему вердикту.
Бегло оценив шахматную позицию Ильича, Веня наигранно воскликнул:
– Господин Ульянов, вы побеждаете, я не вижу радости на вашем лице.
Шмулик удивлённо посмотрел на Веню:
– О какой радости может идти речь? Моего брата тревожит мысль о предстоящей разлуке и его дальнейшей судьбе, – он перегнулся через круг стола, задев шахматную доску и повалив фигуры:
– Володя, дорогой, не переживайте! Мы будем ежедневно разговаривать по телефону или по этому… как его, – он смахнул скатившуюся слезу, – ведь, правда, Яэленька, ты меня научишь пользоваться… этим… опять забыл слово…
– Скайп, дедуля, скайп.
Веня загадочно улыбнулся:
– Но дорогой Самуил! Вам вряд ли понадобится скайп для разговоров с Владимиром Ильичём.
– Почему? – Бланк в недоумении развёл руками, а глаза Ленина удивлённо блеснули.
– Возможно есть и другие варианты общения?.. – Веня украдкой сжал запястье отца, пытающегося что-то сказать, и чуть слышно пробормотал: – папа, я знаю, что пора закругляться, но, почему бы на несколько вольт не взвинтить напряжение?.. Тем сильнее кайф от разряда, – и продолжил:
– Да, Владимир Ильич, дорогой, надежда, промелькнувшая в вашем взгляде, имеет вполне реальное обоснование. Итак, господа! На повестке дня – предложение моего отца… – Веня стоически выдерживал паузу.
– Ну! – воскликнул Шмулик.
– Не томите, батенька! – заголосил Ленин.
Веня обратился к отцу:
– Папа, тебе слово.
Анатолий Львович снял очки, протёр их, снова надел, поправил воротничок рубашки и, улыбнувшись, тихо сказал:
– Я тут подумал, что, при сложившейся ситуации, репатриация в Израиль – наилучшее решение для меня, Вени и Владимира Ильича. Если у кого-то есть другие соображения по этому поводу, я готов их обсудить.
…Пятисекундная тишина сменилась грохотом отодвигаемых стульев и возгласами радости. Что тут было!!! Объятия, поцелуи. Шмулик хлопал в ладоши, напевая «Хава Нагила». Ленин притопывал ногой и лихо ударял по шёлковой штанине, с трудом удерживая баланс. Анатолий Львович прослезился, а Веня и Яэль держались за руки и с умилением улыбались, глядя на эту трогательную сцену.
Когда веселье утихло, профессор Штейн отозвал Ленина в сторону.
– Владимир Ильич, есть деталь, которую я хотел бы с вами обсудить. Дело в том, что Тарнадину удалось получить в одном из центральных банков Цюриха крупную сумму денег, которая по закону принадлежит вам… Рассказываю… Когда Веня искал паспорт Александра Устиновича, он совершенно случайно обнаружил в люке Авроры коробку с двумя с половиной миллионами швейцарских франков, – Анатолий Львович протянул Ильичу квитанцию, выписанную на имя Ульянова и выданную по доверенности А. У. Тарнадину.
Увидев цифры, Ленин отмахнулся от документа, как от проказы:
– Голубчик, уберите эту бумаженцию, чтоб я её не видел! – и, приблизившись к уху Штейна, прошептал жалобным голосом, – давайте притворимся, что эти мерзкие миллионы не имеют ко мне никакого отношения.
Профессор Штейн рассмеялся:
– Можно и притвориться, но, тем не менее, это ваши миллионы и мне кажется, что отказываться от них не следует. Я абсолютно уверен, что вы найдёте этим деньгам достойное применение.
Ильич обдумывал решение минуты две, после чего подошёл к опустевшему столику под тентом и, взяв блюдечко с пирожным, вернулся к Анатолию Львовичу. Надкусил золотистую корочку песочного теста, пропитанную ванильным кремом, блаженно закрыл глаза, глубоко вздохнул и, озвучив восторг продолжительным «мммммм», сказал:
– Ну, хорошо, пусть будет по-вашему. Только избавьте меня от занятий финансами. Может быть вы, профессор, займётесь банковскими делами, или Веня?
Анатолий Львович усмехнулся:
– Я в этом абсолютный профан, а Веню мы сейчас спросим… Веничка, можно тебя на минутку?… Я рассказал Владимиру Ильичу о деньгах, и, как мне кажется, убедил его не отказываться от них.
Через полчаса Веня уже докладывал им о телефонном разговоре с Краузе. Было решено по дороге в аэропорт заехать в банк и вложить деньги на счёт Ильича.
72. Прощальный обедА потом был прощальный обед. Праздничный. Говорили все наперебой. Возбуждение последних часов давало о себе знать.
На закуску подали салат из авокадо и запечённую рыбу. Целиком. Из разинутой рыбьей пасти торчал пучок петрушки, из глазниц выглядывали чёрные маслины, а вокруг всего этого плавал в масле венок из укропа. Откровенно сказать, это блюдо не способствовало возникновению аппетита. Однако, несмотря на отсутствие привлекательности, разрезанная на пять частей и поделенная между едоками, рыба оказалась настоящим деликатесом.
Пока обсуждали вопрос преимущества внутренней красоты над внешней, подоспел знаменитый терский борщ.
– Запах – что надо! – Веня закрыл глаза, вдохнул аромат поднимающегося из тарелки пара.
Профессор Штейн взял со стола бутылку, повернул этикеткой к себе, прищурился:
– Ммм, бургундское! Дорогие мои, предлагаю выпить!
На журчание разливаемого вина откликнулся бой часов, огласив пространство гостиной двумя звенящими ударами, и несравненная «Аве Мария» полилась из старинного резного футляра завораживающим звучанием.
– «Родные», – какое это драгоценное слово. – Анатолий Львович поднял бокал, – ещё недавно я мог обратиться так только к сыну и покойной супруге. И вдруг – подарок судьбы. Самым непостижимым образом я оказался в обществе людей, которые обогатили мою, в общем-то, однообразную жизнь яркими, сочными красками и за смехотворно короткий срок стали по-настоящему близкими. Родные мои, я пью за вас, за ваше здоровье и за наше общее будущее на Святой Земле.
– Лехаим, бояре! – залихватски прозвучала здравица, – все удивлённо посмотрели на Шмулика. – Что-то не так? – он покраснел, – или вам не знакомо слово «лехаим»?.. Понятно. А мне, наивному, казалось, что даже жители далёкого Занзибара произносят этот тост, который в переводе означает «за жизнь», – Бланк приподнял бокал.
– Да нет же, Самуил, меня лично смутило слово «бояре», – Владимир Ильич лукаво прищурил глаза и, допив вино, принялся за борщ. Взрыв хохота на секунду остановил фрау Зибер, которая, обернув двумя полотенцами края раскалённого керамического блюда с фаршированными кабачками, несла его на вытянутых руках, отвернув лицо от горячего пара. Она вздрогнула, покачала головой, громко сказала «verrückte Russen» [85] и, сделав два решительных шага, поставила блюдо в центр стола.
После ананасового компота неукротимое желание прилечь взяло верх над решением коллектива оставаться внизу до прибытия такси. Разморённые обедом и вовсю зевающие Штейн старший, Бланк и Ульянов поднялись в свою комнату. В одежде улеглись на застеленные кровати. Моментально уснули, да так крепко, что даже Анатолий Львович, обычно не переносящий храп Шмулика, сладко посапывал, не реагируя на звуковые раскаты, сотрясающие опустевший второй этаж.
Через сорок минут Веня постучал в дверь их комнаты. Распахнув её, он увидел заспанные лица и взлохмаченные остатки шевелюр, как по команде, вскочившей троицы.
– Что? Где? Уже?
Веня улыбнулся, подумал, – вот уж, по истине, три богатыря.
– Пап, через десять минут будьте, пожалуйста, внизу.
Он спустился в гостиную, расплатился с фрау Зибер, оставил ей барсетку Тарнадина со всем её содержимым и ключи от трейлера. Просил передать Александру Устиновичу, когда тот появится.
Прихожая была заполнена багажом: пять чемоданов, два рюкзака, саксофон и картонная коробка, заклеенная широким пластырем.
Засигналило такси. Это был мини автобус. Отто Зибер помог Вене загрузить вещи в багажник. Фрау Зибер принесла нейлоновый мешочек с ванильным пирожным, завёрнутым в кружевную салфетку. Протянула его Ленину: – aber es war lieb von dir, auf der Straße. [86]
– Danke, liebe Frau! [87]
Женщина поправила рюши на переднике и, прикрыв глаза ладонью, смотрела вслед исчезающему за ближайшим поворотом такси. «Эти постояльцы, – думала она, – со дня приезда в Нидеррордорф почти не выезжали за пределы деревни, довольствуясь бассейном, беговой дорожкой, услугами Ганса и вечерними прогулками. А всё это, потому что наш цимер самый лучший в деревне, а мы с Отто не жадничаем, как наши соседи. Недаром, герр Мюллер, чьё шале простаивает сезон за сезоном, с завистью поглядывает на наши окна каждый раз, когда едет на велосипеде в церковь. А фрау Вагнер, так и не получившая разрешение на строительство бассейна, исходит желчью, когда видит меня на рынке».
Фрау Зибер сплюнула, по-хозяйски закатила рукава и пошла к дому.
73. В ЦюрихеВ Цюрихе, возле банка «Credit Suisse» Веня помог Ленину выбраться из такси и, взвалив на плечо увесистую коробку, деликатно подхватил под руку озирающегося по сторонам Ильича.
Краузе ожидал посетителей в кабинете. Он стоял у окна и нервно покачивался. С вошедшими поздоровался холодно. Спросил, где Тарнадин. Услышав, что Александру Устиновичу пришлось срочно уехать, лукаво ухмыльнулся. Вынул из коробки пачки денег. Составил их горками на стекле стола и пересчитал.
– Здесь два миллиона швейцарских франков, – сказал он, покрутив шеей.
– Простите, это ошибка, – Веня положил на стол квитанцию, найденную в паспорте Тарнадина, – там должно быть на пятьсот тысяч больше.
Краузе поправил галстук и, вонзив в Веню маленькие острые глазки, произнёс, почти не раскрывая рот:
– Господин Штейн, эту претензию Вам следует предъявить Тарнадину, – он вывернул кисти рук с растопыренными пальцами ладонями вверх и, пожав плечами, добавил, – когда встретитесь с ним.
Пришёл белобрысый помощник директора с тележкой. Аккуратно сложил пачки денег обратно в коробку и, поместив её в металлический контейнер, выкатил тележку из кабинета. Оглянулся и небрежным взмахом руки пригласил визитёров следовать за собой.
Ячейки, в которых трудились служащие банка, тянулись с двух сторон нескончаемого зала. На электронных табло, подвешенных к потолку плелись флюресентные надписи, обозначающие род банковских услуг. В кабинке, над которой слово «Kasse» многозначительно подмигивало посетителям, теряющей контакт буквой К, сидела фрейлин Эльза, та самая, которой месяц назад расточал комплименты Тарнадин. Пока машина пересчитывала валюту, девушка подготовила документы, указывая, где следует расписаться. Протянула Ильичу внушительного вида пакет, а Вене листок из блокнота, на котором под номером телефона ученическим почерком было написано ELSA и, еле слышно, проговорила: – Übergeben Sie sie an Ihren Freund. Er bat. [88]
«Бедная девочка, – подумал Веня, – видно, совсем потеряла надежду понравиться бесстрастным соплеменникам».
По дороге в аэропорт Владимир Ильич с интересом рассматривал содержимое пакета. В нём оказалась глянцевая папка с документами новоиспечённого владельца банковского счёта, с длинным блокнотом, называемый чековой книжкой, с прямоугольной пластинкой «American Express», почему-то именуемой картой и с диковинным аппаратом, усеянным кнопками – калькулятором.
Ильич осторожно нажимал на кнопки, был в восторге от бегущих цифр, радостно улыбался и по-детски хлопал в ладоши.
74. ПобегРайонная больница, где приходили в себя после пьяного дебоша Тарнадин и Торпеда, представляла собой длинное одноэтажное строение, разделённое на палаты, по две койки в каждой. Днём полусонный полицейский сидел возле двери палаты № 13, охраняя русских скандалистов. На ночь его сменял другой блюститель порядка, который укладывался на резервную кровать, стоящую в коридоре и откровенно храпел до самого утра.
Тарнадин, несмотря на синяк, расплывающийся по всей левой щеке, уже несколько дней чувствовал себя прилично, но, как только начинался обход врачей, он закатывал глаза, стонал и бубнил что-то, похожее на заклинание. В его голове созрел дерзкий план, мысли неслись к дому Зиберов, кружили над Авророй и проникали в картонную коробку, где лежало утрамбованное в пачки его роскошное будущее. А сегодня, по-прошествии недели после пьяной резни, Александр Устинович впервые почувствовал себя достаточно бодро, чтобы осуществить задуманное. Легко распахнув окно, он шепнул «чао» спящему Торпеде и спрыгнул на мягкую траву, коротко постриженную и обильно орошаемую со всех сторон. Выбежал на проезжую дорогу, поймал такси и укатил в Нидеррордорф.
Припарковавшись в тени плакучего кедра, таксист терпеливо ждал обещанной оплаты. Александр Устинович без стука вошёл в дом. Трудно было разглядеть в босом, основательно промокшем бродяге, одетом в голубую больничную пижаму с жёлтыми ромашками, недавнего импозантного постояльца.
– Mein Gott! Otto, gehen Sie hier [89] – заорала испуганная фрау Зибер, забившись в угол. Примчался Отто. На пороге стоял незнакомец, бьющий себя в грудь и повторяющий – «я Тарнадин, я Тарнадин». Отто вгляделся в его синее распухшее лицо над многослойно забинтованной шеей и, вскрикнув, узнал в нём несчастного русского, расплатившегося кровью за пристрастие к водке.
Фрау Зибер положила на стол барсетку и ключи, оставленные Веней, а сама отошла в сторону, с опаской наблюдая за непредсказуемым визитёром.
Схватив свои вещи, Александр Устинович выскочил из дома, расплатился с таксистом и помчался к Авроре. Лихорадочно ковыряя ключом замочную скважину, он, наконец, открыл дверь, кряхтя, откатил её в сторону, влетел в душную кабину и, больно стукнувшись об острый край стола, кинулся к заветной кровати, обхватил её подголовник, приподнял, открыл люк и… внутри было пусто.
– Едрёна вошь! – зарычал Тарнадин и принялся выламывать подголовники оставшихся четырёх спальных мест. Ободрав руки в кровь, он вылетел из машины и понёсся к распахнутой входной двери. Пнул её ногой и, с криком ворвавшись в гостиную, набросился на фрау Зибер, которая сидела за гостиничной стойкой и раскладывала брошюры.
– Говори, где деньги! – он стукнул кулаком по дереву, да так, что бедная женщина, потеряв дар речи, стала медленно сползать со стула, а круглая гравюра на металле с видом старого Нидеррордорфа сорвалась со стены, плюхнулась ей на голову, со звоном отлетела в сторону и застряла в горшке с геранью.
Перегнувшись через стойку, Тарнадин вцепился в трикотажную блузку фрау Зибер, удерживая её от падения.
– Венька! – не своим голосом заорал он, – топай сюда, я воровку поймал.
Часы пискнули и начали отбивать: бемц, бемц, бемц…
– К трибуналу её! – зычный голос Александра Устиновича прозвучал, как приговор на фоне боя часов и разливающейся мёдом Аве Марии.
– Именем российской федерации… – он оскалился и, брызнув слюной в лицо насмерть перепуганной женщины, вдруг округлил глаза, расплылся в улыбке и впился губами в её напряжённую шею.
– Зоя! Зоя Олеговна! Хы-ы-ы-ы…Так это ты капитал стибрила? Ай-яй-яй, гражданка Сосун, нехорошо-о-о-о! Придётся отдать бабки.
К безумному лепету Тарнадина, визгу фрау Зибер и жалобному пению часов присоединился звук сливаемой в туалете воды. Отто, на ходу всовывая руки в лямки подтяжек, подбежал к сидящей на полу супруге, всеми силами пытающейся уклониться от настойчивых тарнадинских поцелуев. Схватив обезумевшего русского в охапку, он оттащил его от скулившей фрау, скрутил за спиной руки и прижал лицом к стене. В это время его обслюнявленная жена доползла до телефона и, заикаясь, вызвала полицию.
Полицейские справились с Тарнадиным быстро. Властям он не сопротивлялся, по дороге в КПЗ плакал, рвал на себе волосы и обвинял во всех своих несчастьях хитрых Juden [90] и живую мумию, которую, якобы, прячет в подвале своего дома воровка и немецкая шпионка Зоя Олеговна Сосун, скрывающаяся от правосудия под псевдонимом – фрау Зибер.
75. Вот оно – счастье!До отлёта оставалось два часа. В симпатичном кафе аэропорта пахло свежемолотым кофе и сэндвичами, запечёнными в тостере с овощами и сыром. Яэль заказала бутылочку минеральной воды, а мужчины – морковный сок в высоких стаканах. Расположились за уютным столиком рядом с цветником. Веня не находил себе места: топтался, морщился, было видно, что он испытывал какое-то неудобство. Поддерживая висящий на ремне саксофон, он сказал:
– Извиняюсь, но мне нужно срочно удалиться.
Яэль прикоснулась ладонью к его вспотевшему лбу:
– Венья! Ты в порядке? Я так и знала. Это виноватое рыбино блюдо от фрау Зибер. Сейчас ты должен много пить воду. Налить тебе?
– Не надо, Яэлюшка, спасибо! Лучше я выпью свой морковный сок.
Залпом, осушив оранжевую пенистую жидкость, Веня вышел из кафе и побежал по коридору вдоль сияющих магазинов.
Через полчаса профессор Штейн встал, огляделся вокруг, бросил взгляд на Яэль, накручивающую на пальчик рыжий локон и, приблизив левую руку к глазам, посмотрел на часы:
– Сколько можно сидеть в туалете? Надеюсь, с Веней всё в порядке. Если в течение пяти минут он не появится, пойду его искать.
У металлического голоса, извещающего пассажиров разных рейсов о времени и месте их сбора, внезапно, появилось живое музыкальное сопровождение. Кто-то играл на саксофоне. Люди останавливались, прислушивались к изумительной мелодии «love story», пытаясь взглядом отыскать исполнителя. Яэль выбежала из кафе. Навстречу ей шёл Веня. Саксофон искрился в его руках, щедро рассыпая чувства молодого человека бисером завораживающих звуков. Ещё шаг, и он оказался рядом с девушкой.
– Дорогой мой, любовь моя, – прошептала она, обхватив своё зардевшееся лицо дрожащими ладонями. Её щёки пылали, а сердце колотилось так быстро, что, казалось, выпрыгнет из груди. «Точно, как в кино», – подумала.
Трое пожилых людей, размахивая руками, прорвали возникший круг любопытных. Очутившись рядом с влюблёнными, старики заохали и, блаженно улыбаясь, спешно ретировались, хоть и остались в первом ряду наблюдателей, живо следивших за действиями рыжей красавицы и её отважного трубадура.
Веня перестал играть, перекинул саксофон за спину и опустился на колено:
– I love you, my darling! [91] – он протянул ей открытую бархатную коробочку, в которой сверкало брильянтовое кольцо, ещё несколько минут назад красовавшееся в витрине ювелирного магазина. Не открывая взгляда от её лица, с которого безудержно стекал водопад эмоций, он тихо спросил:
– Will you marry me? [92]
Яэль не сдерживала слёзы. Слёзы радости. Она восхищалась Веней. Восхищалась щедростью его неугомонной фантазии, его умением удивлять, желанием радовать. Она млела от одного взгляда на его красивое, мужественное лицо, а прикосновения его сильных рук действовали на неё опьяняюще. Она присела на корточки и провела ладонью по его щеке.
– Да! Да, мой милый. Я счастливая быть твоя жена.
Когда на пальце Яэль засияло кольцо, раздался взрыв аплодисментов. Молодые, обнявшись, поспешили к своим старикам. Бланк, закатив глаза, повторял «Барух Ашем», [93] профессор Штейн, скрестив руки на груди, бормотал «в добрый час», а Владимир Ильич всхлипывал и раскатисто сморкался в носовой платок.
Покидая небо над Швейцарией, серебристый боинг компании Эль-Аль, взял курс на Восток и, превращаясь в мерцающую точку, исчез в пене облаков.
76. ПослесловиеИзраиль. Реховот. Старая, но ещё вполне пригодная для жилья, трёхэтажная вилла с витыми балконами и пилоткой черепичной крыши напоминает сказочный дом Мальвины. Разноцветными электрическими лампочками украшен фруктовый сад, где ветви деревьев прогибаются под сочными плодами апельсинов, а листья многолетнего манго, похожие на опахала, отражаются в бирюзовой воде круглого бассейна.
Близняшки Эва и Лина Штейн кружатся в нарядных белых платьях и заразительно смеются. Сегодня у них день рождения. Им исполнилось три года. Всё готово к приёму гостей. Яэль немного устала. Она поглаживает свой огромный живот и с трудом усаживается в кресло возле празднично накрытого стола. В её положении работать в больнице, одновременно проходить специализацию по детской кардиологии, заниматься домашним хозяйством и воспитанием дочек совсем не просто. Раньше, когда малютки только родились, было ещё тяжелее. Веня учил иврит и работал по двенадцать часов в день, так что особой помощи жена от него не требовала. Да и сегодня, когда, наконец, крупная израильская компания приняла его на руководящую должность, Яэль старается не перегружать мужа работами по дому. Во-первых, потому что есть прислуга, во-вторых, помогают её родители – Рут и Натан Левенштейны. Они вернулись из Соединённых Штатов полгода назад, вышли на пенсию и, потратив почти все свои сбережения, купили большой участок земли со старым домом, куда переехали с детьми, внуками, девяностопятилетним отцом и ещё двумя новыми родственниками. На трёх сотках того же участка Веня и Яэль начали строительство своего коттеджа, который будет готов примерно через год.
А пока что ежедневное приготовление пищи для девяти человек Рут взяла на себя, и только субботние блинчики с вареньем остались безоговорочной обязанностью Яэль.
Начинают собираться гости.
Поговорив по мобильному телефону, Веня подходит к Ленину:
– Владимир Ильич! Я выполнил вашу просьбу. В течение недели на счёт института Вейцмана будет переведен миллион долларов.
– О, молодой человек, это замечательно! Я надеюсь, вы не забыли указать конкретного получателя? Мне важно, чтобы деньги попали в отделение генетических разработок, туда, где работает Анатолий Львович.
– Не беспокойтесь, мой дорогой, – Веня обнял старика, – и по этому пункту всё устроено.
Владимир Ильич взял под руку подошедшего Бланка и, оживлённо жестикулируя, стал жаловаться ему на собственную недисциплинированность.
– Володя, не выдумывай! – утешал его Шмулик, – тебя никто не отчислит и вообще ничего не случится, если ты пропустишь один урок каббалы. Подожди, у тебя кипа соскальзывает с лысины, уже болтается на двух волосках, – они остановились и Бланк прикрепил чёрную ермолку к пушку на пятнистой голове Ильича железной заколкой-невидимкой.
– Всё. Теперь совсем другое дело. А вот и наши юбилярши! Самое время начинать концерт.
Вокруг близняшек образовался круг улыбающихся людей. Прадедушка попросил тишины и торжественно объявил:
– Выступают Эва и Лина Штейн. Агния Барто. Мячик. Чтение в унисон. Художественный руководитель – Шмуэль Бланк.
Удивлённые возгласы гостей стихают, когда девочки, чуть стесняясь, начинают декламировать:
Наса Таня гломко платит,
Уланила в летьку мятик…
То, что публика собралась в своём большинстве ивритоговорящая, настырного прадеда не смущает. Зато Володя и Анатолий Львович млеют от блаженства, глядя на маленьких сабрят [94] . Широкие улыбки, расправляющие морщинки на их лицах, для Шмулика дороже аплодисментов. Он замирает в позе победителя. На всякий случай скрещивает пальцы за спиной. Весь его сияющий облик, как будто, говорит: «Ну? Что вы скажете? Теперь вы согласны со мной, что девочки гениальны, и мы не зря всю неделю репетировали. Тьфу, тьфу, только чтобы они были здоровы».
Профессор Штейн смотрит на внучек и смахивает дрожащую слезу с кончика носа. Веня обнимает отца:
– Пап, ты знаешь, мне вчера ночью приснилась мама. Она подошла ко мне и произнесла фразу, которую я когда-то слышал: «Память – единственный рай, из которого нас не могут изгнать», – что бы это могло значить?
Отец судорожно сжимает Венину руку и, наконец, справившись с волнением, говорит:
– Это любимый афоризм твоей мамы. Его написал Жан Поль.
В воспалённых глазах Анатолия Львовича грусть сменяется малюсенькой искоркой надежды: «может и впрямь смерти, как таковой, не существует, и души усопших находят пути для общения со своими близкими»…
Памятник Эвелине Штейн на Новодевичьем кладбище ухожен. В любое время года на его гранитной плите лежат живые хризантемы.
И московская квартира Штейнов не пустует. В ней проживает законопослушный гражданин небольшого роста, лысый, плотного телосложения, в очках с двойными линзами. На его банковский счёт ежемесячно поступает небольшая сумма денег из-за границы.
Опасаясь грабителей, он каждое утро запирает обе входные двери на все шесть замков. Из подъезда выходит важно, не торопясь. Крепко сжимает ручку старинного, заштопанного в нескольких местах, врачебного саквояжа.
Сорок первым автобусом Кузьма Валдаевич Вертухаев (так зовут гражданина) добирается до психиатрической клиники имени Кащенко. Он работает поваром в столовой персонала, балуя врачей нестандартной для больницы пищей. Ежедневно в свой обеденный перерыв он несёт миску с едой в палату № 6 отделения тихопомешанных. Там он кормит из ложки одутловатого мужчину с седыми взъерошенными волосами и бордовой родинкой на лбу. Вертухаев жалеет больного, что-то рассказывает ему, вытирает салфеткой рот, плохо удерживающий пищу, и отгоняет от него безумного старика-соседа, который после обеда обычно раздевается догола и бегает по палате, развлекая себя мелкими пакостями: плевками и раскатами нацеленных газоизвержений в лица беспомощно мычащих психов.
Целыми днями подопечный Кузьмы Валдаевича лежит в кровати, уставившись в потолок. И только ночью, когда замолкают повизгивания душевнобольных, набирает силу разноголосый храп, а медицинский персонал расходится по домам, оставив мускулистого медбрата сторожить спокойствие умалишённых, раздаётся жалобный плач, и полный страдания вопль, – «Ленин, **б, твою мать!» – душераздирающим эхом проносится по коридорам дурдома, растворяясь в зловещей тишине до следующей ночи…
Примечания
1
Раз мыслю, следовательно, существую.
2
Не бойся, друг, скоро хлеб есть будешь.
3
Готово, хозяин! Что? Штейн заупрямился? Рано, – говорит? А Зюга что? Кипятится? Пусть прекращают пустые разговоры. Хоть ВИЛ истощённый, но голова соображает. А ты, начальник, не лезть не в своё дело. Понимаешь?
4
Ксива – записка.
5
Вступил в коллектив – живи по не писанным законам арестантской жизни. Семья решает, когда парня в изолятор посадить, а когда ему грудную клетку разбить. А ты, будь спокоен! ВИЛ в порядке.
6
Будь славен, Господь Бог наш, царь мира!(иврит)
7
Звуки опасности.
8
Напряги мозги, интеллигент! Иди отсюда! Или не понимаешь?
9
«Скрежещет бледный голод в тыл». Державин.
10
Идём, хлеб чесноком натрём и съедим борщ.
11
Нормально, всё в порядке.
12
Тарелку.
13
Окно.
14
Пальцами.
15
Горячку.
16
Голова.
17
Задница.
18
Не бойтесь, братцы! Оставайтесь в кроватях. Что, душно? Сейчас квартиру проветрю. Хоть здесь недостаток продуктов, повар у вас хороший. Будьте спокойны, меня просто так не проведёшь, а турок – он придурок. Ему до меня далеко. Осталось муку с вином перемешать и тесто замесить. Чувствую, не пирог получится, а, реально, пьедестал. Ууу-а, аж зубы в слюне потонули.
19
Нет, нет, всё в порядке!
20
О, Вы говорите по-немецки!
21
Эй, начальник! Иди спать! В комнате окурки воняют. Хоть нос затыкай. И на жопу глушитель с противогазом натяни. Атмосферу портишь. Натворил чего, или с покойником что не так? Ты слышишь, проблемы завтра разгребёшь, а сейчас – на подушку – и спать! Всё! Конец!
22
Простите, у меняя ужасный русский.(англ.)
23
Товарищи (иврит)
24
Простите!(англ.)
25
Платформы, оснащённые двухколёсными роликовыми блоками.
26
Я на занятиях. Дед в шахматном клубе. Ключи в прихожей. Будем в два часа. Целую. Яэль. (англ.)
27
Ой, что это?(иврит)
28
Молодец! С таким парнем не проголодаешься! (иврит)
29
Морепродукты.(англ.)
30
И пусть скажет спасибо! (иврит)
31
Защита (иврит)
32
Приставка родительного падежа. (иврит)
33
Спальня (иврит)
34
Ой, дедушка! Ты выглядишь прекрасно. Просто, молодой красавчик! И голубой цвет хорошо сочетается с твоими глазами. (иврит)
35
Добрый вечер. (англ.)
36
Компания.
37
Еда.
38
Улыбаешься.
39
Разговор.
40
Водка.
41
Напряжение.
42
Высокий.
43
Коротышка.
44
Авторитетов.
45
Рюмки.
46
Наедаться.
47
Нельзя.
48
Спать.
49
Играет.
50
Конфликт.
51
Лицу.
52
Романтическая спальня.
53
История любви.
54
Господи! Я хочу тебя, милый!
55
Хаваль аль азман – жаль времени (иврит). Сленговое значение – высшая степень качества.
56
Дедушка, что здесь происходит?(иврит)
57
Пальцы.
58
Врать.
59
Помощь.
60
Следи за речью.
61
Спасибо Богу. (иврит)
62
Слава Богу. (иврит)
63
Стекло.(англ.)
64
– Вы голодны?(нем.)
65
Огурцов.
66
Спать.
67
Водкой.
68
Подчинённый.
69
Ух, огурчики хрустят, восторг!
70
Лицо.
71
Спер.
72
Бесплатно.
73
Деньги.
74
Миллиона.
75
Подделки.
76
Врун.
77
Врать.
78
Думай.
79
Говоришь.
80
Сброд.
81
Голову.
82
Вызывай скорую помощь и полицию. (нем.)
83
Русские свиньи (нем.)
84
Что Вам надо? (нем.)
85
Сумасшедшие русские. (нем.)
86
А это, чтобы Вам было сладко в дороге. (нем.)
87
Спасибо, дорогая фрау! (нем.)
88
Передайте это Вашему другу. Он просил.(нем.)
89
Боже мой! Отто, иди сюда!(нем.)
90
Евреи. (нем.)
91
Я люблю тебя, дорогая!(англ.)
92
Ты выдешь за меня замуж?(англ.)
93
Слава Богу.(иврит)
94
Сабры – так называют коренных жителей Израиля.
Оглавление1. Осмысление2. Изоляция3. В Разливе4. Феерия реальности5. Паника6. Рассуждения7. Свято место пусто не бывает8. Штейны9. Муська и Моня10. Опасения генсека11. Эвелина Штейн12. Заманчивое предложение13. Начало эксперимента14. Адью, мавзолей!15. В архиве16. Находка17. Веня анализирует18. Вексель19. Чаепитие20. Диалог21. Леон Краузе22. Новые горизонты.23. Зоя Олеговна Сосун24. Оленька Лысько25. Сборы26. По дороге в Разлив27. Ну, с Богом!28. На границе29. Мечты30. Первый рассказ профессора Штейна31. Первое непредсказуемое поведение организма32. Регрессия33. Второй рассказ профессора Штейна34. Турецкий Берлин35. Угрызения совести36. Нидеррордорф37. Банк38. Рождение идеи39. Шмуэль Бланк40. Опасения отца41. Предложение, от которого нельзя отказаться42. Яэль43. Юбилей44. Тель-Авив45. Прогулка46. В Яффо47. Сюрприз48. Сон Вени49. Иерусалим50. Радостное известие51. Исповедь52. Прогресс53. Новый чайник, Иисус Христос и фантастический телефонный разговор54. Недовольство Тарнадина55. Встреча56. Ванильные пирожные57. Храм58. «love story»59. Пищевые добавки60. Второе непредсказуемое поведение организма61. Альберт не Штейн62. Реликвия63. Заговор молчания64. Коробка с деньгами65. Дебош66. Лужи крови67. Случайная находка68. Разговор с отцом69. Разговор с Завьяловым70. «Обладающий всем и снова всё боящийся потерять»71. Единая семья72. Прощальный обед73. В Цюрихе74. Побег75. Вот оно – счастье!76. Послесловие







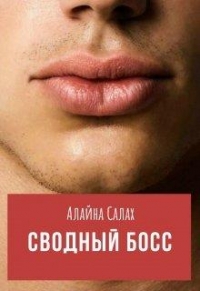



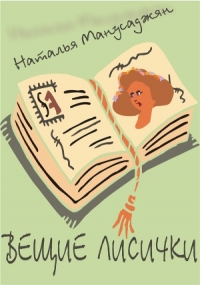
Комментарии к книге «Умер, шмумер, лишь бы был здоров», Ирина Мороз
Всего 0 комментариев