Алексей Мунипов Фермата Разговоры с композиторами
© Новое издательство, 2019
* * *
Предисловие
Эта книга началась с беседы с Софией Губайдулиной. По форме это было сдержанное юбилейное интервью, разговор о состоянии классической музыки и нынешней роли композиторов, но было в нем еще какое-то измерение, которое ощущалось не головой, а скорее телом. Такой звон внутри бывает, когда оказываешься рядом с линией электропередач. Общаясь, София Асгатовна не делает ничего особенного – просто слушает и отвечает, ну разве что практически не отводит от собеседника глаз. Совершенно непонятно, откуда берется ощущение, будто разговариваешь с атомной электростанцией. Лишь постфактум становится ясно, что дело именно в этой сверхконцентрации внимательности и осознанности, которая в жизни встречается поразительно редко.
Эта личная встреча поразила меня больше, чем ее сочинения. Я начал искать встреч с другими композиторами, придумывая все новые поводы для бесед, а потом встречаясь уже и без всяких поводов. Мы говорили о музыке, но тайным смыслом этих бесед была попытка понять или, точнее, почувствовать, как устроено композиторское ремесло и люди, которые им владеют. Может ли так быть, что само умение приручить звуки, расслышать музыку в окружающем мире и даже там, куда не может дотянуться человеческий слух, меняет тебя не хуже духовной практики? А заодно – превращает в увлекательнейшего собеседника (в чем вам как раз предстоит убедиться)?
Музыка, самое чувственное из искусств, вроде бы не нуждается в комментариях, и все же композиторы во все времена не могли избежать искушения высказаться по поводу своих и чужих сочинений. Говоря о них, они говорят о себе, но еще и о том таинственном деле, которому посвятили жизнь; деле, в котором опыта, практики и холодного расчета столько же, сколько случайности и магии. «Все композиторы, какую бы музыку они ни писали, чувствуют про свою работу примерно одно и то же, – заметит потом в разговоре Леонид Десятников. – Между композиторами вообще довольно много общего, хотя все будут настаивать на различиях. Некое метафизическое измерение присутствует в нашей деятельности. А назвать его можно как угодно».
Результатом этих встреч стала «Фермата» – сборник бесед с двадцатью современными композиторами постсоветского пространства. Некоторые из них были опубликованы ранее, но в книге они представлены в значительно расширенных версиях; многие потребовали дополнительных встреч и поездок в Казань, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Баку, Киев, Ереван и Берлин. Разумеется, книга не претендует на исчерпывающий сборник разговоров со всеми значительными русскоязычными композиторами, благо, их гораздо больше двадцати. Но, кажется, некоторый моментальный снимок композиторского сообщества создать удалось.
Здесь собраны беседы с очень разными людьми, пишущими очень разную музыку. Самому молодому в момент встречи едва исполнилось тридцать, некоторые перешагнули 80-летний рубеж. Одни с удовольствием говорят о себе, другие старательно этого избегают. Одних волнуют внешние обстоятельства, другие считают, что музыка от этого не зависит. Под одной обложкой соседствуют авторы симфоний и текстовых партитур-инструкций, пишущие для оперного театра и для ансамбля электромоторов и соленоидов. Иногда это одни и те же люди. Но, за редким исключением, никакой борьбы, по-настоящему непримиримого спора на этих страницах обнаружить не удастся – не то чтобы ярко выраженные симпатии и антипатии в композиторском сообществе отсутствовали вовсе, но все более-менее сходятся на том, что мейнстрима, общего течения, к которому можно было бы примкнуть или против которого бороться, сейчас просто нет. При желании в книге легко различить очертания нескольких дружеских композиторских союзов («советские авангардисты», «постсоветские минималисты», «группа „СоМа“»), но все эти объединения условны, хотя и стали частью истории музыки.
Работа над книгой растянулась на семь с лишним лет, и за это время современная академическая музыка перестала быть герметичным эзотерическим клубом для посвященных и зазвучала в самых разных местах – драматических театрах, галереях, музеях, библиотеках, даже на заводах и улицах. В филармонических залах, где раньше слушатель младше сорока мог оказаться разве что чудом, тоже появилась новая публика. Оказалось, что эта музыка интересует куда больше людей, чем можно было ожидать; что фестивали современной музыки могут собирать полные залы, а дискуссии о ней – интересовать не одних только музыковедов-теоретиков. И дело не только в деятельности дирижеров-визионеров со своей паствой (Теодор Курентзис, Владимир Юровский) – появилось новое и очень яркое поколение композиторов, симпатизирующие им продюсеры и режиссеры и места вроде московского «Электротеатра», Нового пространства Театра Наций или Новой сцены Александринского театра, где их музыка уместна и ожидаема. И, что не менее важно, появились новые места силы за пределами Москвы и Санкт-Петербурга – за современной музыкой теперь ездят в Пермь и Екатеринбург, а в крохотном городке Чайковский, бывшем рабочем поселке в Предуралье, каждый год собирается масштабная академия, готовящая композиторов нового типа. Нам странно произносить это вслух, но, возможно, мы и вправду живем в эпоху ренессанса новой музыки.
Полемика вокруг современной музыки длится не одно десятилетие и даже не один век. Винченцо Галилей в «Диалоге о древней и новой музыке» (1581) клеймил современных ему авангардистов за увлечение внешними эффектами примерно так же, как Тихон Хренников – молодых советских композиторов. А Георг Пелецис, сокрушающийся в этой книге о том, как много приемов из старой музыки забыто, брошено, недоиспользовано, почти дословно повторяет сетования средневекового полемиста Якоба Льежского, защищавшего достижения ars antiqua. Неудивительно, что многие вопросы, к которым возвращались наши беседы, легко могли быть заданы композиторам XX, XIX и XV веков. Что такое новая музыка и чем она отличается от старой? Как научиться в ней разбираться? Не слишком ли она сложна для слушателя? Что такое «сложность» и «простота»? Есть ли в музыке прогресс? Кому и зачем все это нужно?
«Я с Бетховеном вел беседы», – говорит в интервью Александр Кнайфель, и, лишь прочтя ответы его коллег, понимаешь, что в этой фразе нет никакой особенной позы. Не только Владимир Мартынов, использующий целые куски из романтической музыки XIX века, или Антон Батагов, играющий себя и Гласса вперемешку с Бахом и Перселлом, но и Дмитрий Курляндский, в списке сочинений которого есть вещь для вокалистов, холодильников и битого стекла, и Алексей Сысоев, осваивающий электромеханические реле, зуммеры и сирены, и другие композиторы – все они находятся в непрерывном диалоге с предшественниками. Музыка делает этот диалог очевидным и совершенно захватывающим, достаточно лишь к нему прислушаться. А разговоры про «авангардность», «радикальность» и «немелодичность», такие же древние, как сама музыка, лишь затемняют понимание.
Платон в «Государстве» одним из первых сформулировал, что музыка не просто услаждает слух – она влияет на наше настроение, смягчает и ожесточает, может упрочить, а может разрушить империи. Под этой обложкой собраны двадцать композиторов, чей коллективный опыт незаметно, но настойчиво меняет мир вокруг нас.
Автор выражает признательность изданиям «Афиша», «Афиша-Волна», Colta.ru, Port, «Баку», в которых были опубликованы сокращенные версии ряда интервью.
София Губайдулина
Родилась в Чистополе в 1931 году, в 1932-м переехала с семьей в Казань. Закончила Казанскую, затем Московскую консерваторию. Став одной из самых ярких фигур новой музыки, вместе с Альфредом Шнитке и Эдисоном Денисовым определила развитие советского академического авангарда. В 1969–1970 годах Губайдулина экспериментирует с электроникой в Московской экспериментальной студии электронной музыки при музее имени А.Н. Скрябина, в 1975-м организует импровизационный ансамбль «Астрея», где вместе с коллегами-композиторами играет на неевропейских инструментах вроде тара, пипы и кяманчи (важным условием было неумение профессионально играть ни на одном из них). Интерес к нетрадиционным для академической музыки инструментам и тембрам останется характерной приметой ее творчества – Губайдулина писала для кото, чжэна, чанга, аквафона, активно сотрудничала с Ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского. Еще одна характерная особенность – пифагорейская любовь к цифрам: всякий композитор немного нумеролог, но такая самозабвенная страсть к числовым последовательностям, таблицам и вычислениям встречается нечасто.
В 1970-е годы она столкнется с тем, что ее музыку стараются не допускать до концертных залов, а уже отрепетированные вещи вычеркивают из готовых программ. Узкий круг исполнителей то и дело пробивает эти преграды, но широкий слушатель вплоть до конца 1980-х может услышать музыку Губайдулиной преимущественно в кино и мультфильмах («Вертикаль», «Чучело», «Маугли», «Кошка, которая гуляла сама по себе» и другие). Тем разительней окажутся перемены конца 1980-х, когда Губайдулину начнут исполнять по всему миру, а по телевидению станут говорить про «великих русских композиторов Губайдулину, Денисова, Шнитке». В 1991 году она эмигрирует в Германию и поселится в маленьком городке Аппене под Гамбургом.
Губайдулина никогда не была связана ни с одним большим музыкальным течением или главенствующей техникой (как серийная техника у Денисова или полистилистика у Шнитке), ее сложно причислить к какой-либо школе – она всегда стояла немного особняком. Ее крупные работы – «Offertorium» (1980), «In Croce» (1979), «Семь слов Христа» (1982), «Час души» (1976), «Stimmen… Verstummen» (1986) – отмечены приглушенным трагизмом и характерной, немного дидактической символикой. С игрой, иронией и легкостью Губайдулина ассоциируется в гораздо меньшей степени, но эта сторона в ее творчестве присутствовала всегда – прежде всего в сочинениях, написанных для разнообразных ударных. Перешагнув 85-летний рубеж в статусе абсолютной легенды, сверхвостребованного композитора, а также, очевидно, самой известной женщины-композитора на планете, продолжает активно сочинять музыку.
Беседы состоялись в 2011 и 2016 годах в Москве.
© With kind permission Musikverlag Hans Sikorski GmbH & Co. KG, Hamburg
Фрагмент партитуры «In tempus praesens», второго концерта для скрипки с оркестром (2007). Из состава симфонического оркестра композитор убрала струнные, «чтобы солирующая скрипка осталась в одиночестве и с другими скрипками не было у нее соревнования».
– Вы к юбилеям как относитесь? Для вас это праздник или неизбежная суета, от которой никуда не деться?[1]
– Ну как отношусь? Мне восемьдесят лет – значит, я облетела вокруг солнца восемьдесят раз. Вот и все. Больше я ничего не ощущаю. Конечно, это трудный период. Утомительный. Много встреч. Большая затрата нервной энергии. Но к юбилеям всегда готовится много новых исполнений, а для композитора нет ничего радостней. Вот только что был фестиваль в Амстердаме, сплошные подарки – семь дней подряд исполняли мои сочинения. В самом-самом лучшем виде. Там есть замечательный зал с великолепной акустикой. А это очень важно для музыки – если стены отзываются. И совершенно необыкновенная публика. Которая – это просто чувствуется – нуждается именно в такой музыке. И когда в зале сидишь вместе с этими людьми – ну, это замечательно. Публика эта, надо сказать, в Амстердаме появилась не просто так – это результат многолетних усилий великих музыкантов, которые своих слушателей растили, формировали, пестовали. И вот в такой атмосфере я слушала очень важные для меня сочинения – «Теперь всегда снега» на стихи Геннадия Айги, «Perception» на стихи Франциско Танцера. Мои любимые. И это была большая радость. А потом были Казань, Ганновер – и везде замечательные исполнения, с искренней любовью сыгранные вещи. Так что… Мое восьмидесятилетие – это вроде бы конец жизни, и можно по этому поводу сокрушаться, но когда встречаешь такую любовь к музыке, как тут печалиться!
София Губайдулина: «Как и многих сочинителей XX века, меня в сильнейшей степени волнует проблема времени. Меня волнует, как оно изменяется в связи с изменяющимися психологическими состояниями человека, как оно проходит в природе, мире, обществе, в сновидениях, в искусстве. Искусство всегда стоит между сном и реальностью, между мудростью и безумием, между статикой и динамикой всего существующего. В обыденной жизни мы никогда не имеем времени настоящего. Лишь только вечный переход от прошлого к будущему. И только во сне, в религиозном опыте и в искусстве мы можем пережить длящееся настоящее время. Думаю, что именно этому служит музыкальная форма.
‹…› Когда Иисус говорит: „Я – в Отце, и Отец – во Мне, и вы – во Мне, и Я – в вас“ (Ев. по Иоанну), то в нем говорит софийное начало. Вечное превращение единицы в число три и числа три в единицу. Превращение единства – во множество и множества – в единство. Именно поэтому при сочинении этого произведения на первый план вышло то качество, которое можно было бы обозначить как двухвекторность образа Софии: страстное желание реализации звукового множества, желание достигнуть верхнего регистра, услышать, так сказать, небо, а с другой стороны – достигнуть самого низкого регистра с его адскими frullato тромбонов. Второй же вектор – это необходимость привести звуковое множество вновь к единице, то есть к унисону» (из аннотации к сочинению).
– А для Татарстана, как я понимаю, вы теперь важный национальный композитор? Там теперь есть центр современной музыки вашего имени, фестиваль и так далее.
– Меня все-таки никак нельзя назвать национальным композитором. Я ориентирована на универсальное сознание. Я всегда хотела охватить весь мир – и классическую музыку, и старинную, и романтическую, и фольклор Запада, и фольклор Востока. И уж конечно, никогда не хотела останавливаться только на татарской мелодике. Или русской. Нет, у меня никогда не было желания стать национальным композитором. А то, что в Татарстане ко мне сейчас хорошо относятся, – целиком их заслуга. У них сейчас, насколько я могу судить, сформировалась очень симпатичная доктрина толерантности – по крайней мере, в Казани, но, кажется, и не только. Выстроили много мечетей, одна другой краше. Но рядом с каждой обязательно христианский храм. Было время, когда христиане и мусульмане враждовали, но сейчас ничего такого не ощущается – я, по крайней мере, межнациональной вражды не почувствовала.
– Вы ведь внучка муллы, это как-то повлияло на вашу жизнь?
– Нет-нет, у нас в семье это никогда не обсуждалось. Мой дед действительно был муллой, но очень прогрессивным – он был суннитом, а не шиитом, и даже среди суннитов считался прогрессивным. Он был связан с Витте и главным образом занимался образованием, в том числе образованием женщин, что, конечно, консервативные мусульмане не поощряли. Но он умер за десять лет до моего рождения, поэтому никакого влияния на меня не оказал. А родители мои были людьми абсолютно светскими. Папа был инженером. Никто в семье не был религиозным, кроме меня. А я была, причем с раннего детства. Но я выбрала православие, христианство.
– И как родители к этому отнеслись?
– Жутко испугались. Ну представьте, ребенку пять или шесть лет, и вдруг он оказывается глубоко религиозным, непонятно почему. Я и сама до сих пор не понимаю. Ну и конечно, они боялись неприятностей – времена были советские, можно было потерять работу и так далее. В общем, они это так и не приняли и всегда, всегда меня осуждали. В семье мне приходилось защищать себя. Как, впрочем, и в обществе.
– Что вообще означает для современного композитора религия? Должен ли он быть религиозным?
– Я не очень-то люблю слово «должен».
– Ну хорошо, нужна ли ему религия?
– Я не знаю. Я думаю, никто ничего не должен. Ну а уж люди, которые занимаются искусством, в принципе никому ничего не должны. Они принадлежат высшему миру. И в любом случае это люди религиозные – неважно, осознают они это или нет. Что такое вообще религия? Для меня это понятие буквальное, re-ligio – лига, проведенная между горизонталью нашей жизни и вертикалью божественного присутствия. Любой человек, который сочиняет, скажем, стихотворение, выходит в это пространство вертикали. И способен почувствовать хотя бы самую малость, крошечку того, что существует в этом измерении. Протянуть пусть тончайшую, но ниточку. Каждое стихотворение, каждая песня, любая картина…
– Любая или любая талантливая?
– (Пауза.) Это уже другой вопрос. Больше таланта, меньше таланта… Сам факт творчества – это все равно устремление за пределы обыденности. Человек может этого не осознавать, творчество может быть… всякое, но сама форма вещи оказывается лестницей, вертикалью.
– Когда вам в 2000 году заказывали «Страсти по Иоанну», в проекте также участвовали китаец Тань Дунь и аргентинец Освальдо Голихов, который признался, что Новый Завет впервые открыл, когда получил заказ. Представить ситуацию, в которой богатый патрон заказывает фактически мессу людям, не имеющим никакого отношения к христианской традиции, раньше было невозможно.
– Да, но ведь и мир вокруг нас другой. И слушает нас совсем не та публика, что была в XVII веке.
– А вам важно, какая публика вас слушает?
– Для меня важно оставаться свободной. Для художника ориентироваться на публику – это всегда проигрыш. Социум ведь многослоен, и у разных слоев не просто разные вкусы, но еще и разные требования. Есть люди, которым вообще ничего не нужно, есть те, кому нужно только развлекаться, те, кому нужно успокоение, отдых. Нет, ориентироваться на социум сложно и совершенно бесполезно. Надо слушать себя, слушать мир. Один из моих педагогов по фортепиано, Яков Израилевич Зак, как-то обратил внимание, что многие исполнители все время как будто смотрятся в зеркало. Ему это ужасно не нравилось. Это важно – не глядеть в зеркало. Не думать о том, как ты выглядишь. Я вот стараюсь не читать ничего, что обо мне пишут.
– И свою биографию, которая недавно вышла, тоже не читали?
– Я очень переживала, когда она писалась. Но книгу, признаюсь, так и не смогла прочесть. Ну как это я буду читать о себе… целую книжку? Ведь я, в общем, все это знаю. А у меня лежит столько непрочитанных книг! И вместо этого я буду сидеть и читать про себя?
– Я хотел вас спросить про классическую музыку. Что, по-вашему, с ней сейчас происходит?
– Меня в прошлом году на встрече со студентами Московской консерватории спрашивали, как преодолеть кризис в композиторском творчестве. Странно – а я не вижу никакого кризиса! Кризис – это ведь что? Это когда исчерпана вся звуковая материя. Но сейчас-то все наоборот – XX век открыл невероятные богатства звуковых отношений. Никогда, ни в одном веке такого не было! Да господи, вокруг столько работы, столько путей! И, между прочим, куда бы я ни приехала, я встречаю молодых людей, которые именно этим и занимаются. Одни – в области формы, другие что-то высчитывают, третьи занимаются обертонами, кто-то – спектрами. Какой кризис?
– Вероятно, они имели в виду кризис перепроизводства. Консерватория каждый год выпускает новых композиторов – но кому они нужны?
– Ах перепроизво-одства! Ну это вопрос к социологам. Ведь разве только композиторов слишком много? Слишком много пианистов, слишком много виолончелистов, скрипачей, танцоров, поэтов. Видите ли, людей стало слишком много – так много, что земля не выдерживает. А ведь их будет еще и еще больше. И наверное, нам надо жить скромнее. Но если смириться с этой ситуацией – то, может быть, можно смириться и с перепроизводством композиторов?
– Но как с этим смириться самим композиторам? Аудитория классической музыки уменьшается. Студенты консерватории заранее готовятся к тому, что их будет слушать узкий круг друзей – это в лучшем случае.
– Такая опасность действительно есть. Но дело тут не в отношении «композитор – слушатель», а в том, что общество в целом упрощается, снижается. Современный человек стремится к тому, чтобы стать плоским, остаться в плоском существовании обыденности. Что люди… Мы живем в эпоху усталой цивилизации. При этом наша цивилизация все ускоряется и ускоряется – и естественные процессы за нею просто не поспевают. Ребенку, чтобы появиться на свет, нужно девять месяцев – и все тут! Ускорить это невозможно. И цветок не может расти быстрее. То есть сейчас, конечно, все возможно, но это будет уже не тот цветок. Тенденция к ускорению противоречит культуре. Можно сказать и резче: цивилизация враждебна культуре, сейчас это особенно видно. Она уже работает не на человека, а против человека. И наша задача – этому противостоять. Как же в такой ситуации композиторов может быть слишком много?
Да, задачи, которые стоят перед современными композиторами, сложны. Им сейчас гораздо трудней, чем в предыдущие века. Тут легко впасть в уныние, даже в отчаяние. Но на самом деле композиторы невероятно востребованы. Я много езжу и могу засвидетельствовать, что в крупных городах мир определенно опускается. Становится плоским, трафаретным. Зато в каких-то неожиданных местах возникают удивительные островки. Вот, скажем, в Кухмо, это 800 километров к северу от Хельсинки, можете себе представить! Когда я туда впервые попала двадцать лет назад, это была крохотная деревушка, концерты проводились в школе. А теперь там громадный концертный зал и ежегодный фестиваль классической музыки, куда за месяц приезжают сорок тысяч человек. В этот маленький городочек!
– И в вас совсем нет этого композиторского отчаяния? Как у Лигети, который в конце жизни впал в депрессию, решив, что после смерти его все забудут, – потому что он дожил до времени, когда музыка уже никому не нужна.
– Ну это-то… Всех нас забудут. Это факт. И меня забудут. Ничего в этом трагического нет. Всех забудут – и народятся новые, понимаете? Меня это не волнует. Меня волнует превращение культурного человека в гусеницу. Нет, можно жить и так. Ведь гусеница живет очень даже сущностной жизнью. И ничего. Но мне жалко. И вот сейчас можно либо попытаться с этим бороться, либо сказать: да, конечно, мы никому не нужны. Тогда и не сочиняй, и не стремись ни к чему – тоже проживешь. Так, что ли?
– Разве этот разговор про опасность прогресса не вечный? Такой же, как разговор про конфликт поколений и молодежь, которая не чувствует важных вещей?
– В каком-то смысле вечный – но конечно, не настолько, как конфликт отцов и детей. Просто этот процесс усиливается. Еще в начале XX века чуткие художники и в Англии, и в России догадывались, что цивилизация враждебна культуре. Но это были скорее предположения. А сейчас мы видим результат, и для этого не нужно быть особенно чутким – это очевидно, всякий это видит. Все ускоряется с невиданной скоростью, еще чуть-чуть – и это будет неостановимо.
– А как вы относитесь к концепции Владимира Мартынова про «конец времени композиторов»?
– А как я могу к ней относиться? Плохо, плохо отношусь. Что он делает? Он фактически становится в один ряд с теми, кто хотел бы уничтожить культуру. Придумывает им теоретическое обоснование. Что же тут хорошего?
– Но он ведь и сам композитор. Он прежде всего описывает собственную гибель.
– Да, вот такое у него противоречие – композитор, который провозглашает конец композиторов. И все ему это противоречие прощают. А я – нет. Кстати, то, что он делает как композитор, мне как раз нравится. Что-то больше, что-то меньше, но в целом я принимаю его творчество. А вот его желание оправдывать тенденцию, которая и так побеждает, – нет. Он доказывает, что так и должно быть, и это хорошо, это нормально. Он соглашатель. А мне не нравится позиция художника, который соглашается с тем, что падает в пропасть. В то время как цивилизация превращает человека в обезьяну, принижает его, опрощает…
– И все же – вы не сожалеете о том, что роль композиторов в обществе уже никогда не будет такой, как прежде? Что на оперные премьеры никогда не соберутся такие толпы, как во времена Малера, что современный композитор не попадет на обложку Time?
– Знаете, у Тойнби есть концепция трехдольного хода истории: развитие – апогей – спад. К истории музыки она тоже приложима. Ведь и Гайдн, и Моцарт жили в униженном положении. Они были слугами у богатых господ, и их слушатели тоже хотели только развлекаться – как и большинство современных слушателей, которые хотят развлекаться и не хотят вовлекаться. И композиторы героическими усилиями вынуждены были эту тенденцию преодолевать. Моцарт устраивал ассамблеи, Бетховен вообще был титанической фигурой, страстно желавшей возвысить положение музыки в обществе. Развитие переросло в апогей, а сейчас идет спад. Вот и все. Но у Тойнби есть и колоссально обнадеживающая мысль – полифония ритмов. Ни в коем случае нельзя отождествлять историю с живым организмом. Организм развивается линейно: он рождается, взрослеет и умирает. Эту логику невозможно преодолеть. Но общество развивается гораздо более сложным образом – полифонически, ритмы развития накладываются один на другой. Один слой социума хочет опроститься, а другой – нет, у них разные амплитуды. Мои наблюдения это подтверждают. Вроде бы повсюду идет спад и публика желает только веселиться, но одновременно появляются какие-то менеджеры или просто светлые умы, которые оказывают сопротивление упадку. Мне эта концепция полифонического развития куда ближе, чем гораздо более пессимистический взгляд на историю Шпенглера.
– Не виноваты ли в этом спаде и композиторы тоже? Есть такое распространенное мнение: в середине XX века композиторы увлеклись настолько сложной и трудно постигаемой музыкой, что публика просто не смогла ее переварить – и в результате отвернулась. Когда Пьера Булеза спросили, почему многие важные сочинения 1950-х и 1960-х годов никто не играет и не записывает, он честно признался, что, возможно, из-за того, что никто в то время не думал о том, как эту музыку будет слушать публика.
– (Долгая пауза.) Возможно, он прав. Возможно. (Пауза.) Трудно сказать. Сложный это вопрос, сложнейший. Ведь существовали не только эти композиции, была и более доступная музыка. Но, я думаю, отчасти он прав.
– Но вы в то время, конечно, так не думали? У вас была совсем другая ситуация – вы тридцать лет, с середины 1950-х по середину 1980-х, сочиняли в стол. Вашу музыку исполняли довольно редко.
– Хотя нельзя сказать, что уж совсем не исполняли. Но 1960–1970-е были действительно очень трудными. Казалось, что мне подрубают корень. Исполнитель выучил мою вещь, хочет сыграть – и тут запрет. Было много отчаяния. Но позже, в 1980-е, отдельные исполнители стали преодолевать этот барьер: дирижер Юрий Николаевский, Владимир Тонха, Фридрих Липс… Все-таки не совсем в стол я писала. Кое-что было сыграно, какие-то вещи все же мелькнули.
– Что вы себе говорили в самые тяжелые годы?
– Я припоминаю, что у меня тогда было, как ни странно, довольно активное настроение. Отчаяние бывало, конечно, но по большей части мною двигала энергия. Задумываться, что будет дальше, у меня просто не было времени.
– Но ведь вам нужно было на что-то жить.
– Меня спасла музыка к кинофильмам. Союз композиторов контролировал все записи и все исполнения, но кинематографисты ему не подчинялись. Получить работу в кино было непросто, но возможно – так я и выжила. Лент было не слишком много, и не всегда они были такими уж выдающимися. Но встречались и очень интересные работы. А для меня это был не только заработок, но еще и очень хорошая практика с оркестром. Суровая, вообще говоря. Нужно сделать свою работу безошибочно и за очень короткий срок. И – что немаловажно – эту музыку гарантированно исполнят, причем тоже очень быстро. Там была целая комната переписчиков для оркестра, буквально на третий день вы уже выходите к музыкантам.
– Кинематографисты, которые заказывали музыку вам, Денисову, Шнитке, делали это, потому что любили ваше творчество? Они вас таким образом поддерживали?
– Нет, я не думаю. Просто нормальные художники, которые искали то, что им подходит. Не потому, что это прогрессивно, а потому, что это ровно то, что им нужно. Они решали чисто художественные задачи. И когда появлялась возможность вырваться за границы, которые ставила идеология, в пространство свободы – они это делали.
– А сейчас вы к этим работам – вроде саундтрека к «Маугли» или к «Чучелу» – как относитесь?
– Я их не стесняюсь. Конечно, это совершенно другая область творчества, и вальс из «Чучела» я в свой концерт не вставлю. Но это была вполне удачная стилизация под вальсик для духового оркестра в саду. А иногда были и просто очень творческие затеи. Например, когда мы делали «Кошку, которая гуляла сама по себе» – вся съемочная группа этим просто горела. Я, конечно, трезво оценивала ситуацию: когда я сочиняю симфонию, я – главная персона, а там я что-то вроде актера. Но все равно было интересно.
– А какая музыка на вас влияла в те годы?
– Я хочу сказать, что никакая музыка на меня не влияла и не влияет. Когда я сочиняю, я стараюсь забыть все, что слышала. Все прослушанное остается где-то на дне подсознания. А слушала я очень много. Непременно – Бетховена, Баха, Моцарта, Гайдна, Малера, Шумана, Мессиана. Из русских – Шостаковича, Прокофьева, Чайковского, Римского-Корсакова. И одновременно на меня громадное впечатление производили всякие архивные записи. Была такая серия пластинок – яванский гамелан, традиционная музыка Японии, Китая. Якуты, тувинцы. Или музыка пигмеев, например, гениальная. Джаз, конечно. Рок – нет, а джаз – да.
– Это был какой-то принципиальный момент? Как раз Мартынов вспоминает в мемуарах, как вы вместе тусовались в конце 1960-х в студии электронной музыки при музее Скрябина, и говорит, что в какой-то момент его компания перестала слушать авангард и стала слушать исключительно Pink Floyd и King Crimson, а ваша – Шнитке, Денисов и все остальные – из-за этого в студию просто перестала ходить.
– Я бы с удовольствием с ними послушала что угодно – конечно, чтобы потом все забыть; дело не в этом. Просто я к тому моменту совсем разочаровалась в электронике.
– Почему?
– Меня поначалу увлекла идея, что можно сочинять музыку, просто что-то нарисовав для синтезатора, то есть минуя исполнителей, – тогда это было актуально. Но аппарат оказался ненадежным, слишком многое зависело от пленки, динамиков, всяких случайностей. Поэтому я переключилась на живые инструменты, особенно на не самые традиционные – тар, тамбур, дудук. А электроника мне стала мешать.
– Вы не пытались к ней вернуться, когда техника стала более совершенной?
– Нет. Я довольно рано поняла, что разбрасываться вредно. Надо выбрать что-то одно и углубляться. Обязательно надо себя в чем-то ограничивать.
– Когда вы решаете написать музыку для, скажем, кото и симфонического оркестра, или чжэна, или аквафона – вы чем руководствуетесь, тембральными характеристиками? Тем, что никто прежде для такого состава не сочинял?
– Совсем другим. Мне показалось привлекательным с помощью этих инструментов проникнуть в то архаичное время, когда вообще ничего еще не существовало. Никакой цивилизации, никаких нот. Мы ведь и играть на них начали именно поэтому. Под запретом были пассажи, готовые аккорды. Конечно, нам не подходили рояль, виолончель, скрипка. Зато подходили кото, пипа, тар, кяманча. Это даже не было в полном смысле импровизацией[2] – скорее школой духовного общения. Общения через звуки. Но без претензий на исполнительское мастерство.
– То есть на виртуозность.
– Да-да, на виртуозность. Ощущения, надо сказать, от такой практики небывалые. И я все думала, почему же это так привлекательно. И в какой-то момент поняла – это желание старости примкнуть к молодости. Мы живем в эпоху старой цивилизации, да мы сейчас и сами старые уже, хотя тогда, конечно, я себя старой совсем не считала. Но ужасно притягательна сама возможность вместо традиционной для нашей культуры формы «сочинил – записал – исполнили» прикоснуться к устной традиции дописьменного, архаического сознания. Это был совершенно параллельный мир. Просто нас очаровал этот круговорот – молодость, старость, молодость, старость. Но поймите меня правильно – я не призываю вернуться к докомпозиторской эпохе. Совсем нет. Я продолжаю сочинять. Я люблю музицировать. Сочиняю, правда, уже не каждый день – в поездках не получается. Но дома – обязательно. Я не потеряла любви к музыке.
– У вас сейчас много заказов?
– Очень. Больше, чем я могу выполнить. Я решила, что сделаю следующие три – раз уж у меня юбилей – и больше заказов у меня не будет. От всех остальных я отказалась. Думаю, мне надо сделать перерыв. Потому что каждый художник имеет право на годы молчания. Так что… Я выполню еще три заказа, а после меня ждут годы молчания. Да. Годы молчания.
* * *
– Влияет ли как-то возраст на ваше творчество? Стало ли вам с годами проще сочинять – или, наоборот, сложнее?
– Я обсуждала это с коллегами, и почти все сходятся на том, что чем дальше, тем сложнее. Это, видимо, специфика нашего труда. Обычно человек овладевает какой-то техникой, и со временем ему становится легче. Ну, появляются другие сложности, но в профессиональном смысле – попроще. А у пишущих людей – думаю, и у художников так же, и у поэтов, но уж, во всяком случае, у композиторов, я со многими говорила, – все наоборот. Чем это объяснить – трудно сказать. Но я думаю, дело в том, что не все у нас состоит из техники. Овладение техникой сочинительства – это не самое главное. А все остальное – это то, что нельзя повторить. Нужно все время что-то искать новое, и это все сложнее, потому что все композиторское творчество направлено внутрь, в область интуиции. Путешествие внутрь своей души с возрастом оказывается все дольше, и естественно, что преодолевать это расстояние становится все сложнее.
– Известны примеры, когда у композиторов в зрелом возрасте резко менялся музыкальный язык: поздний Ноно, Стравинский, Бетховен. Как вам кажется, как менялась с годами ваша музыка и что на это влияло?
– Я заметила, что у многих моих друзей, ну, скажем, Арво [Пярта] или [Валентина] Сильвестрова, в какой-то момент в творчестве произошел радикальный слом. Но у меня такого не было. Я с самого начала иду примерно одним путем. Моей целью всегда было услышать звучание мира, звучание своей собственной души и изучить их столкновение, контраст или, наоборот, сходство. И чем дольше я иду, тем яснее мне становится, что я все это время занимаюсь поисками того звучания, которое соответствовало бы правде моей жизни. То, что я пишу сейчас, – это приблизительно то же самое, что я писала, когда была молодой. Я тогда написала произведение под названием «Фацелия», ну и сейчас все примерно то же самое. Я так и занимаюсь поисками правды своей собственной души и ее отклика на то, что я слышу. На то, как звучит мир.[3]
– Эту перемену в творчестве Пярта, Сильвестрова, Мартынова и многих других назовут «новой простотой», и произошло это примерно в одно и то же время. В 1977-м Пярт напишет «Tabula Rasa», Сильвестров – «Тихие песни», Мартынов – «Страстные песни», Гурецки – Третью симфонию. Что тогда случилось, почему это носилось в воздухе?
– Вы правы, это произошло сразу у многих людей. Думаю, дело вот в чем. XX век – это век поисков чего-то очень нового, неслыханных звучаний, невиданных поворотов, в музыке, в живописи, в архитектуре. И найдено такое количество всего нового, экспрессивного, созданы такие потрясающие вещи, вроде «Моисея и Арона» Шенберга… В какой-то момент нужно было оглянуться и посмотреть, не перешли ли мы грань. Есть понятие предела, предельного осуществления какой-то идеи. И я вижу, что то же самое происходит не только в музыке, не только в области культуры, но даже и в области техники: в какой-то момент нужно оглянуться и посмотреть, нет ли слишком большого преувеличения в том пути, который был взят в XX веке. Авторы, которых вы перечислили, – это как раз люди XXI века. XXI век – это то состояние человечества, в котором оно знает: нужно понять, не переступили ли мы предела. Упомянутый вами слом связан, мне кажется, с этим.
– А почему вас он не коснулся? Вы когда-то даже говорили, что считаете эту «новую простоту» слабостью и не хотите ей поддаваться.
– Это слишком аналитический взгляд: поддаваться, не поддаваться… В те годы и позже я смотрела не на то, что происходит вокруг, а на то, что происходит во мне. И лично у меня не было прихода к этому предельному состоянию экспрессии. Я просто все время думала совсем о другом. Я была просто… в какой-то другой воде. У меня было стремление услышать, как звучит мир, как звучу я сама, и установить соответствие между этими слышимостями. И это бесконечный процесс, не локально-временный. Конечно, иногда и в этой работе происходит жуткий конфликт, который тоже может достигнуть предела, но это все же совершенно другая постановка вопроса.
– Про свой Первый струнный квартет вы говорили, что в нем много пессимизма, потому что «сама жизнь была такой темной, глухой и безнадежной». Получается, эпоха все-таки может отражаться в музыке?
– В первом струнном квартете исполнители расходятся в разные стороны так, что больше не слышат друг друга. Там нет никакой попытки объединиться, наоборот: в финале они окончательно перестают друг друга понимать. Это чисто пессимистическая идея отдаления, разъединения. Да, конечно, мир очень сильно на меня влияет. Но у меня бывали разные состояния.
Когда меня спрашивают, пессимист я или оптимист… С точки зрения интеллекта меня можно назвать пессимистом. Но я не хочу быть пессимистом! У меня такое ощущение, что сейчас человек не имеет права быть пессимистом. Пессимистом можно быть только в том случае, если все нормально. Есть нормальное биение жизни, есть критические замечания к обществу, к социуму, к становлению культурного сознания, а в целом все вроде нормально. Но сейчас положение настолько угрожающее, что мы не имеем права на пессимизм. Я не хочу сказать, что я оптимист. Надежда хотя и есть, но маленькая, и обстановка для культуры настолько угрожающая… Совершенно безнадежная ситуация. Но мы должны обязательно найти точку опоры и сопротивляться тому, что происходит сейчас. А совершенно очевидно, что идет культурный спад. Все большее значение имеет популярная музыка, все меньшее – высокое, чистое искусство.
– В этой связи не могу не вспомнить, что в 1976 году у вас было сочинение для двух оркестров, эстрадного и симфонического, и исполняться оно должно было в мюзик-холле.
– Да я ведь вообще к эстраде плохо не отношусь, и к джазу тоже с великим почтением. Когда я говорю о засилье развлекательного искусства, я не говорю о том, что оно не нужно. Я все понимаю. А в свое время даже очень приветствовала, когда джаз был запрещен. Просто должен быть правильный баланс. И сейчас он перекошен в пользу развлечения, веселья, которого и так достаточно – и так уже люди очень веселенькие. Но человек никогда не жил без высокого измерения жизни. В сущности, без этого он не стал бы человеком. Это очень серьезный вопрос.
Сейчас в Таллине прошла мировая премьера моего нового сочинения. Оно о любви и ненависти. Все началось с того, что я прочитала молитву в сборнике ирландских молитв бенедиктинского монастыря, там ее автором значится Франциск Ассизский. Потом оказалось, что это все-таки анонимное сочинение. Но это не имеет никакого значения: церковь приняла ее как молитву Франциска, и я с полным уважением отношусь к тому, как решила церковь.
Эта молитва меня потрясла тем, как там ставится вопрос о любви к Богу. Там сказано: «Боже, помоги мне не в том, чтобы меня утешали, но чтобы я мог утешить. Помоги мне не в том, чтобы меня понимали, но в том, чтобы я понимал. Не в том, чтобы меня любили, но чтобы я любил». И вот это – «помоги мне, Боже, чтобы я любил» – это же просто ко всей нашей цивилизации относится. В нашей цивилизации личность, конечно, развилась очень сильно, и это очень хорошо, но этот процесс дошел до такого предела, когда личность обращается только к себе, только к этому измерению. Это явление мы называем эгоизмом. И вот к нам ко всем обращена эта молитва. Вы думаете, что вы покинуты Богом, а подумайте: а любите ли вы, люблю ли я по-настоящему? Мне кажется, что это просто лично ко мне, ко всем нам, эгоистам, относится.
Во всех цивилизациях было достаточно причин, чтобы ненавидеть. Я скомпилировала тексты из сакральных источников, из русского молитвослова, из Библии, и там очень много причин для того, чтобы ненавидеть, чтобы отвечать агрессией. Там сказано: «Враги мои искажают заповеди твои» – серьезнейшая причина! Вопрос ненависти стоит в центре сочинения. (Цитирует, повышая голос.) Ненавижу… ненавижу, НЕНАВИЖУ! (Недоуменно.) Я… ненавижу?
Этот вопрос – он по существу неразрешим, и что тут можно сделать? После этого вопроса все равно слезами обливается мое сердце оттого, что так много врагов. В сочинении это чувство агрессии все нарастает, и вдруг, как разрешение в консонанс: «Я сошла в ореховый сад, посмотреть на зелень долины, посмотреть, не распустилась ли виноградная лоза, не расцвели ли гранатовые яблоки. О мой возлюбленный, иди, выйдем в поле, побудем вместе». И вот этот текст из Песни песней, эта чистая любовь, может быть, спасет нас от греха себялюбия и ненависти. Дальше в сочинении идет целый эпизод, который все равно наращивает агрессию. И только в конце: «Боже, помоги нам, помоги принести любовь туда, где царит ненависть. Помоги мне принести прощение туда, где царит обида». Это противопоставление – вопрос, который совершенно непреодолим. И [мое] сочинение только спрашивает, оно только ставит вопрос.
– А почему у вас нет музыки, написанной специально для церкви? Ведь сама эта тема для вас невероятно важна.
– Дело в том, что я православная. Там бы не приняли мою музыку. [В православной церкви] не исполняется современная музыка. Моя музыка хотя и обращена к религиозности – безусловно, она вся религиозная, – но она светская. Это светская музыка для концертного зала. Она может быть исполнена в церкви и очень часто исполнялась в церкви, но не в православной. А вот что касается отношения священников – меня очень заботил этот вопрос. Я написала «Страсти по Иоанну» и «Пасху по Иоанну» и очень волновалась, как отнесутся священники к моей работе. Я поехала на остров Валаам, там рядом маленький островок, на нем живет пустынник, отец Василий. И я с ним поделилась, спросила его, как к этому относиться. И он сказал: «Не обращайте внимания! Люди очень любят учить и поучать. Делайте, что ваша душа вам говорит». Так сказал мне отец Василий. И снял с меня абсолютно весь груз моей деятельности.
– Многие из ваших сочинений можно назвать трагическими, вы сами говорили, что вас интересует все, в чем присутствует трагизм. Но вот мы разговариваем, и совершенно нет ощущения, что у вас трагический взгляд на мир. Насколько вообще связан характер композитора с его музыкой?
– А я думаю, что это правда. В смысле, вот это трагическое ощущение во мне. Я думаю, что то, что есть в моем творчестве, – это чистая правда обо мне. А в разговоре я это ощущение преодолеваю.
– Вы себя называете интуитом, в том смысле, что ваш подход к музыке интуитивен. Но при этом в ваших сочинениях важную роль играет математика. Целый ряд произведений построен на рядах Фибоначчи, рядах Локка, и сочинение музыки в вашем случае сопряжено со сложнейшими расчетами, составлением таблиц и так далее. Как одно уживается с другим?
– Самый сложный вопрос – это взаимоотношение интеллекта и интуиции в жизни художника. Вообще я на первое место ставлю интуитивный поток. И очень не хочу, чтобы интеллект подавил эту интуицию. Но я отлично понимаю, что художественное произведение не может быть чисто интуитивным. И в идеале интуитивный поток должен сдерживаться интеллектуальным законом. К этому я и стремлюсь, когда занимаюсь рядами Фибоначчи, связанными с золотым сечением. Я надеюсь на то, что трение между интуитивным потоком и интеллектуальным сдерживанием этого потока даст мне нужную энергию. Но это эксперимент. Ну, иногда получается. Иногда даже получается некий звуковой храм, где золотое сечение проявлено в самой важной точке сочинения. Но преодоление интуитивного потока – это борьба не на жизнь, а на смерть. Потому что иногда он не подчиняется. И нужно обязательно добиться этого баланса. Или вибрации между ними.
– Правильно ли я понимаю, что вы таким образом пытаетесь создать новую структуру вместо традиционных ритмических, гармонических, тональных систем?
– Нет-нет, речь не идет о замене. Речь идет только о формообразовании. А средства – тональные, атональные – могут быть самые разные, в зависимости от того, как играет интуитивный поток. Я не хочу ему мешать, но хочу, чтобы его что-то сдерживало. Вот такая у меня позиция. А что касается средств, интервалики, аккордики – это все интуиция.
– А почему вы, с вашим интересом к форме, никогда не пробовали написать оперу?
– Вот к опере меня как-то не очень тянет. Мне кажется, что именно концертное музицирование дает возможность проявиться чистоте нашего духа. А опера затемняет это все слишком большим количеством внешних аксессуаров. Слишком много материи в этом жанре. Мне гораздо ближе концертный зал.
– Можно ли считать, что для вас самыми сложными были 1960–1970-е годы? У вас были проблемы с исполнениями, и сложно забыть известное выступление Тихона Хренникова 1979 года. С другой стороны, вы описываете эти годы как очень плодотворные, а жизнь – как сложную, но насыщенную и энергичную, подчиненную жесткому режиму: каждый день занятия физкультурой, выключенный телефон, многочасовая работа над партитурами.[4]
– И все-таки это были самые сложные и неблагополучные годы. И очень большое торможение оказывало то, что я не имела выхода к публике. Очень трудно было добыть друзей-исполнителей. К счастью, они нашлись и поддержали нас, вытащили из состояния абсолютного падения. А самый благостный период у меня начался в моем старшем возрасте, когда я нашла убежище в деревне. Не в городе, а в деревне. Дело в том, что я очень нуждаюсь в сосредоточенности. И в близости к земле, к растениям, деревьям. Вот такая простая вещь для меня очень важна. Германия подарила мне эту возможность. Вот там можно было и заниматься физкультурой, и целыми днями работать сколько я хочу. Последние двадцать с лишним лет – это самые плодотворные годы. Ростропович подарил мне рояль, рядом поле, лес, где я могу получить то основное, из чего растет все мое душевное богатство.
– Интересна ли вам современная музыка? Не бывает ли ощущения от новых сочинений, что вы все это слышали тридцать-сорок лет назад?
– Ощущение есть, но, думаю, оно и было всегда. Если в XIX веке вы спросили бы Шумана про современные сочинения, то он, конечно, сказал бы: да, я все это уже слышал. Но это ничего не значит. Все равно идет творческий процесс в масштабе всего социума, и это очень важно. Это Андрей Волконский в свое время любил говорить в беседе: о, ну такое я уже слышал. А я ему отвечала: ну и что, что слышал? Это же не важно! Даже если взять корифеев – Моцарта, Бетховена, Гайдна, это ведь тоже «уже было». Или Шютца. Или Сальери. Это бывает всегда, это закон нашей природы. Я довольно много общаюсь с молодыми композиторами, все активно работают, что-то себе думают… Но, конечно, аккорд – он и есть аккорд, мелодия – это всегда мелодия. Повторения обязательно будут. Но у молодежи сейчас очень творческий дух, и это вселяет в меня надежду.
– У вас особенные отношения с тишиной, с паузами – ужасно интересно, как вы относитесь к Кейджу. Я знаю, что многие композиторы вашего круга Кейджа не понимали и не принимали. Кнайфель, например, считает его баловством, не стоящим обсуждения.
– Я могу только сказать, что у меня есть очень большая симпатия ко многим моим друзьям-композиторам, которые абсолютно не вписываются в то, что я делаю. Я очень ценю нашу дружбу, независимо от того, что мы все разные. Кейдж – он вот такой, и я люблю его таким. Я люблю его философию, его отношение к звуку, отношение к музицированию, мне нравятся его страсть и чистота. Когда мы встретились с Кейджем, нашли в разговорах много общего. Это очень чистый человек. Но вообще, я люблю очень многое из того, к чему сама не имею никакого отношения.
– Вы прожили достаточно долго, чтобы увидеть, как изменилась иерархия в композиторском мире. Например, публику на премьерах Шнитке когда-то разгоняли конной милицией, а сейчас его играют мало, и отношение изменилось – музыковед Ричард Тарускин называет его «самым переоцененным советским композитором». А, скажем, музыка Моисея Вайнберга сейчас переживает ренессанс. Как вы на все это смотрите?
– Все же Моисея Самуиловича Вайнберга очень много играли в то же время, когда играли и Шнитке. Шнитке исполнялся с очень большим успехом, но Вайнберг исполнялся намного чаще. Я же жила тогда, я сама присутствовала на этих концертах. Да, сейчас у Вайнберга очень хорошая позиция, и ведь это такая чистая музыка, такое проникновение… Изумительный композитор. Шнитке же – совершенно не переоценен, это неправда. Я с этим не согласна. Это очень значительная фигура, сама персона этого композитора невероятная, такой громадный талант и глубокий ум – это очень большая редкость. Но когда человек умирает, его забывают, это так и есть, и будет всегда. Одно время очень большим спросом пользовался Булез, а сейчас он, к сожалению, очень мало исполняется, мне об этом говорили и французы, и немцы. Почему – другой вопрос. Думаю, просто нарастает молодое поколение. Сейчас Альфреду было бы восемьдесят лет, я его чуть-чуть постарше. Мы, старшее поколение, закрывали дорогу и, конечно, уже отходим на второй план. На первый план выходит молодежь, сорокалетние, пятидесятилетние. Это нормально, естественно, и так и будет.
– В монографии Валентины Холоповой я прочитал про ваш интерес к антропософии, Штайнеру и кругу его идей, а также к специальной литературе, связанной с общением с духами.
– Ну, не стоит преувеличивать этот интерес. Он, конечно, есть, мне интересна история человеческого духа. Поэтому я и Штайнера прочитала почти всего. Мне дарят книжки, я читаю, чем-то восхищаюсь. Кроме того, меня очень радуют антропософские школы, я встречаюсь иногда с их выпускниками. Это немножко другие люди, не похожие на тех, которые воспитывались в академических учебных заведениях. Им свойственны мягкость, отзывчивость, непретенциозность. У них есть свои преимущества, и у меня ко всему этому большая симпатия. Но сказать, что я занимаюсь спиритизмом… Этого нет, конечно.
– Вы почетный профессор Пекинской консерватории, что вы думаете про современную восточную музыку – китайскую, корейскую, японскую? Ведь Восток вас всегда интересовал.
– Чрезвычайно интересовал и интересует. Несколько раз я была в Японии, встречалась с японскими музыкантами. Это совершенно особая, рафинированная культура, и можно только восхищаться этим. Множество раз была в Китае, подружилась с композиторами, исполнителями и просто с разными другими людьми. А однажды была в жюри китайской консерватории, слушала современные сочинения. Многие из них стремятся к тому, чтобы отвечать критериям Запада. Что же, они отвечают этим критериям. У больших китайских композиторов очень профессиональные и вдохновенные сочинения. Я только не могу вам назвать фамилии, это было бы слишком много для моей головы. Но наиболее ярким для меня оказалось сочинение, которое было не в этом русле, а основано на традиционных китайских песнопениях. То есть чисто китайская вещь, а при этом абсолютный модерн. Но такая вещь была только одна из приблизительно пятнадцати.
Думаю, у Китая сейчас большие перспективы. Они невероятно активно заботятся о среднем музыкальном образовании. Директор одной музыкальной школы показывал мне свое здание, я была просто в восхищении. И государство все это финансирует, для них это имеет большое значение. Так что я ожидаю взлета от китайцев.
В Южной Корее я не сумела познакомиться с музыкой местных композиторов, но встречалась с молодежью. И там меня один молодой человек, композитор, спросил: «А почему вы не пишете развлекательную музыку?» Вот это меня удивило. В мире, который стоит на грани Третьей мировой войны, человек озабочен, достаточно ли развлечений для молодежи! В Китае мне такие вопросы не задавали. Они-то как раз понимают значение серьезной высокой музыки.
Владимир Мартынов
Родился в Москве в 1946 году. Закончил Московскую консерваторию (класс композиции Николая Сидельникова, класс фортепиано Михаила Межлумова). В 1970-е, параллельно с сочинением музыки, работает в экспериментальной электронной студии при доме-музее Скрябина, изучает фольклор в экспедициях по России, Памиру, горному Таджикистану, Северному Кавказу. Готовит к изданию серию сборников с ренессансной музыкой. Играет на блокфлейте в Ансамбле старинной музыки (его флейта звучит в саундтреке «Соляриса»), участвует в Московском ансамбле солистов, исполняющем как музыку западноевропейского Средневековья, так и авангардные сочинения XX века. Играет в созданной им рок-группе «Форпост», пишет музыку для театральных постановок, кинофильмов, мультфильмов (автор музыки более чем к пятидесяти фильмам, в том числе «Михайло Ломоносов», «Холодное лето 53-го», «Остров»). В 1978 году воцерковляется, порывает с композиторской деятельностью, начинает исследовать древнерусское богослужебное пение и преподавать в Троице-Сергиевой лавре. Возвращается к композиции в 1984 году.
Ранние сочинения Мартынова вдохновлены послевоенным авангардом; пример художественного жеста того времени – пьеса «Охранная от кометы Когоутека» (1973) для двух фортепиано, призванная отвести от Земли опасную комету. После исполнения комета действительно сменила траекторию, и автор сжег ноты, посчитав задачу выполненной. Переломным сочинением стали «Страстные песни» 1977 года, обозначившие уход в «новую простоту», к особенному, для многих – характерно русскому варианту американского минимализма. Написанные после долгого молчания крупные сочинения – «Come In!» (1988), «Апокалипсис» (1991), «Плач пророка Иеремии» (1992), «Ночь в Галиции» (1996) – окажутся и самыми заметными: размашистая репетитивная техника Мартынова прилагается в них к романтической традиции XIX века, григорианскому хоралу, балканскому богослужебному пению, знаменным распевам, древнерусским плачам, архаичному фольклору. После успешного «Апокалипсиса», написанного по заказу кафедрального собора Майнца, пишет ряд «новых сакральных сочинений» по заказу итальянского импресарио Маттео Традарди – «Magnificat», «Stabat Mater», «Requiem», «Canticum fratris solis». «Плач пророка Иеремии» ставит Анатолий Васильев, он же целиком использует мартыновский «Реквием» в своем «Моцарте и Сальери». Еще более плотным оказывается сотрудничество Мартынова с Юрием Любимовым, с которым они сделают вместе около двадцати спектаклей («Шарашка», «Апокалипсис», «Идите и остановите прогресс» и другие). Многие крупные сочинения и проекты Мартынова оказываются синтетическими театрализованными постановками, где на одной сцене объединяются струнный ансамбль Opus Posth и группа «АукцЫон», или, как в случае с «Детьми Выдры» на стихи Велимира Хлебникова (2009), тувинский ансамбль горлового пения «Хуун-Хур-Ту», академический хор «Млада» и тот же Opus Posth.
Попытка нащупать новую, свободную от композиторского диктата зону на стыке фольклора, рока, джаза и академической музыки приводит к попытке объяснения, и в 1999-м в свет выходит книга «Конец времени композиторов», делающая Владимира Мартынова и его идеи известными далеко за пределами сообщества любителей музыки. С годами писательство занимает композитора все больше, к 2018 году его библиография насчитывает более десятка книг, от брошюры, разбирающей провал оперы в Лондоне[5], до сборника писем любимому коту[6] или 1500-страничного тома[7], объединяющего записки Мартынова, письма его отца, тексты Джойса и Пруста, приказы Союза композиторов СССР, загадочные рисунки и страницы с многоточиями. Сочинения Мартынова исполняют Гидон Кремер, Kronos Quartet, ансамбль Opus Posth, однако чаще всего они звучат в исполнении самого Мартынова – это продолжительные фортепианные репетитивные композиции, и автор предлагает относиться к ним как к разновидности духовной практики. Преподает курс «Музыкальная антропология» на философском факультете МГУ.
Беседа состоялась в Москве в 2013 году.
Фрагмент партитуры фортепианного цикла «Переписка» Владимира Мартынова и Георга Пелециса. На протяжении многих лет старые друзья, живущие в разных городах, а после распада СССР – и в разных странах, обменивались в письмах короткими фортепианными пьесами. Цикл, созданный по переписке, был начат в 1984 году с письма Георга Пелециса. В 2002-м цикл был исполнен авторами в концертном зале им. Чайковского, записан и издан на компакт-диске. На этой странице фрагмент III принадлежит Георгу Пелецису, фрагмент IV – Владимиру Мартынову.
«На днях, как-то вечером, воспользовавшись одиночеством, присел к роялю и минут за 10–20 написал маленькую пьесу. Сначала я ею не увлекся, а теперь наигрываю ее и наигрываю. Какая-то в ней есть шумановская нотка, которую приятно дергать. Неотразимых интонаций я тут, конечно, не нашел, но все-таки хочу с тобой ею поделиться. Нигде в официальных показах играть ее, очевидно, не имеет смысла. Кому она нужна такая! Может и тебе не нужна, но я все-таки тебе ее пошлю. Так сказать, просто как „привет из Риги“. Будет настроение и время, напиши что-нибудь! 3.12.1984. Гоша» (из письма Г. Пелециса В. Мартынову).
– Среди ваших книг особняком стоит одна – «История богослужебного пения», написанная в качестве учебного пособия Московской духовной академии в конце 1980-х[8]. В ней вы доказываете, что музыка и богослужебное пение – это антонимы; что музыка – это путь от Бога, результат грехопадения[9]. И это понятный вывод для человека, который решил перестать сочинять музыку и заниматься исключительно реконструкциями знаменного распева. Но ведь потом вы снова вернулись к композиторству, вам не мешало это знание?
– Да, богослужебное пение – это сакральное, а вся прочая музыка – профанное, все верно. Но видите ли в чем дело… У меня есть еще «Трактат о богослужебном пении», и финальная глава в нем носит название «О невозможности существования богослужебного пения в условиях современного мира». И это очень важный момент. Церковное пение[10] – это не просто какая-то эстетика, это результат определенным образом выстроенной жизни, и если ее нет… Когда я воцерковился и перестал быть композитором, я стал частью небольшого, но очень сплоченного сообщества людей, которые под руководством владыки Питирима пытались восстанавливать древнерусское богослужебное пение и петь все это в храмах. Но наше дело потерпело полный крах. Потому что внедрение этой певческой системы в полном объеме неподъемно для современного человека. Не получается просто начать петь в храме то, что там положено петь. То, что ты поешь, налагает на тебя такие требования, которые ты просто не можешь осилить. Для этого нужна определенная аскетическая подготовка.
Богослужебное пение, грубо говоря, двухсоставное: правильное владение голосом – это продолжение правильной жизни. И если ее нет, на одном усилии, на композиторском вдохновении ничего сделать невозможно. Отчасти поэтому я и ушел из Церкви. Мы-то думали, что восстанавливать древнерусское богослужебное пение – это просто изучать, реконструировать, расшифровывать и петь. И все. Но этого недостаточно. Может быть, где-то в северных монастырях для этого готовится почва, что-то копится для того, чтобы в будущем создался правильный резонанс… Или в Коломне, в Свято-Троицком Новоголутвинском монастыре… Но сейчас это невозможно. Как невозможно восстановить высокую культуру, так же невозможно восстановить в современной церкви богослужебную певческую систему. Для этого просто нет жизненного фундамента. Поняв это, я вернулся в мир.
– Я правильно понимаю, что крюки, которыми записаны древнерусские распевы, обозначали не только движение мелодии, но и требуемое движение души певца? То есть просто пропеть их недостаточно?
– Если упрощать, то да. Крюковое знамя имеет два значения: движение голоса и определенное духовное состояние. И прежде чем овладеть навыками движения голоса, надо овладеть навыками движения сознания. Именно поэтому богослужебное пение – это не искусство, а аскетическая практика. Искусство – это продолжение необработанного сознания. Даже если это великое сознание, типа Бетховена. А для того чтобы петь в церкви, нужна правильная организация жизни, и она ведет за собой правильно организованный музыкальный материал.
Но ведь это относится не только к знаменному распеву, это все древние знали. Вспомните Платона, который в своем идеальном государстве запрещал определенные лады как развращающие, и рекомендовал другие, воспитывающие мужественного гражданина. Музыкальные структуры обладают не эстетическим, а этическим воздействием. Китайцы верили, что по музыке можно судить о состоянии государства. Звукосфера, которая нас окружает, есть проявление состояния национального сознания. Музыка – это не просто звуки. Не просто эмоциональное воздействие: весело-грустно. Она формирует глубинные психические основы государства. А теперь давайте вспомним, какая звукосфера окружала нас в то время. Пугачева, Кобзон, Высоцкий… Что можно сказать о государстве с такой музыкой? Что можно сказать о нас? Какую традицию мы могли возродить?
– Получается, что подлинную древнерусскую музыку мы услышать уже не можем, несмотря на то что в библиотеках хранятся десятки тысяч певческих рукописей XII–XVII веков? Их можно прочесть, но невозможно пропеть?
– Невозможно. Именно так. Конечно, можно составить какое-то представление. И не то чтобы в современной России совсем не было аскетов. Есть и аскеты, и старцы, но это все единичные случаи. А богослужебное пение – это коллективное действие. Нужно собрание единомышленников, людей, живущих единым порядком. Тогда образуется резонанс и все начинает получаться. В сущности, именно этого я пытался добиться, работая над реконструкциями знаменного распева и исполняя получившееся с хором издательского отдела Московской патриархии. Просто не понимал, что это невозможно. Но это был уникальный опыт. Реконструкция – это завораживающий процесс. Недостаточно изучать только крюковые, топориковые записи. Нужно знать старообрядческие традиции, а они ведь тоже находятся в разной степени сохранности и офольклоривания. Пение некрасовских казаков – это практически фольклорный знаменный распев, но есть и более строгие варианты. Надо ориентироваться и на фольклор, потому что есть общие, фундаментальные вещи. По сути, приходится принимать во внимание все существующие традиции – не только русские, но и сербские, греческие, болгарские. А в конечном итоге и григорианику, потому что все это из одного корня растет.
Конечно, это немного авантюрный процесс. Потому что источники источниками, а решение, как это должно звучать, все равно в результате принимаешь сам, на свой страх и риск, и любой человек со стороны может спросить – а почему так? И свою индивидуальность ты туда тоже вносишь, но это и хорошо, потому что знаменный распев – это очень динамическая вещь. Мне повезло, я начал ездить в фольклорные экспедиции еще в конце 1960-х, традиция была еще живой. Я видел знаменитый хор Сапелкина, это были бабы лет по сорок,[11] в самом соку. И вот путешествуешь по Белгородской области, буквально пару километров от деревни к деревне проехал, и одну и ту же песню уже по-другому поют. Богослужебное пение, запись крюками подразумевают эту вариантность, это не фиксированный текст, а очень гибкая система. Практически как джазовая импровизация, ну, чуть построже, может быть. Но живость все равно присутствует. Этим было очень интересно заниматься, просто я не сразу понял неподъемность задачи.
– И тогда вы решили вернуться к композиторству?
– Все-таки я не совсем вернулся. Нельзя сказать, что я бросил писать музыку, а потом начал снова, как ни в чем не бывало. Все мои идеи про конец времени композиторов появились именно благодаря пребыванию в Церкви. Композиторы видят свое дело изнутри, а мне удалось выйти и увидеть его снаружи, что никому из них не удавалось по определению. В этом мое безусловное преимущество. Так что вернулся я с полным сознанием своей новой миссии. Моя композиторская деятельность, как бы пафосно это ни звучало, рассчитана на возникновение нового сакрального пространства. Старое пространство знаменного распева, григорианики, византийского храма разрушено, и мы должны идти к созданию нового. Так что история про конец времени композиторов[12] – ерунда, просто частный случай. Речь идет про гораздо более масштабные вещи. Ведь откуда взялось искусство? Это просто продукт распада сакрального пространства Византии. Так что мои разговоры про конец композиторства – это разговоры про конец искусства в принципе. И это оптимистическая позиция, потому что она делает акцент не на том, что умерло, распалось, закончилось, а на том, что начинается нечто совсем новое. Неавторское по своей сути.
– Получается, вы это пространство пытаетесь восстановить – или создать заново – при помощи своих сочинений. Но ведь музыка, как вы убедительно доказываете, вообще не про это, она не про сакральное.
– Секрет в том, чтобы повернуть прогресс вспять, развернуть направление вектора. И в истории музыки есть несколько примеров того, как композиторы умудрялись разворачивать это движение. Самый яркий – это «Искусство фуги» Баха. С точки зрения истории музыки он занимался какими-то совершенно архаичными делами. Уже его сыновья осваивали сонатную форму, уже закладываются основы симфонизма, Гайдну уже семнадцать лет, и тут вдруг Бах пишет дидактическое произведение, демонстрирующее, как по-разному при помощи контрапункта можно обработать однуединственную тему. По меркам того времени – абсолютный нонсенс, анахронизм, чудовищный откат назад! И даже по его собственным меркам – единая тема «Искусства фуги» противоположна множественности тем «Хорошо темперированного клавира».
– Но разве «Искусству фуги» удалось повернуть историю музыки вспять?
– Может быть, ненадолго, но удалось. А главное, это одно из самых великих произведений западноевропейской культуры. Именно благодаря тому что Бах двинулся в сторону, обратную логике развития всей европейской музыки и даже всей европейской цивилизации. И у многих великих были такие моменты, хотя и не такие яркие. Вагнеровский «Парсифаль» по сравнению с «Тристаном и Изольдой» – это с точки зрения прогресса тоже жуткий откат назад, но какой результат! «Торжественная месса» Бетховена – то же самое. В конце жизни многие композиторы пытались обернуться вспять.
Это важные уроки нам. Да, если механизм запущен, ни Бах, ни Бетховен не могут его остановить. Но они демонстрируют, что стрелу времени все-таки можно развернуть. И, может быть, это и есть прорыв в далекое будущее, потому что архаизирующее начало присутствует во всем подлинно новаторском и авангардистском. Вспомните хлебниковскую «Ночь в Галиции», в которой он использует русалочьи песни. Это абсолютная абракадабра, но эти ведьминские архаические песни оказываются аналогом его заумного языка. И вспомните Малевича с его «Черным квадратом». Что он пишет в конце жизни? Абсолютно ренессансный автопортрет. Принято считать, что это результат авторитарного давления, но это далеко не так. В общем, в истории искусства есть целый ряд таких моментов. И нам нужно знать их, понимать их значение, учиться у них. Тренировать в себе этот архаизирующий взгляд.
– Ваша знаменитая идея «конца времени композиторов» как-то отражается в вашей музыке? Вот балет «Времена года» – он ведь, в сущности, про это?[13]
– Ну да, я взял популярную музыкальную форму, в барочные времена ее особенно любили, и соединил с историей композиторского дела. Это цикл, состоящий из четырех частей, каждая посвящена одному композитору. Весна – это XVIII век, Вивальди, с которого, в общем, начались публичные концерты. Летнее цветение – это Бах. Осень связана с Мендельсоном, который Баха, по сути, и открыл – с этого началось ностальгирование по старой музыке. А зима – это Пярт. Четыре времени композиторского года.
– У вас с Пяртом, кажется, сложные отношения.
– По-человечески да, но в смысле музыки – никаких сложностей. Это, я думаю, последний великий композитор. И в смысле таланта, и в смысле известности. Что, в общем, не всегда совпадает: у Сильвестрова качество музыки не ниже, а то и выше, а известности такой нет даже близко. То, что делает Пярт, – это последний из возможных композиторских жестов. И в его творчестве признаки зимы – окостенения, омертвения – уже, конечно, заметны.
– Вы однажды к юбилею Пярта написали текст о нем для газеты «Известия», и он довольно безжалостный: Пярт исписался, ушла свежесть, «попал в маховик музиндустрии».
– Не в Пярте дело. Это судьба всего этого композиторского поколения. И про Райха то же самое можно сказать, и про Гласса. У Пярта самые великие вещи – «Tabula Rasa» и «Страсти по Иоанну» – были написаны в СССР, еще до эмиграции. А уже в 1980-е пошло затухание. Не у него, у всех. Возьмите Кабакова. Возьмите Рубинштейна, который в 1996-м вообще перестал писать тексты. Сравните то, что делал Пригов в 1970–1980-е, с тем, что он делал в 1990-е. Это общий удел художников, заявивших о себе в 1970-е.
Если говорить про музыку, то ведь минимализм – это последнее заметное композиторское направление. После него не появилось ни одной яркой композиторской идеи, ни одного принципа, ни одного большого имени, равного тем, кто был до них. Произошло истончение композиторской субстанции. Так что я не хочу, чтобы это звучало так, словно у меня есть личные претензии к Пярту – он не виноват, дай ему Бог здоровья, просто его творчество – это зима, конец композиторской эпохи. Но это общая тенденция, это происходит со всеми.
– Вы его еще страшно ругаете за симфонию, посвященную Ходорковскому.
– Мне просто кажется, что его кто-то втянул в это дело. Это настолько непохоже на Пярта… У него вообще другой музыкальный темперамент. Ему все журналистское всегда было чуждо.
– То есть вам кажется, что современный композитор не должен откликаться на повестку дня? Есть же «Никсон в Китае», сочинение Райха памяти событий 9/11, много всего.
– Да не то что не должен… Это просто вопрос масштаба. Я понимаю, если бы Пярт откликнулся, не знаю, на события в Косово, где сотни православных храмов были уничтожены, он все-таки верующий, православный человек. Но Косово его не волнует, а Ходорковский взволновал. Ну как-то это странно. Тоже нашли фигуру. Не мое дело указывать, на что реагировать, но есть гораздо более трагические события. А это какой-то популистский ход, вроде картины Левитана «Владимирская дорога».
– Меня еще в этой статье поразило одно ваше заявление: что в СССР композиторов, может, и притесняли, но зато они написали свои лучшие произведения – значит, правильно притесняли.
– Ну а почему в перестройку не появилось ни одного громкого композиторского имени, хотя все препоны вроде бы уже были сняты? Исчезла разница потенциалов, которая, видимо, необходима для успешной композиторской судьбы.
– Это все-таки немного викторианский взгляд на вещи: композиторы – они как дети малые, их надо пороть ради их собственной пользы.
– Да никого здесь не пороли, слушайте, это все мифы. Я все это, слава богу, видел своими глазами, был всего этого участником. Ни Пярта, ни Шнитке, ни Денисова, ни Губайдулину никто не притеснял. Они потом стали из себя делать мучеников, и успешно. Нельзя же отрицать, что их успех на Западе связан не только с качеством композиций, но и с репутацией нонконформистов, борцов с советским режимом. В наше время про политику было говорить не принято, даже просто неприлично, но политический момент тут безусловно присутствует.
Но только это все ложь, про мученичество. Композиторы в Советском Союзе катались как сыр в масле, в бытовом смысле уж точно. Заказы были, дома творчества, бесплатная переписка нот, да всё. Да, не все сочинения можно было исполнить, но все писали в громадном количестве музыку для кино и замечательно жили, и Шнитке, и Денисов. Да и другие художники… Кабаков и Булатов рисовали детские книжки – никто не бедствовал.
– Навряд ли они стали бы этим заниматься, если бы у них был выбор.
– Безусловно. Но все-таки это было не так страшно. Ну да, могли не пустить за границу, власти могли не передать приглашение, сказать, что автор болен. Но все равно как-то обходили. Запретили в Москве исполнение первой симфонии Шнитке – так ее потом исполнили в Горьком.
– Губайдулину долгие годы почти не исполняли.
– Ой, ну не надо ля-ля, а? Где ее не исполняли? Вот был ансамбль, куда входил Любимов, Пекарский, я, моя жена Таня Гринденко. Мы играли и Штокхаузена, и Кейджа, и все на свете – в Новосибирске, в Питере, в Таллине. Было полно фестивалей. В Риге в 1978 году мы играли Пярта, Сильвестрова, Суслина, мои вещи. Ну да, фестивали скандально заканчивались, могли быть разные неприятности. Но история про пострадавшую «хренниковскую семерку» – это просто миф. Были бы они поумней, они бы за такую рекламу еще и приплатили бы.
Да, Хренников мог вызвать, мог отчитать. Губайдулина жутко обижалась, как ребенок, что в «Музыкальной жизни» вышла статья про ее сочинение под названием «Откройте окна» – мол, у нее музыка как будто с закрытыми окнами. Но это что, гонения? У меня была не так давно премьера оперы «Vita Nova» в Лондоне и Нью-Йорке, и после нее – отвратительная критика. Так мне вообще, наверное, надо харакири сделать? Мои концерты тоже запрещали, ну и что? И не только концерты – сняли фильм про мой «Листок из альбома», а потом его тоже запретили. Ничего страшного. Одни запрещали, другие как-то проходили.
– Но тогда вы к этому, наверное, по-другому относились?
– Мы переживали, конечно, но вообще-то это все вопрос эстетики: истеблишмент был ретроградный, и вот они гнобили новую музыку. Впервые в истории, что ли? Шенберга в конце XIX века тоже не очень жаловали, но никто его мучеником Австро-Венгерской империи не называет. Ну это же глупость, правда?
– Насколько ваша идея конца времени композиторов подтверждается вашей собственной биографией? У вас есть свой фестиваль, соратники, заказы, вас постоянно исполняют – какой же это конец времени композиторов, в котором композитор так хорошо себя чувствует?[14]
– Не так уж и хорошо. Но тут дело вообще не во мне. Личные судьбы могут складываться по-разному, я же не говорю, что все композиторы завтра умрут от разрыва сердца. Речь о том, что сама фигура композитора утратила свое историческое значение. В XIX веке через фигуру композитора осуществлялась, на секундочку, национальная самоидентификация. Кто олицетворял германский дух? Вагнер. Итальянский? Верди. В России была «могучая кучка», в Польше – Шопен, в Венгрии – Лист, в Норвегии – Григ. А нация, у которой такого композиторского представления не было, считалась неполноценной – поэтому к англичанам и относились так снисходительно.
В XX веке все это пошло на убыль. Последний композитор, которого несли на руках, был Стравинский. Пярта и Сильвестрова уже на руках не понесут, это себе даже представить невозможно. Во второй половине XX века фигуру композитора заслонила фигура исполнителя. И сейчас, скажем, «Грэмми», все-таки самую авторитетную премию в области музыки, композитор получить не может – только если его сыграет какой-нибудь крутой исполнитель.
Великая эра композиторов была связана с печатным станком. Композитор был человеком пишущим: если он не запишет музыку нотами, исполнителю будет нечего играть, слушателю нечего слушать, критику нечего критиковать. Но звукозапись уравняла пишущих и не пишущих. Новоорлеанский джазмен, не знающий нот, может выступать, может записываться, он оказывается не менее важной фигурой. Так композиторов оттеснили те, кто встал ближе к микрофону.
Мы ведь живем в эпоху звукозаписи, а не нотописи. Раньше композитор был единственным игроком на поле, он мог сказать: «Музыка – это я». А в эпоху звукозаписи он эту монополию утерял, появилось много игроков: джазмены, рокеры, исполнители world music и так далее. Поэтому отдельные успешные композиторы еще, конечно, есть, но тот резонанс, та среда взаимопонимания, которую даже я застал в 1960–1970-е, – их уже нет и не будет никогда.
– Это как раз понятно – но вы говорите еще и про то, что закончилось время авторского высказывания как такового. Что автора больше нет. Но вот мы сидим в кафе, и под потолком журчит музыка, которую все-таки кто-то написал, пусть даже мы не знаем кто.
– Понимаете, дело в том, что мы живем в мире, который потерял веру в метанаррации, в рассказы о великих художниках. Никто больше не верит в шедевры. Время Микеланджело и Леонардо да Винчи прошло. И вот происходит где-нибудь в Азии цунами, человек снимает эту волну на мобильный телефон и тут же гибнет – а картинку успевает отослать. Какое произведение искусства может соперничать с таким снимком? Конечно, автор у этого снимка есть, но это не так важно.
Мы вступаем в эпоху нового Средневековья, когда понятие авторства все более и более размывается. В Средние века концепция авторства тоже была не слишком важна: все великое находится вовне, а мы только транслируем. Поэтому иконописцы не подписывали свои работы.
Сейчас – благодаря сети – время коллективного автора. Конечно, интернет состоит из авторских высказываний, но они не могут претендовать на моцартовский или бетховенский масштаб. Сейчас это просто не принято, люди стесняются. Ну и вообще – вот есть Дюшан, нарисовавший усы Моне Лизе. Это авторский жест, конечно, но совсем другого рода. И я даже говорю не об анонимности, ведь аноним – это автор, просто неизвестный. А нужно просто снять проблему авторства в принципе, как в фольклоре. Ведь у эпоса или мифа нет автора.
– Но ведь современный человек страшно тщеславен, он никогда не захочет отказываться от идеи авторства. Все хотят свои пятнадцать минут славы.
– Это даже не столько вопрос амбиций, сколько вопрос денег. Вы знаете, сколько в Москве зарегистрировано композиторов? Четыре с лишним тысячи. А на моем композиторском курсе в консерватории было сначала восемь, а в конце пять или шесть человек – и это считалось много. Причем это данные РАО, то есть это не мертвые души, а люди, которые получают деньги за исполнение того, что сочинили. В отличие от нас, профессиональных композиторов, которые как раз ничего не получают за то, что их произведения исполняют на какой-нибудь «Московской осени». Исполнители – да. А мы нет.
– Ваш фестиваль вам тоже ничего не приносит?
– Да нет, что вы, какое там. За счет чего живет композитор на Западе? Есть сеть фестивалей, которая заказывает произведения – и платит за них вполне прилично. Есть сеть издательств, которая курирует композиторов. И есть сеть фондов. В России нет вообще ничего. Фестивали есть, но они не платят. Большинство наших композиторов все нулевые существовали благодаря одному только фонду Форда, который оплачивал записи, выпуск компакт-дисков и так далее. За что я лично ему страшно благодарен. Вы не представляете, сколько они всего делали – поддерживали провинциальные библиотеки, музеи… Фонд год назад прекратил существование, а то бы, видимо, тоже считался «иностранным агентом». Вообще, композиторство в России – это полная катастрофа.
– А какие у вас отношения с композиторским цехом? Я так понимаю, новое поколение вас не слишком любит.
– У меня нормальные отношения с Невским, с Курляндским, пусть даже эстетически мы стоим на разных платформах. Мне нравится «Франциск» Невского, и Opus Posth, кстати, играл его музыку. Но это скорее исключение. Так-то нас с композиторами разделяет стена непонимания. Они услышали краем уха про конец времени композиторов и решили почему-то, что я их приговорил, – а книжку за десять лет так и не прочли. Никто! Было как-то специальное обсуждение в Союзе композиторов (на которое меня не позвали) – так даже участники не читали. Я все жду каких-то возражений, полемики – ну хорошо, я не прав, ну так докажите! А аргументы пока такие: я ретроград, бездарь, не вышел талантом и решил отыграться. Ну допустим, но с этим как-то не очень интересно спорить.
Да и хрен бы с ними, с композиторами! Забыли уже все о них! Я не рассчитываю на их реакцию, скорее наоборот – если им понравится то, что я сочиняю, значит, я что-то делаю не так. Внутренне я к ним не апеллирую. Это ведь крохотный островок, все эти фестивали современной музыки, есть он, нет его… Мне гораздо комфортней с Леней Федоровым и «АукцЫоном», с Сусловым из «Вежливого отказа», с Волковым, Тарасовым. С ними-то у нас полный контакт. А композиторы – это секта такая, и публика у них сектантская. Я страшно завидую федоровской публике: приходишь – замечательные лица. На академических концертах такого нет.
– Людям вашего поколения, той же Губайдулиной, кажется, что у вас слишком жестокая позиция: падающего – толкни. Мол, пространство высокой культуры и так усыхает на глазах, а вы его ногой спихиваете в пропасть.
– Но я с этим не согласен. Ну где они нашли-то сейчас эту высокую культуру? Раньше она была, да – Шуберт, Малер, Вагнер, Моцарт… Но кончилась. Нету ее, нету. Смешно на это претендовать после того, как Дюшан пририсовал усы Моне Лизе. Но вообще-то, мне казалось, что моя теория – очень оптимистическая, потому что я верю, что есть выход. Понимаете, музыка – это свободно льющийся поток. Как в индийской раге, в арабских макомах, в григорианике. А композиторы все хотят его превратить в хитроумную систему запруд, краников и резервуарчиков. Авторство – это огораживание: вот мой берег, здесь купаюсь только я. История композиторства – это история пленения музыки. Есть в этом что-то нехорошее. Но сейчас начинается новый период, музыка снова становится потоком, в который может войти каждый.
– Но ведь вы и сами работаете с высокой культурой.
– Но я-то переходная фигура, я же это прекрасно понимаю. Как утконос. Млекопитающее, которое несет яйца. Уродство, конечно. Я по образованию, по привычкам и навыкам – композитор. Но то, что я делаю, – это во многом уже не композиторство как таковое. Это хуже по мастерству почти всего, что сейчас пишется, но в нем есть что-то иное, новое. Упреки в том, что я провозглашаю конец времени композиторов, а сам продолжаю писать музыку, я принимаю. Но ничего, через пару поколений переходный период закончится.
– И появится новый тип композитора и новый тип музыки? А что это будет – ну хоть примерно?
– Очень грубый пример – диджей с чемоданом пластинок, из которых он делает какой-то свой продукт. Автор он? И да и нет. Вот такой диджей-композитор, но сохранивший все достижения прошлого. Амбициозная задача, но пока она почему-то мало кого интересует. А вместо этого запираться в композиторском цеху и писать свои утлые произведения… Это ведь не поможет. Нет ничего лучше «Зимнего пути» Шуберта или вагнеровской «Валькирии», мы уже так не сможем никогда. Это еще Шенберг понимал, весь модернизм начался с осознания того, что в мир прошлого нет возврата. Можно стереть дюшановские усы у Моны Лизы, но это будет просто глупым жестом, Леонардо так не вернуть. По-настоящему важным шагом будет не отрицание, не просто безоглядный протест, но и не реставрация прошлого, а синтез того и другого. Искусство, в котором есть и Мона Лиза, и усы Дюшана. И это не про эстетику, это про все сразу – это цивилизационный вызов, антропологический, социологический. Но, видимо, еще не родился человек, который бы ответил на этот вызов.
Вот в конце прошлого года все ждали конец света, смешная вроде бы вещь, – а конец света-то произошел, просто его не заметили. Мир, за который держится Губайдулина, – его больше нет. Инерция есть, а мира нет. Мы живем в мире, где уже открыли бозон Хиггса и доказали теорему Пуанкаре, – вот что важно. И нам сейчас нужно делать радикальные вещи. Сбросить с парохода современности Дюшана, Кейджа и Малевича, как сто лет назад сбрасывали Пушкина, Толстого и Достоевского. Освободиться от их диктата. Потому что весь contemporary art находится под их гнетом, превратился в какую-то остывшую жвачку. Надо через это перешагнуть. По большому счету наша задача сейчас – остановить прогресс. Ну, смешно говорить про людей, которые всерьез верят в прогресс, да? С ними же все понятно. Помните, это Малевич так подписал книжку Хармсу – «Идите и остановите прогресс». Вот это моя главная задача. Я это очень серьезно воспринимаю.
Александр Рабинович-Бараковский
Родился в 1945 году в Баку. Окончил Московскую консерваторию. Первым в Советском Союзе исполнил многие из важнейших сочинений XX века – Мессиана, Штокхаузена, Айвза, Булеза, Кейджа. Начал сочинять музыку в конце 1960-х, оказавшись одним из первых композиторов-минималистов в мире. В 1974-м эмигрировал в Европу. Его минималистические сочинения, основанные на повторяющихся паттернах романтической музыки XIX века, исполнялись в концертных залах Парижа, Зальцбурга, Токио, Цюриха, Мюнхена, Чикаго. С успехом выступал в качестве дирижера (записи на EMI, Warner, Deutsche Grammophone) и пианиста, в том числе в дуэте с легендарной пианисткой Мартой Аргерих.
Практически все свои сочинения композитор считает частью многолетнего проекта «Антология архаических ритуалов – в поисках центра». В России после эмиграции выступал всего несколько раз. Концерт в Московской консерватории в 2002 году кончился скандалом: исполнение «Красивой музыки № 3» пришлось прервать из-за шума в зале. В России интерес к музыке Рабиновича-Бараковского тесно связан с именем пианиста Алексея Любимова, не устающего исполнять и пропагандировать его сочинения. Живет в Швейцарии.
Беседа состоялась в Москве в 2014 году.
Copyright © by Donemus Publishing, The Netherlands
Фрагмент партитуры симфонии «Six etats intermédiaires» (1998). Симфония «Шесть промежуточных состояний» основана на тибетском буддийском тексте «Бардо Тхёдол» («Тибетская книга мертвых»). Композитор считает ее самым важным своим сочинением: «Я подумал, что если смыслом и главной целью философии для древних греков была подготовка к встрече со смертью, то почему бы и мне не последовать их замечательному примеру?» Задачей автора было «не столько музыкально проиллюстрировать содержимое „Бардо Тхёдол“, сколько найти аналогии и переклички в других традиционных культурах, а также в философии и психоанализе». Первая часть, «La vie» («Жизнь»), вдохновлена работами Карла Ясперса и посвящена реакции человека на пограничные ситуации.
– Это ведь то самое знаменитое кафе?[15]
– То самое?
– В книге Владимира Мартынова[16] это такая важная метафора конца времени композиторов: раньше здесь стоял стол с табличкой «Стол для композиторов», где любой композитор всегда мог выпить, даже если не было мест. Потом табличку поменяли на «Стол для композиторов и администрации», а потом и просто на «Стол для администрации». И вместе с этим обрушилась вся система, поддерживающая советского композитора, – со своим домом, поликлиникой, издательством, санаториями, переписчиками нот.
– Знаете, Алексей, меня ведь не приняли в Союз композиторов, поэтому для меня все это…
– А почему не приняли? Потому что вы писали несоветскую музыку?
– Да нет, навряд ли. Не помню, в каком году я попытался попасть в Союз – все-таки в то время это было жизненно необходимо. Но меня не приняли. Мурадели[17] меня вызвал и долго пудрил мозги. Не знаю, были ли вообще еще такие случаи.
– Но себе вы это как объясняли?
– Я все это забыл. Просто забыл. Мне ничего об этом не напоминает.
– Для вас это болезненные воспоминания?
– Нет. Совершенно нет. Ничего болезненного. Я ведь теперь совершенно по-другому отношусь к тому времени.
– А что поменялось?
– Все. Все поменялось. Я жил в мире своих узких представлений. А потом узнал, что есть такая вещь, как геополитика. Что у разных стран есть свои геополитические интересы. И это многое меняет. Все меняет. Ну, в то время об этом узнать было невозможно. По крайней мере, у меня такой возможности не было. Поэтому моя поездка на Запад была, в общем, самообразовательная. Расширить кругозор. Знаете, если бы можно было спокойно ездить, то совершенно необязательно было бы и эмигрировать. Совершенно ни к чему.
– Вы начали по-другому относиться к тому, как была устроена советская система? Или к тому, что она делала с вами?
– Нет, что значит – со мной? Я не хочу все это переносить на свою персону. Но, конечно, переоценка ценностей произошла. А ценности – они ведь точно были. У меня скорее была их недооценка. И недопонимание того, что происходит. К счастью, сейчас есть очень интересные историки, которые замечательно анализируют ситуацию, сложившуюся в XX веке. В интернете много чего можно найти. А ситуацию в искусстве прекрасно осмыслил Томас Манн в «Докторе Фаустусе».
– Вы ведь читали его еще в Союзе?
– Да. Но я ничего не понял. Чтобы понять это произведение, надо было пройти определенный путь. Очень трудно читать, когда своего опыта недостаточно.
– Фигура Адриана Леверкюна, композитора-разрушителя, вам кажется самым точным отражением того, что произошло с музыкой в XX веке?
– Конечно. И вообще в искусстве. Манн же дал формулировку – «эстетизм варварства». Так оно и есть. Более точную характеристику придумать невозможно. И это не морализаторство. Это просто холодная констатация.
– А кто из великих композиторов XX века вам кажется наиболее похожим на героя Манна?
– На Леверкюна? Из великих? То есть из тех, которые считаются великими? Понимаете, я… Мне не хотелось бы раздавать отметки композиторам. Я же не экзаменатор. Я могу выразить только свою точку зрения. Она может вам показаться ошибочной – ну, мне это безразлично. Это даже интересно, когда сталкиваются разные точки зрения. Вот у меня такая. Но переходить на личности не хотелось бы. Я лучше буду говорить о том, что я люблю. А о том, что мне наименее близко, могу и промолчать.
– А своей музыкой вы этому «эстетизму варварства» пытались что-то противопоставить?
– У меня музыка не реакционная – в смысле, не реакция на что-то. Я не хочу своей музыкой реагировать на то или это. Я делаю только то, что мне необходимо. Ну и просто пытаюсь размышлять и делать выводы. Это выстраивается как цепочка – одни концепции дополняют другие концепции, и из этих кирпичиков что-то складывается. Что – не знаю, мне не дано знать.
– Есть ощущение, что вас помнят прежде всего как человека, который первым сыграл в России Мессиана, Штокхаузена и многих других. Почему этим человеком оказались именно вы?
– Есть такое понятие на Западе – «запрещенная археология». Или «запрещенная астрономия». Например, новая астрономическая теория об электрической вселенной. В мейнстриме о ней не говорят, но в интернете можно найти очень много всего. Она появилась уже после теории суперструн, которая, кстати, очень интересна для музыканта – струны, вибрирующие струны… Это очень музыкальная теория, и умозрительно невероятно красивая. Но доказать ее совершенно невозможно. Ученые это сами признают. Простите, я забыл, о чем вы меня спросили.
– Про то, как вы первым стали играть разную авангардную музыку.
– А-а… Ну, мне просто казалось несправедливым, что у нас какая-то музыка запрещена. И хотелось ее показать общественности. Времена были довольно мягкие. Но все-таки какие-то вещи порицались. Негласно, конечно. А мне интересно было делать то, что порицалось. Понимаете, себя ведь можно убедить в чем угодно. Когда я играл пьесы Штокхаузена, я так увлекался… Мне кажется, я вносил в эту музыку то, чего в ней, в общем-то, и не было.
– Эмоции?
– Да, что-то такое. Мне так кажется сейчас. Но вместе с тем «20 взглядов на младенца Иисуса» [Оливье Мессиана] – это грандиозное произведение. И тем, что я его сыграл в свое время, я, пожалуй, горжусь. И его «Три маленькие литургии» произвели на меня большое впечатления – я их слушал в консерваторской фонотеке. Я, насколько мог, его изучал, читал его этот небольшой трактатик.
– «Техника моего музыкального языка»?
– Да-да. Где-то я эту книгу нашел, то ли в Ленинке, то ли в консерватории. И ноты тоже нашел в библиотеке консерватории – там был единственный экземпляр, я их себе переписал и сыграл потом. Знаете, почему этот концерт вообще состоялся? Потому что на афише написали просто «Оливье Мессиан. 20 взглядов». Но не написали, на кого! (Смеется.) Это было году в 1971-м, наверное. В институте Гнесиных. Пришло очень много людей, в том числе и не музыканты – я точно знаю, например, что был Аверинцев. Этот концерт стал каким-то подарком. Я был удивлен, что он вообще случился. Это, в общем, у меня самое приятное воспоминание о тех временах.
– Вы говорите, у вас произошла переоценка ценностей. В том числе и по отношению к музыке XX века?
– Ну да, потому что я очень увлекался. Молодой был. Меня почему-то увлекли так называемые запрещенные вещи. Но иногда мне кажется, что я заставил себя увлечься. Из каких-то морально-этических соображений. Я сыграл почти все клавирштюки Штокхаузена, причем играл на память. И Мессиана тоже. «Конкорд-сонату» Айвза – это, кстати, было очень приятно. Ну, и других композиторов. Даже с Алексеем Любимовым помолчали 4 минуты 33 секунды в зале Дома композиторов. Организаторам тогда сильно влетело за это.
– Это было первое исполнение «4'33"» Джона Кейджа в Союзе?
– Ну, если можно это назвать исполнением… Это скорее была такая оппозиционная акция.
– Марк Пекарский рассказывал, что зрители на нем страшно шумели, кричали «Ваша музыка – это онанизм»…
– Что-то такое там действительно было. Криков, впрочем, я не помню. Был какой-то нарастающий шорох. Шепот.
– Вы же, наверное, этого и ожидали?
– Да нет. Это даже была не моя идея. Это была идея Алексея Любимова. Еще Евгений Королев[18] в этом участвовал. Но это все дела старинных дней. Как будто в другой жизни происходило. Я совершенно от этого отстранен. Знаете, потом, когда я эмигрировал, мне предлагали играть всю эту музыку. «Структуры» Булеза[19], например, которые я играл еще в Союзе. Я хотел все их сыграть, но мой напарник не выучил. Поэтому сыграли только первую пьесу. Но играть их на Западе я категорически отказался.
– Потому что вам это перестало быть интересным?
– Нет, просто я не играю музыку диктаторов. Таких, доморощенных диктаторов.
– Что все-таки стало главной причиной вашей эмиграции?
– Так я же сказал – хотел расширить кругозор. Мне воздуха не хватало. Уезжать для этого, вообще говоря, не обязательно. Если бы границы были открыты… Все-таки все мои корни здесь. И несмотря на то что я ношу такую еврейскую фамилию, на самом деле я абсолютно русский. У меня мама русская, и вся моя семья – Бараковские. Я оставил отцовскую фамилию Рабинович исключительно из тех же морально-этических соображений. Потому что я все время слышал, что евреев притесняют.
Интересно, что сейчас мне стало очень тягостно ее носить. Но это трудно изменить, потому что на всех пластинках она напечатана. Но я постепенно меняю, видите? Был Рабиновичем, потом стал Рабиновичем-Бараковским, и постепенно смогу стать просто Бараковским. Я знаю только один еще такой случай. С пианистом Бишоп-Ковачевичем. Он был Бишоп. Потом стал Бишоп-Ковачевич. А сейчас это пианист, которого многие знают под фамилий Ковачевич. И некоторые критики искренне интересуются – а куда же исчез замечательный пианист Бишоп?
– После эмиграции у вас сильно изменилась картина мира?
– Дело в том, что на Западе, если вы пройдете по улице, мимо вас пройдут десять авангардистов. Это меня изумило. Оказывается, весь мир состоит из одних авангардистов. Я-то раньше думал, что это вроде как одиночки.
И дальше, я думаю, не надо продолжать. Все становится ясно. Если вы предлагаете что-то свое – свое видение мира, – то система вас отвергает. Потому что армия авангардистов – она, конечно, не подпускает к пирогу инакомыслящих. Нигде. Никогда.
– А вы стали инакомыслящим просто потому, что писали тональную музыку?
– Нет, инакомыслящий – это тот, кто мыслит на свой лад. Не как все. Ведь цель жизни – это нахождение самого себя. И нахождение в жизни смысла, и нахождение смысла в своей жизни. Это то, что у Юнга называется процессом индивидуализации. Понимаете? Надо быть самим собой. Все, что разные замечательные люди писали на протяжении столетий, – это замечательно, но нам это лишь подспорье в нахождении собственного пути. Вот я много лет путешествую по традициям, которые можно назвать архаическими. Все мои сочинения я объединяю в один большой цикл «Антология архаических ритуалов – в поисках центра». Главная моя задача – это именно поиск центра. Это как восточная мандала. Буддисты рисуют мандалу и таким образом пытаются приблизиться к самому себе.
– В общем, получается, что в Союзе вы себя гонимым композитором не чувствовали, а на Западе…
– Вы знаете, ореол гонимого композитора меня не привлекает.
– То есть вы ничего такого не чувствовали?
– Я все чувствую, но мне безразлично. Гонимый, не гонимый… Абсолютно безразлично.
– Хорошо, я по-другому спрошу: вы довольны тем, как сложилась ваша композиторская судьба?
– (После долгой паузы.) Знаете, я вам сейчас покажу один документ. Это вам, может быть, будет интересно. (Залезает в сумку, но сперва достает бокс-сет с записями своих произведений.) Между прочим, вот эти записи – это ведь противоестественно, что они у меня в принципе есть. По большому счету, их не должно быть. Это какой-то редчайший случай. Просто совпадение.
– Они же все записаны в довольно неожиданных местах – в Белграде, в Токио…
– И это всегда было стечением обстоятельств. Конечно, у меня бывали концерты, в программу которых я вставлял свои произведения – никто не мог мне этого запретить. На мое счастье, эти концерты записывались, и мне даже давали потом эти записи, чтобы я мог их издать. Мне везло и с оркестрами – в тех случаях, когда я дирижировал сам. Все это сыграно после двух-трех репетиций, и играют они совершенно блестяще. И я видел, что им приятно это делать, они с энтузиазмом играли. Композитору ведь важно слышать свои вещи. А я использую усиленные, подзвученные инструменты, так что мне необходимо проверять, как это звучит; сработало ли то, что я придумал. Этот слуховой опыт – страшно необходимая вещь. В общем, в отчаяние я не впал.
Так вот, сейчас я вам покажу одну замечательную вещь. Я никогда никому этого не показывал. Но всегда ношу с собой. (Достает сложенный вчетверо лист A4.) Вот. Это 1983 год. Я должен был играть концерт на французском радио. Предложили виолончелисту Марку Дробинскому, и он меня попросил с ним сыграть. Рахманинов, еще что-то классическое, и плюс в программу мы включили одно мое сочинение. Так вот, они собрали комиссию, худсовет, чтобы решить, может ли мое сочинение звучать по радио. В письме об этом как раз говорится. И было еще одно письмо – к сожалению, я его потерял, – где мне отказывают.
Конечно, после этого я должен был отказаться, отменить свое участие. Но иногда я впадаю в какое-то благодушие. Так вот, это называется цензура. Замечательная цензура на замечательно свободном Западе.
– Насколько это вообще было дико – для того времени и для французского радио?
– Мне не хочется, понимаете? Мне не хочется заниматься изучением мыслительных процессов этих, как вы верно сказали, диких людей… Варваров. Но действия этих варваров вы можете теперь наблюдать повсеместно. Югославия, нью-йоркские башни, Ирак… Особенно меня убили Ливия и Сирия. Я даже посвятил свою новую вещь президенту Асаду – за сопротивление современным варварам. Ну что делать, времена меняются. То одна империя считается империей зла, то другая. Я не политик. Но это неприятно. Поэтому я предпочитаю отстраняться от реальности. Жить в каком-то другом мире, параллельном. Где все очень хорошо, где можно изумляться, восхищаться. А изумление, как говорит Платон, – это то, что дает толчок занятиям философией.
– Так или иначе, в западную систему вы не вполне вписались.
– Я совершенно не вписан. Это какое-то заблуждение. Я никуда не вписался. Абсолютно. То, что у меня есть диски, изданы какие-то мои вещи, – это мне просто повезло. Их не должно быть… Зарабатывал я тем, что выступал с концертами. В основном с Мартой Аргерих, с которой мы прожили вместе в течение десяти лет. Интересно, что это она мне предложила играть с ней. Она как-то попала на два моих концерта с классической программой – Шуберт, Бах…
Позже я начал дирижировать. Конечно, поначалу у меня не было никакой дирижерской техники. Сейчас техники прибавилось, но дирижировать я перестал. Просто для этого надо быть очень активным. И на сто процентов сосредоточился на сочинительстве. Необходимость выступать у меня отпала.
– А почему?
– Ну, понимаете, приходит такой момент, когда возрастные данные вам перестают позволять.
– По вашему концерту этого совсем не скажешь.
– Спасибо за комплимент, но у меня в паспорте все-таки написан год рождения. В общем, сейчас особенных экзистенциальных проблем у меня нет, так что я могу заниматься только тем, что мне интересно. Этой возможности у меня никогда не было – я все время должен был отвлекаться на какую-то ерунду.
– А раньше вы играли так же, как сейчас?
– Мне трудно судить об этом.
– Просто у вас сложилась очень необычная – или лучше сказать, непривычная – манера игры.
– А что вы подразумеваете под «непривычной»? Мне правда интересно.
– Ну вот вы, например, Баха играете с большим количеством педали. Вообще, на концерте было такое ощущение, что все звучит как будто из громадного колокола. Нет, мне страшно понравилось. В вашей игре была какая-то удивительная, странная сила.
– А, много педали? В Рахманиновском зале значительная реверберация… Кроме того, необходимо учитывать, что клавесин и особенно орган являются резонансными инструментами. Да и концерты происходили в церквях с продолжительным эхо. То же позже касалось и аристократических резиденций. Ну и, может быть, я и правда немножко переборщил с педалью. Дело в том, что у меня больные руки. Мне приходится перестраховываться. Но вы все-таки учитывайте, что это был Бах в транскрипции Бузони. Это Бах, увиденный сквозь романтическую призму.[20]
Я, кстати, вспомнил сейчас, как когда-то, очень давно, играл Баха в музее Скрябина. И после концерта ко мне подошла жена Софроницкого и сказала[21] – ну что же вы делаете, Алик, как же можно Баха играть с рубато. А мне-то всегда казалось, что никаких правил или запретов тут быть не может. И что как играть Баха, сам Бах знал немного лучше, чем даже жена Софроницкого. Я пытаюсь представить, как надо играть, исходя из самой музыки.
Скажем, известно, что Моцарт играл невероятно интенсивно – остались свидетельства, есть письма Моцарта. И вот когда я слушаю 23-й концерт Моцарта – я не устаю удивляться, как такую яркую музыку делают такой вялой. Горовиц играл его гениально, но обычно пианисты делают его ужасно блеклым. Ну как же они сами этого не чувствуют? Потом, уже в 1980-е, музыканты-аутентисты попытались представить, что же с самими композиторами происходило, когда они писали свои вещи? Просто заново прикоснуться к их вдохновению.
Скажем, как возникла третья часть Аппасионаты? Бетховен просто гулял с другом, что-то напевал – и когда к нему пришла эта музыка, он немедленно вернулся домой и записал. Представьте себе состояние Бетховена – и вам сразу станет понятно, что его нельзя играть в темпе moderato. И вообще так, как его играют послевоенные пианисты. Хотя они называют себя верными наследниками традиции. То есть они играют то, что написано в нотах. Но, к сожалению или к счастью, музыка – она за нотами, понимаете?
Поэтому я так люблю пианистов, которые играли до Второй мировой. Мой любимый исполнитель – это Самуил Фейнберг, он всегда играл с каким-то невероятным вдохновением. Любую музыку – Баха, Шопена, Скрябина. Музыка – это все-таки сокровище.
– А к Глену Гульду вы как относитесь?
– Что-то я очень люблю. Особенно его ранние записи. А что-то мне кажется чрезвычайно эксцентричным. А я люблю естественность. Новые мысли – это замечательно. Но я хотел бы чувствовать, что они органичны. А не нарочно придуманы.
Мы многое про старую музыку знаем. Например, знаем, что Бах играл очень быстро. Остались свидетельства. Или, скажем, Моцарт пишет в письме про последнюю часть «Хаффнер-симфонии» – играть так быстро, как только возможно. Мне кажется, можно ему доверять.
Про игру и ее интерпретацию – это интереснейшая тема. У Берлиоза есть замечательная запись – небольшая, несколько строк – об игре Шопена. Где он пишет, что у Шопена не было чувства метра и чувства ритма. Это кажется нелепым – но это забавно. Пламенное исполнение Листа он очень любил. А в игре Шопена для него оказалось слишком много свободы, он не смог этого принять. Притом что Шопен вообще-то играл свою собственную музыку – он имел право делать все что хотел.
То же самое происходило на протяжении нескольких столетий с симфониями Бетховена. Дирижеры почему-то не доверяли авторским обозначениям метронома. Метроном – это относительное понятие, но все же он указывает на характер сочинения. Все изменилось совсем недавно, и теперь, если вы послушаете Третью симфонию в исполнении аутентистов, Гардинера или Норрингтона, или молодых исполнителей вроде Пааво Ярви, то окажется, что она звучит в два или три раза быстрее, чем ее играли раньше!
Единственная исполнительница, которая изучила и применила опыт музыкантов-аутентистов, – это молодая южнокорейская пианистка Эйч Джей Лим. Два года назад она записала все сонаты Бетховена на EMI Classics. И это выдающееся исполнение, первое, которое, как мне кажется, соответствует этой музыке. После всех этих… Ох, у меня злой язык, я от него порой мучаюсь, но тут так хочется… В общем, после всех стерилизованных послевоенных исполнений бетховенских сонат это как поток свежего воздуха. Ну, и не будем забывать грандиозное исполнение сонат Бетховена Артуром Шнабелем. Вот для меня две лучшие интерпретации бетховенской музыки.
– Давайте поговорим про вашу музыку. Как и почему вы стали писать репетитивные вещи?
– Начал еще в Союзе. Сначала в них были коллажные элементы, а уж потом это стало просто тональной музыкой. Свою первую «Красивую музыку» я написал в 1973 году. Меня вообще концепция красоты давно интересует, я хотел в ней разобраться. Что такое красота? Во времена Возрождения она была связана с гармоничностью пропорций. В барокко – уже с некоторым нарушением симметрии. У Винкельмана, скажем, красота – это понятие мистическое. У Платона – красота философского познания мира. В общем, мне было из чего выбрать.
К репетитивной музыке я пришел из-за своего интереса к архаике. В архаике громадную роль играет понятие ритуала. А что такое ритуал? Это фиксация сознания на каком-то объекте. Репетитивность, повторяемость просто помогает сосредоточиться. Ну а если взять психологию, то известно, что у каждого из нас есть свои неврозы. Обсессиональные, повторяющиеся мысли, то, что Прокофьев называл наваждениями. Так что мой метод сочинения – это отчасти и психотерапевтический процесс. Может быть, он мне позволяет избавляться от моих собственных неврозов. Легко отделываться, так сказать.
– Интересно, что у вас каждое сочинение сопровождается сопроводительным текстом. У вас каждая вещь что-то символизирует, все к чему-то отсылает – к индуизму, к тантризму, к Тибетской книге мертвых, к представлению о душах у африканских племен… Кажется, что для вас сочинительство – это очень рассудочный процесс.
– Нет-нет, ни в коем случае. Эти тексты – да меня просят их писать, сам бы я никогда… Я всегда сперва сочиняю, а уж потом пытаюсь проанализировать, что же произошло. Но символизм для меня и правда важен. Рене Генон называл ритуал символом, распределенным во времени. И символизм для него был высшим выражением метафизики. У алхимиков есть целая система символов, мне она очень нравится. Мне, например, очень подходит символ орла – который, как считается, помогает освободиться от эмоционального хаоса. Я ведь как раз этим и занимаюсь. Я это называю «третьей практикой» – которая, в сущности, анализирует эмоциональные стереотипы периода «второй практики» начиная с XVII века. Музыка «второй практики» обращается непосредственно к эмоциям. Возьмите «Сражение Танкреда и Клоринды» Монтеверди[22] – это же настоящий хаос эмоций, там уже все есть. А ведь это 1628 год.
Нет, пишу я безо всяких планов. Конечно, уже скопился какой-то багаж. Определенное структурирование мыслей. Но это пришло не сразу. Свою первую «Красивую музыку» я писал исключительно интуитивно.
– Я сейчас попытался представить, что было бы, если бы вашу музыку услышали композиторы XIX века. Мало того что цитаты из их музыки крутятся в очень странном репетитивном барабане, так они еще и отсылают к каким-то варварским делам, о которых приличный джентльмен мог в лучшем случае послушать лекцию какого-нибудь путешественника.
– Ну, не забывайте про теософов, про Блаватскую – это все XIX век. Потом, Шопенгауэр был под сильным влиянием буддизма, который как раз открыли в начале XIX века. А фальсификации истории, связанной с «античностью», начались уже в XV веке. Достаточно вспомнить итальянца Поджо Браччолини, аутодафе, уничтожение русских рукописей в XVII–XVIII веках. Тогда же появилось невероятное количество копий разных старинных текстов… Тоже, кстати, интересная тема. При таком количестве копий – почему совсем не сохранилось оригиналов? Просто совсем. Это как-то подозрительно. У крупнейшего исследователя Анатолия Фоменко есть оригинальнейшие воззрения на исторические события. Я у него читал первые четыре тома, изданные на английском. Это, конечно, большое событие в моей жизни.
– На английском?!
– Ну а откуда мне было взять русские книжки? У меня на компьютере даже кириллицы нет. Нет, у него замечательные идеи – я не говорю, что он во всем прав, но как повод заново посмотреть на историю – почему нет?
– Ох, ну оставим это. А как ваша музыка воспринималась слушателями в Союзе?
– А она здесь никогда не исполнялась. А вторую «Красивую музыку» я написал в Вене, в 1974 году. За несколько дней. Она исполнялась лишь однажды, на одном фестивале в Германии. И почему-то была воспринята довольно дружелюбно. Из западного союза композиторов меня не исключили. На улице никто не нападал. Я говорю «почему-то», потому что потом такого уже не было. Скажем, я участвовал в двух венецианских биеннале. На одной, в частности, был концерт исключительно из моих произведений. И после него композиторы со мной просто перестали здороваться.
То же самое было в 1977 году на фестивале в австрийском Граце, для которого я написал «Красивую музыку № 3». Тогда у меня еще не было совсем отвратительной репутации. Венгерский оркестр ее замечательно исполнил, мне даже не пришлось никому ничего говорить. Но после этого со мной никто не здоровался. В одной газете написали – как может фестиваль заказывать что-то композитору, сочинения которого можно исполнить в программе нормального академического концерта. А в другой – что такую музыку Прокофьев и Хачатурян могли написать двадцать лет тому назад. Это, видимо, было самым страшным оскорблением, которое они могли придумать. Где они, интересно, нашли в моей музыке Прокофьева – и уж тем более Хачатуряна?.. Это все к вопросу о власти авангардистов. Такое вот было время. Интеллектуального терроризма.
– Странно. Тогда ведь минимализм уже вполне был заметен, и даже начал завоевывать какое-то признание…
– Ничего он не начал завоевывать. Полное презрение, отовсюду. Кое-что поменялось, когда пластинки минималистов стали выпускать крупные фирмы – а это все-таки было сильно позже. Но фамилию Гласса до сих пор в приличном академическом обществе как-то не упомянешь. Райх, конечно, фигура. И то, мне кажется, потому, что он стал членом всяческих академий и прочих институций.
– В этой связи не могу не вспомнить историю с вашим концертом в 2002 году в Московской консерватории – когда ваше выступление зашикали и вам пришлось его прервать.
– Мне до сих пор кажется, что это была какая-то провокация. Нет, я был на сцене, так что мне трудно восстановить, что было в зале. Но с публикой, мне кажется, все было хорошо. Я остановил выступление, потому что был шум с очень конкретной стороны – из амфитеатра. Со стороны какой-то конкретной группы лиц. Я попросил, чтобы они не шумели, – но они продолжали. Но это было не в зале. Не знаю… Возможно, это было воспринято как святотатство – исполнение именно моей музыки. В консерватории, под портретом Рихтера, да еще и в день его рождения… Потому что так-то мы играли Листа, Шумана, я дирижировал «Дон Жуаном» Рихарда Штрауса. Мне было ужасно жалко – оркестр приложил много сил. У нас было всего две репетиции, но они замечательно играли! Мне стало обидно за оркестр, честно говоря. Люди ведь начали шуметь на пианиссимо. Так красиво звучало, и в этот момент шум… Это меня как-то ужасно возбудило… в негативном смысле.
– Наверное, это самое ужасное, что может вообще случиться в жизни композитора?
– О нет, у меня столько в жизни было всякого… Вот, знаете, году в 1975-м я встречался с куратором издания нот Скрябина. Он мне сказал: мы совершили огромную ошибку! Мы взялись издавать этого вашего Скрябина – и он не пошел! Не продается. Вот это было довольно страшно услышать. Гораздо страшнее Большого зала Консерватории. Что русский человек, через шестьдесят лет после смерти Скрябина, говорит – мы совершили ошибку, взяв «этого вашего» Скрябина. А потом внезапно к Скрябину случился всеобщий интерес, я снова встретил этого человека, спросил, как дела, – и он расплылся в улыбке и сказал мне одно только слово: «Пошел!» Весь западный менталитет в этой истории. Пошел – не пошел. К сожалению, в России сейчас то же самое. Я помню, как лет десять назад беседовал с начальницей филармонии и поразился, как ее интересует, будет ли аншлаг, как продаются билеты… Удивительно, как быстро с людьми случилась эта метаморфоза.
– За столько лет жизни на Западе вы к этому так и не смогли привыкнуть?
– У меня ушла куча времени, чтобы не то что привыкнуть, а просто понять менталитет, основанный на «пошел» и «не пошел». И конечно, если вы не понимаете, то вы сами непонятны людям и они вам непонятны. Нет, не смог привыкнуть. Вот я только сейчас окончательно это понял. Я не смог.
P.S.
Уважаемый Алексей! Хотел бы предложить очень важный для меня текст для напечатания вместе с интервью. Мне бы очень хотелось, чтобы этот маленький текст был напечатан в Москве. Я уверен, что Вы согласитесь со мной в том, что текст заслуживает пристального внимания. Мне понадобилось сорок лет размышлений для того, чтобы однажды написать его в один присест.
Третья Практика
Примерно десять лет назад я выдвинул идею новой музыкальной парадигмы, названной мною Третья Практика. Тесно связанная с Рационалистическим Мистицизмом, она возродила бы духовную музыкальную ориентацию с ее когнитивной, холистической и терапевтической направленностью.
Эта вертикальная ориентация музыкального дискурса находится в радикальном противоречии с Дионисийским культом неукротимой неумеренности, с выражением конфликтующих душевных состояний и с неуравновешенной эмоциональной «возбужденностью» музыкального высказывания, свойственной парадигме Второй Практики, сформулированной Монтеверди в начале XVII века. Таким образом, доминирование эстетики Цивилизации Оперы или, иными словами, Романтического Континуума продолжалось в течение четырех столетий, с XVII до XX века включительно.
В отличие от этого мироощущения, центральная идея Третьей Практики проявляется в стремлении к гармонизации психологического пространства, к созданию метафизического экопространства в рамках ритуала и к обращению к Аполлонийскому равновесию и соразмерности. Цель подобной гармонизации противоположных психических явлений – их сбалансирование, кооперация и взаимодополняемость. Кроме того, стремление к психическому равновесию непосредственно сопровождается взаимодействием двух полушарий мозга и согласованностью их функций: рациональной и психодуховной. В этом контексте, человеческое сердце возвращает себе первоначальный статус обители мышления и преобразовывается в «Глаз Сердца» и сердце, которое думает – думающее сердце.
Как отмечал Тесла, для проникновения в секреты Вселенной необходимо мыслить «в категориях энергии, частоты и вибрации». Эта рекомендация может служить своеобразным компасом для прочувствованного постижения потенциальной магической красоты внутреннего мира человека как отражения трансцендентной реальности.
Георг Пелецис
Родился в Риге в 1947 году. Учился в Московской консерватории (класс композиции Арама Хачатуряна), по окончании увлекся историей и теорией музыки. В 1974-м, после четырех лет преподавания на кафедре теории музыки в Латвийской консерватории, поступил в аспирантуру Московской консерватории и продолжил изучать старинную музыку, сфокусировавшись на XV–XVI веках. После аспирантуры начинает активно сочинять. В дальнейшем продолжит сочетать композиторскую практику и музыковедение. Защитил кандидатскую диссертацию по Окегему и нидерландской полифонической школе и докторскую – по Палестрине. В 1990 году избран профессором Латвийской музыкальной академии. Первый президент рижского Центра старинной музыки. Живет в Риге. Автор преимущественно камерной музыки (в том числе более семидесяти каприсов для альта и скрипки) и хоровых сочинений (оратории «Christ is Risen!» [1996], «Christ is Born!» [2000], «Смертию смерть поправ» [2004]; «Missa Brevis» для женского хора и фортепиано [2003]; Латвийский реквием [2006]). Его сочинения исполняли Гидон Кремер и Kremerata Baltica, Татьяна Гринденко и Opus Posth, Алексей Любимов, Антон Батагов, хор Latvija.
Беседа состоялась в Москве в 2014 году.
Фрагмент партитуры Второго концерта для трубы и симфонического оркестра (2018). Георг Пелецис: «Летом 2018 года я затеял давно назревшее мероприятие – надо было компьютеризировать одну рукописную партитуру 1980-х годов, мой концерт для трубы и симфонического оркестра. Он исполнялся раза три, в том числе и на одном из фестивалей „Альтернатива“ в Москве в 1990-е годы, в зале им. Чайковского. У нас в Риге сейчас есть несколько первоклассных трубачей, и я задумал предложить одному из них творческое сотрудничество. Только для этого надо было привести партитуру в более современный, то есть компьютерный вид. Но делать заново партитуру без переделок было неинтересно. Переделки, однако, у меня зашли так далеко, что я, наконец, понял – пора вообще написать какой-то новый концерт для трубы. И, закончив изложение старой партитуры в компьютере, я тут же, как бы продолжая эту работу, быстро сделал новый концерт. Получился опять четырехчастный цикл, как и первый концерт. Видимо, таким ярким, как его предшественник, он не стал. Но я выпустил творческий пар и был доволен. Было бы интересно, мне кажется, исполнить их в один вечер, но это дело будущего.
– Вы занимаетесь старинной музыкой – преподаете студентам искусство контрапункта и фуги. То есть вы – хранитель традиций. При этом вы – современный композитор, то есть по определению должны сочинять то, чего раньше еще никогда не было. Как одно уживается с другим?
– Это и правда проблема. Сложно сидеть на двух стульях: обычно ты все-таки либо музыковед, либо композитор. Вот, скажем, Сергей Танеев – он и как композитор способен был на большее, и как теоретик в своих идеях не до конца дошел. Когда я увлекся музыковедением, я забросил сочинительство, а сейчас, наоборот, музыковедение задвинул на второй план. И конечно, в науке отстал. Это как в спорте: нужно постоянно тренироваться, иначе вылетишь из сборной.
У меня все это случайно произошло: я закончил Московскую консерваторию, уехал на родину, нужно было искать работу, и меня спросили: «Можешь в академии полифонию преподавать?» Я начал, и тут выяснилось, что там в теории просто конь не валялся. Колоссальный мир! Есть какая-то общая наука о полифонии, а что конкретно делали Окегем, Дюфаи, все эти великие мастера – совсем плохо изучено. Я страшно этим увлекся, забросил сочинительство. Мне очень повезло, потому что в 1960-е старинной музыкой никто заниматься не давал – это же все религиозное, коммунизм строить не помогает. Да много что было под запретом – Стравинский, Рахманинов… А уже в 1970-е лед пробили, туда я и ринулся. Я увлекался нидерландской школой, затем еще и Палестриной, а в библиотеке оказалось прекрасное собрание его нот, которого нигде больше в СССР не было. Бездна материала для анализа. И, честно говоря, я думал, что композиторством больше заниматься не буду. Ездил на конференции, писал работы. Я предметно изучал, как устроена старинная музыка – с точки зрения структуры, полифонии. Оказалось, что сильную советскую теоретическую школу анализа музыки вполне можно к этому применить, нам есть что сказать западным коллегам.
– Это же потребовало, наверное, много времени – ваши герои страшно плодовиты, у Палестрины одних месс сто с лишним.
– Сто пять. Но это-то как раз не проблема. До Бетховена бытовало такое понятие – «типовые формы». Сто четыре симфонии Гайдна, сорок симфоний Моцарта – это все типовые концепции. Тиражные. Все понимали, что сейчас будет менуэт, потом будет медленная часть, в финале будет то-то и то-то. 38-я симфония во многом повторяла 37-ю, и так далее. В каждой части слушатели ждали – и дожидались – знакомых вещей. Это Бетховен сделал так, что у него каждая симфония – новая, небывалая концепция. Раньше такого не было. И мессы у Палестрины – они тоже типовые.
В карандашном наброске – материал для медленной (третьей) части нового концерта. Музыкальный материал типичен для моего стиля – диатоника, безусловные связи с традициями классической музыки».
– Как вы студентам объясняете, зачем им учить контрапункт и строение фуги? Для них это азбука или скорее тайное знание?
– Я им так говорю: это музей, а я – музейный работник. Знаю все коллекции, что в них самое интересное. Давайте покажу, вам пригодится. Я на своем спецкурсе стараюсь сделать так, чтобы они сразу пытались в своем стиле применить знания старых мастеров.
– А в своих сочинениях вы эти знания применить пытаетесь?
– Сознательно – нет. Несознательно, думаю, не мог не использовать. Ну то есть я, когда учился в консерватории, двадцать с лишним фуг написал, это едва ли прошло даром. И вообще все мое преподавание… Но все это косвенно, не как, скажем, у Мартынова, когда он в лоб, радикально берет какую-то старинную концепцию. Я честно говоря, даже завидую этому. Я тоже бы хотел так. Но надо делать то, что тебе свойственно. Если хочешь быть успешным в своем деле, очень опасно игнорировать свою органику. Конечно, иногда хочется копнуть куда-нибудь в сторону…
Вот я сейчас сделал не самую обычную для себя вещь: переложил на музыку все псалмы Давида. Для смешанного хора, а капелла, причем на латышском языке. Десять лет писал. Не знаю, есть ли вообще в истории музыки такой прецедент. На тексты псалмов писала масса народа, но вот чтобы все разом… Понятно, что никто мне такого заказать не мог, от меня никто этого не ждет, так что я потихоньку десять лет подряд их делал – взял первый, второй… Думаю, Бог даст, напишу все. Ну вот Бог дал – я это сделал, наше местное издательство напечатало ноты, кое-что уже даже исполнили – псалмов десять. Вообще, в православной традиции псалмы объединяются в так называемые кафизмы, но, конечно, это слово мало кто знает, так что я разбил псалмы на псалмофонии – есть симфонии, а у меня будут псалмофонии. Их у меня теперь двадцать штук, в каждой по несколько псалмов.
Я не жду, что все их исполнят при жизни. В одном концерте физически невозможно спеть больше двух псалмофоний. То есть получается, чтобы исполнить весь цикл, нужно десять концертов подряд – это какой-то суперфестиваль получается. Скорее всего, это случится посмертно, конечно. По крайней мере, я свою часть сделал, ноты есть, а как дальше судьба распорядится – не от меня зависит.
– Вы говорите, от вас этого никто не ждал. А чего от вас обычно ждут – в смысле, что обычно заказывают?
– С заказами особый разговор. Их, в общем, нет. При этом я все-таки на госслужбе, а вот жить так, как Паша Карманов, только творчеством, очень трудно. Когда есть заказы – он счастлив, когда нет – паникует. Ну а как? Семью-то кормить надо. Современному композитору, кстати, очень помогает ютьюб. Хорошая вещь. Я-то сам ничего не выкладываю, у меня нет ни фейсбука, ничего, только мейл… Конечно, я не такой радикальный, как Мартынов – у него и компьютера даже нет. А мою музыку выкладывают в ютьюбе, и потом разные люди пишут – ничего о вас не знали, наткнулись случайно, хотим заказать. Скажем, какой-то хореограф из Германии нашла мое «Посвящение Перселлу» и ставит теперь на него балет, скоро будет премьера. Или в Кёльне есть ансамбль саксофонистов, который попросил написать что-нибудь связанное с Бетховеном – у них концерт будет в Бонне, в Бетховеновском зале. Ну, я им написал «Солнечную сонату». Хотелось бы, конечно, больше заказов – но спасибо и на том. В целом из ютьюба приходят заказчики гораздо чаще, чем из Латвии.
– Вы вообще как-то сказали, что не очень вписываетесь в латвийскую музыку.
– И не только в латвийскую – и в российскую, да и в мировую. То, чем в основном занимаются композиторы и у вас, и у нас в Латвии, и в Европе, и в Америке, можно назвать авангардом. Сотни участников Московского союза композиторов погружены именно в это. Это работа на переднем крае музыкального фронта, поиски на передовой. Линия фронта все время движется, и они движутся вместе с ней. Ну а я в этих окопах не сижу. Меня больше интересует не то, что музыка приобретает, а то, что она теряет.
– А что именно?
– О, много всего. Скажем, если взять так называемое Новое время, с XVII по XIX век, чем занималась музыка? Она воспевала красоту мира и красоту самой себя. Прекрасными средствами воспевался прекрасный мир. Кульминации это достигло у романтиков XIX века, а потом пошла резкая реакция. После Малера это из музыки вообще ушло. Сейчас современному композитору даже заикнуться о таких вещах неприлично. Притом что сейчас, вообще-то, актуально абсолютно все – и современная музыка, и барочная. Если сыграть слушателю какого-нибудь Перотина, это XII век, или Гийома де Машо, это XIV век, и спросить, может ли это быть современным сочинением, многие скажут – да запросто. Возможно, это новый Пярт или тот же Мартынов. Произошла глобализация культуры, не только в пространстве, но и во времени. И мне неинтересно от этого дистанцироваться и заниматься остроактуальными технологическими экспериментами. Меня, высокопарно выражаясь, интересуют вечные вещи. В старинной музыке есть все, что нам нужно, и выражено очень просто. Я не то чтобы против авангардной, технологически сложной музыки, просто мне лично это все не близко.
– То есть для вас главное – это красота и благозвучность.
– Я бы даже сказал, эйфония и калокагатия. Знаете эти слова? Понятие «эйфония» пришло в музыку в XV веке и осталось века до XX. Это значит прекраснозвучие, благозвучие. Эстетика несовершенного консонанса, упивание благозвучностью терции, сексты. Все, что я делаю – и Мартынов, и Карманов, и много кто еще, – это гимн эйфонии. А калокагатия – ну, можете посмотреть в поисковике, это греческое слово, означает сочетание эстетического и этического позитива. Грубо говоря, это то, о чем Чехов говорил – что в человеке все должно быть прекрасно, и внешний вид, и мысли.
– А до XV века разве прекраснозвучной музыки не было?
– Там были немного другие идеалы, не эйфонические. В XII веке, когда в Западной Европе началось многоголосие, господствовала эстетика совершенного консонанса. Пустотность такая в музыке. И свободные, пряные диссонансы. Самый яркий пример – Перотин и его органумы. До XV века было несколько этапов – первые авторские мессы, эпоха французского мотета, ars antiqua, потом ars nova. А потом мир перешел на рельсы несовершенных консонансов – терцы, сексты, трезвучия, секстаккорды. Во многом благодаря нидерландцам, ну еще англичанам и итальянцам. Эйфония стала общим знаменателем музыки на много веков. А потом все это кончилось. Началась эра диссонанса – не только акустического, а и психологического. Эра дисгармонии личности и мира.
Я это не ругаю, я просто констатирую. В принципе, можно сказать, что все началось тогда, когда в эстетику пришло атеистическое начало. Уже по музыке Малера это заметно – он, конечно, не в полном смысле атеист, он – пантеист, но для него проблема прощания с жизнью уже очень актуальная и больная. Шестая симфония, Девятая симфония, Песнь о земле – все об этом. Ну а дальше – больше. Берг – это уже просто истерический вопль. Характерно, что из опер исчезает положительный герой. Возьмите «Лулу» и «Воццек», две великие оперы Берга, – это же шиза, мир больных людей. Шостакович – то же самое: его Четырнадцатая, Пятнадцатая симфонии, последние вокальные циклы – это все ужас атеиста перед лицом смерти.
– Обычно это объясняют реакцией мира на две мировые войны подряд.
– А во времена Баха не было войн? А что происходило вокруг, когда композиторы писали прекрасную барочную музыку? Голод, насилие, чудовищные эпидемии, людей выкашивало просто миллионами. Ранняя смертность, больше половины детей умирало в младенчестве… Но все это выносилось за скобки, искусство занималось другими вещами. Ну а потом – да, композиторы стали откликаться на то, что происходит вокруг. На мировые войны, революции, перевороты, на подавление личности. Произошло омертвление искусства, секуляризация. Искусство спустилось с небес на землю. А мне очень жаль, что так происходит. Ну сколько можно о земном? Давайте опять вспомним о небесах.
– То есть вам в целом кажется, что послевоенная музыка ушла куда-то не туда? Что ее сгубила додекафония?
– Ну что значит сгубила? А Россию сгубила революция? Ну наверное, но без этого было нельзя. Что случилось, то случилось. Просто все, что произошло в психологии, политике, вообще в мире, не могло не отразиться на искусстве. Было время разбрасывать камни, а сейчас, слава Богу, время собирать. В музыке очень много брошенных, недосказанных вещей. Возьмем, например, романтизм как наиболее нам близкий. Классики – Моцарт, Гайдн – все-таки буквально жили в мире прекрасного; между прекрасным и жизнью стоял знак равенства. У романтиков вокруг ничего прекрасного уже не было, оно оставалось только в их мечтах, в фантазиях. Это нам, конечно, очень понятно. И интонационно в их музыке много всего найдено. Скажем, есть такой прием – сгрупетто, опевание звуков: та-ра-та-та-та. В XIX веке этой интонации было – пруд пруди. И в ней есть невероятный потенциал, особенно если это не просто украшательство, если относиться к ней вдумчиво. Мартынов, кстати, часто ее использует. В этом та-ра-та-та-та – бездонное содержание, а оно просто забыто где-то позади и все. Хочется вот такими вещами заниматься, понимаете?
В общем, метафизика мне важнее реальности. Я не хочу сражаться на передовой, мне вообще неинтересен прогресс. Я хочу быть садовником в саду тысячелетней музыкальной культуры. Может, конечно, я говорю красивее, чем пишу. Любую идею можно извратить грубостью и бесталанностью. Но в любом случае мы говорим о таких вещах, которых все равно в этом мире едва ли возможно достичь.
– Ваш подход – он ведь, в общем, и сам по себе романтический и в силу этого страшно уязвимый: отрицание прогресса, возврат к корням, все лучшее – в прошлом. Но ведь вы все равно человек XX века и в свой идеальный XV век никогда не сможете попасть.
– Да, конечно… Но есть все-таки и вневременное братство композиторов. Я могу тешить себя иллюзиями, но мне кажется, что если бы я встретился с композиторами прошлого, мы бы нашли общий язык. Я думаю, им было бы интересно послушать, чем я занимаюсь.
А вообще, возвращение к старым идеалам – это же вечный процесс. Взять то же Возрождение, это ведь возрождение чего? Античных идеалов, сперва в литературе, а потом и в музыке. А сейчас – возрождение Возрождения. Мы через голову XX века пытаемся вернуть то, что было брошено, предано, обрублено в XIX веке. Это как, знаете, в биографии Глинки описываются роскошные балы, которые закатывали в Новоспасском, в их родовом имении. Вот они пируют уже несколько дней – толпа гостей, друзей, пир горой, – и пора разъезжаться. Велят запрягать экипажи, все надевают шубы, присели на дорожку… И вдруг кто-то произносит: «А жаль расставаться!» И все снимают шубы и начинают по новой. Как я их понимаю! Ну правда, зачем расставаться, зачем разъезжаться по своим норам, если был такой кайф?
– То, что вы делаете, называют «новой консонантной музыкой». Я изучил посвященный этому явлению сайт, ощущения от него странные: это довольно маленькое и маргинальное сообщество композиторов, которое всячески оправдывается за то, что занимается консонантной, то есть благозвучной, ну или уж скажем прямо в лоб – красивой музыкой.
– Да, совсем маленькая кучка. В Латвии я вообще белая ворона. Сейчас, кстати, времена меняются, молодежь уже не такая упертая, как лет десять-двадцать назад. И единомышленники появляются. Но то, что мы в меньшинстве, – это нормально. Сколько там в «Могучей кучке» было народа?
Вот, знаете, есть такой композитор Рабинович? У него вообще вещи называются «Красивая музыка № 1», «Красивая музыка № 2»… То есть понятие красоты вынесено за скобки, как общий знаменатель. Он, конечно, радикально подходит, он вообще экстремист в мире эйфонии, как и Мартынов. Они берут принципы авангардного концептуализма и переносят их на консонансы, на прекрасную музыку. Эти их бесконечные повторения – такой экстремальный способ привлечь внимание к малозначительным вещам. Как выйти на площадь и облить себя бензином.
– Да, у них есть иногда ощущение, что тебя немножечко бьют по голове доской.
– У них в музыке много восклицательных знаков, у меня такого нет, конечно. Мы вообще разные люди. Хотя Мартынов для меня – гуру и очень на меня повлиял. Мы все-таки учились вместе, пятьдесят лет уже знакомы.
– На этом сайте про консонансную музыку есть очень красноречивый эпиграф из Дебюсси: «Музыка должна дарить немедленное удовольствие. Экстремальная сложность – это полная противоположность искусству». По нынешним временам это довольно вызывающая фраза – композитор, который делает упор на комфорте для слушателя, странно выглядит прежде всего в глазах своих коллег. А сложная музыка, дискомфортная, проблемная?
– Да господи, так пусть ей занимаются те, кому это интересно. Мы же не на войне, убивать друг друга не будем. Сейчас есть разные тусовки. На фестивале минималистов в принципе не может быть Штокхаузена, а в Дармштадте – Стива Райха. И прекрасно. Это раньше были концерты современной музыки, на которых играли все понемногу, – мне кажется, это лишнее. Меня вот приписали к этой самой новой консонантной музыке – я не возражаю.
– Но вы же сами жалуетесь, что все это сейчас – глубокое подполье, что это как-то обидно…
– Я не жалуюсь, я констатирую. На улице тоже есть разные люди – больные, здоровые, молодые, старые. С этим просто надо считаться и ходить аккуратно. Нет, конечно, вот я приехал в Москву выступать на фестивале Мартынова, и то, что все это без афиш, без рекламы, в каком-то совершенном андеграунде… И серьезных критиков нет – понятно, что Володя со всеми рассорился, но… Он считает, что концерты такими и должны быть, что андеграунд – это хорошо и правильно, а мне кажется, это все уже как-то… На стене клуба «Дом», где проходит фестиваль, висит вывеска «Дом самодеятельного творчества», видели? Вот есть такой у всего этого привкус. Хотя, конечно, и плюсы тоже – все по-домашнему, можно пива на концерте попить…
Вообще, я сам по себе, люди сами по себе – такая сейчас ситуация. Конечно, щемит иногда, что нет взаимопонимания. Встретишься с композитором знакомым, а говорить не о чем. Вообще. Ну, выпить можно, о прошлом повспоминать. А что-то обсудить актуальное – невозможно. Как если бы я с вьетнамцем встретился. Хотя вроде он композитор, и я. Но языки разные.
– То есть нет ощущения, что вы и те, кого вы называете авангардистами, все равно в сущности делают одно дело?
– Нет-нет, ну что вы. Разве что в том смысле, в каком Америка, Россия и Украина делают одно дело. То есть, конечно, мы все, в общем, толкаем один и тот же паровоз, но тянем-то в разные стороны. А куда он в результате поедет – сложно сказать.
Сергей Невский
Родился в Москве в 1972 году. Окончил училище при Московской консерватории по классу теории, Высшую школу музыки в Дрездене и Университет искусств в Берлине по классу композиции, затем аспирантуру по классу теории музыки.
Сотрудничал с Берлинской государственной оперой, ансамблем солистов Берлинского филармонического оркестра, ансамблями Klangforum Wien, Ensemble Modern, Neue Vokalsolisten, Ensemble Recherche, оркестром musicAeterna, Министерством культуры Королевства Норвегия, Немецкой академией искусств, Birmingham Contemporary Music Group, Немецким радио, фестивалем Руртриеннале и другими. В 2006 году был удостоен Первой премии на Штутгартском конкурсе композиции за пьесу «Fluss» на текст Хармони Корина, в 2014 году – Премии Академии искусств Берлина. Автор опер «Autland» (2009), «Франциск» (2012; спецприз жюри премии «Золотая маска»), «Сверлийцы. Эпизод IV» (2015; совместно с Алексеем Сысоевым), симфонической и камерной музыки. Сотрудничал с режиссерами Маратом Гацаловым и Кириллом Серебренниковым. Участник композиторской группы «СоМа». Живет в Берлине.
Беседы состоялись в Москве в 2014, 2016 и 2018 годах.
© Ricordi
Фрагмент партитуры оперы «Франциск» (2012). Сергей Невский: «Четвертая сцена оперы „Франциск“ – иронический посмертный комментарий главного героя, обращенный к его почитателям. Изначально фигура Франциска разделена в опере на контратенора и сопровождающий его хор чтецов, дублирующий его текст. Перед концом четвертой сцены хор чтецов разбивается на четыре группы – каждый чтец рассказывает одно из посмертных чудес Франциска и ведет за собой какую-нибудь инструментальную группу (деревянные духовые, медь, ударные и струнные), пока наконец они не собираются в тутти благодаря повторяющемуся такту, который мы видим в начале этой страницы, а Франциск не велит всем своим комментаторам и апологетам замолчать („Aufhören, es reicht!“ – „Прекратите, хватит!“). После этой страницы наступает кода – финальный прощальный монолог с хором.
– В разговорах с композиторами, особенно старшего поколения, нередко возникает фигура такого современного радикального авангардиста, с которым они внутренне полемизируют. Они, наверное, имеют в виду кого-то вроде вас?
– Да у меня нет ничего особо радикального – и уж тем более технологически сложного. Я пишу для акустических инструментов, у меня нет никаких мультимедийных концептов. Мне кажется, я последний композитор в нашем поколении, который пишет от руки. Я выписываю четверти и осьмушки, как Телеман триста лет назад. Я не работаю с электроникой. Это все очень старомодно.
– Но звучит-то ваша музыка совсем не старомодно.
– Но я не движим идеей прогресса, абсолютно. Я движим идеей фиксации персонального опыта. Тут нет задачи быть современным.
– Ну вот взять хотя бы вашу оперу «Франциск». Первое, что бросается в глаза неподготовленному слушателю, – на авансцене сидят специальные люди, которые скрипят железом по стеклу, стучат камнями и так далее.[23]
– Это решение логично вытекает из истории Франциска Ассизского. Моя опера опирается на два пласта в искусстве. На итальянское искусство начала XIV века, с очень плотной, рафинированной полифонией и ритмически невероятно сложно организованной музыкой. И на arte povera, «бедное искусство» 1970-х годов, когда итальянцы придумали работать с элементарным материалом – камнем, стеклом, железом. У всего, что происходит на сцене, есть вполне банальное объяснение, связанное с сюжетом. Франциск строит церковь – звучит удар молотка по камню. Или, скажем, в четвертой сцене есть длинное соло для скрипки, которое я ввел потому, что святой Франциск играл на каком-то предке современного альта. «Франциск» – это такое панно. С кучей разных деталей, слоев, которые движутся на разных скоростях. И ее первая сцена в этом смысле ничем не отличается от начала баховских «Страстей по Иоанну». А какое там звукоизвлечение – вообще неважно.
Любая опера – это статичная, понятная вещь, она может существовать вообще без объяснений. Хотя тромбонист оркестра Дмитрий Шаров написал громадный объясняющий текст и хотел его зачитать перед началом оперы – режиссер не дал. А жаль, это нормальная практика. Причем не только в контексте современной оперы, я несколько раз видел перед показом вполне традиционной оперы, как режиссер или дирижер рассуждает о том, что, собственно, мы увидим. Никогда не забуду вступительного слова Петера Конвичного перед «Проданной невестой» Бедржиха Сметаны, из которого выяснилось, что автор был сумасшедшим и эта опера – манифестация его психического заболевания.
У ударных в опере особая роль. Четыре ударника (соответствующие четырем биографам Франциска и четыре евангелистам) расположены вокруг публики – их звуки передаются от одного к другому, образуя естественный сарраунд. Наряду с обычными ударными (в данном фрагменте это ластра (громовая жесть), малый барабан и тарелки, по которым играют смычком), исполнители используют элементарные материалы – камень, дерево и стекло. Простота этих материалов отсылает как к итальянскому „бедному искусству“ 1970-х (arte povera), так и к идеям бедности, которые проповедовал сам Франциск».
У «Франциска» четыре части, это классическая структура сонатно-симфонического цикла. Сперва соната, потом скерцо с кучей разных фрагментов, потом медленная часть – лирический дуэт и финал. Вполне традиционная драматургия, понятная слушателю, заканчивается вообще все в ре-мажоре – есть некоторые шансы, что слушатель не уйдет обиженным.
Бархатов мне, кстати, рассказывал, что после премьеры в Большом к нему подошли две женщины со словами: «Мы хотели бы высказаться от имени православных». Ну, думает, ахтунг, сейчас будут бить. Но нет, они очень содержательно поговорили. Во «Франциске» же много зацепок[24] – и собственно содержание, и отсылки к старинной музыке, к григорианским хоралам. Конечно, у меня там все очень плотно, объем информации большой, но опера – она всегда работает с объемом информации, который превышает наше восприятие. А искусство композитора состоит в том, чтобы это воспринималось как нечто совершенно естественное. Например, у Моцарта звучат одновременно три мелодии в разных размерах, и это нам не мешает, да? А какие безумные квинтеты у Чайковского в «Пиковой даме» или у Римского-Корсакова в финале «Царской невесты» – когда пять человек что-то поют разом.
– Чем вас заинтересовала история святого Франциска?
– Это мне предложил Теодор Курентзис в 2007 году на своей кухне. Причем для него это было каким-то спонтанным видением. Я был настолько изумлен, что согласился. И потом стал читать все, что мог найти. Прежде всего – книжку «Истоки францисканства», где есть две биографии Франциска: одна написана для более образованных людей, вторая – для менее. И они дают довольно неприглаженную картину жития святого – историю очень радикального, жесткого человека, который не всегда осознает, что он делает, то есть, в общем-то, психопата. А у меня радикалы и психопаты присутствуют более-менее во всех музыкальных произведениях. В общем, я совместил идею религиозности и аутсайдерства. В Швейцарии я нашел драматурга Клаудиуса Люнштедта и попросил его написать либретто. Без знаков препинания и без диалогов – опера, состоящая из диалогов, мне сейчас не кажется убедительной.
– А как вы стали композитором?
– У меня был двоюродный дядя, старше меня на пять лет. Он учился в Гнесинке и вместе с четырнадцатилетним Евгением Кисиным играл джазовые стандарты. И меня к этому делу пристрастил. Я почему-то решил, что буду сочинять музыку, а он будет ее играть – хотя мне было шесть лет. Причем никаких других музыкантов у меня в семье нет. В двенадцать лет я пошел на курсы для теоретиков, потом меня не приняли в Гнесинское училище, и я пошел в Мерзляковку, сразу на второй курс. И все было как-то очень ярко. Мы начали учиться в 1988 году, страна бурлила, менялась со страшной скоростью, а у нас было ощущение настоящего Хогвартса – вот мы сидим взаперти и приобщаемся к тайному знанию.
– Вы как-то представляли, как эти тайные знания будете применять?
– Нет, конечно. В 1992-м я переехал в Германию, при помощи благотворительной стипендии. И потихоньку начал находить точки соприкосновения с тем, что меня окружало. У меня никогда не было суперпедагогов, гуру, таких отцовских фигур, мне всегда было важно, что делают ровесники. Ну и я начал как-то оглядываться, анализировать, что вообще в мире происходит. Тогда ведь что было, в конце 1980-х – начале 1990-х? Я столкнулся с наследием сонма святых, пантеоном великих композиторов, которые сочетали склонность к редукции и метафизические притязания. Мортон Фелдман, который умер в 1987-м, Шельси, который умер в 1988-м, Кейдж, который умер в 1992-м, Луиджи Ноно, который умер в 1990-м. Самое сильное впечатление у меня было, когда я в 1992-м попал в Дрездене на фестиваль Кейджа. Там была куча его оркестровых сочинений. И вот я сижу в зале, а вокруг происходит бог знает что – на сцене четыре певца, шесть струнных квартетов, все играют одновременно. Это был совершенно тотальный музыкальный мир, он меня сильно впечатлил. И, главное, скучно не было.
Потом, в 1990-х, возникло сильное противодействие этой идее «редукция, она же святость», появилась музыка Беата Фуррера и Сальваторе Шаррино, которая использовала традиционный инструментарий, узнаваемые виртуозные жесты. Вообще, была написана куча музыки, которая в каком-то смысле была откатом назад – она переизобретала прошлое заново. А в 2000 году я попал на полуподпольный концерт импровизационной музыки, где непонятные люди играли на непонятных инструментах, которые сами же и конструировали, – не то братство, не то секта… Это тоже на меня произвело сильнейшее впечатление, потому что стало понятно, что эта музыка – в которой было много из джаза, в частности, – звучала живей и интересней, чем то, что делали в академических ансамблях.
– А у вас был момент выбора – «я буду сочинять вот такую музыку»? Ведь история XX века – это история сменявших друг друга музыкальных течений. Считается, что последним крупным движением был минимализм, а сейчас никакой главенствующей идеи, к которой можно было бы присоединиться или против которой бунтовать, нет. Вы абсолютно свободны, можете писать что угодно и как угодно.
– Про минимализм моя коллега Наташа Пшеничникова – исполнительница святого Франциска – прекрасно говорит: «Я открыла в России минимализм, теперь не знаю, как закрыть». Но вообще-то, это неправда, после минимализма было много чего. Был спектрализм, который развивал идею консонантности совершенно в другую сторону. На рубеже веков было очень мощное течение, связанное с импровизационной музыкой. Были эксперименты, связанные с алгоритмической композицией, когда определенные процессы переводятся в музыку. Да куча всего. Идея, что минимализм был последним крупным течением, – она очень местная. И связана, по-видимому, с тем, что минимализм очень прижился в России и принял довольно специфические формы – он же совсем не похож на американский.
Для американского минимализма важен пафос освобождения от оков европейской культуры. Ла Монте Янг ведь поначалу честно пытался писать серийную музыку, а потом понял, что та детализация, которая ей присуща, неразрывно связана с венской культурой и вообще столетиями европейской истории – и совершенно бессмысленна, когда у вас за окном американский ландшафт. А когда все это доехало до России… Тут важно понимать, что в России минимализм укоренился во времена политической реакции, когда любой жест осознавался как бесполезный. Я помню, как мне Борис Гройс рассказывал про 1970-е – ничего нового сказать уже нельзя, все уже сказали, все это бессмысленно… И если вы почитаете замечательную книжку бесед Кабакова с Гройсом, то заметите, что Кабаков там все время повторяет – я плохой рисовальщик, я ничего не умею. Этот пафос собственного бессилия и создал специфическую версию русского минимализма. А еще всем была очень нужна зона комфорта. То есть, с одной стороны, минимализм в версии московских концептуалистов превращал монотонность убожества окружающей жизни в некий трансцендентальный опыт, а с другой стороны, являлся от них защитой. В результате в России, если я правильно понимаю своего коллегу Батагова, минимализмом называется вообще любая консонантная музыка. Из-за этого возникает чудовищная путаница. Получается, что минимализм – это все, где есть терции-квинты.
– Повторяющиеся терции-квинты.
– Даже не всегда повторяющиеся, потому что Батагов называет минимализмом вообще все, что ему нравится. Притом что минимализм все-таки предполагает некую редукцию материала и, как правило, репетитивную технику. В общем, мне кажется, что в России минимализм – это сейчас такая зона приятного времяпрепровождения на контрасте с очень неприятной реальностью. И это значит, что у минимализма сейчас будет новый взлет. Чем мрачнее будет жизнь вокруг, чем более бессильными будут себя ощущать люди, тем больше будет минимализма.
– Не знаю насчет минимализма, но вы-то точно окажетесь мальчиками для битья. Вы же читали нашумевшую передовицу в газете «Культура» про безобразие, на которое тратятся бюджетные деньги, – где, в частности, упоминается ваш коллега Курляндский, в сочинении которого «используют инструменты не по прямому назначению»? Современную оперу, насколько я понимаю, в России сейчас заказывают театры по большей части на деньги Минкульта[25] – и все это может закончиться.
– На самом деле не всегда и не везде. У «Франциска» довольно сложное финансирование – в прошлый раз помог Большой театр, а в этот раз он денег не давал, и финансирование было внешним, от независимых спонсоров. Иначе был бы совсем позор. Скажем, в этом году на «Золотую маску» была выдвинута опера Раннева, которую не смогли показать из-за недостатка средств. Те три-четыре современные оперы, которые сейчас идут в России, показываются в рамках фестивалей[26] – не думаю, что они отбирают какие-то серьезные бюджетные деньги у более традиционных постановок. Да и денег-то там совсем немного. Но театр – это вообще единственная институция, которая платит композиторам. Потому что опера способна привлечь медийное внимание. Просто музыка – нет. Вот несколько моих коллег-музыкантов, очень известных, пытались придумать какой-то большой заказ для меня, Карманова и Курляндского. Ничего не вышло.
Да, эти новые оперы – они отчасти даже более радикальные, чем ставятся в Европе. И все это, конечно, очень уязвимо. Но я бы подождал год-полтора, посмотрим. Если все будет плохо… В принципе, все равно и я, и Курляндский большую часть денег зарабатываем за границей. И, к сожалению, для молодых композиторов тут заказов почти нет. «Платформа» была единственным местом, которое что-то им заказывало. Думаю, сейчас сразу несколько очень серьезных молодых авторов, которым лет двадцать пять[27] – двадцать шесть, уедут на Запад. В России просто нет институций, которые бы их поддерживали. Это двумя-тремя постановками не изменить.
– Вот вы говорите – радикальные. А что все-таки для вас значит это слово применительно к музыке?
– Для меня музыка – это разные модели коммуникации. Коммуникация с музыкантами, с самим собой. В том, что я сейчас делаю, есть момент упрощения. Отказ от деталей, от излишних подробностей. Чтобы самому себе мозги прочистить. Я стараюсь найти формы, которые освобождают музыку от однозначной фигуративности; сочинять музыку просто из элементарных звуков, которые идут друг за другом. Естественно, любая простота соседствует с радикальностью. Но я все-таки не думаю, что я особо радикален, потому что я, во-первых, всегда остаюсь в рамках традиции, а во-вторых, пытаюсь сформулировать вещи, которые важны не только для меня. Я вот тут был в Петербурге на встрече с современными поэтами и понял, что музыка все-таки более объединяет людей, чем поэзия. Поэзия, мне кажется, разъединяет. У того, что я делаю, есть претензия на универсальность – ну или просто понятность. Хорал в финале «Франциска» – кому и что там непонятно?
– Недавно вышел сборник бесед Дмитрия Бавильского с современными композиторами, и даже он, явно новой музыке симпатизирующий, все время заводит разговоры типа «ваши поиски – это прекрасно, но почему же нельзя хоть раз написать как Малер, как это было бы здорово».
– Ну да, зачем вы вот так-то… Но ведь и Малер тоже не писал, как Брамс. Он тоже хотел куда-то двигаться.
– А у этой эволюции нет каких-то естественных пределов? Скажем, современные композиторы активно работают со скрипом пенопласта, в нем много интересного с точки зрения звука – но у того, что от этого скрипа некоторые слушатели готовы залезть под кресло, есть вполне объективные физиологические объяснения.
– У меня тоже есть пенопласт в сочинениях, но он ведь так эстетизирован… Сейчас все смотрят сериал «Игра престолов», там тоже полно вещей, которые раньше были невозможны. Гомоэротика, куча насилия, и все умирают. А ведь это телесериал! Еще пять лет назад такое нельзя было себе представить. Вообще, эволюция композиторского словаря от нас не сильно зависит. Мы никак не можем на нее повлиять. Любая новая музыка манифестирует себя при помощи некоторого давления на слушателя. Само понятие «новая музыка» родилось в XIV веке – и вот с тех пор так. В этом нет никакого специального психоза, это свойство европейской культурной традиции.
* * *
– Что вообще сейчас значат понятия «современная академическая музыка» и «авангардная музыка»?
– Сейчас, боюсь, уже почти ничего не значат. Авангард – это значит «находиться впереди музыкального процесса». Но сейчас есть много способов быть впереди, не говоря уж о том, что непонятно, где это самое впереди. Прилагательное «академическая» предполагает, что музыку исполняют филармонические музыканты в филармонии. Но это давно не так – и в смысле места, и в смысле исполнителей. Концерты часто проходят в каких-нибудь техноклубах, где угодно. Саму музыку это тоже не определяет никак: сегодня на фестивале contemporary music может быть и импровизационная музыка, и фри-джаз, и электроника. Раньше это разделение было довольно жестким, то есть всегда было понятно, что имеется в виду, когда произносится «современная академическая музыка». Это наследство жесткого структурализма 1950-х. Но от разделения музыки на академическую и прочую кураторы давно и последовательно уходят, это просто вопрос времени.
То же самое происходит с понятием «андеграунд». Я не так давно составлял музыкальную программу к большой польской выставке «Notes from the Underground» («Записки из подполья»), посвященной восточноевропейскому авангарду 1968–1994 годов. И все время бился с остальными кураторами: та музыка, которую я им предлагал, им казалась не андеграундной. И наоборот: они предлагали, скажем, немецкий техно-лейбл Raster-noton, а я им говорил, что люблю и техно, и IDM, но уже двадцать лет назад на концерты музыкантов Raster-noton собирались тысячи, какой же это андеграунд? Люди, которые были андеграундом пятьдесят лет назад, либо состоялись, либо мертвы. Андеграунд – это контекстуальное понятие, оно складывается из взаимодействия художника с существующим контекстом.
Отсюда вытекает множество нестыковок. Андеграундный классик Хельмут Лахенман написал в шутку «Новогодний марш» для «Голубого огонька» в Штутгарте, и это вызвало сильнейшее возмущение: как же так, мы так ему верили, а он написал тональную музыку! Хотя у этого сочинения тончайшая инструментовка, в ней заключена бесконечная интеллектуальная игра. Он выработал свою линию, и внутри нее возможно разное. Он ведь не случайно заявил однажды, что больше не является композитором, он – инспектор своей собственной музыки.
Современность – это понятие, которое существует здесь и сейчас, оно всегда контекстуально. Современно то искусство, которое анализирует свой язык. Если мы критически анализируем ситуацию, в которой находимся, мы современные. Все просто. И в этом смысле, скажем, группа Radiohead давно уже находится в контексте современной музыки, поскольку в корне их нынешней деятельности находится критическое отношение к традиции. Они переосмысляют британский поп, из которого выросли и для которого давно стали слишком сложны.
– Где начинается и заканчивается современная музыка? Или это все, что пишется здесь и сейчас?
– Ключевой вопрос – наличие или отсутствие саморефлексии. И это относится к любой музыке, совершенно независимо от используемых ею средств. Примеров «несовременной современной» музыки можно привести множество. Скажем, огромное количество сочинений учеников Булеза, где невозможно отличить одного автора от другого. Они все написаны внутри одного контекста, отличаются какими-то мельчайшими деталями, которые даже мне едва заметны, но сам контекст под вопрос не ставят.
– Может же быть второсортная современная музыка? Или как только она становится второсортной, она перестает быть современной?
– Один современный композитор спросил у моего коллеги Дмитрия Курляндского, что он думает про его музыку: она вроде вполне современная, полна экспрессивных жестов, даже претендует на некоторую скандальность. Курляндский, подумав, заметил, что ему не хватает второго плана. Возможность нескольких перспектив в музыке – это базовое свойство европейской музыкальной традиции, с которой мы неизбежно находимся во взаимодействии. Мы ведь не аквариумные рыбки. Поэтому я думаю, что в современной музыке невозможен наив или его симуляция. Они сразу выбрасывают композитора за пределы современной музыки. Не хочется называть имен, но есть одна известная девушка-композитор, творчество которой вызывает у меня совершенное недоумение. Нужно быть совершенно лишенным рефлексии, чтобы писать такую псевдонаивную музыку. Ведь каждый должен стремиться к бессмертию, правда?
– Никто не знает, какой из путей к бессмертию окажется наиболее коротким.
– Это легко спрогнозировать. Можно, конечно, перестать быть интересным еще при жизни, нам всем это грозит, но все-таки кое-какие стратегии есть. Например, стараться. Думать, что делаешь. Не писать то, что пишут другие. И так далее. Если композитор экономит силы и мозги, это у меня не вызывает сочувствия.
– А если этот наив востребован и его исполняют по всему миру? Почему бы не считать, что это и есть самая актуальная современная музыка, раз она так нужна людям? А история музыки нам подсказывает, что совершенно невозможно предугадать, кого забудут, а кого нет. Мы же знаем историю Монтеверди, Вивальди, да и Баха. Карл Филипп Эммануил Бах долгое время был популярнее своего отца.
– Кстати, очень хороший композитор. Популярнее Баха был еще Телеман, который, как нам рассказывали на уроках музлитературы в Германии, написал одиннадцать собственных автобиографий. В общем, популярность – вещь такая… В масштабах вечности можно и ошибиться.
– Можно ошибиться, будучи и непопулярным композитором.
– Конечно. Это тотализатор, совершенно непредсказуемая история. Одним ты слишком академичный, другим слишком радикальный. Меня коллеги ругали за то, что я чересчур мейнстримный. Замечу только, что те, которые считали меня недостаточно авангардным, уже в основном перестали заниматься композицией. А мы пока что держимся.
– Современной музыке принято приписывать отчетливо узнаваемые черты – достаточно сложный язык, увлечение новыми техниками. Не случайно, например, Леонид Десятников говорит, что не чувствует себя современным композитором – потому что это определение как бы само собой подразумевает принадлежность к модернистской традиции XX века.
– Мне кажется, Леонид Аркадьевич просто кокетничает. В его музыке как раз чрезвычайно много рефлексии. Это не всем очевидно при анализе его музыки, потому что она мелодичная и тональная, но там всегда есть некая избыточность, указывающая на критическую дистанцию по отношению к тому благозвучному языку, который он для себя избрал. Самый простой пример – его музыка к кинофильму «Москва». Если посмотреть партитуру песни «Враги сожгли родную хату», то она наполнена такими сложностями, которые в принципе были бы невозможны без Шенберга и Нововенской школы. Партия вокалиста там испещрена мельчайшими пометками, все прописано до деталей. Это что угодно, но не наив!
Это очень сложное взаимодействие с низкими жанрами, с бытовой музыкой, с классической традицией, с неоклассицизмом. Кстати, очень русское, такой обобщающий взгляд извне на европейскую традицию. Он есть и у Шостаковича, цитирующего в своих симфониях Стравинского и Малера. Наш учитель Виктор Павлович Фраёнов объяснял, что Седьмая симфония Шостаковича вовсе не про блокаду Ленинграда – это попытка дотянуться до «Симфонии in C» Стравинского, вступить с ней в диалог: та же инструментовка, то же начало. У Десятникова можно найти такие диалоги с Равелем, Стравинским, много кем. Нет, конечно, он модернист.
Но почувствовать себя динозавром очень легко, и не только Леониду Аркадьевичу, но и всем нам. Мы, видимо, последнее композиторское поколение, которое еще пишет музыку нотами. Сейчас очень многое делается при помощи сэмплов, лайф-электроники, мой друг и коллега Володя Раннев делает инсталляции одну за другой. Композиторский словарь изменился, и от участи ископаемого реликта нас спасает только уровень критического взаимодействия с настоящим и с историей.
– Вы не думаете, что ваш взгляд на современную музыку определяется информационным пузырем, в котором вы находитесь? Вас окружают впередсмотрящие композиторы, кураторы и музыканты, и поэтому вам кажется, что вокруг все пишут и слушают сверхсовременную музыку. Но ведь это не так! В филармоническом репертуаре новая музыка по-прежнему занимает очень скромное место. Все как играли Брамса и Чайковского, так и играют.[28]
– Конечно, у всех субъективный взгляд. Есть некая ниша, одно время меня очень волновало место в этой нише. Сейчас я немножко успокоился, а раньше ужасно переживал, что я и в России, где все изображают какой-то неофутуризм, не модный, и в Германии, где все упирают на мультимедийность и концептуализм. И только недавно понял, что это плюс, а не минус, что так у меня больше шансов сохранить свой взгляд и продержаться. У меня есть техника, которая позволяет выразить свое видение в звуке, и на это даже появляется некоторый спрос. А так я стою особняком и в Германии, и в России, не вписываюсь в тусовки. Русские коллеги меня не очень-то любят.
– А как же композиторская группа «СоМа», частью которой вы являетесь?
– «СоМа» – это мои друзья и коллеги, но мы очень разные и пришли в нее уже состоявшимися композиторами. Вообще, не стоит преувеличивать ее значение, это все же не «Могучая кучка». Достаточно сказать, что ее члены никогда не собирались за одним столом. «СоМу» придумали Филановский и Курляндский как манифест, чтобы начать общественную дискуссию, вывести разговор о современной музыке за пределы академического контекста, всех этих замшелых российских фестивалей вроде «Московской осени». И это получилось. Но сама идея проекта представляла из себя бледную имитацию футуристических идей, а футуризм не кажется мне очень интересным движением. Мы же знаем, чем весь этот футуристический оптимизм закончился. По сути, единственная композиторская идея, которая пережила футуризм, – это расширение музыкального словаря за счет включения в него вещей, исторически с музыкой не связанных. А неофутуризм немедленно становится старомодным, в этом его проблема. И потому я стараюсь держаться от него подальше.
– А не является ли это быстрое устаревание проблемой современной музыки в целом? Многие авангардные сочинения 1970-х сегодня звучат очень старомодно.
– Смотря какие сочинения. Быстро устареть может и музыка, написанная буквально вчера. Но если она сохраняет ясность жеста, если композитор владеет рефлексией и структурным мышлением – ничего с ней не сделается. Именно это делает музыку современной, а не какие-то новые приемы. Сами по себе радикальные жесты ничего не дают, это просто выплеск энергии, важно их грамотно отрефлексировать.
И поздний Луиджи Ноно, и Джон Кейдж сегодня прекрасно слушаются. «Микрофония» Штокхаузена 1961 года звучит так же, как самая радикальная импровизация моего коллеги Алексея Сысоева. Нельзя сказать, что мы как-то сильно далеко ушли. Радикальность постановки вопросов, которая свойственна современной музыке, гарантирует ей жизнь.
Понимаете, идея пропорций из музыки никуда не делась, какой бы сверхавангардной она ни была. И слушатель это чувствует. Понимать, может, и не понимает, как не понимает и довольно сложную музыку Моцарта, но соразмерность в отношении использования времени, использования материала – это то, чему мы интуитивно доверяем. К тому же современный слушатель гораздо более подготовлен, он слышал и Эминема, и техно, и фри-джаз, для него разные формы музыкального синтаксиса – это норма. Скажем, синтаксис венской классики жестко привязан к синтаксису речи, на этом построена вся музыкальная теория XVIII века: половинная каденция – это точка с запятой, совершенная каденция – точка. И других моделей ни у публики, ни у композиторов не было. А сейчас есть, и они разные. Кейдж стремился взорвать старые модели и показать, что в музыке может происходить несколько событий сразу. У Ноно была идея «островов», единичных событий, которые разворачиваются во времени, при этом одно не следует из другого. И все это имеет право на жизнь и современных слушателей.[29]
* * *
– Мы беседовали несколько лет назад, с тех пор многое изменилось – и, кажется, не в лучшую сторону. Что сейчас происходит с современной музыкой в России?
– Когда в 2012 году Василий Бархатов представлял мою оперу «Франциск», он на пресс-конференции сказал, что ситуация в современной опере похожа на ситуацию в экономике в 1990-х: возможно все, в том числе очень рискованные вещи. Ну вот главное, что произошло с современной музыкой в России, – эта эпоха закончилась. Исчезла готовность очень многих людей работать с непривычным – как следствие стресса и невроза, в котором все находятся. За последние два года было разрушено очень многое из того, что было создано за предыдущие десять лет. Когда я приезжаю в Россию, я в основном стараюсь завершить старые проекты, начатые еще в 2014 году или раньше. Есть всего два новых, очень симпатичных мне заказа, один чисто композиторский, другой связанный с театром, но это такие маячки на фоне руин.
Сегодня у всех, кто работает в России, большую часть времени отнимает деловая переписка, вытягивание денег из заказчиков, реализация очень давно запущенных вещей. И мне даже сложно обвинять своих заказчиков или партнеров в нерасторопности, потому что им самим приходится работать во все более абсурдных условиях. В результате современная музыка ушла из диалога с государством и традиционными институциями в некое параллельное пространство и живет там своей жизнью.
Конечно, заметнее всего сейчас расцвет импровизационной сцены. В Москве концерты в галереях типа «Граунд» происходят буквально каждый день, и все музыканты и музыка – абсолютно международного уровня. Разумеется, это огромный импульс для музыкального языка. Для меня проблема этой музыки в том, что я почти всегда примерно знаю, что услышу. Это как триеровская «Догма», которая была придумана, чтобы избежать жанровых границ, а в результате появился такой жанр – фильм в духе «Догмы». Вот и импровизационная музыка – вроде бы она должна была выйти за пределы филармонического словаря, а в результате у нее просто сложился свой собственный, очень конкретный словарь.
Еще один важный тренд – маргинализация современного композитора. Те, кто еще пару лет назад могли быть в центре общественного внимания и были признаны в результате некоего критического консенсуса, сейчас оказались на обочине. Ну вот мой друг Митя Курляндский ушел в перформативные практики. Гуляет со студентами Бориса Юрьевича Юхананова по городу, они там записывают звуки улиц, слушают тишину. У Мити на эту тему есть своя теория: культура – это разъединение, непохожесть, инаковость, поэтому композитору надо вот такими штуками заниматься. Но я очень боюсь, что эта история (конечно, меняющая наше представление о музыке) станет закрытым анклавом. А культура должна стимулировать обмен и перетекание знаний, а не культивировать закрытые ниши.
А то все разошлись по своим норам. Есть композиторы, которые пишут симфонии ко Дню Победы. Есть композиторы, которые пишут балеты для Большого. Есть люди, работающие в импровизационном пространстве, есть экспериментальная опера, прежде всего в «Электротеатре», есть люди, работающие для инструментальных ансамблей. Для меня трагедия состоит в том, что все эти прекрасные люди все меньше пересекаются и говорят друг с другом.
Вот есть довольно живой мартыновский фестиваль в «Доме», но он тоже после нескольких лет экспериментов вернулся к своим корням и немного окостенел. А ведь еще четыре года назад Татьяна Гринденко играла там того же Курляндского и меня – причем, что меня особенно поразило, сыграла нас лучше, чем Мартынова. Сейчас, конечно, Курляндского на мартыновском фестивале просто невозможно себе представить. Остались чисто человеческие симпатии: скажем, мы с композитором Кармановым симпатизируем друг другу. Но моя аудитория с его совсем не пересекается. Вот разве что скрипачка Лена Ревич недавно придумала уникальный проект «Галилео» – пять вещей для скрипки и камерного оркестра, где есть и моя музыка, и Карманов, и Курляндский, и Кузьма Бодров, и Кирилл Чернегин. Но это, увы, уходящая натура, и судьба этого проекта в нынешних условиях очень непроста.
А ведь еще лет пять назад все было по-другому. На «Платформе», например, мы смешивали импровизационную и нотированную музыку, были концерты с песнями и с музыкальным театром. И одна и та же публика слушала совершенно разные вещи. На Западе все больше фестивалей, которые так делают – смешивают старую академическую музыку, новую академическую, импровизационную, барочную, какую угодно. И в этом нет эклектики, а есть понимание, что культура – это диалог и взаимодействие. Самые яркие мои воспоминания – это концерт, на котором Аббадо сыграл подряд «Группы» Штокхаузена и Первый фортепианный концерт Чайковского с Аргерих, и концерт в Осло, где сначала прозвучала Четвертая симфония Шумана, а потом – огромный импровизационный сет двух великих японских шумовиков – Отомо Йосихиде и Сатико М. И обе эти программы очень осмысленны: Аббадо хотел нам сказать, что и Чайковский, и Штокхаузен работают с перекличкой инструментальных групп, а ребята из Осло – что Отомо Йосихиде – страшный романтик, что это Шуман сегодня. Мне в России как куратору и как слушателю очень не хватает таких программ.
Причем все довольны, все счастливы. Студенты Юхананова счастливы. Импровизаторы счастливы в галереях и лофтах. Люди, которые пишут и слушают постминимализм, счастливы на концертах в клубе «Дом». Филармонические люди пишут симфонии ко Дню Победы и тоже, наверное, счастливы. И никто, кажется, уже не готов рисковать и покидать свою личную зону комфорта. Зона риска исчезла. Что и понятно, потому что риск в искусстве предполагает относительное спокойствие в жизни, а его нет, вот и границы между разными взглядами на искусство в России стали совершенно железобетонными.
– То есть вам не хватает не музыкальной бескомпромиссности и радикальности, а именно кураторской?
– Мне не хватает готовности общества принять что-то незнакомое. Ну и понятно, что тут все взаимосвязано. Почему люди боятся делать резкие вещи? Потому что боятся, что им не дадут денег. Почему не дадут денег? Потому что в Минкульте сидит понятно кто. Чем больше нынешних руководителей Минкульта ловят на воровстве, тем больше у них возникает желание давить на процесс, говорить о традиционных ценностях и регламентировать распределение бюджетных денег. Все знают, как трудно сейчас просто кому-то заплатить гонорар. И насколько выросла любая отчетность. И каждый день от властей ждешь каких-нибудь новых гадостей. И они, надо сказать, не разочаровывают, гадости поступают стабильно и в полном объеме. Поэтому все больше людей, занимающихся современным искусством в России, либо минимизируют контакты с государством, либо сохраняют какие-то тайные каналы взаимодействия с немногими уцелевшими адекватными людьми из госструктур, которых еще не успели уволить и заменить на роботов. На этих тайных связях все и держится.
– Курляндский как раз говорит о том, что современной музыке в России бояться нечего: ей невозможно урезать госфинансирование, потому что ее и так никто не финансирует. Зато сейчас возникает альтернативная сеть распространения музыки – не консерватории и филармонии, а как раз галереи типа «Граунда», новые слушатели, новые возможности.
– Я думаю, Митя просто не застал ситуации, когда происходил интенсивный диалог вменяемых людей из политики с современным искусством. То есть он в ней участвовал, но по касательной, потому что больше занимался композицией, чем кураторством (и был в этом совершенно прав). Это ведь был очень короткий период – где-то с 2005 по 2012 год. То, что сейчас современные композиторы стали такие офигенно независимые и могут сами исполнить свою музыку в маленькой галерее, – это ведь все не от хорошей жизни. Просто в России тупо не хватает музыкантов, которые играют современную музыку. Заказов нет. Молодым композиторам невозможно всю жизнь стоять в очереди к трем-четырем ансамблям современной музыки в стране. Хотя, разумеется, есть и позитивная динамика: есть замечательный фестиваль reMusic в Питере, после очень долгой раскачки набрал силу филармонический фестиваль «Другое пространство», где наконец звучат классические оркестровые партитуры XX века, Булез, Штокхаузен и Берио. Очень важно, что эту музыку можно теперь послушать не только в интернете, но и живьем.
Меня же сейчас, напротив, композиция интересует больше кураторства. Недавно написал скрипичный концерт для Лены Ревич и оркестра Штутгартского радио[30] – и это было абсолютным счастьем, хотя я ужасно боялся оркестра и мне было страшно работать с Ревич. И я был бы счастлив, если бы я мог чаще слушать оркестровые партитуры молодых композиторов, которые мне интересны: Хорова, Широкова, Бурцева, Полеухину, Рыкову, Горлинского. Я уверен, что там могли бы возникнуть совершенно визионерские звуковые пространства. Они и возникают, но совершенно в другом контексте, в котором, оказывается, как это ни парадоксально, куда меньше визионерства. Любой радикальный жест радикален лишь тогда, когда преодолевает сопротивление среды. Перформанс с камешками, сыгранный в галерее для пятидесяти своих слушателей, куда менее революционен, чем те же камешки в исполнении РНО. Но, естественно, любой адепт свободной импровизации мне скажет, что он будет иначе переживать камешки, чем оркестровый музыкант, и это переживание будет более интенсивным, но для меня в этом не возникает трения. Я просто попадаю из одной конвенции в другую. В конвенцию камешков и многочасовых тихих перформансов, где мне безумно скучно.
– Так, может, камешки ничем не хуже? Это ведь та же риторика, которую используют традиционные филармонические музыканты по отношению к современной музыке: вот оркестр – это да, а ваши перформансы и нетрадиционное звукоизвлечение – это все не музыка.
– Да нет, это замечательная, прекрасная музыка. Просто у любой музыкальной практики есть свои границы. И я очень переживаю отвердение этих границ в российском музыкальном контексте. Понимаете, очень многие композиторы, работающие в импровизационой практике, мне сейчас говорят о тех невероятных состояниях, которые они переживают на многочасовых импровизационных сетах. Но как слушателю мне глубоко безразлично состояние, в котором находится композитор или исполнитель. Мне кажется, это должно оставаться его личным делом.
По-моему, этот упор на внутреннее переживание звука, времени – частный случай общей картины: массового российского ухода в эскапизм. У нас сейчас просто фантастический выбор разной эзотерики: у Курляндского она одна, у Широкова другая, у Мартынова с Батаговым третья. Все это – разные формы бегства от действительности: метафизика, которая оборачивается лаунжем. Когда мы планировали третью композиторскую лабораторию в Центре им. Мейерхольда, то обнаружили, что абсолютно все молодые композиторы хотят работать со сказками. И действительно, если оглянуться, в российских театрах сейчас много ставят сказок – в Театре Наций, в театре «Практика», в «Гоголь-центре», да везде. Боюсь, что это не столько желание анализировать действительность через архетип, сколько желание убежать и завернуться в детское одеяло, которое я, в общем, хорошо понимаю на фоне всего, что происходит.
Мне кажется, главная особенность существования современной музыки в России – то, что она исключена из капиталистического контекста, из товарообмена. Композитор композитору не конкурент, мы находимся внутри некой утопии. С одной стороны, это замечательно: у композитора нет стандартной европейской мотивации быть интереснее других, понравиться музыкантам и заказчикам, высказать все что можно в рамках 15 минут. Вот все и пишут бесконечные партитуры и находятся друг с другом в некоем эзотерическом диалоге, исполняя музыку самих себя. С другой стороны, конкуренция очень мотивирует. Она обостряет наши реакции.
Тот же мой скрипичный концерт закрывал огромный фестиваль. Передо мной играли Концерт для гармониума и виолы д’амур Клауса Ланга – такое бесконечное поле очень тихой и очень красивой музыки с оркестром, сидящим вокруг аудитории; квазитональная вещь, в которой тональность незаметно менялась. Невероятное оркестровое марево. А после нее очень эффектная пьеса Ребекки Сондерс, вся построенная на шумах. И я сижу и понимаю, что, черт побери, моей вещью все завершается и она должна привлечь хотя бы столько же внимания.
– Кажется, что композиторам обычно как раз очень дискомфортно ощущать себя в ситуации конкуренции за чужое внимание. Это же часто вопрос случайности: как сыграли, какой был зал. Ваша вещь могла просто не прозвучать на фоне двух других, и не потому, что была неудачной.
– Нет, стресс – это круто! Меня, скажем, мотивируют дедлайны. Если у меня не будет дедлайна, я не буду ничего писать, я буду играть с кошкой.
– Про композиторов обычно думают как про людей, которые сочиняют, потому что не могут не сочинять.
– Ой, у всех разные мотивации. Моя главная мотивация, как у Стивена Кинга, – счета за электричество. Мне люди, которые пишут ради некой утопической идеи, всегда казались подозрительными. Потому что утопический посыл часто неотличим от банальной графомании. Есть такой американский минималист Джон Макгуайр, который пять лет подряд писал сорок восемь канонических вариаций для фортепиано. Такая супертехничная музыка ручной вязки, сложнейшее сплетение паттернов. Вот зачем он это делал? Нет, можно написать хорошую музыку в стол. Другое дело, что утопические проекты совершенно не обязаны быть хорошими. И даже не обязательно утопическими: тот же Лейф Сегерстам написал триста симфоний[31] – это уже не утопия, это комфорт.
– Комфорт?
– Ну хорошо человеку от этого дела. Как это еще объяснить?
– Это все-таки нешуточный труд – написать симфонию.
– Да, я это впервые оценил, поработав всерьез с оркестром. Пошел потом слушать Пятую симфонию Бетховена – блин, думаю, вот это реально труда вложено: там модуляция, тут отклонение, потом еще одно. Выписал все варианты, коду присобачил, очень трудолюбивый был композитор Бетховен, начинаешь уважать, Моцарт на его месте половину этого материала выкинул бы, просто от скуки. Как-то раньше я это все по-другому оценивал. А тут просто над корректурой посидишь – я у наборщиков сидел неделю по шесть часов в день, и это всего-то десять страниц в день просто просмотреть. И пусть даже Бетховен с куда меньшим оркестром работал, но труд нешуточный все равно.
– Можно ли как-то описать, что сейчас модно в современной музыке, а что не очень? Вы как-то говорили, что десять лет назад российская современная музыка была громкой, шумной и радикальной, а сейчас все играют тихо, медленно, долго и печально – почему так?
– У всех этих буйных шумовых партитур была философская подоплека: мы воскрешаем эстетические утопии русского авангарда. Почему-то тогда это было очень популярно: пьеса Сысоева «Над лунами» ссылалась на идеи Крутикова, другие опирались на Татлина, Шкловского и так далее. А сейчас, видимо, все, как в советские 1970-е, сели читать буддистские трактаты и думать о вечном – и в музыке это отражается. Курляндский мне недавно сказал, что в России результатом работы композитора является не вещь, а формулировка некоего мировоззрения. Я не знаю, хорошо ли это.
– А на Западе этого нет?
– Вообще нет. На Западе сейчас ренессанс концепт-арта – музыканты и композиторы пытаются переосмыслить сам контекст, в котором звучит музыка. Ну то есть как, Запад – это довольно условное понятие. Но в Германии этого полно. И, например, в Скандинавии очень сильна тенденция саморефлексии, такой «музыки о музыке».
– То есть с современным немецким композитором про трансцендентное не поговоришь, это не тот тип разговора, который в вашей среде принят?
– А с русскими композиторами, что, можно? Я не знаю, не пробовал.
– С Мартыновым или Батаговым уж точно можно.
– Все-таки они чуть постарше. Мартынов, собственно, как раз и сформировался в 1970-е годы, в той ситуации, о которой я говорил выше. Батагов, возможно, сформирован нью-эйджем 1980-х, по крайней мере находится с ним в диалоге.
– Есть ощущение, что для вас все эти разговоры про «духовное» хуже горькой редьки. Хотя любое искусство, а уж музыка в особенности, связано с духовным началом. Но вы от этого словно отбиваетесь руками и ногами.
– Ну почему, все мои сочинения как раз об этом.
– Мне казалось, вас святой Франциск заинтересовал не потому, что он святой, а потому, что он иной. Аутсайдер. Вот то, что ваша музыка сильно связана с темой аутсайдерства, – это да, смело можно сказать.
– Ну да, конечно. Но при этом я без шуток религиозный человек, просто религиозность можно по-разному проявлять, принимать и ценить. Моя религиозность проявляется в том, что я не пишу четырехчасовых партитур. Мне кажется, это нескромно требовать у слушателей столько внимания, да и сил моих на такое не хватит. Но если бы я не был религиозным человеком, я бы не написал «Франциска».
– А вы отдаете себе отчет, откуда в вашей музыке что берется? Сколько в ней непосредственно вас, Сергея Невского, и сколько влияния внешней среды, своего круга? В какой степени – и как – вы выбираете свой музыкальный язык?
– Больше всего меня интересует, насколько мы вообще способны меняться в течение жизни. Насколько мы ограничены, насколько наша собственная система письма является системой суеверий? Может ли человек вообще развиваться и преодолевать себя самого? Раньше я был очень пессимистичен на этот счет. Но, однако же, из каких-то своих привычек и условностей вырос. Я учусь быть открытым. Скажем, сейчас работаю с техно-музыкантом Паулем Фриком. Мы вместе как бы идем навстречу друг к другу в этой работе. И я чувствую, что это меня двигает дальше, чисто музыкально, у меня открывается какое-то новое представление о времени.
В конечном итоге речь идет просто о том, чтобы учиться. Я ужасно рад, что могу себе признаться, что чем-то владею плохо. После «Франциска» и «Аутленда» я думал, что большой ансамбль и хор[32] – это формат, в котором я достаточно свободно ориентируюсь. А сейчас я впервые в жизни столкнулся с оркестром и понимаю, что там у меня дисбаланс, тут дисбаланс, и, вообще-то, можно было сделать в сто раз лучше, просто времени не хватило. И я очень хочу научиться писать лучше. Потому когда современные композиторы спрашивают, зачем вообще писать для оркестра, мне на это хочется сказать одно – а вы вообще пробовали? Там же невероятные возможности! У того же Клауса Ланга оркестр сидит вокруг публики, звук в течение часа перетекает туда-сюда, и ощущения невообразимые – непонятно, как это вообще сделано.
Я помню, когда мы делали «Франциска», Елена Ревич, которая играла в нем партию сольной скрипки, мне сказала: «Сейчас надо брать Большой зал Консерватории. Потому что если мы это не сделаем, то через два года все отберут. Скажут: поигрались – и хватит». Так оно и случилось. БЗК мы не взяли, и сейчас у новой музыки шансов появиться в рамках старых структур очень мало.[33]
– А почему не взяли-то?
– Просто момент ушел. Кончились деньги, поменялась культурная политика. Менеджеры сменились на более осторожных.
Вообще, главная вещь, которую я могу сказать про Россию: я чувствую себя человеком, который второй раз проходит через одно и то же. Я второй раз в жизни переживаю момент, когда относительная свобода сменяется полным мраком. Не знаю, хорошо ли вы помните конец 1980-х, а я четко помню ощущение, когда живешь относительно свободно и вдруг все заканчивается: сначала какое-то непонятное месиво, а потом все, конец. В 1990-е в России композитор уже не мог работать по специальности. Все композиторы просто уехали. Я помню, все вокруг играли Гершвина, и когда я сейчас вижу, что Нижегородская филармония просит в фестивальной программе заменить Прокофьева на Гершвина, я думаю – ну, привет, 1993 год.
Конечно, меня в 1990-е тут, в общем, не было. Про 1990-е нужно говорить с композитором Сысоевым, который тогда играл на клавишах в группе «Михей и Джуманджи». Он рассказывал, как катался с бандитами по Донецку с саксофонистом, торчащим из люка шестисотого «мерседеса».
И я, честно говоря, очень волнуюсь сейчас за молодых композиторов. Потому что какие у них реальные варианты? Уехать за границу или уйти в подпольные ниши. Или заняться прикладной музыкой. Слушать, как кинорежиссеры просят «напиши мне нотку отчаяния», а режиссеры театра – напиши «пьяный угар». У меня все это вызывает печаль – вне зависимости от того, получилась у них нотка отчаяния или нет.
Мы не должны всем этим заниматься. Нельзя тратить жизнь на адаптацию к херне. Я очень надеюсь, что несколько композиторов, которых я очень люблю, смогут реализоваться в мировом контексте, чтобы не стать жертвой того искажения восприятия действительности, которое сейчас в России происходит. Потому что чем дольше художник живет в России, тем больше он верит в свою значимость, а это очень вредно.
– У вас есть амбиция писать узнаваемые сочинения? Так, чтобы было слышно, что это музыка Сергея Невского?
– Так это все равно само происходит. Как бы я ни старался написать что-то другое, все равно получается музыка Сергея Невского. Даже когда я пишу тональную музыку, я всегда с ней себя идентифицирую. Я, скажем, писал музыку к «Марине» Жени Беркович[34], там есть вполне себе песня, которую поют актеры. И я очень люблю эту музыку, как и музыку к «Человеку-подушке»[35] в МХТ. Потом приходишь в театр, слышишь, как актеры в фойе поют твою песню, это довольно приятно.
– А с чем вы себя еще идентифицируете? Как бы вы описали, что такое «ваша» музыка?
– Когда я сочиняю, я всегда представляю то, что представлял себе герой «Театрального романа»: картинки с движущимися фигурами. Ну, скажем, если у меня сочинение для шести музыкантов, я представляю себе шесть человек за столом, как они двигаются, говорят, поют, и из этого возникает музыкальная ткань. Потом у меня есть интерес к мелосу, к музыкальным логическим линиям.
– Вы не то что избегаете мелодий?
– Я их по-своему чувствую. Ну где-то деконструирую, двигаю, так что возникают разные дырки, наложения, аппликации. Еще мне очень нравится переносить элементы из одного контекста в другой. Вот сейчас я сделал вещь, где звучит песня под гитару, которую в русском контексте вполне можно назвать каэспэшной, а потом оказывается, что это такой странный фон для бас-кларнета. То есть у голосов свой ритм, у бас-кларнета свой – и возникает полифония разных пластов: на протяжении всей композиции разворачиваются несколько событий на разных скоростях. Мне всегда сложно было писать вертикально организованную музыку, в которой есть границы, как у Стравинского: событие – смена размера – событие – смена размера. Мне обязательно нужно горизонтальное наложение.
– То есть вы свою музыку видите как несколько лент, которые движутся с разной скоростью?
– Был такой клип у группы «Браво», где ездили паровозики на разных скоростях. Вот как-то так я себе это представляю. Мне вообще очень важна визуализация. Я всегда представляю себе движения музыкантов. Их жесты – это же скорость движения музыки. Если музыкант суетится, это эстетически неприятно. То есть надо сочинять такую музыку, в которой движения расходуются экономно – как в цигуне. У меня даже готовится один проект с одним крутым танцором, которого я прошу заняться хореографией с известным европейским ансамблем, для того чтобы вся музыка вытекала только из их движений, и при этом все музыканты были бы независимы. Надеюсь, в 2020 году это осуществится. И мне важна идея плавности, постепенного развертывания. Мне все время говорят: «Сережа, у тебя в музыке есть такие прорастания…»
– Представьте, что вам надо дать совет беспринципному молодому композитору, которому все равно, что сочинять, лишь бы получить заказы. Что ему надо делать, чтобы вписаться в рынок?
– Ну вот кто у нас сочинил оперу-митинг «Крым»? В Питере не так давно была премьера. Что-то такое, наверное.[36]
Вообще, большинство молодых композиторов, которых я знаю, совершенно не циничны. И, к счастью, не беспринципны. И даже Илья Демуцкий, который пишет с равным увлечением и кантату на тексты Марии Алехиной, и оперу про педофилов, и одновременно – музыку к фильмам про Олимпиаду и про Валентина Распутина, тоже, думаю, совершенно искренне это делает. Композиторство – это такое дело, что рационально тут ничего выгадать невозможно. Даже если специально поставить себе задачу вписаться в модный тренд, думая, что тут-то и попрет, ничего не получится. Я помню, как встретил в 2003 году Владимира Григорьевича Тарнопольского, который сказал, что сейчас пишет для знаменитейшего французского ансамбля Intercontemporain и что «для французов надо писать быстро и виртуозно, одни шестнадцатые». Я понятия не имею, помогло ли ему это тайное знание стать известным во Франции, если я не ошибаюсь, в результате у него просто получилась музыка, очень похожая на музыку его любимого композитора Беата Фуррера. А Фуррер, в свою очередь, рассказывал мне, что не понимает, как Шаррино удается так много и так качественно писать, для него это была магия. У всех есть свои фантомы и ориентиры, мы все несвободны от наших виртуальных отцовских фигур, да и от влиятельных ровесников тоже. Фуррер, кстати, недавно сочинил совершенно удивительную музыку на текст Лукреция – очень лаконичную, просто песенную вещь для хора и двух фортепиано с ударными. Буквально двумя-тремя жестами добился каких-то совершенно сногсшибательных вещей. Филановский, который был на том же концерте, по ее поводу заметил, что надо быть Фуррером, чтобы позволить себе так просто писать.
Любопытно, кстати, что в России начала появляться тенденция, совпадающая с позицией немецких неоконцептуалистов: мол, мейнстрим современной музыки – это ужасно и плохо, давайте писать музыку о музыке. Делать все «медленно и неправильно», как пишет [композитор] Настя Хрущева, цитируя Венедикта Ерофеева. То есть я пишу херовую музыку, которая херово сделана и благодаря этому преодолеваю инерцию контекста. У Леши Шмурака есть замечательные вещи, где вроде бы традиционный материал монтируется в очень странные причудливые картинки. Эта история пока не так проявлена, как импровизационная сцена, но она уже сейчас заметна – у того же Шмурака и Хрущевой, у Леонида Именных, Антона Светличного и других ребят. Это, если кратко, протест против техничной, хорошо сделанной музыки. Это история про деконструкцию привычного и часто – про освобождение через взаимодействие с элементами поп-культуры. Не могу сказать, что я разделяю эту риторику, в России она мне кажется не очень уместной. Но сам этот вектор мысли мне очень понятен.
Другое дело, что никакого мейнстрима современной музыки, никаких «фестивальных композиторов» и никакого «заговора институций» в действительности не существует. Но это уже другой, отдельный разговор.
* * *
– В 2018 году наш разговор приобретает совсем мрачный оттенок. Деятельность «Платформы» стала основанием для уголовного дела, Кирилл Серебренников и его соратники арестованы. Теоретически как один из кураторов «Платформы» вы тоже могли оказаться в их числе, я помню, как вы сдавали авиабилеты Берлин – Москва в разгар арестов. При этом прошедший год оказался довольно удачным для современной музыки в России, было множество отличных премьер, а под Новый год довольно радикальную «Снегурочку» Маноцкова и проект «Электротеатра» «Галилео» с вашей в том числе музыкой показывали на Тверской гуляющим москвичам. Ощущения от всего этого совершенно сюрреалистические.
– Возможно, вы удивитесь, но мой взгляд на вещи сегодня более оптимистичен, чем два года назад. Именно прошедшие два года показали, что культуру так просто не угробить, как бы силы тьмы ни пытались это сделать. Несмотря на все чудовищные вещи, которые происходят с его худруком и бывшим директором, «Гоголь-Центр» продолжает выпускать премьеры. «Золотая маска», на которую два года назад был совершен беспрецедентный наезд, оправилась и работает еще более успешно, чем раньше, никакого «поправения» ее программы не происходит, напротив. Собственно, тот праздник на Тверской, который вы описываете, выглядел именно так, потому что его делали люди, которые работали на «Платформе», в «Опергруппе» и на фестивале «Территория». Вероятно, это означает, что работа, начатая Кириллом и его союзниками, принесла свои плоды. В прошлом году мне два раза пришлось работать в Перми, с оркестром Теодора Курентзиса и в «Театре-Театр» у Бориса Мильграма. Оба эти опыта оставили совершенно эйфорическое, невероятное ощущение, и тоже понятно, что без культурной революции, которая началась там десять лет назад, они вряд ли были бы возможны – изменились и публика, и культурная среда.
– То есть «маргинализации современного композитора» все-таки не произошло?
– Мне сложно выступать от имени всех композиторов. Думаю, что ситуация для молодых авторов по-прежнему сложна – оплачиваемых заказов и грантов в России как не было, так и нет. Это вызывает мое беспокойство, потому что я вижу очень много талантливых людей и боюсь, что нынешняя ситуация рано или поздно их сломает, как сломала многих моих ровесников в 1990-е. С другой стороны, если бы я, Курляндский, Раннев или Сысоев с Маноцковым вдруг начали жаловаться на жизнь, вы бы вряд ли нам поверили?
Два года назад, когда мы беседовали в последний раз, я значительно больше взаимодействовал с Россией и российскими проектами. Сейчас их значительно меньше, но при этом они куда более интересны. И более связаны с основной моей работой – сочинением музыки. Хотя и кураторский проект, который мне предложили сделать Московская архитектурная школа и сайт InLiberty, посвященный семи ключевым датам освобождения российского общества, – очень и очень интересный опыт. Мы сделали интерактивную баррикаду, памятник победе над путчем 1991 года, которая реагировала на прикосновения и запускала разные шумы той эпохи. Студенты были очень разные, от ивент-менеджеров «Симачева» до активистов «Мемориала». И нам удалось собрать потрясающую команду и выдать довольно убедительный результат.
Но что будет дальше – мне сложно сказать. Я не могу дать никаких прогнозов, потому что я не вижу в России единой сцены и не чувствую себя ее частью. 90 процентов всех моих проектов на следующие три года – в Центральной Европе. Я больше не занимаюсь кураторством, исключая один небольшой фестиваль, который мы делаем с Берлинской академией искусств, но это единичный проект. Все мои русские заказы – точечные, но, как я уже сказал, – очень и очень важные для моей биографии. Это касается, например, сотрудничества с режиссером Маратом Гацаловым, в котором я открыл очень близкого и ценного для себя художника. Есть и пара других замыслов, довольно неожиданных. Но какие-либо общие прогнозы я делать не могу.
Если вкратце, мне сложно и радостно привыкать к тишине вокруг и отсутствию панических атак внутри. Понимаете, в 1990-е я уехал в Германию и начал там обосновываться как композитор. Когда двенадцать лет назад меня мои друзья через исполнения и интернет-дебаты стали втягивать обратно в русский контекст, за что я им до сих пор благодарен, это сопровождалось огромным полемическим шлейфом. Он вводил в массовый обиход какое-то представление о современной музыке, которое в России не было принято. И в общем, затягивал, казался неотъемлемой частью работы. Потом, семь лет назад, когда Кирилл Серебренников предложил мне стать куратором, возникла попытка сформировать некую новую среду, связанную с новой музыкой. Создать нового слушателя, привезти в Россию в массовом порядке много хорошей музыки и как-то внедрить тут обычный западный контекст, который мои русские коллеги так любят проклинать.
Я думаю, результат всего этого очевиден – тот высокий уровень современной музыки, который сейчас в России де-факто есть. И когда толпы (относительные, но все-таки) отправляются слушать, например, многочасовое сочинение Сысоева, когда опера Раннева или пьеса Широкова становятся важным событием в московской жизни, наверное, в этом есть и следы наших интервенций, наших кураторских усилий и полемики, которую мы замутили двенадцать лет назад. Но сейчас я смотрю на это немного со стороны. Как, кстати, и на немецкую жизнь – я в ней формально укоренен, но за время своего русского вояжа растерял огромное количество связей. Не профессиональных, с ними все неплохо, а дискурсивных. Мне, если честно, не очень интересны актуальные немецкие музыкальные дебаты, хотя я прилежно все читаю, а иногда и участвую, напрягая весь свой слабый интеллект. Немцы любят порассуждать про дигитализацию, про разложение (auflösung) понятия музыки, мне все это не очень близко.
Ужас в том, что российские дебаты мне еще сложнее понимать. Эти вечные проклятия зловещему «фестивальному мейнстриму», о котором говорящие имеют очень приблизительное представление… Сейчас мне все меньше хочется участвовать в дебатах и вообще заниматься чем-то кроме музыки, хотя меня регулярно просят писать какие-то тексты, и я иногда все еще читаю доклады или лекции. Самый кошмар был пару лет назад. Тогда современное искусство в России уже прижали, работы не было, а лекции и дискуссии с композиторами были в страшной моде, и вот мы ездили с одного трындежа на другой, зарабатывая свои пять тысяч рублей болтовней о том, как понять современную музыку за двадцать минут. Это казалось нескончаемым ужасом, все эти воркшопы, лаборатории, семинары. Слава богу, мода прошла, а у меня теперь снова есть заказы и я могу существовать только за счет сочинения музыки.
Это требует большой дисциплины. Я встаю утром, бегаю в парке. Отвечаю на кучу писем по работе, где-то до полудня, и пишу до десяти вечера. Когда у меня большой заказ, я практически не хожу на концерты и не встречаюсь с друзьями. Мой промоутер из издательства говорит, что самая большая сложность для композитора – выходить на люди и продолжать общаться, когда у тебя полно работы, поэтому карьеры большинства композиторов зигзагообразны. Он абсолютно прав. Тем не менее, именно этот модус делает меня абсолютно счастливым. Это как в детстве, в школе. Когда каникулы или когда ты болен. Утро, за окном снежок, все на работе, а ты нет. Я только недавно сообразил, какое это счастье. Что я живу так, как хотел жить в детстве. И, кажется, я всю жизнь шел к тому модусу существования, который у меня есть сейчас.
Тигран Мансурян
Родился в 1939 году в Бейруте. В 1947-м вместе с семьей переехал в советскую Армению, в город Артик, в 1956 году обосновался в Ереване. Закончил Ереванскую консерваторию по классу композиции, в 1967–1986 годах преподавал в ней (с 1986-го – профессор), в 1992–1995 годах был ее ректором.
Ранние сочинения Мансуряна отдают дань наследию Нововенской школы; он становится одним из немногочисленных советских авангардистов, сближается с Пяртом, Сильвестровым, Шнитке, Денисовым. Со временем Мансурян обнаруживает, что ему равно интересны и достижения послевоенного авангарда, и армянская музыкальная традиция, и пытается объединить два этих мира в своих сочинениях: его музыка – редкий пример сочетания современных техник письма с опорой на национальные корни. Среди важных работ – оркестровые «Прелюдии» (1975) и «Ночная музыка» (1980), Двойной концерт для скрипки и виолончели с оркестром (1978), «Tovem» для 15 инструменталистов (1979), обработки сочинений Комитаса. Много пишет для кино – он автор более ста саундтреков, в том числе музыки к «Цвету граната» Сергея Параджанова. Важное место в его творчестве занимают камерная музыка и вокальные сочинения. Его музыку исполняли Ким Кашкашьян, Ян Гарбарек, The Hilliard Ensemble, Патрисия Копачинская, новые сочинения выходят на лейбле ECM Records.
Беседа состоялась в Ереване в 2014 году.
© Reproduction with the kind permission of Musikverlag M.P. Belaieff, Mainz. “Three Taghs” are published at M.P. Belaieff in: Works for viola and percussion “Lied und Gebilde”, BEL 677
Фрагмент партитуры «Three taghs» (1998). Таг – это одноголосное песнопение, популярный жанр в богослужебной традиции средневековой Армении. Три авторских тага, коротких пьес для альта и ударных, композитор посвятил распятию, погребению и воскрешению Христа.
– У вас совершенно нетипичная для советского композитора биография – вы родились в Бейруте, переехали в СССР уже в довольно сознательном возрасте… Вы тот переезд как вспоминаете?
– Как катастрофу. Полную. Ну представьте, Бейрут в то время – яркий, живой портовый город, я учусь в католической французской школе с довольно утонченной атмосферой, мне почти девять лет – и вдруг оказываюсь в крохотном армянском селе. В жутких условиях. Для меня это была ломка всех жизненных скреп. Впрочем, многих реэмигрантов просто сослали в Сибирь, нам в этом смысле еще повезло.
– А почему ваши родители решили вернуться в Союз?
– Простая причина – патриотизм. Родители рвались на родину, в Армению. Ну и отец был коммунистом, очень верил в идеологию. Он был фотографом, одно время держал в Ливане ресторан, мама – домохозяйка. Оба из детдома, прошли через геноцид. Жуткая, в общем, история – как и вообще история любой армянской семьи, живущей за рубежом. Они ведь почти все так или иначе связаны с этим событием. В общем, мы оказались в селе, потом переехали в райцентр, мама устроилась работать в пекарне, и это обеспечило нас хлебом. Там занимались добычей туфа, это город каменных рудников, и сами люди там были очень жесткие, как будто каменные. Но лишь внешне – по натуре они оказались невероятно добрыми. Хотя это было сразу после войны, голод и все такое. Тогда вообще было много доброты, с нынешним агрессивным временем не сравнить. Нас всех объединяло то, что мы советские. Это кое-что значило.
Между прочим, тогда же, в 1947 году, в СССР с родителями вернулся Андрей Волконский. Мы потом сильно сдружились, в том числе и на этой почве[37] – потому что очень хорошо друг друга понимали. Я часто бывал у него в Экс-ан-Провансе, он – у меня в Армении. Конечно, у него была своя история. Он ведь бросил консерваторию на четвертом курсе, а потом, когда Хрущев ругал левых художников, вообще сбежал из Москвы, чтобы спастись от гонений. Никому так не было страшно, как ему. Его приютили грузины, вы знаете? Он спасся в каком-то селе, вдали от всех. Его там берегли.
– А как вы вообще заинтересовались музыкой?
– Я однажды увидел в рабочем клубе трофейное пианино. И не мог от него оторваться. Начал играть, фантазировать. Захотел научиться, но как? Рядом не было никого, кого можно было бы спросить. Музыкальной школы в городке не было. В общем, я самоучка. Сам выучил ноты, сольфеджио – все сам. Помню, у меня появился карманный «Музыкальный словарь». Я все время таскал его с собой, доставал, читал, пока он просто не рассыпался. Пришлось купить еще один, и он тоже рассыпался. И еще один. С четвертым я уже поступил в музучилище. А недавно увидел у своего друга такую же книгу и выпросил – так что у меня сейчас пятый экземпляр.
Самому выучить ноты – неимоверно трудно. Высота звука – это еще ничего, а вот с ритмом я никак не мог разобраться. Оказывается, это самое главное – выяснить для себя вопрос ритма. Когда я это понял, у меня пошло. В общем, музыка для меня всегда, с самого начала была глубоко личным делом. Я никого близко не подпускал, вел свое личное хозяйство – понимал, что у меня есть, чего не хватает. В музучилище я считал позорным нравиться старшим. Если я пишу музыку, которая им нравится, то я пишу их музыку. В этом нет перспективы. Я понимал, что моя музыка – она еще впереди. А сейчас мне нужен хаос – побольше слушать, побольше собрать. И много читать. В общем, вести свое хозяйство – не знаю откуда это во мне, но я так чувствовал.
– То есть ничье мнение, и в особенности мнение педагогов, вам важно не было? А как вы понимали, получается у вас что-то или нет?
– Критерий один – удовольствие. Мне важно было получить удовольствие. Но у меня не было пренебрежения к педагогам, ничего такого – я их очень уважал, особенно своего педагога по композиции.
– Но как вы увлеклись новой музыкой – и где вы ее брали в Ереване?
– Возможно, дело было именно в том, что я родился не здесь. Я знал правду, другую правду, и она мне не давала покоя.
Когда я закончил консерваторию, я уже понимал, что музыка, которая легко пишется – а студенческие работы мне и правда легко давались, – это путь в никуда. При этом я уже знал, что существует другая музыка, не та, которая приветствовалась в консерватории. Тогда, в 1960-е, начали появляться отдельные примеры – выпустили Третий фортепианный концерт Бартока, например. И «Весну священную». Надо сказать, я ко всему относился с подозрением. Если власти разрешили выпустить эту пластинку с Бартоком, может быть, с ней что-то не то? Я был начеку. Притом что я недавно переслушивал этот концерт в Лос-Анджелесе – это поразительно красивая вещь. С «Весной» у меня тоже контакт состоялся не сразу – я заставил себя прослушать ее еще и еще, пока она не стала по-настоящему моей.
Вообще, ни одно крупное сочинение я не принимал сразу. Мне и сегодня кажется, что лучший контакт с музыкой – через сопротивление. Когда ты находишься между «знаю» и «не знаю». Это и есть область творчества. Если ты что-то знаешь, это уже позади тебя. А впереди – то, что не знаешь, но надо понять. И надо пробовать – снова и снова. Пока все это не станет твоим.
В начале 1960-х появились первые музыковедческие статьи, которые ругали современных зарубежных композиторов. Для нас это было такой советской формой подсказки – вот на что надо обратить внимание! Конечно, тут, в Армении не было ни записей, ни нот новой музыки. А, например, в центральной республиканской библиотеке Эстонии много чего было, и я туда ездил специально. Тогда и познакомился с Арво Пяртом. Ксероксов еще не существовало, приходилось за бешеные деньги фотографировать партитуры. Эстонцы очень добротно все переплетали, у меня эти ноты до сих пор хранятся.
Партитуры добывались самыми разными путями. Скажем, как-то раз я узнал, что в Ереван приехал богатый армянин, который подарил консерватории рояль. Я немедленно написал список нот, которые мне были нужны, побежал, подкараулил его, вручил этот список – и получил потом кипу нужных партитур.
Много лет спустя меня перед концертом в Бостоне спросили – чем отличаемся мы, композиторы с советским прошлым, от, скажем, молодых американских композиторов. Так вот – они могут щелкнуть пальцами, и у них будут любые ноты любого сочинения, даже совсем свежие. А для нас каждая партитура была большим событием. Мы собирались с друзьями (у нас в Ереване был маленький кружок единомышленников), переписывали, анализировали, снова возвращались к ним – в общем, долго над ними зависали. Это, вообще говоря, хороший опыт.
– Какие имена были тогда для вас важны?
– Ну, тогда всем была важна Нововенская школа. Ноно, Булез, Штокхаузен, Берио. Мы плотно сидели на Булезе. Я начинал с серийной техники, моя соната для фортепиано, которую я написал в 1967 году, будучи аспирантом Ереванской консерватории, – это чистой воды булезовский пианизм. Я по сей день подозрительно отношусь к композиторам, которые миновали слуховой опыт поствеберновской музыки. Мне кажется, это обязательная вещь – неважно, что вы пишете. Хотя про новое поколение я уже совсем ничего не знаю – кто во что верит, не берусь судить.
Нас – людей, которые интересуются новой музыкой, – в Союзе тогда было немного, мы все друг друга знали, держались вместе. С Валей Сильвестровым я познакомился еще в 1961-м, когда студентом ездил в Киев. Мы подружились, много вместе слушали.
В Эстонии – с Пяртом, потом с Волконским, Шнитке, Денисовым. Конечно, у меня с самого начала была очень четкая национальная ориентация. Я сильно связан со своими корнями. Но при этом – не знаю, как сформулировать, – я никогда тут, в сущности, не жил. То есть жил, конечно… Но считайте, что меня тут не было. Был – и не был. Это сложно объяснить.
– Вы занимались музыкой, которую советская власть если и не запрещала, то, в общем, не одобряла. В республиках, на периферии с этим было, наверное, совсем сложно?
– Знаете, совсем наоборот. У нас зачастую разрешалось то, что запрещалось в Москве, Петербурге и Киеве. Здесь не очень-то затягивали гайки, не было идеологического прессинга – потому что рядом Турция, граница, работают натовские радиостанции. Этому надо было что-то противопоставить. То же самое было в Прибалтике. Но от этого было еще хуже. Потому что к нам никто никогда не заглядывал. В Москву, в Ленинград еще могли приезжать крупные музыканты, деятели новой музыки. Стравинский, Ноно и так далее. И издатели тоже интересовались тем, что происходит в столицах, – а тем, что происходило в республиках, они не интересовались совсем.
– Издатели – это типа «Советского композитора»?
– Нет, это типа Universal Edition. Сколько они издали партитур, скажем, Эдисона Денисова? Мы же были очень близки, я все это наблюдал.[38]
– В 1970-е многие композиторы вашего круга ушли в «новую простоту» – в 1977-м практически одновременно появились «Тихие песни» Сильвестрова, «Страстные песни» Мартынова и «Tabula Rasa» Пярта. Что тогда произошло?
– Одно время мы все держались в поствеберновском русле. Первым свернул Альфред [Шнитке]. Потом Пярт и Сильвестров. Для меня это было мучительно сложное время. Понимаете, на нас в какой-то момент обрушилось просто море всего – алеаторика, графические партитуры, звуки, находящиеся за пределами всех общепринятых норм… Нас многим тогда заразили поляки – и книги, и ноты, и записи шли через Польшу. Прихожу я на концерт польского музыканта – рояль открыт, пианист играет палками от литавр по струнам, на лице у него сетчатая маска фехтовальщика… Как к этому относиться?
И вот представьте мою ситуацию. С одной стороны – лавина новой европейской музыки, в которой как-то надо разобраться, найти в ней себя. А с другой – 1500 лет армянской духовной музыки, которую я невероятно люблю. В музыкальной жизни она тогда совсем не присутствовала. В те времена армянская интеллигенция, помню, вела ожесточенные споры – почему мессу Комитаса исполняют только в церкви, почему нельзя в концертном зале[39] – Баха можно, а Комитаса нет? Тут надо понимать, что по всему миру армян делает армянами школа и церковь. Любой армянин, живущий за рубежом, знает наизусть мессу, духовные песнопения. А советские армяне и теперь уже постсоветские – нет. Наши музыканты приезжают на гастроли, приходят в церковь – все поют, а они молчат, не знают ни слов, ни музыки. Стамбульский сапожник знает, а они нет.
Как мне было найти себя? Валя Сильвестров сразу ушел в сторону, а я годами нащупывал свой путь. Я основательный человек, я же собирал свое хозяйство на той, поствеберновской эстетике. Мне было невероятно сложно от всего этого отказаться.
– А что такое, по-вашему, национальность в музыке? Национальная школа – это ведь изобретение сравнительно недавнее, фактически – XIX века. Вот вы, безусловно, армянский композитор – но что это значит?
– Это значит, что я верен своей генетической памяти. Язык – это ведь явление не только смысловое, но и музыкальное, со своим звуковым арсеналом. Есть такой французский поэт, Фредерик Мистраль. Он в молодости занимался возрождением окситанского языка, поэмы на нем писал. Потом получил Нобелевку. А лет в восемьдесят ему решили на юге Франции поставить памятник. Собралась огромная толпа, выходит он сам прочитать свои старые стихи. Начинает – и останавливается. Ну, старик, забыл слова. И в этой тишине вся площадь встает перед ним на колени. Неважно, что ты скажешь, важно, что ты не дал умереть языку. Мне этот образ очень понятен.
Знаете, когда Волконский вместе с Денисовым послушали мою «булезовскую» сонату 1967 года, они, как ни странно, услышали в ней что-то армянское. Видимо, как-то просвечивает. Как связываются звуки, по каким закономерностям. Это не зависит от техники, это логика мышления композитора.
У меня другой правды нет. Сейчас много музыки, которая сочиняется по законам невесомости. Может быть, это очень передовая музыка. Но мне она неинтересна. Я не хочу висеть в воздухе, моя музыка твердо стоит на земле.
Современная западная музыка все время оглядывается на Восток. Здесь есть вещи, которым она все время пытается придать рациональную природу. Алеаторика – это попытка освоить восточную импровизационную музыку, четвертьтона нужны, чтобы записать нетемперированный строй. А в Армении, с одной стороны, в эллинистическую эпоху ставились греческие пьесы, тут был греческий театр, архитектура – вы же видели Гарни? С другой стороны[40] – рядом Персия, Турция. А я живу посередине, между Востоком и Западом! Это уникальная для композитора позиция.
Я как-то на встрече в Германии приводил такой образ. Представьте село, в селе дорога. Слева забор и справа забор. Забор слева – крепкая цементированная стена. А справа просто навалены камни, чтобы коровы не забрели в огород. И эти камни не закреплены, они свободны друг по отношению к другу. Вот забор слева, в моем представлении, это западная музыка. Любая нота имеет свое объяснение, подо все подведена теория. А восточная музыка – это свобода. Сегодня этот камень там, а завтра тут, и нижние могут оказаться наверху – но забор все равно остается забором. На этом языке можно излагать мысли удивительной сложности, это очень открытая система, любой звук, если останавливаешься на нем чуть дольше, становится центром. А я еду по дороге между заборами. Мне и тот язык важен, и этот.
– То есть получается, вы в какой-то момент обнаружили в армянской музыке то же самое, что и в музыке Веберна и Булеза?
– Да, да! Совершенно верно. В партитурах Комитаса – обработках народных песен, например, – таится невероятное богатство… Там нет ничего лишнего, мало нот, очень скупая композиторская техника, ее словно бы вовсе нет. Но я внезапно увидел, что между ним и Веберном очень много общего – та же разреженность звуков, где каждый звук окружен удивительной тишиной и несет столько информации…
Вообще, я в какой-то момент понял, что все вокруг для меня делится на хроматику и диатонику и мне надо четко понять, где мое место. Даже не в смысле звука, а вообще[41] – психологии, мировоззрения. Я не хроматист, а диатонист, конечно.
– Давайте поясним читателям, что это вообще значит.
– Ну вот представьте здание, где очень много деталей, и все они важны. Такие маленькие… отточенности. Это хроматика. А диатоника – это китайская пагода, которая состоит из трех-четырех штрихов. Раз, раз и все, никаких деталей там нет. Например, немецкий экспрессионизм – это хроматика, а весь Матисс – это сплошной диатонизм. Я очень люблю Матисса! Это тот Восток, который мне близок. Есть известная история, как заболел его друг Марке, с которым они вместе рисовали, и Матисс, узнав об этом, принес свои полотна со словами «Сейчас я их тут повешу, и ты выздоровеешь». Но это я не к тому, конечно, что диатоника – это здоровье, а хроматика – болезнь.
– А для вас важно, чтобы ваша музыка опознавалась как армянская? Понятно, что для обычного слушателя армянская музыка ассоциируется прежде всего с грустными мелодиями, сыгранными на дудуке.
– Нет, мне неважно. Вообще-то далеко не все в мире знают, что такое Армения и кто такие армяне.
– А сами армяне вашу музыку считают своей?
– Мне приятно, когда есть контакт. Если нет – ну что поделаешь. Не всегда есть. Главное, чтобы твоя внутренняя система была четкой и чтобы у нее были корни. Это всегда слышно. Для меня Булез – все равно француз, Берио – итальянец, хотя оба вроде бы писали серийную музыку. Но я все равно слышу итальянское в Берио.
Я понимаю, о чем вы спрашиваете. Вот Гийом Дюфаи – он кто, француз? Фламандец? Как это услышать? Важна ли вообще национальность для той же средневековой европейской музыки? Вроде как католическая музыка – это что-то наднациональное, она так выстроена. Но вы послушайте, как поет одни и те же слова мессы сицилиец и мексиканец. Все равно все слышно – и природу, и темперамент. Национальное начало, короче говоря.
Я не социолог, не очень знаю, когда именно образовались нации и что с ними сейчас происходит. Но я знаю, что должен говорить правду, а моя правда – она в моих корнях. У меня другой правды нет. Я же вижу за окном Арарат, а не Фудзияму. А когда ты пытаешься говорить правду, ты же молишься. Музыка – это молитва, ну, я так ее понимаю. В общем, меня этот вопрос не так уж сильно беспокоит. Я верю в человеческий контакт и в то, что любой человек меня поймет, какой бы национальности он ни был.
– В какой-то момент музыка XX века стала такой сложной, что для ее постижения нужен какой-то специальный слуховой опыт, который не у всякого слушателя есть – многим так кажется, по крайней мере. А вам это кажется важным?
– Сегодня говорить о какой-то одной музыке невозможно. Есть Шостакович и есть Терри Райли, это же совершенно разные миры. Существует музыка с очень сложными звуковыми связями. И я уверен, что для того, чтобы соприкасаться с возвышенным, надо воспитать в себе это умение – это всего касается, и музыки, и живописи. Да и за пределами искусства то же самое. Но есть же люди, которые в музыке вообще не нуждаются – или не нуждаются в той музыке, которая дает им возможность соприкасаться с глубокими вопросами внутреннего я. Они хотят слушать музыку во время еды и во время танца – да и почему нет? Много разной музыки, и людей много разных – нет в этом проблемы.
Я знаю очень много хорошей музыки, но претенциозной, надуманной современной музыки я тоже слышал немало. Духовной фальши сейчас очень много. От того, что повторишь одно и то же сто раз, это правдой не станет. При этом я всеядный слушатель. Я очень доверяю моему внутреннему любознательному любителю музыки. У меня разные были периоды – слушаешь долго одного композитора и все, что с ним связано, а потом сдвигаешься в сторону и слушаешь что-то совсем другое. Я, например, всегда был привязан к Шостаковичу. И еще к Дебюсси, я просто нуждался в нем. Может быть, это мое детство сыграло роль – Средиземноморье, то, что в детстве я пел молитвы на французском. А может быть, то, что у Дебюсси такой свободный звук, вне всяких рамок. Тактовая черта там ведь мало что решает, он эти вещи часто нарушает, это все условности. Я вообще рано понял, что любой формы нотной записи надо остерегаться. Она как смирительная рубашка для музыки. Народ никогда не поет по нотам, темперированно, нигде такого нет. Темперированно поет школьник, который учился в музыкальной школе.
Вот сейчас в Южной Корее исполняли мой реквием. У меня там сплав двух начал – латинский текст и армянская монодическая музыка. Эта музыка основана на особом ладе, и если у тебя нет ладового мышления, ты будешь петь фальшиво. Ноты вроде бы те же, но сквозь них все равно проскальзывает твое неумение. В 1960-е я много писал разной музыки и обнаружил, что если певец пел в армянской церкви – он меня понимал, а если нет – он пел фальшиво. Просто не знал этой логики.
Комитас собирал народные песни и записывал хазами, это армянская система записи, очень древняя. Так, во-первых, гораздо быстрей, чем нотами, а во-вторых, гораздо точнее получается. Он записал одну мелодию X века европейскими нотами, а позже, в Париже в 1910 году, ее спел, и эта аудиозапись сохранилась. Так вот, если вы сравните нотную запись и то, что он поет, вы обнаружите, что это вовсе не одно и то же. Один и тот же человек, одна и та же мелодия! Но видно, что запись нотами – это как перевод на другой язык, с искажениями.
У армян есть таги, это старинные духовные песнопения. Я написал три тага для альта и ударных – «Крещение», «Погребение» и «Воскрешение» – и в одном из них обратился к той же мелодии X века, что и Комитас. Для того чтобы Ким Кашкашьян и Робин Шулковски смогли ее правильно исполнить, мне пришлось прибегнуть к четвертьтоновой записи. Просто эта музыка в прокрустово ложе европейской нотной записи не влезает.
– А четвертьтоновой оказалось достаточно?
– Честно говоря, запись музыки – любая запись – ее кастрирует. Важна ведь не только мелодия, но и то, что ее окружает. Музыка живет в природе: ветер дует, дерево колышется. Вокруг масса тонких движений, они подсказывают композитору ритм, и если я музицирую – я живу этим. Скажем, я, когда записывал ту же старинную мелодию, то хотел в записи восстановить воздух, который окружал Нарекаци, это такой наш поэт X века. Он служил в монастыре близ озера Ван. Вот есть мелодия, а я хотел при помощи ударных вокруг нее сотрясти воздух. И чтобы они со скрипкой контактировали, жили вместе. Один слушает другого, другой ждет, потом они вместе… Это особая атмосфера, понимаете? Если выдрать оттуда одну эту одноголосную мелодию и записать нотами – это будет высушенный живой организм. Я учился у Комитаса тому, что такое аккомпанемент – что окружает мелодию, в чем она нуждается, чтобы стала живей. И когда этим занимаешься, особенно четко понимаешь, что любая музыка, которая дошла до нас в записи, в любой форме, – это немного кастрированная музыка.
Я в последние годы много стал думать о композиции – и о псевдокомпозиции. Это самое страшное дело – когда вооружаешься композиторской техникой и даешь ей решать за тебя все вопросы. Тут к нам приезжал хор то ли из Ливана, то ли из Сирии, исполняли хоровое сочинение какого-то арабского композитора. И вот они поют арабские песни, разложенные на четыре голоса… Смешно! Зачем этой песне четырехголосие, чтобы выглядеть культурной, что ли? Это мертвая музыка, она ни там, ни здесь, ни для Европы, ни для восточного человека… Просто мертвые звуки, которые двигаются туда-сюда. В современной музыке, надо сказать, такого тоже полно.
В советское время в академической музыке очень много использовали фольклора, это было модно. Композиторы хвастались – я, мол, использовал в симфонии такую-то мелодию… А зачем же ты, спрашивается, ее используешь? Ты бы лучше любил ту песню, которую используешь!
Слушать вообще надо уметь. Очень важно быть внимательным. Мы однажды сидели у Андрея Волконского дома, слушали пластинку с какой-то народной африканской музыкой. Одна песня мне показалась очень скудной, зачем, говорю, ее было вообще записывать? А ты невнимательно слушал, говорит мне Андрей, послушай еще раз. Слышишь, там на заднем плане сверчок? Этот певец не один поет, а со сверчком – он ему отвечает. Ты слушай сверчка тоже!
– В Советском Союзе был такой особенный извод академической музыки – с национальным колоритом. В каждой республике такое должно было быть: азербайджанские оперы, таджикские симфонические поэмы. Как вы ко всему этому относились?
– Слава Богу, все это прошло. В один прекрасный день все они исчезли, как будто их и не было. Ужас, конечно. Сколько было в них веры, сколько про них писали, как часто исполняли… Кончилось в один миг. Мы с друзьями над ними когда-то посмеивались. Но это все ребячество. Ведь на самом деле у русской музыки богатая традиция изображения Востока. Римский-Корсаков пишет «Шахеразаду», Бородин переосмысливает Среднюю Азию, Иванов, который жил в Тбилиси, инструментует кавказские мелодии и танцы… И таких партитур немало. Все это стало богатой почвой для создания музыкального советского Востока. Но я себе всегда говорил – а где же тут я? Где пятнадцать веков армянской духовной музыки? Да, это звучит «по-восточному», но мои корни точно не здесь.
Знаете, как я чувствовал? Вот есть профессиональные композиторы из Москвы, Питера. Это обеспеченные люди – композиторской техникой, умением, прошлым, орденами. Можно инструментовать «Камаринскую», и она станет основой русского симфонизма, который, в свою очередь, – часть симфонизма европейского. Там рукой подать до Дворжака, а еще чуть-чуть – и Брамс. Это тональная музыка, богатейшая традиция, вот Валя Сильвестров тоже пишет тональную музыку. Эта земля орошена, обработана много раз.
А у меня ничего такого не было! Я не мог взять «Шахеразаду» и думать, что вот она, техника работы с Востоком, которой мне надо следовать. У меня в арсенале было, по большому счету, только то, что придумал Комитас. Но даже и он… Я себе говорил – сколько у Комитаса партитур, сколько он успел? И что ты думаешь, это уже и есть национальная композиторская школа? Даже не надейся! Да, это крепкая основа, но ты должен сам собирать свое композиторское хозяйство заново. Это сложно, но в этом есть и свобода – на меня ничто не довлеет, я свободен от прошлого, свободен от техники. И я раньше думал, что это моя такая уникальная позиция, потому что я оказался между Востоком и Западом. А теперь мне кажется, что это у всех и во все времена было так. Дюфаи, Монтеверди, Вагнер – они совсем разным делом занимались. Это вообще разные профессии! Они всякий раз придумывали их заново. Заново искали смысл своего ремесла. Это, наверное, и значит – быть композитором.
Валентин Сильвестров
Родился в Киеве в 1937 году. Поступил в Киевский инженерно-строительный институт, затем перевелся в консерваторию (класс композиции Бориса Лятошинского). Одним из первых в СССР увлекся новыми композиторскими техниками, в 1960-е вместе со студентами-единомышленниками окажется частью неформального движения, которое позднее получит название «киевского авангарда». Творчество молодого советского авангардиста становится известным и на Западе: его хвалит Теодор Адорно, за исполненную в Дармштадте Симфонию № 3 он получает престижную американскую премию им. Кусевицкого. Ранний, авангардный период творчества закончится в 1973–1974 году, когда Сильвестров перейдет к тому, что сам назовет «слабым стилем» – это тихие, медленные и неожиданно мелодичные сочинения, отсылающие к позднему романтизму (вокальные циклы «Китч-песни», «Тихие песни» и другие). Новая музыка Сильвестрова не находит полного понимания у соратников по советскому авангарду, однако впоследствии окажется вписанной в поворот к «новой простоте», характерный для академической музыки 1970-х годов. Поздний Сильвестров – это прежде всего фортепианные багатели, «ослабленные» задумчивые пьесы в духе Шопена или Шуберта (их количество превышает несколько сотен, многие распространяются в виде самопальных компакт-дисков, которые композитор записывает сам и раздаривает знакомым). Это не означает полного отказа от авангардных практик или крупных симфонических сочинений: Сильвестров – автор восьми симфоний (последняя завершена в 2013 году), масштабного «Реквиема по Ларисе» (1999), посвященного памяти жены, «Мета-вальса» для симфонического оркестра (2002), множества вокальных циклов, хоровых произведений. Со временем Сильвестров разрабатывает философию «мета-музыки» (метафорической музыки), которая не является в полном смысле новой – это обертоны, отзвуки и постскриптумы уже существующего массива классической музыки. Отсюда – множество сочинений с приставкой «пост-»: постлюдии разных лет (1981, 1982, 1984, 2004, 2005 и другие), Постскриптум, соната для скрипки и фортепиано (1990), Постсимфония № 5, задуманная как эпилог всей истории симфонического жанра.
В отличие от более известных коллег-композиторов, Сильвестров никогда не пытается продвигать свои сочинения, не думает об эмиграции, без особенной необходимости старается не покидать родного города. Кроме того, принципиально не пишет на заказ (это касается и музыки Сильвестрова, звучащей в фильмах Киры Муратовой – «Познавая белый свет», «Настройщик», «Чеховские мотивы», «Два в одном»). Тем не менее усилия музыкантов, дирижеров и промоутеров, ценящих его музыку (в частности, влиятельного немецкого лейбла ECM Records), сделали его самым известным и исполняемым украинским композитором. Живет в Киеве.
Беседа состоялась в Берлине в 2015 году.
Фрагмент партитуры фортепианной пьесы «Вестник-1996». Пьеса посвящена жене Валентина Сильвестрова, музыковеду Ларисе Бондаренко, умершей в августе 1996 года; впоследствии автоцитаты из «Вестника» войдут в масштабный «Реквием по Ларисе».
– Мы беседуем с вами в Берлине. Но вы же не очень любите путешествовать?
– Если приглашают, так я еду. А вообще сижу дома, в Киеве. Я не люблю ездить. И в Берлине тоже особенно никуда не хожу. Сижу за фортепиано. Только если пригласят куда.
– То есть вы просто переезжаете от одного пианино к другому.
– Ну да. Берлин – это тот же Киев.
– Вам не любопытно, что происходит за окном?
– Кое-что достается, но специально я не ищу. У меня такая тенденция – просто жить в городе. Попадется что-то – спасибо, нет – нет. Раньше искал, конечно. В юности мы по музеям шастали. Нагружали себя информацией. А сейчас как-то не до этого.
– Скажите, когда вы почувствовали, что вы – композитор? Что вы не просто интересуетесь музыкой и даже сочиняете музыку, а это именно ваше дело, навсегда.
– Это надо издалека начать. После 1945 года у нас показывали трофейные фильмы о композиторах – Бетховене, Моцарте. Там композиторы садились за рояль, и все у них с ходу получалось. Я по глупости или наивности думал, что вот так музыка и пишется. Один фильм на меня произвел сильное впечатление, это был 1951 год. Польский, «Юность Шопена». Социальный такой, Шопен – друг народа, противник аристократии. Типичная брехня того времени. Но музыки было много. И она меня поразила, потому что Бетховена, допустим, я знал, а это было неожиданно. После этого я долго канючил, и родители купили мне пианино. И я как думал? Сейчас я сяду и заиграю свою музыку, как в кино. Дождался, пока все ушли, и начал играть. Смотрю – что-то не получается! Такая была вера, что как в кино показывают, так оно и есть.
«Вестник-1996» исполняется на фортепиано «с абсолютно закрытой крышкой», кроме того, композитор рекомендует играть ее una corda, то есть с левой педалью, приглушающей струны инструмента; все вместе делает звучание пьесы тихим и бестелесным. Партитура полна характерных пометок и пояснений: «туманно», «педаль перехватывается так, чтобы от предыдущего остались отзвуки», «пьеса должна играться легчайшими прикосновениями, очень легкими руками». Термин «вестник» возник из общения Сильвестрова с философом и хранителем архива обэриутов Яковом Друскиным, с которым они сдружились и переписывались в 1960-е. В кругу «чинарей» вестниками называли существ из воображаемого мира, в чем-то похожих на людей, но все же сильно от них отличающихся; общение с ними – такое же необходимое условие для творчества, как вдохновение (см. письмо Якова Друскина Даниилу Хармсу «Как меня покинули вестники»).
Ну а потом начались частные занятия фортепиано, и я стал сочинять музыку, в 1954 году. Кстати, пятьдесят лет спустя я вернулся к этим эскизам, есть у меня такое произведение «Наивная музыка» – это они и есть. В этой музыке есть только то, что я слышал тогда по радио. Ни грамма современной музыки туда не входило. Даже Дебюсси и Равеля, даже Шостаковича. Его я только имя знал. А музыки не слышал. Не говоря уж о западных именах. Чисто исторически мы жили как будто в краю непуганых птиц. Непуганых в том смысле, что современная музыка не напугала. Вокруг звучал XVIII, XIX век. Ну, Глазунов, но это тоже XIX век. Это потом открылись шлюзы: Прокофьев, потом Шостакович. Все мгновенно начало развиваться. И я начал сочинять музыку для себя. У меня была золотая медаль, так что я мог поступать куда угодно. И поступил в строительный институт.
– Почему не в музучилище?
– Так у меня никакой подготовки не было. Я просто по слуху играл – и все. Но теории не знал. Я поступил в вечернюю музыкальную школу. И, помню, когда я им что-то играл, меня комиссия спросила: а вы не сочиняете музыку? Почувствовали, видимо, что я как-то играю не так.
– А что значит «не так»?
– Видимо, не так, как обычно. Помню, я ответил: нет, не сочиняю. Сейчас даже горжусь этим. А когда-то жутко жалел. Но сочинительство музыки было моей тайной. Я не мог просто так сказать: да, сочиняю. Наверное, возраст еще был такой. А потом я играл во дворе в футбол и вдруг узнал, что у одного из дворовых приятелей друг учится в училище. Это меня так потрясло, что я залез на дерево и промедитировал на эту тему целый вечер.
Потом у меня появились друзья из консерватории на почве интереса к Шостаковичу и Прокофьеву. У меня была пластинка Десятой симфонии Шостаковича, в то время о ней много спорили, и я эту пластинку часто крутил. Эти студенты – они были тогда на первом курсе – пригласили меня в консерваторию в студенческий клуб. Я показал какое-то свое сочинение, и произошла удивительная вещь – меня посреди года безо всяких экзаменов перевели с третьего курса строительного института на первый курс консерватории. Мне это до сих пор непонятно. Ведь у меня не было никакой подготовки!
Так что ваш вопрос… Трудно сказать, когда я понял, что я – композитор. Было ощущение, что музыка – это главное дело. Но, поскольку я запоздал, у меня не было никаких возможностей стать пианистом. Так что занятия композицией стали естественным продолжением. Но развивались мы очень быстро. Услышали Прокофьева, Шостаковича, нашего модерниста Лятошинского. Потом по радио поймали Веберна, Стравинского и Берга. Немного, но тогда нам было достаточно крупицы информации. Бывает, что информации много[42] – это такой жир, сало информационное, которым ты обжираешься до онемения. А тогда все было очень эвристично, музыка была крохотными семенами информации.
Сейчас я не могу сказать, что я – композитор. Я с удочкой сижу на берегу и ловлю музыку. Я ее не выдумываю. В слове «композитор» есть техническая составляющая – «делать музыку». А я ее ловлю, как бы прислушиваясь. Она уже есть, а я – ловец, охотник. Не с ружьем, а со слуховым аппаратом. В 1960-е был период именно такого технического композиторства. А сейчас произошла редукция, своеобразный композиторский минимализм. Есть минимализм репетитивный. Есть духовный – это, допустим, Веберн, особенно поздний. Когда мало звуков, пространства. А возможен и композиторский минимализм. Он сейчас очень требуется. Сейчас ему самое место.
Технически-то композиторы очень сильно рванули вперед, могут сделать все что угодно. Вот только музыки не слышно. Силы задействованы мощные, а музыки-то нет, одни названия! А композиторский минимализм – это разоружение. Это опасная идея: вот у тебя было оружие, а ты выходишь безоружным. Но дает тебе немного другие шансы. Так ты просто стреляешь, демонстрируешь, какой ты большой, могучий охотник. Какое у тебя хорошее композиторское оружие. А без него дичь начинает прислушиваться. Понимаете, животное слушает Орфея, а не боится его. Потому что он пришел только с голосом и с арфой, без автомата Калашникова и тромбонов. Голос, арфа, арпеджио, гармония. Все. Орфическое начало – это и есть композиторский минимализм. Начало музыки, а может быть, и ее конец.
– То есть вы сознательно отказываетесь от сложных композиторских приемов?
– Я не то чтобы сознательно отказываюсь… Техническую сторону я не отвергаю, а скорее опускаю. Например, я могу сыграть три пьесы, они от силы звучат минут пять, а я записываю их целый день. И получаются очень тонкие временные деформации. Жесты-то остаются, но они как бы ушли за сцену этого текста. Так что какой тут отказ? Ты выгнал технику в окно, а она вернулась через черный ход. Вот это внимание и чуткость к живому музыкальному моменту были в основе всей поствеберновской музыки. Для меня эти веберновские точечные уколы связаны с мгновением. И сыграть мои нынешние сочинения вроде бы легко, но музыкальный текст получается очень сложным, он будто бы облеплен деформирующими микроэлементами. Сильной модернистской деформации там нет. Совсем чуть-чуть – темповые, динамические, временные сдвиги. Если их выровнять, получится обычное тру-ля-ля. И эти микродеформации заметны, только если текст прозрачный и как бы ослабленный. Тогда они восстанавливают его жизненную силу. А если это будет сложная, запутанная музыка, то ничего не сработает.
Бывает принципиальный отказ от технических приемов, как в музыке Мартынова, например. Там чувствуется, что он вообще все отвергает и переходит на мантрическую систему. А мне кажется, что и сложная музыка должна быть очень простой, то есть восприниматься слухом. Не умственная сложность, а семантическая. Материальной сложности в мире актуальной музыки навалом. А семантической – раз-два и обчелся. Вот играет Баренбойм после симфонии Брамса ноктюрн Шопена. И Брамс гигантский, а ноктюрн маленький, но Баренбойм его так играет, что уравнивает с целой брамсовской симфонией. Именно по качеству семантической сложности. Материально-то они очень разные, куда ноктюрну равняться с симфонией, но на этих весах уравниваются.
Потому что в музыке дело не в величине, а в преображении времени. И две минуты преображенного музыкального времени стоят сорока минут, которые движутся тяжелыми, мало преображенными блоками. А бывает и полтора часа, где время вообще в ступоре. И движется только потому, что на нотной бумаге что-то написано. Конечно, если мы играем по нотам, то все равно время вроде как движется. Но время это не преображенное, а чисто материальное. Сорок минут звучат как сорок минут. А бывает, что сорок минут звучат как пять минут. И наоборот – пять минут как сорок. А вот как сделать так, чтобы звучало минута к минуте, – это совсем особенная история.
Я читал вашу беседу с Мансуряном, где он говорит, что музыка, которая легко пишется, – это путь в никуда. А мне кажется, легкость – это не обязательно плохо. Как и трудность – не обязательно хорошо. Это должно оставаться внутренним делом. Бетховен все время что-то переделывал, но по его музыке это незаметно. А сколько у Пушкина начеркано в черновиках! Но это не входит в текст. А вот когда входит, тогда мы и слушаем не музыку, а сплошную трудность сочинительства. Современная музыка нам все время демонстрирует, как сложно ее было создавать.
– Как вы думаете, можно ли вообще научить сочинять музыку?
– Вот как раз мой плюс, а может и минус, что меня никто не учил. Не было формальной школы. В Москве или Петербурге была, а у нас было какое обучение? Мы приходили в консерваторию на занятия к Лятошинскому, и все было очень демократично. Главное было – сочинить два такта или пять. И показать. Причем мы прежде всего друг другу показывали, это было в первую очередь общение сверстников. А педагог что? Ну, спросит – а что дальше? Или скажет: «Тут бемоль поставь». Не было натаскивания.
Мы были связаны одним ощущением: было как бы само собой ясно, что каждый из нас – композитор, потому что пишет музыку и учится у Бетховена, у Моцарта, у тех, кого любит. А не просто: ты – композитор, потому что ходишь в консерваторию и изучаешь композицию, хотя, может, и не сочинил еще ничего.
Нет, видимо, есть и общие законы. Я-то гармонию начал изучать уже в консерватории. Мои друзья были после музучилища, им было скучно. А для меня существование доминанты и тоники стало событием. Я на слух-то это знал, но не знал, что есть такой закон, понимаете? Но, по сути, я учился, сочиняя. Уроки композиции тебе дает сам музыкальный текст, ты как бы ловишь сигналы: тут нота не та, там фактура неверная. И вроде бы раз – и сам все сочинил, а на деле это текст тебя научил.
Учиться композиции, может, и можно. И нужно. Но у меня опыта такого не было. Я учился сам. У коллег я учился любви к музыке как таковой. Не любви к звукам, потому что есть и такие любители. Я вот считаю, что в музыке очень мало музыки, которая является ее сутью. Бывает, что поэтичность есть, а поэзии нет. То же и тут: музыкальность и музыка – не одно и то же. Музыка – это очень специфическая вещь, и вся моя охота сейчас направлена именно на это. Но я это и раньше ощущал. Не так сознательно, может быть. А всякие вторичные половые признаки музыки – бороды, усы… Это неинтересно. Главное в музыке – неповторимое выражение лица.
– Получается, что, попав в консерваторию, вы за пару лет прошли экспресс-курс музыки XIX и XX веков – начали с Шопена, а закончили послевоенным авангардом.
– Какие-то вещи меня к этому скачку подготовили – Прокофьев, Шостакович… Даже в скрипичном концерте Хачатуряна была какая-то острота. И конечно, важно, что у нас преподавал Лятошинский, потому что ранний Лятошинский – это такой поствагнеровский экспрессионизм, он же даже издавался в венском издательстве. То есть у нас была практически прямая линия к Шенбергу и Бергу.
Но вообще, конечно, все менялось очень быстро. И, кстати, для того времени – а это был период авангарда – было очень важно ощущение, что мы все пришли в такую зону, где еще нет правил, а все старые недействительны. Сейчас они уже есть, а тогда все были равны, что профессор, что подросток. То же самое когда-то было с квантовой физикой, когда ученые начинали как будто с нуля.
– И в области новой музыки вы себя чувствовали именно так.
– Да, я ничего не знаю и действую наугад. В этом была, конечно, определенная подростковая наивность. Нужно было определить законы. Что такое кластеры, как действовать в этой зоне? Я часто повторяю, что пишу музыку не по нотам, а по слуху. Даже в авангарде мне был важен слуховой опыт, а не умственный. Я же помню, как мы составляли схемы, помогающие управлять этим звуковым миром. Нужна была стратегия. Музыка идет вот туда, а потом вот так. Но я даже там пытался действовать по слуху, чтобы было как в старой музыке, которую я любил. А в этой авангардной зоне ничего такого нет, и я пытался, получается, передвинуть свой вкус в этот новый мир. Чтобы я мог полюбить, услышав. И как-то эту пропасть преодолеть.
Я помню, что в своем авангардном периоде я пытался относиться к форме как к мелодии. В авангарде же нет ни тем, ни мелодий, а есть структуры, зоны и так далее. А я пытался этими зонами действовать как мелодиями. Там повышение, тут, допустим, зона каданса. И мне это давало ощущение контакта с авангардным миром – помимо схем. Да, ты не можешь это все сыграть на фортепиано, но как-то можешь управлять этой авангардной упряжкой, какой-то слуховой контакт с этими лошадьми все равно есть.
И потом вдруг такой резкий переход – к моим «Тихим песням», это 1974 год. Мне важно было, чтобы музыка была не комментарием к стихотворению, не просто фактурой. Чтобы проявилась мелодия стиха. У дилетантов часто совпадает мелодия с текстом чисто ритмически[43] – размер 3/4 со стихотворным размером. А мне была нужна мелодическая схваченность с текстом. Но не как у бардов. И понемногу стало ясно, что музыка должна каким-то образом опираться на слово. Не буквально, а… У музыки есть свои слова, понимаете? Музыкальные слова – та-там или татата-рам. Как в поэзии. А в современной музыке эти музыкальные слова исчезли. Музыка свелась к демонстрации звуковых процессов. И это развитие неумолимо, сейчас композиторы вроде Лахенмана уже осваивают мир хруста, шумов, шуршания, то есть вещей, которых за пределами музыки бесконечно много. Только они исполнены на скрипках Страдивари или на фортепиано, такой вот парадокс. Сейчас эта музыка звучит на фестивалях рядом с Брамсом и Шопеном. И что я вдруг обнаруживаю? Что хорошо, неакадемично сыгранный шедевр Брамса актуален не менее какого-нибудь Штокхаузена. А то и более.
Я понял, что словарь музыки для меня действительно важен. В музыке есть слова, которые как бы никому не принадлежат. Нам кажется, что это слова времен Бетховена, а во времена Бетховена думали, что это слова времен Клементи. То же самое и в обычном языке. Мы с вами сейчас говорим на языке Пушкина и Лермонтова. Да, в их время не было слова «компьютер», но основной свод языка изменился не так сильно: ну, что-то по краям вошло – и все. А вот музыкальный язык в XX веке изменился гораздо сильнее. Он менялся и раньше, но не так катастрофически, а за последние сто лет очень сильно рвануло. Если бы мы с вами сейчас говорили на языке Лахенмана, то вы бы меня спросили: «Хсс-фсс-пшшшь», а я бы вам ответил: «Фщщ-хрр».
Причем это обновление сопровождалось претензией отменить все предыдущее. У Шенберга был духовой квинтет, построенный на строгой додекафонии, и он надеялся, что эти мелодии будут петь, как мелодии Чайковского.
– Да, он писал, что в будущем их будут насвистывать домохозяйки.
– Но этого не получилось. Мелодия Чайковского, как бы она нам ни надоела, все равно актуальна. Она – есть. А вот это как ни слушай, как ни люби, а все равно… Этот мир можно любить, но он не способен распространиться за пределы одного человека, который его держит в себе.
Если вернуться к идее музыкального словаря – в его центре оказываются эти самые вечные слова, с которыми я работаю. Причем если в старой музыке они подаются одним образом, то у меня они как будто рождаются заново. В этой подаче и есть что-то от авангардной потенции. Мое утопическое предположение заключается в том, что можно говорить на нормальном музыкальном языке так, чтобы он все равно оставался актуальным. Почему у Пушкина так звучит «Я помню чудное мгновенье»? Потому что все эти слова он словно сочинил заново – и «я», и «помню», и «чудное». Мы к ним привыкли, но когда-то было не так. Можно относиться к словам как к наклейкам, как будто они все в кавычках, и отсюда возникают идеи коллажей и так далее. А можно делать так, чтобы они возникали заново.
Мне кажется, что идею новизны нужно изменить. Временно перестать идти по линии прогресса. Мы уже освоили обертоновый ряд, додекафонию, кластеры, шумы, а дальше уже, как давно сказал Кейдж, просто молчание. По сути, от авангардной музыки останется именно черный квадрат Кейджа. Если к нему относиться не как к анекдоту, то «4'33''» – это прежде всего чуткость к мгновению, к невидимым, неслышимым деформациям. Это дзенская идея: нет никакой высокой истины. Истина есть в самом обычном слове, обычной ситуации, если на них правильно смотреть. А не то что – сидит Кришнамурти в Гималаях… Когда все это подается так монументально, оно как бы нагружает тебя значительностью. А можно посмотреть на пробегающего мимо жука и понять, что истина прямо здесь, а не в Гималаях. Ты находишься в зоне незначительности и вдруг замечаешь, как важное светит через пустяки. В обычной жизни, обычных вещах есть это дзенское знание, хотя и не только в них. Вообще самые значительные истины тривиальны. Любовь, дружба. Быть хорошим, а не плохим. Они потому и стали тривиальными, что значительны.
В музыке эти тривиальные истины снова должны бы возникнуть. Бывает, звучит что-нибудь, и все отмахиваются – а, киномузыка. А послушаешь незаинтересованно – ведь живая вещь, хотя и написана по заказу. А идешь на концерт музыки актуальной – а она мертвая. Все-таки важно это ощущение жизни, а не принадлежность к тусовке, секте или клану. Сектантство важно в самом начале чего-нибудь нового, но к нему вообще-то прилагаются и невзгоды, а когда оно становится вальяжным и хорошо оплачивается… Это уже не то. И вот приходишь, звучит совершенно мертвое сочинение, а публика орет от восторга. Но там не было музыки! Было умение, но поводов орать не было. То есть публика так доверяет, или, возможно, любит конкретного исполнителя, или просто сочинение завершается более-менее убедительно… Но я не о музыке, а о композиторах. Их так много, а музыки так мало. Что с этим делать?
– Как вам кажется, почему додекафония стала самой важной и влиятельной идеей XX века? Она в свое время захватила и вас, и весь ваш круг. Что вас в ней поразило?
– Дело в том, что у додекафонии очень четкие правила. Как у контрапункта. И эти четкие правила в условиях полной анархии, которая началась в XX веке, оказались очень нужны. Это был важный контрудар по всему анархическому. Но со временем мне стало казаться, что по-настоящему она подходит только трем композиторам-нововенцам – Шенбергу, Веберну и Бергу. Ну и, может быть, еще каким-то менее значительным авторам того времени. Потому что все они вышли из поствагнеровской зоны, из позднего Малера и оказались в мире атональности, а додекафония дала им правила, логику, сделала этот мир классическим. Ведь поначалу у Шенберга считалось недостатком то, что у него оставались мотивы – те же, что и у Брамса, у Вагнера, только деформированные. Авангард решил от этого избавиться, чтобы мотивы соответствовали новому атональному миру – они должны были стать настолько деформированными, чтобы уже не узнаваться на слух, стать такой магмой. И тут додекафония, строгая система, положенная на пылающую магму, оказалась кстати. Для слуховой и духовной дисциплины композиторов это было очень важно. И до сих пор важно, думаю.
Но важно и то, к чему эта система прилагалась. Додекафония выстраивает связи, но требует большой ответственности от композитора. Если ее нет, то получается просто бумажная музыка. Которая звучит похоже на Шенберга, но это не то. Именно эта ответственность, интонационная схваченность, связывала музыку Шенберга с Вагнером, Брамсом. Она и у самого Шенберга была не всегда и очень слабо просматривается, например, в его духовом квинтете. А вот в других его сочинениях, тоже додекафонных, была какая-то интонационная свежесть. И получается, что додекафония обслуживает только экспрессивную музыку, она работает, только когда положена на огненность. А когда пылающая основа исчезла, получилось то, что получилось. Просто сердитая, рассерженная музыка. Нет огня, один чистый академизм. К которому додекафония очень склонна, потому что у нее, повторюсь, четкие правила.
– Вы ведь эти правила изучили тоже, можно сказать, экстерном? Ваши друзья-композиторы собирались раз в неделю на квартире ваших родителей, а Леонид Грабовский специально для этих встреч перевел немецкий учебник по додекафонии, по которому вы и занимались.
– Да, мы его самостоятельно прошли. Но я сразу понял, что додекафония работает только для небольших объемов – для меня, по крайней мере. Или если большое сочинение, то составленное из маленьких. А с развернутой формой сложно. Эта проблема есть у больших сочинений Шенберга – и фортепианного концерта, и скрипичного. Есть яркие тематические образования, а развития – нет, не получается, музыка зашивается. Причем если такое происходит в академизме, то и ничего страшного. А Шенберг, когда музыка зашивается, начинает сердиться, приходить в ярость и поджигает ее. Экспрессионизм – это когда нечто, не управляемое слухом, поджигается через экспрессию. Ну и обычно начинается всякое такое – крр, хрр… Нудота. Качественная нудность.
В авангарде было много методов, у каждого свой. У того же Штокхаузена. У Лигети есть техники, связанные с математическими прогрессиями, этому можно обучать. Собственно, и обучают в консерваториях. И наплодили кучу музыки, которую невозможно понять на слух, только на нотной бумаге. У самого Лигети-то на слух еще что-то можно… Но, выходит, тотального метода нет. Додекафония – последний влиятельный метод, поэтому она и была так важна.
Думаю, сейчас тотальным методом может быть опора на словарь всей предыдущей музыки, на фонемы, которые принадлежали Шуману и всем прочим. То есть надо снова оказаться в той ситуации, в которой был Малер или Чайковский. Чайковского же упрекали в слабом сочинительстве, в том, что он что-то взял у Мендельсона. Но в его шедеврах тоже слышно и Мендельсона, и Бизе, он использует их слова, однако это не мешает его речи быть совершенно новой. Я не использую полный словарь музыки, у меня более узкая сосредоточенность, но, может быть, появится какой-нибудь Вагнер или Чайковский, который будет на него опираться.
– То есть на весь лексикон и старой музыки, и авангарда XX века?
– Да, XX век туда должен войти, но так, по окраинам. Допустим, деформации разного вида. Они могут в этом новом словаре заменять то, что в старой музыке было развитием. Как у Шнитке бывает – мелодия, постепенно обрастающая кластерной грязью. Конечно, авангардные фонемы – это неожиданные паузы, остановки. Паузы были и у Гайдна, но служили чем-то вроде запятых. А сейчас пустота музыки может служить пространственным расширением – информации нет, но что-то звучит. Это как кейджевский квадрат, только озвученный. И можно представить себе композитора будущего, который легко будет всем этим пользоваться. Потому что додекафонией трудно было пользоваться поначалу, пока решались все эти непростые задачи. Но они давно решены, стали тривиальными, все ими пользуются. Эти фонемы, добытые тяжким трудом, вошли в общественное сознание.
– Вам кажется, что все-таки вошли?
– В каком-то смысле. Даже через джаз, где есть разные деформации, кадансы, идущие, может быть, еще от Дебюсси, Равеля. Где уже не прямая тоника, как у Бетховена. Само это свингование, расстроенность, шаткость – это ведь, по сути, авангардная вещь. Тебя спустили с лестницы, а ты с подносом вина удержался, взлетел, упал, но не расплескал. Вот это джаз.
Я предлагаю гигантскую утопию: возникнет новый композитор, который будет свободно, в порыве вдохновения, как Чайковский, или Брамс, или Вагнер, сочинять большие композиции, и трудность будет заключаться не в тяжести сочинительства, а в состоянии души этого человека. То есть ему не будет трудно именно что сочинять, это будет спонтанно. Но эта спонтанность наконец-то будет возможна после долгого периода методоцентризма, была такая ересь в философии XX века. Да, метод уже есть, на него потрачено много времени, но нужно же этой лопатой что-то выкапывать! А то получается, что он сделан только для того, чтобы его все время демонстрировать. А не для того, чтобы что-то добыть и забыть, что у меня есть эта лопата.
Метод был и у Бетховена, и у Брамса. Теоретики могут его расшифровать, но все-таки в их музыке не чувствуется, что у Брамса была своя лопата, а у Моцарта – свой совок. Они копали ими – и все. Вот я и предлагаю пользоваться всем словарем музыки, но не выпячивать это. Проверка будет такая: могу ли я создать на его основе не крупную форму, а двух-четырехминутную пьесу? Известно, что у Пушкина был очень большой словарный запас. Но это не значит, что он его демонстрировал в каждом стихотворении. То есть можно пользоваться избранными словами, но в них будет чувствоваться невидимая энергетика того, что автор обладает полным словарем, понимаете?
– И ваши багатели, маленькие пьесы, которые вы пишете последние годы, – это как раз такие стихотворения и есть?
– Да, в них есть ощущение того, что большой словарь демонстрируется на маленьком пространстве. С крупными-то формами в старой музыке все было в порядке, возьмите хотя бы Вагнера. Но можно взять фрагмент его сочинения, отрывки же часто играют, и в нем все равно содержится вагнеровский мир. Там мелодия, тут неожиданный гармонический ход – его можно вынуть и любоваться, как цветком. А попробуйте вырвать что-нибудь у Штокхаузена – ничего не получится.
Из своих багателей я создал, по сути, целый эпос. Их много, к моей книге «Дождаться музыки» прилагается mp3-диск, там двадцать один диск с багателями. И я их распределил не по годам, а по слуху, чтобы они слушались как цельные тексты. Я памятник себе воздвиг. Из багателей.
– Двадцать один диск!
– А всего их уже двадцать четыре. Понимаете, багатели – это же пустяки. Но когда из музыки исчезает пустяковость, случается беда. Музыка начинает опираться на концепцию, теряет непосредственность, которую желательно бы сохранить. Вот ведь у Баха даже большие формы состоят из маленьких. Не как у Вагнера, когда из одной мелодии все тянется и тянется, как лапша. То есть раньше музыке были равно ценны и монументальные, и малые формы.
Вообще основная идея багательности – это культ мгновения. Есть семена музыки – та-рам, тара-рам. А я – как вазон с землей, они попадают в меня и начинают прорастать – тара-ру-рам. По сути, багатели появились раньше XIX века, раньше Шумана. Это как у Мандельштама – «прежде губ уже родился шепот». Это вещь рождающаяся, а не становящаяся. Вот есть платоновская идея стакана, очень простого, появившегося бог знает когда, а у Шумана стакан сложный, изысканный. Меня интересует платоновская идея багатели. Через нее мы прикасаемся к истокам музыки, но не к народным, о которых часто говорят, а к истокам музыки как музыкального словаря, из которого рождаются все фонемы. Только от невнимательности можно мои багатели считать стилизацией. В ересь стилизации они могут впасть, если убрать все паузы и «чуть-чуть». Они, конечно, находятся в зоне аллюзии, но не крепкой, а такой… мерцающей. Но, конечно, это все рассуждения задним числом, философствовать я могу, только когда музыка уже возникла. А в современной музыке часто философствование предшествует музыке. И это неправильно. Во всяком случае, для музыки в этом есть проблема.
Вот вы спрашиваете, почему в багателях нет XX века. Потому что я пчела! Я летаю и собираю мед. И над полями XVIII, XIX веков я летаю, потому что они цвели. А в XX веке, за редким исключением, – одни репейники. Кактусы ведь тоже цветут, но раз в сто лет. Прилетел, укололся… Было цветение у Прокофьева, у Шостаковича. У Веберна, у Стравинского я тоже чувствовал, что цветы есть, пусть и ядовитые. А меня спрашивают, почему я так далеко летаю. Так я жду, пока это поле зацветет!
Когда из музыки исчезла багательность, микроформы, получилась странная вещь: крупная форма стала возникать не по законам спонтанности, а по законам концептуальности. Только концепция держит форму. А ведь в шедеврах старой музыки эта моментальность просто рассыпана повсюду. Возьмите симфонию Бетховена и уберите все его темы – Бетховен же все равно останется. Его гнев, напряженность. В каком-то смысле это и будет авангард: «вообще» Бетховен, без конкретности. Я это еще в консерватории заметил, на групповых репетициях: играют известную вещь, но только валторны или струнные – и так свежо звучит! А когда все вместе, то как-то уже… Ну, мы были в авангардном периоде, тогда был вкус к анонимности, отсутствию знакомых мелодий.
Нужно, чтобы у композиторов снова обострился вкус к музыкальным мгновениям. Как, например, у такого симпатичного композитора Куртага. У него маленькие формы и есть такие мгновения. Но все-таки они какие-то не преображенные, он как будто чего-то боится. Какие-то они… буквальные. Все равно они находятся в зоне постмодернизма, постдодекафонии, поствебернианства.
И совсем другое дело – экспромты у Шуберта. Он не садился и ничего не обдумывал, он просто услышал и поймал музыку, она вышла из мира неслышимого, проявилась, и это чувствуется. Вот эта зона и есть самое важное. И это не только мой личный выход из этой ситуации, не во мне дело. Просто есть тупик современной музыки, мощный гигантский бункер, и в нем – маленький выход, такая крохотная дырочка. Через мои багатели как раз можно выйти. Потому что куда бы ни ломился – все забронировано навеки. А незаметный выход – только через них. Хотя у меня, может быть, и не хватит сил. Когда мы выберемся, каждый сможет расширяться как захочет, но сперва надо выйти.
И еще важно снижение уровня патетики. У Ольги Седаковой есть замечательное эссе про постмодернизм, она там пишет, что акустика нашего времени не терпит повышения голоса. Это не значит, что достаточно просто тихо говорить. Тихо можно говорить и чушь. Но все-таки все эти торжественные кульминации, которые мы могли терпеть, скажем, у Брукнера, сейчас как-то… Брукнеру мы еще прощаем худо-бедно, и то иногда сидишь…
А компенсацией этого неповышения голоса должна быть энергетика, но не буквальная, а семантическая. Скажем, в фугах или прелюдиях Баха ее было много. А у Шумана или Шопена есть и семантическая, и буквальная энергетика, все эти взрывы. Могут быть слабые вещи, которые сильны своей слабостью, своей семантической, а не буквальной силой. А для этого музыкальный текст нужно воспринимать не просто как информацию и принять его с благодарностью, чтобы текст поселился в памяти. Сделать памяти безболезненную татуировку.
Когда мы слушаем музыку, то часто говорим «интересно» или «захватывающе». Это хорошо, но для меня не самое главное. Когда я люблю текст, я его просто люблю – без интереса, без захватывающих эмоций. И вот этой любви к тексту очень мало в современной музыке. Интересное есть. Захватывающее – да. А вот любить… Вы спросите меня, что из этих монстров, гигантов современной музыки я люблю? И я смотрю – ну, может, у Булеза немножко, у Штокхаузена одна пьеса более-менее. В то время как в XIX веке – навалом, а уж у Баха…
– Но ведь когда-то для вас были очень важны и Шенберг, и Ксенакис, и Штокхаузен. Вы все это очень любили, и на вас они явно повлияли.
– Ну да, да. Даже в моей «Эсхатофонии» все это было. Но влиял не столько Ксенакис сам по себе, это же целый мир. А скорее его кластерность, напряжение. Мы его считали греком, и в его музыке чувствуется этот яркий, беспощадный свет греческого умствования. Как у Гераклита. Такая беспощадность, которая просто тебя ослепляет. Так это действовало на слух.[44]
Но с Ксенакисом я дальше не могу двигаться. Если я слушаю его музыку сейчас, никакого контакта у меня с ней нет. Это как стоять перед горой или перед океаном. Присвоить это невозможно. В живом звучании оно еще как-то воздействует, но дома в наушниках – нет. Это просто серенады бегемотов, крокодилов, мамонтов, голоса хтонического мира. Скажем, Стравинский – это любовное, античность, Орфей, поэтизация. А Ксенакис демонстрирует пифагорейскую беспощадность, но она мне не нужна, я ее и без Ксенакиса ощущаю.
У него просто нечего играть. Есть одна пьеса, очень сложная, – «Herma». Но никакой семантической ценности в ней нет. Она настолько связана с математикой, что выходит за пределы наших оценок. Притом что у нее есть развитие, опоры на простые интервалы… Ну, Ксенакис – это просто явление такое. Уникум, который захотел стихии придать форму, опираясь на математические процессы. Но эта музыка совершенно не оседает в памяти. Только помнишь, что вступило фортепиано, а что оно играло – уже не помнишь. Лихое что-то играло, потом напряжение – но не ложится в память, хоть убей! Оно остается неприсвоенным. Так же как мы не можем присвоить горы и океаны.
Но хотел ли он этого сам? Ведь он – музыкант, но как-то всячески этого остерегался. По сути, он был архитектором, это такая специфическая звуковая архитектура. Она создавалась сразу на бумаге, и если посмотреть на партитуру – там такое расчерченное поле битвы: кластеры туда, сюда, а здесь нападаем. Но в музыке, которая мне интересна, так не получится, в ней ищешь разные возможности, пробуешь, оставляешь черновики: это не подходит, то не ложится, здесь должно быть прозрачнее, этот голос не подходит, хотя вроде бы к месту. Это болезненная стратегия сочинительства. Если бы Ксенакис сочинял так, он бы одну вещь сочинял сто лет. А так смотришь – сочиняется лихо. Значит, метод есть. Лопата имеется.
Интересно, что было время, когда против программной музыки восставали, считали ее вторичным жанром – ну, «Шехеразада», Лист, вот это все. А в XX веке программная музыка внезапно вернулась. В авангарде сочинение в буквальном смысле выполняло какую-то программу, но не поэтическую, как раньше, а структурную. Спонтанной музыки было очень мало. А в XIX веке ее было навалом, да и в XVIII, у Моцарта.
Не знаю, может быть, методы, которые оставили эти большие композиторы, кому-нибудь пригодятся. Трудно сказать. Все-таки есть результаты этих экспериментов, и мы можем ощутить на слух, что удачно, а что нет. И удачное может прорасти в словарь. Но молодые композиторы, мне кажется, должны все-таки опираться на слух, а то, если они начнут просто изучать схемы, у них пропадет всякая охота.
Конечно, это противоречит тому, как учат во всяких крутых консерваториях. Это партизанский способ – и для молодых, может, и опасный. Композиция – это вообще опасное занятие. А с другой стороны – детское, наивное. Когда оно слишком мудрое, возникают проблемы. Но и наивность тоже разная в разные времена. Лао-цзы говорил: высшая мудрость похожа на глупость. Похожа, да. Но это еще ничего не значит.
– Я вам сейчас прочту одну подходящую к случаю цитату. «Вместо свободной мелодии пришли серии из неповторяющихся звуков. Какой страшный удар по истинно творческой свободе! Сотни композиторов разных стран мира, не успев еще проявить свою творческую индивидуальность и национальный характер или утеряв, если они были, стали сочинять додекафонную музыку. Благо сравнительно несложный процесс овладения этой техникой не требует от композитора ни таланта, ни мастерства, ни ума, ни сердца, не говоря уже о таком устарелом понятии, как „вдохновение“. Живое творчество уступило место рационалистическому конструированию и обнаженной формальной схеме. Ганс Эйслер – ученик Шенберга – говорил, что теперь по этой системе сочинять может каждый дурак, усвоивший правила игры».
– Это что-то советского периода?
– Это Кабалевский.
– При всей моей нелюбви к Кабалевскому… Хотя, помнится, его скрипичный концерт мне когда-то нравился. Это ведь опять про «высшая мудрость похожа на глупость». То есть нельзя сказать, что это совсем глупость. Но каждый дурак может сочинять и по системе гармонии Римского-Корсакова. И контрапункту тоже обучают, но ведь нужен еще и талант. Система композиторских правил – это не новость. Как строится фуга, что такое главная тема, побочная… Но все-таки Бах от учебных фуг отличается. Потому что в любой системе есть место вдохновению.
Есть знаменитая элегия Введенского, трагическая и печальная вещь, где он перечисляет приметы мира. «Исчезнувшее вдохновение теперь приходит на мгновение. На смерть, на смерть держи равнение, поэт и всадник бедный». Чувствуется, что человек понимает ситуацию, в которой находится. А Кабалевский – нет. Хотя у него-то вдохновение точно исчезло: все его сочинения, за исключением какой-нибудь маленькой пьесы для детей, – это же все… Очень ограниченное количество вдохновения у него было.
Ну да, получается, что я сейчас говорю то же самое, что Кабалевский или Хренников. Ну и что? Он-то не знал, о чем говорил, даже и знать не хотел. А я говорю про свой мир. То есть получается, что он сейчас как бы мой союзник, но это мнимый союзник.
– В том-то и дело, что в отношении к авангарду вы удивительным образом смыкаетесь со своими бывшими гонителями.
– Дело в том, что я теперь их понимаю. Но они не любили этого всего! И не хотели даже знать! У них сразу было отторжение. И точно так же я сейчас сам отвергаю новую музыку, все эти шуршания. Не хочу даже разбираться, что там за система, как можно прижать струну так, чтобы получился не нормальный звук, а хрр-прр. Это как Ленин когда-то про стихотворение Маяковского «Прозаседавшиеся» сказал – «не знаю, как насчет поэзии, но по смыслу все верно». Не желал он понимать, что это новая поэзия. Он Тютчева любил. А я, хоть Маяковского и не люблю, все-таки понимаю, что это поэзия того, нового, мира. Даже его агитки. Чувствуется у него поэтическая хватка, зубастость такая словесная. У него слова как булыжники, как матюки. «Я волком бы выгрыз бюрократизм!» Это же матом сказано, только другими словами. Помню, в моем детстве разные жулики, хулиганы взрослые говорили так же смачно, как Маяковский. С напором.
Я к чему веду: не хотели они в этот мир идти! Ну и потом, Кабалевский – это все-таки другой уровень таланта. Это не Шостакович. Да и сказано это в полемическом задоре. А может, он потом передумал? Был же случай с Нейгаузом, который никак не воспринимал Нововенскую школу. Шенберга еще как-то, Берга, а Веберна – ну совсем никак. Каретников его долго уговаривал, убеждал, и однажды ему раз – и все открылось. Что это стиль такой, минимальный, а не какая-то чепуха, как он думал. Так что слова Кабалевского о додекафонии были бы верны, если бы он ценил и помнил, что в додекафонии есть и шедевры. Поздний Веберн тот же, его симфония – это живое сочинение! Или концерт для девяти инструментов, или поздние песни. Или Шенберг. Квартеты я не очень люблю, а вот, допустим, его септет, хотя там только одна часть додекафонная… Или его скрипичный концерт, фортепианный[45] – я их до сих пор ценю. При всех проблемах это живые сочинения. Я слышал, как Любимов играет его фортепианный концерт – публика очень живо реагирует на этот стиль. Ну, такая, филармоническая. Эта музыка хорошо организована, и талант чувствуется. Если бы Кабалевский сказал, что все это ценит, а потом сказал об опасности… А так это просто безответственно. Обслуживание идеологической ситуации.
– Вот вы сказали, что Нейгауз долго не мог понять Веберна. А вам, получается, он сразу открылся, у вас не было процесса преодоления?
– Не было. Веберн меня сразу поразил. Но это ведь не просто Веберн был, а именно концерт для девяти инструментов. Зрелый Веберн. И когда я это услышал, у меня было такое чувство, что я слушаю музыку перпендикулярно. Такое наивное ощущение простого слушателя. Потому что и Шенберг, и Берг при всей своей новизне на слух еще примыкали к XIX веку. А от Веберна сразу было ощущение совершенно нового мира.
– В свое время вашу дипломную работу, еще вполне авангардную, не допустили к защите в консерватории и предложили сперва пойти к рабочим и послушать, что они скажут.
– Мне еще оркестранты говорили, что не надо портить своей музыкой советскую нотную бумагу. Была, в общем, какая-то возня.
– Вам она казалась унизительной?
– Обычной для того времени. Это сейчас унизительно, а тогда было нормально. И мы все-таки уже все знали про режим благодаря «Радио Свобода» и всему прочему. Это ж не сталинское время было. И даже интонация у них была какая-то усталая. Слова, может, они говорили и те же, но уныло, без прежнего пафоса.
– Интересно, что то, что вам предлагалось в качестве то ли наказания, то ли исправления, многие западные композиторы делали сами и с удовольствием, особенно в 1930-е годы. Тот же Ганс Эйслер призывал забыть про сложную музыку и перейти на «полезные формы» – песни и хоры для рабочих. Аарон Копленд перекладывал на музыку стихи про Первомай для американской Музыкальной рабочей олимпиады. И так далее.
– Понимаете, если они хотели этого сами, так это было их решение. И все эти разговоры про сложную и доступную… Когда-то в классической музыке не было разделения на сложную и несложную музыку. Конечно, есть известное письмо Моцарта отцу, где он пишет, что его фортепианный концерт имел большой успех, он нравится и знатокам, и профанам. Но писать специально для рабочих никому в голову не приходило. Зачем? У них есть свои песни, которые они поют в кабаках. Ну а если ты рабочий типа Горького, стремишься к знанию, так ты пойдешь в филармонию и будешь слушать нормальную филармоническую музыку.
Низовая музыка была всегда – и во времена Бетховена и Моцарта. И между низкой и высокой были связи. Часто высокая музыка шла в кабак – кто-то по слуху услышал и напел. Конечно, со временем музыка действительно стала сложной… Но вообще это какая-то надуманная проблема. Зачем я должен что-то писать рабочему? Рабочий тяжко трудится! Ему не до музыки. Он приходит домой – ему бы выспаться, а тут музыка, да еще и сложная. Да ему и простая не нужна! Он и сам может напеть то, что ему бабушка пела.
«Для народа», «нужно быть ближе к народу»… Это все элементарная глупость, связанная с идеологией. Все это еще от Маркса пошло. Как пролетариат может быть основой! Он тяжко работает, он необразованный. А если образованный, так это уже не пролетариат, а интеллигенция. Это просто дурь, которую тогда поощряли. И среди рабочих есть разные люди. В том числе и те, кто начал и спровоцировал две войны. Рабочие если квалифицированные, так они работают. А если он будет тяжко работать, а потом еще государством управлять – это что получится?!
– Скажите, Валентин Васильевич, а вы ощущали себя гонимым композитором?
– По-моему, Евтушенко сказал: «Неважно, есть ли у тебя исследователи, важно, есть ли у тебя преследователи». Конечно, преследование было, и даже болезненное, но все-таки не такое, как при Сталине. И даже какое-то почетное. Некоторые композиторы, в том числе и из моего круга, немного, по-моему, влипли в это. Потому что если с тобой связан скандал – это хорошо, ведь известно, что некоторые шедевры XX века были скандальными. Это вроде бы подчеркивает достоинство твоего сочинения. Да, иногда подчеркивает, а иногда и не подчеркивает. Не автоматом.
Но, конечно, было ощущение, что, если ты взял не ту ноту, это сразу заметят. Что за каждым аккордом твоим следят, понимаете? Придают тебе слишком большое значение. И, скажем, когда я на предпоследнем курсе сочинил фортепианный квинтет и его сыграли на пленуме молодых композиторов, его не просто запретили и обругали, причем из Москвы, но так были обеспокоены моей судьбой, что какой-то музыкальный деятель раздобыл наш адрес, пришел домой и пытался убедить мою маму повлиять на меня, чтобы я такого не писал. Не поленился ведь! Слава богу, что он наткнулся на маму, а не на отца, потому что мама-то была нормальная, что-то ему сказала – и все. А отец был правоверный, верил, что все это – буржуазное влияние, у меня был бы жуткий погром в семье.
Но, скажем, когда нас с Годзяцким исключили из Союза композиторов, то ведь чем дело кончилось? Исключили, а через три года восстановили. Хотя это было, в общем, политическое дело, мы вышли из зала, когда обсуждалось введение войск в Чехословакию, но исключили нас не за политику, а за «хулиганство». Конечно, на эти три года нам перекрыли не только выступления, но и все возможности зарабатывать. И если бы не помощь родителей, то я не знаю, чем бы все это кончилось. А восстановили благодаря помощи Шостаковича, Хачатуряна, Ростроповича. Все лауреаты вступились. Но ведь что значило исключение из Союза композиторов в сталинские времена? Это значило – сразу в лагерь.
Но это все – давно прошедшее. Сейчас никто ни за кем не гонится, пиши что хочешь. Я не тоскую по тому времени. Лучше пусть за каждым аккордом следит композитор, а не КГБ.
– Все-таки ваши сочинения в советское время исполнялись не так уж часто.
– В Киеве они исполнялись даже во времена моего авангардного периода. Исполняли даже «Медитацию» со спичками в 1976 году. Просто не было никаких рецензий. Видимо, таково было решение властей: исполнять можно, а рецензий[46] – ни хвалебных, ни ругательных. Исполнялись и квартеты, и симфонии. В Петербурге тоже, вот в Москве редко, скорее по клубам всяким. На Западе сперва тоже были исполнения, а потом я прекратил посылать туда ноты и выбыл из этой филармонической обоймы.
В основном-то активность была в Москве, потому что там были посольства. А я вообще перестал интересоваться публичностью как таковой. Я просто стал делать то, что мне нравится, без всяких надежд. Ну и без гордыни. Я знал, что тут, в Киеве, оно будет сыграно. И мне этого было достаточно. В то время как Шнитке, Губайдулину играли на Западе, но при этом их запрещали, наверное, даже больше, чем меня. У них сразу была ориентация на Запад. Из-за того, что были исполнители, которые туда выезжали. А у меня не было. Но зато у нас было общение.
Так что больше всего я с благодарностью вспоминаю то, как мы общались с Денисовым, Волконским, Шнитке, Губайдулиной. Встречались, показывали друг другу сочинения еще до всей этой славы. Вот это была нормальная жизнь. Тайная. Это было главное, а не то, что тебя на Западе сыграют. Особенно со Шнитке. У меня много от него пластинок с трогательными надписями. Тогда как раз начали пластинки издавать. У нас с этим делом плохо было, хотя мою Пятую симфонию издали и, по-моему, квартет.
Сейчас про меня часто пишут в аннотациях: «Самый исполняемый на Западе украинский композитор». Это все очень сомнительно. Если один раз в десять лет исполнили, так это не значит, что самый исполняемый. А других композиторов, может быть, и вообще ни разу. Просто государство не занимается пропагандой своих композиторов. Я ж не могу это делать. Но у меня еще более-менее счастливая ситуация, потому что на Западе у меня есть какое-то имя благодаря ECM и Манфреду Айхеру, который меня издает. Ну и кто-то интересуется. Если бы этого не было, то что? Ну вот были киевский авангард и какой-то с ним связанный скандал. Западным людям этого достаточно, главное, что скандал был. А что за киевский авангард – им до лампы. Но еще раз скажу, что для меня основной питательной средой было общение с коллегами, с близкими друзьями: Мансуряном, Кнайфелем, Тищенко, Слонимским. А не карьера. А карьера потом уже началась у московских друзей, в сторону Запада они двинулись очень сильно. Особенно у Шнитке, потом у Губайдулиной.
– Как вы сами ощущали этот момент? Вы были тайным обществом советских авангардистов, где все более-менее равны, и вдруг в нем начинает складываться какая-то иерархия. Кто-то выдвигается на первые роли, у кого-то начинает развиваться карьера…
– Да, еще был Канчели. С Канчели мы очень сильно дружили. Тут я должен сказать, что обо мне все они невероятно хорошо отзывались. Может, за исключением Денисова. Да и то потому, что у нас с ним был конфликт, когда у меня случился поворот к «слабой» музыке, а он считал, что это я слишком… Он ценил мой авангардный период, а не это. Все остальные – и Соня Губайдулина, и Шнитке, и Канчели, и Пярт – меня просто всячески пропагандировали. То ли это их личные качества, то ли комплекс неполноценности, что вот они выбились, а тут такой сидит и никто его не знает. То ли они и правда так думают. Но вообще-то у композиторов это невероятная редкость – о ком-то сказать хорошо.
Откройте, скажем, книгу Ивашкина «Беседы со Шнитке». Альфред там часто обо мне говорит, причем в необычайно хвалебных тонах. Даже Ивашкин критиковал Пятую симфонию, а Шнитке – нет. Он всячески меня защищал в то время. Потом мне подсовывали какие-то его цитаты, а я их в первый раз слышал. «Музыка Сильвестрова – это музыка космической простоты». Когда он это сказал? Ну, журналисты такое любят. А Пярт так вообще… ну, не обозвал меня словом на букву «г», но тем не менее сказал, что я – самый интересный композитор современности. И это растиражировано по всем дискам. Я не знаю, чем я самый интересный. Если бы Пярт сказал, что моя музыка лично для него самая интересная… А то он сказал вообще – и сказал еще, что ее поймут гораздо позже. Наверное, это связано именно с тем, о чем вы спросили, – мы все были из одного круга, они стали более востребованными, и у них осталось какое-то странное ощущение. А уж Соня Губайдулина вообще где-то сказала, что моя музыка открывает новый исторический путь… В общем, они не скрывают своего отношения ко мне. В то время как я, неблагодарный, часто их критикую.
– Для вас важно, как о вас напишут в истории музыки? В одном из интервью вы упоминаете российский учебник, посвященный музыке XX века, в котором про вас пишут как про автора «Тихих песен» и «Китч-музыки» – и только.
– Это я действительно открыл такой учебник композиции, и он весь состоит из перечислений «возник метод такой-то» и «метод сякой-то», а через два года – «наступил кризис этого метода». И идет следующий! То есть что получается: XX век – один сплошной кризис. Не успели открыть метод, как сразу кризис. И вы учите этому! А потом я набрел на себя – смотрю, написано: автор «Китч-музыки» и «Тихих песен». Все-таки у меня восемь симфоний, квартеты… Это все равно что о Бетховене сказали бы: знаменитый автор «Сурка». Нет, хорошая вещь, между прочим, неплохая!
– Как раз хотел вас спросить о «Тихих песнях». С чем вообще был связан этот удивительный переход от авангарда к новой простоте в конце 1970-х? Думаю, если поставить ваши ранние вещи и эти замороженные романсы ничего не подозревающему слушателю, он не поверит, что это написал один и тот же человек.
– Они не замороженные, это только сперва так кажется. Эта замороженность должна быть преодолена. Поэтому их и не принимали в свое время – потому что а где развитие, где фактура? Прокофьев писал, что мелодия – самая ранимая и незаметная вещь в музыке. Но самая ценная. И он обнаружил, что иногда возвращался к какому-то своему сочинению, смотрит – какое-то оно запутанное. А потом раз – и мелодия проявляется. Ну да, у него есть такие деформированные, запутанные мелодии, которые открываются не сразу. Даже самому Прокофьеву! А не то что – мелодия и мелодия, очевидная вещь, как будто само собой разумеющаяся. В мелодии есть своя тайна. Она стремится к неповторимости, к тому, чтобы ты ее хотел, ее принимал, именно ей был благодарен. А для этого требуются и внимание, и, может быть, привычка. Если слушателя приковать к батарее, поставить ему мои сочинения, чтобы он их слушал пару дней подряд, а потом отпустить – может быть, что-нибудь и произойдет. И он будет напевать эти мелодии.
– Этот переход не только у вас произошел, многие композиторы тогда словно бы отказались от завоеваний послевоенного авангарда. Это было как-то связано со временем?
– Ну да, и на Западе тоже это было. Но у меня, не нужно забывать, все началось еще с 1970–1971 года, с «Драмы». Там уже нарушена герметичность авангарда. Это была не полистилистика, а полифония стилей. У Шнитке была концепция полистилистики, я-то ее не принимал. Я принимаю полистилистику в театре, как состояние драматической музыки. Как в «Евгении Онегине» поют моцартианскую песенку на стихи Батюшкова. А у меня была даже не полифония стилей, потому что стиль – это производное от музыкальных систем, а именно что взаимоотношения звуковых систем. Они перестали быть замкнутыми, вступили в диалог. И «Драма» оказалась очень важной вещью, очагом всего дальнейшего моего развития. Взрывом. Все разлетелось, и мои багательки – это последние осколки этого взрыва. «Медитация», которую я написал после «Драмы», – это уже не авангард, а поставангард.
Потом, в 1973-м, я написал кантату на стихи Тютчева и Блока, ее я считаю наиболее удачным из своих сочинений. Это вообще было первым моим прикосновением к вокальной музыке, до этого оно мне казалось вообще невозможным – ну, за исключением ранних романсов на Блока еще в консерватории. И там как раз нет полифонии систем, там образовался единый стиль, который мне показался идеальным. Ни тональности, ни атональности. На секунду образовавшееся стилистическое равновесие. Хотя там есть и признаки авангарда: в конце выстукивается по деке арфы ритмика стиха – это ж типичный авангард. Но все равно какой-то целостности не было.
А уже году в 1973-м или 1974-м началась такая история. Мы были молоды, часто собирались с друзьями, слушали музыку. И вот однажды сели слушать пластинку битлов, «Сержанта Пеппера». И я вдруг услышал, что помимо экспрессии это ведь очень живая музыка. Мы еще могли слушать Эллу Фицджеральд, например. Ну, когда пьянка, не будешь же слушать Веберна. И от этой бытовой западной музыки вроде битлов у меня вдруг открылся шлюз. Я начал сочинять просто как из дырявого мешка. Как этот ваш Эйслер. Какие-то банальные мелодии, обычные песенки, без слов, кстати. Но на некоторые я обрел слова. И даже сложился целый цикл – «Китч-песни». Это подготовительный период перед «Тихими песнями». И вообще я вдруг обнаружил интерес к «слабой» музыке. Едешь в такси, слушаешь какие-нибудь шлягеры того времени, даже советские, и ведь были очень удачные. Мелодии какие-то живые. Притом что это как бы низкий стиль.
Я даже стал записывать эти свои новые вещи, просто на магнитофон. «Китч-песни» с листа пропела моя жена. Эта запись и сейчас хранится где-то, три песни на стихи моих приятелей-поэтов. Я потом Эдисону Денисову объяснял, что произошло. Что у меня к тому моменту, в авангардный мой период, возник интонационный запор. Так вот, я принял слабительное, и меня освободило.
Я понимаю, что это слабительное опасно, потому что можно и не остановиться. Часто говорят, что когда композиторы серьезного уровня переходят в киномузыку, то уже не могут вернуться. Но я остро чувствовал ограничения авангардной музыки. Она же вся была построена на ограниченном числе острых интервалов. Секунды, септимы. Квинта – в крайнем случае, но и то искаженная квинта. Был запрет на простейшие интервалы, аккорды. Нонаккорд – не дай бог! Полное презрение. Мажорное трезвучие чуть-чуть позволялось, но уж нонаккорд или какая-нибудь доминанта с какой-нибудь септимой – это было такое падение нравов! А тут я принял слабительное и освободился от табу. Если поэзия мне диктует нонаккорд, то и хорошо. То есть мне до лампы эти запреты! Музыка хочет, и я должен подчиниться. «Тихие песни» и стали результатом этого освобождения.
Так я ощутил вкус «слабой» музыки. Но это совсем не то же самое, что писать для народа. Когда мы сидим за роялем, мы не народ. Мы народ, когда пьем с друзьями. И в этот момент есть потребность вот в такой «слабой» музыке. Не будешь же во время пьянки петь Гольдберг-вариации. Поют обычно что? Народные песни, даже советские, особенно военных лет. Послушайте «Вечер на рейде» Соловьева-Седого. Там такие скачки в мелодии! Это же вроде бы против народа. А стало народным. Или «Летят перелетные птицы». Там такой прыжок в мелодии – нона! Это же малеровский интервал! А вроде бы бытовая музыка. В военные годы она была очень живой.
Композиторам не нужно притворяться и идти в народ. Композиторы – сами себе народ в освобожденном регистре жизни. Гуляешь с друзьями, или пьянка, или свадьба – и срабатывают те же инстинкты. Не то чтобы я специально хотел… Это меня Денисов обвинял, что я подлизываюсь к народу. Да почему? Ладно бы я жил как Брукнер. Он-то сидел за органом и молился Богу – и все. Ничего другого в его жизни не было. Сам-то он не пил, есть известная история, как он решил отблагодарить дирижера, который исполнил его симфонию, – робко сунул талер и сказал: «Выпейте кружку пива за мое здоровье!» У него была совсем другая жизнь, в его музыке ничего простонародного нет. А вот у Малера есть. В его псевдонародных песнях, в китчевых темах в симфониях. Странные такие ощущения, гротескные. Это, наверное, вообще природа венских композиторов. У Брамса то же самое. Некоторые его мелодии – почти цыганские. Такая цыганско-славянская бытовая сентиментальность, характерная для пивного опьянения. Это и у Бетховена было, одна застольная песня чего стоит.
Так что Эйслеру надо было не писать для рабочих, если уж он этого хотел, а самому стать рабочим и написать нормальную музыку для себя. А то ведь это и для рабочего унизительно. Есть комический случай, который описывает Стендаль, как к Гайдну, когда он был в Лондоне, в гостиницу пришел моряк и заказал пять маршей. Гайдн написал двенадцать и сказал: за эти деньги отдаю вам все. А моряк взял только пять. Вот это гордость пролетариата. Нечего подлизываться! Ты напиши для себя как для рабочего, и тогда мы присоединимся.
– Я правильно понимаю, что многим вашим соратникам поворот к «слабой» музыке показался предательством авангардных идей?
– Да, хотя вообще-то это все в духе авангарда. Ведь смысл авангарда – в риске. А когда все уже образовалось, все рискуют, но никто не погибает – это уже не то. А я вот вышел, и мне хорошенько надавали. Авангард – это всегда выход из какой-то ситуации, причем полемический, это всегда некий вопрос. Как у Мартынова. Но за его позицией стоит идеология, это реакция на осознание кризиса, как у американских минималистов когда-то. Это осознанное решение, а у меня было инстинктивное.
При этом в моей «Китч-музыке» есть оттенок элегичности, это не издевательство. Потому что, когда ее впервые сыграли в Москве, народ в зале начал смеяться. Как будто это какая-то специальная издевка. А ее там нет. Там китч в другом. У Музиля есть эссе про китч, и он доказывает, что в некоторых ситуациях низкий стиль становится высоким. Когда солдаты перед сражением вспоминают родителей или поют трогательные песни, со стороны это может казаться китчем, а для человека, который завтра пойдет в бой и не знает, выживет или нет, это истина. Вот этот разрыв меня интересовал.
Незадолго до этого в нашей среде была жуткая трагедия. Покончил с собой Петр Соловкин, очень тонкий композитор. И очень близкий мне человек. Выбросился из окна. У него была депрессия, но он это скрывал. И тоже мучился от музыкального тупика. Он писал авангардную музыку с оттенком Булеза. Невероятно умный, моложе меня на десять лет. И я помню странное свое ощущение… Эта ситуация не требовала никаких кластеров, никакого авангарда. Она требовала только чего-то очень бережного. Так что «Китч-музыка» – это трагическое для меня сочинение. Оно возникло в условиях ошеломленности этим фактом. По сути, это молчание. Не до авангарда тут, при чем тут авангард? Только такая музыка может быть. Если бы я успокоился, я бы, может, «Аллилуйя» написал или «Отче наш».
Я про это никогда не рассказывал. Это не сочинение памяти Соловкина. Но чисто биографически – это факт, такой вот результат. Я просто иначе не мог тогда. Вообще любая музыка опирается на какую-то ситуацию. Но обычно факты из психики автора тонут в музыке более-менее благополучно. И остается только внешность музыки, по которой ни о чем не догадаешься.
– А почему Эдисон Денисов сказал вам, послушав «Тихие песни»: «Валя, ты перестаешь быть композитором»?
– Ну так он оказался прав, выступил как пророк. Я действительно уже не являюсь композитором, как вам и сказал вначале. Но он, конечно, имел в виду немного другое – что я ухожу в халтуру. Востребованные вещи начинаю писать, киномузыку или что-то такое.
– То есть ему казалось, что вы таким образом хотите завоевать слушателей?
– Я же ему проигрывал не только «Тихие песни», их-то он еще с грехом пополам… А вот когда он услышал «Китч-музыку», мои эстрадные песни, он мне просто сказал: ну, Валя, теперь ты будешь богатым! Притом что ни одной эстрадной песни не записано, только «Свято слiв», на радио ее крутили. И даже однажды, когда мы с Денисовым оказались в Сортавале, мы включили радиоприемник, а там ее передают.
Но это все не полемика, а вот после «Тихих песен» действительно была полемика. Он мне потом признался, что целую ночь не спал. Значит, я его все-таки достал. Он мне говорит – там слушать нечего, ты хочешь сделать музыку из ничего. А я ему – ты мне льстишь, это Бог творил мир из ничего. И потом, говорю, ну извини, ты же любишь Шуберта? А он очень любил, ну и я люблю. Вот мелодия Шуберта, всем известная серенада. Тарара-там, тарарару-там… С чего этот мотив начинается? С какой-то простейшей последовательности, любой кабацкий музыкант сможет так, да и ребенок сможет. Что в этом шубертовского? Но ведь там не просто так все. Там сначала как сигнал – тарара-там, потом затакт – та-ра-ра-ру, потом – та-рам… Какая великолепная геометрия мотива! И ведь эта вещь не придумана, она сочинена в слухе, а не умственно. Я даже сейчас, когда ее напеваю, прихожу в восторг. Дальше там уже есть и чисто шубертовские аккорды, но какая у этой знаменитой мелодии колоссальная самоорганизация! А он мне на это говорит – ну, это не самая лучшая мелодия Шуберта. Но все-таки ночь не спал потом, да.
Этот случай, когда музыкальная удача настигает человека, с кем угодно может произойти. И кабацкий музыкант может уловить этот шляг-мотив, он просто ничего больше с ним сделать не может. Уровень Шуберта – в том, что он не только уловил, но и продлил его. Но уловить мелодию – это главное для выживаемости этого текста. И что получается? Даже у ресторанных музыкантов такое бывает и держит всю погоду, а из современной музыки напрочь исчезло. Как будто это вообще больше не нужно. Я понимаю, может, это уже и невозможно, но и все-таки – вопрос поставлен.
– А вас не смущало, что ваши соратники-авангардисты вашу новую «слабую» музыку не поняли? Хотя они, по идее, должны были услышать все то, о чем вы говорите, – что у этой музыки сложные отношения с паузами, с деформациями, что там не так все просто. У них же был нужный опыт вслушивания. А с другой стороны, ретрограды радостно воскликнули: ну слава богу, он вернулся к мелодии!
– Да, меня после «Китч-музыки» подошел и поздравил один такой суровый ретроград, который еще Лятошинского ругал. Сказал: ну наконец-то! Я испытал, конечно, сложные эмоции. Ну, он не знал, что после этого я рванул в обратную сторону, он думал, что это уже навсегда.
А реакцию я очень хорошо помню и могу объяснить. У многих вырабатывается привычка к новизне. В среде таких… пьяниц с образованием, которые слушают в основном рок-музыку, но и авангард тоже ценят, есть сленговое слово «заморочки». Вот они их любят. И многие непрофессионалы могут испытать новизну только из этой зоны заморочек. То есть им демонстрируется что-то непонятное, и именно эта непонятность провоцирует на то, чтобы разобраться, слушать и вслушиваться. И потом как-то становится понятно.
Я же предложил обратную мотивацию. Тебе кажется, что все понятно? А ты вслушайся, и станет непонятно. Это, между прочим, не только в музыке, но и в жизни. Как написано в Евангелии – слышат, да не слышат, видят, да не видят. У меня было так с «Торжественной мессой» Бетховена, я считал, что это очень неудачное сочинение. Нет, оно проблемное, конечно, но это ж гениальная вещь! Или Пятую симфонию Малера я когда-то считал банальной музыкой. У меня тоже был опыт слышания, да не слышания. У кого этого опыта нет, тому сложно это понять. Ну а если это не Бетховен, а мои багатели, то, конечно, чего уж там церемониться. Но вот этой мотивации – мне все ясно, но я все-таки послушаю – у них нет. Им кажется, что там слушать нечего. Это все опять упирается в дзенскую эстетику. Банальность истинна, если найден правильный ракурс. И даже более истинна, чем высокая истина. Чем умствование, продуманность.
Вот и получается, что одним слушать нечего, а те, кто не любит авангард, наоборот, скажут: вроде и есть что слушать, красивая музыка, милая. И те и другие прозевают главное. Те, кто видит в багателях просто милую музыку, вводят их в контекст киномузыки, и это мимо. А интеллектуалы в принципе не могут понять простой музыки. Которая просто и ясно звучит. Но что же тебе там ясно? Это как – вроде бы – мне ясен человек одной со мной национальности. Украинского, славянского типа. Посмотришь – вроде ничего нового. Не то что негр, который как авангард или модернизм. Но ты присмотрись, познакомься с этим человеком! Окажется, что он совершенно другой, со своим именем, своим необычным лицом.
Нужно преодолеть однозначность мотивации. Да, в то, что непонятно, нужно вслушаться, чтобы понять. Это правда. Но это не значит, что не надо вслушиваться в то, что тебе ясно. Это две стороны одной монеты. А у нас это равновесие очень нарушено. И сейчас я по публике нашей вижу, что чем непонятнее, тем бешенее успех. А когда все понятно, успех более скромный.
– Даже ваш давний соратник, дирижер Игорь Блажков, который исполнял многие ваши ранние сочинения, признается, что багатели и вообще ваш «слабый» стиль он не может принять.
– Я думаю, если бы он послушал несколько раз, он бы привык. Ему просто кажется, что одного раза достаточно. Авангард – это как если бы сейчас по Берлину пробежал крокодил. Сразу ясно – вот это здорово. А если прошел просто незнакомый человек – ну и что? Но ведь если бы прошел знакомый или даже любимый человек, вы бы совсем по-другому на него смотрели. Вроде тоже нечему удивляться, ничего крокодильего. Но если ты знаком с человеком, раскрывается его суть. Если бы Блажков с этой музыкой был знаком на слух, она бы ему стала яснее. Но он просто не хочет, ему кажется – а, это что-то «вообще» мелодичное. А я так же не могу сейчас слушать авангард, он для меня слишком анонимный. Там нет авторской персональности или она очень ослаблена.
Игорь просто любит то время, когда все это происходило. Это немаловажно. Он же со всеми переписывался. Штокхаузен ему тогда писал: мы уже весь мир охватили, нам не хватает только СССР и Китая. Приглашал нас в Дармштадт, мы даже запросы в Москву писали, честно выбирали курсы, на которые хотим ходить. Как сейчас помню, Штокхаузен тогда читал «Каденционную технику Моцарта». Ну, из Москвы нам даже не ответили ничего, видимо, посмотрели, кто пишет, – а, эти…
Нет, Игорь неправ. Ведь мой авангардный период не исчез бесследно. Он есть и в Пятой симфонии, и в Шестой, и в Седьмой. И в квартетах. Может, он их и не слышал, а слышал только багатели? Но какая проблема с багателями? Они же не претендуют на проблему. Пустяки и есть пустяки. Не понравилось – ничего страшного.
– Исполнители вашей музыки говорят, что самое сложное – научиться играть ее так, как вы требуете, то есть едва слышно. Ваше пианиссимо – самое требовательное пианиссимо на свете. Вы просите певцов петь вполголоса, sotto voce; на дисках, которые вы сами нарезаете дома, приписано от руки «играть на пониженной громкости». Вот эта битва за то, чтобы музыка звучала еле слышно, как будто ее принесло ветром или как будто мы ее случайно подслушали, – она откуда?
– Не в самой тихости дело. Тихо может звучать и бессодержательная музыка. Хотя это в каком-то смысле лучше, чем громкая бессодержательная. Хоть на нервы не действует. Ну, громкая пустота и тихая пустота. То, что я подписываю на дисках, – это просто условие существования этой музыки. И у пианистов есть такой ресурс, просто нужно, чтобы инструмент был в порядке – молотки, педаль. Вот раньше был такой термин – туше, прикосновение. Сейчас исчез куда-то, только бабушки употребляют. Мои багатели – это вещи не виртуозные, но своего рода виртуозность все-таки требуется, потому что нужно достичь этого самого туше, контакта с клавишами. Сегодня пианисты в основном молотками работают. А на самом-то деле у того же Шопена была совершенно другая звучность. А у фортепианных произведений Глинки какое туше, это же фильдовская школа! Если Глинку играть по нотам, получится просто тупая наивная музыка. А с туше будет похоже на багатели. Глинка же не писал в нотах «чуть-чуть», это входило в условия игры, нотный текст – это просто схема, а исполнитель должен реагировать от себя, исходя из мотивной работы. Я же все прописываю, я структурирую даже rubato.
Так вот, не в тихости дело. Нужно достичь такого состояния, чтобы музыка не сразу на тебя обрушивалась. Конечно, может возникнуть досада, что ничего не слышно. Но зато это мы к ней тянемся, а не так, что музыка на нас нападает, а мы сидим в кресле, развалясь. Музыка должна вызывать настороженную собачью стойку. И я был свидетелем того, как Алексей Любимов в Малом зале Ленинградской филармонии, где очень хорошая акустика, играл мою «Китч-музыку». Он все пытался мне сказать, что не будет слышно. Хотел сыграть надежно. А я его умолял играть как написано. Так вот, такой напряженной тишины в зале я еще не слышал. Очень большой успех был. Это вроде милая такая стилизация, а звучала трагично. Ее нужно так играть, как будто лунатик идет над пропастью или по воде. Красота, которая может рухнуть – даже и в том смысле, что перестанет быть слышно. Хотя она написана не так, как у Мортона Фелдмана, у которого бывает по три пиано, на грани тишины. Там совершенно другое – он хочет остановить время, затормозить так, чтобы и духу его не было. А у меня время постоянно трепещет. Хотя часто и говорят, что это медитативная музыка. Но медитативность бывает разная. Бывает, что валяешься на диване, а бывает – когда напряженно вслушиваешься. Основная беда не только слушателей музыки, но и вообще всех людей в мире – это невнимательность. И еще глупость, причем одно связано с другим. Эта максима из Евангелия – слышат, да не слышат, видят, да не видят – фундаментальная вещь.
И то, что делает сейчас этот мерзавец Путин, – он просто не понимает, что есть ситуации, когда чего-то делать не надо, даже если думаешь иначе. Допустим, они утверждают, что русских преследуют в Украине. Никто их не преследовал! Но даже если преследуют, ты должен бороться тем, что дать, например, ноту. А если выбираешь военные способы, это говорит только о том, что ты просто не понимаешь смысла жизни. Смысл жизни человека и основная битва его – прожить хотя бы один день достойно. А не когда ты посылаешь одну армию, другую, море крови, погубили сотни тысяч людей, потом понаставили памятников героям, но нигде не написано, по какой причине они стали героями! Все, кто так действует, не верят или не понимают, что это дело приведет к гибели одного человека – такого же, как он сам. Если бы Путин это понимал, у него бы и желания не возникло так поступать. Он думал бы о том, как этого избежать. А тут гибнут тысячи людей и с одной, и с другой стороны.
Это я говорю о политике. В мирной музыке факты не такие кровавые.
– В определении «послевоенный авангард» многие делают ударение именно на слове «послевоенный»: он такой именно потому, что случился после двух мировых войн. Влияют ли современные войны на современного композитора – в частности, лично на вас?
– У меня есть цикл сочинений, посвященный Небесной сотне, на стихи Шевченко. И еще один, посвященный хронике Майдана. Хотя Майдан – это ж не война, он был мирный. Ну, в худшем случае там камнями бросались. Это моя спонтанная реакция, эскизы вещей, в основном гимны Украины – слова те же, «Ще не вмерла Україна…», а музыка моя. Они написаны как бы для акапельного хора, только напеваю я сам. Эти гимны идут на диске по нарастающей, каждый соответствует определенному числу Майдана. Сначала хоть и суровые, но еще более-менее, а в те числа, когда началась стрельба, гимны уже просто все в дыму. И еще там есть панихиды. «Отче наш» и «Agnus Dei, Lacrimosa» и «Святый Боже», украинский язык пополам с латынью. Они соответствуют тому времени, когда Янукович сбежал с силовиками, еще до Крыма. Когда казалось, что после расстрелов, с жертвами, но мы покончили с бандитами и этой бандитской властью. Потому что все-таки эта власть была невыносимой. Милиция, суды вели себя просто чудовищно! Покрывали убийц, выпускали своих. Янукович разбогател, в жиру катался, народ еле сводил концы с концами… Это просто достало всех, американцы тут вообще ни при чем.
На Майдане слушали стихи, священники читали молитвы. Это все были фашисты, с точки зрения Путина. Иногда пели народные песни или «Червону руту», знаменитую советскую песню Ивасюка. Но больше всего – гимн Украины. Очень красивый, кстати, написанный украинским композитором середины XIX века. Он был священником, и поэтому в его гимне проглядывает аллилуйность. В гимнах обычно поют по складам, один слог – один звук, а у него типичный такой церковный распев. И когда много людей стоит на площади и поет этот гимн – это впечатляющее зрелище. Я это услышал и решил написать свой. Пел его дома, для домашней записи, и с каждым разом все напряженнее и напряженнее. И так разорялся, что соседи думали – я с ума сошел. Акустика-то у нас дома неважная, все слышно. А у меня там fortissimo, и я как пойду на повышение голоса…
В общем, я думаю: может, и не дойдет до Третьей мировой войны? Россия – это же европейская страна! Все высшие достижения России связаны с Европой. Николай вступил с Европой в дурацкий конфликт, и империя развалилась. Советский Союз вступил в холодную войну – и тоже развалился. А сейчас Путин хочет, чтобы и Россия развалилась. Там же масса народностей живет! А представьте, что они скажут: мы тоже хотим отделиться. Все-таки надо соблюдать законы страны, а не проводить референдумы под дулами автоматов, как в Крыму. Но если будет угроза Третьей мировой, я все-таки думаю, что Россия не допустит. Там же миллионы нормальных людей, я просто знаю это!
Алексей Шмурак
Алексей Шмурак родился в 1986 году в Ленинграде, с 1987 года живет в Киеве. Окончил композиторское отделение Национальной музыкальной академии имени Чайковского. Один из создателей ансамбля современной музыки Nostri Temporis, координатор и пианист ежегодных киевских международных мастер-классов новой музыки COURSE, Украинской биеннале новой музыки. Сотрудничал с Akademie der Künste Berlin, WDR hall Köln, Muffatwerk Munich, Летними курсами новой музыки в Дармштадте, Варшавской и Московской филармонией, Мариинским театром, фестивалем «Платформа» и другими. Резидент Пливки, экспериментального междисциплинарного киевского арт-пространства. Выступает как саунд-артист и исполнитель, один из самых заметных представителей нового поколения украинских композиторов.
Беседа состоялась в Киеве в 2016 году.
Фрагмент партитуры «Земляничной сонаты» для скрипки и фортепиано (2014). Алексей Шмурак: «„Земляничная соната“ – аккуратная, полная осознанной неуверенности и недосказанности, довольно короткая поэма о сне, хрупкости и ностальгии. Часто задействуются сплошная правая педаль у фортепиано и сурдина (приглушающая и смягчающая) у скрипки. Слушателю, привыкшему к романтической и модернистской музыке, соната покажется часто алогичной, полной ненужных разрывов и странных сопоставлений. На этой странице начальная тема, модернистская, жалобная, изломанная мелодически и непредсказуемая по ладу, неторопливо рассыпается и сменяется предельно сонным повторением фразы из какой-то ностальгической теплой романтической музыки».
– Что сейчас происходит с современной украинской музыкой?
– Академической? Для начала стоит подчеркнуть, что я сам себя академическим композитором уже не считаю, о чем скажу чуть позже. Я почти не хожу на академические концерты, да и в сети не слушаю и не смотрю целенаправленно современную академическую музыку. Максимум, на что я могу претендовать, – собственные ощущения по этому вопросу.
Они таковы: есть чудовищный разрыв между Киевом и остальной Украиной. Отдельные события происходят в Одессе и Львове – и все. Об остальных городах нечего говорить. До войны достаточно интересные вещи делались еще в Донецке благодаря фонду «Изоляция» и композитору Жене Петриченко, но теперь все закончилось.
В Киеве же явный бум. Запрос на новую музыку со стороны публики присутствует, причем с достаточно разных сторон – и студенческой среды, и среднего класса, и условной арт-богемы. Есть и несколько весьма благожелательно настроенных крупных бизнесменов. Когда-то, примерно в 2007–2013 годах, я сам приложил руку к подготовке этого бума, работая в составе Ensemble Nostri Temporis, инициируя и проводя проекты, исполняя музыку. Сейчас лидеры процесса – совершенно иные люди и организации, хотя во многом они продолжают наше тогдашнее дело.
Каковы отличительные черты современной киевской ситуации? Думаю, что доминирует все же исполнительский аспект. Мировые имена привозит и исполняет агентство «Ухо», в частности благодаря ансамблю, созданному под руководством приглашенного из Италии дирижера Луиджи Гаджеро. Множество исполнительских и/или импровизационных проектов проводят другие игроки: Sed Contra Ensemble, братья Радзецкие, фестиваль Kyiv Contemporary Music Days, созданный Альбертом Сапрыкиным; и ими список не исчерпывается. Но доминирует инициатива снизу либо со стороны продюсеров-меценатов. Государство отдыхает. Ничего подобного, скажем, московскому фестивалю «Другое пространство» у нас нет: государство только вот, кажется, сейчас начало внедрять систему подачи на грант, я видел список недавно поддержанных государством музыкальных проектов, там были вполне достойные. Раньше же в этом направлении были только застой и болото.
– Музыку молодых современных украинских композиторов что-то объединяет?
– Мне кажется, нет. В целом украинская композиторская музыка, если мне простят такое сверхобобщение, сосредотачивается вокруг неоромантизма в самом широком смысле (я считаю, к примеру, что виртуозные околобулезовские фортепианные пьесы – это тоже неоромантизм). Но каких-то новых больших композиторских личностей, какой-то композиторской тусовки, продуцирующей новые смыслы, я лично не вижу. В отличие от России, где такие фигуры, как Владимир Мартынов, Леонид Десятников, Дмитрий Курляндский, – вполне медийные, так сказать, спикеры от элиты, у нас ничего подобного не наблюдается. Наши спикеры – Саша Андрусик, Женя Шимальский (организаторы агентства «Ухо», лидера на киевской сцене современной академической музыки), куратор и музыкальный критик Люба Морозова… Во всяком случае, я не вижу в фейсбуке и вообще в интернете никакой аналитики, рефлексии от украинских композиторов. Нет профессионального комьюнити, нет сферы публичных дискуссий. В последнее время наблюдается серьезный крен в сторону выхода за пределы дисциплины, что меня очень радует. Появляются проекты с видео, усиливается роль импровизации.
– Ну вот композитор Сергей Невский приезжал несколько лет назад в Киев на мастер-класс и потом рассказывал, что все молодые украинские композиторы пишут совершенно одинаково: у всех шум клапанов у духовых, все используют свободную нотацию…
– В такой формулировке высказывание Невского совершенно некорректно: если сравнить самых известных украинских композиторов моего поколения последних десяти лет – Максима Коломийца, Максима Шалыгина, Золтана Алмаши (он их постарше, но по духу вполне «наш»), Анну Корсун, Адриана Мокану, – это совершенно разная музыка. Что же касается подрастающей неопытной молодежи – она всегда подстраивается под тренды.
Но некорректность высказывания Невского связана вовсе не с тем, что он чего-то не знает в украинской музыке (думаю, вполне знает), а с самим феноменом мастер-классов. Композиторы, принимающие участие в мастер-классах (в том числе и тех, о которых говорил Сергей, то есть киевских, а позже львовских COURSE), знают их гласные и негласные требования (ценности) и осознанно или неосознанно подстраиваются под них. Я принимал участие как организатор в пяти COURSE, как участник – в академии МАСМа в Чайковском и наблюдал мастер-классы в Дармштадте. Кроме того, немало я знаю и о композиторских конкурсах. Что я должен сказать: везде одно и то же. Главное – внушительный вид партитуры, наличие спецэффектов, холистичность (целостность, конгруэнтность).
Скажем, когда в 2011 году я принимал участие в своем последнем композиторском конкурсе, я прислал партитуру («Голем»), которая должна была там победить просто по своему внешнему виду. Как говорится в бессмертном меме, «конец немного предсказуем»: я выиграл. Осознав, я пришел в ужас от того, как партитура звучит. Мне пришлось ее переделывать: от победившего варианта там не осталось ни одной неисправленной ноты – но, правда, от этого пьеса хорошей, живой так и не стала. Когда я вспоминаю те времена сейчас, я, мягко говоря, испытываю неловкость.
– То есть существует некая фестивальная мода, под которую вынуждены подстраиваться молодые композиторы? А в чем она сегодня заключается?
– Во-первых, если она и существует, то быстро – действительно быстро, наверное, даже быстрее, чем раз в пять лет, – меняется. Скажем, в 2010-м в Дармштадте доминировал условный Фернихоу (сверхсложные партитуры с заумными ритмами, с минимумом электроники), а молодежь была представлена условным Санчез-Чионгом, а уже через шесть лет «Санчез-Чионг» (перформативность, шоу-образность, электроника, видео, спецэффекты, диджейскость) победил. Это пример простой и несколько плоский, но таким образом можно было бы легко проанализировать, почему, условно говоря, молодые москвичи 2010 и 2016 годов писали совершенно разную музыку (при этом, разумеется, мода в Дармштадте и Москве различается).[47][48]
Во-вторых, фестивали, лейблы и другие институциональные формы предпочитают маркировать композиторов по трем-четырем очевидным признакам. У Лютославского (возможно, я тут навру, но это мне нужно для метафоры) есть высказывание: если ваше произведение нельзя описать в двух-трех предложениях, это произведение плохое. Вот такая формула применяется большинством кураторов по отношению к современной композиторской музыке. Но, по-моему, в этом нет ничего плохого (или хорошего): это просто экономия времени, мыслительных затрат (под «мыслительными» я подразумеваю не просто «думать», а «попробовать думать иначе»).
– А есть ли какой-то общественный запрос на то, чтобы украинские композиторы писали музыку, которая опознавалась бы как украинская?
– Если он и есть, я его не замечаю. Музыку очень трудно сделать национальной без слов и фольклора. Поскольку наше время вряд ли можно назвать временем расцвета обработок народных песен, а академические композиторы пишут в совершенно других жанрах, то… Зайдем с другой стороны: скажем, Тору Такэмицу опознается как японский. Но в самой Японии, насколько я знаю, его считают не очень-то своим. Другое дело, что фольклор и национальное можно имитировать – как искусственно создали баяны-балалайки в позднеимперский период в России. Тут Оруэллом пахнет: Океания всегда воевала с Остазией, русские всегда играли на балалайке.
Словом, в Украине я интереса к национальному среди композиторов, музыкальных журналистов, музыковедов не замечаю. Куда заметнее, наверное, подобный запрос в поп-музыке: Руслана Лыжичко, Джамала и так далее. Но там-то все ясно-понятно. Этническое-то композиторов может заинтересовать, но этим надо глубоко заниматься (как и всем остальным историческим, к слову), иначе будет как с «Адажио Альбинони» и «Ave Maria Каччини».
– Можно было бы ожидать, что на фоне рождения нации, увлечения вышиванками, еще недавно очень заметного, возникнет и новая национальная музыка или, по крайней мере, какое-то движение в эту сторону.
– Если я правильно понимаю повестку дня, нацию политически по-разному настроенные люди трактуют тоже различно: для кого-то, наверное, это и вправду демонстрация внешних признаков (воннегутовский «гранфалон» из «Колыбели для кошки»), для кого-то это получившее новое дыхание гражданское общество. Если трактовать во втором значении, то, наверное, запросу отвечает произведение Валентина Сильвестрова «Майдан», нечто вроде кантаты. Меня-то лично интересуют немного другие общественные формы: городские и региональные комьюнити, а также, конечно же, социальные сети, интернет. Но если говорить о моих коллегах, то, наверное, прямым откликом на события можно назвать резко возросшую роль оперного, то есть музыкально-театрального, формата; так легче отображать большие события и обращаться к большим массам. Примеры: оперные проекты, которые под патронатом Влада Троицкого (руководителя крупного киевского фестиваля «ГогольFest» и театра «Дах») делают композиторы Роман Грыгорив и Илья Разумейко.
– Можно ли говорить о том, что существует заметная традиция украинской академической музыки, по поводу которой вам нужно как-то определяться – переосмыслять ее, бороться с ней, игнорировать ее?
– Когда-то, в 1960-е годы, Сильвестров, Виталий Годзяцкий и другие представители так называемого киевского авангарда могли чувствовать себя продолжателями модерниста Лятошинского. В 1990–2000-х Виктория Полевая и Святослав Лунёв (о первой в Википедии сказано, что она относится к сакральному минимализму; и я, и, думаю, сама Виктория, мягко говоря, не очень любим это слово) продолжили традицию Сильвестрова, уже на тот момент глубоко постмодернистского, тихопесенного, а в 2000–2010-х Золтан Алмаши – Евгения Станковича (неоромантическая ветвь не без, кстати говоря, национального колорита; думаю, повлияло западноукраинское, горное происхождение обоих). Сергей Пилютиков и Александр Щетинский в 1990-х в Харькове чувствовали себя продолжателями сложного полифонического модерниста Валентина Бибика и уж точно что-то взяли у небезызвестного в России Эдисона Денисова. Пожалуй, на этом список продолжателей можно закончить, я других подобных примеров не знаю.
С ниспровергателями все проще (или мне так кажется?): киевский авангард отрицал опостылевший соцреализм, сакральные минималисты – не менее надоевший академический авангард, новые авангардисты Коломиец и Шмурак конца 2000-х и начала 2010-х – болото тогдашних Союза композиторов и композиторских кафедр. Тут, кажется, вполне общемировые тенденции – и, разумеется, в духе российской композиторской музыки. Отцы и дети, все дела.
Но вот если ты спросишь, кого продолжать или ниспровергать нынешним молодым украинским академическим композиторам, – я тебе не смогу ответить. Минкульт, Союз композиторов и консерваторские композиторские кафедры больше не определяют программу концертных залов (кроме, наверное, филармоний, и то не всех). Поэтому уже не так важно вытеснить стариков. Важнее, наверное, создавать новые форматы, запускать тренды, проводить громкие события. По-моему, в подобном процессе работает не традиционализм или «бросим Пушкина с парохода современности», а куда большая тонкость и чуткость по отношению к устоявшимся мифам и текущим мемам. Возможно, мне так кажется, потому что мне тридцать, а не двадцать или шестьдесят. А возможно, это слепок конкретного (нашего) времени, лет через десять-пятнадцать что-то сильно поменяется и в консерватории и филармонии зайдут будущие маленькие украинские Булезы (вариант: Вагнеры). Только вот сейчас в это очень слабо верится.
– Получается, у современной украинской музыки нет традиции, на которую она могла бы опереться, точнее, она вам совершенно не важна, а влияет на нее только скоротечная фестивальная мода, к которой ты сам относишься скорее пренебрежительно.
– Мне кажется, большинство современных композиторских фестивальных трендов стало возможным не столько из-за запросов общества – плевать общество хотело на маргинальную тусовку академических композиторов, – сколько из-за целенаправленной финансовой и организационной политики конкретных кураторов фестивалей.
Последнее поколение больших композиторов (о которых Владимир Мартынов говорит в интервью, что они хоть и всего на десять лет его старше, но как будто из другой эры) типа Пярта – Сильвестрова – Шнитке свое сказало, дальше лишь симпатичные, но маргинальные в медийном отношении фигуры – например, поляк Павел Шиманьский, чех Мартин Смолька; думаю, что в их странах их знают максимум два процента населения.
Какая обычному человеку, да даже и интересующемуся интеллектуалу, разница, кто сейчас в моде в такой-то стране в академической музыке? Мы что, слушаем Aphex Twin, потому что он ирландец, «АукцЫон» – потому что они русские и The Caretaker – потому что он британец? Абсурдна сама постановка вопроса. Скажем, мой любимый кинорежиссер (он, кстати, еще и электронный композитор) Квентин Дюпье – француз, но по его фильмам мы вряд ли можем это сказать. Я, смотря его фильмы, поначалу был абсолютно уверен, что он из Северной Америки.
Половина или больше талантливых молодых украинских композиторов уезжает в далекие края – Австрию, Германию, Голландию и даже Америку, и уж там им точно неважно, с какой национальной традицией они работают. Национальные границы играют роль лишь в крупных медийных проектах или, во всяком случае, политически ориентированных, а академическая композиторская музыка сейчас – дело очень узких кругов, им глубоко по барабану условности политических границ. Мир превращается в большую деревню. Хотя и не без обязательных утренних разговоров про погоду, то есть про Трампа.
– Есть какие-то влияния, которые для современной украинской музыки характерны, а для русской нет? Влияет ли на вас Польша, вообще Восточная Европа?
– Я когда-то думал, что Польша влияет, но позже осознал, что влияет, скорее, на меня самого. Я люблю тексты Лема и польскую композиторскую музыку (примеры: наш современник Павел Шиманьский, называющий себя сюрконвенционалистом; ранний Хенрик Миколай Гурецкий, когда он был авангардистом; считающийся немцем, но, кажется, совершенно наш по духу польский еврей, поздний романтик Мориц Мошковский; кинокомпозитор и джазмен 1950–1960-х Кшиштоф Комеда). Впрочем, вру, конечно: в музыке Золтана Алмаши, Любавы Сидоренко и Богдана Сегина (последние двое – львовяне) польское влияние есть. Но речь о прошлом польской музыки; сейчас контакт, кажется, прекратился, не в последнюю очередь из-за прихода в Польше к власти националистов.
А вообще на украинских композиторов сейчас, думаю, влияет все, что есть в интернете и на топовых западноевропейских фестивалях, мастер-классах… Есть конкретные институциональные влияния, связанные с деятельностью Гетеинститута, Польского института. Если бы между Украиной и Россией были нормальные отношения, а российская культурная политика была бы европейского образца, уверяю, у нас вполне прививались бы и российские академические композиторские тренды; гастролировал бы МолОт-ансамбль Артура Зобнина, лекции читал бы Владимир Горлинский, а Владимир Юровский дирижировал бы премьерами Вустина в филармониях.
Обратных же явлений, то есть целенаправленного интереса украинских лидеров мнений к конкретной национальной, региональной музыке из других стран, я не замечал. Да и зачем такой фокус был бы, ради чего?
– Вообще украинские композиторы стараются держаться заодно – сотрудничать, поддерживать друг друга – или каждый сам за себя?
– Мне кажется, что мы, скорее, одиночки. Нет ярко выраженного лидера поколения, который мог бы задать тренд, как Курляндский, Горлинский или Широков, и тем самым заставить объединиться в группу, говоря грубо, мимикрировать. Пока ты в Украине, тебе нет нужды объединяться с коллегами, так как нет профсоюза или массовой государственной либо частной поддержки композиторов в виде заказов, стипендий, резиденций. А когда ты за рубежом, на твое происхождение уже, в общем-то, никто не обращает внимания.
– Россия для украинских композиторов – это по-прежнему важная территория или сейчас про это даже бессмысленно спрашивать?
– Такая же важная, как и любая другая страна, в которой есть ансамбли, фестивали, интересные проекты и так далее; хотя и не такая важная, как те, в которых денег и возможностей больше (типа Австрии – Германии – Франции…). Щетинский, Коломиец, Мокану, Шимко, Алмаши, Вилка и я вполне себе исполнялись в России на моей памяти в последние годы. Не говоря уже о Сильвестрове. Каких-то серьезных изменений в связи с понятными событиями я не заметил. Но это и легко объяснимо: выше я говорил о том, что маленьким профессиональным комьюнити не до больших геополитических игрищ. Наверное, российским кураторам стало сложнее объяснять выделяющим деньги, почему они играют украинцев. А может, и нет: надо у них спрашивать. Это если говорить об академической музыке. В функциональной же и того пуще: я знаю молодого талантливого киевского композитора, который пишет музыку для российской компании, делающей компьютерные игры. И, уверяю, компании не до паспорта композитора, а композитору не до паспортов работодателей. При этом, разумеется, я не утверждаю, что политические и, шире, этические вопросы совершенно чужды композиторам.
– Есть ли вещи, которым молодых композиторов в условной консерватории не учат и научить не могут? Скажем, работа с электроникой или перформативные практики? И если есть, то где вы этому учитесь?
– Консерватория консерватории рознь, но мой опыт и опыт многих моих украинских коллег подсказывает, что практика и жизненные (а не учебные) ограничения заставляют образовываться куда быстрее, чем даже самый жесткий педагог-диктатор.
Вообще, мне кажется, есть три типа композиторов. Первые – мастера партитур и акустических прелестей, когда и выглядит красиво, чтобы произвести впечатление на конкурсе или мастер-классе, и звучит впечатляюще, чтобы можно было легко завладеть вниманием, которое все фрагментируется и гранулируется. Такие люди плотно изучают чужие партитуры, записи, следят за мельчайшими оттенками нотографии… Этому, кажется, наиболее естественно научиться в консерваториях и с педагогом. Композиторы этого типа, как правило, не слишком чутки к другим дисциплинам, некоторые даже и вовсе презирают прикладнуху.
Вторые – суперпрактики, они владеют всеми компьютерными программами, у них есть все микрофоны и шнуры, они на ты с видео и другими медиа. Этому в наших, по крайней мере, консерваториях если и учат, то, мягко говоря, не везде и не все. Так что только упорное самообразование. Вот этот тип наиболее удобен, функционально именно удобен для мультимедийной работы.
И есть композиторы, которые могут не обладать качествами первых или вторых, но зато умеют ярко преподнести себя кураторам, журналистам, в социальных сетях, ясно описать концепт. Это, по-моему, уж точно достигается не в консерваторских кабинетах с роялями. Для взаимодействия с другими художниками этот тип подходит наиболее легко и счастливо, потому что не забивает себе голову внутрикорпоративной, лаборантской пылью.
Я считаю, что все три описанных мной типа – не противостояние или противоречие, а необходимые элементы; некий идеальный композитор обладает всеми тремя стихиями. И консерватория этому, конечно, никак не помешает, хотя и может изрядно подпортить нервы.
– Как зарабатывают украинские композиторы? Есть ли у вас возможность писать музыку для кино или театра, хватает ли этих заказов?
– Проблема в том, что как раз написанию прикладной музыки нас не учат. Нет отделения киномузыки, музыки для игр и приложений, для театра, для ТВ. Получается забавная вещь: государство дает бюджет на образование в дисциплине, которая практически не нужна, так как нет соответствующих фондов-заказов. В результате ситуация такова: одни идут в преподаватели (и/или концертмейстеры), другие сотрудничают с театрами, центрами современного искусства, иностранными фондами (я как раз в этих рядах), третьи уходят полностью в коммерцию (ТВ, игры, поп-музыка). С моей точки зрения, это серьезная проблема образовательной системы. Будь моя воля, я бы разделил эти специальности кардинально, по-разному бы учил им, может, даже в разных вузах. Что, насколько я знаю, практикуется на Западе, в частности в США.
– В самом начале ты сказал, что уже не считаешь себя академическим композитором, хотя известен стал именно в этом качестве. Почему так?
– Чем больше я работал, думал и рефлексировал, тем больше убеждался в том, что меня не устраивает в концертной (не в наушниках дома) ситуации монодисциплинарная практика, то есть сосредоточение внимания лишь на звуках. Идея, мягко говоря, не нова, но она почти полностью ликвидирует для меня возможность быть композитором и слушателем, если я больше и в том и в другом случае. Поэтому сейчас я (сам или с кем-то) готовлю или приспосабливаю мультимедийные проекты под тот контекст и то пространство, которые я знаю или представляю.
– То есть ты больше не хочешь быть частью академической музыки вообще?
– Есть известная оппозиция подходов в отношении к цели слушания: мы считываем сообщение и переживаем его как историю – или мы погружаемся внутрь состояния и глубоко чувствуем или исследуем его.
С первым подходом у меня возникла та проблема, что без комментариев, интертекста, вообще без какого-то иного, вне необратимо сворачивающегося времени, опыта мне некомфортно общаться с моим собеседником (слушателем). Условно говоря, я скорее комментатор и аналитик, чем бубнящий (или вдохновенно читающий) обязательный текст диктор.
Со вторым подходом проблема еще более очевидная и нерешаемая – я не считаю себя вправе (да и мне банально неинтересно) устанавливать единственно возможный вариант погружения (исследования): куда естественнее делать это гибко и в диалоге с кем-то, то есть с возможностью поменять, отреагировать… Поэтому мне сейчас в этом близка структурированная (или не-) импровизация (с предварительной договоренностью либо без нее).
В связи с вышеперечисленным не вижу смысла и интереса писать просто-партитуры и исполняться. Кроме тех форм, которые я выше перечислил, мне интересны также песни, лекции, публичные беседы, интердисциплинарные лаборатории. Сейчас, когда меня просят дать старые партитуры для исполнения, я всегда в недоумении и растерянности, потому что я не знаю, что говорить исполнителям, по чему оценивать успешность, нужность и так далее исполнений. Как мне это делать, если мне не нравятся почти все параметры традиционной ситуации исполнения нотной музыки? Если мне не нравятся отношение к акустике, форма общения с публикой, порядок концерта и так далее, но не в частном случае, а именно как система?
Леонид Десятников
Родился в Харькове в 1955 году. Закончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции у Бориса Арапова и по классу инструментовки у Бориса Тищенко. В 2009–2010 годах – музыкальный руководитель Большого театра. Живет в Санкт-Петербурге.
Один из самых исполняемых современных российских композиторов. В числе важнейших сочинений: опера «Бедная Лиза» (1976), кантата «Дар» (1981), вокальный цикл «Любовь и жизнь поэта» (1989), «Свинцовое эхо» (1990) для голосов и инструментов, «Эскизы к „Закату“» (1992), симфония «Зима священная 1949 года» (1998), «Песни советских композиторов и другие фрагменты музыки к кинофильму „Москва“» (2000), «Русские сезоны» для скрипки, женского голоса и струнного оркестра (2000), опера «Дети Розенталя» (2004), балет «Утраченные иллюзии» (2011). С середины 1990-х активно сотрудничает с Гидоном Кремером как композитор («Wie der Alte Leiermann…»; камерная версия «Эскизов к „Закату“», «Русские сезоны») и аранжировщик произведений Астора Пьяццоллы. Творческое сотрудничество связывает его также с хореографом Алексеем Ратманским, поставившим на музыку Десятникова шесть балетов, в том числе «Утраченные иллюзии» (Большой театр, 2011), «Опера» (La Scala, 2013), «Одесса» (New York City Ballet, 2017) и «Буковинские песни» (American Ballet Theatre, 2017). Автор музыки к спектаклям Валерия Фокина в Александринском театре («Ревизор», «Живой труп», «Женитьба»). Автор музыки к кинофильмам «Закат» (1990), «Серп и молот» (1994), «Подмосковные вечера» (1994), «Мания Жизели» (1995), «Дневник его жены» (2000), «Москва» (2000), «Мишень» (2011) и другим.
Беседы состоялись в Перми, Санкт-Петербурге и Казани в 2015, 2016 и 2017 годах.
Фрагмент партитуры фортепианного цикла «Буковинские песни» (2017). Леонид Десятников: «„Буковинские песни“, прелюдия № 10, до-диез минор, на мотив песни „Прилетiла ластiвочка“; это святочная песня, так называемая щедрiвка, родственная (в том числе и текстуально) сверхпопулярному „Щедрику“ в обработке Николая Леонтовича».
– «Бедную Лизу», ваше первое серьезное сочинение, вы написали в двадцать один год, и это уже абсолютно узнаваемый Десятников. То есть ваш творческий почерк выработался очень рано и вы никогда ему не изменяли. Получается, вы очень быстро поняли, чего хотите от музыки?
– Нет, тогда, в середине 1970-х, я этого не понимал. Сегодня «Бедная Лиза» представляется вам цельной и оригинальной вещью, но это впечатление – кажущееся. Уж я-то знаю, из чего она сделана. Композитор всегда все знает о своих источниках, но почти никогда не раскрывает их.
«Бедная Лиза» изначально была идеей моей подруги и коллеги; она с проектом камерной оперы пришла к Борису Тищенко, своему преподавателю. Но карамзинский сентиментализм казался ему смехотворным. И я подхватил это знамя, этот скомканный кружевной платочек. Там чувствуется влияние монотонного «Пеллеаса», русской дилетантской музыки à la Гурилев – Варламов (старшие современники Карамзина) и чего-то вроде Джоан Баэз. «Бедная Лиза» была полубессознательной попыткой сделать стильную непротиворечивую вещь из разнородных элементов.
Это редкий в моей жизни случай, когда я работал, можно сказать, вдохновенно, с энтузиазмом. Я сочинял «Лизу» летом 1976 года, в пустой квартире на Васильевском острове. Садился за пианино и часами распевал, раскатывал по клавишам одно и то же – бездумно, как вьющая гнездо птица или вгрызающийся в землю крот. Нимало не думая о тех, кто, возможно, это исполнит или услышит.
– Но в какой-то момент вы ведь стали осознавать, что есть что-то, что отличает вас от других и попросту хорошо получается?
– По-моему, этот момент еще не наступил… Нет, не пугайтесь: он наступил, но я не помню точную дату. У меня нет простого ответа на этот вопрос. Иногда я чувствую, что нахожусь «у себя», в своей зоне. Или наоборот: по каким-то причинам, чаще всего связанным с условиями заказа, приходится «выходить из себя». Нам платят, чтобы мы делали то, чего мы не хотим, the life is sad.
Я припоминаю, что еще до «Бедной Лизы», во время летних каникул между первым и вторым курсами консерватории, я написал маленький цикл «Три песни на стихи Тао Юань-Мина» – и, возможно, впервые почувствовал некоторое удовлетворение от сделанного. Мне почудилось, что я на верном пути.
– А что вы ощущаете как «свою зону»?
– Я могу объяснить это в специальных терминах. Скажем, есть такая вещь, как переченье, вещь в классической гармонии абсолютно недопустимая. Но в фольклоре переченье встречается довольно часто: поют, допустим, две бабульки в октаву примерно одно и то же, но у одной в партии фа-диез, а у другой – фа-бекар. Вот я эту «фальшь» очень люблю. Конечно, в диссонансах должна быть своя логика. Что еще входит в мою зону? Я люблю сухость, жесткость, ясность, беспедальное звучание фортепиано…
– Бесстрастность.
– Ну да. Холод, холод. Текстура выбеленных временем костей, что-то такое.
– У вас есть эмоциональные отношения с материалом, который вы используете?
– Не вполне понимаю ваш вопрос. Одержимость – это эмоциональное состояние? Мне кажется, нет. Музыкальная идея, завладевающая вами, не может обсуждаться в категориях этики или психологии. Это чистая физиология.
– Мне-то как раз казалось, что в вашей музыке всегда угадывается позиция стороннего наблюдателя. Что вы никогда, как сказали бы московские концептуалисты, не «влипаете».
– Я просто не вижу в этом необходимости. Ведь я имею дело со звуком – самым чувственным материалом, гораздо более чувственным, чем подручные средства московских концептуалистов. У меня предварительный уровень «влипаро», как сказал бы Владимир Сорокин, выше просто по определению. Но вы правы: некоторая отстраненность действительно имеет место. Как Хома Брут, очерчиваю вокруг себя защитный круг, иначе же невозможно работать.
– Есть же стереотип композитора-романтика, который пишет, охваченный сильным чувством.
– Знаете, даже у самых романтичных романтиков типа Шумана или Шопена музыка очень рационально устроена. Об этом как-то не принято говорить, но они были довольно четкие пацаны.
– То есть когда вы брали, например, советские песни или тексты из школьного учебника, никакого личного отношения у вас к ним не было? Для вас это, говоря словами Леонида Парфенова, советская античность? Латинские гимны? Просто любопытный материал?
– Разумеется, у меня есть к ним личное отношение, я могу обсуждать их с близкими людьми. Но как только полуфабрикат попадает на кухонный стол, «личное» заканчивается. Видите ли… прошу прощения, позволю себе процитировать собственный не очень давно написанный текст: «хочешь хладнокровно оценить какое-либо культурно-эстетическое явление – изблюй его из души своей». В конечном счете сочинение музыки и есть такая непрерывная оценка и переоценка, учет и контроль неких звуковых феноменов.
В принципе, в том, что касается музыкального материала, я человек небрезгливый. Я не считаю, что есть какая-то музыка, которую нельзя использовать. У музыки нет этического измерения, это просто звуки, довольно абстрактная вещь. Считается, что нельзя использовать, скажем, мелодию гимна, потому что это может кого-то оскорбить. Это даже законодательно запрещено, не только у нас в стране, но и в США, например. Поэтому, кстати, Стравинскому запретили исполнять его оркестровку американского гимна. Но это все же исключительный случай.
Я могу использовать любую мелодию, любое сочетание звуков, которое устойчиво с чем-то ассоциируется. И сделать так, что его невозможно будет узнать (если это потребуется). Это не презренный материал, но и не святыня. Это просто музыкальная фактура, просто звуки. И я могу с ними обходиться как угодно. Как и любой другой композитор.
– Я хотел бы вернуться к теме выбора. У композиторов, которые несколько моложе вас, было, условно говоря, две основных жизненных стратегии: стать авангардистом или стать минималистом. Сейчас это довольно заметные музыкальные партии. А композиторам, которые старше вас, было сложно уйти от влияния Веберна. А в вашем случае?
– А про Веберна вам кто рассказывал?
– Ну вот Мансурян говорил, что к композиторам, которые не пережили увлечения Веберном и поствеберновской музыкой, люди из его компании – Сильвестров, Пярт и так далее – относились с подозрением.
– Очень поучительно. А я вам так скажу: главная цель композитора – осуществить символическое убийство отца. Пярт и Сильвестров сделали это, они, как два американских солдата, убили Веберна – и выиграли. Моя история немного другая. Я живу в Петербурге, в провинции, здесь такие красивые дихотомии не нарисуешь. В середине 1970-х, когда я учился в Ленинградской консерватории, влияние Шостаковича было очень мощным. Борис Тищенко, важный для меня в юности человек, любимейший ученик Дмитрия Дмитриевича, до конца своих дней репрезентировал эту традицию – по причинам, которые у нас сейчас нет возможности обсуждать. С другой стороны, и Уствольская, и Свиридов (в разных направлениях, но оба достаточно резко), и Борис Чайковский это влияние отринули.
В то же время в воздухе был разлит некий условный авангардизм – не обязательно маркированный Веберном, скорее Нововенской школой в целом. Как-то неявно подразумевалось: авангардизм – это да, это о-го-го. У меня, к сожалению, не было желания примкнуть к этой партии. Поэтому я с таким энтузиазмом приветствовал в начале 1980-х годов музыку Стива Райха – это было прекрасное откровение. Но, возвращаясь к тому, что мы за неимением более точных определений называем авангардизмом: скорее нет, чем да. Отношения с «СоМой»[49] – настороженно-уважительные, и надеюсь, что это взаимно. Впрочем, сомовцы – они ведь такие разные. В публичном поле я их безоговорочно поддерживаю, но в частном порядке могу и ехидное замечание подпустить. То есть известного рода лицемерие имеет место. Возможно, у меня по отношению к ним просто комплекс неполноценности.
– Почему?
– Я всегда восхищаюсь людьми, которые умеют делать то, чего я не умею.
– То есть вам непонятно, как устроена эта музыка?
– Не всегда, кстати, понятно на слух. Более того, даже с партитурой не всегда удается понять. Многие используют нестандартную графику. Обычно такого рода партитура еще и сопровождается большим количеством словесных указаний. Очень часто – на английском или немецком языке. И интерес к чтению этих предуведомлений иссякает раньше, чем ты откроешь собственно нотные листы. Но если превозмочь скуку, в девяноста пяти случаях из ста окажется, что тот же результат может быть достигнут более простым путем, с помощью более скромных средств.
– Вам, молодому композитору в Ленинграде 1970-х, было понятно, что мировая мода – это то, что происходит в Дармштадте?
– О да, конечно. У моих сверстников просто наступала эрекция, когда они слышали эти слова – Дармштадт, Донауэшинген, Штокхаузен, Хаубеншток-Рамати. Все эти запретные плоды… Я так сильно ощущал свою несостоятельность. О боже, боже, думал я, мне к этому ни на шаг не приблизиться. Мне бы надо развивать какую-то свою, местечковую фишку…
Я недавно беседовал с коллегой, которая долго и на разные лады расспрашивала меня примерно о том же: что было бы, если бы вы закончили не Ленинградскую консерваторию, а Московскую? А если бы посещали Летние курсы в Дармштадте? И от этого повторяющегося «если бы да кабы» я раздражался все больше и больше. Что было бы, если бы я учился у Лигети? Или у Берио? Стал бы я другим композитором? Писал бы другую музыку?
Мои брюзжания выдают меня. Да, это болезненный вопрос. Почему я не стал авангардистом? Мама, мама, скажи, почему? Ведь я так хотел стать настоящим, взрослым композитором.
– Давайте поговорим не про ту музыку, которая вам была не близка, а про ту, которая вам нравилась и на вас влияла.
– Но мне нравилась и сейчас может понравиться музыка, которая мне совершенно не близка. Почему-то первое, что пришло в голову, – Струнное трио Веберна, опус 20; в юности я обожал эту вещь, хотя ничего более далекого от того, что я делаю, невозможно себе представить. Возможно, такого рода привязанности были проявлением юношеского снобизма: следовало не столько проявлять склонность к чему-то труднодоступному, дефицитному, сколько обладать вещами совершенно невостребованными «за никому кроме меня ненадобностью», как говорила Цветаева. Вот, например, «Барочные вариации» Лукаса Фосса – я их очень любил, помню эту музыку довольно хорошо, но переслушивать не стал бы, пожалуй.
Если говорить о тех, кого я не разлюбил со студенческих времен, то я назвал бы Лучано Берио. Но главным открытием времен моей молодости была, как я уже сказал, музыка Стива Райха. Я услышал ее впервые году примерно в 1984-м, то есть после окончания консерватории и службы в армии. Это был то ли «Октет» 1979 года, позднее автором изъятый из обращения, то ли его новая версия, так называемые «Eight Lines», сейчас точно не помню. Наверное, минимализм был последней великой идеей в истории европейской академической музыки – идеей антиавангардной по своей сути. Конечно, не Райх ее придумал, но, если сравнивать с другими композиторами этого направления, его музыка наряду с творениями Джона Кулиджа Адамса – самая качественная.
– Есть музыка, в симпатии к которой вас сегодня сложно заподозрить, что-нибудь из разряда guilty pleasures?
– Дело в том, что мне нравится признаваться в своих guilty pleasures, а это портит весь эффект. Ну вот «Океан Эльзы» подходит?
– Не может быть.
– Да, я их обожаю. Вакарчук прекрасен, как… как Том Йорк. Люблю депрессивное искусство. Но я так редко слушаю музыку… Иногда хочется чего-то из детства. Знаете музыкальную комедию «Аршин мал алан»?[50]
– Азербайджанскую, по которой фильм с Бейбутовым?
– Я несколько лет назад наткнулся на нее в ютьюбе, потом посмотрел еще турецкую экранизацию. Просто очень классно сделанная вещь. Вот за новейшей поп-музыкой я, к сожалению, перестал следить. В отличие, например, от более молодых композиторов, условно говоря, поколения Невского – Курляндского. Они в этом смысле гораздо лучше экипированы, знают всяких новых людей, что такое рэп-баттл и тому подобное.
– Мне почему-то казалось, что вам должна быть близка музыка 1920-х: Кшенек, Вайль.
– Музыки Кшенека я, к своему стыду, почти не знаю. А вот Вайль – да, это мое. Знаете, лет пятнадцать назад Гидон Кремер познакомил меня с состоятельным еврейским дилетантом из Лондона, который хотел, чтобы я написал музыку на его либретто. Из этого, к счастью, ничего не вышло. Этот пожилой, но энергичный господин рассказывал мне, как он наводил справки, расспрашивал Гидона, на что похожа моя музыка; тот отвечал, что на Вайля. Почему он так решил – непонятно. Но Вайль мне, конечно, очень по душе. Не только хиты, но и такие вещи, как «Семь смертных грехов» и «Берлинский реквием».
– Вас с ним как минимум роднит внутренняя установка на внятность.
– Спасибо.
– Но вы же так про себя и свою музыку никогда не формулировали?
– Знаете, когда я познакомился с [композитором и музыкальным критиком] Петром Поспеловым, он первым делом спросил меня: «Вы вообще теоретизируете по поводу своей музыки?» Надо сказать, что такого рода вопросы в Петербурге не задают, они могут привести к эпилептическому припадку. Это ведь такая интимная вещь! Я просто не понимаю, как можно рассказывать про прелиминарии, кульминации и кадансы. Не из опасения, что украдут идею, а просто… это же страшный privat. Так что Пете я ответил, что ничем таким, слава богу, не занимаюсь. И он где-то, наверное, в голове поставил галочку: так, человек из деревни, интуитивный дилетант.
– Можно же говорить не про кухню, а про выстраивание общей линии.
– Кредо? Исповедание веры? Понимаю. Но я по-прежнему не собираюсь распространяться на эту тему.
– То есть у вас никогда не было желания как-то сформулировать собственные цели, и вообще – выстроить свою биографию? Как, знаете, художники меняют даты написания ранних вещей, чтобы они лучше ложились в их представления о самих себе.
– Наверное, в жизни каждого человека бывают моменты, которые задним числом опознаются им как некие знаки. Знаки судьбы, прошу прощения. И знаки судьбы мерзким голосом отличницы-шестиклассницы как бы говорят мне: какого хрена? Что ты из себя строишь «композитора Десятникова»? Это, в сущности, так нелепо. В общем, нет у меня никакой биографии.
– В вашей жизни было много случайностей? Связанных, например, с заказами.
– Иногда сложно отличить случайность от закономерности. Нам ведь свойственно думать, что наша жизнь подчиняется некоему плану, не правда ли. И с помощью незначительных умственных спекуляций мы можем обнаружить закономерность в чем угодно. Вот пример: впервые я услышал Гидона Кремера в Харькове в 1971 или 1972 году. «Quasi una Sonata» Шнитке в его исполнении стала одним из сильнейших впечатлений моей юности. Есть сильное, почти непреодолимое искушение связать счастливую историю наших дружеских и творческих отношений, завязавшихся в середине 1990-х, с тем давним катарсисом. Наверняка беллетрист так и поступил бы.
– Ну, скажем, стали бы вы так много заниматься танго и аранжировками Пьяццоллы, если бы Кремер не заказал вам эти вещи?
– У меня ведь и до сотрудничества с Кремером были какие-то опыты с танго. Была музыка к фильму «Закат», это конец 1980-х; там я, правда, микшировал танго с клезмером. В танго есть сухость, острота, широкие возможности ритмического жонглирования, позволяющие иронически переосмыслить предмет (что блестяще удавалось Шнитке). Все это мне близко. Так что, наверное, я бы и сам к этому пришел.[51]
Я познакомился с музыкой Пьяццоллы еще до того, как его стали слушать все вокруг. То есть я, можно сказать, присутствовал при зарождении волны нового, на сей раз академического интереса к музыке Пьяццоллы. (И моя ложка меда есть в этом улье.) Впервые я услышал ее в доме своего друга, пианиста Павла Нерсесьяна, и, помню, она показалась мне ужасно симпатичной. Для меня вообще всегда была важна эта тема: как примирить высоколобую музыку, к которой я принадлежу в силу своего профессионального статуса, с драйвом, которого ей так недостает, но которого так много за пределами академического лагеря.
Для меня Пьяццолла был образцом счастливого соединения того и другого. Все-таки его относительно простая музыка в ритмическом отношении устроена более сложно, чем какая бы то ни было попса. Он любит необычные приемы звукоизвлечения. К тому же его музыка преимущественно акустическая, что меня необычайно привлекает.
– Просто я слушал вашу знаменитую инструментовку «Утомленного солнца» и думал: что вам в этом может быть интересно, как композитору? Кажется, что вам это попросту очень легко должно даваться.
– Ну, не знаю, наверное, меня это просто заводит. Для меня сочинение, как я уже сказал, очень физиологический процесс. Я работаю за роялем, у меня с инструментом складываются личные отношения. Вот смотрите: у меня очень большое расстояние, «шпагат» почти, между большим и указательным пальцами. Значит, под пальцами рефлекторно оказываются не вполне стандартные расположения аккордов… Танго – мой мутный объект желания, я буквально обнимаю и разнимаю его. Если вы играете на каком-нибудь музыкальном инструменте, вы меня поймете.
– Вы говорили в интервью, что в профессии вам ближе всего подход ремесленника, но то, как вы сейчас это описываете, не слишком похоже на отношения часовщика с шестеренками.
– Мы ведь в точности ничего не знаем про часовщика, про эти отношения. Странный предмет в глазу, монокуляр, то, как напряженно он сжимает его своими вéками… Произнесите вслух «фрезеровщик»: само это слово в своем фонетическом облачении содержит странные, сосредоточенные отношения человека с предметом. Фрезеровщик. Шерхебель. Рубанок. Благотворный автоматизм, приводящий к умиротворению в конце рабочего дня. Мы ничего про это не знаем. Мы с вами не фрезеровщики.
– Вы чуть раньше сказали про иронию, и это понятие вообще довольно часто с вами связывают. Что вы вообще про него думаете? Насколько оно важно для вашей музыки?
– Насколько я знаю, ирония – это такая сложная вещь, что не стоит даже заводить разговор на эту тему. Если мы начнем с Сократа, то не закончим никогда. Вроде бы в новой истории под иронией подразумевают что-то вроде глумления, это имеет какое-то отношение к юмору и сатире, да? Но, верите ли, мне это совершенно не свойственно. Я всегда серьезен. Да, временами имеет место некоторое отстранение от материала, мы чуть раньше говорили об этом в связи с советскими моделями, но это ведь не то же самое, что ирония, верно?
– Интересно, что сейчас попытки такого рода выглядят почти вызывающе. Это чувствовалось, например, на Дягилевском фестивале [в 2015 году]: когда исполняли вашу версию песни «Враги сожгли родную хату» из саундтрека к кинофильму «Москва», зал просто обмер. Пятнадцать лет назад на нее, конечно, никто так не реагировал.
– Честно говоря, я в этот момент думал только о том, что певица вступила не вовремя, а контрабасист не сразу это понял. Впрочем, этого, кажется, почти никто не заметил. Но да, что-то такое было. После нее, кажется, публика не аплодировала? Был какой-то неловкий момент.
– Это внезапно оказалась страшно крамольная вещь. Это же Блантер, память Победы, дедывоевали.
– Я, признаться, думаю об этом даже с некоторым удовлетворением. Мне, разумеется, отвратителен этот новый контекст, и в то же время вчуже интересно наблюдать, как он меняет смысл моих сочинений. Увы, я не могу объяснить людям, которых это якобы может оскорбить, что… Ну нет там никакой иронии. И пятнадцать лет назад не было. Но никакие аргументы не сработают. Им невозможно ничего объяснить. Они просто с другой планеты. Они идиоты.
– С какими еще сочинениями случилось что-то похожее?
– С «Зимой священной 1949 года». Это самая моя монументальная вещь. Оркестр, хор, в первой редакции орган, солисты. Задумывалась она как некая игра в археологическую находку, смысл и значение которой неясны. Можете даже использовать ненавистное мне слово «постмодернизм». Весь советский континуум этой вещи, переведенный на английский язык с пионерским акцентом,[52] – это некий артефакт, ключ к пониманию которого утерян. Идея понятна: это был конец 1990-х, и всем казалось, что Советский Союз исчез безвозвратно.
Но сейчас оказалось, что вовсе нет, не безвозвратно. В нынешнем политическом контексте эта вещь приобрела новое звучание. Для тех, кто ее услышит сейчас, она будет звучать не так, как в начале нулевых. Премьера состоялась в Йене, в бывшей ГДР, и вот как ее там слушали, что в ней слышали? Непонятно. В Виннипеге, где ее тоже исполняли, был большой успех, но что он обозначал, какую степень понимания? Позже симфония исполнялась в Санкт-Петербурге, и там реакция публики была иной, чем в Германии и Канаде. Я меньше всего хотел, чтобы «Зима» звучала как политический памфлет. Но пошлая реальность расставляет свои акценты.
– Вы упомянули постмодернизм – как вам кажется, это понятие имеет отношение к вашей музыке?
– Нормальный человек вообще-то противится навешиванию на него ярлыков. Ну кому нравится носить бейджик? Из бейджика вы узнаете имя человека, но ничего – о нем самом. Что касается самого этого термина: я, можно сказать, присутствовал при его появлении в России. Его ввел в русскоязычный обиход Александр Тимофеевский и чуть ли не первым напечатал его на страницах отечественной прессы. Это слово обсуждалось бесконечно; очень скоро стали писать и говорить, что постмодернизм закончился, потом оказалось, что он жив, и так далее, и так далее. Особого удовольствия это переливание из пустого в порожнее не доставляло. Силясь понять что-либо в отношении, например, Фассбиндера, я догадался, что совершенно не обязательно использовать расхожую терминологию, если ты уже обладаешь неким текучим знанием о предмете. Мне нравится мое собственное (возможно, смутное, не всегда вербализованное) представление о вещи, принадлежащей только мне одному.
– А склонность к цитатам? У Сорокина про вас есть такая строчка: «Чтобы рождать свое, ему необходимо мучительно заглядывать в чужое». Вы и сами говорили, что использование цитат для вас насущная потребность. Откуда она берется?
– Я думаю, это нужно всем композиторам. Чтобы начать работу, нужно от чего-то оттолкнуться; нужно нечто вроде макгаффина. Это не обязательно цитата или готовая формула. Это может быть интервал, тембр, ритм. Невозможно изобрести новый сложный ритм, он все равно будет состоять из простых сегментов. Этот вопрос – от чего именно оттолкнуться – не принципиален.
– Скажем, «Бедная Лиза» начинается с узнаваемого мотива из Шестой симфонии Чайковского. Что такого рода цитаты мне как слушателю должны сообщать?
– Они сообщают вам, что это не случайное совпадение. Что я сочинил три ноты, привел их в движение с помощью ритма и подумал: «Да, я знаю, чтó это напоминает», а потом решил – и пусть напоминает. В этом есть смысл: мотив непреклонного фатума из Шестой симфонии отлично вписывается в историю «Бедной Лизы». Видимо, так я рассуждал в двадцать лет.
– Можно ли сказать, что в вашей музыке такого рода отсылок больше или они почему-либо заметнее, чем у других композиторов?
– Просто я этого не скрываю. Я показываю вещи швами наружу, вы всегда видите, как это сделано. А многие не показывают и вешают вам лапшу на уши. Но, мне кажется, надо быть честным мальчиком. В этом нет никакой доблести, это норма жизни.
– Вас не задевает, что эта честная позиция очень уязвима? Всегда найдутся желающие сказать «у него нет ничего своего».
– А я себя и так чувствую уязвимым. Таким я родился, таким меня воспитали. Ты всегда в уязвимой позиции, говорят мне десятки поколений предков. У меня даже имя пораженческое, не напрасно же оно мне досталось. Леонид – синоним поражения, спартанцы, битва при Фермопилах и так далее.
– Это мне как-то в голову не приходило.
– А вы думали, меня назвали в честь Леонида Ильича Брежнева? Я не так молод.
– Спрошу про другое. Почти все композиторы, с которыми я беседовал, в какой-то момент разными словами говорили примерно одно и то же: что сочинение музыки для них – разновидность молитвы. Такой религиозный ритуал. А Губайдулина вообще сказала, что композитор не может быть нерелигиозным, такова специфика композиторской работы. Вы с этим согласны?
– Я думаю, что все композиторы, какую бы музыку они ни писали, чувствуют про свою работу примерно одно и то же. Между композиторами вообще довольно много общего, хотя все будут настаивать на различиях. Я ничего нового вам по этому поводу не сообщу. Разве что остерегусь употреблять слово «молитва», оно не из моего лексикона. Но что-то близкое к этому, да. Некое метафизическое измерение присутствует в нашей деятельности. А назвать его можно как угодно. Транс. Или гимнастика.
– У вас было когда-нибудь в жизни ощущение, что вы часть чего-то большего? Какой-то школы? Композиторского поколения?
– Давным-давно мы с Александром Тимофеевским и другими людьми, с которыми я дружил в молодости, поняли, что никаких поколений не существует. Берберова написала про Набокова: «Наше существование отныне [по прочтении ею «Защиты Лужина»] получало смысл. Все мое поколение было оправдано». Я понимаю это таким образом: есть некоторое минимальное количество людей, только их и надо принимать в расчет. Поэтому о поколениях давайте не будем говорить, мы их отметаем, нет никаких поколений, ни оправданных, ни не оправданных.
Школа… Я вообще не понимаю, что это такое. В новейшей истории не существует никаких школ. Даже Нововенская школа – это какая-то фикция. Есть три композитора – Шенберг, Берг и Веберн – вот вам и вся школа. В школьном классе должно быть хотя бы человек двадцать, верно? Можно говорить о школах применительно, скажем, к музыке XVI века. Франко-фламандская школа – это не совсем то же самое, что Союз композиторов.
– А русская композиторская школа?
– Я бы не стал обобщать. Недавно впервые в жизни, к стыду своему, прочитал «Летопись моей музыкальной жизни» Римского-Корсакова. Замечательная, надо сказать, книжка. Ну не было «Могучей кучки», понимаете? Кюи был, мягко говоря, не очень интересным композитором, Балакирев – фанатичным безумцем, человеком со странностями. У них были сложные отношения, то они сходились, то расходились. А это, ставшее общим местом, противопоставление кучкистов-славянофилов и западника Чайковского, это же полная ерунда. Не было ничего такого на самом деле…
С другой стороны, в какой-то момент действительно понимаешь, что превращаешься в «одного из». Становишься человеком, про которого написан некролог. Осуществляя эгосерфинг, обнаруживаешь себя внутри фразы «X, Y и другие представители петербургской школы», которой, как мы условились, не существует. Или «NN исполнит сочинения Вайнберга, Десятникова, Раскатова, Шнитке». Когда-то сказанные в шутку слова входят в стандартный журналистский набор клише, которыми тебя характеризуют. И так далее.
– То есть как вы ни старались отстраниться от петербургского мифа, все равно в результате стали его частью.
– Это преувеличение. Не знаю, кем надо быть, чтобы чувствовать себя «частью мифа». Я выхожу из дому, сажусь в маршрутку – и сразу становлюсь никем, безымянным пассажиром. Я минимально включен в петербургскую музыкальную инфраструктуру и чувствую себя там довольно спокойно. В этом смысле в Москве я даже испытываю некоторое неудобство – потому что приезжаю по делам, живу в центре и довольно много общаюсь со знакомыми и незнакомыми людьми. А в Петербурге иной раз пройдешь по Невскому и ни разу ни с кем не поздороваешься…
Ну, окей, я готов признать, что являюсь частью чего-то такого – при условии что мы не будем употреблять пафосных терминов вроде «русской композиторской школы». Да, являюсь, но со всевозможными оговорками. Например, я склонен к некой гладкописи, что для русской музыки вовсе не характерно. В русском гении должно присутствовать кустарничество, некая самоделковость, и никаких долбиц умножения, сказал Борис Парамонов, и у меня нет оснований ему не верить. Русская музыка – это что-то размашистое, дилетантское; Мусоргский – вот ее эмблема.
– То есть про Мусоргского нельзя сказать, что у него все четко устроено?
– Нет, конечно. Несколько редакций обеих главных опер, множество незаконченных сочинений. Вот у Чайковского было стремление к совершенству, к законченности, и он как раз не вполне характерная для русской музыки фигура, как ни странно. А о перфекционизме Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича никто и не заикается, нет такой темы. У Шостаковича очень, очень много заунывной минорной диатоники о суровой крестьянской доле. Но мы любим его, как говорится, не только за это. Я же пытаюсь делать… скажем так, небольшие отшлифованные, отполированные предметы.
– Да, это звучит не слишком по-русски.
– Это еврейский червь русской музыки, точащий ее изнутри. У Венедикта Ерофеева есть в записных книжках такая цитата: «Василий Розанов: тайный пафос еврея – быть элегантным». Это про меня, конечно. Элегантность, призванная разрушить духовные скрепы.
– А ваша увлеченность азиатской музыкой – «Возвращение» с музыкой гагаку, «Путешествие Лисы на Северо-Запад» – это русская или европейская черта? «Путешествие» немного похоже на восторг Дебюсси при виде яванского гамелана, такое наркотическое опьянение Востоком.[53][54]
– В России эта ориенталистская традиция существовала – и довольно эффективно – задолго до Дебюсси. А образцом для подражания в «Путешествии Лисы» послужила «Шехеразада» для сопрано с оркестром Равеля. В «Лисе» нет заимствований оттуда, но, возможно, есть нечто общее в звучании оркестра.
– Любопытно, что ваше самое первое сочинение – это три песни на стихи китайского поэта. То есть ваш интерес к Востоку начался довольно давно.
– Но я-то этого не знал. Я просто что-то нащупывал… Вообще, что интересно в неевропейской музыке? Она вроде бы позволяет расслабиться и избавиться от ощущения иерархичности. Вы слушаете рагу или мугам – музыку, в которой нет ни верха, ни низа, ни главного, ни подчиненного. Можете заснуть, через 59 минут проснуться, а рага будет на том же месте. Она устроена по совершенно другим законам. Но что в ней крайне важно? В ней нет пауз. В западной традиции тоже есть музыка (назову, к примеру, Мортона Фелдмана, Александра Кнайфеля), которая, минуя рацио, апеллирует к вашей сокровенной сущности, что бы под этим ни подразумевалось. Но к трансу эта музыка не приводит, в самадхи не погружает, потому что содержит паузы, обязательные элементы авангардно-медитативного стиля. В эти паузы может ворваться что угодно – скрежет металла, гудки машин, лай собак. В этом большая стратегическая лажа такой музыки: она проницаема. И это не вызывает умиления, как вызывает умиление хрупкость или поношенная дырявая одежда. В этом смысле «4'33''» более гомогенная вещь, потому что она представляет собой одну большую паузу, и против этого не попрешь.
– Все-таки это для западного слушателя рага – музыка, в которой ничего не происходит. С точки зрения индуса, там происходит очень много всего.
– Но мы этого не можем знать. Нам просто недоступен этот тип, этот способ слушания.
– Мы, по крайней мере, понимаем, что он слышит нечто совсем иное. Он слышал эти раги с детства, и они так же понятны и привычны, как для нас – сонатная форма или трехминутная поп-песня.
– Да, и это просто два разных мира, совершенно не смыкающихся. Это моя любимая тема, глубоко не политкорректная. У меня есть книга Татьяны Морозовой «Рага в музыке Хиндустани». Она написана нормальным академическим языком, но я, наверное, никогда не смогу ее прочесть, там есть вещи, абсолютно недоступные. Мое понимание восточной культуры, выраженное в том числе и в музыке, – это и есть западный (он же русский) ориентализм. Понимание не то, чтобы поверхностное – с точки зрения той культуры оно глубоко неправильное. Но иного понимания у меня нет.
* * *
– До сих пор мы никак не упоминали «Детей Розенталя». Кажется, разговор о них вызывает у вас смешанные чувства. Как будто вам не очень приятно вспоминать всю эту историю.[55]
– Ну, в общем, да. Но я немного смягчился в сентябре 2015 года, когда мы заново записывали оперу. И почти оттаял во время монтажа, когда несколько раз приезжал в Москву и просиживал часы в студии со звукорежиссером, прекрасным Геннадием Папиным, и его неутомимым ассистентом Еленой Сыч.[56]
– А до этого?
– До этого я просто редко о ней вспоминал. Но она не состарилась, не поблекла; слушается, как говорится, с неослабевающим интересом. (Это я как сторонний слушатель говорю.) Мне кажется, все, кто принимал участие в процессе, работали без отвращения.
И все же я не очень люблю первую сцену. Действие начинается слишком поздно. Я имею в виду пролог: первый монолог Розенталя и эксперимент по созданию гомункулуса Моцарта. С «Утраченными иллюзиями» та же история: недолюбливаю первую картину, не знаю почему. Род невроза. Как вхождение в холодную реку – момент достаточно болезненный. Но потом погружаешься с головой и спокойно плывешь.
– Ваши сложные эмоции, возможно, связаны с тем, что «Дети Розенталя» стали вашей «Лолитой» – не самым главным и не самым любимым, но, в силу обстоятельств, самым известным вашим сочинением?
– Ну, возможно.
– Что вы думаете спустя много лет о постановке Някрошюса в Большом театре?
– Не так давно я случайно наткнулся в ютьюбе на фрагмент его интервью. Эймунтас говорит там примерно следующее: «Не знаю, зачем я здесь нужен, все мизансцены уже содержатся в музыке». Так странно было услышать это. Может быть, это мне приснилось?
В этом спектакле были изумительные находки. Например, в конце дуэта Моцарта и Тани внезапно возникал оловянный солдатик. Он так взмахивал руками… на это невозможно было смотреть без слез.
Тем не менее почти с самого начала я, пожалуй, отождествлял себя с героем «Театрального романа». Помните то место, где ему грезится нечто вроде волшебного фонаря? Через несколько дней он осознает, что сочиняет пьесу, и этот примстившийся ему идеальный, небесный театр разбивается вдребезги при столкновении с грубой реальностью. Мне думается, это коллизия, с которой в той или иной степени сталкивается каждый автор.
– Как вам кажется, почему оперу не стали ставить на Западе? Она оказалась слишком постсоветской? Реплики про лохотрон и «жириновочку», понятные только нам аллюзии – все это слишком герметично? Ведь ее сценическая судьба могла сложиться не менее удачно, чем судьба, скажем, «Жизни с идиотом» Шнитке.
– Кстати, я не думаю, что театральная история «Жизни с идиотом» и других его опер так уж удачно складывается. Это все дело случая. Бессмысленно искать какие-то закономерности. Вероятно, я был недостаточно активен (по правде сказать, совсем пассивен) в ее продвижении. Памятуя о посмертном, двухсот-, а то и трехсотлетнем забвении Клаудио Монтеверди, надо просто выучиться ждать.
– Или оказался непонятен именно такой тип игры с оперными штампами и она просто не вписалась в контекст современной оперной сцены?
– Может быть, не вписалась. Может быть, еще впишется когда-нибудь. Сейчас ведь нет какого-то главенствующего тренда. Между прочим, Большой театр привозил свой спектакль на оперный фестиваль в Савонлинну, и публика там была исключительно доброжелательна.
Но, возможно, вы правы. Вот и Александр Ведерников считал, что текст либретто слишком сложен для восприятия за пределами РФ, его сложно понять даже с помощью субтитров. Наверное, «Детей Розенталя» следовало бы перевести на язык той местности, где они могут быть представлены. Такие театры существуют, исполнение оперы на языке оригинала вовсе не является догмой.
– Коснемся неизбежной темы скандала вокруг премьеры. Что вы сегодня чувствуете по этому поводу?
– Да как-то ничего.
– В это сложно поверить. Вы же не настолько хладнокровны.
– Я не хладнокровен. Конечно, было слегка противновато. Правда, я не сталкивался с пикетчиками лицом к лицу. Я видел их издалека; они отрабатывали свои роялти в сквере у Большого театра, а я шел на репетиции от Большой Дмитровки по Копьевскому переулку к Новой сцене, так что наши маршруты не пересекались.
– Вы не опасались, что скандал повлияет на судьбу оперы?
– Мне почему-то казалось, что все будет хорошо. Времена были вегетарианские, еще было позволительно так думать. Мы были абсолютно уверены в своей правоте.
– Это же были первые шумные акции «Идущих вместе», которые тогда еще не назывались «Нашими».
– Кстати, одним из вариантов названия оперы было «Идущие вместе». Это придумала моя подруга художница Ира Вальдрон. Мне понравилось, и я сунулся с этим к гендиректору Большого Анатолию Иксанову. Но он посчитал, что незачем кидать этим подонкам сахарную косточку, слишком много чести. Так что это название не прошло.
– А ваши с Сорокиным музыкальные вкусы совпадали?
– Ну… у меня нет права на музыкальный вкус. Это Володе можно, он меломан. А я не обладаю вкусом и не должен обладать. Мне больше приличествует музыкальная всеядность, согласитесь.
– Но у вас же есть какие-то симпатии и антипатии, они как-то помогали или мешали при работе? Известно, что вы любите Пуленка, Онеггера, Стравинского, но их нет в опере. А есть, например, Чайковский, которого вы явно с любовью выписывали, хотя любить Чайковского для современного композитора, наверное, почти фрондерство.
– Да я никогда и не чувствовал себя таким уж современным. Может быть, поэтому у меня не было проблем с Чайковским. Просто его музыку невозможно не знать, хотите вы этого или нет.
– В кого вам было легче или, наоборот, сложнее перевоплощаться? Вот Вагнер, скажем, уж точно не ваш композитор?
– Именно с него я и начал, а начать всегда трудно, я долго раскачиваюсь. Потом как-то втянулся. Сложнее всего, наверное, было бы с Моцартом, если бы связанный с ним эпизод не был, по счастью, таким коротким.
– Любопытно, что Моцарт – главный герой этой оперы, но моцартианской музыки в ней почти нет.
– Последняя картина, ему посвященная, идет минут пять. Либреттист оказался ко мне милостив. Вот если бы из-за требований сюжета мне пришлось работать с ним столько же, сколько с остальными, потребовались бы дополнительные усилия. Думаю, мне было бы тяжело преодолеть некоторое недружелюбие, которое я испытываю к его музыке.
– А что у вас с Моцартом?
– Эта тема заведет нас слишком далеко. Все уже сказано Гленом Гульдом, присоединяюсь. Гульд записал все клавирные сонаты Моцарта; тем не менее его отношение к этому автору можно охарактеризовать одним словом – неприязнь. Я мало что могу к этому добавить.
– Обычно, если современная опера берет в оборот старую музыку, она обходится с ней довольно радикально. Как Кейдж в «Европерах» или как Шаррино в «Лживом свете моих очей», где мадригалы Джезуальдо соседствуют со сверхавангардным материалом. Вы же к ней относитесь очень бережно, с таким удовольствием растворяясь в чужой музыке, что, кажется, вам нужно специальное усилие, чтобы сохранить зазор между ней и собой, своим авторским «я».
– Так ведь конец времени композиторов, алле! Мы должны самоуничтожиться. Мое растворение в потоке – имитация самоубийства. Это, конечно, некое надругательство над самоидентичностью. Но если ее нет – нет и надругательства.
– Ну как же нет самоидентичности? Ее ведь не спрячешь. Мы слышим Вагнера, Мусоргского, Чайковского, но так же ясно слышим Десятникова.
– Думаю, в моей музыке нет явного противопоставления своего и чужого, как у Шаррино. Или как это было у Шнитке: диссонанс – авторское, консонанс – от лукавого. Со временем этот контраст все равно сглаживается. Наверное, в музыке XVIII века тоже были контрадикции такого рода. Но мы так далеко уплыли, что уже не различаем их. Никто ведь не понимает разницы между Французскими и Английскими сюитами Баха. Устроены они примерно одинаково: аллеманда, куранта, сарабанда, жига; между двумя последними частями – паспье, или полонез, или менуэт, не важно. В Английских аллеманде предшествует прелюдия, а во Французских – нет, но в чем сущностное различие? Чем английское «мясо» отличается от французского? Мы не знаем. Вот так и с Шаррино: через двести лет разница между Шаррино и цитируемым им Джезуальдо будет не очень заметной. Останется чистая, несемантическая, бездуховная физика: громко – тихо, ноты – паузы, медные – деревянные.
– В каком-то смысле вы эту гипотезу «Детьми Розенталя» и проверяли. Это как бы пять мини-опер композиторов разного времени и при этом – одна большая опера Десятникова, которая должна производить впечатление цельной вещи.
– Если авторский голос там как-то выражен (но не вполне авторский, а… как бы это сказать? авторский голос à la Шнитке), то только в конце предпоследней картины, где герои умирают в страшных судорогах. Там появляются жуткие кластеры, разрозненные обрывки фраз, явный демонтаж чего-то, и все это звучит как музыка, написанная в 2004 году. Или в 1956-м. Но такого стиля требовала драматургия.
– В одном интервью перед премьерой вы говорили, что не чувствуете себя частью модернистской традиции XX века и с удовольствием ее игнорировали, работая над «Детьми Розенталя». Это ведь, в общем, и всей вашей музыки касается?
– Композитор Сергей Невский по случаю моего юбилея написал остроумную статью, в которой доказывает как раз обратное. Но я предпочитаю пореже думать об этом: я не хочу каждую секунду сверяться с каким-то гипотетическим катехизисом и уподобляться людям, которые все время взвешивают, правильно или неправильно они действуют с точки зрения церкви. Надо быть свободным от этого.
– Ваша свобода заключается, в частности, в том, что вы почти не используете модернистский язык. Он вам просто неинтересен?
– Нет, отчасти интересен. У меня довольно большой слушательский опыт в том, что касается новой музыки. Если говорить, например, о новом инструментарии (понимаемом не в общем смысле, а чисто конкретно – как использование новых инструментов и новых приемов звукоизвлечения на инструментах традиционных), то вот что меня всегда изумляло: когда композиторы используют эти самые новые приемы, вы слышите только их. Больше ничего нет – только каталог, только парад аттракционов. Даже у таких грандиозных композиторов, как… Ну, не будем переходить на личности.
– Иными словами, вам интересно разобрать на винтики музыку XVIII века, услышать Рахманинова в советской эстраде, соединить Малера с клезмером, а японское гагаку – с русской протяжной песней, вам вообще интересны музыкальные гибриды, но условного Штокхаузена в этом коктейле не будет никогда.
– Мне интересно увидеть сходство там, где прежде его никто не замечал. Найти общее в Пьяццолле и «Аве Мария» Баха – Гуно, смешать, но не взбалтывать. Как в детской картинке-головоломке – увидеть тигра и козла в беспорядочном клубке линий.
А с отсутствием должного энтузиазма в отношении нового инструментария – тут все гораздо проще. Для того чтобы использовать эти приемы звукоизвлечения, нужно прежде всего очень этого хотеть. Затем встретиться с музыкантом, чтобы он показал, до каких пределов можно дойти, что можно сделать с его инструментом. Вот здесь заминка: мне труден контакт такого рода. Я просто не могу заставить себя вторгаться в эту интимную сферу – взаимоотношения музыканта с инструментом. Я не хочу быть третьим лишним.
– Известны же случаи, когда композиторы себя, можно сказать, заставляли. Вот как вы думаете, почему Стравинский в конце жизни начал писать в серийной технике, которая была ему совершенно не близка? Он чувствовал, что стареет? Ему хотелось угнаться за веком?
– Это сложный вопрос. [Музыковед] Ричард Тарускин считает, что дело в присущем ему комплексе провинциала, как ни странно. Стравинский осознавал, что центр музыкальной культуры находится в некой воображаемой Вене, в идеальной Германии, если угодно. А черт догадал его родиться в России, вот он и повернул туда, где, как ему казалось, находится центр.
– Он чувствовал, что эта новая техника не органична для него, но полагал, что легко сможет ее освоить и доказать всем Булезам и Штокхаузенам, что он и так умеет.
– Ну да, в этом был вполне мальчишеский азарт. Иногда мне кажется, что этот поворот был ошибкой. Я недавно слушал «Threni». Вот непонятно, зачем так сложно для певцов? Им просто не за что зацепиться. Сплошное хождение по канату, ни тоники, ни доминанты, ни дублирующих инструментальных партий… Это вообще моя главная претензия к модернистской музыке. Ведь ровно того же результата можно достичь более экономным способом.[57]
* * *
– Когда вы вызывали духов умерших композиторов, не стало ли вам в какой-то момент жутковато? «Дети Розенталя» – это же настоящий советский «Некрономикон», магический гримуар Союза композиторов. Мало того что эти пять композиторов – ожившие портреты, висевшие в школьном классе на уроке музыки, у вас там еще и все вожди разом, от Сталина до Ельцина. Все это происходит на сцене Большого театра, месте тоже энергетически довольно тяжелом, – в общем, это такое сочетание, которое не может не воскресить какого-нибудь Ктулху.
– Леша, просто у меня такая работа; жутко мне не было, напротив – даже уютно в каком-то смысле. Ведь я работал с советским каноном, а я кое-что про это знаю. У меня было обычное советское детство, в том числе и в музыкальной школе. Плохое забылось, остались вполне идиллические воспоминания. На исправительно-трудовой лагерь это было мало похоже. Наверное, в какой-то момент жизни хочется иметь дело с чем-то знакомым, привычным, а не искать новых путей и новых берегов.
Вот сейчас я работаю с украинским фольклором. Я впитал его, можно сказать, с молоком кухонной радиоточки. Хочется как-то воскресить этот мелос, просто прикоснуться к нему.
– Это какой-то украинский заказ?
– Нет-нет, я это делаю исключительно для себя и пианиста Алексея Гориболя.[58]
– Интересно, что современные украинские композиторы с этим материалом практически не работают.
– Видимо, для этого надо надолго уехать оттуда. Тогда станет интересно.
– «Дети Розенталя» – это в каком-то смысле еще и опера про судьбу композиторов в СССР. Там ведь по сюжету в начале 1990-х государство перестает о них заботиться и они вынуждены побираться на привокзальной площади. Это любимый сюжет Владимира Мартынова – про великую систему жизнеобеспечения композиторов, замкнутый хрустальный мир, который рухнул вместе с Союзом. Вы же его немного застали.
– Да, застал.
– Не отражает ли этот сюжет ситуацию конца 1980-х – начала 1990-х, когда чуть ли не все известные композиторы уехали из страны? Вы-то как раз были редчайшим исключением.
– Знаете, у всех композиторов были на это совершенно разные причины. Я не уехал, потому что мне это как-то не приходило в голову и к тому же у меня не было никаких особых возможностей. В 1990 году мне было тридцать четыре, и я был очень счастлив, но в смысле карьеры я был один, как пес, никаких контактов у меня не было. Но я об этом особенно и не думал, потому что очень увлеченно работал. Когда работаешь, не важно, голоден ты или нет. Это был прекраснейший период моей жизни.
– Вот этот мир оперы в ее советском изводе, в который вы занырнули, – в нем же было такое странное ощущение удушающего комфорта и невероятной важности каждой взятой ноты. Валентин Сильвестров рассказывал, что в советское время ему казалось, будто бы власть следит за каждым неправильно взятым аккордом.
– И это довольно странно, ведь все эти неправильные аккорды принадлежат к авангардистскому периоду его творчества. Но в какой-то момент Сильвестров стал сочинять аккорды, которые глуповатую советскую власть вполне могли устроить, не правда ли?
– Да, на премьере «Тихих песен» в 1977 году, с которых начался его уход в «новую простоту», к нему подходили киевские чиновники, которые прежде его травили, и говорили – ну, теперь совсем другое дело!
– Мне рассказывали похожую историю (возможно, апокриф) про «Бранденбургский концерт» Екимовского. Но здесь в роли чиновника выступала пожилая родственница автора. Она якобы говорила: вот видишь, можешь же, когда захочешь![59]
– А что вы думаете про современную оперу как жанр? Что с ней происходит?
– Я не очень в курсе, по правде говоря. Но мне страшно понравилась опера Раннева из сверлийского цикла. Спектакля я не видел; аудиозапись производит ошеломительное впечатление. Там поразительно все вычислено. Эта тема мухобоек, которая исторгается в невероятной кульминации,[60] – один из самых мощных оргазмов, какой только можно вообразить. Потом все разрежается и прекращается с неукоснительной геометрической прямотой… Это устроено, как партитуры Пярта, притом что ничего более далекого от музыки Пярта невозможно себе представить.
– Возможна ли в принципе современная опера, которая была бы не модернистской и не постмодернистской, не авангардной, а вполне традиционной – но не второсортной?
– Мне кажется, да, – с множеством оговорок. Не так-то легко понять, что такое традиционная, но вместе с тем современная. Вот, скажем, Пуленк, «Груди Терезия», опера, написанная в 1944 году. Совершенно простецкая, как бы ар-декошная, иначе говоря, с нововенской и постнововенской точки зрения глубоко немодная. Но довольно симпатичная. Или, скажем, «Умница» Орфа. Разве они не имеют права на существование? Как только появится опера, которая будет обладать всеми признаками оперы неавангардной и в то же время будет не замшелой, ее полюбят все. Конечно, если она будет талантлива.
* * *
– Что вы считаете своим главным сочинением?
– (После паузы.) «Любовь и жизнь поэта». Боюсь, что так. Что я должен чувствовать по этому поводу? Ведь она написана почти тридцать лет назад.[61]
Роберт Крафт рассказывал, как съемочная телевизионная группа приезжала вместе со Стравинским в Швейцарию, чтобы запечатлеть престарелого мэтра в местах, где создавалась «Весна священная». Крафт пишет: «Стравинский смотрит на комнату, где он писал партитуру, и в его глазах отражается осознание того факта, что, видимо, „Весна священная“ была сочинением, которое он так и не смог превзойти на протяжении всей своей долгой жизни». Это ужасно печально. Я не Стравинский и мне нет еще восьмидесяти, но иногда я думаю: как это странно… Если главная вещь уже написана, зачем париться и что-то потом еще писать?
Я хорошо помню, как сочинял «Любовь и жизнь поэта». 1988 год, страшная разруха… Но я был счастлив как никогда в жизни – по причинам личного характера, о которых я тут распространяться не буду. Тогда как раз начались публикации «взрослых» стихов Хармса и Олейникова. Хармса я прочел в «Новом мире» вместе с его дневниками, а Олейникова – в ксероксе с тамиздатовской книжки, кажется, издательства «ИМКА-Пресс». Как раз в ту пору мы были очень дружны с Александром Тимофеевским. Наши с ним разговоры, бесконечно увлекательные, на самые разнообразные темы, очень меня вдохновляли и, видимо, оставили отпечаток на «Любви и жизни поэта».
Вещь эта довольно макабрическая, шесть из семи песен – в беспросветном миноре. Я посвятил ее памяти моего отца, умершего в 1987 году. Там три стихотворения Олейникова и четыре Хармса. Написан этот цикл для тенора и фортепиано, и тенор подразумевался совершенно конкретный – несравненный Владимир Напарин. В Москве он позже прославился как исполнитель главных ролей в «Повороте винта» и «Альберте Херринге» Бриттена на фестивале «Декабрьские вечера». И Рихтер, и Дорлиак его обожали. Карьера Напарина складывалась довольно удачно, но через некоторое время он уехал в Израиль, где проживает и по сей день. Надеюсь, у него все хорошо.
– Вы же не сразу поняли, что это ваша главная вещь? Как это вообще происходит?
– Как я уже сказал, я просто был очень счастлив, когда сочинял ее. Это чувство редко испытываешь во время работы. Я медленно пишу, долго сижу над одной нотой. Мне нужно время, чтобы удостовериться в том, что это правильная нота. И что все ноты находятся на своих местах. В случае с «Любовью и жизнью поэта» убедиться в этом было не так уж сложно: только голос и фортепиано, и оба этих инструмента – в твоем распоряжении. Алексей Гориболь считает, что долговременное сидение композитора над одним маленьким эпизодом вовсе не мучение, но некая разновидность нарциссизма.
– Но нарциссизм этот работает, когда все получается – а получается, вероятно, не всегда так, как хочется?
– К сожалению, да. Но когда все вроде бы уже получилось, а ты продолжаешь выстукивать по клавиатуре одно и то же и, дойдя до конца страницы, начинаешь заново… вот что это? Непонятно. Иногда можно споткнуться – и вдруг осознать, что эта ошибка правильней, чем то, что ты уже сто тысяч раз сыграл. То, что я вам сейчас описываю, – совершенно кустарный труд, как изготовление богородской игрушки, каких-нибудь медведей на качелях. Сидишь и снимаешь стружку. Абсолютно неинтеллектуальное занятие.
– Примерно тогда же вы начали работать над «Свинцовым эхом», еще одним важным для вас сочинением.
– Я наткнулся в одной из поэтических антологий на стихотворение Джерарда Мэнли Хопкинса и был совершенно потрясен – не столько оригиналом (мой английский был тогда в зачаточном состоянии), сколько переводом Ивана Алексеевича Лихачева. Как-то это совпало с моей тогдашней депрессией и первым (из примерно четырех) кризисом среднего возраста. «Эхо» датировано 1991 годом, а начал я его в 1989-м. Я очень долго, можно сказать, мучительно его сочинял. Долго не мог начать, потом застрял где-то на середине… Однажды увидел по телевизору «Тихий дом» Шолохова, там на заставке звучала группа Laibach, такой мрачный перепев битловской «I Me Mine». И жесткое движение баса в этой песне помогло мне продвинуться дальше.
Я с самого начала знал, что должен быть контратенор. Принято считать, что «Свинцовое эхо» как-то связано с английским барокко и глубокой меланхолией музыки Перселла. Ну, возможно.
…Зачем я вообще это написал? Не знаю. Была амбиция впервые сочинить вещь на иностранном языке. Предъявить что-то такое, что было бы понятно за пределами нашей необъятной родины. До сих пор не знаю, грамотно ли там все сделано с точки зрения языка. Хотя ее записывал английский певец, и вроде бы никаких претензий у него не было. А может, всем это просто безразлично? Не исключаю, что я где-то ошибся, но не слишком. Скажем так: вариант нормы. Игру с ударениями можно встретить и в популярной музыке, и вообще где угодно.
Стравинский, кстати, с ударениями обходится довольно ловко. Я имею в виду его поздние англоязычные вещи, но особенно балладу «Авраам и Исаак», написанную на иврите, которого он не знал. Он еще в юности, сочиняя «Три стихотворения из японской лирики», придумал, как передать специфику японского стихосложения (в японском языке, как вы знаете, нет силовых ударений). Способ простой и радикальный: все ударные слоги (русского перевода) стали безударными, и наоборот. Похожую технику он применяет в «Трех песнях из Шекспира», «Потопе», «Сове и Кошечке». Разумеется, он прекрасно знал, как поставить ударение в английском слове. Но перед композитором, для которого язык не является родным (как бы прекрасно он на нем ни говорил), вопрос логического ударения – главного слова во фразе или периоде – в сложно организованной поэзии всегда остается открытым.
– Для вас ваша музыка – это непосредственное продолжение вас или это такой параллельный мир, который начинается, когда вы садитесь за рояль или открываете партитуру, и заканчивается, когда вы ее закрываете?
– Для меня это, пожалуй, параллельный мир. Вероятно, между мною и этими… продуктами жизнедеятельности существует какая-то связь, но мне не дано понять ее.
– У вас меняется отношение к собственным сочинениям?
– Трудно сказать. Я их не переслушиваю, нет такой потребности. Мне достаточно знать, что есть запись, сделанная под моим контролем.
Мне даже сложно их оценивать как что-то свое. Столько времени прошло… Это уже нечто самостоятельное, кровной связи я не чувствую. Во время концерта думаешь только о возможных ошибках музыкантов, художественное впечатление получить невозможно, ты просто работаешь отделом технического контроля. Это чисто утилитарное слушание, ни о каком катарсисе и речи быть не может.
– У вас есть неосуществленные замыслы или незаконченные вещи?
– Замыслов довольно много. В основном это такие маниловские прожекты, не имеющие никаких реальных оснований. Незаконченные вещи есть тоже, но обычно композиторы используют их в других произведениях, и я в этом смысле не исключение. Все идет в работу.
– Когда вы ретроспективно смотрите на свои сочинения, вам видится какая-то цель, к которой вы сознательно – или бессознательно – все это время шли?
– У меня никогда не было никакой стратегии, и про свои цели и задачи я всегда понимал только задним числом. По-видимому, Райх оказал на меня большое влияние, но это было последнее, что как-то изменило саунд и смысл моей музыки. И это было давно. Но когда я слышу «Бедную Лизу» или что-то, написанное в 1980-е или даже 1970-е, – потому что эта музыка до сих пор исполняется – я думаю: как странно, что в ней уже содержалось все.
Дмитрий Курляндский
Родился в Москве в 1976 году. Окончил Московскую консерваторию по классу композиции.
Победитель конкурса «Gaudeamus» (Нидерланды, 2003), конкурса на оперное сочинение Иоганна Йозефа Фукса за оперу «Астероид 62» (Австрия, 2011). Обладатель премии Джанни Бергамо в области классической музыки (Швейцария, 2010), премии имени Франко Аббьяти Итальянской национальной ассоциации музыкальной критики (2017). Приглашенный профессор композиторских курсов Impuls в Граце (Австрия), Sound of Wander в Милане, Руайомоне (Франция), Апельдорне (Нидерланды), COURSE (Украина), Tzlil Meudcan (Израиль), консерваторий в Амстердаме, Милане, Сан-Себастьяне и других. Музыкальный руководитель московского Электротеатра Станиславский. Художественный руководитель Международной академии молодых композиторов в г. Чайковском (Пермский край) и композиторской лаборатории «Открытый космос» в Москве. Один из основателей композиторской группы «СоМа». Основатель и главный редактор первого в России журнала, посвященного современной музыке, – «Трибуна современной музыки» (2005–2009).
Автор опер «Астероид 62» (2011), «Сверлийцы. Увертюра. Начало» (2012), «Носферату» (2014), «Октавия. Трепанация» (2017), один из композиторов оперы «Галилео. Опера для скрипки и ученого» (2017). Автор перформанса-инсталляции «Commedia delle arti», представленной в российском павильоне Венецианской биеннале современного искусства в 2017 году. Музыку Курляндского исполняли оркестры SWR, Национальный оркестр Лиона, Оркестр Артуро Тосканини, musicAeterna, Московский симфонический оркестр, ансамбли KlangForum Wien, Schoenberg, InterContemporain, МАСМ, Recherche, 2e2m, Contrechamps, Quatour Diotima, Kairos quartet и другие; его сочинения регулярно исполняют на фестивалях (Donaueschingen, MaerzMusik, Venice biennale, Musica Strasbourg, Huddersfield, Athens festival, Archipel, Transart, Klangspuren Schwaz, Elektra Montreal, ISCM WMD, Warsaw Autumn). Живет в Москве.
Беседа состоялась в Москве в 2016 году.
© 2015 by Stichting Donemus Beheer, Rijswijk
Фрагмент партитуры «Vacuum pack» (2015) для голоса, тромбона, фортепиано, глокеншпиля, скрипки и электроники. Дмитрий Курляндский: «В какой-то момент я почувствовал, что мне недостаточно сочинять только сочетания звуков или даже сами звуки. Мне стало важно сочинять нотацию и стратегии взаимодействия музыкантов с текстом – и, через текст, друг с другом.
На первой странице происходит вот что. Вокалистка наклоняется ухом к одному из четырех стоящих перед ней стаканов и прислушивается. Стаканы дают шум разной высоты (эффект морской раковины). Она поет услышанный тон и как будто опускает его в другой стакан – поет в него. От выдоха стакан чуть запотевает – конденсат позже в пьесе становится самостоятельным материалом, с которым работают музыканты. „Положив“ звук в стакан, певица снова прислушивается к другому стакану, подхватывает новый звук и переносит его дальше. При этом каждый стакан подзвучен и выведен на отдельную колонку, так что каждый переход звука увеличен переходами пространственными. Описание может звучать громоздко и надуманно, но в концертной реальности мы слышим очень тихую и нежную медленную мелодию, которая перемещается в пространстве зала.
На второй странице певица „кладет“ в стаканы короткие звуковые события, или последовательности событий. Стоит добавить, что во время этого материала четыре других музыканта сидят в холодильниках со стеклянными дверьми. Эти двери – их инструменты. Они дышат на стекло, водят по стеклу пальцами (пишут свои имена) и разными предметами. Холодильники тоже подзвучены изнутри. Постепенно их материал накапливается в большой шумовой волне, которая накрывает материал певицы. Тогда певица разбивает стакан. Музыканты открывают двери холодильников, и от этого микрофоны „заводятся“. Это довольно сложное, но в основе своей логичное путешествие. В конце которого музыканты „играются“ с разбитым стеклом в коробке, как в стеклянной песочнице».
– Для современной музыки в России вроде бы настали неплохие времена. Про композиторов вашего поколения много говорят, вас часто исполняют, у вас есть свои слушатели. Правда, их количество увеличивается не так уж сильно – это все равно очень узкий круг, практически гетто. Примерно как круг любителей современной поэзии.
– Абсолютная правда. Но я не вижу в этом проблемы. Мне нравится, что я знаю, с кем я имею дело. Это раньше произведение искусства было чем-то вроде спам-рассылки – всем и каждому. Сейчас эта рассылка адресная, для подписчиков. Знаете, Владимир Мартынов любит порассуждать о конце времени композиторов, о смерти автора, невозможности больших фигур. И да, коллективный автор, который обращался ко всем, отвечал слушательскому запросу, действительно невозможен. Раньше традиция распространялась на целое сообщество авторов, проживалась композиторским поколением или даже несколькими – законы музыки могли не меняться по сто лет, люди рождались и умирали внутри, скажем, эпохи барокко. А сейчас один автор может быть равен целому жанру, эпохе, стилю, традиции. А иногда даже одно сочинение. Раньше эпоха была больше человеческой жизни, а сейчас – меньше.
Можно ностальгировать по прошлому, но я не хочу. Потому что все это не означает конца времени композиторов – ведь родился новый автор, индивидуальный. На частной территории. И это же здорово! Мне очень нравится, что мы все разные. Что мы все по-разному воспринимаем. Странно, если даже очень близкий мне человек будет чувствовать как я. Мне хочется, чтобы он чувствовал как никто другой. И мне хочется именно эту его непохожесть обнажать.
Искусство сейчас не объединяет, а разъединяет, в этом его задача. Обнаруживает нашу разность, разные реакции и предпочтения. У нас как-то был в Питере круглый стол про невозможность гимна, объединяющей национальной идеи – любая национальная идея сегодня становится точкой конфликта, несогласия. У композитора Иштвана Зеленки есть сочинения, к которым дается предписание «исполнять наедине с собой или в кругу близких людей». Если и можно представить сегодня гимн, то он может быть только таким – который исполняют очень разные люди дома, для самих себя. Мы объединяемся через разделение – это такой новый тип объединения, когда множество индивидуальностей сидят дома у мониторов и смотрят один и тот же сериал. Мы вместе, но каждый в своей психогеографии. Но это будет не национальный, а общечеловеческий гимн.
– Ваш коллега Сергей Невский замечает, что в той же Германии широкая публика не знает имен современных композиторов, зато у них все в порядке с заказами. В России все наоборот – здесь про вас пишут GQ, Esquire и Vogue, но при этом ни заказов, ни господдержки нет вообще никакой.
– Это все индивидуально. В Германии, конечно, есть и композиторы-медиагерои, скажем, Йоганнес Крайдлер. Не говоря уж о Георге Фридрихе Хаасе, у которого вообще довольно скандальная известность – у него специфические сексуальные предпочтения, которых он не скрывает, недавно женился на черной садомазо-рабыне, она его привела на свадьбу с кляпом во рту… В общем, желтая пресса о нем любит писать. Заказы у наших композиторов в основном из Европы. Но и в России заказы случаются – от театров, музеев, частных арт-институций. Но господдержки нет, это да.
– Ренессанс новой авангардной музыки у нас начался где-то в середине нулевых. И сейчас многие опасаются, что все это ненадолго – Министерство культуры ваша деятельность скорее раздражает, масштабные проекты вроде «Платформы» свернуты, остались только отдельные очаги новой музыки. Нет опасения, что новое поколение композиторов просто уедет, как сделали почти все известные композиторы в конце 1980-х – начале 1990-х, от Шнитке и Губайдулиной до Канчели и Пярта?
– Тот исход был вызван, к слову, не обострением, а застоем. У меня, конечно, такое ощущение тоже есть. Другое дело, что у меня это ощущение последние лет десять. Причем именно в формулировке «еще год-два – и все». Мало того, оно крепчает с каждым годом. Но это же не значит, что не надо ничего делать. Лично я делаю все, что могу, чтобы наше дело не схлопнулось. В России на глазах складывается удивительная новая среда, интердисциплинарная – с нами теперь хореографы, художники, режиссеры и так далее. Единственный вопрос – как она будет выживать. Но мы выживаем не за счет государственных субсидий – нам их никто и не дает. Так что я не вижу, что тут может обрушиться – нечему. Важно, что мы не ложимся под существующие традиционные институции – как это произошло с музыкой в 1990-е. Почему-то художники, скажем, стали создавать новые организации вне условного Союза художников, и сейчас они вполне влиятельны, независимы и могут что-то поддерживать. А музыканты – нет. Композитор Владимир Тарнопольский создал Центр современной музыки, одну из важнейших организаций в нашем поле, внутри консерватории – и в итоге, как он сам признается, большая часть энергии уходит на борьбу с этой структурой. Очень не хочется повторять эти ошибки. Поэтому все свои проекты я стараюсь организовывать на независимых территориях. Эта новая среда – она не связана ни с чем. Ни с филармониями, ни с Москвой – очаги есть по всей России. И даже те, кто уезжает, не теряют с ней связи – они и в Европе действуют вне институций и занимаются тем же самым, чем занимались здесь. За рубежом тоже есть свои проблемы, там тоже все непросто.
– Вы ведь для целого поколения молодых композиторов стали примером того, что можно заниматься музыкой, причем довольно радикальной, получать заказы, быть известным – и при этом никуда не уезжать.
– У меня была довольно странная ситуация: когда я закончил консерваторию, я понял, что почти все мои коллеги, активно и успешно пишущие музыку, – за границей. Почти все, кто заканчивал консерваторию на год, два, три раньше меня, – уехали. Остались только я и Леша Сюмак. На всей этой огромной территории было какое-то выжженное поле: мы, потом провал и потом – кое-кто из поколения наших педагогов, композиторов круга «Ассоциации современной музыки – 2».[62] После моего выпуска несколько лет ничего не происходило, только в нулевые стала закручиваться какая-то новая ситуация – стало активным поколение тех, кто родился в 1980–1990-е, появились новые площадки, новые возможности, новая публика.
– Если представлять историю новой музыки в России как историю композиторских поколений, то вашему, похоже, повезло больше, чем поколению АСМ-2 – Екимовскому, Караеву, Тарнопольскому. Им досталось немного бурного внимания в 1990-е, потом интерес схлынул, с вами пока такого не произошло.
– Я, пожалуй, срединная точка «своего» поколения – я 1976 года, моих ровесников среди композиторов довольно мало. Есть чуть постарше – Сережа Невский, Боря Филановский, и очень заметная группа тех, кто родился в 1980-х, – Володя Горлинский, Коля Хруст. Про АСМ-2 у меня есть свое мнение. Им одновременно и повезло, и не повезло. Они ведь очень долго жили в совершенно закрытой советской ситуации, варились в маленьком котле вместе с Денисовым, Губайдулиной и Шнитке.
– Которых они, судя по всему, довольно сильно ревновали. Виктор Екимовский даже напишет в своей автобиографии: «Все мои коллеги тихо бродили вдоль глухого денисово-шнитке-губайдулинского забора».[63]
– Как часто бывает в закрытых сообществах. При этом Эдисон Денисов был для них безусловной отцовской фигурой. Он им очень помогал, поддерживал, буквально за руку водил – это видно и в переписке Денисова с учениками, и в дневниках, и в частных наших беседах они про это много рассказывали. Все они от него очень зависели. И тут вдруг перестройка, открываются границы и на них обрушивается невероятный интерес всего мира. Их приглашают на фестивали, заказывают музыку. И получилось так, что им не пришлось предпринимать абсолютно никаких усилий для того, чтобы завоевать аудиторию и интерес профессионального сообщества. Все получилось само – да еще и Денисов их лоббировал. Этот легкий старт многим помешал – он отменял необходимость собственных усилий. А эти усилия, конечно, очень важны. Все-таки любой композитор сталкивается с разного рода сопротивлением на пути к исполнению собственной музыки, важно уметь с ним работать. Ну и когда перестроечный интерес ко всему русскому спал, многие композиторы АСМ-2 оказались не в самом лучшем положении. Причины этому разные – и справедливые, и несправедливые.
– Несправедливые – это какие?
– Дело в том, что система современной музыки, которая включает в себя фонды, институты, концертные залы, фестивали и так далее, – это система, в общем-то, безответственная. Она может поманить и бросить. Дать заказ, пообещать, а потом повернуться спиной. Но все люди разные. Не все могут выживать в условиях дикого леса. Это проблема нашей образовательной системы, равно как и культурной индустрии: выживают только сильнейшие. Я не уверен, что это правильно.
У системы должна быть ответственность перед тем, на кого она обращает внимание, кого отмечает. Она должна помогать слабым. Это, конечно, звучит чистой романтикой. Но я вижу много композиторских судеб, погубленных исключительно характером композитора, недостатком внутренней воли. А ведь не всякий обязан быть сильным! Получается, ему что-то обещают, а потом оставляют за бортом. Возможно, ему просто требуется время на адаптацию, ведь не все сразу могут сходу сориентироваться на новой территории.
– А как было бы правильно? Фонд дает заказ молодому русскому композитору и обещает не забывать и заказывать еще?
– Так и происходит во многих странах – крупные фонды активно поддерживают не реализовавшихся классиков, а тех, кому реализоваться сложнее, – классик и без дополнительной поддержки выживет. Вообще, это большой разговор, и хорошо, что мы его завели. Он давно меня интересует – где-то с начала 2000-х, когда я начал функционировать и как композитор, и как зачинатель всяких инициатив. Я возглавляю композиторскую академию в городе Чайковский, веду мастер-классы, вижу много будущих композиторов. И мне лично страшно важно видеть за каждым произведением человека. Система же оценивает произведения, а не людей. Но когда имеешь дело с людьми, степень ответственности другая. Она выражается не в том, что ты ему даешь заказ. Как раз интерес к автору, проявленный на уровне лишь одного произведения, часто оказывается ударом по этому автору.
Ведь как бывает? Композитор получает заказ, чувствует обращенное на него внимание и начинает дальше двигаться в том же направлении. И быстро загоняет себя в рамки, становится рабом им же придуманной схемы. Очень многие начинают писать по инерции, исчерпываются и уже не могут восстановиться. Получается, что система культивирует в композиторе только одну сторону, не давая второй, третий шанс. А он абсолютно необходим!
Дело не в заказах. Очень многие композиторы, особенно в начале пути, готовы работать бесплатно. Деньги – это важный, но вовсе не главный стимул. И во всех своих проектах я стараюсь ориентироваться именно на человека, а не на продукт, который он производит.
– А кем вы видите себя в этой системе? Общественником-романтиком, основателем кружка «Бригантина» с молодыми талантами? Который потом приходит к тем, кто обладает властью и бюджетами, и говорит им: «У меня тут талантливые ребята, давайте их поддержим»?
– Я не вижу себя частью системы, я в каком-то смысле пытаюсь создать свою систему. Для начала просто обратив внимание на этих ребят, потому что это внимание им в определенные моменты важнее заказов.
Характерно, что и система меняется тоже. Приведу только один пример. В 2004 году я был во Франции в академии молодых композиторов. Главным педагогом там много лет был Брайан Фернихоу, один из изобретателей «новой сложности». Выглядело это все очень традиционно: он выходит к доске и три часа читает лекцию. Чертит какие-то графики, рассказывает про ритмические соотношения, временные пропорции. Иными словами, есть некая жесткая система, набор композиторских инструментов, которые он передает ученикам. Точно так же всегда выглядели и дармштадтские лекции, вся послевоенная современная музыка преподавалась именно так.
Через десять лет я снова приезжаю в эту академию, уже в качестве педагога. Опять за главного Фернихоу, я прихожу на его лекцию, он выходит… И никакой лекции нет! Никаких схем! Он берет стульчик, просит студентов сесть в круг и начинает говорить о смысле жизни, о своих жизненных проблемах, спрашивать, что их сегодня беспокоит. Вот – буквально в одном кадре – как меняется система.
Потому что про техники уже не так актуально. Я помню себя и своих коллег, и российских, и зарубежных, десять лет назад, и могу сравнить с тем, что происходит сейчас. Уровень инструментальной композиторской подготовки вырос невероятно. Сегодня композиторы как семечки щелкают сложнейшие структуры, формулируют невероятные технологические задачи и решают их в кратчайшие сроки. Если самому Брайану потребовалось, условно говоря, десять лет на то, чтобы сформулировать и реализовать идею «новой сложности», то сегодняшние студенты придумывают гораздо более сложные вещи в считанные месяцы.
И при этом – все в тотальной депрессии. Чем больше у композитора в руках готовых техник и инструментов, чем виртуознее он ими владеет, тем сильнее его разочарование.
– Потому что не понимают, что с их помощью сказать?
– Композиторы слишком долго задавали себе вопросы «Как?» и «Что?» и совершенно забыли про вопрос «Зачем?». Недавно Фарадж Караев дал очень характерное интервью, раскритиковав нашу композиторскую академию в Чайковском. Один из наших педагогов, классик современной музыки, сказал, что много говорит с учениками на философские темы, и Фараджа Караевича это возмутило, он даже сказал, что не допускал бы таких педагогов до студентов на расстояние пушечного выстрела. Мол, пусть задачки решают гармонические, Шенберга анализируют, а не болтают попусту.[64][65]
И это поколенческая история. Да, так раньше учили, все образование было выстроено именно на идее решения задачек, передачи готовых схем от учителя к ученику. Но это больше не работает! Вопрос «Зачем?» сейчас важнее. Потому что с «Как?», в общем-то, нет проблем. Причем нет настолько, что некоторым выдающимся коллективам, играющим современную музыку, композитор, по большому счету, уже не нужен. Они исполняют чужие вещи просто по инерции. Жанровая сетка так устоялась, инструментарий так артикулирован, систематизирован и ясен, что условному «заслуженному коллективу» композитор вообще непонятно зачем. Они сами могут сесть, сказать друг другу «и-и, раз» и сыграть произведение в той эстетике, которую они успешно культивируют.
– То есть сыграть новую вещь Фернихоу без самого Фернихоу?
– Запросто. «Новая сложность» – это просто пример, можно выбрать и какой-нибудь другой жанр.
– Звучит довольно печально.
– Конечно. В том-то и дело.
– И в первую очередь саморазоблачительно по отношению к новой музыке. Получается, ее можно просто изобразить, сымпровизировать, и никто не отличит от оригинала.
– Не изобразить, у них получится именно эта музыка! Во времена Моцарта точно так же садились и на «раз-два» импровизировали менуэты. Именно потому, что менуэты стали сложившимся законченным жанром, автореферентным, самодоказуемым. То же самое произошло и с «новой сложностью». Ее можно спокойно поставить в воображаемый музей жанров и техник современной музыки и наслаждаться точно так же, как мы наслаждаемся любыми другими закончившимися жанрами, ставшими традицией.
Но попытка передавать эту традицию от поколения к поколению приносит только тоску и разочарование. Потому что в этой и любой другой традиции зашито очень много всего – социальная, экономическая, политическая ситуация того времени, когда она была в силе. Пытаясь ее передать, ты передаешь весь этот шлейф, весь контекст сразу. И это не работает, потому что сейчас и традиции сменяются быстрее, и существуют они в сложном напластовании друг на друга – мы живем в поликонтекстуальном мире. И одно это отменяет идею передачи композиторских традиций от учителя к ученику.
– И как будет выглядеть ваша идеальная новая консерватория, в ней больше не будут учить полифонию и разбирать мотеты Машо? Упрек, брошенный вам Караевым, звучит как «сперва научитесь оркестровке, а потом разговаривайте про смысл жизни», а вы ему в ответ – нет, ребята, в новом мире это уже не нужно. А что нужно?
– Понятно, что есть какое-то обязательное знание, но все-таки не надо делать из консерватории культа. Среди классиков современной музыки есть самоучки – Сальваторе Шаррино, Хельмут Эринг, Паскаль Дюсапен. Они прекрасно вам расскажут и про законы строгого стиля, и про Машо, и про что угодно. В конце концов, самообразования никто не отменял.
Консерватория учит техникам, дает знания о школах, и это нужно и важно, но в гораздо меньшей степени объясняет, из какого контекста этот инструментарий рожден. Я же предлагаю сфокусироваться именно на контексте. Зачем были нужны именно такие техники? Как они появились, кто их изобрел? Генетика может быть индивидуальной, связанной с конкретным человеком и его биографией, а может быть генетикой целой эпохи. Я для своей композиторской лаборатории придумал слоган «мы не учим сочинять, мы учим сочинять как сочинять». То есть учим обнаруживать собственные мотивации, внутренний контекст, из которого должны вырастать частные техники каждого отдельного композитора.
– Очевидно, знание контекста, из которого вырос, например, послевоенный авангард, может привести студента к естественному вопросу: «Хорошо, а при чем тут я?»
– Или наоборот – о, это для меня! Ведь если ты начинаешь разбираться в собственной, индивидуальной генетике, в том, что подходит лично тебе, то может оказаться, что тебе прекрасно подходит инструментарий Штокхаузена или Моцарта, почему нет? Может быть, тебе это как раз очень органично, и вся биография готовила тебя к тому, чтобы писать менуэты. Это вполне возможно, и есть такие примеры.
– Споры про авангард часто сворачивают на разговоры о том, что все это уже было, все давно придумано Кейджем (Шельси, Ноно) и в новой радикальной музыке нет ничего нового. Вот и вам даже европейские музыковеды говорят, что ваша музыка похожа на то, что делал немецкий композитор Хельмут Лахенман в 1970-е годы.
– Говорят, и это меня ужасно удручает. Но не похожесть, которой в действительности нет. Ну да, Лахенман использует шумы, и я использую шумы – но этим наше сходство ограничивается. Разве Лахенман – это только звук? Ведь главное в нем вовсе не это. Лахенман придумал сложнейшую дискурсивную практику, переосмысляющую то, что мы называем «красотой», это его реакция на коммерциализацию «красоты» в 1960-е. И это в нем важно, а не то, что он оперирует шумами. С тем же успехом можно сказать, что Моцарт, Гендель и Бах похожи друг на друга, потому что все они использовали звуковысотность. Тогда в истории музыки было всего два композитора: Лахенман и Моцарт. Или, как один теоретик написал, музыка делится на акустическую и электронную. Ну тогда да, привет, спорить не о чем.
Внешнее сходство вообще может только путать. В конце концов, сочинения могут звучать абсолютно одинаково, но быть абсолютно разными. Несколько лет назад в нашей композиторской академии в Чайковском композитор Клаус Ланг сыграл на стареньком рояле местного музучилища свою пьесу под названием «Багатель». Это была просто гамма до-мажор, сыгранная в спокойном темпе сверху вниз, по всей длине клавиатуры. Но дело было не в гамме, а в том, как он играл с педалью, с удержаниями клавиш: какие-то ноты оставались звучать, образовывались облака из обертонов. Это была невероятная, тончайшая работа за поверхностью гаммы до-мажор. То есть он просто давал проявиться чему-то, что в этой гамме скрыто. А в прошлом году в том же самом классе на том же рояле немецкий композитор Петер Аблингер сыграл свою пьесу под названием «Диагональная линия». И это тоже была нисходящая гамма до-мажор в спокойном темпе, но пьеса была совершенно другой – его интересовало, как звучит диагональная линия, то есть перенос графики в звук. Чистый формализм. Внешне это не просто похожая композиция, а буквально одна и та же гамма. При этом – совсем другое сочинение.
Посмотрев на эти работы, я собрал студентов и дал им задание – сочинить каждому по нисходящей гамме до-мажор. Сказал им – вас пятнадцать человек. И вы, и я понимаем, что звучать гаммы будут совершенно одинаково. Сочиняется не гамма, а то, что за этой гаммой. И сам предложил несколько вариантов. Например, микроцитаты: представьте, что каждая нота этой гаммы – это ссылки на расхожий фортепианный репертуар. Одна нота – первый этюд Шопена, другая – Скрябин. Представили? Теперь сыграйте. Звучит гамма, а слышишь калейдоскоп цитат из разных эпох. Другой вариант – пьесатабулатура. Берется аппликатура какой-нибудь двухголосной инвенции Баха, то есть то, какими пальцами надо играть каждую ноту. И этой аппликатурой, совершенно неудобной для обычной до-мажорной гаммы, ты ее играешь. Получается такой выпрямленный Бах. Студенты принесли несколько очень красивых и принципиально разных концептов. Представьте себе концерт из пятнадцати абсолютно разных сочинений, которые все звучат абсолютно одинаково! Я обязательно хочу такой устроить.
– А вы верите в композиторский прогресс? В то, что одна техника сменяет другую и музыка становится все лучше и лучше, интереснее и интереснее?
– Я могу лишь констатировать, что все определенно куда-то движется. Не знаю про «лучше», но очевидно, что вектор – от коллективного к индивидуальному. И не только в композиторском поле, а во всем. И в технологиях, и в способах ведения войн. И все очень ускоряется. Если раньше жанровые схемы, которыми оперировали композиторы, могли не меняться на протяжении веков, то потом века сменились десятилетиями, а сейчас за время звучания одной композиции может возникнуть, утвердить себя и завершиться целая традиция.
Сейчас все сводится к обострению и утончению оптики. Ученые в Средние века и во времена Возрождения были междисциплинарными специалистами: они и подводные лодки придумывали, и летательные аппараты, и звездами интересовались, и подводным миром. А потом все двинулось по дороге все более узкой специализации, «я занимаюсь только закручиванием винтиков». А сейчас все вышло на какой-то субмолекулярный уровень, где уже нет различия между объектом и средой. Движение это? Да. Но куда-то внутрь.
– И вам интереснее быть не междисциплинарным специалистом, а человеком, который закручивает субмолекулярные винтики?
– В нулевые я именно что закручивал винтики. Я придумал очень четкую систему работы со звуковым материалом, назвал ее «объективная музыка», многим композиторам в разных странах эта идея пришлась по душе. А в последнее время перешел в разряд междисциплинарного деятеля. Потому что мне стала интересна территория «до продукта» – до рождения сочинения, до того, как выбраны техники. До звука. До начала творчества, в общем. И на этой территории я перестаю различать – я вообще где? Это точно не территория музыки, точнее не одной только музыки. Театра? Хореографии? Визуального искусства? Может быть, философии, куда я просто побаиваюсь шагать, потому что недостаточно начитан? Это какая-то мотивационная зона, которая может прорасти в любое из искусств. И именно в ней я обнаруживаю нового творца, нового артиста – слушателя, зрителя. По сути, это выстраивание нового института – института восприятия как активного творческого процесса. И вот этот слушатель-творец – это совершенно ренессансный персонаж, потому что он и звезды, и весы, на которых они взвешены. А понятия «прогресса» в этой оптике, по-моему, нет.
– Это у всех ваших коллег так? Ведь композиторы XX века безусловно верили в прогресс в музыке, для них он был просто символом веры. «Современному человеку нужна современная музыка». И отношение к прогрессу у них было вполне религиозным, обнуляющим все старые веры и ереси. Булез же не случайно предлагал взорвать все оперные театры.
– Да, была такая жесткая авангардистская парадигма, сейчас все это тоже часть истории. При этом понятно, что она складывалась из множества личных случаев. Далеко не все композиторы обнуляли все предыдущее, несмотря на то что сами декларировали. Новая музыка Шенберга была не то чтобы новой. Он просто придумал еще одну систему, функционирующую, по большому счету, как тональная. Провозгласил равноправие каждого тона. Но на самом деле он остался в старой системе подчинений, просто объявил внутри нее свою собственную.
Вообще, известно, что композиторы делятся на тех, кто считает, что новая музыка началась с Шенберга, и тех, для кого она началась с Джачинто Шельси. Я как раз из вторых.[66]
– Почему именно с Шельси? Чем он так важен?
– Если Шенберг – это человек, создавший еще одну систему, пусть и очень влиятельную, то Шельси – это тот, кто систему разрушил или, скорее, пренебрег ею. Он возглавил великий композиторский поворот внутрь звука. Он высвободил его от тех структур, которые его все это время закрепощали.
– Разве не Кейдж освободил звук от всего, от чего его вообще можно было освободить?
– Кейдж ушел далеко за пределы звука. А Шельси остался в звуке, просто высвободил его. И из этого открытия выросла, например, школа спектрализма, пожалуй, одна из самых важных школ нашего времени. С точки зрения влиятельности Шельси вполне может соперничать с Кейджем. Просто Кейдж – он, на самом деле, шире музыки. Он как раз первым начал работать в той мотивационной зоне, о которой я говорил выше.
Шельси же отменил или поставил под вопросы все параметры, связанные с сочинением музыки. Включая собственно параметр авторства, потому что он часто насвистывал, настукивал какие-то свои идеи своим «рабам», которые потом за ним записывали – то есть непонятно, чье это в результате сочинение. Или, скажем, записывал на магнитофонную пленку какие-то свои идеи, экспериментировал с ними, а потом просил кого-нибудь перенести их на нотную бумагу. За все это серьезные композиторы шенберговского типа его ужасно не любили и обвиняли в том, что он просто профанирует работу композитора. И он казался маргинальной фигурой, но сейчас понятно, что во многом он был впереди всех, в настоящем авангарде новой музыки.
– Кажется, сейчас многих композиторов старшего поколения страшно раздражают эти разговоры про передний фронт современной музыки, за которым они не могут или не хотят угнаться. Когда я брал интервью у Георга Пелециса, он грустно заметил, что с современными композиторами ему даже нечего обсудить, как будто они на разных языках разговаривают.
– На самом деле Пелецис оказывается в той же позиции, что и воображаемые им авангардисты. Они считают, что музыка должна быть только «такой», и больше никакой, а он – что сякой. Разницы я, честно говоря, не вижу. Это один и тот же тип мышления. И конечно, он не предполагает диалога.
Мне вот сложно представить ситуацию, когда мне не о чем говорить с коллегой. Так здорово, что все мы разные! Так много чего можно обсудить! Слава богу, сейчас не обязательно быть «таким» или «другим», наоборот, интересно, почему ты такой. А эти тесные формулировки про то, что такое правильный композитор, – они парадоксальным образом объединяют совершенно разных людей. В этом Пелецис ничем не отличается от Брайана Фернихоу или Фараджа Караева. Или Владимира Мартынова, который в каждом своем интервью переживает, что композиторы забыли о своем великом призвании. Все это монологи из закрытых комнат. Комнаты, безусловно, разные, но закрыты они одинаковым образом.
– Но ведь и вы говорите о том, что сейчас важно и влиятельно, а что нет, у вас тоже есть своя иерархия. И, наверное, в нее не все вписывается.
– Почему? Абсолютно все, хоть постминимализм, хоть мое любимое детройтское техно. Меня ведь, повторюсь, не интересуют жанры, меня интересует момент выбора, то самое мотивационное поле. Я много общаюсь со студентами, они пишут по-разному – и постминималисты там есть, и авторы какой-то абстрактной электроники, и танцевальной музыки. Разнообразие композиторских интересов сейчас колоссальное. И меня интересует, откуда все это растет. Ко мне приходит молодой человек, который утверждается через уже существующую систему, говорит, что он транслятор некой традиции, воин этой территории, а мне интересно разобраться, насколько эта воинственность лежит в его природе. Врожденная она или приобретенная?
– То есть вы такой музыкальный экуменист – принимаете все религии, лишь бы человек был хороший.
– Да, я имею дело именно с человеком, а не с продуктом его творчества. Мне он интереснее, чем то, что он сочиняет. Бывает, что сочинение интересно само по себе, и полезно понять, что его породило, из чего оно выросло? А бывает, что продукт не очень интересный, но это не означает, что мне неинтересен человек и ситуация, которая породила этот продукт. Мало того, то, что мне может не нравиться, возможно, сообщает мне о жизни и обо мне самом больше, чем то, что нравится. Значит, мне еще предстоит найти инструменты понимания, принятия и возможности взаимодействия на этой некомфортной территории.
Когда студенты приносят свою музыку, к ней надо выстраивать мосты. Не оценивать, не переучивать, а смотреть, как связан результат и контекст. А уж на этой контекстуальной, ситуационистской территории в дело вступают совсем другие законы. И это не разговор про всеприятие, потому что там нет деления на свое и чужое, правильное и неправильное. Мне кажется, это плохо изученная территория. Может быть, потом за нее возьмутся серьезней, уточнят, поделят, расчертят на школы и традиции, но пока что это единое удивительное поле. Существующее до звука.
– А как вы стали композитором? И почему стали писать именно ту музыку, которую пишете сейчас?
– Это довольно болезненная история. Я должен был стать профессиональным флейтистом, готовился к этому с пяти лет. В девятнадцать поехал в Париж готовиться к поступлению в консерваторию и там переиграл губы. Причем не сразу это понял и на переигранных губах продолжал играть, так что загубил себе все полностью. В общем, в двадцать лет я остался без профессии. Ничем, кроме музыки, я заниматься не мог и не хотел, и пошел поступать в Московскую консерваторию, хоть на какой-нибудь факультет. Мой педагог по теории обратила внимание, что у меня хорошо получались задачки по полифонии и отправила меня к педагогу, который преподавал полифонию у композиторов, Леониду Бобылеву. Я к тому моменту не написал в своей жизни ни одной ноты, но он в меня как-то поверил, и в результате я поступил с собственноручно написанным фортепианным трио.
Но, конечно, это было совсем непохоже на то, что я пишу сейчас. Это было что-то такое шниткеобразное. Я писал так какое-то время, довольно быстро разочаровался и почти перестал сочинять. А потом случилась замечательная история. В 2000 году мне позвонил Феликс Коробов, сейчас он дирижер театра им. Станиславского, а тогда был просто студентом, и предложил халтуру: сочинить и записать сто оркестровых сэмплов для популярной компьютерной программы Acid Loops, по заказу компании Sonic Foundry. Я был на третьем курсе тогда. Они оплачивали оркестр и мою работу, а мне нужно было придумать сто оркестровых лупов в разных стилях – «классика», «модерн» (что-то в духе Прокофьева и Стравинского), «барокко», «синематик» и так далее. Кусочки от двенадцати секунд до трех минут, по полторы минуты в среднем. Это где-то два с половиной часа оркестровой музыки. За месяц. В общем, я взялся. Месяц не спал вообще. Денег мне заплатили мало, авторство мое нигде не указано, это и не подразумевалось, но свои сэмплы я с тех пор слышу постоянно – эту библиотеку до сих пор переиздают. Причем где угодно: в кино, на телевидении – в парфеновском «Намедни», например; очень часто в техно, был даже какой-то техно-рэп хит с моей партией гобоя. Однажды мне Феликс звонит и кричит: «Включай ТВ-6»: я включил – а там какой-то итальянский фильм, саундтрек которого целиком, от начала до конца, сделан на моих сэмплах. В общем, я такой несостоявшийся миллиардер.
Большого творческого вдохновения эта работа не требовала, нужно было писать просто жанрово узнаваемую музыку. Хотя я понаписал довольно много хорошей музыки, которую до сих пор люблю. Но эффект у этой работы был очень неожиданный: я не то что разлюбил стилизации или писать «под кого-то» – сам принцип ориентации на любые уже существующие модели стал у меня вызывать тошноту. Я где-то месяц молчал и приходил в себя, а потом начал формулировать стратегии отказа – и в их рамках написал сочинение для одной ноты, оно называлось «История музыки» для тубы, контрабаса и большого барабана. Я тогда еще не знал ни про Шельси, ни про Ла Монте Янга, которые занимались похожими вещами, для меня это было мое собственное важное изобретение.[67]
И с этого сочинения, собственно, началась моя «карьера»: оно получилось удачным, его исполнили в рамках фестиваля «Московская осень» в 2001 году, был большой успех. Очень хорошо помню, как я сидел, обливаясь потом, на премьере, и какая-то женщина после выступления попросила меня подписать ей программку, и я написал «Дима» трясущейся рукой – просто не мог совладать с волнением. Конечно, дело не в том, что это был один звук, а в том, как он был организован во времени и пространстве, как распределялся между тремя инструментами. Эта идея придумывания закрытых ритмических структур-клеток, которую я назвал «объективной музыкой», стала на десять лет моим творческим методом. Уже через год я написал по этому же принципу своего «Сокровенного человека», с которым выиграл композиторский конкурс «Gaudeamus». И дальше развивал его в других своих произведениях. Меня даже коллеги упрекали, что я слишком быстро пишу[68] – свои «Невозможные объекты», которые длятся семьдесят пять минут и рассчитаны на огромный состав, я написал всего за два месяца. Но на самом деле мне потребовалось на это десять лет, которые ушли на формулировку и оттачивание этих схем, этого типа работы с материалом. Моцарт тоже мог сесть и написать менуэт за полчаса, но для этого ему понадобилось в совершенстве овладеть этим жанром. Моя «объективная музыка» стала, по сути, таким жанром.
– А в чем была идея этой «объективной музыки»?
– Я хотел минимизировать субъективное присутствие автора и исполнителей в создании и исполнении произведения. А все композиционные процессы подчинить некоторой «объективной» структуре, которая определяет организацию времени и распределение материала сочинения. Грубо говоря, я создал некую временную матрицу, внутри которой по определенному алгоритму распределяются акустические события.
Например, цикл «Невозможные объекты» состоит из пяти частей, и в каждой части – одна и та же ритмическая сетка, но свой звуковой материал. И это не столько звук как таковой, сколько физические условия его появления. В первом объекте материалом было сверхусилие музыкантов: чрезмерное давление смычков на струны, сверхсильное вдувание воздуха в духовые, что давало искаженный звук. Во втором[69] – то же напряжение музыкантов, чрезмерное усилие, которое не находит выхода в звуке: минимальное звуковое событие требует от музыкантов максимального напряжения. Третий – скользящий, все звуки рождались в скольжении: смычка о струны, воздуха о стенки инструментов. Четвертый – дрожащий, это как бы дробное, дискретное скольжение. И последний объект – комплексный, объединяющий все предыдущие.
Конечно, во всем этом много биографического, моей личной психофизиологии. Любой исполнитель чувствует звук телом. Когда пианист слышит другого пианиста, у него шевелятся пальцы. Скрипач внутренне переставляет позиции. Духовики дышат. Мое композиторство началось с травмы. Я долго восстанавливался, фактически пережил посттравматический синдром. Для меня звук – не только флейты, а вообще звук – связан биографически и физически с невозможностью, с болью, с которой связано звукопроизводство. Именно поэтому я никогда не углублялся в теорию звука, в спектры, в отношения между звуками. Меня звук волнует физиологически. И вещи, которые я потом писал, связаны с большим количеством усилий для музыкантов. Фактически они борются со своей природой, и с природой инструмента тоже. Я оперировал не столько звуками, сколько напряжениями музыканта, которые он затрачивает на произведение того или иного звука. И музыканты говорят, что после моих сочинений нужно какое-то время на восстановление – это просто физически очень тяжело.
С другой стороны, мне присуща неклиническая стадия агорафобии, так что, вероятно, я десять лет плодил закрытые структуры-клетки, музыку, которая обусловлена жесткими последовательностями, в частности и из-за этого тоже. Все эти годы я, по большому счету, писал одно сочинение.
Или вот откуда эта идея про одну ноту? Для меня всегда было проблемой написать вторую. Не потому, что я не знаю, какую, а потому, что мне жалко первую. Получается, что, написав вторую, я от первой отказываюсь. Это что же, мне ее недостаточно? Зачем же я ее написал? Я единственный ребенок в семье и не очень представляю, что это такое, когда детей двое – это что же, все делить? Поэтому мне всегда было интересно написать одну ноту и повернуть ситуацию таким образом, чтобы эта нота оказалась множеством. Поставив ноту, я просто за ней наблюдаю. Пытаюсь понять, что ей нужно. Ведь поставить точку на листе нотной бумаги – это как родить ребенка. В этом есть и насилие тоже. Дети ведь не просят нас родиться на свет, это мы за них решаем. Без насилия жизнь не могла бы продолжаться. Каждое решение – это насилие, контроль. То есть ответственность. И со временем она только возрастает. Раньше люди не могли не рожать. Сейчас могут. И взвешивают, готовы ли они родить ребенка, когда именно… Институт планирования семьи – это сравнительно новая история.
И точка на нотной бумаге тоже не просила нас появиться. Но я чувствую ответственность перед ней. И вторая нота – это в каком-то смысле безответственность по отношению к первой. Идея «чем старых отмыть, лучше новых нарожаем», творчества, основанного на бесконечном прибавлении нот, мне не близка. Мне интереснее вглядываться в одну, там же целый мир.
– Но ведь даже с детьми вы на самом деле не можете ничего спланировать и проконтролировать. Получается, в вашем композиторском мире нет силы, которая жестко за все отвечает?
– А я не претендую на контроль. Моя задача – предоставить ноте возможности для самореализации.
– То есть вы – как садовник? Просто рыхлите землю и подставляете нотам подпорки?
– Что-то вроде. Я помогаю реализоваться потенциалу, который в этой ноте заложен.
Вы, возможно, спросите: если в одной ноте содержится целый мир, то что же тогда делать с первым этюдом Шопена, в котором этих нот тысячи? Шопен – безответственный композитор? А это как раз связано с изменением композиторской оптики. Во времена Шопена за организующую единицу принимался не один звук, а тональность. Композитор нес ответственность не за ноту, а за тональность целиком, за отношение звуков внутри этой системы. Атомных микроскопов тогда ведь тоже не было. А сейчас есть, вот и композиторы работают на наноуровне. Не все, конечно.
– При этом с музыкантами вы обращаетесь гораздо жестче, буквально заставляете их испытывать физический дискомфорт, и это важная часть ваших сочинений.
– Я же никого не могу заставить. Меня играют только те, кому это интересно, кто ищет подобного. Это мои единомышленники. И они не жалуются, но, конечно, выматываются сильно. Руки устают, губы устают. Но все это в прошлом. В какой-то момент я стал чувствовать себя диктатором по отношению к своим исполнителям. Ощущать произведение как цепочку насильственных решений, которые мы навязываем материалу, исполнителям, слушателям. До определенного момента мне это нравилось, но потом ситуация стала меня беспокоить. И я от нее отказался.
– И в этот момент у вас закончился ваш посттравматический синдром.
– Возможно, и так. В результате я ушел в открытые перформативные практики, которые предполагают деликатный интерес к слушателю и предоставление ему свободы интерпретации. Я всегда боялся нарратива, не хотел навязывать слушателю свое понимание того, что он слышит. Мне всегда было интересно, как по-разному люди могут воспринимать одно и то же сочинение. Но ведь даже ситуация концертного зала – она тоже навязывает слушателю интерпретацию. А кроме того, мне не хотелось бы доставлять дискомфорт тем, кто к этому не готов. Я не хочу навязываться. Поэтому последние мои сочинения – это вообще такие текстовые инструкции, которые предназначены для исполнения кем угодно и где угодно. Есть сочинения для пешехода, для пассажира, для слушателя, для любовников, для принимающих пищу. Любой человек в любой момент может их взять и исполнить. Нет никакого зала, никто не сидит с купленными билетами и ничего не ждет, нет вообще никакого давления. Я вхожу на территорию слушателя, только если он меня сам пригласит. Я просто как книжка лежу на полке. Можно взять, прочитать, посмотреть картинки. Можно исполнить, можно не исполнять.
Понятно, что есть богатая и давняя традиция открытых импровизационных партитур – Кейдж, весь посткейджевский легион авторов. Но, сочиняя свои открытые партитуры, я всегда держу в голове понятие «ответственности», оно для меня очень важно. Перед звуком, перед жестом, перед любым волевым решением. Мне интересно раскрытие мгновения, вглядывание, вслушивание – вот его я и реализую через открытые перформативные ситуации.
– Разве ответственность – это не естественная составляющая композиторской работы?
– И да и нет. Зависит от степени рефлексии. Многие идут по легкому пути добавления все новых и новых нот. У Гессе в «Степном волке» есть смешная сцена: в загробном мире ходят какие-то люди, а за ними толпы музыкантов. Главный персонаж спрашивает, кто это? Ему отвечают – Штраус, Брукнер, Малер. А эти толпы? А это музыканты, которые исполняли все лишние ноты, которые написали эти авторы. Я это прочитал лет в пятнадцать и запомнил на всю жизнь, хотя музыку тогда еще не сочинял.
– Интересно, что вы постоянно возвращаетесь к теме страха – боязнь открытых пространств, страх перед нарративом, боязнь поставить новую ноту… Ваша музыка – это продолжение или преодоление ваших страхов?
– Может быть, страх не слишком правильное слово… Это какой-то продуктивный страх. Жизнетворческий. Вот, помню, я писал сочинение под названием «Сокровенный человек» и реально ощущал это как проблему – вот я написал ноту, а что дальше? Наверное, другая нота. Между ними какое-то расстояние. Я же могу написать что угодно? Но если все, что угодно, может, и не нужно? Как нащупать необходимость этой второй ноты? Как найти ситуацию, в которой ее не может не быть? Это было довольно мучительное состояние.
Я начал искать во внешнем мире какие-то структуры, рамки, которые могли бы мне помочь, и как раз в этот момент переехал из центра Москвы, где всегда светло и нет никакой природы, на дачу. У меня еще родился сын, и я вдруг прочувствовал смену дня и ночи, это дыхание времени, без которого не будет никакой жизни на Земле. Я это ощущение понял как посланную мне схему и перевел ее в цифры: 2-7, 3-6, 4-5, 4-6, 3-7. Что-то увеличивается, что-то уменьшается. Это клетка, которая сжимается и разжимается. Такая структура может определять ритм, отношения между событиями в сочинении, их длительность, разделы формы. Внутри этой клетки мы все живем, ее нельзя преодолеть, и забравшись в нее, я почувствовал себя очень комфортно. И даже, наверное, избавился от своей агорафобии. Даже если дверь открыта и передо мной открытое пространство, которого я всегда боялся, я все равно в клетке и, значит, все хорошо.
– Композиторские неврозы и их влияние на творчество – исключительно богатая тема, но не все готовы об этом разговаривать. Сразу вспоминается шенберговская боязнь числа 13 и одержимость Антона Брукнера подсчетами.[70][71]
– Да, я тоже сразу вспомнил Брукнера. Я когда-то в юности смотрел про него фильм и одна сцена врезалась в память (или может, я ее выдумал): одинокое поле, у дуба стоит Брукнер, камера наезжает ближе, и мы видим, что его губы шевелятся – 7556, 7557… Он считает листья. В его музыке это точно есть, он часто цепляется за повтор и не может остановиться, повторяет и повторяет, до изнеможения. Какая-нибудь секвенция, которая могла бы завершиться четырьмя звеньями, у него продолжается двенадцать раз. И кажется, что могла бы и больше. В этом для меня невероятная ценность брукнеровской музыки: он выходит за рамки привычного формата не потому, что ему так хочется, а потому что эти повторы – просто часть его физиологии. Брукнер – очень важный для меня композитор. По большому счету, он минималист. И я минималист. Просто гораздо более тотальный и бескомпромиссный, чем те, кого принято называть минималистами.
Но любопытно, куда моя физиология вывела лично меня. Сейчас я вообще уже занимаюсь не столько звуками, сколько ситуациями. Они могут быть даже не связаны с акустикой – например, с телом, с хореографией. То есть я, в каком-то смысле, делаю кинетические скульптуры. Я сейчас много придумываю перформансов для слушателей. Предлагаю создавать собственные ситуации, отталкиваясь от которых слушатель раскрывается как автор. Сам привожу какие-то примеры, открываю возможности альтернативных решений. Вот это мне сейчас бесконечно интересно, это и есть мое новое композиторское поле.
Борис Филановский
Родился в 1968 году в Ленинграде. Закончил Санкт-Петербургскую консерваторию в классе Бориса Тищенко, стажировался в IRCAM. В 2000 году организовал первый в Санкт-Петербурге ансамбль современной музыки eNsemble. В 2012-м эмигрировал сперва в Израиль, затем в Германию. Живет в Берлине.
Автор проектов «Пустота в клетку», «Семь слов. Йозеф Гайдн и Группа авторов», «Турне вокруг Турнейской мессы», «Немецкий сезон», «Пифийские игры» (ежегодные соревнования композиторов) и других. Автор сочинений на тексты Пауля Целана («Doppelgedicht», 1999), Анны Альчук («Лесвет сетьмы», 2002), Ильи Зданевича («Янко крУль албАнскай», 2002), Александра Введенского («Некоторое количество разговоров», 2004), Генриха Сапгира («Дыхательные упражнения», 2004), Владимира Сорокина («Нормальное», 2005) и других. В числе крупных сочинений – «Voicity» (2011) для отбойных молотков, джипов, бетономешалок, сирен и прочего, «Scompositio» (2014) для певицы, тринадцати исполнителей и аудиопроекции, «La Machine Fleuve» (2014, совместно с Арно Фабром) для двадцати музыкальных автоматов с перфокартами и велоприводом, «Cantus with Cleansing» (2016) для семи балканских гусляров, «Tristans Liebestod un Nachspiel» (2017/18) для трех исторических фортепиано разных эпох, «Пропевень о проросли мировой» (2018) для десяти солистов, хора и оркестра.
Беседа состоялась в 2017 году.
Фрагмент партитуры «Collectivision» для семи губных гармоник и аккордеона (2011). Борис Филановский: «Я взял семь губных гармошек в разных строях – просто купил дешевый набор Hohner; строи сверху вниз: фа, ми, ре, до, си-бемоль, ля, соль. Комбинируя их, можно получить весьма разнообразные гармонии. (Примерно так композиторы до середины XIX века поступали с натуральными трубами и валторнами, у которых был очень ограниченный звукоряд.) Здесь видны два типа нотации для губных гармошек. В табулатурной (десятилинейной, поскольку у этого типа десять отверстий) указывается, куда дуть; в обычной, пятилинейной, нотируется сам звук и дополнительно обозначаются номера отверстий. И конечно, в обоих видах нотации всегда обозначается вдох и выдох. Все, что написано для гармошек, включая игру с голосом и мультифоники (негармонические почти случайные аккорды), от специального угла вдоха/выдоха и зажатия корпуса, – опробовано экспериментально; все это не требует специальных навыков игры и может быть исполнено любыми музыкантами».
– Борис, я бы хотел попросить вас ответить на самые распространенные вопросы, претензии и недоумения, которые возникают у слушателей современной музыки. Начнем с определения: что это вообще такое – современная музыка? Где заканчивается «классическая» и начинается «современная»?
– В некоторых языках это определение более четкое: neue Musik в немецком, contemporary music в английском – все понимают, что имеется в виду академическая музыка. В русском языке и рэп можно запросто назвать современной музыкой. Если же говорить о смысле, то есть знаменитое рекурсивное определение Лучано Берио: «Музыка есть все, что слушается с намерением слышать музыку». Мне нравится, что упор в нем делается не на формальную, а на ситуативную сторону. Не композитор определяет, не музыковед, а слушатель, все зависит от его намерения. По-моему, это универсальный культурный механизм, который определяет, есть коммуникация или нет.
– То есть человек, который задает этот вопрос, сам должен решить?
– Вы сами проводите границы. Где кончается классическое и начинается современное – это только у вас в голове. Возьмите любой параметр, по которому можно отделить одно от другого, – наличие или отсутствие ярко выраженных мелодий, ритм, распространенность, популярность… Всегда найдутся пограничные явления, всегда окажется, что четкую границу провести невозможно. Все наши рассуждения проходят в рамках нечеткой логики.
– Ну вот почему, скажем, Гершвина относят к миру мюзикла, а Курта Вайля – к академической музыке?
– Один и тот же композитор может писать и то и другое. Другое дело, что серьезному академическому композитору довольно затруднительно быть автором успешного мюзикла – мы все-таки живем в мире узкой специализации.
Но вообще у мюзикла и оперы просто разное происхождение. Мюзикл возник из оперетты, оперетта – из зингшпиля, зингшпиль – из семиоперы, того, что в Англии называлось «маской». Все большие оперы Перселла – «Король Артур», «Диоклетиан», «Королева индейцев», «Королева фей» – это всё маски. Музыкальные номера с разговорными диалогами. Как вы знаете, и «Кармен», и «Волшебная флейта» тоже были написаны с разговорными диалогами, просто версия «Кармен» с речитативами существует, а у «Волшебной флейты» такого нет. Все это можно возводить к комедии, где тоже были хоры, подобие арий или дуэтов, а между ними – разговорные диалоги.
А у оперы свое родимое пятно – там действие и эмоции, нарратив и чувства структурно разделены. В речитативе – максимальный темп подачи сюжетной информации и минимальное количество музыкальной, а в арии – нарратив стоит не на первом месте, зато музыки много. То есть я думаю так: опера – это не то, где поют или не поют, опера – это соединение иконического и нарративного в определенных сочетаниях. В мюзикле повествование в определенном смысле вообще выведено за пределы музыки. Как и в оперетте.
– Еще один часто встречаемый вопрос – куда отнести киномузыку. Где проходит граница между ней и академической музыкой? Почему Бернард Херрманн и Эннио Морриконе – это кинокомпозиторы, притом что они писали и симфоническую музыку, а Морриконе был еще и сооснователем авангардистской группировки композиторов Gruppo di Improvvisazione Nuova Consonanza? А Шнитке мы кинокомпозитором не считаем, хотя он много писал для кино, а в его знаменитом «Concerto Grosso» использована музыка из «Агонии», «Восхождения» и «Сказа про то, как царь Петр арапа женил».
– Это определяется не личностью автора, не материалом, не инструментарием. Конечно, разницу между прикладным саундтреком и академической музыкой можно заметить даже внешне: обычно к записи симфонического оркестра подмешивают библиотеку оркестровых сэмплов, поэтому эта музыка совершенно без заусенцев, всегда как бы неживая. Идеальная, как голливудская картинка. Но дело не в этом. Киномузыка Шнитке не перестает быть киномузыкой от того, что Шнитке – большой серьезный автор. Разница между обычной музыкой и прикладной в том, что прикладная несет меньшее количество информации в единицу времени.
Наш перцептивный канал, вычислительная мощность нашего мозга распределены между зрением (90 процентов) и слухом (10 процентов), и в эти 10 процентов должно уместиться то послание, которое киномузыка несет. В этом ее структурное отличие от музыки, которую вы слушаете целенаправленно, – ей-то вы уделяете все 100 процентов внимания, она на это рассчитана.
У меня был прекрасный опыт. В 2002 году в Большом театре шла опера Стравинского «Похождения повесы» в постановке Дмитрия Чернякова. Я эту оперу знаю практически наизусть. И вот сижу я в зале и не понимаю: а где все, что мне знакомо? Почему она звучит таким крупным помолом? Может, я в какой-то акустической яме сижу? Вроде нет. И оркестр хорошо играет, и дирижер хороший, так почему я ее так мелко слышу? И только потом я понимаю, что слушаю я ее теми самыми 10 процентами внимания. Мне просто не хватает мощности. А если я начинаю переключаться на музыку, то сценическое действие как бы меркнет. И этот механизм действует всегда. Мы приходим на концерт: о, какое красивое платье у пианистки, как дирижер машет – и от музыки все это отъедает какую-то часть.
– То есть получается, что чем талантливее оперный режиссер, тем сильнее он портит наше впечатление от музыки?
– Ну… По идее, он должен помогать слышать музыку гораздо острее. Но в целом да, чем больше режиссер вываливает на сцену, тем больше он мешает слушать. И если во время арии что-то происходит, как это часто бывает у того же Чернякова, думаешь: «Блин, не мешайте слушать музыку, вы меня отвлекаете!» Но без этого нет оперы, мы ведь и ходим в оперный театр за тем, чтобы увидеть новую визуальную вариацию давно нам известного.
Случаются постановки, в которых полное слияние музыки и режиссуры, и одно не мешает другому, но это бывает редко. Ну и опять-таки – смотря кому. Кому-то нормально, а кто-то хочет, чтобы во время арии певец стоял ровно и никакого действия не было, чтобы не отвлекаться.
Как еще можно отделить чистую музыку от прикладной? В немецком языке есть термины E-Musik и U-Musik, ernste Musik и Unterhaltungsmusik, серьезная и развлекательная. Я их так и использую – е-музыка и у-музыка. Граница между серьезной и развлекательной, чистой и прикладной проходит, думаю, вот где: есть работа с музыкальным временем или ее нет. Музыкальное время тесно связано со слушательским восприятием. Как композиторы работали с тем и с другим, насколько сознательно, насколько успешно, насколько это было важно для них – все это, собственно, и составляет подлинную историю музыки.
В серьезной музыке – е-музыке – есть неравномерное квантование, неравномерная подача музыкальной информации. Есть игра со слушательскими ожиданиями, их удовлетворение и обман. А у-музыка, как правило, рассчитана на равномерное распределение во времени, на сопровождение некоторых жизненных действий. Хотя ничего более серьезного, чем какая-нибудь музыка ритуала в традиционных культурах, быть не могло. Но эта музыка рассчитана именно на сопровождение, она была неотделима от ритуала. И для современного сознания, для европейской культуры разделение проходит именно там.
– Но ведь игрой со слушательскими ожиданиями занимается и поп-музыка, это можно встретить у кого угодно, от группы Radiohead до Кайли Миноуг.
– Разумеется, всегда найдутся исключения. Еще, кстати, мне кажется важным маркером развлекательной музыки наличие бита, равномерного ритма. Есть наперед заданная метрическая сетка, и вся игра с ожиданиями происходит внутри нее.
– Так ведь обманывать слушательские ожидания в этой сетке проще всего. Как в техно: ты ждешь очередного удара, а его раз – и нет.
– Да, но слушательские ожидания многообразны. Они касаются не только того, когда, но и того, что и как. Звуков, тембров. Вообще, музыки совсем без обмана ожиданий не бывает в принципе.
– Меня гораздо больше смущает предлагаемое разделение между серьезной и развлекательной музыкой. Получается, что серьезная музыка не может развлечь, а развлекательная музыка не может быть серьезной.
– Как это серьезная музыка не может развлечь? Может! Если вы привыкли ее слушать. А с другой стороны, есть же композиторы типа Астора Пьяцоллы, которого играют серьезные музыканты в филармонических залах и до сих пор что-то в нем находят, хотя по своим первичным признакам его музыка – жанровая и развлекательная. Как великие образцы пасодоблей и танго, которые можно слушать бесконечно.
– Считается же, что симфоническая музыка и выросла из жанровой.
– Это Кабалевский учил, что основа музыки – песня, танец и марш. Но все-таки это не настолько тотальное правило. Симфония выросла из[72] sonata da chiesa – церковной сонаты, инструментальной музыки с контрастным чередованием темпов. Ранние гайдновские симфонии родились непосредственно из нее, а не из жанровой музыки. Церковная соната повлияла на симфонический цикл больше, чем сюита.
– Хорошо, давайте перейдем к следующей, самой популярной претензии. Почему современные композиторы пишут музыку, которую нельзя напеть, насвистеть или запомнить? Почему она такая немелодичная, негармоничная и странная? За что вы ненавидите мелодии?
– Ответ очень простой. Любой тон с определенной высотой уже содержит в себе некоторый комплекс слушательских ожиданий. В музыкальной науке это называется вероятностью нулевого порядка. Есть множество исследований на эту тему: если взять ноту и спросить фокус-группу, какая, скорее всего, будет следующей, то назовут тон на квинту ниже или выше. Любое сочетание звуков обременено ожиданиями слушателей, а они тянут за собой огромный ворох привычек и конвенций.
А композитор старается с этими конвенциями работать. Или избавляться от них, расшатывать. Он старается выйти за установленные рамки. Так что мелодия – это для нас проблема. Я могу сочинить красивую мелодию. А уж написать мелодию, которую можно как-то напеть, может любой из нас. Почему мы этого не делаем? Потому, что наше alter ego, тот гипотетический слушатель, для которого мы пишем – а пишем мы, как я не устаю повторять, «для себя и для того парня», – хочет освобождения от конвенций. Точно так же дело обстоит с гармонией.
Есть лежащий на поверхности ответ: писать, как классики, мы уже не можем. В принципе, можно написать симфонию, похожую на симфонию Бетховена или Шостаковича. Но идеальное подражание, способность мимикрировать и воспроизводить недостигаемый образец сегодня порождает не произведение искусства, а полуфабрикат. Когда черт в романе «Доктор Фаустус» дает Адриану Леверкюну сверхчеловеческий творческий потенциал, это сопряжено с дарами сомнения, с необходимостью свободного выбора.
В золотой век классики композитор не должен был выбирать – он должен был просто воспроизвести образец, по возможности превзойдя его. Но исторически сложилось так, что эта главная музыкальная река как бы разошлась на множество рукавов и запруд. Образовалось множество пойм, и теперь мы вынуждены выбирать, в какой купаться. Одушевляет творческий акт только отказ. Подражание – по-прежнему основа творчества, но этого недостаточно. Только отказ дает вам возможность определить самого себя. То же самое и в науке – вы уже не можете заниматься всем, не можете быть Леонардо и даже Максвеллом.
– То есть вы должны выбрать эту маленькую запруду, в ней найти образец для подражания и превзойти его?
– Нет, образец для подражания – это весь ваш тезаурус, вся ваша история слуха, все, что вы забыли. Эта история зашита в самом факте вашего выбора. В некотором смысле это выбор без выбора. Например, Стравинский выбирал архаический фольклор не для того, чтобы его воспроизводить, а для того, чтобы воспроизводить нарративные структурные модели, лежащие в основе архаического фольклора. И эти нарративные модели он воспроизводит и в неоклассический период, даже с большей яркостью и наглядностью, чем в русский период. Он выбирал? И да и нет. Вы выбираете любимого человека? И да и нет.
– Почему для композитора сегодня по-прежнему важна идея отказа и разрушения конвенций? Ведь, казалось бы, они уже полвека как расшатаны самым решительным образом, все это лежит в пыли у ваших ног. Что там еще расшатывать-то?
– Базовые конвенции, которые составляют основу восприятия, никуда не делись. Повторность, различия, контраст, мера изменения, количество информации в единицу времени, логическая связанность и так далее. Они лежат ниже уровнем, чем мелодия, гармония и ритм. Да, многие вещи расшатаны, но вот эти базовые штуки остались, и в каждом сочинении их нужно переопределять заново – на это и уходит творческая энергия.
Вы должны заново определить для слушателя меру связности, повторности, меру логичности или алогичности, то есть те стартовые условия, с которыми вы будете работать на протяжении всего сочинения. Сформировать те ожидания, которые вы будете нарушать, обманывая. Сегодня это гораздо более сложная задача – именно потому, что все возможно. Чтобы сочинение состоялось, нужно ограничить количество возможностей, оставив только некоторые.
А дальше возникает вопрос языка: что такое язык этого опуса, этого периода, этого конкретного автора, этого поколения? Как мы определяем стиль сочинения и что это вообще такое – стиль? Все это нужно решить.
– То есть вы каждый раз создаете новый мир, и это такое громадное уравнение с невероятным количеством переменных.
– Да, и при этом я осознаю, что невозможно полностью оторваться от того, что меня сформировало. От того, что я слышал, помнил, забыл, хотел бы забыть, но не могу. Сочинительство – это работа со своей личной конвенцией. Наиболее радикально это делал Джон Кейдж, который вообще пытался устранить фигуру автора из своей музыки. Он говорил: «Я сочиняю только ту музыку, которую сам никогда не слышал».
– Ну хорошо, а вы-то здесь где? Чего вы как композитор хотите добиться при таком фантастически разнообразном наборе исходных данных?
– Я ничего не хочу добиться. Мой личный набор определяет меня. Я могу развиваться, пробовать что-то новое, но я не могу никуда уйти от своих предпочтений. А задачи я себе ставлю каждый раз разные.
– А они складываются в какую-то общую идею, направление или вектор?
– Не могу вам сказать. У меня аберрация близости. Мне кажется, что такие мои сочинения, как «Collectivision» и «Шмоцарт»,[73][74] – совершенно разные. Или, например, «Dramma muto» и «Scompositio». А коллеги говорят[75][76] – это типичный ты.
– Но какие-то сочинения вам же нравятся больше, чем другие? Или вы понимаете, что тут у вас все получилось, а тут – не очень.
– Да, какие-то нравятся больше, какие-то меньше, про некоторые я вообще не понимаю, что получилось. Какие-то были не очень хорошо сыграны, хотелось бы услышать их в идеальном исполнении и тогда судить. Но в целом мне сложно сказать, я не то что не умер, но даже на достаточное расстояние не отошел от тех сочинений, за которые мне не стыдно.
– А предпочтения у вас есть? Что вам нравится делать в мире музыки?
– Мне нравится работать с формами – на всех уровнях. Работать с конвенциями, будь то исполнительские привычки или слушательские, или даже с какими-то формальными параметрами. Мне нравится работать с музыкой, которая уже существует. Но это не всегда можно услышать, потому что я умею анализировать и вычленять формальные схемы, или даже не схемы, а как бы натяжение форм, конструктивные принципы, и стараюсь их осложнять. С этим связаны мои удачи и неудачи. Я люблю сложность, с одной стороны. А с другой, мне очень нравится простая форма, монолитная, упрощенная, мне нравятся края восприятия, все, что отходит от середины языка, от перцептивной серединки, нравится переходить от одного к другому, балансировать, увязывать одно с другим. А звуки мне каждый раз нравятся разные – сообразно тому, что мне хочется сделать в этом сочинении.
– Был такой знаменитый опрос одного немецкого музыкального журнала, который задавал композиторам три коротких вопроса: зачем они пишут свою музыку, зачем музыкантам ее исполнять, а слушателям – слушать. Как бы вы сами на них ответили?
– На второй и третий вопрос ответ один и тот же – чтобы работать со своими привычками и переопределять их, чтобы иметь ожидания и обмануться в них. Как известно, главный нейромедиаторный рецепт удовольствия – быть обманутым в ожиданиях. Ответ на первый вопрос тоже очень простой. Музыка – это я, это ядро моей самоидентификации, память форм, абсолютных истин, натяжение между звуками во времени и в пространстве. Это то, как моя внутренняя летучая мышь нащупывает универсум.
– Вы начали рассказывать про то, как современный композитор выбирает, к какому из многочисленных течений ему примкнуть. Как это происходило у вас? Как вы выбирали, или вырабатывали, свой музыкальный язык?
– Мне кажется, как раз течение композитор выбрать не может, за него это делают слушатели. Это же они его позиционируют, как-то его определяют, называют и куда-то относят. А формирование собственного языка – это очень плавный процесс. Сначала мне нравится одно, потом я привыкаю к этому и вижу, что в этом больше нет проблемы или что это делают многие. Разумеется, я внимательно слежу за тем, что происходит вокруг, но никакого сознательного рыночного лавирования в этом нет. И последовательного выстраивания траектории тоже, потому что я не вижу никакой цели. Идти-то некуда, пространство вокруг настолько разнородно… Оно равнопроницаемое, акустическое, виртуальное, звуковысотное, глубинное, вестибулярное, тактильное – огромный комплекс всего! Я все воспринимаю синкретически. Я знаю, что у меня есть своя эволюция, извне ее, наверное, даже можно описать, если вдруг кому-то это захочется сделать. Но сам я не могу. Понимаю, что когда-то мне больше нравилось то сочинение, а сейчас это, но не более того.
– Современному композитору можно все, все исторические конвенции разрушены до вас, вы работаете на каком-то труднопостигаемом молекулярном уровне – а слушатель? Он-то вас догнал, его конвенции так же разрушены, как и ваши?
– Поскольку мои слушатели – это мое alter ego, нет такого вопроса. Вы никогда не определите, в какой точке находится ваш настоящий слушатель. Никогда же не знаешь, кто вас будет слушать в реальности. Вы можете подставлять на это место друзей, коллег, близких – кого угодно, но невозможно спрогнозировать попадание или состоявшуюся коммуникацию. Я представляю себе слушателя как некоего «другого», обладающего некоторым усредненным базовым набором перцептивных характеристик, которые хотелось бы в данном сочинении потревожить. Но кто на самом деле окажется на его месте – понятия не имею. Поэтому для меня такой проблемы вообще не существует.
– Вы сказали, что при желании можно писать эпигонские вещи в духе Бетховена или Шостаковича, но ведь это немножко самообман, нет? Сколько эпигонов Шостаковича было в одном только Петербурге, но сказать, что их музыка хоть сколько-нибудь приблизилась к оригиналу, сложно.
– Ну, во-первых, мы все – амебы, которыми питаются другие амебы. Кто вырастет на наших останках, неизвестно. Каждый хочет вырасти цветком на этой почве, мы все надеемся на это. А во-вторых… Ну как эпигонская? Они же не хотели подражать Шостаковичу. Это несознательное подражание. Они просто были захвачены мощнейшей гравитацией его музыки. Считали ее идеалом красоты, соразмерности. Поэтому и оказались так на нее похожи, просто в силу близости.
Другое дело, что нужно обязательно убить того, кого любишь. Точнее, съесть и переварить. И тогда получаешь право на некоторую эстетическую дистанцию. Как без нее заниматься подражательством? Нужно понимать, что ты берешь, чем отличаешься. Оставить некоторый зазор для себя. Этот зазор как раз дает движение форм. Можно просто беззаветно любить и пытаться воспроизвести оригинал, но этого никогда не получится. Просто потому что ты не тот – ты другой.
– Вернусь к распространенным претензиям. Новая музыка, современная музыка, авангардная – коммерчески несостоятельна. Публика голосовать за нее рублем не готова, своих преданных фанатов у нее недостаточно, без поддержки институций она не выживет. Если отключить ее от кислородного аппарата грантов и фестивалей (а там – сплошная тусовка, мафия, заговор критиков и «фестивальная мода»), она немедленно загнется. Потому что никакой народной любви к ней нет, и никто ее просто так слушать не желает.
– А оперный театр, значит, выживет? А симфонический оркестр?
– Гонители современной музыки на это скажут, что на Чайковского зал все равно собрать проще, чем на Штокхаузена или Бруно Мадерну.
– Что значит собрать зал? Возможно ли окупить концерт за счет продажи билетов? Конечно, нет. Практически никакой и нигде. Может ли вообще существовать симфонический оркестр исключительно за счет продажи билетов? Конечно, нет.
Так что люди из фейсбука или со знаменитого форума «Классика», которые все это годами пишут, просто лукавят, если не сказать хуже. Любое некоммерческое искусство не выживает без поддержки больших институций. Это форма распределенной общественной ответственности за, скажем так, фундаментальное искусство[77] – по аналогии с фундаментальной наукой. Теоретическая физика-то жива, нет? Огромное количество изобретений связано с фундаментальной наукой, которая сама по себе не озабочена практическим применением своих открытий.
Но то же самое в музыке! Вся попса, и вообще все, что имеет коммерческий успех, – это хорошо или плохо переваренная классика, просто объедки с классического стола. Базовые основы музыки на нас не с неба упали. Коммерческий успех поп-исполнителей, возможность собирать миллионы на гастролях связаны со слуховыми привычками людей, которые ходят на концерты и платят деньги. А эти привычки базируются на традициях поколений, на европейских профессиональных традициях.
– То есть любой современный исполнитель воспитан именно поколениями слушателей классической музыки, а не поколениями, скажем, слушателей кабацких песен, уличного и городского фольклора?
– А кабацкие песни откуда взялись? Откуда взялись пресловутые три блатных аккорда, в недрах какой традиции они рождены? Есть фундаментальная наука, а есть прикладные разработки, это везде так.
– Вы сейчас в точности повторяете элитистские аргументы американского композитора Милтона Бэббита, который предлагал приравнять создателей серьезной музыки к физикам-теоретикам и требовал у государства и общества финансировать их на сходных основаниях. А также предлагал покончить с концертными исполнениями современной музыки, потому что слушатели все равно ничего не понимают. Композиторы должны сидеть в лабораториях и создавать сложное искусство – не менее сложное, чем теоретическая физика. И, возможно, в будущем оно даст человечеству какие-то полезные плоды.[78]
– Так оно и дает. Конечно, Бэббит писал это в полемическом запале. Все живут в обществе, и физики тоже должны находить деньги на свои масштабные исследования. Есть какая-то военная перспектива их применения – тогда пожалуйста, без этого с финансированием сложно. И уж тем более сложно композиторам. Одно дело – чего мы хотим, а другое – как мы вынуждены существовать в социуме. Я бы, скажем, не отказался, чтобы у меня был такой князь Эстерхази, которому я бы продался на тридцать лет или на всю жизнь[79] – просто работать за зарплату вместе с небольшим оркестром. Но мне не придет в голову выдвинуть это в виде манифеста. Я думаю, все композиторы этого хотели бы. Или очень многие. Потому что нет композитора, который не хотел бы услышать то, что он написал. Даже если это не предназначено для слушателей или для публичного исполнения, даже если это Augenmusik – музыка для глаз.
– То есть вы предпочли бы сочинять для одного просвещенного мецената, который любит и понимает вашу музыку? А не завоевывать публику, привлекать к своей музыке все больше внимания и, может быть, даже писать такую музыку, которую заказывали бы все больше и больше?
– Знаете, тут нет прямой связи. То, какую музыку заказывают больше, не связано с ее популярностью и тем более окупаемостью, механизмы тут не вполне рыночные. Есть сложные связи внутри государственных и частных фондов, есть конкуренция композиторов – прямая и непрямая, честная и нечестная. Есть сложноустроенная тусовка и все, что с ней связано. И, с одной стороны, я хотел бы пожизненной обеспеченности, которая позволила бы мне безо всяких ограничений сосредоточиться на том, что я делаю. А с другой стороны, только когда взбиваешь лапками масло, держишься в форме. А если не надо взбивать, если ты и так в этом масле катаешься, то, конечно, довольно быстро форму теряешь.
– Есть известное эссе Вирджила Томсона 1938 года, где он делит американских композиторов и их публику на три типа – традиционалистов, элитистов и популистов. Традиционалисты – это «предмет роскоши, публика капиталиста Тосканини, разъезжающая в хорошо отлаженных поездах от Бетховена к Сибелиусу и обратно». Элитисты – «научно-критический заговор интернациональной или „современной“ музыки, которая ценит герметизм и обскурантизм и преклоняется перед видимыми сложностями и методично неблагозвучным контрапунктом». Популисты – «театральная публика левого фронта, работающая, образованная городская публика, которой нужен образованный городской выразитель ее идеалов». В Америке того времени это были соответственно Самуэль Барбер, Шенберг и его последователи и Гершвин с Вайлем.[80]
– Ну да, похоже. К Шенбергу еще и Коуэлл примыкал тогда, и Айвз.
– Как сейчас устроен композиторский мир? Традиционалисты, буржуазные хранители прошлого никуда не делись, хотя сейчас их, пожалуй, гораздо меньше, чем раньше. С элитистами все понятно, их много, на любой вкус. Непонятно только, куда делись популисты, современные Гершвины – люди, которые пытались бы создать то, что Алекс Росс в своей книге называл «большим слиянием»: попыткой объединить классические традиции с более или менее популярной музыкой. «Порги и Бесс» или «Возвышение и падение города Махагони» Вайля были как раз удачными примерами.[81]
– Это сложный вопрос, про классификации. Это ведь все зависит от медийной ситуации. Для Америки 1930-х годов важнейшим медийным центром было радио, оно во многом определяло миссию большого искусства. Такими же центрами были оркестры и филармонии. А в Германии, например, были еще Liedertafel, хоровые общества. Веберн разучивал довольно сложные партитуры с рабочими хорами в клубах, в Америке это сложно себе было представить. Были еще фестивали новой музыки. И общества приватных исполнений, вроде того, что было создано Шенбергом. Это многое определяло – кто и как поддерживает композиторов, где исполняется их музыка. Скажем, после войны радиостанции в Германии стали важнейшим медиа элитистов, условного авангарда, многое исполнялось преимущественно в радиоэфире.
Сейчас медийная ситуация абсолютно другая. Она очень локализована, искусство эмитируется (от слова «эмиссия») из самых разных центров. Сегодня эмиссия классического искусства – это в основном зона ответственности государства, но на разных уровнях. Например, как находит финансирование региональный камерный оркестр во Франции? Он обращается к трем уровням власти: муниципальной, региональной и общенациональной. На каждом уровне действуют разные механизмы финансирования, есть различные фонды, государственные и негосударственные деньги. И сам этот оркестр, для того чтобы получить финансирование разных уровней, должен предъявить программы или проекты разной направленности: образовательные, детские, с участием рабочих. И это могут быть какие угодно сочинения, ранние вещи Луи Андриссена именно в этом контексте появились.
То есть категории остались – элитизм, отшельничество, затворничество, классицизм, левачество. Но смешиваются в других пропорциях. Возьмите хорошо известный нью-йоркский фестиваль «Bang on a Can». По музыке это агрессивный, нормальный такой рабоче-крестьянский максимализм – Джулия Вольф, Майкл Гордон, Дэвид Лэнг. Все очень доступно. При этом он и элитарный, поскольку аудитория у него довольно небольшая. А формат – левацкий: коллаборативный, это большой воркшоп. Но и традиционалистским мы его вполне можем назвать, потому что в Америке есть давняя традиция именно таких приватных фестивалей, объединяющих таланты. Сотрудничество Кейджа и Каннингема в 1930-х годах именно там и начиналось. А главное, к чему мы относим определения доступности или элитарности, – к самой музыке, к финансированию, к характеру аудитории? Оперу того самого Вирджила Томсона «4 святых в трех актах» мы как определим? Она вполне доступна музыкально, при этом в ее основе непрозрачный текст Гертруды Стайн – как это делить?
– Еще одна историческая претензия, которая встречается и у Алекса Росса, и у Пола Гриффитса в книге «Modern Music and After», описывается так: родовая травма послевоенного авангарда – в том, что он был обширно поддержан государственными деньгами по причинам, совершенно не связанным с музыкой. Немецкие радиостанции крутили авангардную музыку не потому, что этого хотели слушатели, а потому, что им важно было крутить что-[82] о максимально непохожее на то, что звучало в Третьем рейхе. Легендарные Летние курсы новой музыки в Дармштадте были организованы при поддержке и отчасти на деньги Управления военной администрации США как часть программы денацификации, фестиваль додекафонной музыки в Риме в 1954 году финансировало ЦРУ – и так далее.[83]
А ведь «элитисты» к тому моменту привыкли совсем к другой жизни – их не так уж часто исполняли, почти не записывали, и вдруг их музыка становится мейнстримом: ее крутят по радио, поддерживают, целые фестивали ей посвящены. Вероятно, именно отсюда берется популярная конспирологическая теория о том, что сама по себе эта музыка не слишком жизнеспособна, просто ее в свое время искусственно раздули. А если бы все развивалось естественным образом, у нее, возможно, была бы и другая аудитория и сама она была бы другой.
– Да, я читал это у Росса. Но согласитесь, это довольно странный аргумент. Мальчика держали в подвале на цепи без света и нормальной еды десять или пятнадцать лет, а потом начали усиленно кормить. А как иначе-то, вы же хотите, чтобы он вырос и догнал сверстников, это же справедливо, нет? Первый фестиваль современной музыки в Донауэшингене состоялся в 1922 году. Вот что бы было, если бы все это потом не задушили? Что было бы, если бы все начинания раннего авангарда в Советском Союзе продолжились естественным образом? Как бы это развилось, откуда мы знаем? Давайте, может, про это поспекулируем?
– То есть всплеск послевоенного авангарда – это прежде всего восстановление исторической справедливости?
– Я к таким широковещательным категориям не склонен. Но то, что категория красоты, категория прекрасного была присвоена, оболгана и извращена тоталитарными режимами и нужно было в каком-то смысле ее разрушить – это историческая справедливость, да. Сбылась антиутопия, возник настоящий платоновский полис – конечно, его надо было взорвать.
– Многие любят говорить о том, что в исторической перспективе послевоенный авангард скорее проиграл. Сибелиуса, Бриттена и Барбера все равно играют гораздо чаще, чем Штокхаузена, Ксенакиса и Булеза. Причем говорят это, в частности, те, кто продвигал авангардную музыку в Советском Союзе – скажем, дирижер Игорь Блажков или пианист Алексей Любимов.
– В каком смысле проиграл – в статистическом?
– Статистическом – если посмотреть на процент этой музыки в репертуаре современных оркестров. И идеологическом – ведь подразумевалось, что эта музыка и есть музыка не только настоящего, но и будущего, а другую в будущее не возьмут. Булез писал, что композиторы, не принявшие язык додекафонии, бесполезны. Отношение ко всем остальным у них было понятно какое, вспомните статью Рене Лейбовица «Сибелиус: худший композитор на свете». Был же момент, когда тональная музыка была откровенно не в моде.
– Ну да, было такое. Эти люди заблуждались. Они были увлечены своими идеями. Оказалось, что реальность более многообразна. Ну и хорошо! Что в этом такого? Заблуждаться – это прекрасно! Проигрывать на исторических дистанциях – это замечательно! «Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей…» Сибелиуса в результате играют чаще, чем Булеза? Ну да. При этом многие французские ансамбли Булеза играют значительно чаще, чем Сибелиуса. Вообще, какой ни возьми ансамбль современной музыки (а для них, собственно, Булез и писал), он, конечно, значительно чаще играет Булеза, чем Сибелиуса и даже Бетховена. Это повод говорить про то, что авангард живет в резервации? Ну давайте сравним тиражи Radiohead и любого симфонического оркестра, что это за аргумент такой?
На основании чего объявляется проигрыш? На основании того, что чего-то меньше – допустим, музыки в репертуаре оркестров? Не понимаю. А то, что оригиналов картин меньше, чем копий, – это что, проигрыш художника, его техники письма, его медиа? Масляная живопись проигрывает открыткам? Чего больше, то и лучше?
Да нет же! Чего меньше, то и лучше! Что уникальнее, то и лучше – мог бы ответить я. Но и эта логика тоже не работает. Это просто нельзя сравнивать. Вторую симфонию того же Сибелиуса играют гораздо чаще, чем его Шестую симфонию. И что, Вторая симфония в исторической перспективе выиграла у Шестой? Что за бред!
Да, авангардисты неблагозвучные, неприятные. Поломали существовавшие конвенции и образовали какую-то свою, очень скучную. Принять ее сложно, слушать это трудно. Все понятно, всегда так было. Сати проиграл Глазунову? Да нет. А Дебюсси? Если проиграл, то как?
Да, что-то исполняется чаще, что-то реже – это глупо отрицать. Но, во-первых, мы живем в очень специализированном мире. Бетховен традиционными большими филармоническими оркестрами вообще, можно сказать, не исполняется ни разу. Потому что это ни хрена не исполнение! По-настоящему он исполняется такими оркестрами, как Orchestra of the Age of Enlightenment, Orchestra of the Eighteenth Century. Да ведь? Ценность обычного проходного исполнения Бетховена обычным средним американским оркестром – ничтожна. Просто равна нулю. Почему мы записываем его в графу «Бетховен», на каком основании?
– Вы же много раз слышали эти аргументы. Эту скучную конвенцию насаждали-насаждали, утверждали-утверждали, а ничего не вышло. Люди все равно ее не полюбили.
– И что? Какой за этим следует вывод?
– Понятно какой: эта немелодичная музыка противна человеческому уху.
– И ради Бога, пусть считают как хотят. Но нужно сделать еще один шаг и сказать честно: мне она неприятна, я ее слушать не буду, я не считаю ее музыкой, она мне ничего не дает. Вот с этим я готов согласиться. Но эти люди хотят свои личные впечатления обосновать причастностью к большинству, прислониться к силе. И это всегда зачатки культурного фашизма, потому что вслед за этим непременно делается заявление «лишить финансирования», «поставить в рыночные условия». Поставьте классический оркестр и оперный театр в рыночные условия, давайте! Посмотрим, оправдают ли они вложения, высокий исторический старт, грандиозные ожидания публики.
Никто не готов просто заключить: «Эта музыка мне не нравится, это вообще не музыка, я не хочу ее слушать». Нет, все продолжают – я считаю, что она не нужна, ее нужно ограничить, извести под корень, отправить на вольные хлеба. Хотя кто ты такой? Не ты же платишь, это не твои деньги! Твои деньги – это деньги за билет, отвечай за них, за свои впечатления. Но человек, который хочет прислониться к большинству, всегда заканчивает репрессивной логикой. Всегда. И в этом кроется большая опасность.
– Все обычно переходят к оргвыводам, никто не останавливается на скромном «мне не нравится».
– Никто и никогда. Это или говорится прямо или подразумевается. Многие просто стесняются сказать: «Давайте не будем давать денег на концерт, на который пришло пятьдесят человек». Не хочешь – не ходи, механизм личной ответственности исключает любой статистический подход, «давайте» из него просто не может вырасти. «Мне не нравится», «я не люблю» – это нормально. «Моя история слуха этого не приемлет». «Я такого не хочу». Нет, обязательно нужно сказать, что «таких, как я, большинство». Не понимая ни в музыке, ни в том, как работают механизмы в культуре…
Что им остается? Стать гениями плохих музыкантов, дрянных исполнений, провальных премьер. Молиться на традицию, отполированную, сияющую и безукоризненную. Не думать о том, из какого сора, пота и крови эта традиция выросла, прежде чем стать глянцевым компакт-диском.
– Ну да, никто не играет плохих забытых композиторов, потому что они забыты.
– Но без них не было бы ничего. Когда они говорят: «Давайте деньги будут доставаться только самым лучшим», они забывают, что никаких самых лучших не будет, пока не будет всех. Это просто закон распределения Гаусса: лучших все равно будет полпроцента, или один, или пять. Но их не будет без оставшихся 95 процентов. И никогда не было, нигде и никогда.
– А вот эта история про «давайте не дадим», она ведь не только российская, в Европе тоже такое есть?
– Чиновник всегда на стороне общества – так, как он его понимает. Если это умный чиновник, он понимает общество как сложный конгломерат. А если чиновник – сторонник напрасных, всегда неверных статистических выкладок, то да: урезать финансирование, укрупнить, объединить два оркестра в один. Это бывает и на Западе. Но денежные потоки в сфере искусства там более распределены. Такой централизации, как в России, там нет. Ну и конечно, нет и всего прочего – откровенно бандитской политики государства, недопущения меценатов и прочего.
– Есть еще одна популярная посылка, которой часто пытаются принизить или обесценить современную музыку, – все уже давно придумано, все интересное кончилось, ничего нового они сочинить не в состоянии, последней большой композиторской идеей был минимализм, а ведь с тех пор почти полвека прошло.
– Я не уверен, что мы уже отошли на достаточную дистанцию, чтобы рассуждать про новые большие идеи или тренды. Тренды-то есть. Скажем, работа с разными медиа, объединение музыки с видео. Включение в сам факт сочинения пространства, исполнителя как фигуры. Сейчас у всех в пьесах есть сэмплер со звуками, live electronics… Все чаще проекты с хореографией. Сейчас, мне кажется, есть тренд на создание однократного события в противовес созданию текста и объекта. Но, опять-таки, это зависит от того, про какой контекст мы говорим: на фестивале в Дармштадте происходит одно, на «Gaudeamus» другое, на фестивале «Парижская осень» – третье. И конечно, есть ощущение, что много похожих пьес, что дает возможность говорить про «фестивальную моду», ну а как иначе образуются тренды? Потом они, возможно, кристаллизуются во что-то большее.
Что касается минимализма, то он просто хорошо опознается – потому что был очень ограниченным, музыкально бедным и поэтому очень узнаваемым. Огромную популярность он завоевал потому, что переворачивает с ног на голову европейские слушательские привычки, и в то же время делает это максимально приятно, в коммерческой звуковой упаковке. Еще, конечно, был спектрализм. Другого такого монолитного явления я сейчас не вижу. Но это не означает, что его нет. Просто мы в силу близости можем его не замечать, а в будущем оно может быть не менее влиятельно, чем минимализм.
– Это связано с тем, что время крупных идей или крупных школ в принципе закончилось и все стало очень узкое, маленькое и специализированное?
– Так называемая специалистская европейская логика говорит нам именно об этом. С одной стороны. Но есть ведь и другая сторона. Я пока не знаю.
– Можно ли сказать, что в новой музыке по-прежнему существует культ сложности?
– Можно.
– Это ведь тоже одна из популярных претензий. Все это ужасно сложно, и слушать, и понимать…
– Но как это может быть претензией? Сложно понимать – не понимай. Нет никакой проблемы.
– «Почему так сложно» говорил в нашей беседе и Леонид Десятников – ведь того же самого можно достичь гораздо более простыми средствами.
– То, что мы слышим, всегда проще того, что записал композитор. «Большая фуга» Бетховена гораздо сложнее, чем то, что мы слышим. Того же самого можно было достичь гораздо более простыми средствами, потому что таково свойство нашего слуха – мы округляем, упрощаем. Зачем вставлять в сочинение септоль 3+2+2, которая почти как триоль? Почему не написать триоль и просто поставить черточку под первой нотой, чтобы ее чуть протянуть? Да по кочану. Так автор чувствует музыкальное время. Оно так здесь сжимается, и это сжатие будет передано исполнителю, который точно так же будет напрягаться в этом месте, чтобы сыграть вовремя. Если исполнитель добросовестный, конечно. А со стороны все видится гораздо проще. Так что Леня, конечно, прав – как слушатель, но я тоже прав – как композитор. Вот видите, какая у меня удобная позиция: и да и нет. И за умного сойдешь.
– Вообще, объяснения про новую музыку нередко бывают интереснее самой музыки.
– Ну да, разумеется. Потому что болтать – не форму строить.
– Еще слушателя часто волнует вопрос, нужно ли что-то понимать про новую музыку, чтобы получить от нее удовольствие. Или удовольствие в этой схеме вообще вынесено за скобки?
– Ответ очень простой. А про Гайдна слушатель понимает? Если понимает, то что? Вот пусть мне объяснит. Воспринимать – это же не значит понимать.
– А здесь у слушателя и с восприятием не всегда идеально, и с пониманием. Возникает фрустрация, с которой вы наверняка сталкивались.
– Первый шаг из этого замкнутого круга – сказать себе: «Я не воспринимаю». И все. Я отвечаю только за себя. А дальше возможен диалог с композитором.
«Что ты такое написал, я это вообще не могу воспринимать?» – «Знаешь, то-то и то-то. Смотри, здесь так, а здесь так, видишь, это одно и то же?» – «Вижу». – «Больше стал понимать?» – «Больше». – «Лучше теперь воспринимается?» – «Лучше».
Почему? Потому что ты теперь знаешь больше, сформированы некоторые ожидания, а значит, нарушение этих ожиданий тоже имеет место. И это зона личной ответственности, личного опыта, интеллектуальной слуховой работы. Нет, конечно, гораздо проще сказать: «Я этого не понимаю!» А Баха, значит, понимаешь? Никто и никогда не ответил мне на этот вопрос. Ну попробуй, объясни, раз понимаешь!
– Еще один вопрос: почему современные композиторы продолжают цепляться за акустические инструменты? Ведь электронику освоили первыми именно академические композиторы, и многие были уверены, что именно за нею будущее: это мир бесконечных возможностей, неслыханных тембров, звуков, которых раньше не было. А также счастливого избавления от диктата исполнителей – композитор сам все может синтезировать, запрограммировать и сразу же услышать. Почему ничего этого не произошло?
– Именно потому что это мир бесконечных возможностей, а человеческое сознание привыкло существовать в мире ограниченном. А главное – знаете, очень неуютно сидеть перед колонкой с компьютерной музыкой. Живое исполнение – это все-таки совсем другое дело. Не существует двух одинаковых исполнений, и нам это нравится. А в консерваториях тоже производят живых музыкантов, и некоторой части этих музыкантов интересен контакт с живым композитором, им интересно играть новую музыку на свойственных им инструментах. Хотя это понемногу меняется, и сейчас электроника в академической музыке встречается очень часто, причем в самых разных вариантах: она может, например, управлять живым звуком или какими-то объектами. А бывает наоборот – полностью живая партитура, которая исполняется на акустических инструментах, но производит эффект совершенной электроники, как в некоторых вещах Горацио Радулеску.
– Существуют ли в современной музыке ярко выраженные национальные школы? Или сейчас все это не имеет значения?
– Я склонен считать, что существуют. Существует узнаваемый тип французского композитора, выпускника Парижской консерватории. Есть американская университетская усредненная музыка. Есть английские композиторы, играющие гармоническими и ритмическими мускулами различной степени накачанности. Есть великолепная финская школа. Яркие поляки, чехи и шведы. Совершенно особые норвежцы, эту норвежскость ни с чем не перепутаешь. Очень необычные голландцы, в которых живет дух Стеллинга. В общем, национальные традиции как-то продолжаются, хотя и непонятно как.
– А себя вы к какой-то традиции относите? Вы эмигрировали сначала в Израиль, потом в Германию. Влияло ли это как-то на вашу музыку?
– На музыку – вообще никак. Музыку меняет не то, где ты живешь, а то, какие у тебя возможности, контакты с исполнителями, с фестивалями. Как ты внутренне развиваешься. Наверное, если бы я поселился в Дании и устроился церковным органистом в маленьком поселке, это бы что-то могло поменять. А так – нет.
Менялось мироощущение, это да. Я привык быть в меньшинстве, но в России я был этническим меньшинством, в Израиле оказался в культурном меньшинстве и опять-таки в национальном, но другом, я все-таки русскоговорящий. Я до сорока трех лет прожил на одном месте, свое воспитание ношу с собой, этого не скроешь. Так что моя идентичность с переездами начала мерцать и троиться.
– Вы как-то пытались интегрироваться в музыкальный мир Израиля? На что он похож?
– Я пытался с кем-то познакомиться, но довольно быстро обнаружил, что через год с небольшим уеду в Германию по стипендии DAAD, так что это время потратил не то что впустую… Если бы я там остался, как-то бы устроился и свыкся, наверное. А может, и нет, Израиль – это все-таки очень специальное место. Хотя композиторская среда – это университетский высоколобый мир, но все-таки тема национальной идентичности для них действительно очень важна. А я ощущать себя евреем в музыке совершенно не готов. Ну, так, чтобы это было слышно. Я по-еврейски подхожу к сочинительству в смысле традиций толкования, комментария, переопределения известных текстов. Это мне очень интересно. Но не на звуковом уровне, а на уровне работы с формами, с конвенциями. Но если учесть, насколько еврейская традиция определила вообще профессиональную музыкальную традицию, то я – абсолютный европеец.
– А в композиторское комьюнити Германии вы легко вписались?
– Я стараюсь, но я человек не очень социальный, не умею тусоваться, мне это не очень интересно. Я по-немецки говорю плохо, но по-английски без проблем, с ними со всеми можно по-английски, так что языковой барьер тут не играл особенной роли. Просто немецкие композиторы и музыканты, конечно, предпочитают общаться друг с другом, поэтому для того, чтобы войти в этот круг, нужно какое-то количество времени здесь прожить. Но я пытаюсь не столько интегрироваться, сколько выйти на важных для меня людей. Мне сложно с интеграцией, сложно продвигать себя, хотя я понимаю, что это, в общем, часть профессии. Но я не готов к карьеризму.
– Можно ли сказать, что ваша эмиграция отчасти была вызвана недостатком работы для композитора в России нулевых?
– Вполне. Хотя уехал я в начале 2012-го. Но я задыхался. Мы ведь даже сделали в Санкт-Петербурге свой ансамбль, но все оставалось на невероятно низком уровне доходов и расходов. Очень сложно было выбраться куда-то на простор. К красивой музыке, ко всему прочему. И я двенадцать лет занимался тем, что волок ансамбль, обустраивал сам себе пространство, но больше не хочу. Хочу наслаждаться инфраструктурой, которую создали другие люди.
– При этом в России вы были, безусловно, заметным композитором, а в Германии конкуренция наверняка гораздо выше?
– Конечно, выше, но и возможностей гораздо больше. Ощущение, что я переехал из музыкальной провинции в столицу, в центр мира, довольно сильное. Тут столько всего, что непонятно, куда бежать, что смотреть. Важно же, что я получаю от этого, а не то, считаюсь ли я заметной фигурой. Я согласен быть незаметной. Зато в Германии я могу общаться и предлагать свои идеи гораздо большему количеству музыкантов и ансамблей. В России это было бы делать значительно сложнее. У нас мало ансамблей, в десятки раз меньше площадок, институций, музыкальный ландшафт в разы менее богат и разнообразен. В этом смысле мне здесь очень хорошо. Но, конечно, и некомфортно – оттого, что пока не очень успешно все продвигается. Надо стараться, дружить, завязывать знакомства, вот это все.
– Я недавно читал интервью художника Дмитрия Врубеля, много лет живущего в Берлине. И он говорит, что в Германии чувствует себя стоящим в бесконечной очереди к кураторам, институциям, вообще возможностям, причем стоящим в каком-то далеком хвосте. И понимает, что многие заняли ее буквально сразу после рождения. У музыкантов так же?
– У меня ощущение другое. Что я варюсь в густом бульоне из композиторов, и просто высунуть голову, чтобы тебя увидел тот, кто этот бульон варит, довольно сложно.
– Притом что музыка – это вроде бы интернациональный язык, перевода не требует, и композитору, вероятно, эмигрировать легче, чем, скажем, писателю. Или нет?
– Да нет, связи ведь существуют везде. Люди учились вместе, выставлялись, работали. Получали хорошее образование, в отличие от тебя. Конечно, встроиться в тусовку сложно. Есть такие курсы по риторике: «Заговори, чтобы я тебя увидел» – нужно именно что заговорить, чтобы тебя увидели. При этом, подружившись с кем-нибудь, ты вынужден будешь убеждать себя, что эти связи и знакомства ничего не значат, что играют тебя не по дружбе, а потому что твоя музычка и правда ничего. А это довольно разрушительные мысли, для тебя самого прежде всего.
– Если говорить про возможности, то в Берлине вы можете работать с самыми разными культурами, это ведь очень глобалистский город.
– Да, но это сложная задача, и эстетически, и институционально. Есть, например, такой ансамбль «Атлас» в Амстердаме, который наполовину состоит из этнических музыкантов. То есть там смешаны европейские инструменты и разные восточные – японские, индийские, иранские, арабские. И они мне предлагали написать музыку, но как бы просто так, это не денежный заказ, а так я пока не готов. В Берлине много разных музыкантов, но этника замкнута в себе, нужно плотно общаться, дружить с конкретными людьми, чтобы их понимать и иметь возможность полностью посвятить их в свою концепцию. Гораздо плодотворнее, по-моему, брать какие-то формальные принципы и осмыслять их на звуковом уровне.
– У вас же был необычный проект с черногорскими гуслярами, это как раз оно?
– Да, по заказу итальянского фестиваля «Transart». Мне просто очень понравились эти инструменты, совершенно неординарные. Но, по-моему, проект не получился. Я очень болезненно это переживаю. Не так сыграли, не так спели, было мало репетиций – в общем, по разным причинам. Хотя, мне кажется, само сочинение у меня вышло ничего так, крепкое, я хотел бы его еще где-то исполнить. Может быть, даже с теми же людьми, которые уже более или менее выучили текст, или с кем-то другим. Не обязательно даже гуслярами. Исполнить это можно на любых монохордах. Это могут быть даже классические музыканты-струнники, которые не стесняются издавать звуки ртом. Я бы хотел эту вещь записать нотами, сделать нормальную партитуру со звуковысотностью. Она огромная, сорок пять минут, но построена на довольно консервативных принципах – там много минимализма, много репетитивности.
– Вы упомянули про образование – ваше вам кажется слабым? То есть разговоры про лучшее в мире российское музыкальное образование и великую петербургскую школу – это миф?
– Послушайте, ну какая школа, если тебя во время обучения почти не играют, а если играют, то так, что лучше бы не играли? Если твой оркестровый диплом сыграли так, что можно просто повеситься? Образование – это feedback, а когда ты фактически сам, вглухую должен что-то нащупывать – это не образование, а видимость. Петербургская школа – самая затхлая, самая бледная. Сейчас, насколько я знаю, в нашей консерватории все совсем плохо. Но конечно, наверняка есть какие-нибудь провинциальные консерватории, в которых все еще хуже.
– Но что-то это образование вам все-таки дало? Есть ли в вашем багаже что-то, сформировавшееся именно в России, что может пригодиться вам в Германии? Что вы ощущаете как свои достоинства и недостатки?
– Недостатки, конечно, есть, их очень много. Мне не хватает звуковой фантазии – это, наверное, главный недостаток. А достоинства… Не знаю, могу ли я считать достоинством то, вокруг чего вращается мое музыкальное сознание. Прежде всего, это работа с формой. Под формой я понимаю вообще все – соединение разнородных элементов, работа с исполнительскими привычками, звуком, структурой ожиданий. Мне всегда говорят, что меня очень сложно играть, хотя каких-то технических трудностей обычно немного, но очень трудно думать так, как я требую. Мне-то кажется, что это самая естественная логика, но она же моя, мне трудно об этом судить.
Мне очень нравится монотембровость. Вот у меня есть сочинение для семи губных гармошек и аккордеона. Двадцать пять минут тянется фактически один и тот же тембр. Мне нравится ограниченность такого рода. Еще я одержим идеей писать оперы и балеты. У меня очень много замыслов разной степени разработанности. Я хочу делать музыкальный театр, но туда пробиться сложнее всего. Хотя мне кажется, что я могу, что я созрел. Но получится или нет, не знаю.
Насчет того, что дало… Мне кажется типично российской чертой широковещательность – стремление работать с большими формами, обращаться к широкому кругу.
– Вы же вроде бы считаете это дурным качеством русской музыки вообще и советского авангарда в частности.
– Стремление к большому нарративу, желание взять тебя за пуговицу и что-то назидательно рассказать? Скорее минус, конечно. Авангарду это вообще не должно быть свойственно. Возьмите Лахенмана: он ничего не хочет вам сообщить. Он сосредоточен на форме, на временной сети. Его музыка – это то, что есть, а не то, что она выражает. Это вы сами решаете, выражает она что-то, и если да, то что. А возьмите музыку Губайдулиной: это же бесконечный монолог про высшее. Большие формы, большие кульминации, большие инструментальные жесты, открытый пафос. И весь советский авангард – он такой, слышно, что авангардные техники – это именно что приемчики, орнамент. Вся практика советского авангарда оказалась просто шелухой. У Денисова его инструментальная техника носит подсобный характер, это не сущностная вещь. Это все внешнее, наносное. И не случайно потом это так легко отвалилось – у Сильвестрова или у Шнитке. Когда Шнитке оказался физически ограничен в написании музыки, он резко стал более классично мыслить. Он очень сильно поправел.
Мне все это свойственно тоже – в силу образования, воспитания, контекста. Но мне кажется, что во мне этот большой нарратив может переродиться во что-то еще. Я чувствую этот медленный процесс. Возможно, с ним и связаны мои перспективы.
Алексей Айги
Родился в Москве в 1971 году. Окончил музыкальное училище им. М.М. Ипполитова-Иванова (кафедра оркестровых струнных инструментов). Начинал как скрипач-импровизатор, в 1994 году основал ансамбль «4'33''» из музыкантов с консерваторским образованием, которые исполняли эклектичные программы из сочинений Заппы, Кейджа, Райли, Бартока, Батагова. В дальнейшем ансамбль переключился на музыку самого Айги, расширился за счет музыкантов из мира рока и электроники, начал прочно ассоциироваться с минимализмом и занял примерно ту же нишу, которую на Западе занимают Kronos Quartet, Bang on a Can и другие коллективы, сочетающие академическую выучку с рок-драйвом.
Вскоре после создания ансамбля начал писать музыку для кино. Первой заметной работой стал саундтрек к кинофильму «Страна глухих» (1998) Валерия Тодоровского. Автор более пятидесяти саундтреков к фильмам и телесериалам в России, Франции и США («Гибель империи», «Дикое поле», «Орда», «Зеркала», «Я вам не негр»), а также музыки к немым фильмам 1920–1930-х («Метрополис», «Дом на Трубной», «Девушка с коробкой») и театральным постановкам. Записал ряд альбомов-дуэтов – с немецким музыкантом Дитмаром Бонненом, французской джазовой певицей Миной Агосси, японским скрипачом Кэйсуке Отой, механическим оркестром французского композитора Пьера Бастьена. Живет между Россией и Францией.
Беседа состоялась в Москве в январе 2018 года.
Фрагмент партитуры саундтрека к фильму Фрица Ланга «Метрополис» (1995–1996). Алексей Айги: «На листе – оригинал партии ударных. Нотировано все полуимпровизационно. Это самое начало фильма, цифры обозначают переход между разными фактурами ударных, которые музыкант придумывает сам, ориентируясь на видео и партии остальных музыкантов. В дальнейших сочинениях импровизации стало меньше, выписанных партий больше, хотя такой хаотичный подход мне по-прежнему нравится.
Саундтрек мы писали для фестиваля „Берлин – Москва“, по заказу Немецкого института им. Гете. Идея была для всех совершенно новая. Я зачем-то схватил самый длинный и сложный фильм, совершенно не понимая, что с ним делать. Вроде справился, хотя это была одна из самых сложных работ в моей жизни. Репетировали мы в квартире у композитора Паши Карманова, который в то время с нами играл, партии я дописывал буквально в метро. До сих пор не понимаю, как мы смогли это сыграть».
– Вы начинали как исполнитель, потом основали ансамбль, стали писать музыку, а сейчас вас, наверное, правильнее считать прежде всего кинокомпозитором? Просто в силу того, что саундтреков в списке ваших сочинений уже заметно больше, чем всего остального.
– Я не уверен, что могу так четко разделить, для меня это все равно одно дело – сочинять и играть музыку. Был период, когда «4'33''» много выступал и записывался, а в кино у меня работы было не очень много. Во второй половине нулевых ансамбль как-то притормозил, а для кино я, наоборот, писал прилично. Но все это скорее череда совпадений и обстоятельств. Скажем, в конце 1990-х – начале 2000-х я уехал во Францию и был в России только наездами. Никакой особенной логики тут нет.
– «Страна глухих» – это же был ваш дебют в киномузыке?
– В большом кино, скажем так. До этого была забавная работа английской девушки по имени Кейт де Пюри, которая году в 1996-м приехала в Москву снимать короткометражку с Ренатой Литвиновой и Петлюрой. И еще один вгиковский фильм, «Свойства девятки». Ну и плюс я написал два саундтрека к немым фильмам, «Метрополису» и «Дому на Трубной».
– То есть вы с самого начала собирались стать кинокомпозитором.
– Да я вообще ничего не собирался и не планировал. Все то было абсолютной случайностью, в том числе и моя работа с Тодоровским. Один из его ассистентов дал ему послушать кассету с моей музыкой, Валера как раз искал что-нибудь хулиганистое для фильма. Кое-что ему понравилось, он дал мне фильм и сказал – пиши. Я и написал. Чтобы его убедить, даже пришлось поиграть на скрипке в монтажной: демо было ужасающее, надо было показать, как все это будет звучать. Музыка получилась мелодичная, но вся в каких-то нестандартных для кино размерах – 5/4, 9/4, 5/8, 7/8. Музыканты почти все были из «4'33''», на фортепиано тогда еще играла [музыкальный критик] Юля Бедерова, на синтезаторах – [композитор] Павел Карманов.
Это вообще было очень странное время. Свой ансамбль «4'33''» я создал в 1994 году, но музыки тогда писал очень мало. Играли что придется где придется. В Москве тогда практически не было ни клубов, ни площадок. Был безумный клуб «Белый», который никто не помнит. Так что играли на выставках, в Центре современного искусства, который тогда был на Якиманке. Один из первых концертов мы дали в ЦДХ, где все 1990-е шли джазовые концерты. И еще был фестиваль «Альтернатива». В принципе, и все. Играть было особо негде.
– Вы разве создали «4'33''» не для того, чтобы играть свою музыку?
– Да у меня поначалу практически и не было своей музыки, я не думал о себе как о композиторе. В начале 1990-х я плотно занимался импровизационной музыкой, играл в дуэтах с разными людьми. Потом мы с Юлей Бедеровой решили создать свою группу, чтобы играть американских минималистов и что-то вокруг. Но это «что-то вокруг» понималось довольно широко, по сути, мы играли все, что в руки попадется. Нот современной музыки не было, и взять их было неоткуда. Попала нам в руки, скажем, партитура [японского авангардного композитора] Тору Такэмицу – мы сыграли. На американский минимализм это было совсем непохоже, но вообще-то настоящий минималист для меня – это Антон Веберн, и в этом смысле Такэмицу вполне подходил. С нотами вообще была труба. Позже я познакомился с немецким музыкантом Дитмаром Бонненом и у него дома в Германии просто накопировал себе целую пачку. А он-то их честно покупал, потратил кучу денег. Он так и не понял, как так можно.
В общем, «4'33''» – это была группа со смутными целями и очень нестабильным составом. Поэтому мы выбирали такие вещи, которые можно играть с разными музыкантами. У Кейджа много таких произведений: написано «для пяти исполнителей», и слава богу, не обозначено, каких именно. Зови кого угодно. Потому что собрать, скажем, струнный квартет – это была в то время громадная проблема. Надо же людям платить, а время было безденежное.
Еще мы, как взрослые, хотели заказывать вещи другим композиторам. И даже заказали одно произведение Владимиру Мартынову, а потом гонялись за ним два месяца, чтобы его забрать. Играли музыку Карманова и сочинения для кино Батагова – одной из первых записей «4'33''» стал его саундтрек к «Музыке для декабря» Ивана Дыховичного. А больше никаких композиторов вокруг особо и не было.
– Но все-таки это «что-то вокруг» имело четко очерченные границы? Как вы объясняли приглашенным музыкантам, чем ваш ансамбль занимается?
– Музыкантам я просто говорил: «Слушай, у нас будет концерт, приходи, поиграем чего-нибудь». И конечно, некоторые приходили на репетицию, смотрели в ноты и говорили: «Что это вообще за хрень?» А там, допустим, графическая партитура – не обычные ноты, а нарисован лабиринт со стрелочками, по которому ты должен двигаться.
Но я четко понимал, что мы собрались не для того, чтобы играть академический авангард, типа Штокхаузена и Булеза. Хотя и у Штокхаузена есть хорошие вещи. Но играть Булеза мне было бы скучно. Это сложно выписанная, очень техническая, абсолютно рассудочная музыка. Я до этого занимался импровизацией и понимал, что того же эффекта я могу достичь вообще безо всяких нот, зачем мне потеть над партитурой Булеза? Понятно, у него другая философия, но звучит-то так же! Мы не получали зарплату, нам никто не платил за репетиции, зачем сидеть и играть то, что на самом деле мало кому из собранных музыкантов нравится? В то время в России не было исполнителей, которые это дело любили. Вот как фри-джаз обычные джазмены называли собачатиной, так же и академические музыканты относились к авангарду. Сейчас уже появилось новое поколение, которое и интересуется им, и понимает, и играет хорошо. И я могу это послушать, но играть – что-то неохота.
Я ведь хоть и учился на классического скрипача, все это ненавидел всей душой. Я сперва увлекался тяжелым роком, потом прогрессив-роком. И от академической музыки хотелось такого же драйва, а в классике его не так уж много. За исключением какого-нибудь Стравинского. Так что и с «4'33''» мы двигались в сторону энергичной музыки, которую можно было бы сыграть в клубе.
– Американские минималисты 1960-х бунтовали против европейского авангарда еще и потому, что его тогда вокруг было много, это был академический мейнстрим. Но у нас его и играть-то толком начали в конце 1980-х, сложно представить, что вы от него успели устать.
– Конечно, мне поначалу все это было интересно. Я был на концерте Булеза в Москве в 1990 году и на встрече с Ксенакисом в 1994-м в Союзе композиторов. И сам какие-то опусы писал, показывал их Эдисону Денисову, ходил к Владимиру Тарнопольскому. Я ведь думал поступать в консерваторию, было такое советское ощущение, что если ты музыкант – тебе туда. Как скрипач я бы вряд ли туда попал, подумал, что можно на композиторское. Денисов типа одобрил, надо было готовиться и поступать. Но в процессе я передумал.
Понимаете, очень многое в музыке связано с идеологией. Я как-то почувствовал, что эта авангардная идеология мне не близка. Потом то же самое повторилось, кстати, с импровизационной сценой. Уже в нулевые я перебрался во Францию и много общался с людьми из фри-джазовой тусовки. Просто с джазменами разговаривать, по-моему, не о чем, а с этими еще как-то можно. Я попал в небольшой круг импровизаторов, буквально в барах с ними знакомился. Леваки они все страшные, но это ладно. Начал с ними репетировать, и они приходят в ужас: я десять секунд подряд играю музыку в одном ритме! Нет-нет-нет, говорят, так нельзя, это надо ломать! Но зачем, почему? Хорошо же получалось, пошла энергетика… Страшно зашоренные, тяжелые люди. И необразованные ужасно. Как-то попал на концерт двух знакомых саксофонистов, они тянули такие длинные красивые ноты. Неплохо выходило, в принципе. После концерта говорят мне: мы пытаемся сделать так, чтобы между нотами не было вообще никакой связи. «Как у Мортона Фелдмана», – говорю я им, а они в ответ – а кто это? Ну, ребята, в 1960-е это все уже было, а вы думаете, что изобрели колесо. Потом кто-то из них открыл для себя King Crimson, это в нулевые-то годы. Смешно. В общем, музыканты чаще всего варятся в собственном соку, и из своих нор совершенно не стремятся выходить. Что академисты, что джазмены, что импровизаторы – везде одно и то же.
– Композиторы обычно вспоминают первую половину 1990-х как очень тяжелое время: работы нет, денег тоже. Не случайно многие из них тогда просто эмигрировали из России.
– Но я-то был молодой, только пришел в музыку, мне все это было совершенно по барабану. Начало 1990-х было мрачным, но я этого как-то не замечал. Я был голодный, жил на доллар в день. Но я всю жизнь хотел играть музыку и наконец дорвался. Вы просто не можете представить, как это выглядело еще в конце 1980-х. Вот я учусь в Ипполитовском училище и играю в странной группе «До-мажор». Чтобы дать концерт, ты два часа едешь в какой-то институт рядом со МКАДом. На месте оказывается, что там нет аппаратуры. Все матерятся, пытаются что-то спаять на ходу, чтобы все-таки дать концерт. На сцене восемь человек, в зале[84] – пять. И это смысл твоей жизни, ты его ждешь три месяца! И главная твоя радость – что можно нарисовать афишу и на тебя придут люди. Так что в 1990-е у нас было такое же ощущение. Есть клубы, нет клубов – неважно. На выставке так на выставке, заплатят пятьдесят долларов на всех, значит, заплатят. Меня вообще всегда удивляла эта уверенность композиторов – я пишу музыку, а вы должны платить мне деньги. Ну, чувак, вообще-то не должны.
– То есть вас поначалу увлекало не сочинительство, а исполнительство.
– Конечно! Я как композитор вылупился из исполнителя. Просто хотелось играть. Поэтому с 1993-го по 1995-й я самовыражался в импровизации. Попутно ты учишься играть, держать на себе целый концерт – это хорошая школа. Ведь что такое импровизационная музыка? Ты выходишь без подготовки и играешь – сорок минут или полтора часа. И тебе должно хватить идей, сил, эмоций. Академические музыканты этого страшно боятся: как это – выйти и играть без нот? А вот так!
Но аппетит приходит во время еды, начинаешь понимать, что вот здесь хорошо бы добавить такую штуку. А музыкант сам ее не придумает, надо ее написать нотами. И другому тоже. И как-то стало понятно, что писать свою музыку просто удобнее. Чужую надо искать, учить, под нее надо придумывать состав, а свою ты каждый раз можешь менять под тех людей, которые у тебя есть.
На самом деле, многие американские композиторы так действовали – тот же Терри Райли, например. Ну а у меня к тому же был свой ансамбль – Юля Бедерова и Паша Карманов ушли, я остался единственным лидером, и «4'33''» начал потихоньку организовываться вокруг моей новой музыки.
– После выхода «Страны глухих» вы стали известны, получили премию «Золотой овен», номинировались на «Нику», у «4'33''» в это же время выходят сразу три успешных альбома. Было ощущение, что все наконец-то начало складываться?[85]
– Было пушкинское такое чувство – «ай да сукин сын». Ощущение удачи. Фильм отобрали в конкурсную программу Берлинале, но мне как-то в голову не пришло, что нужно срочно лететь туда с визитками и налаживать контакты. Мы вообще не думали о карьере. Просто радовались, что все получилось и что теперь на концерты придет не семь человек, а двадцать пять. Ну, молодость. Не думаешь о том, что надо двигать, строить и продвигать – радуешься и все.
– Но вы понимали тогда, что сделали? Вы же для целого поколения стали точкой входа в академическую музыку, в самом широком смысле. В мои студенческие годы мало кто ходил в консерваторию, а на концерты в клуб «Дом» ходили. «4'33''» заменял разом и Kronos Quartet, и Bang on a Can, и Philip Glass Ensemble, и всех на свете.
– Да мы при этом сами-то не знали никого! Знали Kronos Quartet, но мы и не квартет, и играем не так, и вообще разгильдяи. А уж ни про каких Bang on a Can мы и не слышали. В Россию они не приезжали, видео до нас не доходило, ютьюба тогда не было – вообще непонятно, как люди жили.
– При этом от вашего появления было ощущение в духе «погнали наши городских». Ваша музыка, и близкая вам музыка Батагова и Карманова, внезапно зазвучала у Тодоровского и Дыховичного, в оформлении телеканалов «Культура» и «НТВ», в «Намедни» и по радио «Субстанция». Это был настоящий звуковой оттиск эпохи. Для меня 1990-е по-прежнему звучат как «Музыка для декабря», саундтрек к «Стране глухих» и заставка к «Старому телевизору».[86]
– При этом поначалу на наших концертах было совсем немного людей. На первом, думаю, человек девять – пять знакомых композиторов и четыре музыковеда. После него Антон Батагов, который нас очень поддерживал, сказал: «Кажется, ты нашел себе занятие на всю жизнь». Я, честно говоря, очень удивился. Какая там вся жизнь! Мы далеко идущих планов не строили, даже мыслей таких не было. Но он оказался прав.
– А к сочинению музыки для кино вы относились как к отдельному занятию, со своими правилами и законами?
– Да в том-то и дело, что нет. Для меня это все одно и то же. Саундтрек к «Стране глухих» не сильно отличается от того, что мы делали на концертах. Все равно пишешь музыку, которая тебе нравится. К тому же двадцать лет назад многое позволялось. Я в 2000 году писал музыку для сериала «Каменская»; вроде какая-то полицейская шняга, а мы ее озвучивали нашей группой, с барабанами, электрогитарами. Но это быстро закончилось, никто тебе сейчас не даст для телесериала или для блокбастера такое написать. Сейчас музыка в кино – какое-то жалкое унылое зрелище. В России в киномузыке просто кризис. Все стали писать однообразную голливудщину, которая абсолютно не подходит под картинку, ваяют копии Ханса Циммера с одинаковыми сэмплами, а в трейлерах вообще звучит, кажется, одно и то же, неважно, какой фильм, – вот это настырное «бу-бу-бу». Во Франции с этим легче, там мне дают писать то, что я хочу, я там почему-то считаюсь хорошим мелодистом. А в России – каким-то смурным авангардистом.
Это серьезные композиторы относятся к киномузыке как к прикладной, второсортной. Помню, при мне композитор Саша Филоненко показывала Эдисону Денисову новую партитуру и он ей так снисходительно говорил: «Ну, это прикладная музыка, отдадите куда-нибудь в кино». Может, посмотрев на это, я и свалил. Мне грех жаловаться: я научился оркестровке, именно сочиняя музыку для кино, это отличная школа. А так кто б мне дал работать с симфоническим оркестром?
– В нормальном академическом мире композитор получает заказы от оркестров и институций. Или, на худой конец, посылает сочинение на конкурс.
– Где оно выигрывает, и потом его исполняют в первый и последний раз в жизни. А потом это слышит оркестр из соседнего города и заказывает тебе новое сочинение… Ну да, нормальная жизнь академических композиторов, но какая-то дико скучная. Я все-таки по-прежнему очень люблю играть музыку, а не только сочинять. Писать, чтобы кто-то где-то тебя сыграл… У меня таких произведений и нет почти – чтобы я отдал партитуру, и ее играли. Я все пишу под себя. Зачем играть чужую музыку, когда можно играть свою?
– Но все-таки в киномузыке больше ограничений. Взять хотя бы систему «референсов», когда режиссер просит написать «как у Финчера».
– Мне однажды пришлось работать сразу над двумя проектами, и у каждого в качестве ориентира была музыка из «Девушки с татуировкой дракона» Финчера. Что смешно, конечно. Но меня эта система не смущает. Бывает, что референс тебя наталкивает на новую удачную идею, да и сам фильм ведет в какую-то сторону. А когда пишешь для себя, не повторяться сложнее. Когда уже сто композиций для группы написал, волей-неволей вылезет что-нибудь похожее на то, что уже было. Уже и так и сяк, и в таком размере и в этом, в какой-то момент натыкаешься на стену – что дальше-то писать?
– А в кино такого не бывает?
– Если у меня нет идей для ансамбля – то их и нет. А если нет для фильма, то они будут.
– То есть вы всегда можете что-нибудь из себя выжать?
– Вот сейчас меня [кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино»] Антон Долин попросил написать музыку для показа «Ночи перед Рождеством», знаменитого немого фильма 1913 года с Мозжухиным. Я сел и написал сорокаминутную партитуру. За неделю.
– Сейчас, спустя двадцать лет, очевидно, что та удача со «Страной глухих» не была случайностью. Вы стали очень успешным кинокомпозитором: больше пятидесяти саундтреков, куча профессиональных премий. На последнем Берлинале было три фильма с вашей музыкой, один из них, «Я вам не негр», даже номинировался на «Оскар».
– Все-таки номинировался фильм, а не моя музыка. Пока что. При этом в России мне уже пару лет ничего не заказывают, здесь у меня не очень успешно идут дела. Я все-таки не могу сказать, что стал только кинокомпозитором и перестал писать для себя. Был заметный перевес в пользу кино в конце 2000-х: с одной стороны, пошли заказы, а с другой, я перестал понимать, зачем вообще писать музыку для ансамбля. Зачем записывать диски, если их никто больше не покупает и даже продавать их негде? Меня не очень волнует, что люди считают меня кинокомпозитором, то есть как бы не совсем серьезным композитором. Меня это даже устраивает. Иначе бы, наверное, больше кусали и пинали.
– Но вам самому-то что больше нравится – писать для кино или для своего ансамбля? Вы что-то делаете для того, чтобы получить больше заказов на саундтреки?
– Что больше нравится человеку, которого несет по океану на доске? Может быть, ему больше нравится сидеть на балконе, курить сигарету и смотреть на закат солнца, но он ничего не может поделать – он плывет на доске. У меня все удачные вещи были в жизни случайными, а когда я начинал прилагать усилия, выходил один сплошной конфуз.
Когда я уехал во Францию, у меня не было того, что там называют carnet d’adresses – записной книжки с адресами. Я никого не знал, не мог никуда попасть. В академическую тусовку я и не совался – ни как композитор, ни как исполнитель. Я не то чтобы вообще куда-то совался – куда заносило, там и обосновывался. Я познакомился в баре с контрабасистом, вот просто реально шел по улице, увидел, как он играет, и обменялся контактами. А он меня познакомил с девушкой, которая оказалась Миной Агосси, звездой французского джаза, и мы с ней сделали совместную пластинку.
Франция вообще не самая музыкальная страна. В их концертную систему я не очень вписался, там сейчас все плохо. За последние десять лет стало гораздо меньше денег, на это наложилась смерть компакт-дисков. Раньше большие музыканты могли выпустить диск и жить на это два года. Теперь это невозможно, и они стали больше давать концертов, сдвинули тех, что поменьше, те сдвинули следующий ряд и выдавили всех остальных – играть теперь просто негде. Конечно, есть интернет и возможность мгновенной известности, но в том же джазе путь по-прежнему очень длинный. Артисты годами играют по маленьким клубам, чтобы их заметили. Ходят истории про исполнителей, которые буквально все деньги вкладывают в промоутирование своих записей, чтобы хоть как-то прорваться. В России в этом смысле проще. У нас сегодня продаешь газеты на улице, а завтра ты уже главный редактор. Сегодня записал трек, а завтра ты – рэпер Гнойный. Я не знаю, кто это, но все равно.
И конечно, когда у тебя есть работа в кино, не очень хочется обивать пороги французских клубов, чтобы пустили выступить. При этом успех в одной области мало влияет на другую: киномузыка – это отдельная профессия и свой, довольно закрытый мир. Бывают, конечно, неожиданные прорывы: Ян Тирсен, который написал музыку к «Амели», теперь беспрерывно гастролирует и всеми воспринимается прежде всего как концертный исполнитель. Но это редкость.
Нельзя сказать, что я стал во Франции большой звездой в киномузыке. Есть какие-то заказы и репутация, но меня сложно назвать известным кинокомпозитором – там своих навалом, высочайшего уровня. Тот же Деспла, который до сих пор работает, собака. Казалось бы, уехал в Голливуд[87] – и до свиданья, большое спасибо, освободи место молодым, так нет. Мне даже с ним удалось немного поработать – он писал музыку к фильму «Курск» Томаса Винтерберга и ему нужна была вещь на русском, которую хор поет в церкви. В результате слова к ней неожиданно написала моя мама, а я был как бы музыкальным супервайзером, и мы эту музыку записали на «Мосфильме». Так что мы с мамой реально стали соавторами Деспла. Фильм еще не вышел и, учитывая, что он про подлодку «Курск», в России его едва ли покажут. Но музыка очень красивая.
– К разговору о семье – творчество вашего отца, поэта Геннадия Айги, как-то на вас влияло?
– Папино творчество для меня всегда было важным, хотя и не всегда понятным. Вообще, он очень сложный поэт. У него, как у Веберна, все слова висят на своих местах, это можно просто чувствовать, необязательно все понимать до конца. Может, даже и не нужно. Я вообще скорее чувствую, чем понимаю искусство.
Я пытался писать музыку на его тексты, но это сложно. Ведь были и другие прекрасные композиторы, писавшие музыку на его стихи, – София Губайдулина, Валентин Сильвестров, у него есть такая «Лесная музыка» с валторной, очень красивая. Но в конце концов я тоже написал что-то вроде кантаты на его позднее сочинение «Сто вариаций на темы народных песен». Это для хора Покровского, и она еще не дописана, надеюсь, когда-нибудь я ее добью. Некоторые считают, что это лучшее, что я написал.
У меня сложная семейная история: родители рано развелись, папа с нами не жил, он был приходящим папой. Давящего ощущения – большой поэт, тихо, всем молчать – у меня никогда не было. Папа – он и есть папа. Я помню, как в советское время он получил приз за какой-то перевод, про это написали в газете (так-то его, конечно, совсем не печатали) и я притащил эту крохотную вырезку в школу, хвастаться перед учительницей. Маме, понятно, было сложно: двое детей, которых надо воспитывать, денег нет, семья бедная, папа поэт, ничего не зарабатывает, шлет алименты… Но зато и круг у нас был нетипичный: художники, писатели, в общем богема. Не в современном понимании, не крутые люди в мехах, а нищие граждане, которые пьют, закусывают селедкой и говорят о Вермеере. Мы дружили с художником Игорем Ворошиловым, дома был постоянный склад картин, в соседнем доме жил Веничка Ерофеев и часто приходил к нам в гости, однажды меня заставили играть ему на скрипке. Приходишь домой после школы, а там сидит художник, просидевший двадцать пять лет в тюрьме, – в наколках, с огромной бородой. Такое странное сочетание советского детства и полубезумного родительского окружения. Поскольку вокруг были одни художники, я и сам потом пытался стать художником, рисовал абстрактные картины прямо сотнями. Но музыка победила.
– И вы решили стать скрипачом?
– В детстве я подавал какие-то надежды. Меня, как мартышку, возили по детским музыкальным школам, показывали талантливого мальчика, который выучил одно произведение… И довели этим буквально до срыва, до нервного тика. Мама меня спасла, просто забрав из школы, иначе я бы точно бросил музыку, причем навсегда. Но, честно говоря, я никогда толком не занимался. На консерваторию я не тянул, поступил в Ипполитовское училище, куда стекались те, кого выгнали из ЦМШ или Гнесинки. Не всегда, кстати, это были плохие музыканты, просто менее стандартные. Там училась Жанна Агузарова, группа «Альянс» почти в полном составе. Я не хотел становиться классическим скрипачом, в пятнадцать лет меня интересовали другие вещи[88] – девчонки, хард-рок… Но играть я все-таки научился, хотя классический репертуар для меня – большая проблема. Понятно, что всегда хочется играть лучше, но для этого надо заниматься, а я всегда был разгильдяем. В училище нам как говорили? Будешь хорошо учиться – поступишь в консерваторию, все будет, как у нормальных людей.
– А если нет, какие варианты?
– Идти в плохой оркестр. Или преподавать в музыкальной школе. Между прочим, после училища я почти год проработал в оркестре театра Станиславского. Чуть с ума там не сошел. Но это была хорошая школа: хочешь не хочешь, а каждый день ты должен четыре часа играть на скрипке, плюс еще спектакль вечером. Честно говоря, там я и научился играть, просто потому что занимался ежедневно, чего со мной никогда прежде не случалось.
– Скрипка у всех ассоциируется прежде всего с образом солиста-виртуоза, но вы ведь никогда не играете сольно.
– Я это просто ненавижу. Скрипичное соло – это кошмар. Никогда не видел себя в роли Паганини. Интересно, что сочетание «скрипач-композитор» вообще довольно редкое – ну, Вивальди, есть салонная музыка вроде Фрица Крейслера, но серьезных людей среди скрипачей практически не было. Видимо, занятия на скрипке неблаготворно действуют на мозг.
Для меня игра – это взаимодействие с другими музыкантами. Мне нужно от чего-то отталкиваться, нужен партнер, пусть он хотя бы ногой топает. Поэтому у меня в дискографии так много дуэтов. Одному мне ужасно некомфортно. Я пробовал пару раз, но монолог – это не мое.
– Следите ли вы за тем, как меняется мода в вашей области? Не так давно появилось движение так называемой неоклассики, и, в принципе, можно считать, что они продолжают и дело «4'33''» тоже.
– Если это наши дети, то я бы убивал таких детей. Нет, серьезно, это же гуманитарная катастрофа! Я не очень даже заметил, откуда они все взялись. Послушал Людовико Эйнауди, думаю, что это за хрень? Послушал кого-то другого – совсем беда. Потом прочитал в интервью [немецкого музыканта] Хаушки, что ему менеджер объяснил – если в анонсе написать «неоклассика», придет в два раза больше народа. Я тоже решил везде писать, что я патриарх неоклассики и бог трезвучий. Не сработало, чувствуют обман. Понятно, что это мода, но все эти юноши за фортепиано, с умным видом играющие три аккорда… Нет, можно играть три аккорда, можно и один играть, но в этой музыке нет ни глубины, ни смысла. Они просто делают красиво, но это же какая-то жуть! Я реально не могу понять, как это можно слушать. Мы тоже играем довольно доступную музыку, но все-таки не такую. Есть надежда, что, начав с неоклассики, они заинтересуются чем-нибудь более интересным (типа нас!), но, по-моему, там какие-то другие отделы мозга задействуются. Во времена моей молодости была похожая дискуссия: если гитарист Виктор Зинчук играет Паганини на электрогитаре, хорошо это или плохо? Может быть, люди послушают, заинтересуются и пойдут в консерваторию? Прошло тридцать лет – и что-то я не уверен, что этот прогноз оправдался.
Гия Канчели
Родился в 1935 году в Тбилиси. Окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции. В юности увлекался джазом, выступал как джазовый пианист. В 1971–1990 годах возглавлял музыкальную часть Тбилисского театра им. Руставели, автор музыки к десяткам постановок этого театра авторства Роберта Стуруа («Кавказский меловой круг», «Ричард III», «Гамлет», «Король Лир», «Эдип», «В ожидании Годо» и других). Автор саундтреков более чем к пятидесяти фильмам, среди которых выделяются ленты Георгия Данелии – «Мимино», «Кин-дза-дза», «Не горюй», «Слезы капали», «Паспорт».
Прикладную музыку Канчели рассматривал прежде всего как средство, позволяющее ему писать музыку серьезную. Его первые сочинения относятся к началу 1960-х, визитными же карточками стали крупные работы для симфонического оркестра: семь симфоний (1967–1986), опера «Музыка для живых» (1984), кантата «Светлая печаль» (1985), литургия для альта и оркестра «Оплаканный ветром» (1989), «Magnum Ignotum» (1994) и другие. В 1991 году Канчели уезжает в Германию в качестве стипендиата DAAD, планируя провести в Берлине год, но остается жить в Европе (с 1995 года – в Бельгии). Творческая судьба Канчели, довольно удачно сложившаяся в Союзе (регулярные исполнения, Госпремия СССР 1976 года за Четвертую симфонию, звание народного артиста СССР), не менее удачно продолжилась на Западе – количество заказов растет год от года, его музыку исполняют крупнейшие оркестры мира (Немецкий симфонический оркестр Берлина, Лейпцигский оркестр Гевандхауза, оркестр Штутгартского радио, Лондонский филармонический, Чикагский симфонический, Филадельфийский симфонический и другие) и выдающиеся солисты (Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Ким Кашкашьян, Гидон Кремер, Ян Гарбарек). Именно в 1990-е годы серьезная музыка впервые становится для Канчели гарантированным источником заработка. Он продолжает активно работать, осваивая все новые исполнительские составы и жанры. В год появляется от двух до четырех новых сочинений композитора, чаще всего они выходят на лейбле ECM Records. Живет в Антверпене.
Беседа состоялась в Баку в 2015 году.
Правки к партитуре «Стикса» (1996), адресованные Юрию Башмету. Гия Канчели: «„Стикс“ для симфонического оркестра, смешанного хора и солиста был написан по предложению голландского фестиваля „Gaudeamus“. Солист Юрий Башмет был выбран мною, на что организаторы фестиваля с удовольствием согласились. Этим обусловлено посвящение этого произведения Юрию Башмету. Естественно, что между нами происходили телефонные переговоры, а также обмен письмами. Таково происхождение этой страницы».
– Вы верите, что одни народы могут быть более музыкальны, чем другие?
– Вы знаете, я не очень умею хвалить ни свою родину, ни свой народ. У меня к Грузии вообще двойственное отношение: я ей и поклоняюсь, и критикую ее. Но в том, что грузины необычайно артистичны, – в этом я никогда не сомневался. Эта артистичность проявляется во всем: во взаимоотношениях, в умении музицировать… Причем я имею в виду не профессиональное музицирование, а трехголосные песни, которые поют почти все. Что уж говорить про юмор, с которым мои соотечественники в ладах и на ты. Я недавно был в Кутаиси, там у меня был авторский концерт. И ректор кутаисского университета, очень симпатичный человек средних лет, с гордостью мне сказал, что в кутаисском университете учится одиннадцать тысяч студентов. А увидев выражение моего лица, добавил: вместе с филиалом в городе Поти – пятнадцать тысяч. Я сразу же вспомнил свои школьные годы, когда нас учили, что стоматологов в Грузии больше, чем в трех скандинавских странах вместе взятых. И вот тогда было такое гигантское количество стоматологов, а сейчас – студентов. Ничего не изменилось. Я еще подумал – кто их учит и чему?
Когда я это рассказал своему другу Резо Габриадзе, который родился и вырос в Кутаиси, он немного обиделся и сказал: послушай, если в Нью-Йорке у кого-нибудь испортится канализация и вызовут двух рабочих, один обязательно будет из Кутаиси. Такой тип юмора – он не только Резо присущ, а всему нашему народу.
– Кажется, что в Грузии композитором стать легче, чем где было то ни было. Это невероятно музыкальная страна, здесь все поют, вы с самого рождения окружены музыкой.
– Конечно, грузинская народная полифония – явление совершенно уникальное. Думаю, что она создавалась не на площадях при скоплении народа. Не народ ее сочинял. Ее создавали гениальные анонимы, о которых мы ничего не знаем. Возможно, в Гурии когда-то жил человек с талантами Баха. У него оказалось два соседа – Бетховен и Моцарт, и он однажды предложил им спеть трехголосную песню… Я только одного не могу понять: как такие же три гиганта нашлись и в Кахетии, и в Картали, и в Сванетии, и в Менгрелии? Ведь эти песни совершенно непохожи друг на друга!
Ну а заслуга народа в том, что всегда находились люди, которые передавали это богатство следующим поколениям и так сберегли его для нас. Я не очень люблю безапелляционность, но мне кажется, пока мы, грузины, будем говорить на своем родном языке, пока у нас будет своя письменность, а новые поколения будут исполнять оставленное нам музыкальное наследие, нам никакая глобализация не грозит.
– При этом вопрос отношений с грузинской народной традицией для вас всегда был очень важным – и, похоже, не очень простым. Вы считаете свою музыку частью этой традиции?
– Вы знаете, для меня в профессиональной музыке понятие индивидуальности выше понятия национального. Любая крупная индивидуальность в музыке – я, конечно, не себя сейчас имею в виду – всегда представляет какую-то определенную культуру. Мессиан – француз. Барток – венгр. Лючиано Берио – итальянец. Стравинский – представитель русской культуры. Очень трудно назвать большого композитора, у которого этой связи бы не было.
– Это ведь не всегда очевидно. Какую культуру представляет Шенберг – немецкую или еврейскую? Что слышнее в Шопене – французское или польское?
– Ну вот Бетховен – это какая культура? Конечно, немецкая. Но в то же время он представляет и всемирную, всепланетную культуру. Крупная фигура становится принадлежностью всех континентов. Возьмите Шостаковича… Я помню этого человека в последние годы его жизни. Это был больной, дергающийся неврастеник, который прожил очень сложную жизнь – не буду напоминать общеизвестные факты про его Четвертую симфонию, про оперу, про отношения с режимом. Вроде бы в его музыке гениально отображено то время, в которое ему пришлось жить. Но как так случилось, что его музыка стала близка слушателям в Австралии? Новой Зеландии? Южной Америке? Не говоря уж про Европу? Они же не знают ничего про большевиков, про Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича. Почему эта музыка вдруг для них стала родной? Потому что он был гений, вот и все. То же самое можно сказать, например, о Малере.
Вспомните музыку, которую писал Шенберг до прихода к додекафонной системе. Конечно, он был представителем австрийско-немецкой культуры. И в то же самое время – мировой. Вообще представьте себе на минуту, что творилось в музыке сто лет назад! Когда одновременно творили Стравинский, Шенберг, Веберн, Сибелиус, Пуччини, Дебюсси… Вы можете представить себе, что происходило в то время между апологетами каждого из этих направлений?
И вот прошло сто лет. Апологеты забыты. А в филармонических концертах мирно сосуществуют Сибелиус, Стравинский, Шенберг, Берг. Время все расставило на свои места. Это касается, между прочим, и авангардистов второй половины XX века. Есть великие имена – Булез, Штокхаузен, Лигети, Онеггер… Они сыграли и продолжают играть очень важную роль в истории музыки. Но все же я сомневаюсь, что через сто лет все они останутся достоянием филармонической жизни. А вот про Альфреда Шнитке и Арво Пярта я почему-то уверен.
Лично меня музыка Арво Пярта успокаивает. Как и музыка Валентина Сильвестрова, еще одного моего очень близкого друга. Хотя, как известно, начинал он с совершенно другой музыки. Знаете, в связи с моими проблемами, связанными со здоровьем, врачи прописали мне ходить по полтора часа в день…
– А вы ведь не любите ходить?
– Ненавижу! В общем, я брал walkman с поздней музыкой Сильвестрова: его хоры, багатели. Ходил, слушал и успокаивался.
– Вашими единомышленниками в советские времена были композиторы, начинавшие с довольно радикального авангарда: Пярт, Шнитке, Сильвестров, Денисов, Губайдулина. Вы же с самого начала писали музыку совсем другого толка – тональную музыку, музыку с мелодиями. Вы часто спорили?
– Никогда. Мои коллеги вообще очень благосклонно относились к моей музыке, за что я им очень благодарен. Да, я писал как бы тональную музыку. Но, мне кажется, такую музыку тогда не писали. Может быть, вы сможете привести пример? Дело ведь не в том, тональная она или нет. Дело в том, какая в ней драматургия, форма, какая концепция, что хочет высказать автор. Официоз тогдашнего Союза композиторов СССР моя музыка не раздражала и устраивала: она была другая, но для них терпимая, более понятная, чем музыка моих друзей. Вот их музыка официозных деятелей не то что не устраивала[89] – она для них как бы вообще не существовала. Они делали все, чтобы ее не было. И что потом произошло? Музыку Шнитке, Сильвестрова, Пярта стали играть, они стали известны во всем мире. Время победило, чиновники оказались бессильны.
У меня все с самого начала складывалось довольно благополучно. И во многом это связано с именем Джансуга Кахидзе, невероятно талантливого, яркого дирижера, который сыграл в моей судьбе решающую роль. Он всегда был рядом со мной. И начал играть мою музыку, еще когда я был студентом консерватории. Я всегда считал его не просто соратником, а своим соавтором. Вот такого Джансуга рядом с Сильвестровым, Шнитке, Пяртом в их молодые годы не было. Рождественский появился в жизни Альфреда много позже. У Сильвестрова был Игорь Блажков, блестящий профессионал, чистый, принципиальный, но все же не Кахидзе. Неэме Ярви появился в жизни Пярта тоже далеко не сразу. Это сейчас его все играют, а ведь было время, когда никто не играл! Кстати, первый авторский концерт Арво Пярта состоялся в Тбилиси по инициативе Джансуга Кахидзе. И я с огромной благодарностью вспоминаю, как благосклонно относились к моей музыке и упомянутые вами композиторами, и мои грузинские коллеги.
– При этом какая-то часть грузинской публики и критиков упрекала вас, что вы недостаточно грузинский композитор.
– Ну что значит какая-то? Почти все! Кроме моего круга. Нас и было-то несколько человек. В чем меня только не обвиняли! Что я космополит. Что пишу негрузинскую музыку. Что абсолютно отрицаю богатство нашего фольклора. Что я… даже, если хотите, переписываю авангардные партитуры польских композиторов 1960-х годов. Все, что угодно! Больше всего меня критиковали именно в Грузии. Была такая группа защитников – я их называю «пограничниками» – которые знали, как определять границы национального. Вот этих «пограничников» было огромное количество. В Москве и Ленинграде критики было меньше, иногда были даже восторги, а вот в Грузии…
Конечно, ругали меня не только на родине. Помню, в 1962 году, еще студентом консерватории, я написал концерт для оркестра – довольно слабое сочинение, хотя оно и получило вторую премию на всесоюзном конкурсе молодых композиторов. После этого в журнале «Советская музыка» один известный композитор написал: «Музыка Канчели порадовала бы наших врагов в капиталистических странах». И одними из немногих, кто выступил в мою защиту, были Кара Караев, Родион Щедрин и Андрей Эшпай.
Все остальные вовсю критиковали. Писали, что каждая моя симфония – это повтор предыдущей. Чего только не писали. Прошло уже столько времени, у меня семь симфоний, и если мне кто-то сможет сегодня доказать, что одна симфония похожа на другую, я буду весьма благодарен. Но этого не происходит. В общем, я к этому относился и отношусь с юмором. Помню, как Альфред Шнитке мне сказал, уже будучи часто исполняемым композитором, – что-то меня начали все хвалить, надо бы задуматься, видно, что-то не так.
И вот сейчас мне восемьдесят три года. У меня недавно вышел очередной диск на ECM, и в The Guardian появилась рецензия, в которой какая-то бывшая кларнетистка, ставшая музыкальным критиком, раскритиковала меня в пух и прах. Почему-то те, кто меня критикует, очень любят писать, что их словно бы заперли в магазине с духами и шампунями. И одновременно в Париже вышла рецензия на этот же диск, где какой-то французский критик воспел меня так, что мне даже неудобно вам повторять. Не знаю, поверите ли вы мне, – я одинаково воспринимаю и то и это.
В рамках фестиваля Юлиана Рахлина в Дубровнике состоялся концерт, в котором Джон Малкович в сопровождении ансамбля солистов зачитывал критические статьи, которые писали современники по поводу музыки Бетховена, Шопена, Моцарта… В эту компанию попал и я: устроители спросили, нет ли у меня отрицательных отзывов на мои сочинения. Я сказал, что есть, и немало, и прислал им семь-восемь. Они выбрали какую-то лондонскую, где критик писал об одном моем произведении, что если бы он знал, какой ужас ему предстоит слушать, он бы принес в зал вязание и начал бы вязать свитер или кашне, причем из ярко-красной пряжи, чтобы внести краски в унылую атмосферу музыки. Потом он описывает, что попал в какое-то закрытое пространство и хотел вырваться на воздух, но не мог… В общем, Малкович все это читает, а потом играют отрывок именно из этого моего произведения. Меня все это, не поверите, очень забавляет.
– Непонятно, что не нравилось этим «пограничникам». Ведь если вы не грузинский композитор, то кто же тогда? Тем более что у вас есть и прямые использования элементов грузинского фольклора.
– Очень редко. Есть одно произведение – «Magnum Ignotum», – где звучит проповедь священника, трехголосная гурийская песня, а в конце – церковный хорал. Но там я специально использовал аутентичную запись. И это, наверное, единственный случай, когда я впрямую обратился к фольклору. А в Третьей симфонии я не столько использовал, сколько сам попытался написать три мотива наподобие сванских плачей. И пригласил спеть совершенно уникального певца Гамлета Гонашвили, солиста ансамбля «Рустави». Но все-таки это я сочинил сам.
Я когда-то в Тбилиси послушал полевые записи наших фольклористов, приехавших из Сванетии. Знаете, как устроены сванские похороны? Приглашают профессиональных плакальщиц, и одна начинает петь, а остальные, сидящие вокруг гроба, ей вторят. На улице в это время стоят старики сваны, уже беззубые, и поют песню такого мужественного, героического характера. В общем, этим ребятам-фольклористам не разрешили поставить микрофон в комнате, где лежал покойник, так что они пристроили его в коридоре. И микрофон записал одновременно и плачи в комнате, и то, что поют эти мужчины во дворе.
Когда я это послушал, то я понял, что это настоящая мистерия, совершенно гениальная. Третья симфония написана под впечатлением от прослушивания этой записи. Но я все же сам попытался придумать мотивы, похожие и на то, что поют плакальщицы, и на то, что пели старики во дворе. Там нет никаких точных цитат. К нашему музыкальному фольклору я никогда не прикасался. Хотя некоторые мои коллеги (конечно, не буду называть эти известные фамилии) вовсю эксплуатировали нашу народную музыку, поставив за симфоническим оркестром народный ансамбль. Для меня это было всегда неприемлемо.
– Вы очень любите так называемые динамические перепады, резкие переходы от очень тихого к очень громкому. Один из ваших дисков даже вышел с предупреждающей наклейкой: «Warning! Extreme dynamic changes». Это очень сильный прием, примерно как использовать три восклицательных знака, но вы годами ему верны. Почему?
– Не знаю, насколько вам будет понятно то, что я скажу. Когда я учился в школе, для нас, детей, существовало два бога – один сидел в Кремле, а другой лежал в мавзолее. Понадобилось довольно много времени, прежде чем мое поколение начало понимать, что к чему.
Мне очень нравится высказывание Струве о Владимире Ильиче – «мыслящая гильотина». Эта самая гильотина и ее «великий» продолжатель Сталин принесли столько зла миллионам людей, что сегодня, когда я слышу, что в России мой соотечественник пользуется определенной популярностью, я просто не могу понять, что происходит. Неужели люди не верят тому, что уже написано? Неужели они не читали ни Шаламова, ни Солженицына? Не слушали музыку Шостаковича? И продолжают восхвалять то, от чего надо было отречься…
Потом появилась хрущевская оттепель с ее надеждами. В железном занавесе образовались щели, и через эти щели начала поступать информация. Киевский дирижер Игорь Блажков прислал мне километровую магнитофонную бобину, где было записано все творчество Веберна. Так я понял, что кроме общего понятия драматургии есть еще тембральная драматургия, и начал, по мере сил, опираться на нее в своем творчестве.
Потом щели начали увеличиваться. Мы поняли, что существует другая музыка, другая жизнь. Первым таким окном в Европу для нас стал фестиваль «Варшавская осень», куда нас иногда пускали. И позвольте мне дальше не перечислять имена всех тех генсеков, при которых мне пришлось жить. Потом развал СССР, этого монстра; то, что нынешний президент России считает «геополитической катастрофой». Потом так называемая независимость. Расцвет национализма, который я совершенно не приемлю. Когда президентом стал Гамсахурдиа, грузинское общество раскололось, и я был рад покинуть Грузию на год, получив немецкую стипендию DAAD.
Вот такую я прожил жизнь… И вы меня спрашиваете, почему в моей музыке так много динамических перепадов?!
Я придумал шуточный, немного габриадзевский ответ: когда я чувствую, что публика может заснуть, я ее привожу в сознание громкими эпизодами. А потом опять усыпляю. Это шутка, но в ней может быть и доля правды.
Но если говорить серьезно, то, наверное, это связано с тем, что происходит вокруг. И этот ужас не кончается. Когда я звоню Вале Сильвестрову, у этого спокойного, умного, глубокого человека, который обожает русскую поэзию и знает ее как никто, начинается настоящая истерика по поводу того, что происходит на его родине. И я его успокаиваю. Точнее, стараюсь. Но у меня ничего не получается.
Арво Пярт посвятил Ходорковскому свою Четвертую симфонию. А я посвятил ему произведение, которое называется «Ангелы печали», его впервые исполнил в Берлине Гидон Кремер. Ходорковский тогда сидел в тюрьме десятый год. Я его считал и считаю личным узником Путина. Пока он сидел, и я, и Арво посвятили ему музыку. Думаю, сейчас, когда его выпустили, мы бы этого уже не сделали. Но тогда нами двигало определенное сочувствие к этому человеку и чувство протеста против того, что происходит.
Не знаю, напишете ли вы об этом или нет, но я перестал ездить в Россию. Вот уже пятый год. В Россию, культуру которой очень люблю, перед которой преклоняюсь, которой многим обязан. Большой зал Московской консерватории я до сих пор считаю лучшим залом в мире. В нем я всегда проверял свои недочеты. А ведь я слышал свою музыку в самых разных залах мира, и в Австралии, и в США, и в Европе… Я очень рад, что в России меня продолжают играть, и довольно часто. Но ездить перестал.
Только не думайте, что я в восторге от того, что происходит на моей родине. Я так же критически отношусь к тому, что происходит в Грузии, как и к тому, что происходит в России.
– Вы ведь не любите разговоры про программную музыку, про то, что музыка – она о чем-то.
– Каждый слушатель, который приходит в концертный зал, должен сам выстраивать свою программу. В этом и заключается вся прелесть музыки – в ее абстрактности.
– Но разве посвящение Ходорковскому не настраивает слушателя заранее на определенный лад?
– Я не думаю. Нет-нет. Это просто посвящение человеку, который провел в заключении десять лет непонятно за что. Вот и все.
При нашей с вами встрече в Баку исполнялась моя Пятая симфония, которая посвящена памяти моих родителей, а Четвертая симфония посвящена памяти Микеланджело. Но если бы было наоборот, наверное, ничего бы не изменилось. Просто когда я писал Четвертую, мои родители были живы. А музыку, посвященную памяти Микеланджело, я сочинял, ни разу не побывав в Италии. Я приехал туда уже позже. Вот вам и вся программность.
Что я имел в виду, говоря про абстрактность музыки? Вот мы с моей супругой столько лет живем вместе, но когда слушаем одно и то же сочинение – убежден, ассоциации у нас рождаются абсолютно разные. И это прекрасно.
– У ваших сочинений очень много узнаваемых черт. Вот эти динамические перепады. Или любовь к медленным темпам – Рождественский даже вам однажды ответил на репетиции, после того как вы три раза попросили его играть еще медленнее: «Так медленно я уже не умею». Вы любите самоцитаты. У вас обязательно прозвучит какая-нибудь светлая печальная мелодия, которую потом раздавит оркестровым катком. Все эти приемы вы выбираете сознательно или с годами это просто стало частью вас – как тембр голоса или походка? То, что в себе трудно заметить и еще труднее изменить?
– Да, про походку это очень точно. Именно как походка. Каждый человек ходит по-своему, вот и мои коллеги-композиторы пишут музыку абсолютно разную, и степень дарования у каждого своя. Это и понятно. Но каждый старается выразить что-то свое. Другое дело, что не у всех получается.
– Отношение к прикладной музыке, которую вы писали для театра и кино, у вас меняется со временем? Кажется, что поначалу для вас это было прежде всего способом заработать.
– Я свою работу делю на две части: одну – когда работаю на себя, другую – когда пишу для театра и кино. Там я вспомогательное звено. Как оператор, сценограф, хореограф. Когда я остаюсь наедине сам с собой, я должен создавать свой театр или фильм – там я и автор сценария, и осветитель, и автор диалогов. Но я вам честно скажу: когда мне предлагали написать музыку к фильму по слабому сценарию с неинтересным режиссером, я давал согласие. Я написал музыку к пятидесяти, а может и к шестидесяти фильмам. А могу назвать пять-семь, ну десять. Остальные не помню. А почему? Потому что на это у меня уходило две недели, я получал советскую уравниловку – максимальный гонорар. И потом мог два или три года писать одну симфонию. Честно говоря, я даже получал удовольствие от мысли, что на это у меня уйдет не больше двух недель. И да, это давало мне возможность быть экономически независимым. Как и Альфреду Гарриевичу Шнитке, например. Подработки в кино нас очень выручали.
Но это, конечно, не относится к работе с Георгием Данелия, Робертом Стуруа и Эльдаром Шенгелая. На нее уходило безумное количество времени и энергии. Мне просто повезло, что я мог работать с такими личностями. И как раз эта работа на меня сильно повлияла. Думаю, что когда я остаюсь наедине с собой и пишу свою музыку, я волей-неволей учитываю все, что подглядел в их работе.
Просто я, видимо, очень везучий человек. Ведь если большинство моих коллег начинали с Баха и Шуберта, то я начал с Глена Миллера и Дюка Эллингтона. Меня абсолютно не интересовали ни Бах, ни Шуберт, ни Бетховен с Шуманом. Я к ним пришел потом, уже после своего романа с джазом.
– Поначалу вы две эти области – прикладную музыку и симфоническую – как-то разделяли, а потом незаметно мелодии из фильмов и спектаклей стали появляться в вашей серьезной музыке. Кончилось тем, что в «Стиксе», вашем реквиеме, в финале звучит «Чито-гврито» из «Мимино».[90]
– Я недавно присутствовал при исполнении своей Пятой симфонии и вдруг услышал одну из тем, которая звучит в спектакле Роберта Стуруа «Кавказский меловой круг». Но если вы меня спросите, что было раньше – тема в спектакле или Пятая симфония, я вам не отвечу. Я не помню! Действительно, в какой-то момент некоторые темы из моей прикладной музыки очень плавно стали проникать в симфоническую – и обратно. Я в этом ничего плохого не вижу! Хотя с сыном, который обладает совершенным вкусом, у меня по этому поводу бывают довольно жесткие споры. Я ему говорю, что это мои звуковые монограммы. Как DSCH у Шостаковича. Нет ничего плохого в том, что одни и те же мои темы иногда появляются то в камерной музыке, то в симфонической, то в фильмах. Плохо, если они повторяются без изменений, так быть, конечно, не должно. Но если музыкальный образ видоизменяется, приобретает нечто новое – то это нормально.
– Я видел страницу из партитуры «Стикса», где вы к мелодии «Чито-гврито» приписали специально для Башмета: «хочется чуть-чуть завуалировать этот венерический припев». Венерический – то есть прилипчивый. Все-таки у вас довольно ироническое отношение ко всему этому.
– Знаете, пока продолжался мой авторский концерт в Баку, слушатели постепенно покидали зал – ушло человек восемьдесят, в основном молодых людей. Наверное, они пришли послушать музыку из фильма «Мимино», их предупредили, что это концерт автора песни «Чито-гврито»… И вот они бесшумно покидали концертный зал. А остались те, у кого музыка вызвала интерес.
– Вас раздражает, что для многих вы в первую очередь автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза»?
– Я уже давно говорю, что эту музыку написал Данелия. Помните известную фразу Глинки? Народ создает музыку, а мы ее только аранжируем. Вот и я начал говорить, что музыку написал Данелия, а я ее только «разукрасил». Данелия, по крайней мере, доволен.
– Но как вы себя почувствовали, когда обнаружили, что можете написать по-настоящему прилипчивый шлягер?
– Плохо! Плохо я себя почувствовал. Теперь в любой бывшей республике Советского Союза все разговоры о моем творчестве начинаются с того, что я написал эту мелодию. Я так устал от глупейших вопросов, на которые мне приходится давать одни и те же глупейшие ответы… А в остальном мире, в тех музыкальных кругах, где знают мое имя, никто и понятия не имеет, что я писал музыку для кино и театра! Ну ничего. Я уже к этому привык.
Александр Маноцков
Родился в Ленинграде в 1972 году. Учился музыке у композиторов Вячеслава Гайворонского и Абрама Юсфина. Участвует в различных коллективах в качестве вокалиста, перкуссиониста, виолончелиста, контрабасиста. Автор опер «Золотое» (2008), «Гвидон» (2011; «Золотая маска» в номинации «Эксперимент»), «Haugtussa» (2011; Норвегия), «The Four Quartets» (2012; США), «Титий Безупречный» (2012), «Бойе» (2013), «Снегурочка» (2015), «Чаадский» (2017), «Requiem, или Детские игры» (2017), «Сны Иакова, или Страшно место» (2017), «Красный сад» (2018), «52» (2018), а также кантат, ораторий, симфонических и камерных сочинений, музыки для хора, вокальных ансамблей, музыкальных перформансов, духовной музыки, музыки для театра и кино. В последние годы использует в композициях авторскую технику темпоральной тональности. Живет в Москве.
Беседы состоялись в Москве в 2013, 2016 и 2018 годах.
Скрипичное соло из «Страстей по Никодиму» (2013), фрагмент партитуры. Александр Маноцков: «Оно как бы „заменяет“ арию – Христа в Гефсиманском саду, моление о чаше. Эти ноты скрипач должен играть, держа смычок в левой руке, а скрипку в правой – это ужасно неудобно, но нужно стараться сыграть как можно точнее то, что написано. Результат этой реальной борьбы с реальным физическим ограничением в попытке сыграть ноты и есть искомое, то, для чего они написаны. Это, наверное, одна из лучших моих музык для струнного инструмента, вообще. Никакие ноты как таковые не являются „произведением“ вне праксиса, ноты всегда только указывают на то, „что именно“ из имеющегося ассортимента существующей практики должен сделать музыкант и в каком порядке. Но композиторы часто и расширяют практику, то есть как бы увеличивают ассортимент – часто это делается в полемике с предыдущим спектром возможностей. Сейчас многим трудно представить, что до Монтеверди не было ни тремоло, ни пиццикато на смычковых».
– Со стороны кажется, что у вас совершенно нетипичная композиторская биография. Вы не заканчивали консерваторию и вообще довольно поздно начали, при этом участвовали в самых разных коллективах – от кубинских и африканских до ансамблей средневековой и древнерусской духовной музыки, блестяще разбираетесь в казачьем пении, индийских рагах, грузинском многоголосии, вообще неевропейских музыкальных традициях. А в какой-то момент стали еще и автором-исполнителем собственных песен. Как это все получилось?[91]
– Композитор – профессия в принципе странная, и никаких типичных способов сделаться им не существует. Консерваторская корочка сама по себе не делает человека композитором, в мире есть тысячи людей с консерваторскими дипломами, но реально композиторами из них становятся единицы. Мне кажется, у меня нет никаких невероятных познаний, которых не было бы у моих коллег. И ничего такого особенного в своем способе стать композитором я тоже не вижу. Ну да, диплома консерватории у меня нет, это правда. Я учился в университете, потом в театральной академии. В какой-то момент все бросил и ушел служить на флот. Но все это абсолютно никакого значения не имеет. Мало ли какие глупости я делал. Далеко не все из того, что я делал резко и радикально, можно сейчас романтично пересказать. Но композитором я хотел быть с детства, а музыке выучился частным образом, у Вячеслава Гайворонского, а до него – у Абрама Григорьевича Юсфина. Мне просто пришлось очень быстро все схватывать, потому что учиться на композитора – это даже дольше, чем на хирурга.
– А Юсфин – он же довольно необычный был человек? Я читал как-то его текст про то, что он слышит буквы, про музыку имен.
– Он придумал целый жанр. Во многих фольклорных традициях есть так называемые личные песни. Произведения, которые принадлежат одному человеку и являются чем-то вроде его музыкального спутника. Вот он сочинял такие песни, исходя из имен людей. Я это, кстати, у него унаследовал – мне тоже близки попытки сопрячь архаические формы с композиторскими. Еще он много занимался дородовым музыкальным воспитанием людей.
– К нему ходили беременные девушки?
– Да, у него было много интересных опытов. Ну и этнографией он занимался. Он научил меня такой игрушке – оказаться внутри чужой культуры и попытаться создать артефакты, которые там примут за свои. Юсфин для разных народностей в СССР такое сочинял, много ездил по стране. А я это делал с африканцами, потом написал в Норвегии оперу «Haugtussa», на цикл стихов Арне Гарборга. Использовал, может, пару тактов норвежских мелодий, а все остальное, якобы норвежское, сочинил сам, включая городской фольклор. Мне-то казалось, что я так изящно все придумал – вот, смотрите, гурийская гармония с мелодией, которую я сам изобрел, положенные на норвежский текст. Контекст вроде норвежский, а гармония-то грузинская! Но никто моих игр вообще не заметил, на премьеру пришла в изрядном количестве патриотическая норвежская публика, которая осталась в полной уверенности, что это все их народная музыка. Только у композитора фамилия какая-то странная…
– А когда вы поняли, что хотите стать композитором?
– Да я не знаю, для меня это всегда было естественным состоянием. Единственно возможным.
– То есть вы всегда писали музыку, с детства?
– Ну, необязательно же для этого писать музыку, композитор – это просто такой тип существования. Вот как человек осознает то, что сейчас называют сексуальной ориентацией? Множеством способов, и что-то может помочь осознать, а что-то помешать, но в целом… Как человек осознает, что он человек? В моем случае не было какого-то решающего момента, никакой поворотной точки. Может, я ретроспективно подгоняю факты под ответ, но мне кажется, я никогда ничем другим не занимался. Просто это не всегда называлось этим словом.
У меня в этом смысле нет никаких драм. Есть же люди, которые стали композиторами после того, как у них не сложилось с карьерой музыканта-инструменталиста, не надо далеко ходить за такими примерами. Или, например, они были композиторами одного рода, а стали – другого, и болезненно это переживали. А у меня иная ситуация. Мне кажется, я еще не сделался композитором. Мой старший товарищ и учитель Вячеслав Гайворонский сказал мне как-то, что когда ты по-настоящему становишься композитором, можно ложиться в гроб. Все, твое становление закончено, ты перестал меняться и, значит, стал неживой.
– А что это значит – по-настоящему стать композитором? Как вы это понимаете?
– Я не могу ответить на этот вопрос, вот честно. У меня просто нет рефлексии. У меня отсутствует и внутренний монолог, и взгляд на себя со стороны. И слава богу, потому что человека с моим эмоциональным складом наличие такой рефлексии могло бы привести к тяжелому неврозу.
– Мне казалось, что рефлексия – это неотъемлемая часть композиторского ремесла.
– По поводу того, что ты делаешь, – да, но не по поводу себя. Когда ты пишешь музыку, тебя здесь нет. Ты не ковыряешься в собственном пупе, а выращиваешь нечто, по отношению к чему ты – садовник. Ты не занимаешься собой. Другое дело, что этот процесс, средством которого ты оказываешься, имеет некоторую индивидуальность. Whatness, чтойность, как выражаются переводчики немецкой философии. И я, как любой композитор, этой индивидуальностью дорожу и стараюсь делать так, чтобы ее усиливать. Но только косвенно, прямо этим управлять невозможно.
К счастью, мне некогда остановиться и начать думать о какой-то своей судьбе, становлении, творческом пути… Я живу вертикально, для меня все события жизни существуют словно бы одновременно. И мне даже как-то странно об этом рассуждать. То есть когда вы меня про это спрашиваете, я чувствую себя как человек, которого попросили посторожить чужой прилавок. И вот вы подходите и говорите – а кольца на 16 есть? А со штифтами? Да я не понимаю вообще, о чем речь.
– Ну вот то, что вы с такими разными традициями имели дело, это вы набирались музыкального опыта? Это такое альтернативное музыкальное образование? Или вы в них искали что-то общее?
– Я, конечно, не думал про это как про образование. Это точно не про «мне было интересно», интересность для меня вообще не критерий, это ложная идея. Музыка не может быть интересной или неинтересной. И надо сразу оговориться, что я совершенно не поклонник идей экуменизма, в том числе в музыке. Обычно люди, которые говорят, что все религиозные практики про одно и то же, со стопроцентной вероятностью ни в одной из них ничего не поняли и не достигли. Я знаю только одно исключение – это Борис Борисович Гребенщиков, который, кажется, все-таки рубит фишку.
И конечно, я не хотел осваивать чужую традицию так, чтобы стать в ней своим. Да это и невозможно, таких примеров нет почти. Огромное количество людей с Запада, да и из России тоже, приезжало учиться в Индию, чтобы стать в результате довольно средненькими индийскими музыкантами. Интересный результат получается, когда человек осваивает эту парадигму, что трудоемко, сложно и тяжело, возвращается обратно и что-то делает на своей стороне. По-моему, это путешествие только Джону Маклафлину удалось. А он, конечно, великий человек, достаточно на него просто посмотреть. Вообще, все индийские музыканты – бесконечно красивые люди. То есть они на физическом уровне меняются, начинают прямо-таки светиться. И по Маклафлину это видно: можно включить на ютьюбе какой-нибудь его концерт без звука и смотреть – он все и так транслирует. Причем он не то что делает какое-то особенное лицо. Ничего он не делает.
В общем, мне никогда не хотелось стать таким долговременным лазутчиком на чужой территории, «аутентичным музыкантом». Мне всегда было интересно прийти, понять какие-то общие процессы и на этом уровне начать работать. Мне важно понимать теорию. Например, я изучал определенного рода лады без всякой привязки к их историческому существованию, а потом открывал книжку расшифровок, скажем грузинских песен, и знал, что вот тут будет такая модуляция, а там – такая нота. И она появлялась. Я даже написал сколько-то этюдов в такого рода ладах, не зная ничего о грузинской музыке, но зная, почему это происходит. И это мне страшно нравится. Тебе словно показывают, как работает механизм у часов. Это все равно чудо, слушаешь эту грузинскую песню и обалдеваешь. Но при этом ты знаешь, как это сделано. И не только потому, что послушал 135 таких песен, а буквально по одной уже знаешь, как будет устроена другая.
– То есть существует что-то вроде всеобщей музыкальной теории поля и вы ею овладели?
– Не могу сказать, что овладел. Но она абсолютно точно есть. Правда, для любой теории такого рода нужна как противоядие еще метатеория, которая готовит тебя к парадоксам и исключениям. Всегда найдутся феномены, опровергающие теорию, и тут ни в коем случае не надо подгонять решение под ответ. Нужно быть очень открытым и доверять интуиции.
В фольклоре ведь как бывает? Бывает, что человек просто плохо поет. А за ним фольклористы аккуратно записывают. А бывает наоборот – человек поет определенным образом, а исследователь, записывая нотами, его микротоновое пение спрямляет, не обращая внимания на какие-то интервалы. Нужно быть готовым и к той и к другой ошибке.
Главное, не искать в этом экзотики. Экзотизм губителен, потому что приводит только к бледной копии, «бананово-лимонному Сингапуру» и «настоящим гавайцам». Ориентализм в западной музыке – всегда очень поверхностная, неточная вещь.
– Но он дал тем не менее довольно много плодов.
– Все-таки гораздо интереснее, когда композитор начинает сам изобретать этот мир, исходя из собственной интуиции. У Глинки процитировано огромное количество первоисточников, целые куски взяты из русского фольклора, но в самой музыке в результате ничего русского нет. А у Стравинского первоисточников использовано в разы меньше, но она получается куда более «русская». Все на месте, все работает, эта музыка звучит очень естественно и свежо до сих пор, хотя написана больше ста лет назад. Просто он интуитивно нашел правильный модус.
– Для вас вообще важно национальное начало в музыке, вы себя чувствуете русским композитором?
– Ну что я могу про себя сказать? Пусть кто-то другой решает. Конечно, я чувствую, что в разных национальных культурах одни и те же вещи раскрываются по разному. Это как разные детали пазла. Конечно, это важно. Но важно именно не как национальное, а как деталь абсолютного. Ничего национального в русском знаменном многоголосии нет. Как нет ничего национального в законе притяжения или в каких-нибудь электромагнитных законах.
– Все-таки эти законы универсальны для всех, а русский знаменный распев существует только у нас.
– Это просто набор маятников и приборчиков, который стоит именно на нашем столе. И да, маятнички двинулись вот так, приборчики зарегистрировали вот это, а магнитная стружка легла вот по таким линиям. Но сами силовые линии, которые заставляют стрелки двигаться, а стружку – ложиться определенным образом, взялись не из какого-нибудь национального духа. Они пришли от абсолютного духа, если говорить о духе в гегельянском смысле. Этим и ценен фольклор.
То есть да, в разных национальных культурах есть разные штуки. У норвежцев вот так, у грузин так, у персов иначе. Но если ты занимаешься музыкой, а не каталогизированием феноменов, то нужно заниматься тем, что приближает тебя к этой абсолютной субстанции. Между прочим, в новой академической музыке все то же самое. В принципе, любого композитора можно рассматривать как локальную традицию. Конечно, если он обезьянничает или некритически усваивает техники и приемы, то просто становится частью другой традиции. А если он работает по-честному, то, по сути, является отдельным народом. И его творчество можно слушать так же, как мы слушаем фольклор какой-нибудь народности.
Это ведь ужасно любят противопоставлять. Есть музыка хорошая, народная, и есть индивидуалистическая, композиторская – говорят какие-нибудь люди, которые любят фольклор. Или наоборот, композиторы говорят – а, ну это не авторское, это традиционное. Хотя в любой традиции автор на авторе сидит и автором погоняет. Там авторов побольше, чем в Союзе композиторов СCCР, просто вы не понимаете, что именно там авторское.
Я не знаю, правда ли это, но говорят, что все снежинки разные. То, какую форму примет капля воды, летя вниз, зависит от сложного стечения обстоятельств и того участка атмосферы, который она пролетает. Так вот в музыке то же самое – она точно так же может принять форму большой национальной традиции или сформироваться внутри одного композитора, но принцип абсолютно одинаков. Другое дело, что национальная традиция – это как бы очень большой композитор. Бывает компьютер, а бывает суперкомпьютер; или даже гигантская система из множества компьютеров в удаленном доступе, которая живет 500 лет. Конечно, у нее больше шансов на достижение феноменальных результатов. Джезуальдо ди Веноза был великим композитором, но при всем своем феноменальном таланте, изобретательности и творческой свободе у него не было тех преимуществ, которые были перед бесчисленными парнями из Мегрелии и Гурии. У них и материала сочинено больше, и через большее количество сит он просеян. Так что в матче «Джезуальдо ди Веноза против грузинской полифонии» всегда победит грузинская полифония.[92]
– Я не очень представляю себе весы, на которых можно взвесить Джезуальдо и грузин и выбрать победителя. Здесь и то гениально и это, как их можно сравнивать?
– Мне кажется, всем понятно, что такое хорошо и что такое плохо. Если бы Джезуальдо услышал гурийскую песню «Черный дрозд», вот эту прекрасную трехголосную полифонию, он бы сам себя задушил, а не только жену. Как-то инстинктивно понятно, что она выше любого его мадригала, да? В этом и есть сила традиции – что она может взять высоту побольше. Бывают, конечно, личности вроде Моцарта, которые сами по себе сравнимы с большой и мощной традицией. Это все смешные, конечно, разговоры, типа кто кого сборет – лев акулу или слон удава. Но все равно мне кажется, что какой-то смысл в таких сравнениях есть.
– Соблазнительно, конечно, представить себе Джезуальдо, слушающего грузинское пение, но вы думаете, его восприятие не зависело от воспитания, предрассудков, этнической принадлежности? Русские композиторы не могли услышать ничего великого, скажем, в японской музыке гагаку, для них она была просто мяуканьем.
– Ну, сначала не могли, потом бы услышали. Я тоже сначала не слышал, потом услышал. Это нормальный процесс. Я не любил, например, Шумана и Шуберта, а потом полюбил, причем очень сильно. В каких-то моих песнях есть прямые аллюзии на Шуберта, чего я от себя еще недавно совсем не мог ожидать. Если специально не настаивать на том, чтобы чего-то не знать, то все придет. Мы же можем выучить множество языков. А язык – это модус мышления. Скажем, словообразование и субъектно-объектные отношения в грузинском устроены так, что когда ты начинаешь его изучать, то понимаешь, что твой мозг на фоне грузинского – просто полуфабрикат. Но ничего, кроме лени, тебе этот язык освоить не мешает. То же самое касается и способности воспринимать художественную ткань, разворачивающуюся во времени. Мне вот уже порядком за сорок, но я как-то продолжаю в этом смысле развиваться.
– А индийскую музыку вы долго изучали?
– Я, в принципе, и продолжаю ее изучать. Конечно, индийским музыкантом я не стал. Ну, съездил в Индию, немножко попел и посидел на коврике перед учителем. Просто я хотел стать более квалифицированным слушателем этой музыки. Дело в том, что в индийской традиции публика тоже немного музыканты. Там когда идет тала, особая ритмическая формула, на которую нанизывается происходящее, она сама по себе почти нигде не звучит. Потому что публика и так знает, в каком моменте тала мы находимся. Кто-то может пальцами сам себе показывать, чтобы не сбиться, есть особая система жестикуляции для этого. От этого знания удовольствие увеличивается во много раз. При этом я же не знаю всех тала наизусть, и перед тем, как послушать запись, я могу вспомнить поточнее этот конкретный рисунок (перед исполнением любой пьесы в индийской классике объявляется и рага, и тала), а потом, слушая, запускаю внутри себя этот ритм. Скажем, в «Болеро» Равеля остинатная фигура все время звучит, а представьте, что она только подразумевается – вот так это устроено в индийской музыке.
Но только когда ты это понимаешь, ты действительно начинаешь слышать, что вообще музыканты имеют в виду. Потому что профанным слушателям индийской музыки может казаться, что самое главное – это танпура. Такое медитативное гудение, а поверх они там играют что в голову взбредет. Нет ничего более далекого от реальности[93] – там сложнейшие математические построения. Которые, в частности, позволяют музыкантам играть большие эпизоды вместе, даже вроде бы заранее не отрепетировав. Моя любимая история – это то, что происходит в индийской музыке именно со временем. Я иногда использую подобные индийским временные преобразования, на совсем, конечно, примитивном уровне, в своей музыке, и эти вещи неизменно ставят в тупик музыкантов – что европейских, что русских. То, что индийский музыкант сыграет, не задумавшись, они почти никогда нормально сыграть не могут. То есть какого-нибудь Брайана Фернихоу играют безупречно, а тут спотыкаются. У меня, конечно, все прописано нотами, но ноты нотами, а музыка-то не из нот состоит.
– Индусы же это знание впитывают, что называется, с молоком матери.
– Да нет, они тоже учатся. В том числе и в школах. Ничего с молоком матери не приходит. Мы же тоже со временем научаемся слышать главную и побочную тему, репризу и так далее. Конечно, им попроще, потому что в Индии нет сильного разрыва между классической индийской музыкой и популярной. И какой-нибудь индийский вокалист может записать сложнейшую музыку, основанную на классической раге, а потом песню для болливудского хита, где используются те же вокальные приемы. И когда ты этой музыкой все время окружен… Но все равно этому можно научиться, ничего такого тут нет. Тем более сейчас, когда даже в Индию ехать не надо. Можно посидеть месяцок в интернете и изучить, скажем, североиндийскую ритмику. Я вот в прошлом году написал сочинение для маримбы и табла, где использовал аутентичную индийскую артикуляцию для таблиста, хотя в целом вещь написана в моей собственной системе координат. Там, в частности, был выписан так называемый тихай – ритмическая вариация в конце произведения, что-то вроде коды, выражаясь западным языком. Есть правила, по которым они пишутся, я их изучил и сделал свой тихай в традициях хиндустани.
Сейчас ведь такое волшебное время, когда границы очень условны. Интересно тебе, чем яванский гамелан отличается от балийского – в интернете тебе все разжуют и в пасть положат. Можешь и съездить потом на Бали, если хочешь, это сейчас тоже не трудно, не то что в начале XX века, когда попробуй доберись до Индонезии. А потом в Амстердаме нашел несколько гамелан-ансамблей, списался с ними, да еще и засемплировал, потом нашел исполнителей где-нибудь в Германии – и все это не выходя из дома.
И это замечательно, потому что приводит к исчезновению нелюбимого мною эффекта экзотики. И даже если мы что-то не так поймем в чужой культуре – плевать. Цивилизации обогащают друг друга через неправильное заимствование. Европейцы неправильно заимствовали арабскую лютню, навязали жилки на гриф, оказалось, что так можно играть аккорды – и из этого вырос Монтеверди. А если бы заимствовали правильно, так бы до сих пор у нас и была одноголосная музыка трубадуров. Или, скажем, индусы взяли у англичан скрипку, заиграли на ней совершенно неправильно с точки зрения классической европейской традиции, а получилась феноменальная красота.
– Как вы все успеваете? У вас громадный список работ, причем во всех жанрах на свете: оперы, кантаты, оратории, симфонии, камерные вещи, музыка для театра, для кино, для перформансов.
– Да не такой уж он и громадный. К тому же этот список все время усыхает. Какие-то ранние вещи переходят в разряд материала, с которым можно заново что-то сделать, какие-то просто мысленно вычеркиваешь. Я, может, со стороны и похож на многостаночника, но для меня все это более-менее одна работа – и пьеса для академического музыканта, и работа над уличным шествием в Красноярске.
У меня просто так жизнь сложилась, что я все время оказываюсь в точке, из которой вижу одинаковость вещей. Единство между миром индийской раги и венским классицизмом, между эстетикой мужского донского пения и ренессансной европейской музыкой и так далее.
– То есть вся ваша музыка, хоть саундтрек к «Изображая жертву», хоть опера «Гвидон» – более-менее одно и то же? Или – про одно и то же?
– Музыка не бывает про что-то. Она про все. Музыка вся состоит из самой себя, структурные слои, которые в ней есть, – ритмическая структура, высотная, формальная – приняты только для удобства наблюдателя. На самом деле это все одно и то же – пульсации, вставленные в пульсации, вставленные в пульсации, и работа композитора в том, чтобы создать специальный дисбаланс, отражающий его творческое намерение. В любом случае композитор создает жизнь, мир. Про что произведение? Про самое себя. Это как спросить – про что человек? Жизнь – она о самой себе, о том, что она началась и закончится. А музыка – это единственное из искусств, которое работает с этим непосредственно.
– То есть любая музыка – она все равно про божественное и про то, что мы смертны? Даже если это, не знаю, музыка к сериалу «Бандитский Петербург»?
– Совсем плохой музыки вообще не существует. Как и плохой жизни. Конечно, существует много жизней, в которых, как Венедикт Ерофеев писал, все «медленно и неправильно». И музыка такая есть. Но даже в этой неправильности неизбежно движение от рождения, от первого звука к смерти. Если уподобить музыку живым существам, то есть такие вспомогательные музыкальные существа, вроде анацефалов. Есть же целые музыкальные жанры, которые сознательно отказываются от трагедийности, от катарсиса. Ла Монте Янг, поздний Гласс, вообще многие композиторы-минималисты. Там у произведений есть форма, просто некоторые этажи заполняются орнаментом вместо смысла.
Я, кстати, не знаю, что за музыка в «Бандитском Петербурге», может, гениальная. Но я вот поймал себя на том, что меня искренне перестало раздражать «Радио Шансон». Я его спокойно могу слушать. Я почувствовал, что стал такой крысой, которая вполне может питаться поливинилхлоридной изоляцией. Я слушаю непосредственно. Ну вот, например, – они употребляют трезвучия в простых гармонических последовательностях. Это для них самое естественное дело – ну а как еще? А ведь для композитора эпохи раннего классицизма это было авторским высказыванием. То, что нам известно как классическая гармония, – это просто язык нескольких композиторов. Сейчас он, конечно, окостенел, и на «Шансоне» они как будто крутят молитвенный барабан. Но колокольчики-то к нему привязаны правильные, это в каком-то смысле молитва. Дьякон в храме может читать молитву и думать о том, выключил ли он утюг дома, или вообще ни о чем не думать – слова-то все равно будут озвучены. Плохая музыка недостижима, и это, вообще говоря, интересный факт, хорошая зона для вторжения осознанного мастера. Многие ведь любят работать с плохими, наивными текстами. У Невского есть гениальное сочинение на эту тему.
Мне как композитору важно всякий раз порождать язык внутри самого произведения. Нужно, чтобы произведение каждый раз само доказывало свою математику. Чтобы по нему было понятно, как устроен его словарь. В какой-то мере это всегда понятно – вопрос в том, является это результатом авторской интенции или ты просто перебираешь чужие четки.
– А слушателю важно, сочиняете вы музыку с таким манифестом или с другим – или вовсе без него? Он это услышит?
– Это даже не то чтобы манифест, это просто результат моих наблюдений. И любой человек, если он не Маугли, сможет все это считать. Ему не обязательно отдавать себе отчет, что здесь экспозиция, а тут пошло развитие. Он все равно слышит, что вот было одно, а теперь другое, а теперь они вступили в игру. Если в музыке нет вранья, он все прекрасно поймет.
– То есть вам кажется, что любой вменяемый человек может понять любую современную музыку, сколь угодно сложную?
– Слушайте, у меня лет десять назад была группа «А Бао А Ку», и одна из программ состояла из «сложной» музыки – Кнайфеля, Филановского, Шостаковича. Мы ее играли в клубах типа «Проекта ОГИ» публике, которая сидела и пила пиво. И они хлопали себя по коленке, радовались и говорили: «Во дает!». Реакция была абсолютно непредвзятой. Вот если бы я, как принято на концертах, произнес сперва речь – друзья, сейчас вы услышите музыку сложную, трудную для восприятия, но вы потерпите, во втором отделении будет канкан… Нас бы так и слушали, нахмурясь и терпя. А поскольку мы ее играли просто как прекрасную музыку, она аудиторию захватывала так же, так захватывала нас.
Вообще-то все эти препятствия у нас в головах. С одной стороны, есть довольно плохая музыка, которую слушают все, а с другой – хорошая, про которую почему-то решили, что она никому не нужна, поэтому не надо даже пытаться продавать на нее билеты, а надо искать гранты и финансирование, чтобы она не загнулась. Никогда так не было! Всегда композиторы были зависимы от денег, публики, продажи билетов.
Вот не так давно праздновали столетие «Весны священной» Стравинского – но ведь если бы не желание Дягилева хорошо заработать, ее бы не было! И если, допустим, «Весна» писалась в ситуации, когда еще все коровы жирные и денег до фига, то «Историю солдата» Стравинский писал в 1914-м – началась война, денег нет, и писать надо для маленького мобильного состава. Он совершенно не был независим от материальных обстоятельств. И при этом писал гениальную новую музыку, которая очень сильно рисковала быть непонятой. Вот вам рыночная модель – пиши хорошую музыку и все будет прекрасно.
Да и не только о композиторах речь. Шекспировский театр прекрасно в этих обстоятельствах существовал. И вообще-то пьесы Шекспира правились, исходя и из того, как лучше привлечь публику и заработать денег. Это же был практически шатер, в который люди либо пришли, либо не пришли. И начинал Шекспир, кстати говоря, с чистой попсятины. «Тит Андроник» – это пьеса, которую ты либо закрываешь с отвращением, либо начинаешь ржать – там всем все отрубили и отрезали несколько раз на первом же развороте. То есть он сначала пытался делать, условно говоря, «Бандитский Петербург», а потом понял, что ему надо быть собой, у него талант в другом.
– Но эта рыночная модель в сфере музыки почти нигде не работает.
– Нигде, только в США, где нет господдержки. Проблема США в другом – просто в плохом вкусе. Это огромная страна, и пока что все-таки очень провинциальная. Но там любая местная филармония играет в каждом концерте хотя бы одно произведение местного композитора. Это обычно очень компромиссная музыка, но неважно, главное, что они не сдаются.
А в Европе просто никто не верит, что это искусство может быть не аристократическим. При этом, если ты композитор, то тебе, в общем, в Европе жить не страшно – ты живешь от гранта до гранта, ну и плюс у тебя есть зарплата, потому что ты преподаешь. Любимые нами композиторы прошлого в такой ситуации никогда не были! Кому-то приходилось в Лейпциге сандалить по новому сочинению раз в неделю для церкви, кто-то при дворе штамповал дивертисменты, которые просили заказчики, у кого-то оркестр сидел без зарплаты, кому-то приходилось ездить из города в город, как Телеману. Некоторые так и умерли, не услышав своих главных сочинений – как Шуберт.
Музыка, на самом-то деле, нужна огромному количеству людей. Пресловутая пирамида Маслоу – которая гласит, что потребность в музыке возникает у человека только после того, как ты пожрал, выспался и совокупился, – это абсолютная чушь, опровергаемая всей историей человечества. Есть огромное количество цивилизаций, в которых нет теплого сортира и при этом есть замечательная музыкальная традиция. Музыка относится к числу базовых, первичных потребностей.
– Ну, все-таки есть достаточное количество людей, которые прекрасно живут без музыки.
– А есть люди, которые живут без почки, без ноги. Но невозможно себе представить цивилизацию, в которой музыки вообще нет, правда?
– А у вас нет ощущения, что роль музыки сейчас вообще стремительно уменьшается? Вот вы в одном интервью жаловались, что раньше у нас люди пели, а больше не поют.
– Ну, это же я про наших людей говорил, это практически семейное переживание – как, бывает, жалуются, что раньше мы все садились за стол, а теперь устраиваем фуршеты на день рождения. Я его не склонен абсолютизировать. И дело, мне кажется, не в музыке как таковой, а в том, что в нашей цивилизации вообще сейчас очень много энергии расходуется на то, чтобы перестать осознавать, выключиться. Есть даже музыкальные формы, которые выводят тебя из осознания. Типа того же транса. Он длится и длится и как раз освобождает сознание от ощущения начала и конца. Именно от этого ощущения человечество пытается отбежать подальше. Все стараются взрослеть попозже. В Германии в тридцать лет можно пойти получать четвертое образование в университете, ходить в кедах и покрасить волосы в оранжевый цвет. Мне это кажется неестественным, потому что налицо игнорирование какого-то важного обстоятельства. Парень, тебе осталось, может, не так много!
В западной цивилизации идея освобождения всегда была сильна, а сейчас все понемногу пытаются освободиться от совсем уже природных обстоятельств. От старения, от ограничений, связанных с полом. Все естественное воспринимается с агрессией. А поскольку на смерть особо не набычишь, тактика такая – мы тебя не замечаем. Или ньюэйджевый вариант – будет тоннель, небо в алмазах. А те кусочки священных текстов, где говорится, что вообще-то нужно себя здесь вести как-то, чтобы там было как вы хотите, они тоже игнорируются – мол, Бог всех простит. Какой-то бессмысленноутешительный дискурс. Я вот не вижу никакого повода для подобного оптимизма. Смерть можно победить, но надо выходить на это поле боя.
– Если бы у вас не было вообще необходимости думать о деньгах – ну, скажем, сидели бы на пожизненной стипендии, – вы бы сочиняли столько же? Или от чего-то отказались?
– Да я особо о них и не думаю. Как в «Египетской ночи», помните: «У нас поэты не ищут расположения господ, у нас поэты сами господа». Понятно, что жизнь в дико дорогой Москве на съемной квартире с семьей стоит каких-то денег, но как-то в среднем складывается нормально. Я много вещей делаю совсем за бесплатно. Ну то есть я и так делаю что хочу, правда. Cтепень моей компромиссности только уменьшается. Я два года подряд получал призы на кинотаврах за саундтреки, и мне стали звонить люди из мейнстримового кино и предлагать работы в каких-то эпохалках. Хорошие деньги, прямо западного размера гонорары… Я очень хотел согласиться, но не смог себя заставить. Не потому что я деньги не люблю, деньги все любят. Просто раньше был азарт – а смогу я написать так же, как голливудские кинокомпозиторы, типа Джона Уильямса? Ну, выяснил, что смогу. А без азарта, только ради заработка – видимо, нужда пока недостаточно прижала.
И в театре я уже категорически не берусь за музыку «к» спектаклям. Оставил два варианта: либо я пишу вещь, а вы ее и ставите, либо просто заказываете мне сочинение, я его пишу, как хочу, а вы потом используете. Есть режиссеры и в России, и за рубежом, которые даже в таком варианте находят возможность для сотрудничества. Хотя драматический театр сейчас быстро меняется, и многие серьезные композиторы туда, наоборот, потянулись. А я сейчас как бы в обратной фазе.
Что для тебя самое важное, то и надо делать. Зарабатывать – это тоже важно. Здоровая ситуация – это когда ты делаешь то, что кому-то нужно. Вообще, нанимать на работу надо такого человека, который бы делал ее и бесплатно. И именно поэтому вы должны заплатить этому человеку все, что только можете. Именно поэтому стыдно не отдать ему все, до копейки. И это не только людей творческих профессий касается. Нельзя никому отказывать в праве заниматься чем-то по внутренней необходимости и любви. И в то же время нельзя никому отказывать в праве получать за это вознаграждение. И не хочу я никакой пожизненной стипендии. Булочник же не должен быть стипендиатом. А почему композитор должен? Чем я лучше булочника?
– Когда вы пишете песни, вы остаетесь академическим композитором? Или это все-таки другая работа?
– Сейчас мне кажется, что жизнь слишком коротка, чтобы проводить различия. Скажем, в моей пластинке с песнями «Мама» есть процитированные куски из Бетховена. При этом Бетховен потихонечку переходит в Стива Райха, но этот переход – это лично моя композиторская идея. А еще одна песня написана в духе Пярта, полностью в его технике «тинтинабули», и этому соответствует текст, то есть это в каком-то смысле мадригализм – когда музыкальный язык как таковой изображает то, что в тексте. Композиторская это работа? Ну наверное. А вслед за этим я сочиняю более-менее блюз. Перестаю ли я в этот момент быть академическим композитором? Честно говоря, даже неохота про это думать.
– Может, академическая музыка сложнее, а песня устроена проще?
– Я не знаю, честно. В принципе, любой моей удачной музыке недостает при живом исполнении одного – меня, который лежит на сцене и счастливо орет. Причем орет так, как орет человек, который даже не слышит, как он звучит. А обстоятельства, при которых внутри рождается вот это «АААА», совершенно неважны – песня это, опера, партитура для симфонического оркестра.
– А ваш песенный проект разве появился не от желания именно что физически выйти на сцену и спеть, а не только слушать свою музыку из зала?
– Я и так довольно часто выхожу на сцену. Я иной раз в течение одного дня успеваю порепетировать с Антоном Батаговым, с ансамблем «Сирин» и с Лешей Сысоевым. Не то что я ностальгирую по рок-клубу, меня как-то перестал волновать сам этот способ взаимодействия с публикой, à la Вудсток/Гластонбери. Я просто не успел выйти на этой станции и поехал дальше.
Первые песни появились в процессе написания музыки к мультфильму про Сергия Радонежского. А когда работаешь в кинокоманде, нужно песни показывать, иначе люди не поймут. Никто же не будет в ноты смотреть. Поэтому мне пришлось сделать демо и самому озвучить и спеть. Ну и дальше Ватсон без трубки уже не мог – нашлись соратники, пошли концерты. Да и петь я люблю.
Некоторые из этих песен изначально должен был исполнять [этнограф и фолк-исполнитель] Сергей Старостин. Но поем мы по-разному, он среднерусским способом, а я донским. Среднерусский мужчина – это крестьянин, у него мир в гармонии. Он, когда поет, озвучивает весь космос своим покоем, болью и счастьем. Это такое космическое сферическое обертонное пульсирование. А казаки – это люди с другим мировоззрением. Они в любой момент готовы умереть и убить. Я про казачье пение немного понимаю – я изучал его, ну и гены, Маноцковы же из казаков. Большинство казачьих песен поются не просто от лица такого человека, а от лица человека, который, как иногда выясняется к концу песни, вообще-то уже умер. Казак поет за гранью смерти, и это совсем другое мироощущение. Интересно, что казачья традиция подразумевает пение любых текстов таким способом. Есть казачьи песни на стихи Пушкина, Лермонтова. А я вот спел Хармса, Введенского и Рамона Хименеса, и оказалось, что и таким текстам в традиции есть место. Я как-то почувствовал, что в этом есть правда.
– Вы как-то в интервью говорили, что любая музыка – это моментальный снимок эпохи. Мы можем услышать в музыке, когда она была написана?
– А что вообще такое эпоха? Есть огромное созвездие людей, о которых мы ничего бы не знали, если бы не Пушкин. Какой-нибудь Вяземский. Неглупый был человек! Имел бы он значение для нас, если бы не его переписка с Пушкиным? Появляется Пушкин, и возникает время. Потом Пушкин умирает, и времени никакого нет. Что мы можем сказать о времени в 1838 году? Что-то оно ни в чем не отражается. То ли дело 1837-й! Вся середина XIX века – провал. Появляется Достоевский – возникает время, и даже целый топос – Петербург со старухой-процентщицей, дворы-колодцы, бедные люди. Есть Достоевский – есть время. Нет Достоевского – нет времени. Есть Гайдн и Моцарт – есть время. Оставь одного Клементи – и не будет никакого времени. Мы время ткем как пауки, сами. Какое соткем, такое и будет.
– Должна вообще современная музыка откликаться на окружающую реальность?
– Единственная реальность, по поводу которой согласятся абсолютно все, – это что мы родились и умрем. Вот на эту реальность музыка не то что откликается – она ей непосредственно оперирует. И чтобы она при этом откликалась на неправильно положенную плитку, или даже на начало войны – да какая к черту война, если я родился и умру! Если у вас смертельный диагноз, вам все равно, что вышел закон Яровой. Музыка имеет дело с настолько насущным вопросом, что всем прочим обстоятельствам с ним соперничать трудно. Причем любая музыка, и за столом, и в церкви. Музыка нас эмоционально трогает очень сильно. У одноклеточного и то главный инстинкт – не умереть. Мы в этом смысле отличаемся только сложностью.
Я недавно понял вот еще какую штуку. Как растет организм? Он же растет не с краю. Вот у меня растет сын, у него же не прирастает каждый день маленький кусочек. Он растет весь сразу, как бы внутрь себя. И так же создается и музыка. По такому принципу строится, например, мое сочинение [на основе средневекового католического текста] «Stabat Mater» для сопрано, перкуссионистки, хора и оркестра. Я взял классический григорианский напев, и выстраиваю вещь так, как растет живое существо – сразу во все стороны. У меня так же фактура растет от куплета к куплету, причем если взять кусочек из начала и середины, будет неочевидно, что это одно и то же – ну, как в сорокалетнем человеке сложно узнать трехлетнего, пока он не улыбнется. Обычно в «Stabat Mater» используется два голоса, это еще от Перголези идет, и у меня тоже две солистки, но одна певица, а другая перкуссионистка. Плюс струнный оркестр, вибрафон, большой барабан, средний и конго. Похоже на набор поверхностей, который использовал Ксенакис. И здорово, что именно сейчас такие инструменты без звуковысотности западное ухо научилось слушать. Ведь еще недавно ударные инструменты без звуковысотности считались или шумовыми, или танцевальными, или просто расширяющими спектр оркестра. А сейчас произошла такая революция, что можно целый кусок сочинения посвятить игре на ударном инструменте одного тембра, оперируя только длительностями и штрихами и зная, что слушатель будет вслушиваться и что-то для себя находить.
– Как вам кажется, в какой степени академическая музыка предполагает прямое социальное высказывание? У вас есть довольно четко артикулированные и вполне резкие взгляды на окружающую действительность, вам никогда не хотелось их продекларировать в своих сочинениях?
– Каким образом?
– У композиторов есть разные, проверенные веками способы. Можно, скажем, выбрать для оперы злободневный сюжет.
– Мне не нравятся такие оперы. И мне даже кажется, что такие оперы хороши именно тогда, когда они плевать хотели на злободневность. Единственное, что есть злободневного в опере «Эйнштейн на пляже» – это Эйнштейн. Скрипач ходит с усами и в очках. А в каком-нибудь «Никсоне в Китае» эта злободневность остранена и становится в итоге совершенно не злободневной.
– Можно взять актуальный текст – как Илья Демуцкий, который написал симфонию на текст последнего слова Марии Алехиной на суде, или как Луиджи Ноно, который использовал вербатимы итальянских рабочих. Есть еще посвящения, на худой конец.
– Ну да, симфония Пярта, посвященная Ходорковскому. Нет, это все не моя чашка чаю. Нет сферы социального, нет сферы политического. Все это совершенно искусственные понятия – религия, политика, этика, эстетика. Мир един. Мое отношение к миру таково не потому, что у меня какие-то политические взгляды. У меня вообще нет политических взглядов. Более того, иметь политические взгляды кажется мне оскорбительным для интеллекта. Если у человека есть политические взгляды, с ним бессмысленно разговаривать. Словосочетания «левый интеллектуал» и «правый интеллектуал» кажутся мне оксюморонами. Потому что и то и другое дебилизм. Любая доктрина верна только на трех сантиметрах протяженности. А добавь по два сантиметра по краям – выяснится, что ничего не работает. Но в угоду доктрине реальность взламывают и подгоняют. У меня не великий интеллект, хотелось бы помощнее, но взгляд на вещи, мне кажется, довольно здравый. И мне кажется оскорбительным иметь эти самые политические взгляды и уж тем более что-то делать им в угоду. Это какая-то чушь.
Точно такой же чушью мне кажутся попытки объяснить то, что происходит в музыке, или вообще в искусстве, политическими веяниями. «После» не значит «вследствие», то, что между фактами есть корреляция, не означает причинно-следственной связи. Так называемая реальность не влияет на музыку. Скорее уж наоборот. Китайцы, как известно, считали, что если инструменты настроены правильно, то у государства все хорошо.
– Должен ли или может ли композитор своей музыкой реагировать на то, что нас окружает, – это такой вечный вопрос, и разные композиторы по-разному на него отвечали.
– Это вам надо найти композитора и спросить его, что он должен, а я не знаю. Вообще-то музыка, как я уже сказал, реагирует на самое существенное обстоятельство нашей жизни. Ты поешь песенку про что угодно – ты поешь про это. Больше ни про что. В этом смысле она, конечно, реагирует на реальность. А кроме нее, наверное, только математика, но она так сильно с нашей эмоциональной сферой не связана.
Помните, в «Москве – Петушках» Веничка описывает картину «Неутешное горе» и спрашивает, что было бы, если бы у этой княгини в момент ее горя кошка разбила фиал из севрского фарфора? Было бы ей до него дело? Конечно, нет. Если у нее кто-то умер, какая ей разница, что фиал разбили? Так вот в музыке всегда кто-то умер. Причем умер я.
Это я не к тому, что музыка парит в эмпиреях и не видит мелочей жизни. Наоборот! Музыка имеет отношение к самому важному вопросу жизни любого человека. Ну вот что Мессиан написал в лагере для военнопленных? «Квартет на конец времени», понимаете?
– Это вообще поразительная история, я ее даже не до конца могу себе представить. Премьера в лагере для военнопленных, в 1941 году, в тридцатиградусный мороз, и пять тысяч человек слушают довольно сложную, как ни крути, вещь.
– Мессиан пишет, что слушали от начала до конца, и с потрясающим вниманием. Я как раз могу себе это представить, потому что время от времени оказываюсь в похожих обстоятельствах. Скажем, мы в Питере собрали инклюзивный оркестр, в котором участвовали зрячие и незрячие люди, музыканты и немузыканты. И играли Лешу Сысоева, Корнелиуса Кардью и «In C» Терри Райли. Люди, которые сидели в зале, никогда этой музыки не слышали, и вообще ничего похожего не слышали. А воздух звенел таким вниманием и такой важностью происходящего, как на каких-нибудь «Страстях по Матфею» в 1930-е годы в Ленинграде. Думаю, что «Квартет на конец времени» слушали примерно так же.
– То есть вы не верите в то, что у истории музыки есть собственно исторический аспект? Что послевоенный авангард такой именно потому, что он послевоенный, что музыка Шенберга звучит таким образом потому, что появилась в Вене начала века, вместе с психоанализом и так далее?
– Обычно все сложнее. Если мы проводим причинно-следственную связь между «А» и «Б», наверняка есть еще какое-то «С», следствием которого являются и «А» и «Б». Есть какие-то вещи, которые выразились в том, что случилась Вторая мировая война, и в том, что появился послевоенный авангард. Очень соблазнительно выводить задним числом одно из другого. Нам кажется, что Бах и есть выразитель своего времени, он ведь все перевешивает, что еще при нем было – поди вспомни. А на самом деле Бах абсолютно неисторичен. Он был бешеным ретроградом и консерватором со своей полифонией. Бах был просто вне своего времени, и уж точно ему не соответствовал.
Или, наоборот, Эль Греко, который выглядит мегасовременно, и будет так выглядеть и в XXII веке. Или посмотришь на витражи в Сен-Шапель, просто на их композиционную схему, там уровень сложности – ну примерно как у Штокхаузена. А это XIII век, холодный камень, дерюга, и одна книга на весь город. Откуда оно взялось? Почему? И несколько веков ни до, ни после рядом ничего не лежит.
Так что к идее эволюции в музыке я никак не отношусь, нет смысла даже это опровергать. Просто есть некая субстанция, которая реализуется так или сяк. То, что было в русском многоголосии, в западной музыке появляется только у Хиндемита в XX веке. А у нас это было в XVI–XVII. А потом раз – и перестало. И на место знаменного распева пришла традиция партесного пения. Причем одно время они существовали параллельно, как кроманьонцы с неандертальцами, где неандертальцы – это, как ни странно, партесное пение. По сравнению с нашим знаменным распевом даже Хиндемит – это труба пониже и дым пожиже. Только Хиндемит один, а у нас существовала огромная традиция, которая до сих пор не изучена и, заметим, нафиг никому не нужна. Тысячи рукописей не расшифрованы, вот здесь, в Москве, мы просто сидим на этих сокровищах. Мы с ансамблем «Сирин» ездим по Европе, там на эту музыку собираются тысячные залы и с восторгом это слушают. А здесь просто никому не надо! Вот это чем объяснить? Я лично не могу понять.
Вообще, эпохи с эпохами перекликаются удивительным образом. Это как карту сложить в несколько раз, проткнуть гвоздем, а потом развернуть. Музыка прошивает и время, и расстояния. Почему игра на кугиклах в южной и центральной России звучит неотличимо от музыки центральной Африки? Где Курск, а где Конго? Как это вообще?[94]
Или я в работе над одним английским проектом много общался с Мишей Альпериным, которого все знают по Moscow Art Trio. Вот куда его записать? Когда он играет, первая моя ассоциация[95] – Гленн Гульд. Такое тяжелое в хорошем смысле слова, нагруженное туше с очень точной артикуляцией. При этом он идеально сочетается с фольклорными делами, с Сережей Старостиным, с какими-нибудь болгарскими тетками. Он кто, джазовый музыкант, фольклорный, академический? Он Альперин. И вот мне кажется, что чем в большей степени музыкант будет собой как таковым, тем, как ни странно, в большей степени будет преодолеваться атомизация. Сейчас многие говорят о том, что музыкальное искусство атомизируется, никого ни с кем нельзя сравнивать, все работают в разных полях. А мне кажется, что общее поле как раз и возникнет, когда каждый почувствует себя индивидуальным атомом. И тогда-то преграды исчезнут, и все почувствуют, что мы делаем одно дело, и критерии у всех одни, и по ним можно оценивать и свободную импровизацию, и новую академическую музыку, и стотысячное исполнение Первого концерта Рахманинова, и дискотеку. Мы, на самом деле, и так в этом поле, только не отдаем себе отчета.
– Происходит ли сейчас в современной академической музыке что-то революционное? Если мы верим, что музыка как-то развивается и куда-то движется.
– Мне трудно отвечать на этот вопрос, потому что я должен отвечать на него тем, что я делаю, а если не получается, то надо молчать. Но у меня нет задачи сделать революцию. Невозможно сказать новую мысль, потому что ты захотел ее сказать. Новое – это вообще косвенный результат. Вот мы все недавно слушали Люку Дебарга, который играл «Сентиментальный вальс» Чайковского, и плакали как крокодилы. Я сидел и хлюпал носом, хотя ненавижу эту музыку всеми фибрами души. Но он сыграл так, что я сидел и плакал. И это новое, потому что ее никто так не играл.[96]
То есть я использую новые техники, и есть какие-то авторские, которых нет ни у кого. Но я не сажусь и не изобретаю технику, я к ней прихожу в какой-то момент. Для меня музыка – это генеративный процесс. Всегда есть ноль, и волшебный момент перехода из ноля в следующее состояние, когда ничего не было, и вдруг начало происходить. Но как только начало происходить, уже все решено до последней ноты.
– А какие именно авторские техники?
– Сейчас я могу уже более-менее твердо говорить о технике, которую определяю как темпоральную тональность. Темпоральная – значит временнáя. Время, его преобразования, отношения между отрезками времени меня всегда волновали в музыке сильнее всего. Просто я слышу временны´е отрезки как тональные (вместе с ритмом и звуковысотностью). Для меня звуковысотность и длительность – это одно и то же, просто разные слои. Но раньше я просто так слышал и не думал об этом, а относительно недавно я это осознал, сформулировал и пользуюсь уже осознанно. И по сути, почти все мои последние вещи написаны в этой технике. Оперы «Чаадский» и «Снегурочка», например. Опера «Звери в яме», которая еще не поставлена. Сочинения для струнных – «Folia», «BACH», «Психея». Ну и так далее.
– Для вас вообще имеет смысл словосочетание «современная музыка»? Что это такое?
– Современная музыка – это очень просто: это музыка, которая вот сейчас. Когда мы слушаем музыкальное произведение, мы как бы следим за путем Эдипа, или за быком на арене, или за собой, что одно и то же. Мы проживаем жизнь, и она вроде бы кончилась и не кончилась, и это дает нам надежду, что и мы, может быть, не кончились. Слушая музыку, мы просто ищем способ не умереть.
Я категорически против того, чтобы мы сами себя ставили в гетто и говорили: «Вот современная музыка, сейчас мы вам расскажем, что это такое». Знаете, на любой возрожденческой фреске с епископами, кардиналами и патронами, которых туда дорисовали, непременно есть фигура, которая костлявым пальцем на что-то указует. Так вот в музыке этот палец уже есть и так. И композитор, и слушатель должны просто постараться, чтобы его ощутить. Композитор должен все делать, чтобы все было очевидно само. А слушатель должен не тупить и не отвлекаться на айфон. И этого достаточно.
Не нужно превращать современную музыку в область какого-то специального интереса – вот есть преферанс, кружок по танго, кто-то занимается урду, кто-то сыроедением, кто-то ходит на йогу, а кто-то – современной музыкой. Современная музыка – это вообще самое важное, что есть на свете, в любую эпоху. Ни в чем другом для человека надежды нет. Да и в этом-то, честно говоря, призрачная.
Кому-то помогает вера, но это ведь то же самое. Только музыка – это очень непосредственная вещь. Скажем, в евхаристии, причастии, вы переживаете это чувство как вспышку, но в смысле художественной формы (потому что все на свете художественная форма) евхаристия – очень простая вещь. Это вообще базовая художественная форма – ритуал жертвоприношения. Как говорилось в фильме «Бойцовский клуб», «мне просто хотелось разбить что-нибудь прекрасное».
В музыке самая простая форма – это пьеса Ла Монте Янга «Композиция номер 7», где бесконечное количество времени тянется квинта. Или пьеса Кейджа «4'33''». Но они работают не так хорошо, как евхаристия. Хотя не буду ханжой, может, для кого-то и так же. Но человек – сложное существо, и гибнем мы тоже не как монада, а как-то иначе. И поэтому мы ищем художественной формы, подобной нам, художественное стремится быть сложнее, чем «духовное».
Трагедийность есть и просто в ритуале, но одним ритуалом сыт не будешь. Человек нуждается в художественной повседневности. Вот вы поставили чашку именно вот так – это уже художественная форма. Мы не можем не создавать художественные формы вокруг себя, и не можем не искать их в происходящем. Мы все аппроксимируем до пропорции, до художественной ясности. Мы слышим скрежет тормозов или скрип качелей и обязательно услышим там какую-то мелодию. Мы не можем этого не делать. Вот современная музыка этим и занята.
– А как функция музыки меняется со временем? Ну, скажем, у духовной музыки была очень конкретная функция – славить Бога. Очень многое писалось для танцев или застолий. А у современной музыки какая?
– По-моему, это какие-то борхесовские классификации. Животные делятся на издали напоминающих насекомых, принадлежащих императору, красивых… Я ничего в них не понимаю. Что такое функция?
– Для чего человек слушает музыку?
– Для того самого, о чем я говорил выше. Причем любую. Мы же прежде всего хордовые. От одноклеточных отличаемся только сложностью, а инстинкты у нас такие же.
– То есть любая музыка во все времена нужна человеку, чтобы напоминать ему, что он смертен?
– Музыка нужна не зачем, она нужна почему. Она была бы нужна зачем, если бы человек послушал музыку и получил ответ. А он никогда его не получает. Если было бы наоборот, все бы послушали какую-нибудь до-мажорную сонату Моцарта, просветлились, прекратили бы войны или вознеслись на небо живыми, как пророк Илия.
– Это же проблема человека, а не музыки. Все религиозные практики тоже предполагают, что человек может просветлиться, но почему-то этого обычно не происходит.
– В любом случае, это не функция музыки. Это то, почему человеку туда хочется. Как только мы скажем, что это функция музыки, мы перевернем телегу и лошадь местами. Как будто у музыки есть какая-то цель. А ни у одной подлинной вещи не может быть цели. У любви не может быть цели кроме собственно любви к человеку. Ни у какого подлинного мотива не может быть цели. Вообще работает только то, что не цельно, а причинно. У музыки есть мощная причина. А цели нет. И даже если начнешь превращать ее в цель, ничего не получится. Другое дело, это довольно безобидно – ну не достиг, просто послушал и пошел. Это, конечно, танталовы муки, которые никогда не будут удовлетворены, но муки довольно сладкие.
Но важно помнить, что музыка ни за чем, музыка ни про что. Про что синусоида? Про что дробь 3/2, 5/4, 6/5? Но когда мы слышим дробь 5/4 [соотношение двух частот, образующих большую терцию, часть мажорного трезвучия], мы радуемся, а когда 6/5 [малую терцию, часть минорного трезвучия], мы грустим.
– Разве у этого нет физиологического объяснения, того, чем еще Гельмгольц занимался, объясняя, почему нашему слуху не нравятся диссонансы?[97]
– Против выводов науки невозможно устоять. Помните, у Олейникова? «Но наука доказала, что душа не существует, что печенка, кости, сало – вот что душу образует. Есть всего лишь сочлененья, а потом соединенья. Против выводов науки невозможно устоять, таракан, ломая руки, приготовился страдать».
Ну физиология, и что? Мы все равно не понимаем, почему 5/4 – это веселые нотки, как в садике объясняют, а 6/5 – грустные. И не поймем, потому что мы и есть эти числа. При этом мы можем воспринимать их непосредственно.
– Но это же доступная вам техника, вы можете написать веселую музыку или грустную.
– Да кто угодно может, и вы можете.
– Но мы не понимаем, почему она веселая или грустная?
– Да нет, понимаем. Есть такое вульгарное убеждение, выраженное в гипотезе Сепира – Уорфа, что мышление тождественно речи. Это вообще не так! Сказать словами, даже про себя, это не то же самое, что подумать. Если вам дадут квадратики или треугольнички разного цвета и попросят их расположить на листе, вы их расположите, не прибегая ни к каким словоформам.
– Мы же обсуждаем это внутри нашей системы координат. Я не могу выйти за пределы собственного языка, не могу посмотреть на него снаружи. Я не могу сказать, что смотрю на эти треугольники просто как на треугольники. И даже сказать, что это значит – «просто посмотреть».
– Да зачем вы волочете за собой этот смысловой аппарат? Не можете – и не говорите, и не надо! Это не значит, что вы в этот момент идиот. Ваш интеллект работает, он обладает волшебной способностью непосредственно воспринимать числовые отношения. Это и есть основа музыкальности – непосредственный контакт с числами.
– В общем, в этом смысле вы пифагореец.
– Кстати, часто говорят, что, дескать, человек прекрасно слышит интервалы, которые не совпадают с пифагорейскими, что как бы должно опровергать теорию Пифагора. Но на самом деле мы просто в уме дотягиваем какую-нибудь грязную квинту до чистой. Слышим большую терцию, взятую на современном темперированном фортепиано, и инстинктивно достраиваем ее до натуральной, которая звучит в обертонах. А раз мы это делаем, значит, восприятие простых чисел – это естественная, свойственная нам идея.
– Вернусь к своему вопросу – это восприятие не зависит от культуры? Ведь в разных культурах разные темперации, лады и звукоряды, и есть свидетельства, как для индийских музыкантов, впервые приехавших в Америку в 1960-е, фортепиано звучало фальшиво, они просто не могли с ним вместе играть.
– Не знаю, сейчас индусы прекрасно играют на темперированных инструментах, точно так же достраивают в уме, например аккомпанируют на клавишной гармонике при пении. У них основная гамма – такая же, как у нас. Только она чистая. У них нет в течении произведения модуляции в другую тональность, в которой от новой точки выстраиваются интервалы, там всегда неизменная тоника, от которой все строится.
Этот вопрос про интервалы и лады вообще очень интересный. Есть много практик, в которых интервалы сильно отличаются от равнотемперированных. Есть огромное количество культур, в которых есть так называемая нейтральная терция. Ну вот как есть в нашей культуре большая терция и малая терция, а между ними ничего. А бывает так, что аккурат между ними есть еще одна.
– Это как раз то, что на нашем фортепиано не сыграть.
– Нам и не надо, у нас стройматериал другой. А что такое нейтральная терция? Твое сознание не может ее услышать ни как мажорную, ни как минорную. То есть ты умом не можешь попасть ни туда, ни сюда. И в ходу она в той группе культур, в которых вся жизнь во дворе, женщины в чадрах, отсутствие какого бы то ни было прогресса, кроме того, который привезли с собой колонизаторы, и так далее. Вот такого рода культура с ее кругом эмоций и эмоциональных потребностей характеризуется переживанием, которое дает человеку интервал, который ни 5/4, ни 6/5, а строго между. Это очень сильное напряжение и очень круто звучит. Вспомним любую турецкую музыку, персидскую, арабскую или, скажем, византийское церковное пение… Весь этот огромный ареал, который пользуется нейтральными секундами и терциями. Они колоссально действуют на эмоции. Но действуют именно потому, что ты не можешь деться ни туда, ни сюда, а тебя приводят то туда, то сюда, и опять в этот интервал. Причем известно, кто конкретно этот интервал придумал – музыковед X века Аль-Фараби, предложивший привязать такой порожек на лад. Ну понятно, что в народной и профессиональной музыке это уже до него было. Теория редко предшествует практике. Та же двенадцатитоновая теория родилась, когда все вокруг было ей беременно.
На свете есть масса темпераций. На хорватском острове Крк существует потрясающая музыка, многие считают, что инопланетная, у них какая-то своя темперация. Внутри индонезийского гамелана одновременно несколько темпераций, которые порождают этот потрясающий разлив звука, постоянную характерную напряженность. Люди к ним приходят, видимо, инстинктивно, но все равно это вертится вокруг каких-то числовых взаимодействий. Здесь такие простые числовые отношения, а здесь сякие.
Числа и их интерполяция, отношения между отрезками времени – это и есть музыка. Ведь в физическом смысле нет никакой разницы между ритмом и тоном. Если мы вот так постучим по столу и этот стук ускорим до 440 раз в секунду, мы будем слышать «ля», хотя там нет никакого «ля», нет синусоиды, понимаете? В физическом смысле там есть только «тытытыты», но если оно будет происходить 440 раз в секунду, мы его воспримем как жужжащий фаготоподобный шершавый тембр, как «ля» первой октавы. А если мы возьмем два таких звука в соотношении два к трем, то услышим между ними квинту, хотя это по-прежнему просто стук. То есть мы слышим как тональные именно временные отношения. Кроме времени там ничего нет. И вот эта сложная интерполяция – и есть то, что делает музыка. А применить ее можно как угодно.
Антон Батагов
Родился в Москве в 1965 году. Закончив Московскую консерваторию по классу фортепиано, начинает успешную карьеру профессионального пианиста: специальный приз на Конкурсе им. Чайковского (1986), записи Мессиана, Баха и Равеля, доброжелательно встреченные критикой. В конце 1980-х Батагов становится одним из основателей, а впоследствии и художественным директором московского фестиваля «Альтернатива» и расширяет свой репертуар, исполняя Мортона Фелдмана, Стива Райха, Филиппа Гласса, Джона Кейджа, играет раннесоветский авангард 1920-х и позднесоветский минимализм – Загния, Пелециса, Рабиновича, Мартынова. В начале 1990-х он постепенно переходит от исполнительской практики к сочинительству, перестает играть чужую музыку и становится заметным отечественным композитором-минималистом. В 1997 году полностью прекращает концертные выступления.
Важной платформой для композитора становится музыка для кино, прежде всего фильмов Ивана Дыховичного («Музыка для декабря», «Копейка», «Незнакомое оружие, или Крестоносец-2», «Вдох/выдох»), и телевидения – короткие пьесы-джинглы Батагова звучат в десятках передач НТВ, РТР, телеканала «Культура». В нулевые Батагов создает серию альбомов, основанных на древних буддийских текстах, в том числе записи, сочетающие фортепианную игру и пение буддийских лам, а также переводит на русский язык две книги с наставлениями тибетских учителей. В 2013-м, после долгого перерыва, возвращается к концертам в России. Как и в начале 1990-х, он выстраивает парадоксальные программы, объединяющие Баха и Перселла, Рамо и Наймана, Шопена и Скарлатти, Дебюсси и Владимира Ребикова, делает собственные переложения английских вирджиналистов и настаивает, что все это можно и нужно считать минимализмом. Концерты проходят в полной темноте и сопровождаются аншлагами, посетители лежат на подушках прямо на сцене. Выступления Батагова становятся характерной приметой российской концертной жизни. Если его музыка 1990-х годов была полуэлектронной и исполнялась (отчасти вынужденно) при помощи сэмплеров, то теперь он с удовольствием возвращается к роли концертирующего пианиста, пишет фортепианные циклы, а со временем переходит и к сочинению крупных композиций, самой масштабной из которых становится «I fear no more» (2014) для певца, симфонического оркестра и рок-музыкантов. Знакомство с Филипом Глассом, начавшееся в 1992 году, приводит к записи всех его фортепианных этюдов и музыки из «Эйнштейна на пляже» и «Коянискацци», совместным гастролям и сочинению, которое Гласс пишет специально для Батагова. Число дисков со своей и чужой музыкой, выпущенных Батаговым, приближается к пятидесяти, в последние годы он стабильно выпускает по три-четыре диска в год. Живет между Москвой и Нью-Йорком.
Беседы состоялись в Москве в 2013 и 2017 годах.
Фрагмент партитуры рок-кантаты «Тот, кто ушел туда» (2016). В ее основе – три древних буддистских текста. Антон Батагов: «„Тот, кто ушел туда“ – так называл себя Будда (на пали и санскрите – татхагата). Он никогда не говорил „я“. Туда – значит за пределы смерти и круга перерождений, именуемого сансарой. Уйти „туда“ может не только тот Будда, который жил 2500 лет назад, но и любой человек. „Те, кто уходят туда“ объясняют нам, как все устроено, и показывают, какие препятствия мешают нам уйти туда же. На этой странице – фрагмент текста „Молитва Самантабхадры“. Этот текст был спрятан великим мастером Падмасамбхавой в IX веке, а в XIV веке найден другим мастером – Ригдзином Годэмом (1337–1408). Авторство приписывается изначальному Будде Самантабхадре. Несмотря на то что Самантабхадра не является историческим лицом и никогда не жил на этой планете, нам посчастливилось получить несколько наставлений, возникших из его просветленного ума.
Без рок-состава в этом сочинении никак нельзя было обойтись. Дело в том, что в IX веке всегда играли таким составом. Я не посмел пойти против традиции».
– Вы не выступали в Москве семнадцать лет, а затем начали выступать очень активно – по несколько концертов в месяц. Как ощущения?
– Интересно, что у нас по-прежнему считается – если человек не выступает на сцене, значит, его вообще нет. То, что я все эти годы продолжал сочинять, выпускать диски, – это все неважно. Если уж начинал как человек, который играет на сцене, – будь добр, продолжай. Хотя я выпустил вообще-то довольно много компакт-дисков, в Нью-Йорке их часто крутят в радиоэфире. И американцам не кажется, что я куда-то пропал, а здесь – не играешь, значит, нет тебя. Да, я долго не выступал, впервые после перерыва вышел на сцену в 2009 году, в Сиэтле. Но, вообще говоря, для меня это сейчас довольно условная грань – между студийной работой и концертами.
– Но все-таки вы в какой-то момент совсем перестали выходить на сцену – и продержались довольно долго.
– Ну да. Я просто почувствовал, что степень компромисса, с которой я вынужден иметь дело, выступая перед публикой, такова, что… Одну вам историю расскажу. В 1995 году я играл фортепианную вещь Володи Мартынова. Длиной, разумеется, час, у него меньше редко бывает. Хорошая вещь, он мне ее посвятил, я даже успел за несколько дней до концерта выбить из него ноты, что далеко не у всех получалось. Она должна была быть очень тихой, что Мартынову, вообще говоря, не слишком свойственно. Никакого динамического движения, никакого мирского, суетного беспокойства – ну вот так он ее задумал. Было это в Доме композиторов на фестивале «Альтернатива».
Так вот, играю я ее и минут через десять понимаю, что дело плохо: зал сейчас просто взорвется от возмущения. Уже один человек вышел, другой, остальные явно на взводе – мы, мол, музыку пришли слушать, а это что еще такое. В зале нарастает какой-то шорох. В общем, ужасно неприятно. Я чувствую, что сейчас может случиться что угодно – они начнут хлопать, свистеть, кричать «Хватит!». И по ходу дела начинаю наш тонкий замысел менять – потихоньку, по миллиграмму, увеличиваю громкость. Создаю постепенно вырастающую динамическую волну. В общем, пошел на публику танком. Привело это к тому, что народ затих. Причем не просто затих, а замер до самого конца. А вещь получилась совершенно давящая – эта медленно-медленно приближающаяся звуковая волна дошла до совершенно апокалиптического момента, и потом постепенно ушла туда же, где начиналась, – в тишину.
Я, конечно, ситуацию спас. Все дослушали до конца. Но отношение… Там был такой американский электронщик Джон Эпплтон, довольно известный, он после концерта вышел просто белый от ярости.
– А что его возмутило?
– Понимаете, с той минималистичной музыкой, которую я играю, зачастую сложно понять, что так возмущает – или, наоборот, приятно поражает – людей. Эта музыка выбивает всякую почву из-под ног. Вот я только что трижды играл в Нью-Йорке полуторачасовую вещь Мортона Фелдмана. Люди совершенно по-разному ее слушают, и с ними удивительные вещи иногда происходят – причем вне зависимости от их ожиданий. Это даже нельзя назвать «понравилось» или «не понравилось». Это такой эксперимент над собой, к которому не каждый готов. Вот господин Эпплтон, видимо, оказался не готов.
Конечно, после этого концерта у меня была крупная разборка с Мартыновым. Но, понимаете, любой музыкант, который играет что-то, выходящее за рамки стандартного исполнительского канона, с такими вещами вынужден сталкиваться. Был знаменитый концерт Марты Аргерих и Алика Рабиновича в Консерватории лет двенадцать тому назад, и консерваторская публика захлопала и освистала сочинение Алика. Он был вынужден остановить концерт. А ведь это консерваторская публика! Они считают: дескать, кто, если не они, знают, что такое музыка?
– Это когда на сцену выбежал Алексей Любимов и назвал присутствующих идиотами? Про эту историю часто вспоминают. Притом что «Красивая музыка № 3», которую играла Аргерих, – это ведь совершенно безобидная и, действительно, довольно красивая музыка. Удивительно, что простое чередование тоники и доминанты может вызвать у людей настоящее бешенство.
– Это все наши стереотипы. Просто в какой-то момент в некоторых частях Европы люди решили, что вот это сочетание нот называется тоникой, а вот это – доминантой. И если сначала звучит одно, а потом другое, то это означает окончание музыкального произведения – и баста. А если воспроизвести их в другом порядке или начать беспрерывно чередовать, то со слушателями могут произойти совершенно неприличные вещи.
И вот мне где-то в середине 1990-х показалось – зачем вообще этим людям что-то играть? Какой смысл? У меня есть какие-то мысли, планы, идеи, я выхожу на сцену, и оказывается, что всем на них наплевать, что ничего не выйдет, а выйдет только то, что меня совершенно не устраивает и не интересует. Для меня эта степень компромисса была невыносимой, она просто все обессмысливала. Я ведь не для этого занялся музыкой, понимаете? Если речь только о том, чтобы раз за разом доставлять людям то удовольствие, которое они привыкли получать, то надо играть другое и по-другому. И вообще-то есть куча музыкантов, которые этим успешно занимаются, – но быть одним из них мне совершенно не хочется.
– То есть у вас была не типичная такая гульдовская тревожность, что на концерте может получиться хуже, чем в студии? Это не вопрос перфекционизма?
– Ну а Гульд почему перестал играть-то? Именно поэтому. Он публику развлекать не собирался. Он хотел, чтобы человек сел и послушал то, что Гульд ему хотел сказать. А при этом в зале кто-нибудь шуршит программкой… да и вообще много чего происходит в зале. Дело же не в том, что Гульд боялся нажать не ту клавишу.
Но со временем все меняется. И лично для меня то, что тогда казалось непреодолимым, просто перестало существовать. Не то что я стал более склонен к компромиссам, но сам контакт с публикой – он для меня снова стал возможен. Это для меня сейчас не шаг назад по сравнению со студийной работой, а просто другая версия того же самого. Ну вот я записал «Избранные письма Сергея Рахманинова», а потом стал играть живьем. Не могу сказать, что одно лучше другого. Акустически[98] – да, я в студии добился, наверное, идеального результата. Даже звуковой колорит там такой, какой мне хотелось. Но у концертного исполнения тоже есть свои преимущества.
– Получается, что в 1990-х вы в слушателях разочаровались, а сейчас почувствовали, что с ними опять можно иметь дело? Что публика вам все-таки для чего-то нужна?
– Понимаете, дело не в том, что «мне нужна публика». Это тонкий момент. Если «мне нужна публика» – это значит, я постоянно нуждаюсь в том, чтобы мне кто-то все время аплодировал, для удовлетворения своей гордыни и амбиций. Нуждаюсь в такой банальной подзарядке. Нет, дело не в этом. Просто есть такие периоды, когда действительно нужно побыть одному – всем людям, не только мне. Возможность сделать паузу, переключиться в другой режим существования – она категорически обязательна для кого угодно. Дело не в том, что мне нужна публика или публике нужен я. Просто я прошел какой-то путь, исправил какие-то свои ошибки, завершил этап и оказался в другой ситуации. В которой, в частности, между мной и другими людьми возникает просто другой тип контакта.
В принципе, в какой-то момент любому человеку кажется, что все осточертело, что все не так, что рельсы, по которым он едет, никуда не приведут. Что от всего этого тошнит. Но, конечно, многие продолжают по ним ехать – потому что больше ничего не умеют, потому что за это хорошо платят, потому что есть дети, жена, имущество. Семья, которая вызывает одно только желание – повеситься. Все эти вещи надо не бояться ломать. К сожалению, это больно. Главное – не делать больно другим людям. К сожалению, без этого тоже иногда не получается. Но зато возникает новая конфигурация, новые горизонты. И это всегда гораздо продуктивней для всех.
– То есть рельсы у вас те же, но едете вы по ним с другим чувством?
– Ну, мы неизбежно ездим по рельсам – до тех пор пока каждый из нас не достигает окончательного просветления. Это называется «карма». И с этим ничего нельзя поделать. Наши кармические оковы все равно тянут нас назад или вбок, мы все равно оказываемся в колее, которая нам чем-то не нравится, – надо это просто отслеживать.
– А ваш переезд в Нью-Йорк – это была в каком-то смысле творческая эмиграция?
– В принципе, да. Возникли всякие интересные предложения, ну и, конечно, публика, и вообще музыкальная тусовка там замечательная. Там ведь есть люди, которые ходили еще на первые концерты Гласса и Райха. А после них несколько поколений уже выросло, и все они смешиваются в одних и тех же залах.
А здесь, ко всему прочему, меня страшно раздражали какие-то совершенно обыденные вещи… Ну, скажем, каждую ночь, часа в два или в три, под моим окном разгружают мусор – со страшным грохотом. Или вот реагенты под ногами. Все же знают, что они радиоактивны, что Москва и Московская область благодаря им превратились в Чернобыль. И никто ничего не делает. Мы просто живем в этом очаге поражения, и все. И это очень противно. Физически противно. Ощущение, что куда-то едешь в совершенно безнадежной колымаге. Бесполезно протестовать, что-то делать… Все превратилось в территорию безграничного распила. А мы просто бултыхаемся под ногами власть имущих. Мешаем им, возникаем, голос подаем. Все это очень мерзко. И у меня все как-то сложилось одно к одному.
Но, как ни странно, творческие процессы от этого зависят мало – более того, как у нас в стране часто бывает, они идут совершенно вопреки тому, что происходит вокруг. И вот сейчас как раз я ощущаю тут удивительное движение энергии. Очень продуктивное. Я чувствую, что здесь и сейчас я могу сделать для себя и других что-то очень правильное и нужное. Здесь стало страшно интересно. В общем, у меня как-то все в жизни уравновесилось: я живу там, живу здесь, езжу туда-сюда. Вся эта тема как-то утратила остроту.
– Я могу только отметить, что свою старую музыку вы сейчас на концертах играете совсем по-другому. В записи она у вас всегда была совершенно бесстрастная, такая по-хорошему отмороженная. А на московских концертах вы все, даже заставки к энтэвэшным телепередачам играли как раз неожиданно эмоционально.
– Это хорошее замечание. Я ведь учился в Гнесинке, потом в Консерватории, и нас всегда учили, что музыка должна что-то такое выражать. И я в какой-то момент стал принципиально стараться играть и сочинять демонстративно бесстрастно. Ну, если понимать под словом «страсть» эмоции, из которых состоит вся наша чувственная жизнь. Не то чтобы сейчас я ими внезапно заинтересовался. Они по-прежнему не заслуживают того, чтобы из них состояла музыка. Это все поверхностные вещи. Если болтаться на этой эмоциональной ряби, то получится просто стандартное исполнение, и все. А есть вещи куда более тонкие и глубокие, и человек способен сделать так, чтобы все эти поверхностные эмоции им подчинялись. В общем, я тогда сознательно ушел на дно, туда, где эта эмоциональная болтанка не слышна, ее просто нет. А сейчас вынырнул.
И теперь эти волны… Они просто не могут меня сорвать с места, я не становлюсь их частью, я совершенно по-другому с ними взаимодействую. Хотя со стороны, наверное, это может быть опознано как «эмоциональное», «чувственное» исполнение. Но внутри оно совершенно по-другому устроено. Не знаю, понятно ли я объясняю?
– Интересно, что вы вынырнули со дна этого своего океана в очень романтическом настроении. Уже даже саундтрек к фильму «Вдох-выдох» получился довольно чувственным, а «Избранные письма Рахманинова» – это совсем такая квазиромантика.[99]
– Да это все ярлыки. Что значит «романтика»? Так привыкли называть музыку XIX века. Ну и, наверное, все, что вызывает воспоминания об этой музыке, тоже можно так назвать. Но какая там романтика? Рахманинов ни хрена романтиком не был, никогда в жизни. Вы попробуйте его музыку внимательно послушать, без всех этих наслоений. Есть же записи, где сам Рахманинов свою музыку играет – это совершенно удивительная, невероятно цельная и наполненная вещь. При этом он сам вдруг идет на какие-то неожиданные смены темпа или динамики, причем там, где он этого вовсе даже и не писал, – просто так, совершенно спонтанно. Это никакая не романтика, за всем этим стоит очень глубокая и настоящая правда, просто она выражается не так, как все привыкли.
– А как вы вообще к нему пришли? Со стороны кажется, что Рахманинов должен находиться где-то на обочине вашего мира. И вы разве не переиграли его во времена учебы в Консерватории? Ведь его все пианисты играют на конкурсах, а вы как раз тогда много выступали.
– Я как-то умудрился вообще его на конкурсах не играть. Мне даже в тот период удавалось играть то, что самому интересно и приятно, а не вот эту стандартную конкурсную программу. Так что у меня с Рахманиновым сохранились очень личные отношения. А почему я с ним встретился… Это ведь тоже вопрос пути. Бывают встречи живых людей, вот как мы с вами сейчас сидим, а бывают встречи сквозь время и пространство. У меня это оказалось связано с моей жизнью в Америке. Я просто ходил там же, где он ходил, потом оказался у его дома, потом зачем-то поехал на кладбище, где он похоронен… Это все происходит за пределами рационального понимания – просто в моей жизни начали резонировать какие-то слои, которые никогда бы не срезонировали, если бы я продолжал сидеть в Москве.
– А для вас было важно, что Рахманинов – это очень русская музыка?
– Ну конечно. При этом – что такое русская музыка? Понятно, что Рахманинова в той же Америке слышат совсем не так, как слышим его мы. Но все вопросы, связанные с национальной идентификацией, в Америке встают, конечно, во весь рост. В том числе становится чуть понятнее про самого себя.
– С вами странная метаморфоза произошла – здесь вы были послом минимализма, музыки если и не чисто американской, то уж, по крайней мере, западной, космополитичной, а в Америке, кажется, стали «типично русским» композитором. Я видел статью про вас в какой-то западной музэнциклопедии, там прямым текстом было написано: «Музыка Антона Батагова безошибочно узнается как русская».
– Ну, может быть. У меня в Нью-Йорке, кстати, возник совместный проект с тибетской певицей Янгчен Лхамо – тибетское пение и моя импровизационная игра на рояле. И там было очень много поводов поразмышлять о том, что такое русское, где оно начинается и заканчивается. Потому что смотрите[100] – певица тибетская, моя игра вообще вроде бы никакой национальной привязки не имеет, минималистическая фактура, импровизационная к тому же. А все равно временами у нас вылезали настолько русские народные интонации… Было непонятно, где кончается Тибет и начинается Россия.
И это очень полезный опыт – потому что выбивает почву из-под ног у любых ожиданий. В Москве все варятся в собственном соку, и в Нью-Йорке, собственно, то же самое происходит – люди десятилетиями приходят в одно и то же место слушать примерно одну и ту же музыку. А вот когда проваливаешься куда-то между, сразу начинаешь по-другому на все смотреть.
– А как вообще случился ваш переход от исполнителя к композитору? Вы ведь были успешным пианистом-виртуозом, брали призы на конкурсах, ваши записи Мессиана и Баха собрали отличную прессу. В какой момент вы перешагнули эту черту?
– Я как-то очень рано понял, что ее надо перешагивать. Даже когда я лет в пятнадцать учил, скажем, Шестую сонату Прокофьева, я очень четко понимал – все здорово, но вот с этими, скажем, четырьмя тактами я совершенно не согласен. И четыре – это еще ладно. А то, как правило, количество тактов, с которыми я был не согласен, но почему-то должен играть, оказывалось угрожающе большим. И я начал что-то такое сочинять сам. Потому что – с какой радости я должен играть то, что написал кто-то другой?
Ну и кроме того, сообщество исполнителей – оно страшно инертное. Когда в театре сейчас ставят классику, ее практически всегда ставят по-новому, это вроде бы само собой разумеется. Ну, конечно, есть Малый театр, но это музейная вещь. А в классической музыке с этим дела совсем плохи. Если, скажем, взять все постановки какой-нибудь классической пьесы за последние тридцать лет и посчитать процент так называемых новаторских постановок и процент консервативных, классических, то пропорция, я думаю, будет минимум 50 на 50.
– А в исполнительском искусстве?
– 98 к 2. То есть если вы возьмете сто исполнителей, из них в лучшем случае два будут делать что-то нестандартное. И то они будут повязаны теми или иными обязательствами. Это ведь все очень жестко устроено. Музыкант через своего менеджера договаривается о выступлениях с концертными залами и фестивалями, и если он попробует заявить необычную программу или необычное исполнение классической музыки, то с ним просто никто дел иметь не будет. Все элементарно боятся потерять деньги, это же конвейер.
Мы вот тут с вами сидим, разговариваем на разные глубокие темы, а все упирается в бабло. Это как-то разочаровывает. Причем то же самое касается и современной музыки – все боятся потерять деньги, все боятся рисковать… Все уже давно привыкли к тому, что такое современная музыка, как она выглядит, в каком виде присутствует на фестивалях. Любой шаг в сторону – это риск, публика может просто не прийти, а рисковать деньгами мало кто любит.
– И ваши ранние опыты – они сразу стали клониться к минимализму?
– Да, в общем-то, да. Понятно, когда я учился в Гнесинке, я интересовался буквально всем, что было за пределами стандартной программы. Больше всего – роком и джазом. В первую очередь – King Crimson, Yes, Genesis… И электроникой – Клаус Шульце, Tangerine Dream. То есть я любил в свое время и Штокхаузена, и Булеза, но в какой-то момент стал четко чувствовать – это мое, а это не мое. Вот Сати, Райх и Гласс – это мое.
– А как вы для себя тогда определяли – что такое минимализм? Что в нем самое главное?
– Ну, во-первых, я упрямо чувствовал, что если делить музыку – очень грубо – на консонантную и диссонантную, то меня все-таки привлекает музыка консонантная. Хотя, например, музыка Мортона Фелдмана таковой не является. По-моему, главное в минимализме – ощущение времени. Состояние сознания, в которое мы входим в процессе слушания и в котором мы продолжаем пребывать, когда музыка якобы заканчивается. Понятно, что тут каждое второе слово нужно заключить в кавычки, в первую очередь сам термин «минимализм», и еще приставить к нему эпитет «так называемый», потому что мы живем в постпостмодернистское время, которое из этих кавычек, собственно, и состоит. Более того, правила игры и заключаются в том, как мы этими кавычками пользуемся и где их расставляем. Я вам, честно говоря, совершенно не завидую, потому что вам-то, конечно, нужно все это как-то называть. А меня сейчас эти определения не слишком волнуют.
В минимализме важно вот это состояние сознания, в которое ты впадаешь вместе со слушателями, а какими средствами ты его достигаешь, вопрос технический. Но вообще-то не только в минимализме, вообще-то, нормальная музыка всегда такой и была, да? Она совершила какой-то странный рывок в сторону где-то в XIX веке, а к 1960-м годам благополучно вернулась обратно, ну, периодически дергаясь туда-сюда. Я вот недавно играл концертную программу из музыки разных веков – там есть вещи и Грига, и Перселла, и Баха, и Гласса, и мои. Они прекрасно сочетаются, более того, когда они стоят рядом, границы куда-то исчезают. И совершенно необязательно, чтобы на все это можно было наклеить ценник с надписью «минимализм».
– Про это состояние писал Гласс в предисловии к «Music in Twelve Parts»: про то, что минимализм отнимает у слушателя два ключевых понятия – память и ожидание. Память, потому что ему не с чем эту музыку сопоставить, а ожидание, потому что он в какой-то момент понимает, что ждать тоже нечего – в ней, если судить старыми мерками, ничего не происходит, она просто длится и длится. И вот когда он понимает, что развития нет и не будет, тут-то он и начинает слушать совсем по-другому – точнее, не слушать, а просто быть.
– Конечно. То же самое писал в свое время и Райх. Интересно, кстати, что и Райх, и Гласс поначалу писали вот такие сопроводительные тексты, а потом перестали – и правильно сделали. Вообще, я понимаю, что к минимализму, особенно сейчас, отношение может быть разное. И Райха, и Гласса многие обвиняют в том, что они обуржуазились, что все это превратилось в коммерцию – причем даже те люди, которые раньше их очень любили.
– Притом что книжка Наймана 1974 года, которая, собственно, и запустила в массы термин «минимализм», называлась «Экспериментальная музыка» – потому что то, что делали и Райх, и Гласс, и Ла Монте Янг, тогда считалось страшно радикальным, находилось где-то на обочине музыкального процесса, никто про них и не писал особенно. В концертные залы их не пускали, на выступления в мастерские и лофты приходило человек по тридцать…
– Ну да, конечно. Никто и подумать не мог, что это может стать не то что коммерческим – а хотя бы известным хоть кому-нибудь за пределами очень узкого круга любителей. Гласс с Райхом оба поначалу писали для одного ансамбля, и в нем, собственно, никаких акустических инструментов-то не было! Были электроорганы, несколько духовых и несколько голосов, все это было усилено, звучало на дикой громкости, практически как чистая электроника. А потом вдруг пошли какие-то бесконечные симфонии, концерты для чего угодно с оркестром, оперы – это многие расценили как предательство. Мне самому нравится далеко не все из того, что сейчас делают Гласс и Райх, но в их музыке все равно сохранилось это самое качество, которое и определить-то нельзя. Внутреннее переживание совершенно другого уровня, глубины… Не случайно ведь они оба глубоко религиозные люди. Гласс буддист, а Райх иудей. Оба они так или иначе опираются на эту самую небесную вертикаль, которая просто избавляет от необходимости оправдываться. Когда есть это ощущение, можно писать музыку хоть для симфонических оркестров, хоть для оперных театров, и играть ее где угодно.
В общем, если она для кого-то выглядит коммерческой – то и пусть выглядит. Время же меняется. Писсуар Дюшана или «Черный квадрат» когда-то считались эпатажем – а что сейчас может быть более коммерческим? Все в культуре только это и тиражируют. И с минимализмом то же самое произошло. Отцы-основатели в этом не виноваты – ну, просто решили в какой-то момент заработать побольше денег.
– И все-таки удивительно, что когда-то минимализм был довольно радикальной практикой, а сейчас самый его расхожий образ – это такая изматывающая фортепианная или симфоническая волна из какого-нибудь арт-хаусного фильма, которая на тебя накатывает, накатывает и никак не накатит.
– Да это ведь к музыке отношения не имеет, это просто сформировались такие ожидания у публики, очередной стереотип. Знаете, когда я был совсем маленьким, я ходил в Большой зал Консерватории на Конкурс Чайковского слушать, как играют те, кем бы я хотел стать. Cидят люди на третьем туре, огромная толпа, как в метро в час пик. И ждут, когда в концерте Чайковского прозвучит фа-минорный аккорд валторн, есть там такой, – потому что музыканты киксанут. И они обычно действительно лажают, и тогда по залу прокатывается такое облегченное «прррр» и хохот – ожидания оправдались, все очень рады. Ну а если вдруг сыграют чисто – хотя этого не бывало практически никогда, – то зал тоже заметно вздрагивает, но по-другому, типа «Ух ты!». В общем, мы вот так до сих пор сидим в зале и ждем, оправдаются наши ожидания или нет.
– Минималисты же как раз пытались слушателя избавить от этих ожиданий – но ничего у них, как сейчас понятно, не получилось?
– Ну, Будда, знаете ли, тоже очень хотел помочь людям избавиться от… Да вот от того же самого, строго говоря. Да и Христос хотел, и другие замечательные существа. Ну и что, много у них получилось? Точнее, у них-то все получилось – может, это мы что-то не так делаем?
– А вас не задевает отношение к минимализму некоторых ваших коллег-композиторов? Известно, что минимализм не любил и не принимал, скажем, Эдисон Денисов. Фелдмана упрекали, что в его работах принципиально отсутствует драматизм. Или вот я недавно брал интервью у Александра Маноцкова, и он там в какой-то момент говорит: «Если уподобить музыку живым существам, есть такие вспомогательные музыкальные существа, вроде анацефалов. Есть же целые музыкальные жанры, которые сознательно отказываются от трагедийности, от катарсиса. Ла Монте Янг, поздний Гласс, вообще многие композиторы-минималисты. Там у произведений есть форма, просто некоторые этажи заполняются орнаментом вместо смысла».
– Честное слово, даже не знаю, как можно на это ответить. Потому что если человек чего-то не слышит или не хочет слышать, я не знаю, как сделать, чтобы он услышал. В Фелдмане нет драматизма?! Боже мой. Драматизм и трагизм его музыки – это такая степень драматизма и трагизма, которую почти невозможно выдержать. Я вообще не знаю, что еще во всей мировой музыке можно сравнить с этим. Когда я играл Фелдмана в Нью-Йорке, ко мне подходили люди и говорили: «Никогда не думал, что это настолько трагично. Это уже за гранью трагедии, это такой уровень осмысления и переживания, что обычные слова тут не работают». А колоссальная стена трагизма в музыке Райха? Трагизма именно в его предельном иудейском понимании. Покажите мне, что можно поставить рядом? Если кто-то не слышит драматизма и трагизма в музыке Райха, Гласса, Пярта, Брайерса, тен Холта, Мартынова, Карманова и так далее – ну что я могу поделать.
А вообще я хочу сказать, что «трагической», «комической», «лирической» бывает только очень примитивная музыка. Примитивная по уровню включенности в мир, отражающая только блики поверхностных эмоций. В любой настоящей музыке одновременно есть все. Вот попробуйте отделить в музыке Баха или Перселла трагизм от всего остального. Это просто детский сад какой-то: давайте тут погрустим, а тут испугаемся, а тут порадуемся. Если речь о том, что музыка – это инструмент для отражения таких состояний, рекомендую саундтреки к Тому и Джерри. А как раз минимализм как никакое другое движение в музыке последних пятидесяти лет способен именно на баховскую, если угодно, глубину отражения разных слоев сознания одновременно. Он просто создан для того, чтобы связывать разные полюса сознания и бытия, чтобы не иллюстрировать, а смотреть вглубь до бесконечности. А музыка, в которой «орнамент вместо смысла» – она вообще преобладает в любых жанрах и стилях. Ее, увы, большинство и в так называемом авангарде, и во всем, что выросло на почве минимализма. Тут дело не в стиле, а исключительно в личности того, кто издает какие бы то ни было музыкальные звуки.
– А ваш приход к буддизму как-то повлиял на вашу композиторскую практику?
– Как ни странно, формально практически никак не повлиял. Я в этот так называемый буддизм пришел, имея внутри на то какие-то причины. И в силу этих причин те вещи, которые я писал ранее, уже были заряжены тем состоянием, о котором мы так много говорили выше. И чужую музыку я тоже исполнял соответствующим образом. А внешне – ну да, в какой-то момент в моей дискографии появились пластинки, на которых буддийские ламы пропевают некий традиционный текст, а я делаю примерно то, что делали композиторы времен Баха. Беру священный текст[101] – а они брали григорианский хорал – и окружаю его своим композиторским своеволием. Конечно, это вполне можно посчитать дьявольской гордыней, у того же Володи Мартынова в книжках это подробно описано и обосновано…
– А в чем тут гордыня?
– Ну как? И григорианский хорал, и традиционные буддийские распевы – это же не сочиненная человеком музыка, это такая проекция ангельского пения на наш человеческий мир. Ну то есть она от Бога. И если я к ней что-то присочиню, простой контрапункт, то это я как бы смею соревноваться с Богом. Что может быть более чудовищным проявлением гордыни?
И более того. Верующий должен держать свое сознание сосредоточенным на молитве, а если он слушает музыку, то от молитвы – то есть от Бога – он в этот момент отключается. А если она ему еще и нравится – он вдвойне попал. Ну а уж если ты сам сочиняешь… Вообще дело плохо. Вроде бы все логично. Но мне все-таки кажется, что гордыня – она как раз вот в этих мыслях: «Я молодец, неправильную музыку не слушаю и не сочиняю, все время молюсь и пою только одобренные церковью вещи». Это что, путь к освобождению? Я думаю, что наоборот.
Мне-то кажется, что ключевой момент один – если чувствуешь внутренние изменения, и уж тем более, если кто-то еще в результате твоей работы их чувствует – все в порядке. Ну и, в конце концов, ламы, с которыми я осмелился сотрудничать, – а это, как ни крути, величайшие учителя нашего времени – к моей работе относятся более чем одобрительно. И даже сами предлагают сотрудничество. Какие еще должны быть подтверждения?
– А для них ваш совместный проект – это вообще что? Их, наверное, собственно музыкальная его составляющая мало интересует? Они же не как певцы с вами записываются. Как они и вам, и себе объясняли, зачем им это нужно?
– Их не интересует музыка как таковая. Их интересуют процессы, происходящие в сознании. То есть их волнует исключительно то, способна ли эта запись произвести какой-то сдвиг в сознании слушателя. Мы с вами говорили об инерции классических исполнителей, а лам очень волнует инерция людей, которые занимаются буддийскими практиками. Вот верующие всю жизнь читают одни и те же тексты в одно и то же время, ставят свечки или благовония, бьют земные поклоны или делают буддистские простирания. А сознание их не то что не двигается вперед, а еще и обрастает новым комплектом иллюзий. В общем, они вроде как практикуют, а при этом двигаются назад. И что с этим делать? А вот такая музыка может, по идее, их подпихнуть, переключить на другой уровень. И это будет действенней, чем еще много лет читать мантры.
– То есть она в первую очередь рассчитана на практикующих буддистов?
– На всех. На тех, кто считает себя практикующим, и на тех, кто никогда в жизни ничем таким не занимался, а просто слушает эту музыку как музыку.
– Именно как музыку? Неважно, что это именно буддистский лама, что он произносит традиционный текст?
– Ну, понимаете, в любой музыке есть разные слои смысла. Когда музыковед слушает Гласса или Баха, он ведь понимает, как эта музыка сделана. А слушатель в зале не понимает. Но мешает ли это ему или, наоборот, помогает? Большой вопрос.
– Но про музыку XX века как раз часто неплохо бы знать, как она сделана, не зря же композиторами написано такое количество сопроводительных текстов. Про то, что, скажем, кейджевская «Музыка перемен» построена на гадании по «И-цзин», как минимум любопытно знать, нет?
– А как слушать Перотина и Гийома де Машо человеку, который плохо знает латынь? И вообще весь корпус христианских текстов? А что делать, если мы незнакомы с системой риторических фигур, на которой строилась вся музыка до Баха включительно? Там ведь каждый интервал, каждое движение по вертикали и горизонтали имеют конкретный теологический смысл. Понятно, что сейчас вся эта эзотерика смысла теряется. Но что делать…
То есть, конечно, можно подходить очень строго. В любом священном тексте за каждым словом скрывается множество смыслов. И даже просто прочитать эти тексты недостаточно – вы от недостатка опыта можете вычитать в них что угодно. Как террористы, которые ссылаются на Коран. И нужно не просто прочитать книжку, а услышать толкование от носителя традиции, причем такого носителя, которому это знание передала бесконечная линия учителей, идущая от Христа, Будды и так далее. В буддизме вообще с этим очень жестко: если линия передачи конкретного наставления по конкретной практике прерывается – наставник умер и никому свое знание не передал – то больше этот текст обсуждать и передавать нельзя. Но сейчас, мне кажется, гораздо важней не проблема того, что мы чего-то не знаем, а проблемы того, что мы знаем слишком много, а толку от этого ноль, потому что мы этим знанием не умеем пользоваться.
Это как я в свое время очень хотел выучить тибетский язык. Уже почти решился, а потом спросил у учителя, стоит в это все погружаться или нет. И он мне сказал: «Не трать время. Ну хорошо, ты сможешь читать в оригинале священные тексты, комментарии к ним – и что? Думаешь, у тебя в сознании что-нибудь изменится?»
– Со стороны кажется, что у композитора-буддиста должны быть какие-то особенные отношения с паузами, с пустотой. У вас же даже была пьеса «Четыре попытки услышать пустоту».
– Да ну, ерунда все это. Есть такой буддийский композитор Борис Борисович Гребенщиков, у него, по-моему, и с паузами все хорошо, и со звуками нормально.
– Но и все-таки. Сложно найти композитора, который бы существовал вне классического канона «я только проводник, я транслирую то, что мне диктует высшая сила». Но ведь для буддиста ничего этого, по идее, не существует – ни высшей силы, ни даже просто такой постановки вопроса?
– Для меня нет вопроса в том, откуда берется музыка, сверху или снизу. А откуда берутся научные открытия? Ну да, какому-то ученому пришла в голову мысль. Но ведь это же не значит, что этого закона природы не было бы, если бы он его не открыл? Музыка, как и законы мироздания, – она просто существует. Вот для того, чтобы эти законы как-то проявились в нашем мире, кто-то должен быть композитором, кто-то ученым, кто-то – Путиным. А так-то, на определенном уровне нашего сознания все есть – и высшие силы и низшие, и ад и рай.
– Мне казалось, буддистский взгляд на вещи – он про то, что ничего этого нет.
– Ну, в эти философские игрушки легко заиграться. Ну да, ничего не существует. Все верно. Но мы же никуда не можем деться от того, что у нас есть тело, правда? И оно подчиняется определенным законам физики, хоть ты тресни. И сознание наше тоже проявляется в определенных формах. Ну вот, скажем, вы журналист и садитесь писать текст. Вроде бы стараетесь, складываете слова, но в какой-то момент они начинают складываться сами – ну, вы же лучше меня знаете. Как-то подворачиваются в сознании правильным образом. Вот что это? Откуда берется? Я бы не стал даже пытаться анализировать. Те вещи, которые у меня действительно получились, – они вообще непонятно откуда взялись. Нет, конечно, я сидел, сочинял, потом записывал, но вот сам этот момент… Можно назвать его «вдохновением», но ведь неважно, как его называть. Это та самая составляющая, которая все определяет. Которая заставляет думать, что все произошло «само». Но, конечно, не само – для того чтобы все случилось, нужно отключиться от повседневного состояния сознания. Высшие и низшие силы тут ни при чем. Вот этот момент смены фокуса – это, наверное, вдохновение и есть. Но об этом нельзя думать. Это как начать думать, как мы ходим, едим… Так можно и в психушке закончить.
– При этом многие буддистские школы, да и не только они, как раз учат постоянно осознавать, как мы ходим, едим и так далее.
– Да, автоматизм и машинальность – это страшные вещи. Мы же все делаем, что называется, на автомате. А включенность должна быть… Осознавать простейшие действия – это очень хорошее упражнение. На чем, собственно, еще учиться осознавать мир и себя?
Какой-то не очень у нас музыкальный разговор получается… Ну и слава богу. Нет, музыка отличная штука, очень сильная. И те же буддийские ламы считают, что заниматься музыкой – это большое счастье. Это удивительный механизм, при помощи музыки можно пережить, понять и осознать очень многое – причем на том уровне, который недоступен ни философии, ни науке.
– То есть для вас сейчас сочинительство – это еще одна разновидность буддистской практики.
– Понимаете, практики, медитации – это просто упражнения. На определенном этапе они нужны, а потом просто перестаешь делить жизнь на практику и все остальное. И просто живешь. Есть хрестоматийная притча про буддийского мастера, которого ученики спросили – учитель, мы столько за вами наблюдаем и, похоже, вы никогда не медитируете? Как же так? А зачем, ответил мастер. Я просто никогда не отвлекаюсь.
* * *
– Вы вернулись в Россию и одновременно к концертной деятельности с фортепианным циклом «Избранные письма Сергея Рахманинова», который был вдохновлен вашей поездкой на могилу Рахманинова. Альбом «Где нас нет», выпущенный четыре года спустя, связан с еще одним русским местом под Нью-Йорком, православным монастырем Ново-Дивеево. Вы специально ищете в Америке впечатлений, связанных с Россией?[102]
– Ничего специально сделать невозможно. Все получается само, в нужный момент. В Америке я в первый раз оказался в 1992 году и за это время мог бы давно съездить к Сергею Васильевичу, но вот как-то не удосужился. А приехал только в 2012 году. И в Ново-Дивеево жена несколько лет подряд меня зазывала, но съездили мы туда только в августе 2016 года. Это не результат ностальгии, я ведь много лет живу между Россией и Америкой, так что когда просыпается ностальгия, просто приезжаю в Россию, и здесь она очень быстро проходит. Точнее, превращается в совсем другие чувства. А когда они переполняют, я уезжаю обратно. Я очень удобно устроился. Последние четыре года я жил в Москве, а в Америку периодически приезжал. А бывало и наоборот. Думаю, это не имеет большого значения.
– За эти четыре года вы много выступали, у вас появилась новая публика, на концертах всегда аншлаги. Это как-то повлияло на вашу музыку и ваше самоощущение?
– Мне сложно отделить музыку от жизни. Ведь даже если мы не хотим реагировать на мир, все равно мы это делаем. А я и не хочу отгораживаться, мне кажется, это нечестно. Все музыкальные процессы у меня встраиваются в систему отношений с людьми. В последние годы вся жизнь происходит в фейсбуке. Нам кажется, что за его пределами тоже есть какая-то жизнь, но уже незнакомая. На самом деле я провожу в фейсбуке очень мало времени, несколько минут в день. Высказываюсь о музыке, о том, что происходит вокруг. И когда выхожу на сцену, люди, которые приходят меня слушать, воспринимают это как естественное продолжение нашего общения.
– То есть вы вместе со своими собеседниками выходите из фейсбука, добираетесь до концертного зала и просто продолжаете разговор.
– Не факт даже, что выходим. Потому что как ни проси перед концертом выключить телефоны, все равно треть зала сосредоточенно смотрит себе на коленки. Я уже думал пустить фейсбучную проекцию на задник сцены – ну пишите уже не таясь и читайте сразу, чего скрывать-то, раз уж вы все равно в телефонах?
Многие музыканты сейчас активно пишут в фейсбуке. Возможно, не от хорошей жизни. По идее, пиаром концертов должны заниматься профессионалы, но у нас с этим дело обстоит плохо. В результате получился какой-то новый жанр, который разрушает стену между музыкантами и слушателями. Каждый человек, сидящий в зале, слушает музыку как нечто очень личное, для него она становится частью собственной истории.
Видите, я отвечаю на ваш вопрос и ни слова не говорю собственно о сочинениях. Потому что неважно, что играть. Мои концерты – это как личный дневник. Многие считают, что общаться профессиональным музыкантам со слушателями не нужно. Они этим даже гордятся – своей недоступностью, занятостью. Какой фейсбук, ну что вы! А раньше все было гораздо проще.
– А мне кажется, раньше эта стена была железобетонной. Пообщаться с Горовицем или Рихтером? Слушателю даже в голову такая идея не могла прийти.
– Все-таки не совсем. Всегда можно было, и даже легко, при некоторой настойчивости, прорваться в артистическую. Или просто встретить Рихтера на улице. Да кого угодно. А сейчас – вы видели, сколько охранников на концертах? В Доме музыки охранник сидит даже на репетициях. Они заворачивают у сцены даже композиторов, пытающихся выйти на поклоны, после того как их музыку только что исполнили. А уж чтобы пройти после концерта в гримерку – я не знаю, что для этого должно произойти. Конечно, раньше не было виртуальных средств прямой коммуникации, но почему-то все равно было проще. Скажем, моя история знакомства с Филипом Глассом началась в 1992 году с двух телефонных звонков. И я просто пришел к нему в гости. Сейчас для этого потребовалось бы совершить множество действий, которые, скорее всего, ничем бы не закончились.
Конечно, за эти четыре года изменилось очень многое, и в России, и в мире, причем в печальную сторону. Теперь не только россияне хотят эмигрировать из России, но и многие американцы – из Америки. Правда, они хотя бы понимают, что любой Трамп – это на четыре года, а у нас другие временные рамки, и перспектив что-то не просматривается. Иллюзий не было и раньше, но все-таки даже четыре года назад сложно было представить то, что происходит сейчас. Поэтому для людей, которых хоть как-то волнует искусство, эта сфера деятельности становится чуть ли не единственным местом для внутренней эмиграции. От хамства, агрессии, вообще от всего. Таких людей немного, но этому узкому кругу сейчас искусство важнее, чем в относительно спокойные времена. И моя – наша – ответственность больше. Эти размышления и превращаются в мои сочинения, концертные программы и записи. Я просто стараюсь быть честным с собой и с людьми, к которым я обращаюсь.
– Вы думаете о том, что им сейчас важно? Что им хотелось бы услышать?
– Тут нет никаких «им» и «мне», это совершенно единая «прослойка», которую раньше называли интеллигенцией. Мы просто посылаем друг другу закодированные сообщения.
– То есть это в чистом виде возвращение позднесоветской ситуации, когда слушатели прорывались с боем на органные вечера, а Бах определенно был больше чем Бах.
– Главное – свою и так неслабую манию величия не раздувать мыслями о том, какие мы пророки и как люди ждут нашего слова, наших концертов, фильмов, статей и постов. Это очень тонкий и интерактивный процесс. Никто, думаю, толком не знает, как жить дальше – и в этой стране, и вообще в мире. Все хреново. Гораздо хреновее, чем мы думали. Но ведь почему-то нам суждено было родиться в этом месте и в это время. Надо это переживать, извлекать какие-то уроки. И в этом смысле музыка для нас сейчас больше чем музыка, кино больше чем кино, и так далее.
Возвращаясь к вашему вопросу, эти четыре года действительно получились довольно интенсивными. Но концертов я играю не так уж много, по меркам любого концертирующего исполнителя это просто ерунда, мне ведь нужно время для сочинительства. Профессионалы играют не переставая, ведь в мире так много всего происходит, что ты и сам должен выдавать все больше и больше. На эту удочку очень легко попасться, сам начинаешь вибрировать на этой частоте, и довольно быстро себя этим разрушаешь. К сожалению, это сразу слышно. Как слышно и обратное. Скажем, тот же самый Курентзис фантастически много работает, но если вы посчитаете количество его концертов, окажется, что их совсем немного.
– А репетируете вы много?
– Вот сейчас я пойду в Дом музыки и буду четыре часа играть на рояле. Но я это не называю репетициями. «Работать», «заниматься»… Даже и эти слова не очень люблю. Я так отдыхаю. Это ведь большое удовольствие. Причем можно отдыхать, уча произведения Моцарта, Баха, Гласса или свои собственные. Можно отдыхать сочиняя, импровизируя. Целый день или час с утра и час вечером. Я не такой человек, который живет по графику, каждое утро просыпается, выпивает кофе и садится заниматься. Я так не умею. Хотя периоды полной бездеятельности я тоже не люблю. Как, знаете, люди ездят в отпуск, к морю… Такого у меня почти не бывает. Все равно в голове что-то сочиняется и придумывается.
– У вас разделены занятия сочинительством и то время, когда вы репетируете? Композитор и пианист внутри вас не конкурируют?
– Работа сама себя конфигурирует. Мне, например, очень нравятся ситуации, когда до обеда я сочиняю, а после – занимаюсь «исполнением» чего-то другого, потому что одно помогает другому. И очень жаль, что многие композиторы (да и исполнители) этой радости лишены. Ведь когда-то сочинительство и исполнительство были одной профессией, и то, что она так странно разделилась, – это очень жалко.
– Но если вам нужно выучить фортепианный цикл Гласса, вы занимаетесь только им?
– Когда как. Скажем, я недавно готовился к новой записи. Это английская музыка XVI–XVII веков, которую я играю по старинным нотам, не делая никаких специальных транскрипций. Эта музыка написана не для фортепиано, а я ее играю на современном рояле. Но в процессе игры я допускаю много всяких вольностей. Они, в принципе, соответствуют старинным правилам – для исполнителей там было очень много свободы, но в определенных рамках. Были специальные импровизационные правила украшения музыки. А писалась она просто как рама, каркас, который потом заполнялся. У меня получается в результате музыка, которая звучит как пост-Гласс, пост-Найман. И одновременно – как музыка тех времен. Чтобы подготовиться, я занимался целыми днями. Не потому, что нужно было выучить ноты. Ведь каждое исполнение – все равно другое. Не чуть громче или чуть тише, а во многом и сами ноты каждый раз получаются другие. Нужно войти в это состояние, чтобы чувствовать в нем себя абсолютно свободным. И на это действительно нужно много времени, ни на что другое отвлекаться нельзя. И это очень здорово. Я очень люблю эти состояния, когда ты чувствуешь себя так, как будто всю жизнь только этим и занимался.
– Вам нужно читать старинные трактаты, чтобы понять, как эта музыка устроена, или вы руководствуетесь чутьем?
– Конечно, нужно. Но это лишь малая часть того, что я делаю. Потому что мы живем сейчас, а не в XVI веке, и у нас совершенно другой опыт – слушательский, исполнительский, сочинительский. Даже руки, которые играют на рояле, – это не те руки, которые играли на старинных клавишных инструментах. В их физическом опыте есть и джазовый пианизм, и рокерский, и ньюэйджевый, и минималистский, и авангардистский. А все вместе оказывается конструктором, из которого я собираю свое сооружение.
– А что для вас сейчас значит слово «минимализм»? После ваших концертных программ мы уже знаем, что минимализм – это не только Гласс, но и Перселл, и Бах, и Берд, и Пахельбель. Кажется, что вы минимализмом просто называете всю музыку, которая вам нравится.
– И да и нет. Вот сейчас для меня Филип Гласс написал новую вещь, я на днях получил ноты, она называется «Пассакалия». А совсем недавно я играл свое новое сочинение в Доме музыки, и у него подзаголовок «Чакона». Просто эти вариационные формы, которые существовали и в XVII, и в XVI веке, и раньше, – это и есть так называемый минимализм. Очень простые гармонические и мелодические основы, повторяющиеся и изменяющиеся вариации. В этом смысле минимализм – это вполне конкретный термин.
Сейчас я записывал всех этих английских джентльменов. Господи, да у Перселла там на трех аккордах, на одной простейшей нисходящей секвенции написана такая вещь, кроме которой мировой музыке больше ничего и не нужно, настолько в ней все есть и все сказано. И то же самое – в каждом сочинении: Перселл, Доуленд, Булл, Берд… Кажется, что стыдно после этого еще что-то писать. Но, конечно, всегда было и будет желание написать что-то еще. И правильно, потому что это как мантра, как молитва. Если ее читали до тебя, это не значит, что тебе обязательно искать новые слова. Ты все равно будешь повторять те слова, которые кто-то уже говорил, но ты их должен сказать сам.
В общем, минимализм – это просто самодисциплина, самоограничение. Сейчас в мире всего очень много, это то, что Рене Генон называл царством количества. Когда всего очень много, то ничего и не хочется. А вот когда у тебя есть очень простые средства, то ты, будучи абсолютно свободен, можешь делать из них что угодно. Ты только обогащаешь себя тем, что фиксируешь свое внимание на простых вещах и обнаруживаешь богатство внутри них. Как ядерная физика идет вглубь элементарных частиц и обнаруживает, что космос внутри, а не снаружи. Это то, что я называю «вечным минимализмом». И в нем все связано – и техника работы с материалом, и техника работы с сознанием.
– То есть если музыка сдержанная, аскетичная и смотрит вглубь себя, этого достаточно, чтобы называться минимализмом?
– Так ведь музыка была такой много веков, если не тысячелетий. Меняться она стала совсем недавно. Из-за чего, собственно, и происходит постоянная и смехотворная война между так называемыми авангардистами и так называемыми минималистами. Авангардисты считают, что их путь развития музыки – самый правильный и современный, а то, что делается в соответствии с вышеописанными простыми принципами, – непрофессионально, несерьезно, ради этого вообще нет смысла быть композитором.
Но ведь человечество за несколько тысячелетий изменилось совсем несильно! Я думаю, что не изменилось вовсе. Мы научились делать телефоны и самолеты, а сознание все то же. И всякие ребята типа Будды приходили к нам, чтобы помочь что-то сделать вот с той фигней в сознании, которая в нем как сидела, так и сидит. Музыка и раньше могла отражать хаотические, разрушительные процессы, которые происходят в нашем сознании. Но вообще-то всегда считалось, что музыка не для этого. Это подразумевали и Пифагор, и Перотин, и Перселл. Музыка дана нам не для того, чтобы фиксировать это пребывание в аду, а для того, чтобы мы оттуда эвакуировались. Хотя бы попытались.
Все произведения всех европейских композиторов строились на этом принципе. Но в какой-то момент музыканты сказали себе, что рассказывать средствами музыки про кошмар и хаос сознания тоже ужасно интересно. Это и правда интересно. Более того, совсем не делать этого тоже нечестно. Попробовали – понравилось. И в результате из этого сложилась практически вся музыка XX века. То есть мы сознательно пребываем в психозе, фиксируем его во всем, в том числе и в музыке. Современной культурой это одобрено, это уже как легализованный наркотик. Только оставаться там опасно и саморазрушительно. Я за последние лет двадцать несколько раз цитировал фразу, которая, по-моему, точнее всего это описывает, и сейчас не удержусь. «Музыка превратилась из средства осознания Бога в средство забывания Бога». Это сказал музыкант и философ Хазрат Инайят Хан в начале XX века.
И многие люди меня в последние годы спрашивают про одно и то же. Что делать, если ходишь слушать такую музыку и действительно чувствуешь внутренний ад, которым композитор с тобой поделился? Особенно если у него есть талант и это и правда на тебя действует? Ведь дальше надо как-то с этим жить, притом что у тебя и своего ада хватает. Может ли художник вообще выходить с этим к людям?
И что я могу тут сказать? Музыка – это свободная вещь, каждый делает то, что может и хочет. Но ответственность – штука важная. Мы просто не замечаем, как все искусство начинает быть только про это. А рядом существует Арво Пярт или Джон Лютер Адамс, который живет на Аляске и пишет вещи с названиями типа «Стань океаном». Конечно, они контрастируют со всей этой ретрансляцией ада. И я очень благодарен, что в музыке нашего времени продолжает быть возможным и такой путь.
– Мне кажется, называть весь авангард музыкой ада и внутреннего психоза – немножко перебор, нет? А Мессиан, которого вы играли? А Веберн, который в каком-то смысле и есть главный минималист?
– Веберн, а также, скажем, Фелдман, Скрябин – это совсем другое дело.
– То есть Шенберг у вас по одну сторону, а Веберн по другую?
– Вот интересно: и Веберн, и Берг разрабатывали то, что открыл Шенберг. Но по-разному. Шенберг открыл просто принцип работы с материалом. Его можно использовать как угодно. Как рондо или любой другой метод. Но Веберн был уникумом. Он-то как раз проник туда, куда Шенберг, создавший этот метод, не пошел – в кристаллизованную сферу чистого сознания, освобожденного от человеческих загрязнений.
Конечно, я делю очень грубо и схематично. И с той и с другой стороны есть огромное количество исключений. И Веберн был исключением, и Фелдман, которого минималистом вообще сложно назвать. И многие другие. Они просто не укладываются в музыковедческие и культурологические схемы. А уж Мессиан с его аннотациями к собственным произведениям, которые кажутся литературным и духовным кичем! С его очень странным, неканоническим соединением католицизма, индуизма и пантеизма и путешествиями в лес для записи птиц. Все это очень наивно и одновременно очень тонко, и глубоко лично – и при этом по ту сторону всего личного, и невероятно сильно. Наверное, ему было не очень важно, как это оценивается с точки зрения того или иного стиля, принципа или техники. А уж если говорить о технике, то ритмическая система, которую он изобрел, была основана на индийских ритмах. И на них же основана система композиции нашего доброго знакомого Филипа Гласса. Вот эта сфера, в которой пересекаются два совершенно разных и непохожих друг на друга композитора, как ее назвать? Можно даже назвать минимализмом, если очень хочется.
– Давайте поговорим про вашу новую программу. Это цикл пьес, вдохновленных письмами игуменьи православного монастыря под Нью-Йорком. Что в этой истории вас так тронуло?
– Думаю, само это место не может не тронуть любого человека из России, достаточно хотя бы раз там оказаться. Это ведь даже не монастырь в привычном смысле слова. Это поле и перелесок, огороженные условным американским заборчиком. Там одна церквушка и несколько сооружений, где живут монахини. Сказать, что он бедный, – ничего не сказать. Представьте себе самые бедные советские дачки размером с одну комнату – это и есть кельи. И рядом дом престарелых. Все старенькое, из видавшей виды американской фанеры, построено в конце 1940-х. А рядом тысячи крестов. Известные дворянские русские фамилии, неизвестные, всякие. Вокруг – шум хайвэя, через дорогу торговый центр. В общем, американская жизнь, а внутри – кусок России, которой больше нет нигде. В этом самом Ново-Дивеево находится та Россия, где нас нет и никогда не будет.
Не то что я ее идеализирую. Понятно, что в той России было очень много всего проблематичного. Но какие-то принципы, какая-то вертикаль была. Какие-то слова, которые сейчас всерьез и произносить невозможно. Вот сказал Алексей Малобродский на суде слово «честь», и это звучит просто смешно и трагично, да? Какая честь в России 2017 года? И вот ты стоишь там и про все это думаешь. Про страну, которой нет. И про ту Россию, которая есть и в которой, к сожалению, сейчас реализуется не лучшее, а худшее, что есть в нашем народе. Потому что у нас есть вещи, которыми мы можем гордиться, а есть то, что надо в себе осознать и, извините за пафос, покаяться. А поскольку мы этого так и не сделали, то у нас есть та страна, которая есть. Лучшее и ценное[103] – конечно, не умирает, но оно живет как будто на оккупированной территории, а торжествует и цветет совсем другое.
Но это я сейчас рассуждаю, а там ты просто чувствуешь моментальный и очень трагический импульс. И при этом понимаешь, что те люди, которые там похоронены, оказались в ситуации, в которой никто из нас, слава богу, пока не оказывался. Даже те, кто сейчас сидит в тюрьме или под домашним арестом. Это пока еще, слава богу, не то. А вот их мытарства… И то, с какой честью, достоинством и мужеством они через них прошли, – это то, что мы с трудом сейчас можем понять.
Ну а потом, совершенно удивительным и случайным образом, я познакомился и стал общаться с потомками Наталии Янсон, женщины, которая провела в этом монастыре тридцать пять лет, с 1953-го по 1988-й, и стала его игуменьей. Они живут в Петербурге, то есть в современной России.
– Вы говорили про внутреннюю эмиграцию, а у этой женщины получилась внутренняя эмиграция в квадрате – в православном монастыре посреди совершенно чужой ей страны.
– И в этом есть какая-то удивительная цельность. Ее муж умер через несколько лет после их переезда в Америку. И ведь Америка вся состоит из эмигрантов, там умеют помогать, есть множество сообществ. Конечно, ей бы помогли выстроить жизнь после смерти мужа. Но для нее так вопрос вообще не стоял. Никакой мирской жизни после ухода любимого человека она себе не представляла и не считала возможным. Она просто радуется, что имеет возможность постоянно быть рядом с могилой мужа. Это для нашего современного сознания даже вряд ли может послужить примером, настолько это из какой-то другой вселенной. Она просто жила и молилась. За мужа, который лежал рядом в земле. И за сына, который остался в Союзе, но с которым она не могла связаться, потому что боялась ему навредить. Они увиделись один-единственный раз в 1970 году. Его выпустили после долгих проверок, и больше потом уже не пускали. И такая молитва – это уже не молитва о близких, а молитва обо всех.
– А как отреагировала семья на то, что выходит фортепианный альбом, основанный на их семейной истории – с фотографиями и личными письмами?
– Я ведь совершенно не знал, чего ожидать, когда познакомился в том же фейсбуке с правнучкой игуменьи. И про письма спросил, ожидая чего угодно – вполне вероятно, отказа. Но поразительно, с какой доброжелательностью они все это восприняли! Как будто мы давно знакомы и давно собирались сделать этот проект. Фактически они стали моими соавторами. Я с ними советовался по поводу каждого слова. А самое интересное, что Михаил, внук игуменьи Серафимы, и Наталия, ее правнучка, сами в Америке никогда не были. Так что я для них стал человеком, который вдруг проложил вот такой неожиданный мостик к их собственной семейной истории – по крайней мере, привез фотографии из монастыря и так далее. И, понимаете, если сценарист сядет писать историю про семью, прошедшую через войну, изгнание, про разлуку, жизнь на две страны и придумает вот такие события и слова – все это будет неправда. Может быть, это будет здорово сделано, но неправда. А эта история – правда. И для нас это важный пример, хотя, повторюсь, мы даже не можем ему следовать.
– Для вас эта история не была поводом еще раз задуматься о собственной идентичности, в том числе композиторской? Наталия Янсон и ее муж твердо понимали, кто они. Вы же, русский минималист, уехавший на родину минимализма, наверняка задавали себе разные вопросы.
– Я себя не считаю эмигрантом. Я был и остаюсь русским музыкантом, который часть времени находится в Америке. Я там нахожусь по собственному выбору и делаю то, что умею делать, именно благодаря тем вещам, которыми приятно гордиться. В первую очередь благодаря Гнесинской школе и Московской консерватории. И моим учителям. Пока учишься, этого не понимаешь, а потом осознаешь, что весь твой фундамент – это русская музыка и русская исполнительская школа. Не нужно про это много думать, они просто есть внутри и все. Ценность Америки – в возможности видеть это со стороны и создавать удивительные творческие союзы. Мне посчастливилось общаться с людьми, которые, собственно, и делают великую американскую музыку. Я делаю что-то свое, они свое, а когда мы пересекаемся, все лучшее в нас усиливается от этого взаимодействия. Но я не сажусь за инструмент с мыслями «я буду сейчас играть музыку американского композитора Филипа Гласса как русский музыкант». И про свою музыку не думаю как про русскую.
– В книге Елены Дубинец, посвященной музыкантам русского зарубежья, есть ваше язвительное эссе про композиторскую эмиграцию. Про то, как постсоветские композиторы летят на Запад, вооруженные всеми современными техниками – додекафонией, минимализмом. А прилетев, обнаруживают, что всего этого там хватает и без них и есть только очень скромная ниша «русских композиторов, пишущих русскую музыку», причем еще надо угадать, что это значит. Это же вы и про себя писали?[104]
– Мне просто кажутся разрушительными сами попытки задумываться, «русский ли я композитор и как мне в этой связи существовать». Если сороконожка задумается, с какой ноги идти, она просто остановится. В Америке есть музыканты абсолютно отовсюду, и они не тащат за собой эти тяжеленные баррикады: «я оттуда-то, щас я тебе покажу, как у нас умеют». Просто каждый делает то, что может. Это все какие-то болезненные русские разборки. Вот сейчас в Петербурге был крестный ход, превратившийся в демонстрацию, и там какой-то городской чиновник сказал, что Россия – это последняя надежда Бога. И это ведь он не сам придумал, эти идеи у нас очень популярны: что Россия – единственная правильная страна, и если бы не она, мир просто бы давно развалился. У нас все самое лучшее, самое главное, самое духовное. Кроме саморазрушения, эти идеи ничего не несут.
Так что в Америке я просто продолжаю свое дело, как умею, не пытаясь что-то перед кем-то изображать. Как только иссякает твоя внутренняя свобода и ты начинаешь думать, что должен соответствовать чьим-то представлениям, как-то вписываться в какую-то жизнь и какие-то правила игры – тут же все сразу заканчивается и больше ничего путного не происходит.
– Ваш альбом, вдохновленный историей православной игуменьи, выходит на фоне борьбы с фильмом «Матильда», появления организации «Христианское государство – Святая Русь» и других интересных событий. Как вы на все это реагируете?
– Весь этот шабаш – не новость. Понятно, что все это не имеет ни малейшего отношения к христианству. Так же как и любой терроризм – к какому бы то ни было духовному учению. Ненависть, насилие и навязывание «правильного» пути – это полная противоположность тому, что говорил Христос и его, так сказать, коллеги. Не думаю, что произведения искусства, как-то связанные с религиозной традицией или с людьми, которые в этой традиции существовали, имеет смысл связывать с этим беснованием, учиненным людьми, по ошибке считающими себя православными.
Я, скажем, буддист. Но ведь и у буддистов тоже, к сожалению, не все в порядке, просто это не так ярко проявляется в новостях. Всегда одно и то же: к людям приходит Будда или Христос или еще кто-то и говорит, что надо бросать заниматься фигней. И объясняет почему. А люди продолжают заниматься все той же самой фигней, только называют того, кто им все это объяснил, Богом. И его именем подписывают все, что хотят. Если мы посмотрим на историю христианства – это же сплошная кровавая бойня. То есть были люди, которые действительно изменяли себя и помогали другим, следуя тому, чему учил Христос. Но они были не в большинстве. Вот сейчас мы играем божественную музыку XVI века, но не надо забывать, что людей тогда просто жгли на площадях за неправильное поведение. Мы каждый день смотрим телевизор или читаем новости и повторяем одно и то же – какой кошмар, ну, это уже просто дно. Но до дна еще далеко, и люди уже много раз были на этом дне. Ползали по нему, катались, пытались оттолкнуться и выбраться, падали снова. Потому что эта сила притяжения дна – она внутри нас.
– А вам интересна православная традиция с музыкальной точки зрения? Знаменный распев, колокольный звон? Важно ли вам было, чтобы этот фортепианный цикл как-то эту традицию отражал?
– Колокольный звон – это одна из самых важных вещей в моей жизни. Я даже в конце прошлого сезона играл целую программу своих сочинений, вдохновленных колокольным звоном. Много лет назад у меня был интересный разговор с Владимиром Мартыновым. Он тогда только начинал писать книги и написал книгу «История богослужебного пения». Там очень подробно сформулирована идея, что православному человеку музыку слушать вообще грешно. Тем более сочинять и играть. Само это слово греховно. Вот есть звуки, которые составляют знаменный распев, их только и можно петь, а больше ничего. Остальные звуки – помысел, грех. И я его тогда спросил: «Володя, а как же колокольный звон? Это же не знаменный распев, чем он тогда отличается от греховной музыки?» И он не нашелся, что мне ответить. Конечно, певческая православная традиция – совершенно великая. А знаменный распев – это вообще другая аскетическая вселенная по сравнению с той чувственностью, которая есть в пении в современной православной церкви.
В «Письмах игумении Серафимы», я думаю, кое-что слышно из этого, колокольный звон уж точно. Но вообще она и по своему строению, и по духу, и по принципам работы с материалом скорее рокерская – как и «I Fear No More» или рок-кантата «Тот, кто ушел туда». В ней, если покопаться, вся моя любимая рок-музыка второй половины XX века[105][106] – Emerson, Lake & Palmer, King Krimson, Cocteau Twins, да миллион всего.
– Вообще, есть ощущение, что вы после возвращения как-то немного расслабились и вспомнили свои юношеские увлечения – можете сыграть на концерте кавер на Pink Floyd, вернуться к группе Yes…
– Да вы понимаете, рок-музыка – это ведь ценнейшая музыкальная традиция. Звукоизвлечение, культура прикосновения к инструментам, звуки гитар и примочек, клавишных – все это складывается в свой канон. И молодые группы в него что-то привносят, а что-то просто повторяют, не считая, что копируют. Как и положено существовать в традиции.
– Я правильно понимаю, что альбом с письмами игуменьи – это отчасти ваше политическое высказывание? Что путь ухода, молитвы, внутренней эмиграции кажется вам более продуктивным способом реагировать на окружающий мир, чем путь борьбы?
– Я ведь совершенно не собирался писать вещь к столетию 1917 года. Само получилось. Конечно, мысли политического свойства тут не могут не возникать. Но вот смотрите, та же Америка сейчас оказалась перед лицом практически фашистской диктатуры очень странного человека. Однако американцы имеют вполне законные способы протестовать и пользуются ими. У нас же даже если вы выйдете на улицу и встанете с плакатом «Доброе утро», вас немедленно повинтят. Путь борьбы в наших условиях утыкается в заведомую безысходность.
И дальше начинаешь вспоминать хрестоматийные слова: мудрость заключается в том, чтобы понять, что ты можешь изменить, а чего не можешь, и научиться отличать одно от другого. И если ты не можешь… Молитвенный ответ на вопрос «что делать», возможно, наивен, но это единственно возможное действие, которое дает шанс человеку оставаться человеком. Все остальное – путь в заблуждение, где мы добровольно соглашаемся сказать что-то такое, что, как сами прекрасно понимаем, является обманом. И обман нанизывается на обман. Но можно его не принимать. Я не люблю слово «смирение», потому что оно влечет за собой другие обманные формулировки, типа «я ничего не могу изменить». На самом деле, изменить все-таки можно, еще как. И если к этому молитвенному способу отнестись честно, им можно свернуть горы.
Конечно, это не самая простая мысль. А какая простая? Пошли машины поджигать? Ну вот сделали в Москве парк «Зарядье». Я там не был, не берусь его хвалить или ругать. Но люди его уже отчасти изуродовали. Вот это современная Россия. Воровство, ненависть. Все лучшее в ней теплится, как трава сквозь асфальт. Что тут сделаешь? Наверное, ничего. И что же дальше? А дальше возникает вечное пространство помощи – кто-то кому-то поможет, накормит, сделает что-то простое вот прямо здесь и сейчас, не глобально. Не надо читать никаких текстов, чтобы это понять или почувствовать. Все очень просто. И, наверное, принципиально ничего не меняет. Но это меняет то, как человек себя чувствует. А значит, меняет все.
Владимир Раннев
Родился в 1970 году в Москве. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию (класс композиции Бориса Тищенко) и Высшую школу музыки Кёльна (электронная музыка, проф. Ханс Ульрих Хумперт).
Стипендиат фонда «Гартов» (Германия, 2002), лауреат премии Сальваторе Мартирано Университета штата Иллинойс (США, 2009), премии Джанни Бергамо в области классической музыки (Швейцария, 2010), Гран-при премии Сергея Курехина (опера «Два акта», 2013). Номинант премии «Золотая маска» (Эпизод V оперного сериала «Сверлийцы», 2016). Лауреат российской оперной премии Casta Diva (опера «Проза», 2017).
Музыка Раннева звучала в России, Украине, Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах, Великобритании, Италии, Финляндии, Польше, Японии и США. Среди исполнителей: Государственный академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга, хор Смольного собора, eNsemble, МАСМ, Студия новой музыки, ансамбли Questa musica и N’Caged, Nostri Temporis (Украина), Orkest De Volharding, Amstel Quartet (Нидерланды), Ensemble Phoenix Basel, Kontratrio, Proton Bern (Швейцария), Mosaik, Clair Obscure, хор Singakademie Oberhausen, хор Cantus Domus (Германия), ансамбль NAMES (Австрия), 2e2m (Франция) и другие. Участник группы композиторов «СоМа». Преподает в Санкт-Петербургском государственном университете. Автор ряда научных статей по теории музыки, опубликованных в России и Германии, и многочисленных музыкально-критических публикаций. Живет в Санкт-Петербурге.
Беседы состоялись в 2014, 2016 и 2018 годах.
Фрагмент партитуры оперы «Два акта» (2012). Владимир Раннев: «Это эпизод из первого акта. Здесь акапельный фрагмент: восемь Гамлетов (H), восемь Фаустов (F) и душа/дух (сопрано, ее партия в самом низу). Гамлеты – тенора, Фаусты – баритоны».
– Часто говорят, что современные композиторы пишут сложную музыку. А что это такое – сложная музыка, как вы это определяете?
– Сложная музыка занимается тем, что находится за границами привычного, обыденного. Нормального. Обычно нам в музыке комфортно, когда она, как говорится, «нашего засола огурец», когда мы знаем, что будет дальше, когда она предсказуема. А предсказуемость – непременное условие комфорта. Когда мы предполагаем, а лучше всего – знаем, что будет, – это норма, нормально. И нам в объятиях нормы хорошо, покойно. Но норма редуцирует критическое отношение к реальности. И есть опасность, что нормальное, хорошее, доброкачественное может превратиться, если потерять бдительность, в злокачественное. Обыденное и привычное надо все время испытывать пограничными, сложными случаями. Потому что наша жизнь устроена сложно. Если мы теряем ощущение этой сложности, то перестаем видеть механизмы, которые приводят мир в движение. И нами тогда легко манипулировать. А для познания сложного нужны сложные инструменты.
Сложное искусство стоит на страже. А эксперимент – то есть работа с неведомым – двигает нас вперед и вглубь. Сложная музыка в чем-то сродни фундаментальной науке: моментальной отдачи нет, чем занимаются физики-теоретики – непросто понять. Но история науки учит нас, что отдача все-таки есть, просто с громадным временны´м лагом. И результат, может быть, где-то в стороне, неожиданный, побочный, – но будет. Сложный человек формирует сложную культуру и ею же формируется. А упрощение приводит к варваризации.
И нужно понимать, что потребителем и заказчиком сложной музыки является совсем не обязательно рафинированный меломан. Скажем, в Германии, где со сложной музыкой дела обстоят относительно благополучно, ее существование оплачивает простой бюргер, который понимает, что его налоги должны идти в том числе на сложное, новое, странное – как лекарство от варваризации. При этом он понимает, что вовсе не обязан это сложное и странное любить. Просто оно должно быть. Это меняет ландшафт, и не только культурный – социальный, экономический.
– То есть в Германии такая крепкая экономика, потому что они в свое время открыли Летние курсы новой музыки в Дармштадте?
– Все взаимосвязано. Не сделаю открытия, сказав, что современного немецкого гражданина создало сложное послевоенное немецкое искусство. Вспомните послевоенные цитаты английских и американских политиков: немецкую нацию нельзя перевоспитать, это стадо, вечно требующее себе кайзера или фюрера. Как мы знаем, этого не случилось. И современная музыка была одним из факторов произошедшей с немецким обществом трансформации.
Конечно, одного Дармштадта было бы недостаточно. Москве не хватило усилий одного Капкова, а российской новой музыке – одной композиторской академии в городе Чайковский, которой руководит Дмитрий Курляндский. Важно, чтобы это происходило повсеместно. Чтобы был социальный консенсус: да, это нужно обществу, и оно готово за это платить. В Германии на это ушли десятилетия, но это работает.
Вспоминаю, как директор питерского Гете-института Фридрих Дальхауз не мог понять, зачем его предшественник устроил концерт одной популярной оперной певицы с благонадежной программой – Моцарт, Верди… Зачем за это платить Гете-институту, то есть фактически ему как налогоплательщику? У певицы есть импресарио, и широкая публика сама должна хлынуть на ее выступление, что и происходит – это же совершенно коммерческий проект. И Дальхауз, к его чести, устраивал совсем другие концерты: например, немецкий ансамбль современной музыки играет российских композиторов, проживающих в Германии, а перед концертом – встреча с ними и разговор, как сегодня две культуры друг на друга влияют и взаимопроникают. Эту затею окупить невозможно, но для этого и существуют места вроде Гете-института.
Или недавно я как куратор делал для Французского института музыкальный проект на основе писем русских эмигрантов, ставших героями французского Сопротивления. Тема тяжелая, в текстах музыкальных сочинений использовались их последние письма из концлагерей и гестапо. Как это может окупиться, кто за это должен платить? А с другой стороны – какой должна быть музыка, соответствующая этой теме? Вот мы говорили про границы привычного… В этом проекте волей-неволей приближаешься к границе непостижимого. Что такое быть узником концлагеря или ГУЛАГа? Мы сталкиваемся с чем-то по-настоящему страшным, запредельным, непознаваемым. Невозможно это явление просто назвать и проиллюстрировать, в него нужно внедриться, хотя бы попытаться. Ведь, как известно, история искусства – это процесс познания мира, в том числе и таких радикальных его проявлений, где познавательный процесс обостряется.
У Бродского есть эссе «Катастрофы в воздухе», где он рассуждает о русской литературе XX века. Там он замечает, что Солженицын в «Раковом корпусе» описывает обстановку тюремных интерьеров совершенно буднично, как Тургенев описывал какую-нибудь барскую усадьбу. Он это делает как бы посюсторонне. И это, по мнению Бродского, не работает, потому что кошмар и шизофрения лагерного опыта – в едва ощутимых мелочах, которыми Солженицын пренебрегает, и в интонации их подачи.
Вот, скажем, есть преследовавшая всякого советского человека линия в казенных учреждениях где-то на уровне глаз, отделяющая грязно-зеленую краску стен от грязно-белой побелки. Помню, когда я впервые ее увидел в армейской казарме, то окончательно понял, что попал. В армии можно быть разным – хитрым, жестоким, сильным, слабым. Но на два предстоящих года ты никуда не денешься от этой линии. Эта обреченность действует сильнее дедовщины. Я был вроде хорошим солдатом, отличником боевой и политической, дослужился до ефрейтора, все нормально. Но ощущение обреченности меня не покидало, именно эта линия стала для меня армейским Левиафаном.
Это вроде бы мелочь, но на самом деле ты сталкиваешься с чем-то, что выше этики, выше твоих представлений о добре и зле. За это очень трудно уцепиться. Но эти-то пограничные явления и определяют нашу судьбу.
Как выразить в музыке радикальный трагический опыт, который акцентированно проявляет в человеке человека. Просто подобраться к таким темам – очень трудная задача. Но необходимая, ведь мы продолжаем жить в этом же мире. Все это никуда, в сущности, не ушло – приближается, удаляется, мерцает, но не пропадает. Мы должны всегда быть начеку.
Сама эта идея – постижения реальности через звуки – изощренно сложна. И здесь очень много рисков. Не только в смысле внешней успешности – странно ожидать, что на этом можно снискать славу или заработать. Но и в смысле внутреннего ощущения «получилось – не получилось». В этом процессе неудачи не менее важны, чем удачи. Какие-то сочинения широкая публика оценит сразу и с удовольствием, вещи более сложные и дискомфортные – не сразу или не оценит вовсе. И это вопрос не только композиторских амбиций. Это вопрос еще и существования общества, которое позволяет себе оплачивать рискованные, даже порой неудачные, но важные для своего существования экскурсы в самые болезненные темы. Оно просто берет на себя эти риски – через налоги, фонды, спонсорство, минкульт, как угодно.
– Вы все время возвращаетесь к образу «широкой публики», которая не сразу оценит, не всегда поймет. А на самом деле хотелось бы, чтобы оценила и она?
– Как пел Егор Летов, «если б я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков». Вот и я себя не выбирал, как-то жизнь это сделала за меня. Меня никогда не заботили статус, успех, жизнь в мармеладе, ну и чужое мнение по поводу собственной музыки тоже. Я пишу, как Стравинский говорил, «для себя и своего гипотетического альтер эго». Или, как мой коллега Борис Филановский это перефразировал, «для себя и того парня». Есть ли этот парень в аудитории, среди «широкой публики» – неизвестно. При этом существуют, конечно, профессиональные критерии, и мне очень важны мнения коллег, которым я доверяю. В прикладных сочинениях, скажем в театре, – важно мнение команды. Там важно решать не только свои, но и общие задачи, их надо постоянно боковым зрением отслеживать. Есть мои представления о режиссере, о пьесе, о том, какая публика ходит в этот театр, и из этого пазла складывается работа. Но в ситуации «пиши что хочешь» я не могу представить себе зрителя. Невозможно хотеть понравиться. По гамбургскому счету, только моя внутренняя самооценка мне и важна.
– То есть когда вы сидите в зале и слушаете, как публика аплодирует вашему сочинению, ваше сердце не расцветает розами.
– Это приятно, это как бы бонус, но я работаю не для этого. А если кричат «браво» недостаточно громко или аплодисменты жидковаты, то что тогда – ноты в помойку? Бывает так – пишешь вещь, ни на что вообще не рассчитывая, типа «да кому это нужно», а потом бах – и вдруг успех. Так случилось с оперой «Проза»: она внезапно вошла в репертуар «Электротеатра», на нее хорошо продаются билеты, у нее сложилась довольно благополучная биография. Хотя про эту оперу нельзя сказать, что она в стиле «новая прелесть» – этот термин придумал Леша Сысоев, мой друг и прекрасный композитор.
– У этого вашего альтер эго вкусы шире, чем у вас?
– Это тот незнакомец, который всегда сидит внутри нас и ведет с нами бесконечный диалог. У одного моего приятеля была песня со строчкой «вечно жующий жадный рассудок». Вот это он – очеловеченный рефлексивный зуд. А почему я такой, а почему другие такие. Присутствие этого незнакомца ты постоянно ощущаешь, но описать его довольно сложно.
Вообще, себя сложно анализировать. Я не знаю, где заканчиваюсь как слушатель и начинаюсь как композитор, мы же в одном теле, у нас один мозг, один опыт. Конечно, я пытаюсь отстраниться… Композитор – это ведь от латинского «составлять», во многом сугубо техническая профессия. Составить можно даже меню сегодняшнего ужина. Композиторы – всего лишь люди, мы хладнокровно высчитываем, просчитываем, любая, самая «нечеловеческая» музыка тщательно сконструирована. И Палестрина, и Бах сидели, считали, выписывали, еще как. Но понятно, что мы несем в себе собственный опыт и не можем из него выпрыгнуть. Даже дауншифтеры, которые уезжают в Гоа и притворяются детьми в пионерском лагере, вокруг которых только солнце, море и песок, в глубине души понимают, что все это обман. Может, через сто лет можно будет править мозг, одни воспоминания убирать, другие добавить, как герою Шварценеггера в «Total recall». А пока никак – из себя не выпрыгнуть.
Когда я пишу музыку, я не могу прекратить быть слушателем. И все равно есть что-то стороннее непознаваемое, что меня ведет. Даже в сухом процессе работы за столом есть загадка. Что-то неподвластное моему контролю.
– Проще понравиться себе или публике?
– Себе – сложнее. Я же не дурак, я понимаю, удалась мне вещь или нет. Это есть у всех. Бывает, состоявшийся известный композитор вдруг в частном разговоре кривится – а, это сочинение… Не хочу про него говорить. И оказывается, что и у него есть внутреннее недовольство – недотянул, недожал. А мне, допустим, оно нравится и кажется, что там все здорово. В каком-то смысле сочинения – как дети, принадлежат родителям только до определенного возраста. А потом – все, адью. Быть по отношению к своим вещам такой еврейской мамой, которая желает им только добра и никак не может отпустить, – хуже не придумаешь.
Музыка начинает жить своей жизнью, и в истории музыки есть много примеров, когда эта жизнь оказывается довольно неожиданной. Мы знаем, что «Кармен» провалилась на премьере. Потом был суперуспех, но началось-то все с провала. А Берг не мог понять, что он сделал не так, раз его «Воццек» был так благосклонно встречен публикой.
– Бывает, что думаешь про свою вещь: «Недотянул», а публика принимает на ура?
– Да. И, в частности, поэтому успех у публики в целом мне не очень важен, важна референтная группа. Бывало, что принимали удачно, а друзья и коллеги как-то многозначительно набирали в рот воды. И наоборот – прием холодный, а свои искренне хвалят.
Вообще, понятие успеха сегодня довольно условно, ведь мы живем в очень пестрых субкультурных средах. Вот есть протоиерей Иларион, священник с амбициями композитора, который печет как блины Страсти и разные околоцерковные сочинения. С моей – и почти всеобщей – точки зрения, это какой-то гламурный кошмар, фикция и пошлость, сделанная левой ногой. Но ее исполняет Спиваков в Большом зале Консерватории, в зале сидит культурный бомонд, по ящику ее транслируют. То есть формально это сверхуспешный композитор, и остается только гадать, что думает об этом буквальном воплощении андерсеновского голого короля его исполнитель – сам Спиваков. Ведь у него тоже есть уши. А по соседству, в Малом зале, совершенно другая публика слушает совершенно другое. А если вы полетите в Пермь на Дягилевский фестиваль, то окажетесь там, где невероятное значение придается антуражу, атмосфере – ночные концерты, утренние, в кроватях, под роялем, с танцами, какие угодно. И музыка в этих обстоятельствах воспринимается совершенно иначе. Все это какие-то разные галактики.
Мы сейчас очень раздроблены, типов восприятия – невероятное количество. Раньше ведь такого не было, был довольно обобщенный тип слушателя, и общий для всех, мейнстримный способ восприятия музыки. Критики и музыканты второй половины XIX века описывают его страшно подробно – достаточно почитать критические статьи и письма Стасова, Серова, Чайковского. А сейчас все атомизированы, на одной лестничной площадке могут жить люди с кардинально отличными представлениями о жизни. Наблюдать за этим невероятно интересно, но расчетливо подстроиться, не потеряв себя, мне кажется, невозможно.
– Можно ли, по крайней мере, описать, что сейчас происходит в современной музыке? Нет мейнстрима, нет заметных течений, но что-то же есть?
– Недавно в Санкт-Петербургском университете, где я преподаю, гостья из Вашингтона, виолончелистка и музыковед, читала лекцию «Современная музыка. Где мы сейчас находимся». У нее была красивая презентация в PowerPoint, как у всех американских профессоров, со схемами, таблицами. XX век с его бесконечными «-измами» у нее просто отлетал от зубов. А в XXI стройной картинки не вырисовывалось. Особенная проблема была с «-измами». Композиторов-то много, но таких, которые определяли себя через какое-то большое понятие типа спектрализма или сонористики, найти трудно.
Продуктивнее говорить о типах мышления современных композиторов, о техниках и приемах, с помощью которых они этот тип мышления воплощают. Как говорил Поль Валери, стихи состоят не из идей, стихи состоят из слов. И лучше вслушиваться в слова, а не стоящие за ними идеи или «идеи». Композиторы мыслят по-разному, и всегда интересно подсматривать за тем, из чего та или иная мысль сделана – заимствования чужих форм, работа с чужим материалом, работа с новыми медиа: видео, интерактивная электроника или экскурсы в специфические жанровые и субкультурные среды. Типичный пример – немецкий композитор Александр Шуберт, который находится в постоянном диалоге с клубной электронной музыкой. Он берет шаблонные приемы из техно и начинает их кромсать, дробить, вставлять неожиданные паузы, так что образуется совершенно иной синтаксис. Танцевать под его музыку, понятно, нельзя, это очень своеобразный язык. Или вот страшно распространенное явление на композиторской кухне – редукция, когда композитор сознательно отказывается от каких-то элементов музыкального языка, игнорирует их. И конечно, очень многие работают с так называемыми расширенными техниками, то есть поиском неожиданных тембров у привычных инструментов – скрипки, флейты и прочих.
Понятно, что среди нас есть композиторы более академического толка, которые занимаются сугубо конструктивными вещами. Ловят что-то в своем собственном воздухе, месяцами не вылезают из-за стола, а потом раз – и партитура. А есть те, кто находится в постоянном критическом диалоге с окружающим миром, все время в гуще происходящего, сотрудничает с театром и художниками, печет как пирожки какие-то перформансы. Вообще, можно сказать, что есть композиторы, которые думают звуками, а есть любители перформатизации, вторжения в смежные среды. И среди последних очень популярна работа с заимствованиями, создание для них нового контекста. И здесь нет и не может быть никакой иерархии – кто выше, солиднее или, извините за пошлость, «духовнее». В числе тех и других есть таланты и бездарности, блестящие вещи и хлам.
– Но ведь заимствования были во все времена, без них просто не было бы истории музыки.
– Конечно, включение композитором чужого материала в собственный творческий процесс – это распространенное явление. Порой даже неизбежное, как в случае cantus firmus, канонической мелодии хорала в средневековой церковной музыке. В эпоху барокко перетекание тем от композитора к композитору вообще не считалось зазорным. Но в XX веке заимствование стало специфическим средством смыслообразования, такого раньше, пожалуй, не было. Композитор, заимствуя чужое в виде прямой цитаты или тонкой стилистической аллюзии, помещает свой материал в определенный культурологический контекст. Цель заимствования здесь – прибавление смысла, невозможное без взаимодействия нетождественных друг другу составляющих. Причем формы заимствования могут быть очень разными – сплошное цитирование с включением собственного материала, использование точной или видоизмененной цитаты, автоцитаты, стилизации, пародии… У позднего Шостаковича много цитат, и, помню, мы долго спорили с моим коллегой Борисом Филановским: Пятнадцатая симфония – это постмодернизм или коллаж? Я отстаивал постмодернизм, а сейчас все-таки склоняюсь к коллажу, потому что для постмодернизма, который тоже много работает с чужим материалом, важно смысловое переозначение. Скажем, у Шостаковича лейтмотив судьбы из вагнеровского «Кольца Нибелунгов» так и остается лейтмотивом судьбы, каким он закрепился в истории музыки – тревожным, мрачным, все как Вагнер прописал. Для постмодернизма же нужна смена знака, как часто бывает у Леонида Десятникова, тоже любящего цитаты: была веселая песенка, стала кромешным адом и ужасом. И наоборот.
Что главное в этих типах заимствований? Они должны быть опознаны слушателем. Либо просто узнаны – ага, это из Вагнера. Либо считаны как чужое. Я так однажды саундтрек к «Строгому юноше» слушал, по просьбе петербургского искусствоведа Аркадия Блюмбаума, он писал про это кино. Там есть эпизод с репетицией какой-то оперы вердиевского типа, но если вслушаться, понятно, что с ней что-то не то. Какие-то стыки, связки, швы – не могло быть это сочинено во времена Верди. И правда, там не Верди, а музыка Гавриила Попова, который, выполняя режиссерскую задачу, сделал очень тонкую стилизацию. Если же заимствование не считывается, то ничего не работает – получается в лучшем случае наивное подражательство, в худшем – просто плагиат. Скажем, некоторые петербургские композиторы второй половины XX века звучат как дурные эпигоны Шостаковича, но это не вина их, а беда. Они не виноваты, что у Шостаковича оказалась такая мощная сила притяжения, что он так наследил в душах своих учеников, что они не смогли выбраться из-под его влияния. Это не заимствования, это просто недостаток индивидуальности.
– Некоторые из описанных выше техник на концертах современной музыки встречаются так часто, что тоже кажутся недостатком индивидуальности. Например, когда в вокальной партии вычитаются некоторые фонемы и вокалист словно бы давится звуком. Вообще, распространенная претензия к современной музыке – что все это придумано не вчера и за последние десятилетия из этих техник, кажется, выжали все, что можно.
– Это только так кажется. Легко представить себе композитора-романтика XIX века, который точно так же бурчит, что из контрапунктов уже все выжато. Ну в самом деле, сколько можно, уже и так и сяк, живого места нет, одно суховатое умствование. Уже был и строгий стиль ренессансной полифонии, и барочный стиль, чего там ловить еще? И действительно, мы знаем, что романтиков, за редкими исключениями, контрапункт не интересовал. А потом наступает XX век, и вся серийная музыка, вся работа Шенберга и его учеников оказывается продолжением техники контрапункта на новом витке. И Шостакович внезапно полюбил вариации на basso ostinato, стал использовать эту форму и в операх, и в симфониях.
То же самое и с расширенными техниками. Ведь когда-то игра на скрипке пиццикато тоже казалась блажью и выжиманием из скрипки того, к чему она не предназначена, – есть у вас смычок, вот и играйте смычком, зачем пальцами-то щипать, что за ересь? Для этого существует лютня. А теперь понятно, что техника стала частью истории музыки. И это «выжимание» продолжается по сей день. Потому что это не прихоть, а насущная потребность поиска нового.
– Раньше у музыки чаще всего было очень конкретное назначение – она писалась для церковных служб, для танцев и вечеринок, для определенного заказчика. Для чего музыка пишется сейчас?
– Мне кажется, глобально ничего не изменилось. Как известно, у музыки существует три функции: магическая, коммуникативная и эстетическая. Сейчас мы чаще всего слышим музыку в пространстве светского концертного зала, ну или дома в записи, и там доминирует эстетическая функция. Если она звучит в церкви, доминирует функция магическая, сакральная, и прихожанам, вообще-то, грешно придираться, что поют не очень хорошо. Надо, чтобы было спето правильно, то есть согласно канону, тогда таинство обряда сработает. А в зале никакой жанрово-прикладной функции нет, мы просто сидим и получаем удовольствие как можем.
– То есть те, кто в консерватории мысленно возносятся к небесам от удовольствия, получают свои магические ощущения контрабандой?
– Да, и вообще-то, не должны бы. Воцерковленный человек вам скажет, что религиозная музыка, исполненная светским хором в концертном зале, не работает. Любой религиозный обряд синкретичен, и для того, чтобы произошло то действие, для которого этот обряд предназначен, должно быть все как надо – и певчие, и облачения, и ладан, и прочий антураж. А если звучит здорово, но сидишь ты при этом в зале Чайковского – это не то.
– А когда получаешь сильное переживание от концерта, это та самая эстетическая функция?
– Строго говоря, да. Ну если формально подходить. Коммуникативная функция тоже важна: на какой концерт ты пришел, с кем рядом сидишь, как вы реагируете, что говорите после. Правда, музыка нас не объединяет, а скорее разъединяет. Вопрос «Что ты слушаешь?» скорее способен тебя отдалить от собеседника, чем сблизить. Тем более что, как мы заметили ранее, в академической музыке сейчас нет мейнстрима.
– Но все привыкли жить в мире больших идей и течений, и кажется, что если их нет, то все страшно измельчало.
– Надо от этой иждивенческой привычки – жить в мире больших идей и течений – освобождаться, и больше уделять внимания не размеру идей, а их сути. А про «измельчало» – это любимая идея Владимира Мартынова, совершенно смехотворная. Пожалуй, единственное, с чем я у него согласен, – композитор перестал быть властителем дум. Его социальная роль сильно редуцировалась. И слава богу! Что в этом плохого? Только хорошее. Мартынов бесконечно убивает в себе советского композитора, но мыслит именно как советский интеллигент – рассматривает историю искусства как историю шедевров. Как будто мы скачем по кочкам от шедевра к шедевру. А сейчас где шедевры, восклицает он, где нетленки?
Но почему обязательно должны быть нетленки? Почему глыбища и эпохалки? История искусства – это история познания. Это процесс, а не фабрика по изготовлению шедевров. Человек топчет землю, чтобы накапливать опыт, перерабатывать его – вслушиваться, всматриваться, оценивать – и передавать следующим поколениям. Искусство – один из типов артикуляции этого опыта. В том числе музыка. Это не вопрос наличия шедевров, тем более их количества. Вот «Времена года» Вивальди – шедевр? Но как-то до середины XX века европейская культура без него обходилась. А помните Шнитке? Какие были фестивали, как ломился народ, как висели на люстрах. И я там висел, на этих люстрах! Шедевры? Может быть, но потом вдруг – как кошка слизала. Где его застать? Шнитке просто пропал с радаров, исчез из концертной практики. Значит, что-то поменялось в мире. Он остался памятником своему времени, это классная музыка, лично я ее очень люблю. Но этой «кочки» (возвращаясь к Мартынову) больше нет, или на время, или навсегда – не нам при нашей краткосрочной жизни судить. Музыка – это живой процесс перетекания идей, техник, эстетик. Вырастет из чего что-то – хорошо, не вырастет – тоже хорошо. А то выходишь иногда из концертного зала и видишь серьезных, упакованных в дорогие костюмы композиторов, которые бросают друг другу небрежно про только что услышанное: «ну, это, конечно, не Девятая [симфония Бетховена]». Ну хорошо, не Девятая, и что? И слава богу, что не Девятая.
– Всякий ли композитор, который сегодня сочиняет, – это современный композитор? Всякая ли современная музыка – современная?
– Современная музыка – это артикулирование именно сегодняшнего состояния дел. Наших болей, наших переживаний и радостей, нашего опыта. Почему язык искусства все время меняется? Потому что, извините за банальность, меняется жизнь, и для работы с ней, новой, необходимы новые инструменты. В космосе неудобно есть вилкой и ложкой, но это можно узнать, только оказавшись там. Вот приходит XX век – новые индустрии, новые изобретения, революции, миры рушатся и рождаются заново. Чем с этим справляться композитору, шопеновскими арпеджио? Формируется другой язык, сложные конфликтные эстетические среды. Так вот если в музыке пульсирует этот нерв современности, если вы чувствуете, что она про сегодня, она современная. А бывает, что музыка тебя сразу опрокидывает в прошлое. Как клавесин с basso continuo отсылает нас куда-то к барокко, так и типичная сонористика типа «Lux Aeterna» – хорового реквиема Лигети – отсылает нас к 1960-м годам. Это изумительная музыка, я ее обожаю, но давайте признаемся – это уже не современная музыка. Потому что мы уже полвека как не в 1960-х.
– В недавнем интервью пианист Алексей Любимов сетовал на истончение «величия и масштаба» в современной музыке, приводя в пример «даже таких классиков, как Булез и Штокхаузен». Сложно не услышать в этом не только сожаление, но и разочарование.
– Да, симптом подмечен, но тут важна его природа и оценка. Это не истончение «масштаба», а фрагментация: сегодня нет никакого универсального смыслового поля, которое можно было бы охватить прямым обобщающим высказыванием. Когда-то было, а теперь нет, и причин сожалеть об этом я не вижу. Сегодня известных нам способов жить и относиться к жизни неизмеримо больше, чем во времена баховских Страстей или вагнеровского Тристан-аккорда. Но главное, общего знаменателя – «системы ценностей и точки отсчета», как говорили у Довлатова два поддатых лейтенанта в вагоне-ресторане, – уже нет. Мир одновременно глобален и фрагментарен и поэтому ускользает от каких-то абсолютных, исчерпывающих моделей понимания.
Этой невозможности посвящена, в частности, моя опера «Два акта» на либретто Дмитрия Пригова. Он нашинковал в нем реплики Гамлета и Фауста из, соответственно, Шекспира и Гете, таким образом, что их текст превратился в речевую мелизматику, где смыслом становится не произносимое, а характер произнесения. Это очень музыкальная история, поэтому я за нее ухватился: у меня в партитуре восемь Гамлетов и восемь Фаустов, их голоса сплетаются в микрополифоническое облако с мерцающей речью, которая тонет сама в себе. Это уже не о «самом главном», а обо всем, потому что совокупность всего[107] – это и есть главное. То, что поют персонажи моей оперы, – это как бы заурядные table talks, ведь появись сегодня Гамлет или Фауст, они бы не смогли отыграть свое великое предназначение, пафос их «высоких мыслей» не оппонировал бы реальности, а был бы комфортно вписан в нее как частный случай – сидят люди, чего-то себе разговаривают, перебивают друг друга…
– А зачем их каждого по восемь?
– Чтобы уйти от фигуры героя. И, кажется, опера получилась вполне приговская. Она такая… непритязательная в смысле притязаний на «масштаб». Как Пригов, который, даже притом что в публичном пространстве сам становился произведением искусства, в частном был человеком, как говорили когда-то с иронией, «советского неприхотливого типа». Уютным и добродушным. Любил итальянскую оперу, причем самую обожаемую широкой публикой – Беллини, например. Просто он умел проводить границы между собой и собой и отдавать себе отчет, что мы – это не только то, что мы любим. А художник – вообще не то. Он не может раствориться в том, что его радует, и делать вид, что остального не существует.
Вот, скажем, в заголовок упомянутого интервью Алексея Любимова вынесено: «Есть музыка, есть я, а какая власть – все равно». Заменим «власть» на «реальность вокруг нас», что сегодня почти одно и то же, ибо власть все меньше оставляет нам пространства, в котором мы можем ее не замечать. Такая позиция одного из моих любимых пианистов, человека, столь много сделавшего для музыки, меня огорчает. Кажется, что он уединяется с музыкой где-то между землей и небом, но на самом деле мы уже давно не на земле, а ниже, на каком-то из кругов ада, где-то между абсурдом и трагедией. И оттуда, где мы сейчас находимся, одним рывком на каком-нибудь божественном до-мажоре в небеса не выпрыгнуть. Нужно сначала разобраться, что это за ад и как мы сюда попали. Любимов и Пригов десятки лет разбирались – с реальностью совка, да и по поводу постсовка у них не было никаких иллюзий. Но Пригов всегда отделял искусство, к которому «лежит душа», от того, которое ищет инструменты осознания окружающей среды. Очень жаль, что с очередным иезуитским вывертом все того же постсовка большой музыкант Любимов отворачивается от второго и говорит: «Мне все равно». Недавно вышло интервью еще одного большого музыканта, Гидона Кремера, который утверждает прямо противоположное: «Играть музыку как нечто отвлеченное, увы, нельзя». Ему не все равно, и это для него не личный вопрос, а профессиональный.
– Любимов упоминает две очень конкретные причины того, почему он больше не берется играть новые сочинения. Во-первых, уже просто физически трудно. А во-вторых, он видит в творчестве «таких авторов, как Курляндский, Раннев или Филановский, большую локальность как во времени, так и в пространстве». И говорит, что уже послезавтра «желательная осмысленность» этой музыки выветрится, как это произошло даже с фигурами типа Штокхаузена.
– Если что-то сделано осмысленно, оно осмысленности уже не потеряет. Как, например, музыка барокко, которая вернулась к нам после потери «желательной осмысленности» для двух веков европейской истории. Притом что барочные композиторы вовсе не планировали выруливать на «великое и масштабное», их интересовали совершенно другие вещи. Да и все для нас значимое в музыке тоже не лезло по стремянке на небо, все это – рефлексия конкретного человеческого и социального опыта, который безжалостно травил себя самоанализом. У этих трудов нет срока годности или объективной ценности, вне зависимости от степени их тленности или нетленности. Если что-то с точки зрения сегодняшнего дня из Штокхаузена и «выветривается», то это проблема не Штокхаузена, а сегодняшнего дня.
– А музыкальный язык может устаревать?
– Само собой. Мы же с вами не разговариваем на языке романсов XIX века. Бывают, конечно, люди, которые провалились в какие-то эпохи или мифологии. Но если они не теряют связи с реальностью, то эти экскурсы в «иное» они заключают в какие-то символические формы, соблюдая дистанцию. Помню, как-то Михайловский театр несколько лет назад затеял поставить «Онегина», аккурат в тот момент, когда то же самое Черняков ставил в Большом. Понятно, что с Большим тягаться трудно, и кто-то подсказал Кехману ход[108] – реконструкция постановки «Онегина» Станиславского 1922 года. Интрига такая: у москвичей режиссерская опера, а у нас будет суперрежиссерская – воскрешение шедевра Станиславского. Когда Владимир Кехман увидел на прогоне то, на что подписался, он был в шоке. Отменил премьеру, и правильно сделал. Не побоялся скандала. Просто он взглянул на «Онегина» Станиславского и понял (или ему объяснили), что это музейный экспонат, не более. Важный, ценный, но музейный. То есть побывать в музее всегда имеет смысл, но жить в нем – вряд ли. Я не видел этой постановки, но допускаю, что она… ну не знаю, великая! Как исторический артефакт. Современный же театр говорит на другом языке, и Кехман это понимает (или ему объяснили).
Так вот, музыка тоже формирует определенные модели реакции на способ мыслить и чувствовать, и если сама она и может пересечь границы своего времени, то эти модели – нет. Самое большое, на что эти модели могут рассчитывать в будущем, – на свою востребованность в каких-то символических формах. Как, скажем, «Пульчинелла» Стравинского или преломления барочной эстетики у Сальваторе Шаррино. Причем, заметьте, типы работы с почившими моделями прошлого у обоих очень разные.
– Почившими моделями? Ну вот и Любимов говорит: «Ваши модели тоже скоро устареют, зачем тратить на них время?»
– Нет, подождите… История искусств – это не набор 100 greatest composers, это история самопознания культуры. Если вы не хотите быть потребителем дайджестов, вам придется потратить время на 101-го и 1001-го композитора. Чем, собственно, Алексей Любимов всю свою жизнь и занимается, несмотря на то что он говорит в последнее время. И вообще, так называемая нетленность чего бы то ни было в этом мире не может являться критерием оценки, потому что мир так устроен – и в этом его великий смысл, – что все в нем является тленным. «Что не имеет конца, не имеет и смысла», – как выразился однажды Лотман. И поэтому имеет смысл тратить время и силы в первую очередь именно на то, что происходит сейчас, с тобой, с твоим временем.
– Все-таки у нас получается разговор только о формальной стороне дела. Но ведь, скажем, бетховенская музыка к тому, как она устроена, совершенно не сводится. Устарел ли язык Бетховена?
– Вы смешиваете два понятия – язык, на котором говорим мы, и язык, на котором говорят нам. Бетховен – это второе, и пока мы его понимаем и нам важно то, что он нам говорит, мы будем его слушать. Но если мы попытаемся говорить на его языке, получится беспомощная декорация. Потому что знать и быть – это две разные вещи. Мы знаем Бетховена, но нам никогда не быть Бетховеном. Так устроен мир.
– Но разговор только про язык музыки не делает нас формалистами? Все-таки в бетховенской музыке мерцает что-то такое, что позволяет ей быть живой и сейчас и когда угодно.
– Несомненно. Но уверяю, что это «что-то такое» процентов на девяносто девять сводится именно к языку, а один процент – да, что-то такое, что «ушами не услышать, мозгами не понять», как пел Летов. И раз так, то, как говорил уже Хармс, уж лучше мы об этом не будем говорить.
– А нет ли опасности, что язык, который вы выбрали, может немного опережать слушателей? Вот вы рассказываете о том, как устроена ваша опера «Два акта», но без объяснений догадаться об этом сложно – это такое шелестящее вокальное облако, в котором невозможно узнать ни Гамлета, ни Пригова. Разве слушателю не нужно об этом знать? Он бы совсем по-другому ее слушал.
– Когда вы слушаете Сороковую симфонию Моцарта, вы тоже не обязаны понимать, что это сонатная форма, что сейчас звучит главная партия, а связующая тема ведет к побочной в другую тональность, что экспозиция закончилась, вот пошла разработка… Вам не нужны никакие объяснения, хотя их вполне можно было бы себе представить. Музыка – это просто музыка. Не надо просить об этом композитора, он занимается звуками, а не обслуживает сопровождающий текст.
Вообще, люди слушают музыку по-разному, знание или незнание ее устройства не отменяет впечатления. Из-за – опять же – общности опыта с автором. Когда мы читаем «Евгения Онегина», мы тоже не обязаны ничего знать об онегинской строфе. Мы и так там всех понимаем и всем сочувствуем. Вот и среди тех, кто слушал «Два акта» и кому они понравились, были не одни лишь мои коллеги.
– Конечно, ваши «Два акта» могут понравиться (или не понравиться), дело не в этом. Просто смысл, который за ней стоит, – он же страшно любопытный, ради него все и делалось. Вот Пригов, вот то, что получилось. Разве не жалко, что слушатель об этом ничего не узнает?
– Ну не ради смысла делалось, даже не знаю ради чего… Потому что хотелось. Кстати, вот вы сказали про выбор языка – дело в том, что я его не выбираю, он как-то сам меня выбирает.
– Ну, свой замысел и то, как вы его добиваетесь, вы описываете вполне осознанно.
– Это другое. В одном советском перестроечном фильме, забыл, как называется, один художник говорит другому: «Как это ты можешь и в таком стиле писать, и в сяком? Какой ты после этого художник»? Язык нас выбирает сам. Так же как время и культурный контекст. Он резонирует с чем-то в нас, чего мы изменить не можем, и меняется вместе с нами. Другое дело, возможна свобода в каких-то прикладных вещах, где ты попадаешь в чужую игру с ее правилами, – я и для рекламы писал, и даже для показа мод. Если они тебе поперек горла – можно и отказаться, если нет – почему бы не поиграть в эту игру, да еще и подзаработать.
– Валентин Сильвестров в нашей с ним беседе размышлял, можно ли использовать простые ходы – какой-нибудь банальный ре-минорный аккорд – после всего, что произошло с музыкой в XX веке. Он-то как раз это и делает: сочиняет свои бесконечные сентиментальные багатели, хотя начинал с довольно радикального авангарда. И это вроде бы, по большей части, Шопен и Шуман, но все-таки не совсем. Потому что там есть и очень вольное обращение с паузами и тишиной, которого раньше быть не могло, какие-то неожиданные смещения, сбитые акценты. В общем, для Сильвестрова это только с виду простая багатель, а на самом деле метаструктура, которая все знает про послевоенный авангард.
– Я не верю в метаструктуры и их способность «все знать». Однажды один мой приятель вдруг заявил, что хочет получить «комплексные знания», на что другой ответил ему, что «комплексными бывают только обеды». Я уже говорил об этом – о фрагментарности и невозможности общего знаменателя, какого-то тотального Тристан-аккорда наших дней, который «обо всем». Но я понимаю Сильвестрова и природу этой его эволюции. И это схоже с тем, что говорит Любимов. Я их обоих как музыкант очень люблю, и полемизирую тут, скорее не с ними, а, наверное, со своей усталостью от разговоров про «небесное» и про «вечное» в тот момент, когда в земном и преходящем – такая печальная запущенность, какую мы сейчас имеем. Это вообще симптоматично – когда в воздухе начинает дурно пахнуть, у всех повышается интерес к трипам в красоту.
– Интересно, что сейчас многие из тех, кто был главным адептом новой музыки в СССР, – Сильвестров, Любимов, Рабинович-Бараковский, Блажков – говорят о своей усталости от авангарда. Что они больше не могут его ни слушать, ни играть, что от всего, что они когда-то пропагандировали, осталось буквально несколько любимых вещей, а остальное – все, умерло.
– Все рано или поздно исчерпывает себя в чьих-то глазах. Или в ушах. У Лотмана есть замечательная мысль о том, что нас на самом деле больше всего беспокоит – «противоречие между бесконечностью жизни как таковой и конечностью человеческой жизни». Вот оно тут и есть – исчерпан локальный опыт одного поколения, одной социальной общности. Они что-то любили, чем-то жили, потом, перестав быть «адептами новой музыки в СССР», стали жить чем-то другим. Мы можем говорить об этом как о потере только в границах их опыта. Но за его пределами, на уровне «бесконечности жизни как таковой», это уже приобретение, причем именно фактом своей исчерпанности, когда их «конечность» состоялась. Да и то, что они называют «авангардом», тоже меняется, и в тех формах, какие они имеют в виду, уже позади. Но позади – не значит умерло. То, от чего они устали, продолжает питать новый век, занимать молодых и занимать как-то иначе, чем в свое время Сильвестрова и Любимова. Я понимаю те эстетические ориентиры, которые питают их сегодня, но вспоминаю, как замечательный петербургский музыковед Алла Леонидовна Порфирьева в одной своей статье дополнила известную фразу Германа Броха из романа «Смерть Вергилия». Там есть такие слова: «Все пути красоты неизбежно кончаются звериной маской кошмара». Она продолжила: «Спасение – в жизни».
Александр Кнайфель
Родился в 1943 году в Ташкенте в семье музыкантов. Окончил Специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории, продолжил образование в Московской (1961–1963) и Ленинградской (1963–1967) консерваториях. Готовился стать виолончелистом, учился в Московской консерватории у Мстислава Ростроповича, однако из-за болезни рук был вынужден отказаться от исполнительской карьеры. В 1967-м закончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции. Живет в Санкт-Петербурге.
Ранние сочинения Кнайфеля стали причиной публичного разноса, устроенного первым секретарем Союза композиторов СССР Тихоном Хренниковым в 1979 году. Попадание в «хренниковскую семерку», неофициальный черный список советского авангарда, резко ограничило возможности Кнайфеля услышать свою музыку на концерте или в записи. Однако именно в 1970-е и 1980-е возникает целый ряд масштабных сочинений («Ника», «Жанна», «Agnus Dei» и другие), определивших особое место композитора в мире музыки: их отличают медленные темпы, значительная продолжительность и чрезвычайная разреженность партитуры. С конца 1970-х Кнайфель много работает в кинематографе, создав музыку более чем к сорока фильмам. Особенно плодотворно его сотрудничество с режиссером Семеном Арановичем («Противостояние», «Торпедоносцы», «Рафферти»), а также хореографами Леонидом Якобсоном и Георгием Алексидзе.
Музыку Кнайфеля начинают активно исполнять и записывать на Западе с конца 1980-х. Он первым из отечественных композиторов получает престижную немецкую премию DAAD, его музыке (а также музыке Кейджа, Штокхаузена и Заппы) посвящен Франкфуртский фестиваль 1992 года. Записи Кнайфеля выходят на лейбле ECM Records, пропагандистом и первым исполнителем многих сочинений становится Мстислав Ростропович. Оказываются возможны сложнейшие в реализации произведения: «Восьмая глава» для храма, четырех хоров и виолончели (премьера в Вашингтоне в 1995 году), опера «Алиса в Стране Чудес», требующая участия не только музыкантов и певцов, но и циркачей и танцоров (премьера в Королевской опере Нидерландов, Амстердам, 2001). В списке сочинений композитора – более ста произведений в разных жанрах.
Беседа состоялась в Санкт-Петербурге в 2016 году.
Фрагмент партитуры «Бридж (поликлавир и три оркестра), танцы восхождения» (2006–2007). Александр Кнайфель: «Тут кульминационный момент. Дирижер резко складывает „лучами“ над головой в полукруг три пальца левой и пять пальцев правой рук, образуя восходящее „солнышко“ строк двадцать первого полифона. Обе дирижерские палочки – большая и малая – невольно падают, теряясь в неодолимом свете. Графическое решение, по-моему, полностью резонирует. Каждый из двадцати пяти полифонов, образующих это сочинение, проистекает из антифона – древнейшей формы богослужебного пения».
– Меняется ли у вас отношение к вашим ранним сочинениям? Ведь вы писали совсем другую музыку, непохожую на ту, которую стали писать, скажем, с конца 1970-х.
– Я как раз сейчас разбираю архивы и занимаюсь ранними вещами, которые, как будто специально, были написаны год в год пятьдесят лет назад. И должен вам сказать, что могу многому поучиться у этого коллеги. Хоть он и не сознавал ответственности перед текстом, мне есть с чем работать.
В целом же… Расскажу вам одну характерную историю. Мы поступали в Московскую консерваторию вместе с Геной Банщиковым, другом с детства, композитором невероятной одаренности. Я, как вы знаете, был тогда виолончелистом. И вместо того чтобы готовиться к экзаменам, писал одну из своих первых вещей. Она меня снедала.
Это был 1961 год, меня призвал Ростропович. А до этого я одолел по радиотрансляции Первый виолончельный концерт Шостаковича [1959 года], нот тогда не было. Позже мы с Геной раздобыли партитуру, и, конечно, это было нечто: я вообще без нот, он с партитурой… В Москве этим исполнением мы наделали немало шума. А с Шостаковичем всю жизнь меня что-то связывает, просто так случилось, что его существование с самого начала было и моим существованием.
Позже я решился показать первые сочинения профессору Сергею Артемьевичу Баласаняну, к которому поступил Банщиков. У нас были вполне дружеские отношения, он ко мне тепло относился… Послушав, ласково меня обнял и доверительно так пропел: «Шурочка, я вас очень ценю как человека, как музыканта, но, понимаете, музыка бывает хорошей, а бывает не очень. Бывает замечательная, бывает никудышная. В вашем же случае просто нечего оценивать. Нет предмета оценки».
Сонечка Губайдулина негодовала: как они могли такое – молодому музыканту?! Но я помалкивал. Как-то внутри у меня все улыбалось. Это же было чем-то вроде благословения. И всю жизнь я это так и ощущаю – как пророчество.
– То есть вы скорее возгордились?
– Нет, я возликовал. Потому что они были правы! Они кожей чувствовали, что я чужой. И так всю жизнь – я чужой и среди своих и среди чужих. Принципиально чужой. Не в сочинениях было дело, потому что с теми же вещами я с ходу был принят на третий курс Ленинградской консерватории.
– Вы переживали, что ваша карьера виолончелиста закончилась так быстро?
– Наоборот, я ощущал это как невероятное счастье! Впервые почувствовал себя собой. И если постфактум посмотреть на вехи моего земного пути, окажется – он весь состоит из невозможностей и уникальностей. Простите, но это если называть вещи своими именами.
– А что это были за вещи, на которые так среагировал профессор? В какой стилистике?
– Да это неважно… Разная была стилистика, и вещи разные. Они для меня как дети, я не отказываюсь ни от одной. Просто чаще всего они были недостаточно хорошо записаны.
Но записи – это отдельная тема. Скажем, запись «Кентервильского привидения» вышла на компакт-диске с шапкой «бриллиантовая классика» или что-то вроде того. Но записывали они его без меня. А сейчас я заново переписываю. Буквально в прошлом году сделал редакцию[109] – ничего не поменял, но все переписал, до ноты. И только теперь эта вещь станет тем, чем должна быть. Бывает, конечно, что эскиз картины лучше самой картины, но это не тот случай.
– С какими чувствами вы переслушиваете свои ранние вещи? Их же до сих пор исполняют. Я недавно слушал живьем одну из них, написанную для ансамбля ударных инструментов Марка Пекарского – это такая жизнерадостная, обаятельная вещь с графической партитурой.
– Ну, это просто шутка. Партитура была в виде круга, который «исполнялся» во всех положениях. Но, кстати, это же именно за нее меня линчевали на съезде Союза композиторов [в 1979 году]. Она прозвучала на фестивалях в ФРГ, а потом Хренников выступил с разгромной речью – мол, как эти люди могут представлять советскую музыку?[110]
– В этом выступлении Хренников клеймил «советский авангард». А вы сами себя считали авангардистом?
– Алексей, любой человек рожден авангардистом. Кто такой авангардист? Это человек, который говорит своим языком. К этому призваны все. Дело не в даре. Мы ведь начинаем «оценивать»: этот – великий, тот – знаменитый, этот – гений, тот – выдающийся… Это же такая бессмысленная, недостойная дурь! Авангардист – это вроде бы тот, кто в авангарде, то есть впереди. Где это «впереди»? Ну что, Шуберт не авангардист?
– Но все-таки вы понимали, что к этому самому «советскому авангарду» вас отнесли не случайно.
– Мне повезло, я в эти игры никогда не играл. Я вел беседы с Бетховеном. И я не отказываюсь от прошлого, я все помню. Я был на всех этих съездах и пленумах.
– При этом у вас есть оратория на текст письма Ленина членам ЦК, сочинение на стихи Маяковского… В каких они обстоятельствах были написаны? Это был заказ? Искренний реверанс советской власти?[111][112]
– Соломон Волков, которого вы наверняка знаете, хотел сделать постановку к пятидесятилетию революции на документальном материале. Но письмо Ленина, конечно, выделялось. «Товарищи! Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое». Все это письмо, за исключением одного фрагмента, пропевалось полностью. Про то, что надо выступать и промедление смерти подобно. Но поскольку Ленин – юрист, то он строит довод на доводе, довод на доводе – не продохнуть! То есть он людей в упор не видит, человеческого фактора не существует! Есть только идея. И ничего ведь не меняется, сейчас вокруг происходит то же самое.
– Вы действительно рассчитывали, что в 1967 году шестнадцать хоров будут петь ваши «Аргументы юриста»?
– Конечно, ничего из этого не вышло, кроме порки в Смольном. Но да, написано для шестнадцати хоров, точнее для оркестра с неограниченным числом инструментов и хора с неограниченным числом голосов. Примерно в то же время у меня родилась «Медея» в древнегреческой эстетике. И «Argumenta de jure» в каком-то смысле подхватывает эту ситуацию. Знаете, стоят безглазые скульптуры. Все прекрасно, только глаз нет. Не за что полюбить, а красота безусловная. Совершенно та же самая эстетика. Письмо логически совершенно безукоризненно, но что с этим делать, непонятно. И люди это хлебают вот уже сто лет. Довольно страшно.[113]
– До хренниковского разноса вас часто исполняли?
– Почти не исполняли. Звучали отдельные вещи, но это так… А главное, я никогда к этому не стремился. У меня этой проблемы просто не было. Были периоды, когда не исполняли вовсе, а когда впервые вылез на Запад, маховик исполнений раскрутился так, что чуть не подмял. Но сам этот ракурс – много играют или мало – совершенно не плодоносный.
У меня же были друзья… Сонечка Губайдулина, Эдик Денисов, Сережа Слонимский, Таня Воронина. Алемдар Караманов – фантастическая фигура! Валера Арзуманов, Тигран Мансурян, Гена Банщиков. И еще Рейн Лаул, отец ныне знаменитого пианиста [Петра Лаула], очень глубокий композитор – у него немного сочинений, но они прекрасны! Был наш круг, мы расширяли его за счет разной музыки, какую кто приносил. В основном, конечно, нововенцы. Плюс Стравинский. С тех времен мы очень сблизились с Валей Сильвестровым, он мой самый близкий. Были всякие пленумы, съезды, а мы просто были друг у друга и общались.
– Раз вашу музыку не исполняли, вы просто показывали друг другу партитуры и их обсуждали? Как это происходило?
– По-разному. Конечно, играли как могли. И это во многом сохранилось до сих пор. Валя Сильвестров каждые два месяца присылает мне диски со своей музыкой. У меня их, наверное, уже целый шкаф. Волконский знаете как его называл? Дискобол. Вообще, здесь, в Петербурге, у нас была очень интенсивная жизнь.
– У вас было ощущение, что вы окопались в подполье и держитесь друг за друга? Или что вы существуете в каком-то параллельном пространстве?
– Да нет. Шла обычная жизнь. Настал, правда, момент, когда уехал Арво, уехала Сонечка – им было невозможно, они задыхались. А я себя так никогда не чувствовал.[114]
– Почему?
– Да мне не было до этих ситуаций никакого дела! Я просто работал. Всю жизнь я делаю то, что мне кажется необходимым. Как-то заловил эту возможность.
Конечно, надо было как-то жить. У меня семья, я довольно рано женился. Но быстро понял, что если буду подобен песику, бегающему за собственным хвостом, это будет какая-то странная жизнь. Пару раз попробовал, в издательстве поработал, давал частные уроки, а потом бросил, понял, что невозможно. К тому же я на дух не переношу никаких учебных заведений. Когда меня приняли на третий курс консерватории, я пришел к лаборантке факультета, очень интеллигентной женщине, и попросил: «Не могли бы вы написать на бумажке минимальный перечень того, что надо сделать, чтобы меня не вышибли?» Она странно так посмотрела, но написала. И все. Я там даже не появлялся. Просто не понимал зачем. И в школе не понимал, и в вузе.
Вся моя жизнь – это прямой диалог с художниками, архитекторами, поэтами, композиторами разных эпох. Это вот мне понятно. Они раскрывают мне свое, я им свое. Причем близки бывают то одни, то другие. Я редко кого-то резко отвергаю. Ну, вот разве что Вагнера. Помню, сижу в Deutsche Oper на «Зигфриде», ковка меча, все сидят и почтенно слушают, а меня просто трясет, чувствую – катастрофа, тут всех нужно арестовать! Потом как-то уговорили сходить на «Парсифаля». Оказалось не отравой, а просто дурью. Все умирают, а я улыбаюсь – ну дурь сплошная, глупо возмущаться даже.
– У вас было в советские времена ощущение, что вас окружает какая-то душная хрень?
– Это было настолько очевидно… Все-таки не 1937 год. Какой смысл против этого бунтовать? Вы думаете, сейчас такого нет? Все то же самое.
– Сильвестров рассказывает, что постоянно чувствовал внимание власти к тому, что он сочинял.
– У нас в Ленинграде такого не было. У руля местного Союза [композиторов] стоял Андрей Петров, который прикрывал нас и все сглаживал. Ничего из того, что хлебали мои московские друзья, здесь не было. А у меня было свое счисление. Понимаете еще какая штука… Я счастливо рос. В любви, в квартире княгини Волконской. В семье прекрасных музыкантов: отец – замечательный скрипач и педагог, мать работала в специальной музыкальной школе-десятилетке, сорок пять выпусков подготовила. Когда мы приходили в филармонию, оба оркестра вставали, потому что все музыканты были ее учениками. А главное, я рос в Петербурге, уникальном городе. В истории цивилизации такого никогда не было. Здесь все иное. Скажем, из лучшего, что сейчас есть, – это фестивали «Early Music», которые проводит Андрей Решетин. Сейчас он поставил первую русскую оперу, «Цефал и Прокрис» [1755 года]. Вы же знаете, что там все солисты – дети, так было задумано Елизаветой Петровной? Какая потрясающая идея – дети учат взрослых чувствам! Где и когда такое было?!
В нынешней цивилизации я себя чувствую гостем. Это чувство у меня было еще в советские времена, а сейчас только усилилось. Но гость-то я гость, но не просто, а петербуржец. Это меня спасало. В Москве я, например, задыхаюсь. Просто находиться там не могу. Помню еще с юности: иду по улице, которая вихляет из стороны в сторону, а рядом еще одна мечется куда-то. У меня от этого просто раскалывалось сознание. А Петербург со шпилем Петропавловки, какого нигде в мире больше нет… Количество гениев на миллиметр площади зашкаливает даже по сравнению с Флоренцией.
– Когда случилась эта история с выступлением Хренникова, вы все-таки вздрогнули?
– Ну что вы. Мне тогда прямым текстом сказали – я должен быть благодарен за такую рекламу. Другое дело – человеческий фактор. Никогда этого не забуду. Кремлевский дворец, приехали композиторы со всей страны, выпивают шампанское в буфете, заедают красной икрой, улыбаются, хлопают тебя по плечу. Вокруг продают ноты, книги, которых обычно нигде не достать. Все привезли, наваливайтесь! И вот начинается заседание, первым делом – отчетный доклад главного человека. Все всё это слушают, потом идут в тот же самый буфет. И все, с кем я только что общался, в упор меня не видят! Невозможно поверить. Как в «Старике Хоттабыче»: вся футбольная команда заболела корью.
Помню, Соня Губайдулина сидела совсем без денег и сокрушалась – тебе хоть музыку к фильмам заказывают. Я же утешал – подожди немножко, будут фильмы, обязательно что-нибудь будет. И действительно, появились «Маугли», «Чучело»… Но она все время работала. И Сильвестров работал. Но Сильвестров – другое дело. Он все-таки очень социальный. Он не может не бунтовать. А я могу.
– При этом он, кажется, гораздо больший интроверт, чем вы.
– Вряд ли. Просто Валю все задевает. Меня нет, а его да. Но, кажется, я единственный, кто в разговорах с ним ни разу не коснулся киевских событий [2014 года]. Ни разу за все это время. Он ведь не мог говорить ни о чем, кроме них. А со мной знал, что это бесполезно. Мы говорим только о музыке и обо всем, что с ней связано.
– Вам не обидно, что Сильвестрова по-прежнему знает не так уж много людей?
– Во-первых, совсем уж немало! А во-вторых, так все устроено: качнувшись влево, качнется вправо. Просто сейчас слишком много информации. Все доступно, но теряются критерии, непонятно, как ориентироваться. Это болезнь роста, цивилизация развивается слишком быстро. И про извечную привычку беседовать с самим собой люди забывают. Человеку дается возможность выбора еще до того, как он учится прислушиваться к себе. На него с рождения обрушивается лавина. И он не догадывается, что путешествия внутри себя важнее всех прочих путешествий.
Я, например, давно понял, что компьютер нужно держать на очень длинном поводке. Дистанцироваться. Я ведь рано и активно начал работать в кино, так что с первыми компьютерами имел дело еще в начале 1980-х. И как-то нюхом почуял, что у него есть незаменимые функции, а есть абсолютно ненужные. И по сей день я его с трудом переношу по одной смешной причине: не могу, когда все тексты из печатных букв.
– То есть вы предпочитаете рукописные?
– Вы понимаете, люди веками писали письма. Человек садился, доставал листок бумаги, который сам по себе неповторим, брал в руки что-то пишущее, тоже чем-то особенное, и касался бумаги. По почерку можно многое ощутить. Человек дышал, был в каком-то состоянии, были запахи… Когда адресат получал послание, он считывал всю эту информацию между строк.
У меня в молодости был удивительный период. Я брал книгу и видел текст как черновик: вот тут автор писал не отрываясь, а тут работал, перечеркивал, крутился… Я видел сквозь печатный текст. И в этом мы близки с Сильвестровым: с трудом переносим напечатанные тексты, ноты, книги. Прямо хочется взять и почирикать сверху, тогда оно становится родное. А так – монолитное, неживое. Продраться можно, но что-то в этом не то. Рукописные свидетельства – они дышат, понимаете? Дело не в самом тексте. Вы его возьмете, напечатаете, и он помертвеет.
– Какая еще музыка была тогда для вас важна, кроме Стравинского и Нововенской школы?
– Ксенакис. Встреча с его музыкой меня невероятно окрылила. Я вдруг понял, что можно быть принципиально иным и не быть при этом изгоем. А он ведь иной в силу многого – этнической принадлежности, своего архитектурного образования, связи с Ле Корбюзье, которого я всю жизнь боготворил. «Значит, это возможно», – сказал я себе.
Меня разная музыка интересовала. Были целые шкафы с магнитофонными пленками, ксерокопировали партитуры на жуткой бумаге, склеивали, резали… Но два главных имени – это Веберн и Стравинский. И Шостакович, но это особый случай. Причем на всю жизнь.
– Но музыкально вы же совершенно не похожи.
– Дело не в музыкальном языке, а, например, в тайнописи. У него же нет ни одной незашифрованной ноты. В мире этого не понимают. Вот, скажем, тот же Первый виолончельный концерт, о котором мы с вами говорили. Спустя время мне вдруг приснилось, что главная четырехзвучная тема – инструмент насилия. Пыток. Чего именно, не знаю. Но это точно. При случае сказал об этом Саше Ивашкину, который все знает, сам играет, он просто обалдел: «Ты с ума сошел, с чего это? С какой стати?»[115]
А потом узнаю, как Ростропович первый раз играл эту вещь Шостаковичу. Приехал к нему, сыграл, они напились водки, и под конец Дмитрий Дмитриевич спрашивает: «А как тебе Сулико?» Тот тоже обалдел: «Какое Сулико?» А Шостакович упаковал в финале мотив «Где же ты, моя Сулико». А тема, о которой я говорю, – это, как выяснилось, тема из фильма «Молодая гвардия», когда красногвардейцев ведут на казнь.
Эти моменты истины вроде бы никому не нужны. Все равно ты слушаешь музыку и тебя как будто это не касается. Но важно, чем оплачена эта красота. И «Весна священная», и Восьмая симфония Шостаковича, и симфонии Моцарта оплачены немыслимыми, невыносимыми опалениями. Без мук, без этой невозможности красота бы не родилась. Красота – форма существования этой невозможности! И ты в любой момент можешь на ней подорваться.
Однажды я так подорвался на Неоконченной симфонии Шуберта. Господи – шлягер, давно все знакомо до ноты! Но вдруг невозможность оказывается явлена. Свидетельство текста, который знаешь и о котором даже не догадываешься!
– Многие ваши сочинения основаны на идее непроизнесенного текста: он выписан в партитуре, но не звучит, музыканты должны интонировать его про себя. Это и есть та самая тайнопись?
– Кажется, Антоний Сурожский говорит, что тексты первых библейских книг описывают мир до падения, и у нас просто нет словаря, которым можно это выразить. Слова-то есть, но они не то, что они говорят. И продраться через это как будто бы невозможно. И тогда я подумал, что словами, допустим, не продраться, а словами с музыкой – есть шанс. Когда слова в неразрывной связи с музыкой, возникает нечто, с помощью которого вы можете ощутить эту жизнь.
Понимаете, в чем дело… Вот вы слушаете какую-то вещь, она вам нравится, но вы никогда не сможете сказать: «Она мне нравится потому-то и потому-то». За бортом остается тьма факторов, о которых вы и понятия не имеете. Вы в воздействии сложнейшего комплекса, который в какой-то момент с вами резонирует, но просчитать головой невозможно. На самом деле, самое интересное в истории искусства – это история того, как меняется язык. Почему вообще он меняется – в живописи, в музыке, в архитектуре, в меньшей степени в поэзии? Мы ведь не очень это замечаем. Мы слушаем давних мастеров, воспринимаем их во всей полноте, хотя язык совсем иной и никто его не выбирал.
Вот вопрос. Если уж заниматься наукой, исследованиями, то вот такими вещами. А то все время какой-то бег по кругу. Лучше уж тогда просто в цирк сходить. Это мое любимое занятие. Я цирк обожаю, вот там настоящие служители искусства, всю жизнь кладут, без остатка.
– Часто изменения в языке музыки связывают с историческим контекстом.
– Нет. Ничего нельзя понять. Даже современники часто не могут понять друг друга.
Чайковский, как ни старался, не мог понять своего ровесника Мусоргского. Не понимал Баха. Слушал и не слышал.
Была замечательная история. На одной из моих берлинских премьер оказались и Гия Канчели, и Арво Пярт – оба мои близкие друзья. Это очень тихая вещь, все такое… И после концерта вижу Гию – тихий, медленный, глаза увлажненные, в общем, счастлив. А Арво куда-то подевался и звонит мне на следующее утро: «Ну, что тебе сказать… Знаешь, я ничего не понял». Как я возликовал! Даже совсем близкий – и не смог понять. Святая честность, святое признание, его ведь вины в том нет. Вот так мы иногда не можем продраться друг к другу. Помню, Сильвестров играл у меня что-то: все хорошо, и вдруг спотыкается. Стоп, почему тут так? Тут должен быть диез! Диез ему там понадобился, понимаете?
Глазунов, когда впервые услышал начало Первой симфонии Шостаковича, так же споткнулся на одном-единственном си-бекаре: «Я вижу, это гениальный юноша, и симфония мне нравится, но уберите си-бекар! Я не могу его слышать!» Наше разделение начинается вот c таких мелочей, а кончается трагедиями, катастрофами, религиозными конфликтами и войнами. А до неба ведь эти разделения не доходят. Их просто нет. У меня такой взгляд, такой овал ноздри, а у тебя иной, что же с этим поделать? Я могу тебя не понимать, но хочу понять, мне бесконечно драгоценны моменты нашего единения – что ж ты упираешься в наши различия?
– Вот эти непроизнесенные тексты в партитурах – это что-то вроде тайного подстрочника для музыкантов, чтобы передать им то ощущение, которое у вас было, когда вы сочиняли эту музыку?
– Не могу вам ответить на этот вопрос. Не совсем так. И они, кстати, не всегда неслышимы. Если текст попадает на вокальные фрагменты, он может быть слышен. Но в данном случае главное, что музыкальный процесс рождается словом, что слово нас ведет.
Музыка изначально является тайной, какой смысл ее разгадывать? Могу лишь ответить так: этому нет объяснения, но это правда. Но ведь это неудовлетворительный ответ?
Расскажу вам еще одну смешную историю. Когда я оказался в Ленинградской консерватории, одна очень милая и талантливая девушка-композитор вдруг подходит и говорит: «Вы Кнайфель? Простите, просто хотела на вас посмотреть». Я опешил: «А что такое?» Она помолчала и отвечает: «Мне сказали, что у вас есть это, а я никогда не видала людей, у которых есть это».
Как-то мы сидели с Ростроповичем, уже после того, как многое вместе сделали. И он вдруг спрашивает: «Слушай, старик, а что ты такое?» Я ему: «Не знаю, такую странную нишу мне Господь уготовил, я сам по себе. Не могу тебе ничего объяснить – я вот такой». Потом мы еще о чем-то поговорили, попрощались, обнялись… И он мне вдруг тихо, почти в ухо шепчет: «Не вылезай из ниши!»
Это к чему? У меня есть внятное ощущение, что отечество мое, то, откуда я родом, – какая-то совершенно иная цивилизация, очень мощная. И я все время о ней невольно свидетельствую. А в этот мир я просто не очень вписываюсь. Все исполнения, ахи, недоумения – это все ошибки, невольные флюиды. Все, что происходит даже с моими близкими друзьями, в большей степени с композиторами, в меньшей с поэтами и художниками, – это все не мое, совсем не мое. Я не отгораживаюсь, не заношусь – я живой человек, очень люблю своих друзей, все им отдаю. Все человеческое едино, но мой отчий дом – не здесь. И, безусловно, люди это чувствуют. Так что та давняя фраза – не за что ставить отметку, нет предмета оценки – это был мне диагноз с самого начала.
– Если посмотреть на длинный список ваших сочинений, ничего не зная о вас, может показаться, что на вас как раз очень влияло время или, может быть, вы пытались этому времени соответствовать. В конце 1960-х – Маяковский и оратория на текст ленинского письма, в начале 1980-х – эксперименты с джазовыми и рок-составами, а в начале 1990-х начинается большая серия религиозных сочинений – «Маранафа», «Царю Небесный», «Утешителю», «Восьмая глава», «Свете тихий»…
– Мой давний друг, музыковед Марина Нестьева однажды услышала фрагменты шлягеров из моей киномузыки и призналась: «Не знаю другого человека, который мог бы писать на таких принципиально разных языках». А я ей ставил танго, фокстрот, рок-музыку, джаз, духовой вальс… «И при этом, – продолжала она, – передавать один и тот же месседж».
Когда я писал, например, блюз в «Рафферти», помню, было мучительно, но невероятно сладостно. Я же никогда в жизни джазом не занимался, это очень энергетичная, съедающая с потрохами стихия. Представьте, я не знаю китайского, но мне надо заговорить на нем. Причем высказать то, что единственно важно. Для записи музыки ко мне пришел крутой джазмен, он тогда был известным саксофонистом. И спрашивает: «А как вы будете записывать джаз, вы же не умеете?» Я говорю: «Да я не знаю». – «А кто будет петь?» – продолжает он. «Моя жена». – «Так она же классическая певица, она не умеет свинговать». В общем, он думал, наверное: «Зачем ему это? Какое-то недоразумение! Я бы сделал в сто раз лучше!»
Но когда стали записывать, все вопросы отпали. Звучит почти неправдоподобно хорошо, и со свингом все нормально. Потом эти вещи играли во всех кабаках, я это просто знаю и слышал. А для меня это был первый и последний опыт, больше я к джазу не обращался. И так со всем. Пробовал диско, рэп, босанову, фолк. Все было! Но одной попыткой, как правило, все исчерпывалось.
Вот мой внук свободно говорит на четырех языках – русском, немецком, английском и китайском. Никто никогда не отличит, что он не свой. А я чувствую, что язык нельзя изучать. То есть, конечно, надо, но что такое язык? Это же не сумма знаний. Ты смотришь на человека, как собака – говорить не умеешь, а хочется. И вот из любви ты невольно начинаешь лопотать на языке, которого не знаешь.
– У вас ведь именно так произошло с английским? Вы не знаете языка и тем не менее с английской культурой очень связаны – написали «Кентервильское привидение», громадную оперу по «Алисе». «Глупая лошадь» – это тоже лимерики в английском духе.[116][117]
– Да, из всех европейских культур абсолютно моя – почему-то английская.
Не знаю ни одного слова, говорить не могу, но «Алису» написал. Я был в той же ситуации, что и Кэрролл: расшатывал язык как ребенок, будто только что его услышал. Помню, что когда мы в Вашингтоне репетировали «Восьмую главу», нас поселили в частный дом, в котором до этого жил Шварценеггер. И там я делился с хозяевами дома своими откровениями начинающейся «Алисы». Изумлялись[118] – неужели это английский?!
То же и с итальянским. В пушкинской сказочке для БДТ пишу сперва dolce, по-итальянски это значит «нежно», потом dolcissimo, то есть «нежнейше», а потом чувствую, что и этого мало, и пишу pieno dolcissimo. «Пьено» – это «полный», по-русски сказал бы «полнота нежнейшести». Решил уточнить у знакомой, которая замужем за итальянцем, можно ли так сказать. Она перезванивает: «Франческо сказал, что в жизни так никто не говорит, но звучит очень красиво!» Вот эти блестки истины мне очень важны. По ним я сверяюсь.
– А почему ваша музыка в какой-то момент стала заметно медленнее и тише?
– Это произошло после «Жанны». Там нет ни слова, это чисто инструментальная вещь, но она оказалась моим крестным путем. В конце, по свидетельству Сильвестрова, «звенит первозданная тишина». И тот, кто это слышал, вслед за мной перерождался. Ее один раз исполняли во Франкфурте, исполнили жутко, хотя были потрачены огромные средства.[119]
– Почему жутко?
– Ну так, с европейским лоском. У них ведь логика какая – кто лучше всего занимается современной музыкой? Приглашаем, гарантируем! Сплошные схемы, никакого контакта и понимания. Послушать приехал мой большой друг, виолончелист Ваня Монигетти. Сочинение огромное, идет 100 минут, он опоздал, приехал к концу. Все плохо, я раздавлен, уничтожен, меня просто нет, а он идет с сияющим взглядом. Я ему: «Ужас, ужас!», а он: «Знаешь, когда на раскопках видишь всего одну пятку древнегреческой статуи, это впечатляет!» И так получилось, что эта пятка преобразила мою жизнь. Я просто стал другим человеком.
– Притом что пауз и тишины в вашей музыке стало гораздо больше.
– Да, я прошел целую серию тихих гигантов, они начались фактически с конца «Жанны». Историю цивилизации, всю проблемность, обрученную с музыкой. Жизнь души, открытия детства, любви, смерти… Особняком стояла только «Глупая лошадь», и то по случайности: я в этот момент занимался «Солярисом», вел длительную переписку с Лемом.[120]
– Вы хотели написать сочинение по «Солярису»?
– Скорее, музыкальную версию. Ну, «Солярис» – это «Солярис». Настоящая жемчужина, но западного мышления. Если вы сравните да Винчи и написанные в то же время фрески Ферапонтова монастыря, то поймете, что между ними пропасть. Потому что все Возрождение – это человек, а все русское откровение – это Бог. Никуда от этого не деться.
В общем, был у меня тогда период, посвященный «Солярису», и в это время мне подарили сборничек детских стихотворений Вадима Левина. Он и угодил в эти раскинутые сети. Получилась «Глупая лошадь», которая, конечно, удалась, случилась по-настоящему.
– То есть ваш ненаписанный «Солярис» должен был звучать так, как в результате звучит «Глупая лошадь»?
– Нет-нет. Просто эти дивные стихи попали в эту Вселенную и так зазвучали. Детские-то они детские, но в них все есть.
А «гиганты» так и шли, вплоть до «Блаженства». С него в моей музыке все вдруг полетело с еще неведомой стремительностью. Но важен был этот долгий путь. Если бы я не находился в этих вселенных, в этом совершенно ином измерении столько времени…[121]
– Медленных тихих вселенных?
– Они медленные, но когда ты там находишься, не думаешь о том, медленные они или нет, – просто находишься, и все. Кульминацией была «Ника», по Гераклиту. Почти три часа музыки в контрабасовом регистре. Семнадцать контрабасовых инструментов вплоть до инфразвука. Причем все тексты на древнегреческом[122] – это семьдесят фрагментов Гераклита «О природе», которые лично для меня перевел великий ученый Александр Зайцев. С Гераклитом он общался, как мы с вами, будто он с ним только что чай пил. Мне невероятно повезло, конечно.
А c Пушкиным все возлетело. И «Алиса» вся такая. Потому что какими бы изумительными, глубокими и неизбывными ни были эти вселенные, есть область, которая не то чтобы выше, а абсолютнее: это наше упование. Там все возможно, там царит абсолютное ликование, и оно немыслимо без жеста и стремительного темпа. Это просто озон. Но встречается оно редко, и не случайно лучшее, что написано в нынешней музыке, – все медленное. Ликование вы найдете у Россини, Моцарта, Глинки и прочих летунов, но в удачной музыке нашего времени просто нет места стремительности. Быстрые темпы встречаются, но они служебные. Такого, чтобы они были единственно взыскуемыми, просто не бывает.
– А вы чувствуете родство с музыкой Мортона Фелдмана, с которым вас часто сравнивали?
– Ой, слушайте… Когда я первый раз продрался за рубеж, на меня набросились: «Вы – русский Фелдман!» А я не знал Фелдмана – вообще. Даже имени не знал. Мне так было неловко! Ну, я молчал, думаю, ладно, людям неуютно, хотят найти хоть что-то общее, сцепить одно с другим – им так легче и понятней. Хотя ничего понятней не становится.
Единственное мое утешение состоит в том, что в мире Божьем всему есть свое место. Вот Валя Сильвестров… Вы извините, что я часто на него ссылаюсь, но мы с ним просто как Тяни-Толкай: абсолютно разные и абсолютно одинаковые. Он мне как-то написал на своих «Тихих песнях»: «Ты поверил в них, и, возможно, они займут место в мире, где все места уже заняты». И действительно, всему находится место. И более того, многое из того, что сейчас кажется совершенно обыденным, привычным и присутствует буквально везде, когда-то было совершенным изгойством.
– В общем, сравнение с Фелдманом вас не порадовало.
– Я просто не понимал, при чем тут я. Поймите меня правильно, его музыка – очень тонкое явление. Но она немного из другого мира. Знаете, для верующего человека проблемы со здоровьем имеют одно измерение, а для неверующего – другое. Тот, кто верует, знает, что тело вообще не должно болеть, а если болеет, значит, какие-то узелочки ты внутри себя не распутал. А неверующий пойдет к психотерапевтам, к врачам, и те будут его хорошо и планомерно лечить, по науке, раскладывая все по полочкам. И это вполне основательные, достойные рассуждения. Но их недостаточно. Все это – частные случаи более целостной картины, приближающей нас к самим себе. Это не значит, что не надо ходить по врачам или что они не заслуживают уважения. До тех пор пока у меня не произошла Встреча, я сам отчасти был в положении такого пациента или врача. В общем, я самонадеянно думаю, что музыка Фелдмана тоже такого рода. Она настоящая, но в ней нет оплодотворяющего момента. Так мне кажется.
– То есть вам в ней духа недостает?
– Да не то что… Понимаете, я все время хочу сделать так, чтобы мне было сложно. Есть много творцов, которые делают то, что им интересно. Искренне это делают, но этого мне мало. Фелдман к ним не принадлежит, с ним все сложнее, но и все-таки. Мне мало! Я хочу почувствовать свое глубинное родство с тобой. Я хочу возликовать от того, что мы вместе, мы заодно.
А это сразу узнается. Непонятно почему. И от музыкального языка это не зависит. Узнается и все. Сразу чувствуешь. И именно в этом-то мы и нуждаемся. Я чувствую, что это мое, но при этом – это ты и только ты. А если я чувствую, что это ты, а со мной дело обстоит хуже, тогда это уже немного другой ракурс. И такого очень много – очень! Принципиально не хочу называть имена. Бывают потрясающие мастера, настоящие творцы, невероятно одаренные, а вот не хочется! Я не поставлю это второй раз. Приму, послушаю, и все. И не только в музыке.
– Слишком от головы?
– Любви не хватает. Не интереса или мастерства, а просто любви. Понимаете, Бах же – вечный фонарщик для всех грядущих и бредущих. Ничего, кроме служения и любви, нет. Мастерство, дар, труд – все это очевидно. Такого много, а ежедневного служения в любви – нет.
Захочу я это послушать еще раз или нет, зависит только от одного: есть любовь или нет. Это звучит ужасно тривиально, но что я могу поделать?
– Многие ваши сочинения медленного периода довольно требовательны и к слушателю, и к исполнителю. Это долгие, тихие вещи, они требуют особенной концентрации, напряженного вслушивания. Чего именно вы хотели добиться?
– Я шел интуитивно. Это было время открытия. Знаете, какого? Что любовь – это абсолютный резонанс абсолютной энергии. Я пытался дать себе отчет в том, почему все движется любовью, которая движет солнце и светила. Вместо того чтобы просто сказать: «Любовь есть Бог», я продирался, понимаете? Это очевидная вещь, но к ней надо было прийти.
Путей очень много. Можно даже через документальное свидетельство, как было в случае «Agnus Dei», по дневнику девочки, на глазах которой ушли из жизни все ее родные в ленинградскую блокаду. Это был европейский заказ, но я кожей ощутил, что западное представление о войне для меня совершенно неприемлемо. Даже сказал потом в сердцах: «Будут знать, как заказывать про войну питерскому еврею!» Потому что это невозможность, жертвоприношение, приглашение на казнь. Они же не понимают, что такое блокада. На презентации бельгийской записи я пытался хоть как-то донести, они вежливо кивали, но не понимали, конечно. И это действительно нельзя вместить. Это беспрецедентно. Уже потом я узнал, что мой дед был одним из тех, кто разделил участь десятков, сотен тысяч ленинградцев и скончался от голода в первую же зиму. А я всю жизнь каюсь, отчаиваюсь, что родился не в Петербурге. Хотя вины моей в этом, конечно же, нет.[123]
После исполнения подошли несколько женщин: «Спасибо вам за красоту!» Я еле устоял! Какая красота?! Там же выжить надо! Блокада – вообще не предмет для искусства, тем более для музыки. Но через такие пограничные вещи пришлось пройти. Про ту же «Нику» я писал Булезу, что в современное исполнительство она никак интегрирована быть не может, но хотя бы раз это нужно сделать. Такой вот я экстремал. Но если бы этого опыта у меня не было, «Восьмая глава» не случилась бы.
Так бывает. Чем можно объяснить, что у Чайковского рядом с Шестой симфонией или «Пиковой дамой» вдруг возникает «Щелкунчик»? Это просто преображение материи, которое происходит прямо у вас на глазах. Автор тот же самый, слушатель тоже, а ткань совершенно иная!
– Эта история про красоту очень показательна. Ваши сочинения часто оказываются в одном ряду с минималистами и тем, что называется «новой консонантной музыкой» – Пелецисом, Пяртом, Гурецки, Тавенером. Все это с виду тихая, спокойная, красивая музыка, но вся она очень разная. И ваши сочинения на самом деле сильно выделяются, в том числе своей внутренней радикальностью. Во всяком случае, вы себя, кажется, не чувствуете до конца своим в этом окружении.
– Понимаете, перепутать-то можно легко: взять мою пьесу и исполнить в этом ряду. И она будет естественно звучать, можно будет даже провести разные параллели, но они все равно вам ничего не объяснят. Вы же чувствуете, что она иная, просто по происхождению. Даже если это короткая пьеса, пусть даже минутная – в ней ведь слышится все, о чем мы с вами тут говорим. И люди это чувствуют, им это почему-то нужно. Хотя, конечно, не приглядевшись, могут и перепутать.
Мне, с одной стороны, совестно, что я зову в такие миры. А с другой, я видел, как переживали их люди, совершенно к этому не готовые, и как те на них влияли. Одно только исполнение «Восьмой главы» в десяти разных вариантах – это по двести человек хористов и несколько тысяч слушателей, и все они оказывались в неведомой для них прежде ситуации. Одна женщина на премьере в Вашингтоне призналась: «Я случайно сюда попала, а теперь с ужасом думаю, как бы дальше состоялась моя жизнь, если бы я здесь не оказалась?» Совершенно простая женщина. И я знаю, что это значит. Она вдруг обнаружила себя. Жила-жила – и вдруг ощутила свою личную полноту.
И если каждый это почувствует, и будет тот самый собор. В котором мы все разные, но мы едины и ликуем с замиранием сердца, что у нас такой Отец, что мы – Его дети и что есть пространства, где мы это можем осознать. Андрес Мустонен мне говорил: «Я играю всякую музыку, и кто-то из композиторов на земле, кто-то между небом и землей, а ты все время на небе[124] – это же невозможно!» А я ему отвечал в том смысле, что когда дол и небо сливаются, ты уже не можешь различить, где что, и слышишь оба пространства – когда не только там, но и здесь. Это и есть единение.
– Скажите, а житейская хитрость вам свойственна?
– А почему вы спрашиваете?
– Хочется чем-то уравновесить наш возвышенный разговор.
– Ну, конечно, какие-то игры присутствуют. На самом деле, нужна простая человеческая наблюдательность. Чтобы понимать, с кем ты имеешь дело, и поступать сообразно ситуации. Самый большой мой грех – невнимательность. Тут недолюбил, тут недосмотрел, там проскочил, тут забыл. Вот прошел от дома до метро, сколько человек встретил и ни одному в глаза не посмотрел, а, может быть, ему это было нужно. Вот это и есть житейское. Я бываю генетически обидчив, хотя сразу понимаю, что напрасно. И отхожу быстро.
– А предприимчивость – это ваше? У вас фантастический список очень сложных постановок, вы сочиняли для гигантских экзотических составов, и многое тем не менее было исполнено. В моем представлении это невозможно без жесткой авторской воли и умения все контролировать. Или у вас все строится на везении?
– Это происходит абсолютно само. Придумать и спроектировать это невозможно. Ну смотрите. Когда исполняли «Жанну», ради нее на три дня закрыли франкфуртскую Alte Oper, которую никто и никогда вообще не закрывал, и полностью переоборудовали весь зал. Закрыть главный зал – это же просто ужас, невероятно дорого!
На постановку «Алисы» потратили столько денег, что хватило бы на несколько сезонов. Убрали весь партер, из-за этого взвинтили цены чуть ли не до 250 евро за билет. Это все невозможные, немыслимые вещи. Все, что происходило, ко мне не имело никакого отношения. Видимо, элемент моего безумства как-то влияет. Я только знаю твердо, что если специально начнешь планировать и продумывать, ничего не будет.
Даже то, что «Восьмую главу» исполняют в таких разных местах, – как бы я мог даже помыслить об этом?
– Особенно если учесть, что для ее исполнения требуется четыре хора.
– Например, последнее исполнение было в Майрингене – это сердцевина Швейцарии. Место, где Шерлок Холмс сражался с профессором Мориарти, вот этот знаменитый водопад – как раз там. Карамзин его описывал. Это место заоблачное – там небо ближе, чем земля. Ну вот представьте, ради одного исполнения в старинном деревянном храме нужно согнать четыре хора. Они год готовились и потом даже не записали. Это меня особенно поразило – просто подарить слушателям, которые съехались туда отовсюду, это исполнение. Это противоречит всем законам западной науки, надо же как-то отбить средства, оправдать старания.
– Интересно, как в вас сочетается склонность к масштабным постановкам и минимальности музыкальных средств. В той же «Восьмой главе» гигантский состав нужен, чтобы исполнять еле слышную музыку. Такое удивительное сочетание разреженности и грандиозности.
– Я вам больше скажу. Год назад я завершил вещь, над которой бился пять лет и которую переделывал четыре раза. Вы можете себе представить человека, который одну и ту же симфонию от начала до конца будет писать несколько раз подряд? У меня такого еще не было, но я продрался. В результате – еще одна уникальность. И хвастаться тут нечем. Что хорошего в этой беспрецедентности? Но по-другому не получилось.
– А в чем сложность исполнения?
– Там все иное. Условно говоря, оно посвящено единственности мгновения, которое определяет все в нашей жизни. Это средоточие креста, где пересекаются вертикаль и горизонталь. В общем, вещь такая: состав исполнителей гигантский, все возможное и, конечно, «невозможное». Но в основном все находятся над нами. И мы проходим путь, при котором музыка вступает в область абсолютной темноты и из темноты превращается в свет. Буквально в свет. Не все эти ложные идеи – цветомузыка и так далее, а просто она превращается в свет. Вы же знаете, что есть замечательные студии, которые оборудованы не подушками и прочими звукоизолирующими материалами, а зеркалами? Потому что у звука и света одна и та же волновая природа. В общем, музыка становится светом. В ее основе «Пещное действо» пророка Даниила: разожгли костер до небес, а три отрока с ангелом среди этого вселенского огня легко ходят, и между ними «как бы шумящий влажный ветер». Горнило всей нашей жизни…
Причем, когда я начал работать, вдруг стихло все. Перестали звонить, перестали писать. Полное безмолвие. Я до сих пор в изумлении. Как будто оградили и благословили!
Как это будет – не знаю, не представляю. Но самые непредставимые вещи как раз имеют самые большие шансы. Думаешь, что это невозможно, а оно как раз единственно возможно. Так бывает сплошь и рядом. В моей жизни уж точно.
– А как вы относитесь к Джону Кейджу? Для него, как и для вас, очень важна тема пауз, соотношения звуков и тишины в музыке. Но все-таки ваши паузы и его паузы – очень разные.
– Знаете, у меня есть одна детская рукопись, лет восемь мне было, когда я ее написал. На нотном листке самым изощренным образом записана тишина. Можно сказать, мои «4'33''». Там нет ни одного звука, зато множество обозначений: фортиссимо, маэстозо, аччелерандо, субито, даже размер 4/7, которого вообще не бывает. В общем, все атрибуты, Кейдж озадачен…
C ним ситуация, в общем, понятная. В 1992 году мы делили во Франкфурте фестиваль на троих: Кейдж, я и Штокхаузен. Кейдж упорхнул из жизни буквально в канун этого фестиваля. А со Штокхаузеном я общался совсем немного – он жил в своем мире и ничего не воспринимал. Кейджа я тогда почти всего прослушал. Алеша Любимов до сих пор с ним возится… Не знаю.
Это очень распространенное явление. Вот недавно ушел талантливейший Олег Каравайчук. Все у него хорошо, но нет музыкального текста. Одних только намерений недостаточно, какими бы интересными они ни были. У Кейджа то же самое: он – чистый, парадоксальный, соблазняющийся человек, и с тем же успехом может прийти к вам домой и изысканно угостить. Тоже будет здорово! Нет текста, нет предмета встречи.
Но да, это все весело. К нему и относиться нужно весело. Если все это воспринимать серьезно – совсем невыносимо. А с улыбкой – еще куда ни шло.
– Леонид Десятников в разговоре заметил, что музыка, полная пауз (в частности, ваша), кажется ему очень уязвимой – в эти паузы может ворваться что угодно и разрушить весь замысел. И вы над этим совершенно не властны.
– Это неправда. Знаете, однажды знаменитый дирижер Франс Брюгген исполнял с Шенберг-ансамблем мой диалог с Прелюдией и фугой Иоганна Себастьяна Баха, раньше он назывался «Еще раз к гипотезе». В программе был «Магнификат» Баха, потом баховский хорал в обработке Стравинского и мое сочинение. Концерт проходил в Oude Kerk, самом большом храме Амстердама. Акустика там фантастическая. Но он окружен кварталами красных фонарей, и ничего сделать невозможно: вокруг крики, ор, что хотите. У меня там, конечно, тишина, о которой вы говорите, и в нее врывалось бог знает что, вплоть до нецензурной брани. Сохранилась запись этого исполнения, так вот многие признаются, что без этого, может быть, так хорошо и не было бы.
Или, скажем, в том же Амстердаме исполняли «Глупую лошадь», и поскольку это детские стишки, решили устроить утренний концерт для слушателей с детьми. Даже с грудными младенцами пришли. Были и Валя [Сильвестров], и Соня Губайдулина, она мне весело так щебетала: «Вот, вот твоя аудитория!» В «Глупой лошади» – царство тишины, шепоты, пощелкивания, и вдруг [младенец]: «Эээээ!», а другой: «Ы-ы-ы-ы!» Но если вы включите эту запись, то обнаружите, что плач плачем, а музыка светит все равно.
– То есть у вас нет внутреннего страха, что не дай Бог кашлянут не в том месте?
– Ну вот идет премьера «Блаженств» (1996) в берлинском Концертхаусе. Написано для Ростроповича, он в трех ипостасях – пианиста, дирижера и виолончелиста. Народу – не продохнуть! Он в полнейшей тишине солирует на рояле. Потом вступает голос: «Блаженны нищие духом…» И вдруг у какой-то дамочки монетка бум – и покатилась. Все понимают – она в судороге зажала сумочку, и ждут, что будет дальше. Музыка звучит, и через некоторое время снова: бум-бум-бум… Побежали денежки.
Валя очень любит эту историю рассказывать, он тоже был в зале. Помимо комичности, была ведь нежданная мирская правда: денежки стали убегать. Нет, это все непредсказуемо, слишком ортодоксально – выстраивание тишины. Поймите, существует фантастическая Вселенная, заселенная молчанием таких умов, таких светозарных личностей, для них эти вот наши рассуждения о паузах и тишине – просто детский лепет! Ну что такое тишина? Что такое пауза? Это возможность прислушаться к самим себе, это наше исконное, мы без этого не можем жить. Тишина – это органическая часть музыки по ту и по эту стороны. И будешь еще больше ценить звук, когда он возвращается, а после звука, наоборот, больше будешь ценить тишину. Так что «бояться – не бояться» – это просто не те категории.
Помните, у Пастернака? «Тишина, ты – лучшее из всего, что слышал». Все великие книги, все глубочайшие откровения возникали из абсолютной тишины. Величайшие молчальники испытывали несказанное. Есть хорошая притча у владыки Антония, как мышка бежит по обратной стороне театрального занавеса. Торчат разноцветные нитки, и она все мечется: о, какая красивая синяя, зеленая, красная… Всем соблазняется, все ей интересно. И невдомек ей, что с другой стороны – истинная красота. Не надо бегать от ниточки к ниточке.
– В конце 1970-х у многих ваших коллег произошел уход в «новую простоту». Как вы думаете, почему такие вещи происходят одновременно, чем это можно объяснить?
– Я помню, как Пярт замолчал. Там, правда, были и объективные причины, он ведь серьезно заболел. И, кстати говоря, такого сочинения, как «Tabula rasa», у него больше не было, ни до, ни после. Потому что он полностью себя всего выложил на алтарь. Оплаченность полная! Потом у него была тьма замечательных вещей, но «Tabula rasa» не было.
А в том, что такое происходит одновременно, ничего удивительного нет. Даже на разных полюсах нашего шарика у людей, никак друг с другом не связанных, вдруг возникают одни и те же идеи. Вообще, единство истины – это интересная тема. Митрополит Антоний замечательно рассказывает, как он еще пацаном услышал от Владимира Лосского, что вне православия настоящего знания нет и быть не может. Внутренне взвинтился, выписал дома из Упанишад несколько откровений, пришел к нему и говорит: «Знаете, я вот выписал кое-какие цитаты из святых отцов, но забыл авторов, не подскажете ли?» «Конечно! – сказал Лосский. – Это Василий Великий, это Иоанн Златоуст, это Григорий Богослов…» «Спасибо, – сказал Сурожский, – только это индийские Упанишады». «Я должен это обдумать», – помолчав, ответил Лосский.
Во всех культурах и вероисповеданиях есть эти единства. Человек един, не доходят до неба все эти разделения. И у язычников есть свои догадки, при смиренном восприятии там многое можно увидеть. Но нам трудно. Мы все время хотим найти что-то похожее, аналогию, параллель. Как будто от этого легче жить. К сожалению, большинство исследователей занимаются именно классификацией. А ведь опыт человеческий ей не поддается. Как можно подсчитать счастье? Неужели, если вас что-то переполняет, вы будете высчитывать – по моему, у меня в прошлый раз было не это, а что-то другое, а вот у других, я слышал, бывает еще вот так! Когда вы только этим и живы? Да вам до лампы все будет! А вот когда этого нет, начинается игра в бисер. Очень все просто.
Аналогии ничего не дают. Вот сколько литературы про Шостаковича существует? А лучшая книга – у Лизы Уилсон, которая просто записывала беседы с людьми, знавшими его лично. И возникает картина мира, эпохи, всего! Вы слышите многоликий хор встреч с ним, свидетельства, глупости, какие-[125] о случаи… И услышите музыку совершенно по-другому.
Да и сам автор часто в смущении. Стравинский вспоминал, как писал «Петрушку», а ему вдруг привиделись старцы. И явилась «Весна священная», безо всякой причины. Это же факт. Но что он может прояснить?
«Восьмая глава» накрыла меня пронзительнейше простейшим – на один и тот же текст поется целая вселенная разных прочтений. Представьте: как бы вы хорошо ни пропели строчку, вы опять ее пропеваете. И опять. И опять. Это и есть таинство. Вы понимаете, что это свидетельство того, что есть нечто, перед чем надо просто пасть ниц. Ну правда же?! Невероятная тайна. Пропели – изумились – опять пропели.
Однажды я оказался на утренней репетиции знаменитого дирижера Саймона Рэттла. Прихожу, на сцене – только группы виолончелей и контрабасов. И, хотя программа концерта огромна, они полтора (!) часа пропевали – именно что пропевали своими инструментами – речитативы финала Девятой симфонии Бетховена. Каждый из них в утробе матери их слышал, что тут репетировать?! Но они с Рэттлом – как в первый раз! Потом – еле приходили в себя. Потому что ничего такого никогда не слышали ни от себя, ни от кого. Потом начинали то же самое – совершенно по-другому! И опять – еле живы. И снова начинали. Как будто никто и никогда до этого ничего подобного не слышал, не знал и не умел. Я этого не забуду никогда!
А репортер пошел бы и стал мучать их: почему, да как вам пришло в голову… И все ответы заранее неудовлетворительны. Они отдались этой тайне. Думаю, и Бетховен вместе с ними ликовал на небе.
– Вы за современной музыкой следите?
– Специально – нет. Часто смотрю Mezzo. Многие оперные и концертные свершения. Снимать научились дивно, операторы знают партитуру лучше дирижера. А главное, это залы, которые я очень хорошо знаю. Так, что будто там и нахожусь.
Но вообще, круг того, с чем живу, очень ограничен. Чаплин, Баланчин… Фрески Дионисия из Ферапонтова монастыря. Вы знаете поразительный альбом, который сделал фотограф Юра Холдин? Холдин оказался в этом монастыре, в конце службы упал солнечный луч туда, куда нужно, и так, как нужно, и Юра подорвался на этом. Он был уже всемирно признанным фотографом, но все бросил, перебрался в монастырь и провел семь лет, снимая эти фрески. Ставил свет, искал ключи. Заново погрузился в Священное Писание. Ну, переродился человек. И сделал так, как даже живьем их не увидишь – потому что пока будешь рассматривать одну фреску, свет уйдет.
И потом так же кропотливо изготовил весь этот уникальный альбом. Типографии же гонят вал, а он арендовал типографию целиком на день, и за это время печатал только одну фотографию. Каждый отпечаток авторизованный, каждый альбом им лично завизирован. Но надо было как-то зарабатывать, он полез на какую-то крышу что-то снимать, сорвался, разбился. И осталась книга, совершенно невероятная. В ней Свет, которого мир не знал. Ничего подобного в мировой живописи просто не существует.
Потом я стал искать, а где в русской музыке хоть что-то подобное. Все песнопения XIX века, Бортнянский и так далее – просто ужасные. Там вопят «Верую» как государственный гимн. Но знаете, где я заловил это? В «Лебедином озере» Чайковского. Звучит парадоксально, но я твердо это знаю. Конечно, очень заезженно, но если бы «Озеро» исполнялось раз в несколько лет, это было бы очевиднее.
Там пронзительные вещи, которые у Чайковского только в балетных партитурах. И знаете, какую историю вспоминает Антоний Сурожский? Один авторитетнейший греческий богослов, перед которым он преклонялся, сказал, вернувшись из России: «Теперь я знаю, что такое молитва (!)». «Вы были в монастыре, в каком-то храме?» – спросил его владыка. «Я был на балете, – ответил богослов. – И ощутил это в танце балерины. В ее жесте, сиянии и молчании. Вспоминаю Исаака Сирина и его: «Вечное занятие ангелов на небе – это танец».
И у Баланчина есть это. Когда я смотрю его композиции, я прежде всего вижу явление Петербурга. Фокус традиции. Все-таки языку классического балета, который окончательно сформировался именно в Петербурге, подвластно все. Это абсолютный жест красоты. Совершенство. Свет. Светоносность.
И я могу смотреть его всю жизнь. И Чаплина, у которого весь смысл – во внимании к мгновению. Он все время ловит эту единственность. Возделывает ее. Потому и счастливый смех. Он не знает, где ее обнаружит. Но когда это случается – возникают хрестоматийные кадры. Это же немыслимые откровения!
Конечно, есть и множество другого. Но это мои пространства – Исаак Сирин, владыка Антоний, Дионисий, мой тезка Александр Сергеевич, Баланчин, Чаплин, Глинка… Без них мне никак. Нет, я открыт всему. Но честно говоря, в последнее время грешу тем, что стал скуп на время. Трушу, что не хватит.
Вот мои дети, то, что успелось (показывает на стеллаж размером со стену, с пола до потолка заполненный нотами). Вам кажется, много? А по-моему, не так уж. Перечисление [названий сочинений] занимает всего четыре машинописные странички.
И все это надо довести до постоянно рвущейся вверх точности. Я отказался от сотрудничества с западными издательствами Петерса, Сикорского, Chant du Monde. C моими партитурами они не справляются. Все – «невозможные». И каждая – как живое существо. Как панда, как птица диковинная. Так что работаем сейчас только с питерским издательством «Композитор». Дивно все получается. Около сорока названий уже одолели. Еще немного – и половина.
– Интересно, что ваша музыка то и дело попадает в самые неожиданные контексты. Вас сэмплировали Pet Shop Boys. На вас делал ремиксы Рикардо Вилалобос.
– Да, очень интересный молодой человек.
– Вы же знаете, кто это?
– Ну откуда мне знать! Фотографию видел.
– Это король мрачного немецкого минимал-техно, один из самых известных в мире диджеев.
– В общем, он и еще один хлопец сделали два диска ремиксов на музыку, выходившую на ECM Records, немецкого лейбла, с которым я сотрудничаю. Вообразите, треть этих дисков[126] – ремиксы моих записей. Из всего гигантского архива лейбла! Вы представляете, сколько там всего вышло за эти годы? Но удивительней не это. Они же ничего не знают про эти сочинения, про их смысл. Они звуковики, клюют на звучание. Но выбрали ровно те моменты, которые были ключевыми – по тексту, по решениям, по сути. И ровно в эти узловые моменты они безошибочно – клюк! Ничего не утаить, получается.
И такие совпадения постоянно. Вот, скажем, в моих вечных спутниках – поздние квартеты Бетховена. Ключ от «Жанны» – целиком в этих квартетах. И вот я получаю альбом от ECM: он начинается и заканчивается двумя дублями Lento из 16-го бетховенского квартета, а в центре[127] – мой «Осенний вечер» на стихи Тютчева. И слышно, что это абсолютно одно и то же, хотя где Бетховен, а где Тютчев. Они услышали и сложили это сами. Для меня это просто чудо, тоже род свидетельства.
И вот так с разными культурами – очень неожиданные пересечения. Дэвид Бирн – звездный рокер 1980-х – с собаками меня искал в 1995 году! Хотел издать «Айнану», она ведь, насколько я знаю, в кассетах ходила на Западе. И когда я оказался в Нью-Йорке, он с конкурентом перестарались до того, что сняли для меня два независимых номера в одном и том же бродвейском отеле. Для меня эта ситуация была совершенно неприемлемой, но потом я все-таки оказался в его студии. Невероятной, чего уж там. По тем временам особенно.[128]
Или фирма Volvo. Смешно? Но «Осенний вечер» зазвучал и в их рекламе. Pet Shop Boys вмонтировали «Свете тихий» в свою песню. Потом этот… Франсуа Озон. Господи, молодые режиссеры не клипы – целые фильмы строят на некоторых композициях. У них свои уши, свои представления, но как-то эти сквозняки между нами витают.
В общем, помните – «есть это»? Если это, то, видимо, и прошибает через все. И есть надежда, есть упование. Есть единение в Любви.
Илья Демуцкий
Родился в Ленинграде в 1983 году. Окончил хоровое училище им. Глинки и Санкт-Петербургскую консерваторию по специальности «хоровое дирижирование». Выиграв стипендию Фулбрайта, получает степень магистра по специальности «композиция» в консерватории Сан-Франциско. Вернувшись, поет в хоре Смольного собора, работает художественным руководителем вокального ансамбля Cyrillique, много пишет для хора и для документального кино, активно участвует в композиторских конкурсах (лауреат Международного конкурса композиторов им. Сергея Прокофьева [2012], лауреат Конкурса композиторов к 100-летию Тихона Хренникова [2013], первая премия Международного конкурса композиторов «2 Agosto» [Болонья, 2013]). Сочинение, написанное для одного из таких конкурсов, приведет к знакомству и плодотворному сотрудничеству с режиссером Кириллом Серебренниковым – Демуцкий напишет музыку к его спектаклям «Кому на Руси жить хорошо» и «(М)ученик», фильму «Ученик» (награда Европейской киноакадемии «Лучший кинокомпозитор Европы – 2016»), вместе они создадут два балета для Большого театра – «Герой нашего времени» (2015; «Золотая маска» за лучшую работу композитора в театре) и «Нуреев» (2017). Среди других заметных сочинений Демуцкого – «Последнее слово подсудимой» (2012) для меццосопрано с оркестром, балет «Оптимистическая трагедия» для Балета Сан-Франциско (2017), балет «Анна Каренина» для Joffrey Ballet (Чикаго) и Австралийского балета (2018). Живет в СанктПетербурге.
Беседа состоялась в Москве в 2017 году.
Фрагмент клавира «Последнее слово подсудимой» для меццо-сопрано с оркестром (2012). Илья Демуцкий: «Это первая страница черновика. Поскольку работа над произведением началась спонтанно, а инструментальный состав сочинения был определен только спустя полгода после написания, „Слово“ писалось в виде клавира, который позже был переложен на тройной состав оркестра. Изначально в произведении предполагалось участие смешанного хора, но позже „хоральные“ куски я отдал оркестру».
– Вы довольно редкий пример молодого композитора-традиционалиста. В хорошем смысле ретроград, любите крупные формы, симфоническую музыку с ярко выраженными мелодиями. Вы с самого начала именно таким композитором и собирались быть?
– Специально я себе ничего не формулировал. Думаю, все это связано с моим хоровым прошлым, я же пою с шести лет, даже думал поступать на вокальный факультет в консерватории. Так что, мне кажется, природа моего музыкального языка – именно в этом, мне важно дыхание в музыке.
Это не значит, что мне неинтересны другие формы и другой язык. Я понимаю, что там есть чему поучиться и что я еще многого не умею. Но для этого нужно сесть и сформулировать, чего именно я хочу. А у меня пока на это просто нет времени. Я довольно интуитивно делал выбор: мне важно, чтобы музыка у меня вызывала мурашки. Даже моя собственная, такое бывает. В жизни я человек не эмоциональный, и все эмоции я выплескиваю через музыку.
Но я не думал, как мне войти в историю музыки. Бывает такое у талантливых композиторов, которые только закончили консерваторию, – они начинают думать, что бы такого придумать, чтобы перевернуть музыкальный мир. И в результате спиваются или впадают в депрессию. Об этом просто нельзя думать, мне кажется.
– Было у вас в студенческие годы ощущение, что вы как композитор занимаетесь глубоко не модным делом? Или для вашего поколения уже нет понятий «мода» или «мейнстрим»?
– Писать я начал в шесть-семь лет, музыку, такие пьески в тетрадке на фортепиано, и тогда этими вопросами, конечно, не задавался. Студентом – да. Насколько актуально сейчас быть композитором? Может, пойти в дирижеры? Или вокалисты, я ведь неплохо пел? Понятно, что надо было оставаться в музыке, поскольку ничего другого я не умел. Ну, дальше как-то судьба вывела.
– После консерватории вы поехали стажироваться в СанФранциско, и позже говорили, что важнее всего для вас оказались не классы гармонии и полифонии – этому вас неплохо учили и в Петербурге – а уроки пиара и самопродвижения. Чему вы научились? Что сейчас важно для современного композитора?
– Научился понимать, что композитору, к сожалению, недостаточно просто уметь хорошо писать музыку. Надо уметь себя позиционировать, общаться с исполнителями, искать заказы, уговаривать, убеждать, поддерживать сайт, следить за конкурсами, наращивать свое портфолио. И этому неплохо учат в Штатах. Нам предоставляли консерваторские залы для концертов, но организовать мы все должны были сами. Найти исполнителей, заплатить им, если есть возможность, или уговорить за интерес: скажем, я напишу сочинение специально для тебя. Я сидел ночами, переписывался по имейлу, искал музыкантов, дирижеров, распечатывал ноты. Это вроде бы некомпозиторская работа, но на самом деле – еще как.
Организовать концерт, запись, потом сделать так, чтобы ее услышали нужные люди. Вот написал ты флейтовый концерт, записал на концерте – погугли, найди в мире хороших флейтистов, предложи послушать, выслать ноты. Я уверяю, семь из десяти вам ответят – присылайте. И если хотя бы один заинтересуется и сыграет, уже хорошо. Я так продвигал свои хоровые сочинения, искал хоры по всему миру, предлагал. Не надо стесняться. Но и не надо быть чрезмерно навязчивым. Есть такие композиторы, которые уж очень стараются.
– Еще можно писать для редких инструментов.
– Ориентируясь на конкретных людей, это тоже правильно: я пишу специально для тебя, а с тебя исполнение. Но проблема в том, что если инструмент экзотический, то много ли на свете людей на нем играет? Долгая ли будет жизнь у сочинения, если его запишут два человека на свете?
– Как быстро вы поняли, что на свете есть разные музыкальные тусовки и существуют фестивали, куда с вашей музыкой даже нет смысла соваться, а есть, наоборот, очень вам подходящие?
– После Америки я пытался подавать на докторскую в Кёльне и мне прямым текстом сказали: у вас все хорошо, но это не наше направление. Тогда я с этим в первый раз столкнулся. Не то чтобы меня это задело, просто в Америке такого жесткого разделения нет. В консерватории Сан-Франциско есть профессора, пишущие музыку в разных направлениях. Есть традиционалисты, минималисты, авангардисты, там не стоит задача, чтобы все выпускники принадлежали только одному направлению. Мне кажется, так правильней.
Я вообще не очень хочу быть частью какой-то музыкальной партии и поэтому немного абстрагируюсь от всех тусовок. Я мало с кем из композиторов знакóм, разве что в фейсбуке. Может быть, потому, что чувствую себя немного гадким утенком – я же учился на дирижера-хоровика, мой круг общения – это дирижеры и певцы, а композиторов среди них никогда не было. У них свой круг, туда сложно проникнуть, да и нет смысла проникать. Композитор композитору не помощник.
– А профессиональное общение? Обсудить новые вещи?
– Но зачем? Я просто не вижу смысла. Посоветуют что-то переделать? Это вряд ли. У меня есть авторитеты, к которым я прислушиваюсь, их мало, и это прежде всего мои учителя. Мнение коллег меня не очень интересует. Адекватная критика – вещь полезная, но она бывает разная. Есть и профессиональная зависть, и неприятие эстетической платформы, все это влияет, к сожалению. Мне интереснее прислушиваться к своим исполнителям – нравится ли им моя музыка, разделяют ли мои эмоции.
– А ролевые модели у вас есть? Кто из композиторов для вас важнее всего?
– В Америке такое любили – назовите пять ваших любимых композиторов. А я как-то никогда не мог определиться.
– В одном из интервью вы называли Щедрина и Эшпая.
– Видимо, меня спрашивали про современников? Эшпай уже ушел от нас, к сожалению. Но Щедрина я и правда считаю сильнейшим композитором. Собственно, кто у нас остался из живых классиков? Пендерецкий, Стив Райх, Филип Гласс, Джон Адамс, Арво Пярт. А из наших – Щедрин. Тут еще важно мое хоровое прошлое: в хоровом мире он святыня, мы на его вещах воспитываемся. Так что я слежу за его творчеством, стараюсь не пропускать премьеры, благо в Петербурге его часто исполняют. И старые вещи люблю, «Мертвые души» – сильнейшая, очень интересная опера.
– Вы ощущаете себя частью русской композиторской школы?
– Наверное, да. В связи с нынешним подъемом патриотизма про это даже страшно говорить, не очень хочется, чтобы воспринимали именно в таком ключе. Но в смысле языка – да, конечно. И даже мой американский профессор мне говорил, чтобы я этого не стеснялся.
– То есть он все-таки предполагал, что вы можете этого стесняться.
– Он сказал – Илья, не бойся. Постарайся это не растерять. Нам в Америке это по-прежнему нравится. Они ведь и правда любят русскую классику, и американская публика знает ее, между прочим, получше нашей.
– Вы быстро поняли, что ваша музыка востребована? Что у вас не будет проблем с заказами?
– Я об этом, к счастью, не задумывался, просто не успел. Как-то все само собой пошло. Так получилось, что в начале 2010-х годов, когда я начинал, почти никто из молодых композиторов не писал симфоническую музыку. Я, что называется, просек эту тему. Просто огляделся и понял – а где в этой сфере люди-то? И начал срочно эту нишу осваивать, благо у меня был уже после Америки кое-какой опыт. Камерная музыка мне как раз не очень интересна, я люблю размах, большой оркестр, и надо пользоваться возможностями, которые мне выпадают. Кстати говоря, балет, с которым мне так повезло, – это вообще пустыня, а хореографы изголодались по новой музыке. Молодым композиторам я бы очень рекомендовал обратить на эту сферу внимание.
Я сразу начал активно участвовать в конкурсах. Я же не мог прийти с улицы в какую-нибудь филармонию и сказать: «А давайте вы меня сыграете?» Кто бы меня стал слушать? Так что я поставил себе задачу – пробиваться везде. Пусть не займу на конкурсе никакого места, но меня сыграют, а это школа. Так и получилось. На одном из таких конкурсов как раз и была записана «Поэма памяти…», посвященная Петру Ильичу Чайковскому, которую услышал Кирилл Серебренников, написал мне в фейсбуке, и с этого началось наше сотрудничество.
– Я думаю, работать с большим оркестром многие бы хотели, но институт заказов у нас пока не так хорошо развит.
– Это правда. Большой театр – это исключение. Кое-что заказывает «Геликон-опера». Но это в Москве, а в Питере вообще ничего. Уж Мариинский театр мог бы себе позволить делать лаборатории для композиторов. Чего стоит посадить оркестр на три часа и прочитать вещь с листа? Оркестру было бы приятно, композитору тоже, и, может, так найдут какой-то шедевр? Но этим надо заниматься. Ввести квоты: раз в полтора года ставить нового композитора.
То же самое с конкурсами: попробуйте вбить в поиск «композиторский конкурс в России» – ничего не найдете, или какую-нибудь ерунду. А если и найдете, то с позорными условиями. Все это у нас в зачаточном состоянии, к сожалению. И писать для Запада пока что проще.
– Ваша киномузыка – это работа в большей степени ради денег, чтобы была возможность писать ту музыку, которая вас интересует?
– Скорее да. Не такие уж и большие деньги, кстати. Я начинал с документальных фильмов, а эта область у нас финансируется просто позорно. Да и в художественных, если это не какой-то блокбастер, платят мало, что уж там говорить. И само отношение к музыке в нашем кино мне не очень нравится. Мне интереснее работать с живым оркестром, а приходилось сочинять на компьютере. Музыка к «Ученику» Серебренникова – счастливое исключение. Но киномузыка – это тоже интересный опыт, просто у нее есть свои границы. И она дала мне финансовую свободу, мне больше не приходилось петь ради заработка в хоре Смольного собора, больше времени оставалось для творчества. То есть я впервые смог себя почувствовать профессиональным композитором, который зарабатывает именно своей музыкой.
– Список ваших сочинений более чем разнообразный – от саундтреков к фильмам про Глазунова и Распутина и духовных сочинений до оперы «Новый Иерусалим» про охотников на педофилов и симфонической поэмы, основанной на последнем слове на суде Марии Алехиной из Pussy Riot. За этим выбором есть какая-то логика?[129][130]
– Я делаю то, что мне интересно. Можно назвать это универсальностью. К фильму о Глазунове я музыку не писал, я ее только оркестровал, а фильм про Валентина Распутина – это все-таки фильм Сергея Валентиновича Мирошниченко, шикарный и очень непростой, всем рекомендую его посмотреть. Про меня говорили, что я написал музыку к пропагандистскому фильму про Олимпиаду в Сочи, но там нет никакой пропаганды! Это фильм о спортсмене, о философии жизни, это не праздничная открытка Сочи. Но я понимаю, если посмотреть на этот список, кажется, что человек просто мечется.[131]
– Ищет выгодный заказ. Пытается угадать конъюнктуру. Вы наверняка про себя такое слышали.
– Но на самом деле это не так. Фильмы Мирошниченко по-настоящему глубокие, и я бы не стал писать музыку к кино, которое меня чем-то коробит. А ту же симфоническую поэму на текст Марии Алехиной я вообще написал в стол. И только год спустя увидел итальянский конкурс, которому эта вещь подходила на сто процентов, – они искали музыку с явно выраженной социальной подоплекой. Я все время мониторю конкурсы, глупо было бы этим не воспользоваться. Но ничего конъюнктурного в этом не было. Это вообще совершенно спонтанная моя реакция на то, что я видел вокруг. Меня глубоко возмутил процесс над Pussy Riot, я был просто взбешен, отложил все в сторону и очень быстро написал эту вещь. Я даже не очень рассчитывал, что ее хоть кто-нибудь исполнит. Собственно, в России ее так ни разу и не исполнили, хотя она победила в довольно заметном европейском конкурсе. И, поскольку я не хотел, чтобы она была однодневкой, я сделал ее вневременной, взял те слова Алехиной, которые мог бы произнести любой несправедливо осужденный человек, в любую эпоху.
– Да, там нет не только упоминания Путина, которое есть у Алехиной, но даже слова «Россия» – вместо него просто «государство».
– Там нет четкой отсылки к конкретному процессу. Оно и называется не «Последнее слово Алехиной», а «Последнее слово подсудимой». Или подсудимого, оно же по-английски, там нет пола. Это вневременная вещь. Хочется верить, что когда-нибудь она потеряет актуальность.
– Несостоявшаяся попытка поставить «Новый Иерусалим» кончилась записками с угрозами и нападением на вас у дверей Мариинки. «Последнее слово подсудимой» так и не было исполнено в России. Чему вас эти эпизоды научили?[132]
– В смысле безопасности – ничему. На избиение меня выманили приглашением на интервью, но я так до сих пор и не проверяю, с каких имейлов приходят письма. Но я давно не высказываюсь на злободневные темы. Сегодня люди стали совсем уж неадекватные, все эти выплескивания жидкостей в лицо… Просто страшно становится. И события с Кириллом [Серебренниковым]… Я не знаю, как на это реагировать, нас же никто этому не учит, да? Но иногда не высказываться совсем уж сложно.
Пять лет назад, когда мы пытались поставить «Новый Иерусалим», я почему-то не верил, что до такого может дойти. Что можно напасть на художника из-за его произведения. Хотя у нас уже и музей Набокова к тому времени разрисовывали, и свиную голову Льву Додину подбрасывали. А главное, мой «Новый Иерусалим» – не настолько шикарная опера, ей уделили больше внимания, чем она стоила. Там есть интересные моменты, я ее очень люблю и по-прежнему хочу исполнить, но понимаю, что многие будут разочарованы, ожидая большего.
И, честно говоря, не уверен, что сегодня я решился бы написать что-то подобное. Очень все изменилось. Да и исполнить ее сегодня никто не решится, мягко говоря.
– Я примерно это и имел в виду.
– Не потому, что боюсь. Просто смысла нет. Каждый день появляются настолько сюрреалистические новости, что можно уже ничего не писать. Все за нас сочинят и придумают. Людей, которые занимаются законотворчеством, нам не перещеголять.
– Вашим первым балетом был «Герой нашего времени». Легко ли вам дался этот опыт?
– Честно говоря, до «Героя» я балетом совсем не интересовался, и музыка классического балета мне тоже не была близка. Конечно, речь не о балетной музыке Прокофьева или Стравинского, которую можно услышать на концертах, а о специфической балетной классике – Минкусе и так далее. Так что «Герой нашего времени» стал для меня настоящей школой. Балет – это ведь целый огромный мир, есть разные балетные компании, разные школы, хореографы тоже очень по-разному работают. Кто-то четко ориентируется на ритм, кто-то на мелодическую линию. Они даже считают по-особенному, не так, как считаю я, когда пишу для оркестра. Ну и конечно, есть какие-то технические вещи – сколько длится номер, не устанет ли танцовщик, что будет потом, массовая это сцена или нет, какая сейчас главная эмоция.
– Хореограф Юрий Посохов жаловался, что ваша музыка к «Герою» была не очень удобна для балета – мол, вы увлекались ритмическими сбивками, которые путали танцовщиков.
– Ну уж извините, после музыки Бартока или «Весны священной» странно говорить про какие-то сложности. Ну да, неудобно, непривычно, им пришлось поработать, но у них прекрасно получилось. Я не считаю это своей ошибкой. Мне тоже неинтересно писать «квадратную музыку», хотя нередко приходится. Все ритмические сбивки были художественно обоснованы. И если я чувствую, что здесь нужно не 6/8, а 5/8, я это обязательно сделаю. Ну, придется побольше порепетировать, ничего страшного. Да, Посохов мне иногда полушутливо говорил, что вот, опять принес 5/4, но для постановки это не было проблемой.
– Музыка в современном балете – это чаще всего минимализм, ваша работа – скорее исключение, чем правило. Вы оглядывались на то, что происходит вокруг?
– Конечно, я все изучал: начал с классических балетов и понемногу осваивал историю. Что ставили и ставят в Америке, что в Европе, что у нас. Тут надо заметить, что полнометражный балет – не такая уж часто встречающаяся вещь, и у нас, и во всем мире. Не так уж много их ставили на больших сценах за последние двадцать-тридцать лет. И конечно, вы абсолютно правы, преобладает минимализм, что-нибудь вроде Адамса. Но Юра меня сразу попросил, чтобы никакого минимализма не было, потому что он от него устал – и все вокруг устали тоже. Так что он меня прямым текстом попросил такую музыку, чтобы в ней были эмоции, кульминации, дыхание, чтобы прям рвало душу. Сочиняя потом музыку для балета «Оптимистическая трагедия», который тоже ставил Посохов, я сразу на это ориентировался. Оркестру понравилось, эмоциями можно было захлебнуться.
– А как устроена музыка в «Нурееве»?
– Моей задачей было воссоздать языком музыки разные периоды его жизни. Во время его обучения на улице Росси звучит абсолютно школьная, примитивная ученическая музыка. Такая патриотическая удушающая советская песня, после которой и происходит его знаменитый «прыжок» в другую жизнь. И дальше уже больше мой язык: бурные эмоции, огромный оркестр, сложный ритм, вдруг прорывается саксофон или Бах, которого Нуреев обожал. Или барочная стилизация под Люлли и Рамо, связанная с «королем-солнцем», одной из последних ролей Нуреева. И разумеется, громадный пласт балетной музыки. Там есть прямые цитаты из Листа, потому что у Нуреева есть балет по Листу, «Маргарита Арман». Так что я взял сонату Листа и переложил для симфонического оркестра. Есть и Чайковский, и Глазунов, и «Дон Кихот», и аллюзии на Шенберга, потому что одна из самых ярких его ролей – это «Лунный Пьеро». У меня была возможность попробовать самые разные вещи.
– То есть это такой постмодернистский пастиш.
– Но это не винегрет, все драматургически обосновано. Там ведь все вертится вокруг посмертного аукциона с лотами Нуреева – его знаменитый клавесин, или письмо Эрику Бруну, или костюмы из разных балетов. Все они отсылают к конкретным сценам с конкретной музыкой.
Мне пришлось с головой окунуться в классические балетные партитуры – я приезжал в библиотеку Большого театра и пересматривал их, что-то корректировал. Понятно, что материал известный, репертуар накатанный, но неожиданно я открыл для себя много нового. Ноты ведь старые, многие очень странного качества, с кучей вписанного или зачеркнутого, с прямыми ошибками в оркестровке. В «Баядерке», скажем, валторны в одном месте возникают, а в другом вычеркнуты – но почему? Сидел, разбирался, компоновал. У меня в работе были сотни страниц отсканированных партитур. Музыку я использовал максимально бережно – всегда в оригинальной тональности, темпе. Но в самом неожиданном ключе.
– Правили «Баядерку»?
– Так получилось. Пришлось поправить.
– Как реагировали на это оркестранты Большого? Это же вещи, которые они играют десятилетиями.
– Все-таки это наш второй балет в Большом. На «Герое», конечно, на меня сперва смотрели настороженно: пришел какой-то молодой композитор с непонятной музыкой. Я долгое время пел в хоре, и мы точно так же смотрели на современных композиторов: пришел непонятно кто, принес вещь, которую сложно петь… Но это нормально, если сочинение неудобное. Да, с листа не прочтешь, как большинство классических балетов, надо позаниматься. Но играют в результате «Героя» прекрасно, хотя поначалу были сложности. А на «Нурееве», как мне показалось, музыкантам с самого начала было любопытно. Как это вдруг из «Дон Кихота» вылезает «Спящая красавица»?
– Как распределялись роли между вами, Серебренниковым и [хореографом балета Юрием] Посоховым? Кто за что отвечал, чей голос был решающим?
– Сам замысел балета, его детальное техническое задание – сколько номеров, каких, о чем, какой длительности, какая где интонация – мы обсуждаем вместе. Дальше я ухожу писать музыку. Возвращаюсь с клавиром, получаю одобрение и начинаю оркестровать. И все, я знаю, что в музыке мы больше ничего не изменим. Ее никто не трогает, ноты сдаются в издательство.
В это время хореограф ставит танцы, ориентируясь на техзадание. Что это за сцена? Любовный дуэт, ненависть, сложность в отношениях, смерть, старость, юность… Задача режиссера – все это облечь визуально. Декорации, костюмы, даже некоторые важные моменты в хореографии – на его плечах. К тому же у нас драматический балет, много текста между сценами. И это очень помогает: хореограф может сосредоточиться на своей работе и ни на что не отвлекаться. Конечно, если бы у нас был год на постановку… Но сроки были очень сжатые. Я писал музыку с сентября по декабрь, в декабре сдал клавир и до конца января делал оркестровку. Конечно, это были бессонные ночи. Я отодвинул все свои проекты, занимался только балетом.
– Не было ли у вас ощущения, что это последний проект такого рода? Отголосок бурных нулевых, закат прекрасной эпохи? Нуреев – один из первых советских людей, открыто признавших свою гомосексуальность, настоящая гей-икона. Обойти эту тему в его байопике невозможно, при этом в России действует закон о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». Вы автор оперы про охотников на педофилов. Кирилл Серебренников к моменту выхода балета – фигурант уголовного дела. Кажется, что в 2017 году это не желанная премьера, а страшный сон Большого театра.
– Но все-таки мы с Кириллом сделали для Большого «Героя нашего времени» и балет прошел крайне успешно, это невозможно отрицать. Весь мир его видел в трансляции. Так что, по крайней мере, в некомпетентности нас никто не может обвинить. Ожидать, что мы устроим на сцене какую-то непотребщину, могли бы только люди, вообще не связанные с театром. «Пропаганда гомосексуализма» в России запрещена только среди несовершеннолетних, а у балета маркировка «18+», так что юридически тут все нормально. Разумеется, эту тему из жизни Нуреева не выкинуть, она должна быть в балете. Как можно обойти его роман с Эриком Бруном? Но все можно сделать аккуратно, без пошлости. Мне по-прежнему кажется, что все это реально, даже с учетом всей сложности нынешней ситуации и излишней восприимчивости и чувствительности населения. Все-таки идею балета про Нуреева Большой утвердил не в нулевые, а год назад, все были только «за». Администрация театра была весьма адекватна. Нам дали полный карт-бланш, никаких условий никто не ставил.
– И все же – вы не опасались за судьбу «Нуреева», учитывая обстановку вокруг и особенности его биографии?[133]
– Ну послушайте, если захотеть, прикопаться можно к чему угодно. А «Билли Бад»? А «Травиата»? Да и вообще все классические оперы – они же все о распутной жизни, там везде аморалка и разврат. Можно обидеться на «Бориса Годунова», «Хованщину», даже «Евгения Онегина», везде найдется на что. Если бояться реакции оскорбленной общественности, нужно просто закрыть все театры, запретить все оперы и балет и идти отмаливать грехи.
– За свою собственную творческую судьбу вы не опасаетесь тоже?
– Пока нет. Если закроют границы, будет плохо. Пока у меня все в порядке. Пока мне дают здесь работать, я буду работать. Если не дадут – значит, я буду писать не здесь. Может быть, неприятно, но этот выбор буду делать не я.
Павел Карманов
Родился в 1970 году в Братске. Жил в Новосибирске, с пяти лет занимался музыкой. После того как его детские сочинения одобрил Дмитрий Кабалевский, вместе с семьей переезжает в Москву и поступает в Центральную музыкальную школу для одаренных детей. Заканчивает Московскую консерваторию по классу композиции.
Еще учась в консерватории, увлекается идеями минимализма и вскоре становится одним из самых заметных российских композиторов-минималистов. Его сочинения исполняют Алексей Любимов, Татьяна Гринденко, Юрий Башмет, Марк Пекарский, Московский ансамбль современной музыки и другие, они звучат на фестивалях в России, Японии, США, Польше, на Тайване. Параллельно сочиняет музыку для кинофильмов («Гладиатрикс», «Солдатский Декамерон», «Большой»), активно занимается звуковым оформлением рекламных роликов и телепрограмм. С 2000 года – клавишник группы «Вежливый отказ». В 2013 году стал одним из авторов новой музыкальной редакции оперы «Князь Игорь», поставленной Юрием Любимовым в Большом театре. Живет в Москве.
Беседа состоялась в Москве в 2017 году.
Фрагмент партитуры фортепианной «Сонаты № 6» (1998). Павел Карманов: «Это сочинение школьных времен. В ЦМШ я был флейтистом, контрабасистом и теоретиком. Но я пишу музыку с пяти лет, так что уже концертировал и играл свои пьесы на выездных концертах по стране. Тогда я сочинял только для фортепиано. Ходил на все концерты Шнитке и Денисова, а для себя писал сонаты. Наигрывал по ночам в большом актовом зале и сразу там же записывал на бумаге. Помню переломную сонату „Взгляд на солнце“, это как будто радужные блики в глазах. Я полюбил подолгу перебирать пальцами в ре-мажоре. На излете увлеченности авангардом и Пендерецким я понял, что радужные блики, взгляд на солнце для меня важнее, и начал пытаться передать в музыке этот нежный позитив. Сонаты писались к каждому экзамену. Была даже альтовая. Все это лежит в архиве и ждет, когда я там пороюсь и переработаю что-то для сегодняшних ситуаций, там много хорошей музыки. Эта страница из грустной сонаты № 6, она носит подзаголовок „Прощальная“. Не помню уже точно, с чем именно прощание – наверное, с отрочеством. В 1990-е ее играла и очень любила Наталья Рубинштейн, шеф „Брамс-трио“. Теперь вся эта музыка нуждается по крайней мере в нотном наборе, но на это уже у меня не хватает ни времени, ни средств, ни внимания».
– Вы закончили консерваторию в 1995 году. Можно ли сказать, что это было не слишком удачное для композиторства время?
– Я тогда увлекался барочной музыкой, так что думал скорее о том, как хорошо было бы жить в эпоху барокко, когда еще ничего не придумано и не открыто. Тогда я не очень унывал, было ощущение, что вся жизнь впереди и она будет прекрасной. Что ж, молодые люди часто заблуждаются.
– Но при этом вы сразу решили для себя, что будете писать музыку мелодичную, тональную и даже, может быть, красивую.
– Я это еще в школе понял. Конечно, понятие красоты для всех разное. Для Дмитрия Курляндского это одно, а для меня совсем другое, более общечеловеческое. Можно сказать, что я забочусь о самой широкой публике, даже музыкально неподкованной.
– Ваши соученики, наверное, писали совсем другую музыку?
– У меня на курсе было четырнадцать человек, и только я один писал тональную музыку, а чуть позже и вполне минималистскую. Все остальные старательно выполняли указания своих учителей писать музыку современную, модернистскую и авангардную. Не очень представляю, куда эти четырнадцать композиторов теперь делись. Знаю, что одна девочка пошла петь в церковный хор, другой молодой человек стал регентом и, видимо, впоследствии священником, третий уехал к себе в Уфу и развивает там концертное дело. А про остальных не знаю ничего. Вообще, если вдуматься, это поразительно. В одной Москве порядка пяти вузов ежегодно выпускает по десятку композиторов, куда же они потом деваются? Кто-то уезжает к себе на родину, другие бросают музыку, а москвичи просто растворяются где-то.
Поколение новых российских авангардистов появилось как минимум лет на пять позже меня. Я, кстати, был на дипломе у Курляндского, слушал его «Гипотетическую симфонию». Тогда он был еще вполне тональный, видимо, еще в поиске. А после окончания консерватории нашел себя в полном отрицании звуковысотности. Но изобретательность его математического мозга меня искренне восхищает.
Тут надо сказать, что многие композиторы прошли довольно длинный авангардный путь, а потом пришли к более простой и доходчивой музыке. Пярт к tintinnabuli, Сильвестров к «новой простоте». Даже Стив Райх в 1960-е был куда более радикален, чем сейчас. Я же прошел свой авангардистский путь, еще учась в ЦМШ. В восьмом-девятом классе я не слушал ничего, кроме Пендерецкого, коллекционировал его пластинки. Раннего, конечно, ни в коем случае не позднего. Это была прекрасная музыка, просто искрившаяся живописными музыкальными находками. В школе я пробовал серийную, додекафонную технику. Но в какой-то момент поймал себя на том, что мне приятнее перебирать что-то руками на рояле в мажорной тональности, медитируя в стиле Терри Райли, чем писать диссонирующие звуки.
Скажем, пьеса Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы» – абсолютно уместна. Это действительно полет бомбардировщика над Хиросимой и Нагасаки, нарисованный звуками пятидесяти двух струнных инструментов. Именно такая музыка там и должна быть. Но я вдруг понял, что лично мне совершенно не обязательно заниматься живописанием кошмаров и ужасов. Я так устроен, что для меня мажорная музыка – о чем-то хорошем, а диссонантная и мрачная – о депрессивном. В детстве я был большим позитивистом, сангвиником и весельчаком, так что переход к тональной музыке для меня был совершенно естественен.
Моими кумирами тогда были импрессионисты и Стравинский. И остаются до сих пор. Каждый композитор – это сплав самых разных стилей плюс добавление чего-то своего (если оно есть, конечно). Мне кажется, мои пьесы достаточно узнаваемы и индивидуальны. Вряд ли их можно спутать с кем-то из минималистов. И я точно знаю, что во мне есть не только Дебюсси и Стравинский, но и Pink Floyd, которых я полюбил еще в школе, и AC/DC, которых я до сих пор люблю – ничто так хорошо не прочищает мозги. И джаз – на него меня подсадили выпускники джазового отделения Гнесинки, с которыми я вместе служил в конце 1980-х. Под их влиянием я так заслушался Китом Джарреттом, Майлзом Дэвисом и Четом Бейкером, что после армии оказался совсем далек от авангардной академической музыки и даже вместо консерватории отправился в Гнесинский институт на поиски отделения эстрадной или джазовой композиции. К своему удивлению, я его не обнаружил. Считается, что джазмены – сами себе композиторы, и им не нужны никакие отделения. Так что в консерваторию я поступал от безнадеги и безысходности. И тональную музыку стал писать с первого же курса. Тем более что авангардистам, как я видел, живется непросто.
– Вы выбрали, казалось бы, более простой и короткий путь к сердцам слушателей. Радостная, не депрессивная музыка, понятная большому количеству людей. Но, видимо, он оказался не очень простым?
– Дело в том, что в нашей стране совершенно отсутствуют механизмы поддержки композиторского творчества. Их просто нет. Я могу рассчитывать только на композиторские гонорары. Про авторские смешно даже говорить. Филармонические залы должны отчислять проценты за исполнение моей музыки на концертах, но это просто гроши, несколько сотен рублей за одно исполнение. Приходится бегать, искать заказы, соглашаться более-менее на все. По сути, композитор может заработать, только если его музыка звучит по телевизору или в кинофильмах. Все, как в советское время, когда на гонорар за одну звуковую дорожку к фильму можно было купить «Волгу» или даже квартиру. Но для таких свободных художников, как я, это очень сложная ситуация. По сути, остается только заработок концертирующего музыканта – так живет, например, Антон Батагов, существующий во многом за счет своего прекрасного исполнительского дара. Но это доступно не всем, всё же композиторы – не обязательно блестящие пианисты. Хотя и я пять лет был участником ансамбля Алексея Айги «4'33''» и все пятнадцать – клавишником группы «Вежливый отказ».
В общем, сейчас у меня не самая простая полоса. Заказов вроде бы много, а мест, где могут предложить достойный гонорар, все меньше и меньше. Меценатство у нас в стране практически отсутствует, системы грантов, поддерживающих современных композиторов, нет тоже. Что-то можно заработать в театре. Но и театр в последнее время стал опасной территорией, посмотрите на эту вопиющую историю с Кириллом Серебренниковым. Ситуация вокруг спектакля «Сон в летнюю ночь», который в суде признали несуществующим, – это просто сюрреализм, Кафка. И мы в этом живем.
И поскольку я уже давно просрочил все возможные варианты перемещения своего туловища в другие страны, оброс семьей, детьми, недвижимостью, то прочно завис в России и никуда отсюда не денусь. Но во всем есть хорошие и плохие стороны, Запад я не обожествляю, там тоже куча проблем. Тамошние друзья мне много рассказывают о том, какая там страшная перенасыщенность кадрами. Профессора Йельского университета работают баристами и официантами. Нью-Йорк наводнен прекрасными музыкантами и профессорами с PhD, работы всем не хватает, и люди уезжают в провинцию, чтобы устроиться сельскими учителями музыки. И даже так везет далеко не всем. Устроиться в американский оркестр очень сложно, для этого нужно победить в гигантском отборочном конкурсе. Я знаю не так уж много людей, которым досталась хорошая фулл-тайм работа в Америке. Но такие все же есть, я периодически езжу к ним в гости, иногда меня приглашают на фестивали, где исполняют мою музыку.
– Вы замечаете, как меняется мода или интерес публики? В 1990-е у нас стал популярен минимализм, а новый авангард был не очень заметен, но уже к середине нулевых многое изменилось.
– Сейчас появилась новая тенденция, ее называют «неоклассикой», хотя это не имеет совершенно никакого отношения к неоклассике Стравинского и Бартока. Правильней было бы называть ее постминимализмом. Я с некоторым удивлением ее обнаружил. Это, в большинстве своем, довольно молодые люди, которые считают себя наследниками не Стива Райха или Терри Райли (не уверен даже, что они знают, кто это), а Макса Рихтера и Людовико Эйнауди – самых простых «киноминималистов». Но у этого направления есть своя публика, в Москве ее активно осваивают успешные концертные проекты «Sound Up» и «Неоклассики». Ходят на них тоже молодые ребята, для которых джаз – слишком сложно, а рок – слишком страшно.
– Как вы к этой «неоклассике» относитесь? Вам, человеку с консерваторским образованием, она ведь должна быть не слишком близка, пусть даже она и связана формально с минимализмом?
– Мне сложно ответить, потому что у меня есть правило: о коллегах либо хорошо, либо никак. Как про мертвых. Тем более что сейчас меня судьба сводит с ними в одних концертах, меня ведь тоже записали в «неоклассики», хотя я себя к этому движению совершенно не причисляю.
Но да, тенденция рождает спрос. А спрос на упрощенную музыку существует. Может быть, это связано с усталостью от очередной волны авангарда. Думаю, эти волны возникают органично и своевременно, можно как-то их объяснить, хотя я не возьмусь. Сам я стараюсь никаким волнам не следовать. Меня всегда называли немодным во всех смыслах композитором. Может быть, я не в то время попал. Наверное, мое было чуть раньше, когда отцы-основатели придумывали минимализм. Но я стал их наследником. Считайте, что я соткан из кусочков Райха, Пярта, Сильвестрова, частично Мартынова, Пелециса, а также, безусловно, Стравинского, Равеля, Дебюсси и барочной музыки, которую я очень люблю. И даже пытаюсь сочинять какие-то аллюзии на барочные стили. Скажем, сейчас в фонде Беляева готовятся к изданию ноты моего «Дважды двойного концерта», написанного для двух оркестриков[134] – обычного и барочного. Их партии отличаются на полтона, поскольку играют они в разных строях. Оркестры как бы соревнуются друг с другом, но в некоем благозвучии совпадают.
В Стива Райха я влюбился давным-давно, даже ездил в Нью-Йорк на его шестидесятилетие, но подойти представиться не решился. Он же такой строгий, вечно в своей зловещей кепке. А единственный раз в жизни, когда я взял автограф, был после концерта Kronos Quartet, они играли в Москве «Different trains» Райха. Разумеется, о существовании Эйнауди и Рихтера я узнал гораздо позже.
Я и сам меняюсь. В молодости я был менее терпимым человеком по поводу чужих вкусов. Но с возрастом приходит осознание того, что нет никаких войн, все это ерунда – любая музыка важна, нужна и хороша. Я не отрицаю позицию авангардистов, в обязательном порядке слушаю их новые вещи. Даже если мне этого совсем не хочется. Просто для того, чтобы быть в курсе. Более того, в последнее время я все чаще отклоняюсь в авангардные области. Хотя в авангардисты и не стремлюсь. Но сложные звукосочетания мне стали как-то ближе, а ведь раньше я их сознательно избегал. У меня всегда было убеждение, что публику не нужно бить по голове кувалдой. Не нужно ее отпускать с концерта в состоянии подавленности и удрученности. Негатива у нас и без того предостаточно, пусть лучше уходят домой в приподнятом настроении. Я даже спорил об этом с Теодором Курентзисом, который как-то в гостях начал мне ставить разные авангардные произведения, а я ему сообщил – совершенно искренне, – что хотел бы писать музыку о солнышке и цветочках. Теодор встал в патетическую позу и сказал: «Нельзя писать про солнышко и цветочки, можно писать только про боль!» Я, к сожалению, не смог с этим согласиться. Вероятно, поэтому в круг его интересов я не попал, а жаль. Может быть, когда-нибудь он меня сыграет.
И сами эти молодые постминималисты, и их публика возникли недавно и для меня совершенно незаметно. Это все люди, родившиеся лет на пятнадцать позже меня. Меня долгие годы причисляли к молодым композиторам, но вообще-то мне уже сорок семь, выросло новое поколение, так что, видимо, моя «молодость» постепенно заканчивается. И на смену брызжущей радости, которая всегда была характерна для моей музыки, приходят мрачные размышления. Про солнышко и цветочки писать больше не получается. Так, например, по заказу Базельского фестиваля я написал секстет «Любимый ненавидимый город». По какому-то странному правилу надо было написать именно про город, в котором живешь. Я всю жизнь живу в Москве, женился тут, дружу, работаю, но возвращаться домой из командировок мне все сложнее. Тяжело выходить из дома, дышать нечистым воздухом, попадать в пробки, наблюдать собянинские праздники жизни на площадях. Разрушение старины я тоже воспринимаю болезненно.[135]
Вообще в последнее время я стал домоседом и социопатом. Меня не радуют толпы, поэтому я не езжу на метро и почти не хожу ни на какие концерты. К тому же на них обязательно найдется какая-нибудь несимпатичная личность, которую совсем не хочется ни видеть, ни слышать. С каждым годом таких все больше. И среди музыкантов, и среди слушателей. И среди друзей, которые перестали быть друзьями. Не хочется ворошить старые воспоминания. В общем, в последние годы я живу как затворник, полностью погруженный в музыку. Не то чтобы я с утра до вечера мараю нотную бумагу, могу и неделю ничего не делать. Но это не значит, что я выпал из процесса размышлений по поводу того или иного заказа, потому что живу я исключительно заказами институций, музыкантов или фестивалей.
– Вы ведь раньше зарабатывали на жизнь в основном музыкой для рекламных роликов?
– Уже, наверное, лет семь как бросил. А до того пятнадцать лет провел в постоянной работе для рекламы. Но к серьезному творчеству это не имеет никакого отношения – вполне рутинная ремесленная работа, вроде книжных иллюстраций Кабакова. Гораздо интересней работа в кино, но в этот пул я не попал, с кинематографистами работаю только время от времени. В частности, недавно сделал музыку для фильма «Большой» Валерия Тодоровского – в соавторстве с Анной Друбич и Петром Ильичом Чайковским.
А так я озвучивал самые разные ролики, от пиццы до кошачьего корма и прокладок. Нет человека, который хотя бы раз не спросил, не я ли автор музыки «Ммм… Данон». Увы, нет. А жаль, потому что авторские отчисления никто не отменял.
– Работа над коммерческими заказами – это такое бессмысленное махание лопатой или она вам что-то дала?
– Я ведь начал этим заниматься практически одновременно с зарождением рекламного бизнеса в России, и поначалу это было увлекательно. Неплохо оплачивалось, и люди в рекламе работали интересные. Но все они в итоге пошли на повышение, и их заменили менее адекватные заказчики. Да и я начал воспринимать эту работу как слишком мучительную, тем более что она сопряжена с бесконечными переделками, которые утверждает малообразованный клиент, не способный толком объяснить, что ему нужно. Нередко тебе это пытаются объяснить в ходе так называемого конференц-колла, стандартной практики разговора с композитором в рекламных агентствах – когда семь человек пытаются одновременно давать бессвязные указания по громкой связи.
Приходится работать буквально на ощупь. А потом месяцами ждешь гонорар. В результате ощущаешь себя в конце какой-то длинной пищевой цепочки, прачкой или посудомойкой в ресторане. А тебя в это время играют крупные музыканты по всему миру, но кого это волнует? В общем, единственное, что меня удерживало, – любовь к финансовым потокам, которые протекают в рекламном мире.
– Было ощущение, что эта работа только мешает вам как композитору, что вы просто засоряете себе голову? Или вы легко переключаетесь?
– Конечно, мешает! Особенно в те времена, когда я, чтобы прокормить семью, озвучивал по три ролика в неделю. Это съедало все мое время, с утра до вечера. После этого ни сил, ни времени на так называемую серьезную, то есть неприкладную музыку у меня уже не оставалось. Но со временем меня все это стало так утомлять, что я стал очень строптивым композитором и рекламщики меня разлюбили. Денег стало меньше, зато появилось ощущение свободы.
– А пошли вы в рекламу потому, что никаких других способов заработать для современного композитора в 1990-е годы не видели?
– Лично я не видел. Я закончил консерваторию в 1995 году, не остался в аспирантуре, а сразу пошел со своей музыкой в мир. Я уже активно концертировал, но зарабатывать этим не получалось. В какой-то момент мне даже пришлось устроиться журналистом в агентство InterMedia – верстал сводки академических музыкальных новостей и даже брал интервью у персонажей типа Криса Кельми. Кстати, вместе со мной тогда работал и композитор Алексей Айги, который тоже не понимал, как выживать. Но он довольно быстро нашел себя на кинопоприще, а я сосредоточился на концертах и академической музыке, на поиске спонсоров, меценатов и заказчиков.
В какой-то момент мне показалось, что у меня хорошо пошли дела, но бесконечные кризисы добили моих потенциальных заказчиков. Скажем, сегодня у меня есть три заказа. Довольно серьезные, все нужно закончить за ближайшие полгода. Один от амстердамского фестиваля, еще один – от моего благодетеля [пианиста] Алексея Любимова, который получил от фонда Барышникова грант имени Кейджа – Каннингема размером в 50 000 долларов и разделил их между пятью композиторами – от России там я, Антон Батагов и Сергей Загний, а от Америки – Брайс Десснер и Джулия Вулф.
Сейчас мои ноты издает голландское издательство, и, я надеюсь, это увеличит количество музыкантов, которые меня играют по миру. Правда, это налагает на исполнителей некоторые непривычные для меня обязательства – ведь просто купить ноты недостаточно, это разве что дома поиграть, для концертных исполнений нужно брать ноты в аренду. У меня скоро будет концерт с моей музыкой, и я даже спросил у издательства – что же, мне теперь нужно самому у себя ноты арендовать? И мне милостиво разрешили этого не делать. В принципе я могу по-прежнему давать музыкантам свои собственные, домотканые ноты. Издательство это позволяет, авторским продуктом является именно их версия нот – с дизайнерским стилем, шрифтами, логотипом. Но они просят давать ссылку на издательство, и я это с готовностью делаю, рассчитывая, что это расширит географию моих заказов. Больше-то мне надеяться особенно не на что. Есть еще канал на YouTube, откуда могут прийти заказчики. Но вот недавно в России минут на двадцать заблокировали Google, к которому привязан YouTube. Я даже не успел испугаться, но, если вдуматься, все мои музыкальные активы там, потеря канала для меня была бы болезненным ударом.
– А посылать свои вещи на композиторские конкурсы вы не пробовали?
– В конкурсах я принципиально не участвую. Композиторские конкурсы обычно предполагают модернистский подход к музыке, минималистов там никто на порог не пускает. Я это понял, еще учась в консерватории, и, если посмотреть результаты самых разных современных конкурсов, очевидно, что мне там просто нет места. То же и с фестивалями – таких, которые допускают присутствие минимализма и тональной музыки, в мире не то чтобы много. Там, где можно встретить Стива Райха, Филиппа Гласса и Майкла Наймана, я тоже звучу. Но это нечастые события.
– То есть минимализм – это музыка, которая мало где уместна?
– Понятно, что в Дармштадт меня не пустят, бессмысленно даже соваться. Или взять знаменитый амстердамский конкурс «Gaudeamus» – там побеждают люди типа Дмитрия Курляндского, ехать туда – просто бессмысленная трата времени, денег и усилий. В общем, конкурсы – это не моя история. Если только это не будет конкурс минималистов, но какой тут может быть конкурс? Нас мало, при этом мы очень разные, как тут сравнивать? У нас нет никаких коалиций, групп мы не организуем.
– Но лет пятнадцать назад группа московских минималистов была отчетливо заметна – вы, Антон Батагов, Алексей Айги, Владимир Мартынов, примкнувший к вам Сергей Загний.
– Она существует, но пик нашей тесной дружбы и взаимодействия позади. Сергея Загния к этой группе причисляют совершенно ошибочно, он не минималист, а скорее концептуалист. Есть документальный фильм Олеси Буряченко «После Баха», где Загний, Батагов и Мартынов сидят у меня дома и разглагольствуют о музыке. Но это фильм почти десятилетней давности, с тех пор много чего произошло. Антон стал много играть на рояле и после семнадцатилетнего перерыва вернулся к сочинительству. Владимир Мартынов ушел в литературу. Все они остаются моими друзьями, но общаемся мы редко – интернет заменил живое общение. У всех семьи, дела, наши судьбы разошлись в разные стороны. Мы стали композиторами-одиночками. Хотя по привычке друг друга хвалим и любим участвовать в совместных концертах, но и это в последнее время случается очень редко.
– Как вам кажется, почему в России минимализм стал так популярен – по крайней мере, на какое-то время?
– Я не очень понимаю, о какой популярности вы говорите. Я не ощущал ничего такого ни в 1990-е, ни в 2000-е, ни сейчас. Да, мою музыку все чаще исполняют разные люди, мои редкие поклонники разбросаны по всему миру, от Японии до горной Канады, и сейчас едва ли не каждую неделю приходят то благодарности, то просьбы об использовании музыки. Меня любит играть определенный круг московских музыкантов. Но моды на себя я никогда не чувствовал. На моем кармане это никак не отражается. Государство мною тоже не интересуется. В какой-то момент стал сильно выпячиваться новый театр, фигуры Серебренникова и Богомолова, но я для театра почти не пишу. На этой волне появился, кстати, Александр Маноцков. И думаю, сейчас он куда более популярный композитор, чем я.
– Я все-таки отчетливо помню времена, когда все пробивались с боем на концерты Майкла Наймана и Kronos Quartet, ходили в ДОМ на ежегодный мартыновский фестиваль, покупали диски лейбла «Длинные руки», слушали Айги, батаговскую «Музыку для декабря» и «Переписку» Мартынова с Пелецисом. Это было целое движение – со своими композиторами, исполнителями, ансамблями, дружественным клубом и лейблом. Не всякий мегаполис мог бы похвастаться такой мощной минималистской компанией.
– В Америке минималистов много, и они продолжают появляться, причем в большом количестве. Просто мы про это мало знаем, к нам ведь все приходит с большим опозданием. В 1990-е мы узнали про существование Стива Райха, а про какого-нибудь Дэвида Лэнга и не слышали. А я долгое время был в Московской консерватории единственным минималистом. Профессора надо мной смеялись, говорили: «Вот идет наш ре-мажорный композитор!» В том числе и уважаемый Владимир Тарнопольский. Это ведь благодаря ему я узнал про Райха. Он записал своей ученице Александре Филоненко на кассету сборник «Как не надо сочинять музыку». Там был и Райх. Она дала мне послушать, и я совершенно ошалел. Но при этом тот же самый Тарнопольский в самом начале моего пути как-то сказал мне: «Паша, если хотите быть минималистом, так будьте и не морочьте нам голову!» Это был, наверное, 1992 год. А вместе с Райхом я открыл для себя Пярта, Сильвестрова, Наймана, Гэвина Брайерса.
– У русского минимализма есть какие-то очевидные особенности?
– Если и есть, они какие-то не особенно русские. Разве что Мартынов работал с русским фольклором, а остальные композиторы пишут общечеловеческую надмирную музыку, при этом впрямую не подражая американским образцам. Я сам активно сторонюсь плагиата, стараюсь находить новые формы внутри минимализма и тональной системы. Но в последнее время стал позволять себе вылезать и за эти рамки. Как-то не до солнышка и цветочков. В российской культуре творится полный абсурд. Сорокину он кажется гротеском, но когда сидишь не в Германии, а в центре Москвы, он выглядит чем-то более печальным.
В общем, не получается у меня больше писать радостную музыку, хотя это долгие годы было моим принципом, редким среди композиторов. Но что-то нет больше поводов. Реальность влезает в тебя помимо воли, и все меньше сил этому сопротивляться. Так что сейчас у меня есть уже целый ряд совсем невеселых, попросту мрачных сочинений. Да и молодость уходит, яркость восприятия утрачивается. Раньше все было по-другому.
– А вы ведь были классическим ребенком-вундеркиндом?
– Видимо, да. Не знаю, как к этому относиться, но детства в обычном понимании у меня не было. Моя мама преподавала в музыкальном училище в Новосибирске, к нам постоянно приходили ее ученики, так что самое первое мое воспоминание связано с музыкой: кто-то из учениц моей мамы играет на пианино Шопена, а я разглядываю желтую советскую энциклопедию с неандертальцами. Мне было года четыре. Естественно, я рос за пианино, уже в пять лет стал писать пьески. Сначала их записывала мама, потом сам – кривыми каракулями, но верно. Ноты я научился писать раньше, чем буквы. Собственно, эти мои пьески мама и отправила в письме Дмитрию Кабалевскому. Был такой, если помните, известный композитор и педагог, написал небесспорную книгу «О трех китах», где разделил всю музыку на три жанра: песня, марш и танец. В ответ он разразился большим рукописным письмом о моих талантах, благодаря которому мы все бросили, переехали в Подмосковье, поступили в ЦМШ, а потом перебрались в Москву.
В ЦМШ я привез небольшую партитуру своей первой симфонии и кучу фортепианных пьес. Симфония у меня была вся в до-мажоре, с многочисленными пассажами и глиссандо во все стороны. Где-то я прочитал, что старинные композиторы писали пером и чернилами, завел себе перьевую ручку и писал ей. Получались смешные смазанные ноты, они у меня до сих пор где-то лежат. С выведенным детским почерком названием «Симфония № 1».
То, что я буду композитором, я решил тогда же, лет в пять. Не дирижером, не пианистом, не исполнителем и не флейтистом, потому что в ЦМШ я девять лет учился играть на флейте. Просто там не было никакого композиторского отделения, пришлось поступить туда, куда было возможно. Но сочинял я все время, и на школьных концертах играл свою музыку, в том числе выездных – мы много ездили по стране с бригадой одаренных цээмэшовцев. А флейта мне пригодилась, когда меня призвали в армию – это позволило мне попасть в духовой оркестр, а не в стройбат, как многим моим одноклассникам.
– По сути, вы – идеальный продукт советской музыкальной системы. Ведь вся она была рассчитана именно на то, чтобы найти где-нибудь в провинции гениального ребенка и отправить его учиться в ЦМШ. То, что мы сейчас с вами разговариваем, – доказательство того, что эти социальные лифты все-таки работали.
– Я настолько продукт советского времени, что мне умудрился помочь не только Кабалевский, но и Тихон Хренников. Два одиозных героя советской эпохи, но то, что они многим помогли, – это факт. В какой-то момент я был прописан с мамой и несовершеннолетней дочерью на четырнадцати метрах в московской коммуналке. Мама активно пыталась улучшить наши условия, а я раздобывал разные справки. В Союзе композиторов, членом которого я уже являлся, мне дали бумажку, согласно которой московскому композитору полагается дополнительная жилплощадь – кабинет для работы. Согласно какому-то постановлению чуть ли не 1937 года. Их, кстати, до сих пор в Союзе композиторов выдают – мол, если вам поможет, берите. Нам она не сильно помогла, зато помогло письмо от Хренникова. Он был уже совсем стареньким, я приходил к нему домой и видел, что он до последних дней работал над своими партитурами. Стол, заваленный лекарствами, а посредине – ноты, затертые до дыр ластиком. Хренников просто подписал мне пару пустых листов и сказал: «Напишите там все, что хотите. Если моя подпись еще кому-то нужна… Жаль, что вы ко мне не обратились, когда я был еще при делах». Но московские чиновники в 1990-е годы были наследниками советских времен, так что подпись Хренникова произвела впечатление и нам выдали какую-то жилищную субсидию. Ну а я благодаря своей работе в рекламе и кино смог выбраться из коммуналки на Павелецкой в стометровую квартиру на Белорусской. Это происходило долго, медленно, путем многих мытарств и терзаний, но за то, что я смог поправить свои дела, я рекламе, конечно, благодарен.
– А правда, что первый концерт, на котором вы оказались ребенком, был концерт Владимира Мартынова?
– Это было сразу после переезда в Москву, году в 1978-м. Я учился играть на флейте у Олега Худякова, это был его концерт. А он в 1970-е принимал участие во многих проектах Владимира Мартынова и других любителей старинной музыки, вместе с Алексеем Любимовым, Анатолием и Татьяной Гринденко. Это было то ли в Доме художников, то ли в Доме ученых, все было для меня в новинку, и музыку исполняли какую-то странную – вроде старинная, а написана, как я выяснил уже после концерта, современным композитором. Судя по всему, это были мартыновские «Passionslieder», «Страстные песни». Я там впервые в жизни увидел вибрафон, на котором играл Марк Пекарский. В общем, был сражен. Но фамилию «Мартынов» забыл напрочь, и заново познакомился с ним и его музыкой уже в 1990-е, учась в консерватории. Я тогда много общался с только собранным вторым составом башметовских «Солистов Москвы», мы чуть ли не ежедневно собирались на одной из богемных квартир на Пречистенке и слушали музыку. Там я впервые услышал мартыновскую пьесу «Войдите!», которую до сих пор очень люблю. А еще через какое-то время я познакомился с Мартыновым лично. Мы случайно столкнулись с ним лбами где-то в консерватории и с тех пор не можем разомкнуть объятия. Я считаю его не только своим учителем, но и другом. Встречаемся мы редко, но регулярно созваниваемся. У нас довольно большая разница в возрасте и мне было сложно перейти с ним на «ты», пока он на меня однажды не наорал. С тех пор он для меня просто Володя.
Мартынову я очень за многое благодарен. И, в частности, за то, что он привел меня домой к Юрию Петровичу Любимову и помог получить заказ на новую редакцию оперы «Князь Игорь», которую Любимов ставил в Большом театре. Оперу мы изрядно сократили, почти на полтора часа, что, конечно, многим не понравилось, но моя совесть чиста – от себя я не удалил и не дописал ни одной ноты. Я просто работал ушами Любимова, выполнял волю режиссера. Можно сказать, что мне помог мой опыт в рекламе, к тому времени я уже собаку съел на работе с чужой музыкой.
– Это все-таки не совсем то же самое.
– Ну, отчасти. Моя работа над «Князем Игорем» сводилась к аккуратным сокращениям и деликатным соединениям музыкальной ткани внутри оперы. Кстати, телеканал Mezzo, который ее показывал, разрешил мне вывесить трансляцию в своем ютьюб-канале на том основании, что я автор музыкальной редакции, то есть, получается, один из авторов этой оперы наряду с Бородиным, Римским-Корсаковым и Глазуновым. Ее до сих пор очень активно смотрят и комментируют – западные люди в основном восхищаются, а русские возмущаются.
– Из-за сокращений? «Куда вы дели арию Кончака?»
– Да, знаменитая ария хана Кончака у нас пошла под нож. И увертюра, которая в оригинальном глазуновском варианте идет десять минут, у нас длится три. Идея Любимова была в том, чтобы максимально нивелировать всю линию дружбы Кончака и князя Игоря. Ему казалось диким, что в плену князь Игорь ходит не в кандалах, что ему предлагают коня, жену – они же с половцами враги!
Но комментарии в интернете – это ерунда. Мне однажды пришлось оказаться в одной телепередаче с двумя выдающимися российскими певцами, Владимиром Маториным и Паатой Бурчуладзе, вот от них мне досталось всерьез. Маторин пел в опере Галицкого, а Бурчуладзе – Кончака, у него-то мы с Юрием Петровичем и купировали любимую арию. Это довольно серьезные мужчины, они хмурили брови и басом меня отчитывали, было страшно. Пришлось сказать, что редакция этой оперы создавалась для людей, которые вообще не подозревают о существовании арии хана Кончака. Тут они, видимо, решили, что я непрошибаемый идиот, и от меня отстали.
– Я знаю, что у вас абсолютный слух, при этом цветной.
– Это не такое редкое явление среди композиторов. И после службы в армии он у меня немного испортился, из-за фальшивых духовых инструментов, которые я слушал два года подряд. Еще сильнее мой слух испортило увлечение барочной музыкой, там ведь другой строй. Так что на полтона я иногда могу ошибиться. Что до цветов, то многие тональности у меня ассоциируются с очень конкретными оттенками и состояниями. Си-бемоль минор, сложная тональность с пятью бемолями, для меня темно-коричневая. Это грустная, похоронная тональность. Наверняка это связано с «Похоронным маршем» Шопена, который написан в си-бемоле. В последние годы это мой любимый цвет, хотя раньше я любил все яркозеленое.
– А зеленый – это какая тональность?
– Это точно ля-мажор. Ре-мажор – цвета солнца или бликов, которые остаются в глазах после того, когда долго смотришь на солнце. Соль-мажор – желтый, ми-минор – синий и так далее.
– Вы, конечно, знаете про других композиторов с цветным слухом – Скрябина, Асафьева, Мессиана, Римского-Корсакова. У вас совпадают цвета?
– Где-то да, а где-то нет. Помню, что с Римским-Корсаковым мы сходимся в морском происхождении ми-бемоль мажора. Для меня это тоже цвет моря, хотя ми-бемоль мажор бывает разный.
– По крайней мере, ваш любимый ре-мажор и у Скрябина, и у Римского-Корсакова – тоже желтый и солнечный.
– Я сравнивал себя с другими цветовидящими людьми – совпадения есть, но вообще у всех по-разному. Это абсолютно индивидуальная, субъективная вещь.
– Про тональности понятно, а что с произведениями? Когда вы слушаете музыку, у вас в голове возникает сложное цветовое изображение?
– Нет, я все-таки не Скрябин, мне до него далеко. Хотя Скрябина я с детства люблю, особенно «Прометея». Третью симфонию я в детстве много раз слушал с нотами, еще в Новосибирске мама приносила мне ноты с пластинкой – такие комплекты из библиотеки музыкального училища. В детстве, вместо того чтобы играть в футбол во дворе, я сидел и дирижировал вязальной спицей, представляя перед собой воображаемый оркестр и показывая вступление разным группам оркестра. И потом в Москве немного занимался дирижированием, но в итоге забросил это дело, потому что не люблю работать с большим количеством людей. Я не харизматик, и самое естественное мое состояние – сочинение музыки в домашних условиях, без третьих лиц и без начальства.
Не люблю, когда кто-то сверху давит. Видимо, в период работы над рекламой передавили. Там это обычное дело: дать образец, так называемый референс, и потребовать повторить. Разумеется, никто не просил сочинять мою собственную музыку. Один раз в жизни замечательный режиссер Попогребский, который делал какие-то ролики для «Сколково», заказал мне музыку со словами: «Мой референс – это Карманов». Но обычно просят создать максимально точную копию какой-нибудь песни «Любэ», а еще лучше – U2. То есть повторить за пару дней на коленке то, что сделано при помощи симфонического оркестра в лучших студиях Голливуда.
В кино часто бывает то же самое. Многие режиссеры берут готовую музыку, вставляют ее в фильм, делают предмонтаж, а потом приносят композитору кусок смонтированного фильма с чужой музыкой, на которую вроде как не надо ориентироваться, но не ориентироваться невозможно, потому что к ней уже привык режиссер, монтажер и все остальные. И сделать что-то радикально другое сложно. Мне однажды пришлось мучительно работать над фильмом режиссера, который по всему фильму разбросал диск «Greatest Hits» Нины Симон и попросил сделать что-нибудь похожее. А попробуйте сымитировать Нину Симон, ее лучшие, гениальные вещи! Сколько я ни пытался изобразить какой-то джаз, заменить голос саксофоном, ничего не получалось. В результате я выдохся, режиссер обиделся и сделал этот фильм с другими композиторами. Которым, впрочем, тоже не удалось сымитировать Симон, но и режиссер, видимо, убедился, что это нереально, так что в фильме звучит просто приджазованный голливудский саундтрек.
Пояснения вместо образцов бывают довольно приблизительные. Один режиссер говорил мне так: «Представь себе огромного орла, который гордо парит в вышине. Вот такая мне нужна музыка!» Это, кстати, хорошее объяснение. В кино очень часто нужно именно такое. Эта надмирность присуща минималистской музыке. Филипп Гласс доказал это в фильмах Годфри Реджио. Я часто сравниваю минимализм с муравейником. Издалека он кажется статичным, но если приглядеться, окажется, что там кипит бурная жизнь. Минимализм так и устроен. Ему присуща суета, незаметная для обычного взгляда на музыку, там все время происходят какие-то изменения.
– Мне казалось, минимализм – очень удобная музыка для кино.
– Иногда режиссеры его любят, но не всегда. В кино мне ни разу не предлагали написать собственную музыку, всегда нужно что-то, похожее на что-нибудь. Вот разве что Тодоровский в «Большом» выбрал мою фортепианную пьесу, которую я заново оркестровал. Ее фрагменты звучат по всему фильму.
А в рекламе я, кажется, трижды переделывал песню Луи Армстронга «What a Wonderful World» и некоторые другие его песни тоже. Однажды, в рекламе пиццы, я даже хрипел что-то в стиле Армстронга. Это странная работа: если слишком уйти от оригинала, заказчики скажут, что непохоже и не примут работу, но и снимать в ноль нельзя, иначе будет плагиатом.
У меня есть знакомый композитор Евгений Гальперин, он живет в Париже и сделал хорошую карьеру кинокомпозитора – много пишет для французских, голливудских, российских фильмов, вот недавно написал музыку для «Нелюбви» Звягинцева. Он тоже активно писал музыку для рекламы, и, в общем, его путь похож на мой – только с парижскими зарплатами, авторскими правами, которые работают как часы, и прочими вещами, отсутствующими в российской практике. Так вот когда он слышал мои рекламные поделки, то хватался за голову и говорил, что в Париже меня бы давно посадили за такое беззастенчивое имитирование чужой музыки. Во Франции, да и вообще в мире, никто не дает композитору эти самые референсы, образцы, которые надо имитировать. Там почему-то принято доверять композитору, уважать его мнение, профессионализм, образование. А у нас, наоборот, принято композитора нагибать как можно ниже. Это, конечно, тяжело выносить. Но приходится.
Алексей Сысоев
Родился в Москве в 1972 году. Закончил Московский колледж импровизационной музыки, после чего длительное время выступал как джазовый пианист. В 2008-м закончил Московскую консерваторию по классу композиции, в 2011-м – аспирантуру Московской консерватории.
Активно экспериментирует с нетрадиционными составами, вводя в них импровизаторов и/или электромеханические звучащие объекты (моторы, реле, соленоиды, зуммеры). В результате в списке его сочинений можно найти как струнные квартеты («Melancholia», 2012) и фортепианные композиции («Antiphases», 2009; «Selene», 2012; «Selenology», 2013; «Tihotvorenie», 2014), так и произведения для музыкантов, электронных треков, синусоид и восьми электромеханических реле («Present Continuous», 2014) или ансамбля, двигателей и сирен («Col Pugno», 2013). Автор оперы «Сверлийцы. Эпизод IV» (совместно с Сергеем Невским). В числе заметных сочинений – «Униженные и оскорбленные» (для двенадцати играющих и поющих перформеров, на тексты оскорбленных религиозных верующих, 2015), «Агон» (для восьми играющих и поющих перформеров, электроники и ламп, на тексты Виктора Пивоварова и тексты, найденные в интернете, 2016), «SOS (The Song of Songs)» (для двух чтецов, двух хоров, перкуссии, телеграфного ключа и электронного трека, на тексты Песни песней, Плиния Младшего и Веры Мартынов, 2017). Отдельное место в творчестве Сысоева занимают текстовые партитуры-инструкции для музыкантов и перформеров. Активно выступает как музыкант-импровизатор. Автор музыки к масштабному перформансу в мартеновском цехе металлургического завода Выксы («Страсти по Мартену», вокальные и танцевальные сцены для вокального ансамбля, детского хора, двенадцати перкуссионистов и электроники, 2018), театральным постановкам Кирилла Серебренникова, Бориса Юхананова, Филиппа Григорьяна, Вадима Захарова, Gay & Rony Club (Голландия). Обладатель премии «Золотая маска» за лучшую работу композитора в музыкальном театре (2013).
Сочинения Сысоева исполнялись на Венецианской биеннале, на фестивалях в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Дармштадте, Дюссельдорфе, Киле, Больцано, Токио, Брюсселе, Любляне, Базеле, Утрехте, Сан-Себастьяне и других. Среди исполнителей – МАСМ, «Студия новой музыки», ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского, Ereprijs (Нидерланды), Amstel Quartet (Нидерланды), Ensemble 2e2m (Франция), Phoenix Basel (Швейцария), Ensemble This, Ensemble That (Швейцария), Belgrade Percussionists (Сербия), BLINDMAN (Бельгия) и другие.
Живет в Москве.
Беседы состоялись в Москве в 2018 году.
Фрагмент партитуры «Theory of Mechanisms and Machines» для фортепиано, ударных и электроники. Алексей Сысоев: «Это первая страница „Теории механизмов и машин“. Очень энергичный, он же, что называется, главный материал всей пьесы. Перкуссионисты играют на гибких прутьях из стеклопластика, прижимают их к поверхностям столов и дергают. Если прутья сдвигать к краю стола и обратно, получается такой глиссандирующий треск. В этом идея всей пьесы. Меня интересовал звук, который переходит из ритма в звуковысотность и обратно. Чуть побыстрее – низкий звук, чуть помедленнее – треск. Ну в общем, идея Штокхаузена по поводу единого временного поля: форма – структура – звуковысотность – тембр (все вышеперечисленное – колебания). В пьесе все это последовательно обыгрывается. В игру включаются совершенно разные „подручные средства“: повторения у фортепиано и ударных, обработка дилэя, синусоиды у электроники и так далее».
– Ваш путь к академической музыке был довольно извилистым – вы ведь начинали с джаза?
– Мало того, я же изначально вообще не был музыкантом! Я учился в техническом вузе, Московском институте радиоэлектроники и автоматики. Потом хипповал, потом поступил в ужаснейшее место – Московский автомеханический институт. Там года три что-то делал, и в конце концов ушел в джазовый колледж, потому что понял, что могу заниматься только музыкой. Это 1992–1995 годы.
– Но почему джаз? В начале 1990-х вокруг него уже не было романтического ореола, это было что-то старорежимное и неклассное.
– Да, не было. Но все равно играешь где-то в барах, мне это казалось классным. Я довольно долго работал тапером в баре Armadillo. Вообще, джаз я любил с детства и поступил в колледж довольно быстро. Работы тоже хватало. Но вскоре я понял, что ничего из того, что я искал, в джазе на самом деле нет. Это просто зарабатывание денег, как на заводе. Только хуже, потому что то, что, как тебе казалось, может звучать как искусство, подменяется полосканием аккордов. Джаз оказался для меня довольно тяжелым опытом, который ничего мне не дал и окончился длительным кризисом – лет пять я не знал, куда мне идти, что делать. Знал только, что продолжаться так дальше не может.
– А какой джаз вы играли?
– Какой угодно. К сожалению. Когда я начинал, я ориентировался на Майлза Дэвиса конца 1960-х, Херби Хэнкока, Телониуса Монка, а потом жизнь заставила играть так, чтобы всем нравилось: тихо, мягко, мелодично. Были какие-то концерты, где можно было сыграть собственные вещи, но они случались приблизительно раз в год. И главное, вокруг было очень мало музыкантов, которым вообще было что-то нужно. В основном все зарабатывали деньги. А потом я совершенно случайно пошел в консерваторию.
– Как случайно?
– Ну вот так. Написал какой-то струнный квартет и пошел на класс композиции. Это было ужасно, я страшно боялся. Попал к такой даме Татьяне Чудовой, и это было еще неплохо. Потому что я мог попасть к Владиславу Агафонникову, это такой страшный консерватор. Но его в тот день не оказалось. У Чудовой, впрочем, я проучился полгода и понял, что должен работать (то есть учиться) в одиночку. Собственно, у меня среди педагогов и не оказалось учителей. Я ни у кого не учился, как-то сам. Но мне повезло, потому что в консерватории я подружился с Володей Горлинским, хоть я и старше его на двенадцать лет, и стал частью движения новых композиторов, которое началось как раз где-то в 2005-2006 году. На нас пришелся мощнейший взрыв информации: все освоили интернет, можно было выкладывать партитуры, смотреть чужие, доставать записи. По сути, нашим общим учителем стал этот неконтролируемый поток знаний, которого раньше просто не было.[136][137][138]
– Но все-таки чем вас привлекла академическая музыка? Путь из бара Armadillo в консерваторию – не самый очевидный. Можно было заняться фри-джазом или, наоборот, уйти в популярную музыку.
– Так я там уже был! И фанк играл, и даже был клавишником в группе «Михей и Джуманджи», когда они только начинали. И немного в Bad Balance. И всего колорита 1990-х я насмотрелся – помню, нас в Донецке с почетом встречала местная братва, мы потом опоздали на поезд и догоняли его на шестисотых мерседесах. Глупости это все, конечно, ничего интересного.
Но я долго не мог признаться себе в том, что джаз я для себя исчерпал. Грубо говоря, переиграл все аккорды. Стало скучно. Тогда мне казалось, что именно мир высокой культуры – это альтернатива тому болоту, в котором я находился. Я достаточно поздно услышал Стравинского, балет «Агон», и это было потрясающе. А в джазе просто невозможно было себя реализовать. Ну никак! У меня были композиторские амбиции, какие-то опыты в этом направлении, но все равно получался дешевый сюитный джаз а-ля Мингус. Он ведь тоже, грубо говоря, не двинулся дальше сюитного принципа.
– Какое впечатление на вас произвела консерваторская среда?
– Страшно было. Да у меня и до сих пор комплекс, я боюсь академизма. У меня нет абсолютного слуха, нет хорошего среднего музобразования, поэтому перед поступлением пришлось пройти изнуряющий курс гармонии. Довольно жестко было. Профессор, с которым я занимался, искренне мне сказал: «У меня впервые в жизни такое». Ну и вот представьте – поступает в консу какой-то немолодой человек из кабака, как ко мне относиться? Все знали, что у меня, что называется, подозрительное музыкальное прошлое. И сам я во всех смыслах подозрительный человек.
– При этом взяли.
– Они же тоже присматриваются. Когда поступаешь в консерваторию, у тебя должен быть человек, который тебя продвигает, и всякие заинтересованные в тебе люди. При этом всегда будут и противники, и важно, кто перевесит.
– А откуда появились эти заинтересованные люди?
– Видимо, это была сама Чудова и ее приближенные. Уж не знаю почему. Первые несколько экзаменов я вообще очень хорошо сдал. Но не был уверен в том, что поступлю. Думал, получу все двойки, а в результате сдал все экзамены на отлично, шел вообще первым в списке. И вдруг понял, что послезавтра надо сдавать экзамен по фортепиано, а я совершенно не ожидал, что до этого дойдет, у меня даже программы не было. В общем, как-то за день выучил и сдал. До-минорную прелюдию и фугу Баха из первого тома [ «Хорошо темперированного клавира»] и довольно легкую бетховенскую сонату. Получил «хорошо».
– Вообще, за день выучить программу для поступления в консерваторию – это довольно лихо.
– Ну наверное. При этом я как пианист начал в девятнадцать лет. До этого я же не играл нигде. То есть у меня не было за плечами ни Мерзляковки, ни просто нормальной музыкальной школы. Я начинал на кларнете, давно забыл о нем, потом играл джаз на фортепиано. А в консерватории началось так называемое общее фортепиано – и это был полный ужас для меня! Я обнаружил у себя неприятное свойство: оказалось, что я страшно боюсь играть наизусть. Совершенно от себя такого не ожидал.
Быстро выучить я могу, знаю все прекрасно, просто боюсь. Я боюсь рояля, это очень громкий для меня инструмент, как это ни смешно. Поэтому я играю с левой педалью, чтобы чуть-чуть его приглушить, и еще хмыкаю носом, чтобы заложило уши. Так мне комфортнее. Я делал это, даже когда играл джаз.
– Но как же вы тогда вообще его играли?
– Ну вот как-то так. Играл и страдал. Ну а Бах и Шопен, понятно, еще страшнее. Джаз-то ладно – играешь, в общем, что тебе в голову взбредет. А тут ты должен играть по нотам, и тебя слушают люди, которые знают это произведение в двадцать пять раз лучше, чем ты. Вот это, пожалуй, самый мой тяжелый консерваторский опыт – общее фортепиано. Были еще большие проблемы, связанные с теорией. Мне сложно давалась полифония. Я пришел, можно сказать, от сохи, было непросто. Но я был упертым, сидел, зубрил, так что в конце концов все прошло нормально. И даже аспирантуру закончил.
– В каком возрасте вы поступали?
– В тридцать один год. То есть я был сильно старше всех. Моим однокашникам было лет по девятнадцать. Композиторы еще постоянно сталкиваются с теоретиками, а это курс, где сорок совсем юных девочек, сразу после школы. И я среди них – седой практически. Ничего смешного, честно говоря.
– У вас было представление о том, какую вы собираетесь писать музыку?
– Абсолютно никакого! Когда я поступал, мне казалось, что Моцарт, Бетховен, Шостакович – это и есть настоящая музыка. Потом я как-то поостыл. Начал слушать много всего другого. В консерватории все-таки есть кафедра современной музыки под руководством композитора Владимира Тарнопольского. Там можно брать ноты, записи, я этим активно пользовался. У Володи Горлинского были компакты с классикой авангарда: Ксенакис, Лигети, Штокхаузен, Булез. Не могу сказать, что на меня это оказало сильное влияние. Ну да, любопытно, свежо, но от академизма я стал быстро отходить. Мне уже и Шостакович казался чем-то не тем, а уж Прокофьева я просто возненавидел.
Первым настоящим откровением оказался Гризе, я был просто потрясен его «Акустическими пространствами». Потом, как ни странно, фри-джаз. Я его никогда не слушал, когда сам играл джаз, а тут появился интернет, и я накачал себе всякого. Эван Паркер, Энтони Брекстон… А потом я наткнулся на коллектив AMM. Какая-то пиратская ссылка, странная обложка с машиной и гамбургером… Я скачал, и это мне снесло крышу в прямом смысле слова. Я был потрясен этой музыкой.[139][140]
– Чем именно?
– Не могу передать. Это как будто уже и не музыка. Я много чего слышал, но это была откровенно музыка с другой планеты. Мне бы даже в голову не пришло называть это музыкой. И уж тем более издавать на компакт-дисках! Там слуху просто не за что зацепиться. Невозможно выстроить хоть какую-то иерархию ценностей: это хорошо, это плохо.
Это была одна из их ранних концертных импровизаций. Очень радикальная: громко, много, долго и ни одного нормального звука – только нойз. Хотя тогда я уже слышал и японский нойз, и много чего. А потом я довольно быстро все это освоил, понял, что эта музыка мне гораздо интереснее, чем Булез и Ксенакис.
– Притом что поначалу вообще не поняли, почему это музыка?
– Может быть, я все время именно это и искал. Даже когда в джаз шел. Я искал инаковость, а джаз мне тоже поначалу казался чем-то трансцендентным. А здесь было очевидно «иное». Никто этой музыки не знает, никто ее не ценит, а она просто безумная! А следующим потрясением были японцы, Сатико М и Тосимару Накамура. Полный шок.[141][142]
– То есть вас восхитили не столько звуковые свойства этой музыки, сколько ее перпендикулярность?
– Я думаю, это и есть самое главное. Каким бы офигенным ни был Ксенакис, все равно слышно, что за всем этим стоят ноты.
– А почему это плохо?
– Не знаю, в этом есть какой-то неприятный схематизм. Эта музыка не совсем живая. Она плоская. Даже брутальный Ксенакис, которого я, наверное, больше всех люблю из композиторов этого поколения, все равно не то чтобы раз – вышел и сделал! Нет, это тоже ноты, кто-то их выучил и сыграл, я просто это слышу. К сожалению, вся нотная традиция для меня такова. Может быть, это еще вопрос исполнения. Гениальных музыкантов очень мало. Выходит какой-нибудь Рихтер, как грянет семь форте – и тут же забываешь о нотах. Но это бывает редко. Гленн Гульд тоже умел так захреначить, как будто он сам написал эту музыку. Но Гленн Гульд один такой!
– И как стала меняться ваша собственная музыка?
– Сначала я в консерватории начал сочинять что-то в духе Альбана Берга, потом откровенно двенадцатитоновую музыку. Педагогу не показывал, это были такие этюды для себя. Потом начал делать более странные вещи, очень сложную для исполнения музыку, близкую к new complexity – сложные размеры, всякие технические трудности. И вот тут уже начались проблемы. Александр Чайковский меня просто травил.[143]
– При этом вы успешно закончили консерваторию, а среди ее выпускников последних лет есть целая плеяда довольно радикальных молодых композиторов. Может быть, все не так плохо? Или это все вопреки?
– Ну как, было множество проблем, каждый год какие-то неприятные истории.
– Вроде истории с композитором Дарьей Звездиной, которой предложили сократить вдвое ее дипломное сочинение, потому что «и так все понятно»?
– Да всякое бывало. И у меня, и у Володи Горлинского, и у Гоши Дорохова. По сути, у всех талантливых людей, которые стали сколько-нибудь значимыми композиторами.[144]
Говорили нам приблизительно одно и то же. Зачастую относительно мягко, но неприятно, типа «я не уверен, что это ваш магистральный курс» или там «не думаю, что Веберн – это пример для подражания». Причем это еще не совсем консерваторы, потому что в консе есть несколько совершенных упырей.
У Гоши были страшные проблемы, хотя его ранние сочинения консерваторских времен написаны для нормальных инструментов. Просто в них не было ничего привычного, нормального: скажем, в «Under construction» для скрипки и фортепиано нет ни одного традиционного звука. Ему говорили: «Если хочешь писать вне звуковысотности, пиши для ударных, а так мы тебе ставим двойку!»
– Не погань скрипку?
– Типа того. Пиши для малого барабана и вудблоков, это как бы дозволяется. Ну такие, специальные вещи. А нормальные инструменты не трогай.
Вся эта академическая сфера так и остается страшно консервативным болотом. У меня еще бабушка была двоюродная, я ее очень любил, и она страшно хотела, чтобы я вступил в Союз композиторов. Ради нее я это сделал, но больше туда не хожу. Они мне звонят, зазывают, напоминают про членские взносы… Нет, это все ужасно.
Хотя есть и свои плюсы. Можно съездить в дом творчества композиторов в Сортавале. Или есть еще, оказывается, такая практика: в конце года приносишь им партитуру и они ее у тебя покупают. И бодро шутят: «Ну что у вас там, кантатка? Вот вам совет: напишите ораторию, получите на 2000 рублей больше!» Но зачем это все? Призрачные льготы в обмен на свободу.
– Это ведь еще советская практика. Но какой сейчас в ней смысл, что они с этими партитурами делают? Ее потом исполнит условный саратовский оркестр, неважно какую?
– Ну да. Конечно, у нас все построено на личных взаимоотношениях, поэтому если ты хочешь, чтобы тебя исполнили, надо дружить с тем, кто тебя порекомендует. В Союз композиторов ведь по-прежнему продолжают поступать какие-то деньги, надо же их мягко рассовывать по карманам. Я на все это насмотрелся и убежден, что все эти институции без исключения – консерватория, Союз композиторов, филармония – это абсолютно сохранившиеся модели советского общества. Тот же язык, те же манеры поведения – все осталось как в самом глухом застое. Они так до сих пор и живут, клянусь. Удивительно! Это такая форма выживания что ли. И консервативный педагог в консе специально набирает себе студентов, которые будут абсолютно такими же. Чтобы они его рано или поздно заменили. Так что это иллюзия, что все меняется. Думаю, так будет всегда.
– Считается, что в консерватории композиторов учат прежде всего мастерству. Дальше, пожалуйста, сочиняйте как хотите, но азами профессии надо владеть.
– С одной стороны, вроде логично. С другой, в этом есть много лукавства. Ведь все, кто учится на композиторов, очень много сил тратят на предмет под названием «гармония». Ее ведет Александр Кобляков, наш декан, ученик великого музыковеда-теоретика Юрия Холопова. И там будущие композиторы выполняют специальные задания: написать сонату, двенадцать прелюдий и фуг, в таком-то стиле, в сяком-то, упражнения на додекафонию. То есть, по идее, мы так проходим всю историю музыки, пишем учебные вещи. Но почему я должен повторяться и писать такой же диплом? Зачем это нужно? Для кого? Я хочу написать в качестве диплома то, что я умею и хочу, а не снова упражняться в каком-то стиле, пусть даже наши педагоги считают его образцовым.
– Умение написать двенадцать учебных прелюдий и фуг полезно? Оно нужно современному композитору?
– Не знаю… Вот чем оно лично мне нужно? Тем, что я уже никогда не буду так писать. Мы начали с нововенцев, и я как раз ориентировался тогда на Берга и Шенберга. Но я написал столько учебных работ по гармонии, что понял – я никогда больше не буду ничем таким заниматься.
Вообще, конечно, все полезно. Учиться нужно и важно, я и сам сколько учился всему и разному. Но самое полезное – это взглянуть на плоды своей учебы со стороны. Есть множество супертеоретиков, которые все знают и все могут объяснить, но как творческая величина они никто. Именно потому, что просто не могут выйти за пределы своих знаний.
– Что стало дальше происходить с вашей музыкой?
– Не могу сказать, что сразу обратился к текстовым партитурам или импровизации, это был очень тяжелый процесс. Первую текстовую партитуру я написал году в 2013-м.[145]
Сложно было решиться на этот шаг. Это было сочинение «Полнолуние»: два музыканта, виолончелист и кларнетист, играют по нотам, а остальные импровизируют на этом фоне. Но мне повезло, потому что попались просто великие импровизаторы[146] – как раз Сатико М и Тосимару Накамура. Идея была простая: есть два солиста, которые играют то, что я им написал, а импровизаторы просто слушают эту музыку и как-то стараются сделать ее лучше, ну или просто существовать в ней.
Японцы сразу все поняли, с ними не было никаких проблем. В ноты они не смотрели, не факт, что они вообще знают ноты. Правда, опыт в результате оказался довольно неудачным, потому что мне навязали для этого исполнения нашего известного перкуссиониста Владимира Тарасова, и он просто все угробил. Он вступил в преступную связь с японским танцовщиком, который солировал в этой пьесе, и она превратилась просто в танец с бубном. Для Тарасова больше никого не существовало – только он и танцовщик, он ему фактически аккомпанировал, причем с использованием своих фирменных приемов, которые абсолютно везде использует. Получился театр двух актеров. Этот плачевный опыт заставил меня еще больше задуматься о том, что делать и с нотацией, и с импровизацией.
– А для чего вам вообще понадобилась импровизация? Это ведь полностью противоположно всему, чем обычно занимаются в консерватории.
– Это произошло не сразу. Мне сложно было вновь начать импровизировать. Я много этим занимался в джазе, но это ведь совсем другое дело. А тут довольно странная музыка. Меня туда затянуло, я начал импровизировать и довольно быстро почувствовал диссонанс между тем, что я пишу нотами как композитор, и тем, что я играю как импровизатор. А совместить эти две линии крайне сложно. По сути, это утопия, движение к недостижимому.
– Как это в вас сочетается? Композитор – это человек, который пишет все заранее, старается все в своем сочинении контролировать и ожидает, что эту вещь будут потом исполнять по нотам посторонние люди. Импровизатор играет здесь и сейчас, повторить это невозможно, да и не нужно. Более того, часто даже переслушивать запись этой импровизации не всегда интересно.
– Да грустно все это. Мне вот неинтересно переслушивать свою музыку, почти без исключений. Причем пьеса может быть хорошей, я не говорю о неудачах, просто слушать ее мне не интересно. У меня есть, наверное, сочинений сорок-пятьдесят, из них я для себя могу послушать две-три пьесы. «Selene» переслушиваю, «Present perfect»[147][148] – и все. И я даже понимаю почему: потому что они очень длинные. Там просто много всего.
При этом то, что связано с импровизацией, мне очень интересно слушать. Не знаю почему. И свое и чужое. Хотя запись слушаешь уже как законченное произведение, в ней нет эффекта новизны, как в живом исполнении, ты все уже знаешь. Но все равно интересно!
– Однажды я наблюдал за тем, как вы комментируете для слушателей запись своего импровизационного сочинения «Wallpapers», и это было страшно увлекательно, практически как трансляция футбольного матча: опасный момент, здесь исполнитель увлекся, а сейчас будет неожиданный поворот…[149]
– Подозреваю, что для большинства людей запись такой импровизации без комментария действительно неясна. Какие-то ощущения есть, конечно, у каждого, но откуда что берется, понимает только сам музыкант.
Бывают очевидные вещи. Скажем, я видел запись поздних AMM, снято чуть ли не на айфон, трясущейся камерой. Играет пианист Джон Тилбери. Это взвешенная, абсолютно наэлектризованная музыка, ты видишь, как он готовится взять аккорд, кисть чуть дрожит, замерла над клавишами, уже даже видно, что за аккорд он собирается сыграть, видимо, что-то в духе Билла Эванса. Ты ждешь, вот-вот… И он не нажимает! Убирает руку! Вот в этом кайф. Это сильное чувство.
Но когда слушаешь постфактум, многое забывается. Даже свое. Я слушаю, как будто это не я играю.
– Проблема в том, что часто импровизаторам бывает интереснее играть, чем слушателям слушать.
– Вообще, на свете очень много плохой музыки. Импровизации тоже очень много плохой. Это же экспериментальная музыка, нет никаких критериев, и ее экспериментальным характером можно оправдать все что угодно – так зачастую и бывает. Вообще, хочу сказать, что какой у человека характер, так он себя и ведет на сцене. Это удивительно! Подтверждается абсолютно всегда. Есть, конечно, люди, которые будут делать что-то специально, наперекор.
То, что нет критериев – это, может, и к лучшему? А может, и нет. С одной стороны, и слава богу, а с другой, мы, конечно, оказываемся в неравном положении со слушателями. И тут наше поведение на сцене оправдывает только честность.
– Консерватория, где вы учились, – это как раз мир критериев и четкой иерархии. Есть пианисты и есть великие пианисты. Есть просто симфония – и есть Девятая симфония Бетховена. А в мире свободной импровизации ты даже можешь не быть профессиональным музыкантом, а сравнивать импровизации друг с другом довольно бессмысленно. Это все понятно, непонятно только, как эти два разных мира уживаются в одном человеке.
– Может, дело в том, что я вообще всегда ощущал себя немного неправильным. У большинства композиторов за плечами Мерзляковка, Гнесинка, ЦМШ, а у меня какой-то непонятный колледж. Мне кажется, есть такой психотип людей, которым доставляет удовольствие уйти, раствориться, быть в стороне. Вот я такой. Мне всегда хотелось быть против. Моя позиция – это оппозиция. Или «нулевая» позиция. Быть никем.
Когда я учился в школе, мне говорили: «Играй, как Билл Эванс или Уинтон Келли», а я пытался играть, как Монк. Если бы мне сказали: «Играй, как Монк», я бы стал играть, как Билл Эванс. И с консерваторией то же самое. Считалось, что для абитуриента хорошо и правильно увлекаться Стравинским – вроде и классик уже, и не совсем махровый академизм. А я с юности любил Стравинского, но когда стал поступать и понял, что здесь это даже приветствуется, начал всем говорить, что люблю Шостаковича. Этот бес противоречия во мне всегда присутствовал.
– В одной из бесед вас спросили, сколько человек в Москве могут оценить вашу новую пьесу «Selene», и вы ответили – человек двадцать. Вам комфортно писать музыку для такого количества слушателей?
– Абсолютно! Вообще, я уверен, что работаю не для кого-то, а только для себя. Другое дело, что я уже довольно давно в творческом кризисе: повторяться не хочу, а сделать что-то новое пока не получается. Ни нотами, ни даже в виде импровизаций. Но я никогда не стремился кому-то понравиться. Вот чего не было, того не было. Никогда. Нет, приятно, конечно, когда людям нравится. «SOS», например, всем понравился – это круто! Он даже мне стал нравиться.
Тут есть еще понятная проблема: мне нравится делать текстовые партитуры, но заработать этим невозможно. Если я напишу текстовую партитуру для театра, у меня ее просто не примут. Может быть, Митя Курляндский может себе такое позволить, но в основном этот путь для композиторов закрыт. Все эти текстовые партитуры и импровизации так и остаются в маргинальном качестве.
– Но ведь вам вроде и комфортно быть в маргинальном состоянии, играть в галерее для двадцати человек? И вы любите говорить, что и в истории музыки вам прежде всего интересны маргиналы. Чудаки и оригиналы, не создавшие ни школы, ни традиции.
– Комфортно, но жить-то на что-то надо? Это просто вопрос выживания. И не то что я прямо так уперся в эти текстовые партитуры, мне многое интересно. Но так получается, что почти вся моя музыка неудобна. Даже за счет масштабов – ну не могу я писать короткие пьесы! А когда пьеса длится два с половиной часа, кто ее сыграет? Мою «Selene» блестяще сыграл Юра Фаворин, она для него и написана, но где ж другого такого пианиста найти? Дико сложно найти музыкантов, способных мою музыку убедительно сыграть. Кто-то может хорошо играть по нотам, но не может импровизировать, это часто бывает. Да у нас всего несколько ансамблей современной музыки в стране, о чем говорить.
Но это меня совсем не заботит, особенно на фоне моего творческого кризиса. Мне абсолютно плевать, будут играть или нет. Такие исполнители, как Гульд, вряд ли найдутся, а плохо играть меня не надо.
– В какой-то момент вы стали писать партитуры для электромоторчиков, реле и соленоидов. А эта идея откуда взялась?
– Мне стал интересен нестабильный звук. Эти моторчики ведь жужжат всякий раз по разному. По идее, все современные приемы игры, вроде препарированного фортепиано, для меня важны прежде всего тем, что это зона нестабильности. По-моему, я сперва уткнулся в стену, связанную с тем, что ансамблям современной музыки эту нестабильность никак не навязать: по нотам они играть могут, а импровизировать нет. А импровизаторы, наоборот,[150] – не знают нот. Эти моторчики стали таким осторожным входом в зону нестабильности. Кажется, я одним из первых стал их использовать в современной музыке. Студия новой музыки заказала мне пьесу, связанную с Гайдном, и я сразу вспомнил про его тремоло литавр. Там было три литавриста, и у каждого, помимо своей партии, был моторчик, который стучал по литавре – б-б-б-б-б. Первый опыт был довольно тяжелый – и денег на это я угрохал много, и что-то не включилось. Я хоть и закончил МИРЭА, с механизмами и электроникой не очень умею обращаться.
Потом я еще по просьбе Марка Пекарского написал «Теорию механизмов и машин», 27-минутный концерт для Юры Фаворина и шести перкуссионистов. Там куча всяких инструментов: зажигалки для газовых плит, которые трещат, и так далее. Хорошая масштабная вещь, но дико сложная. Как и все мои вещи такого рода – просто инструментарий сперва попробуй собери, потом еще музыкантов найди. И звучит все это в разных залах по-разному, нужно все подгонять. Понятно, что ее судьба – быть исполненным один-два раза, скорее всего. Конечно, легче, как Шостакович, написать струнный квартет, который будет отлично звучать в любом акустическом пространстве, и это высшее мастерство. Сейчас уже хочется обычных тактов, а моторчиков не хочется. Вообще, хочется делать что-то попроще.
– Сергей Невский, говоря о музыке новых московских композиторов-импровизаторов, замечает: «Для меня проблема этой музыки в том, что я почти всегда примерно знаю, что услышу. Это как триеровская „Догма“, которая была придумана, чтобы избежать жанровых границ, а в результате появился такой жанр – фильм в духе „Догмы“».[151]
– Я помню это высказывание и поражаюсь ему. Это просто удивительно! Как это он знает, когда даже мы, когда играем, не знаем, что услышим? Не очень-то я верю в его слова.
– Он говорит, что эта музыка хотела выйти за пределы филармонического словаря, бороться с ним, а в результате просто выработала свой собственный, довольно узнаваемый словарь.
– Мне кажется куда более справедливым направить это высказывание в адрес традиционной композиторской музыки. Это как раз там все предсказуемо и поэтому, может быть, не так интересно слушать. А насчет словаря все точно, но такое бывает всегда и везде! Просто надо быть честным и в какой-то момент признаться себе, что словарь сложился, ты им пользуешься… И уходить от него, конечно. Но куда?! Я вот не знаю. Поэтому у меня и кризис.
– Невскому уход в галереи и игра для пятнадцати человек кажется эскапизмом – вот если бы вы писали для симфонического оркестра, это было бы куда более радикально и продуктивно.
– Я понимаю эту точку зрения, и, возможно, он прав. Но у меня в жизни уже столько такого было! Зачем это нужно, я не знаю. Филармония, симфонические оркестры – это такое же страшное болото, как Союз композиторов. Да хоть ты взорвись на сцене, покончи с собой, никто и бровью не поведет. Это все тьфу, завтра про это забудут. Потому что это система, и она занимается только охранительной функцией самой себя. Там ничего никогда не изменится, я уверен. Так что смысла в том, что мы возьмемся что-то доказывать, нет. Если мы будем писать для оркестра, мы станем только хуже. Я уверен в этом! Я просто знаю, что то, что я напишу для оркестра, никогда не сыграет никакой Юровский – просто не сможет. Это и слишком сложно будет, и слишком радикально.
А главное – ну не интересен мне оркестр! Мне интереснее написать для ста двадцати двуручных пил, нежели для симфонического оркестра.
– Если бы к вам пришел ангел-продюсер и сказал: Алексей, у вас полный карт-бланш, пишите что хотите, я оплачу и это точно будет исполнено – что бы вы сочинили?
– У меня один раз был такой случай в жизни, это продолжалось где-то полгода. Я написал партитуру, получил гонорар вперед. В результате ее так и не исполнил наш один очень известный дирижер. Ну, было обидно, конечно. А потом проходит время, и как-то становится все равно. Во-первых, тебе и самому это уже не нужно, во-вторых, в жизни есть вещи и поважнее. Собственно, сама жизнь. Не хочется болеть, умирать раньше срока, а музыка – это все преходящее.
– Но все-таки если бы была возможность выбрать и состав, и музыкантов – в какую сторону бы вы двинулись?
– Тут вот какая проблема. Я не смогу в такой ситуации написать текстовую партитуру. Потому что совесть мне скажет: «Э, брат, такая возможность бывает раз в жизни, а это что? Это же не произведение с большой буквы!» И я должен ее как следует отработать, предоставить кучу страниц, заполненных нотами, а не какие-то две странички с текстом. Все равно внутри сидит человечек, который говорит – так-то и каждый дурак сможет.
Кстати, текстовые партитуры тоже очень разные, у всех свои особенности. Например, партитуры Курляндского – это просто инструкции, что ты должен делать. Тупо что-то выполнять. Они, как мне кажется, не апеллируют к внутренним качествам музыканта. У меня наоборот: «Wallpapers», допустим, рассчитаны на моих коллег, музыкантов и композиторов. Если бы не было Володи Горлинского, Кирилла Широкова, Даши Звездиной, Дани Пильчена и других, не было бы и этой музыки! Мне бы даже в голову не пришло это делать, не будь их рядом со мной.
– Как вообще устроены такие партитуры?
– По сути, это набор инструкций для свободной импровизации некоторого состава музыкантов. Человек должен выйти на сцену и играть что-то такое, что не оскорбит его коллег. Даже не инструкций, а назиданий, что ли. Готов ли ты произвести звук? Готов ли сделать паузу? В этом деле очень важны ответственность и этика, потому что я не могу выходить на сцену и делать гадко своим коллегам и слушателям. Лично я так это ощущаю.
Когда мы просто импровизируем, форма быстро становится достаточно предсказуемой. Она продиктована нашими общими мотивами или механизмами мышления, которые просто проецируются на музыку: начало, развитие, конец. Именно поэтому импровизации часто оказываются предсказуемыми. «Wallpapers» усложняет задачу и добавляет условия, которые делают эту игру более интересной. Что-то вроде препятствий, которые нужно преодолеть. Каждый исполнитель должен выбрать стратегии, любые из описанных в партитуре – например, повторять за другими исполнителями или, наоборот, перечить им. Или играть соло. Или аккомпанемент. Составить себе в уме некоторую последовательность этих стратегий, не говорить о них никому – и начинать импровизировать. Наложение индивидуальных стратегий каждый раз дает новые совмещения.
Всего стратегий семь или восемь. Я пытался расширять список, но это оказалось бессмысленно – к этому набору, как выяснилось, ничего ни прибавить, ни убавить.
Если состав большой, человек восемь, то стратегии для участников хаотически определяет компьютер. А есть еще камерная версия, на четыре-пять человек, там каждый сам выбирает. Одна из самых удачных записей «Wallpapers» сделана квартетом, где каждый выбрал себе «имитацию», то есть пытался имитировать игру соседа, и мы слились в одно экстатическое безумие.
Я ужасно радовался, когда всю эту систему придумал, она оказалась очень плодотворной. Это потом уже я узнал, что похожие системы для импровизации есть у Джона Зорна, Энтони Брэкстона, Винко Глобокара. В Британии есть известный фри-джазовый оркестр, там тоже какая-то система регулировки существует. И, по сути, все они об одном: повтор, соло… Так что я, к сожалению, не первый. Но я честно придумал это сам.[152]
– Существует несколько версий «Wallpapers», и одна из них, самая загадочная, носит подзаголовок «Для восьми и более монгольских детей в стойбище» – это что вообще?
– Я как раз послезавтра поеду ее записывать. Мы оказались как-то раз в Монголии: места совсем глухие, останавливаешься в юрте семьи скотоводов. И хорошим тоном считается привезти с собой какие-нибудь мелкие подарки детям – конфетки, шарики надувные. Я купил не глядя штук десять, а это оказались «уйди-уйди», с которыми дети разбежались по степи – и передать не могу, насколько это было прекрасно! К сожалению, записать мне это тогда было не на что, вот сейчас снова попробую. Партитура очень проста: приехать в монгольскую глушь, раздать детям эти штуки и ждать, пока они разбегутся, а звук полностью исчезнет. В этот момент сочинение заканчивается. Такая пространственная музыка.
– А как вообще возникла идея разных «Wallpapers»?
– Для меня это территория странности, я решил, что все ненормальное и импровизационное буду называть словом «Wallpapers». Не помню, что было с первыми «Wallpapers», вторыми была полуимпровизационная музыка для МАСМа в Манеже, это 2013 год – заказ был на пространственную свободную вещь, там сочетаются фрагменты, где музыканты играют по нотам, с игрой импровизаторов. А «Wallpapers 3» стали очень популярной и часто исполняемой вещью. Сыграны они уже более пятнадцати раз, дважды записаны.
Не всегда хорошо сыграны, кстати, это к вопросу о специфике. Скажем, был опыт с питерскими импровизаторами – ребята неплохие, вроде все понимают, а результат плохой. Может быть, дело в эстетическом бэкграунде? И там же в Питере был абсолютно сумасшедший опыт исполнения в проекте «Музыка для всех», в Петропавловке его делали. Это проект для незрячих людей. Правда, незрячих в результате оказалось трое или четверо, но неважно. Всего было человек тридцать-сорок, непрофессионалы и профессионалы, играли, как ни странно, неплохо. Конечно, сорок человек – это перебор, и я пытался как-то ими управлять: сам назначал стратегии, старался не переборщить с соло. Допустим, темы играли четыре музыканта, и все четыре были флейтистами.
С одной стороны, все это уже граничит с бардаком и безобразием. Ну какая свободная импровизация для сорока человек, где каждый может делать что хочет? А с другой стороны, что, в мире нот мало безобразий? Бетховен написал музыку, и ее интерпретируют как хотят! Темпы плавают, традиции исполнения – сумасшедшие. Настоящее безобразие и есть. Я уверен, что сам Бетховен все это иначе воспринимал, и вообще очень важно помнить о том, что самое главное – это мысли композитора, а не какие-то там традиции исполнения. Сейчас мы уже не можем восстановить, как надо его исполнять на самом деле. И никогда больше не узнаем – никогда! Настоящей музыки Бетховена уже нет, несмотря на то что ноты сохранились.
– Но ведь как-то ее играть все же надо?
– Надо прислушиваться к тому, что говорил по этому поводу сам композитор, к его инструкциям, а их постоянно нарушают. Недавно по поводу одного исполнения классического произведения коллега прямым текстом меня спросил: «А что такого, если темп другой, что тебе не нравится?» Хотелось спросить его в ответ: «А если твое сочинение будут играть в радикально другом темпе, тебе понравится?» Ну уж, наверное, нет. Просто удивительно, к себе отношение одно, а к музыке прошлого другое! В общем, я считаю, что на самом деле нотации дают те же самые проблемы. И в своей собственной музыке я строго слежу за тем, чтобы мои инструкции исполнялись как можно более точно. Например, у меня в пьесе «Selene» очень сложная партитура, смены темпа там небольшие, но очень важные для меня. Как мы над всем этим работали с Юрой Фавориным! Это было одно из лучших сотрудничеств в моей жизни. Я не допущу отклонений в своей музыке, это я точно знаю!
– Притом что вы много занимаетесь импровизацией.
– И поэтому я жестко отделяю одно от другого. Импровизации пусть будут в поле импровизации, а здесь все должно быть строго так, как я написал.
– Что тогда значит для вашей записанной нотами музыки такое понятие, как «интерпретация»?
– Честно говоря, кроме каких-то редких случаев (работа с Фавориным, конечно, входит в их число) у меня никогда не было идеальных интерпретаций. Лишний повод задуматься, стоит ли вообще всем этим заниматься. Вроде написал-то много, исполняли тоже порядочно, а что-то все не то. Не так, как я себе это представлял, когда придумывал. И даже не так, как я записал.
Даже если мне делает заказ хороший ансамбль, все равно мы находимся в плохих условиях. Обычно это всего одна-две репетиции, нет времени вникнуть в произведение, что-то изменить, подумать, поработать – это всегда стресс.
– То, что в Москве сложилась такая уникальная группа новых композиторов, которые сами стали играть свои вещи и заниматься импровизацией, вызвано, в частности, именно этим?
– И этим, конечно, тоже. Если мы себя нормально не сыграем, никто не сыграет. Я был свидетелем такого безобразия! Даже до хамства доходило. И просто плохо играли. Или, допустим, у ансамбля три репетиции на мою вещь, а полный состав не собирается ни на одной. Вот скажите, зачем мне это?
А с импровизаторами другая проблема – среди нас же нет пианиста уровня Фаворина. Мы в первую очередь композиторы, а исполнители довольно непрофессиональные. И это другой язык, другая эстетика.
– Получается, что ваше импровизаторство в какой-то степени вынужденное? Вы вынуждены сбиться в кружок и играть свою музыку сами, потому что нет удовлетворяющих вас вариантов?
– Во многом да, это было продиктовано тем, что никто не играет, просто не хочет. Я бы даже не называл нас кружком, мы все очень разные. Маноцков, Широков, Горлинский – более непохожих людей не найти! Скажем, мне не близко многое из того, что делает как композитор Кирилл Широков, мы с ним пересекаемся только на сцене. То же с Маноцковым: я его очень уважаю, люблю, но в основном это не моя музыка. А вот когда мы играем, получается круто!
Этим составом мы сыграли мои «Wallpapers», «Агон» и «Униженных и оскорбленных», это был фантастический опыт. У нас было по семь репетиций на вещь, а ведь собрать в одном месте столько и таких занятых композиторов и музыкантов сейчас было бы просто невозможно. До сих пор не знаю, как нам это удалось.
Но вообще лично мне никогда не было так важно, чтобы меня сыграли где-то там. Не важно и сейчас. Если посмотреть список моих сочинений, то за последние лет пять у меня появилась только пара сочинений, которые можно исполнить в концерте. То есть они длиной десять-пятнадцать минут, для нормального состава, без всяких моторчиков. Есть заказы, это другое дело, например тот же «SOS», а для души мне это совсем не нужно. Для души это «Selene» – два с половиной часа сольного тихого фортепиано.
Это длинная вещь, для многих сложная. Я помню безобразную рецензию одной нашей известной критикессы, которую больше всего возмутило, что пианист играл в темноте по айпаду и ей не было видно, сколько страниц осталось до конца. Процесс своего бешенства она очень подробно описала.
– В разговорах с композиторами часто возникает фигура нового радикального сочинителя, который делает что-то такое, про что все остальные говорят – вот это сейчас самый передний край. Но никто не прилагает это определение к себе, все говорят – ну нет, есть и порадикальней. Кажется, что вы, композитор, который пишет сложные, трудно исполняемые партитуры для странных объектов, – это как раз…
– Нет-нет, совсем нет. Я не ощущаю себя на передовой, совершенно. У меня вообще вечный комплекс относительно моего темного музыкального прошлого, я плохо знаю, что происходит в Европе. Вот Невский про это хорошо знает.
– Но вы хотя бы примерно понимаете, где находитесь на карте современной музыки? Есть какой-то контекст, который вы ощущаете своим?
– К сожалению, мне кажется, это чисто московский контекст, поскольку я негласно следовал заветам Стравинского: никогда не писал за рубеж, чтобы меня исполнили, никогда не участвовал ни в каких конкурсах.
– Почему?
– Я плохо знаю языки, я некоммуникабельный, мне вообще там не очень понравилось. Меня в какой-то момент отправили на композиторскую встречу в Голландии, туда съехались молодые композиторы, был Луи Андриссен, еще какие-то известные люди, но меня все это настолько не вдохновило! Какой-то пустой звон. Мне хотелось бы быть максимально далеким от всего этого.
– То есть вам приятнее быть мудрым отшельником, который все время где-то в стороне?
– Боюсь, что да.
– Есть такое понятие, как академическая музыка. Что оно значит для вас?
– Сложно сказать. Ведь текстовые партитуры – это явно все еще не академическая музыка?
– Разве? Этим изобретениям уже лет пятьдесят, инструкции Ла Монте Янга давно стали классикой.
– Для меня Ла Монте Янг – это совсем не академическая музыка. Она же не звучит в филармонических залах.
– На фестивалях современной музыки звучат и Янг, и Кейдж, и Вулф, кто угодно. Графические и текстовые партитуры давно перестали быть чем-то шокирующим.
– А мне кажется, это все иллюзия. Вся эта компания экспериментаторов, Кейдж и его друзья, не прижилась в академических кругах и никогда не приживется. Ну да, есть какие-то европейские ансамбли, которые играют экспериментальную музыку, но на академическую традицию она влияет слабо. Конечно, самые передовые ее представители вроде Булеза и Штокхаузена пытались впитать какие-то веяния, и сейчас экспериментальную музыку полувековой давности можно услышать в Донауэшингене или Дармштадте. В филармониях даже стали заигрывать с импровизаторами! Но я думаю, что это пройдет без следа. Потому что нарушается важнейший для академии принцип иерархии. Ведь композитор в этой ситуации – лицо немножко странное, он как бы уже не вполне нужен.
Скажем, есть знаменитое сочинение Ла Монте Янга «Хорошо настроенное фортепиано», это его шедевр, но там же ни одной ноты нет! Я был просто шокирован, когда это узнал. Это просто особенный строй фортепиано и его импровизация[153] – и все! Чувак поленился записать ее нотами. Мы сами хотели сыграть, устроить в России премьеру. Выяснилось, что, в общем, нечего играть.
Импровизаторы часто считают композиторов узурпаторами. А композиторы в ответ ненавидят импровизаторов. Композитор должен дома сидеть, что-то писать, стараться. А тут вышел, чего-то наиграл – и тоже вроде бы важная фигура, кому это понравится? Возвращаясь к вопросу – мне кажется, скоро никакой «вообще» академической музыки не будет. Мы ведь живем в мире очень тонких разграничений и специализаций. Будет просто музыка композитора A, B и C. Композитор окажется равен направлению.
– Но ведь вы описываете совершенно противоположную ситуацию: академическая музыка – это такое гигантское пожилое тело, с которым мало что происходит. А все, что к нему прилипло по дороге, – экспериментаторы, импровизаторы – со временем отлипнет; это просто сыпь, которая рано или поздно исчезнет.
– Да, но изменения внутри этого тела все равно происходят. Все будет очень сильно дробиться. А на импровизацию, по-моему, сейчас просто мода такая. То есть мир признал, что они тоже композиторы, что эту музыку вполне можно исполнять… Проблема в том, что пик этого направления был лет двадцать-тридцать назад, в Берлине. И все шедевры были созданы тогда, когда импровизаторов никто и за людей не считал. А сейчас это уже постскриптум, мало на что влияющий.
Впрочем, может быть, это просто мне так кажется. Я-то до сих пор верю, что все самое лучшее всегда рождается маргиналами, где-то в андеграунде, как это и было в Берлине в 1990-е. А сейчас что? Вот мы ездили с коллегами выступать в тот же Берлин. Все не спеша, медленно, основательно, денег заплатили. Но было ощущение какого-то отстоя, музейности. Хотя музыканты там очень крутые. Тот же Буркхард Байнс[154] – это культовая личность! Но результат меня, честно говоря, не потряс. Музыка не может создаваться в музейных условиях. Да, все здорово организовано, прекрасное место – берлинская Академия искусств, но вот не почувствовал я там бурления жизни.
Я более чем уверен, что самая интересная музыка не создается на заказ. Что привычный нам формат, когда вдохновенный дирижер приходит к композитору и заказывает ему вещь, мол ты пиши, а я сыграю, не рождает шедевра. Нет, самое ценное вынырнет непонятно откуда, когда никто этого и не ждет. Как непонятно откуда появились Гоша Дорохов или Володя Горлинский. Этим и ценны наши импровизационные практики: мы играем сами для себя и ни от кого не зависим.
– Где проходит граница между радикальной фри-джазовой импровизацией и новой свободной импровизацией, которой вы занимаетесь? Вы ведь вышли из джаза, должны это хорошо чувствовать.
– Очень сложный вопрос. По идее, та импровизационная музыка, которой я занимаюсь, преподносит себя как неидиоматическая, это термин Дерека Бейли. Она рождается из ничего, игнорируя все традиции и так далее. Но тем не менее это не так. Я понимаю, что у моей импровизаторской игры все равно есть некоторый бэкграунд, и, возможно, я от него завишу. Да наверняка.[155]
Я чувствую разницу между фри-джазом и тем, чем занимаюсь сам, но грань эта очень тонкая. Фри-джаз все-таки подразумевает и школу, и традиции, и технику игры, а ей, увы, владеют немногие. Поэтому и хорошей музыки в этом жанре очень мало. А имитировать его просто, мы все слышали плохих подражателей того же Джона Зорна. В Москве сейчас много такого. Собственно, это как раз и пользуется популярностью, потому что громко, угарно и весело.
Импровизация должна продолжать искать новый звук, новые способы его бытования, но вместо этого удобно устраивается в устоявшихся благодаря своим первооткрывателям формах. Немного обидно, что так происходит, но это вполне закономерный процесс, который требует изменений, возможно радикальных. Я глубоко убежден, что современным «экспериментальным» импровизаторам стоит задуматься, насколько они собственно экспериментальны. Впрочем, это высказывание я отношу в первую очередь к самому себе.
– Получается, вы чувствуете исчерпанность даже в импровизации, хотя ничего более свободного и непредсказуемого вроде бы просто не может быть.
– Я ведь пытаюсь все это переслушивать и рефлексировать над тем, что происходит. Не знаю, дает ли это какие-то плоды, но это мучительно и даже больно, потому что почти всегда непонятно, как и куда двигаться дальше. А повторяться не хочется. Исполнение моих «Wallpapers» и некоторые совместные концерты были одними из самых приятных событий в жизни, но при этом я понимаю, что повторить это уже нельзя. Даже если формально сделать что-то похожее, увы, будет не то. Свежесть проходит, хочешь чего-то другого, а чего, не знаешь. А может быть, ничего и не будет. Можно, конечно, всю жизнь в таком духе играть, многие так и делают, но я не могу.
– Что из всего, что вы сделали, кажется вам наиболее удавшимся и «своим»?
– Наверное, «Selene». Но повторить это невозможно. Я ведь очень много работаю, каждый день пишу много нот, это целый поток, конвейер, но КПД очень маленький – каких-нибудь десять процентов. «Selene» была удачей, но я не могу себе позволить продолжать писать так же, «в том же духе». А как тогда? Надо что-то менять, а что – непонятно. На мой взгляд, уж лучше вообще не писать. И это не вопрос разных составов, дело в другом.
Вот в последних вещах, которые получились нарочито простыми, я вдруг начал находить какие-то прекрасные сложности, и мне интересно это наблюдать. Видимо, старею. Я написал пьесу для французского ансамбля, очень простую, в духе позднего Шостаковича, на текст из «Дневника и писем из тюрьмы» Бориса Вильде, но там нашлось много хорошего.
И вот опять к проблеме с исполнителями. Выдающийся французский ансамбль, играют просто невероятно. Я в конце написал пять или шесть piano, то есть очень-очень тихо. На самом деле, я имел в виду четыре piano, но у меня уже в подкорке сидит, что если написать российскому ансамблю шесть piano, он сыграет четыре. А французы, если написано шесть piano, они так и исполнят. Споют или сыграют сверхтихо. Это тонкие градации, но для меня они очень важны.
И все равно я недоволен! Холодное какое-то исполнение, больно формально они это все делают. Мне говорят – французы все такие. Правда, что ли? То есть игра безупречная, все по нотам, но абсолютно без эмоций. А я специально даже написал в духе Скрябина, с пометками вроде «воодушевляясь». Это надо очень рельефно играть. Ноль реакции! Друзья, говорю, обратите внимание, я здесь написал «с воодушевлением», а они мне: «Но здесь же у вас стоит forte, вы, наверное, имели в виду два forte?» Ну окей, говорю, пожалуйста. Вот это как-то нехорошо. Я что, эти forte на весах взвешиваю? Там человека расстреляли через полчаса после того, как он написал это письмо, а они меня спрашивают, шесть piano или четыре!
Понимаете, когда я бросил институт ради музыки, это было довольно опасным решением. Я мог загреметь в армию, косил, скрывался. Вообще, пойти в музыканты было довольно непростым выбором, я всю жизнь положил на это. Потом, когда я был джазовым музыкантом, я хорошо зарабатывал и бросил и это тоже, ушел в неизвестность, а ради чего? Поэтому я привык к музыке относиться серьезно. Мне бы не хотелось сидеть и измерять с линейкой, пять там piano или шесть. Для меня важны фундаментальные вещи.
– Вы часто говорите, что для вас в музыке важен принцип невозможности. Мне кажется, музыкант никогда и не сможет приблизиться к вашему идеалу, потому что он в принципе недостижим.
– Но ведь в этом и есть смысл искусства! И у многих получалось! Слушаешь бетховенскую сонату в исполнении Рихтера, и вдруг он там фигак – и такое выдает! И вот это «фигак» получается за счет преодоления всего.
И мои «Wallpapers» – это, по сути, набор неудобств для музыкантов, которые они должны преодолевать. В результате они преодолевают сами себя, если у них получается, конечно. А если такой задачи они себе не ставят, то просто плохо сыграют. У нас вначале были «Wallpapers» с большими составами, и я просто ужаснулся: люди перестали друг друга слышать, перестали уважать друг друга, творился какой-то произвол. И я от этого отказался. Выбрал два квартета, с которыми мы и играли. И это были самые лучшие люди с точки зрения этики.
Невозможно быть хорошим композитором или исполнителем только благодаря хорошей технике. Самый яркий пример – Колтрейн. Для меня он всегда был идеалом. И Бетховен тоже, потому что мотив преодоления у этих людей был главным. У Бетховена тридцать две сонаты, и он нигде никогда не повторяется. А Колтрейн, который занимался по двадцать часов в день? Казалось бы, куда еще-то? И даже в музыке у него всегда слышно, как он хочет сыграть еще лучше, еще… Каждый его жест – попытка преодолеть самого себя. Дикое напряжение в каждом звуке. И текстовые партитуры как раз во многом основаны на этом: ты чисто физически не можешь что-то сыграть, но пытаешься хотя бы приблизиться, и это рождает новый смысл. А если этого нет – на фига вообще заниматься музыкой?
Сноски
1
Первая встреча состоялась вскоре после юбилейных концертов в честь восьмидесятилетия, ради которых Губайдулина прилетала в Москву из Германии.
(обратно)2
Имеется в виду композиторский ансамбль «Астрея», который состоял из Софии Губайдулиной, Виктора Суслина и Вячеслава Артемова. Композиторы импровизировали на восточных и закавказских инструментах из коллекции Губайдулиной.
(обратно)3
Вокальный цикл на слова Михаила Пришвина (1957).
(обратно)4
Разгромное выступление первого секретаря Союза композиторов СССР, клеймившее «советских авангардистов», в том числе Губайдулину.
(обратно)5
Мировая премьера оперы «Vita Nova» по одноименному сочинению Данте Алигьери состоялась в Лондоне в 2009 году. Опера была заказана Мариинским театром в начале нулевых, однако постановка не случилась. Полная версия оперы была исполнена Лондонским филармоническим оркестром в Royal Festival Hall, дирижировал Владимир Юровский. Как и опасался Юровский, опера не была понята критиками и получила разгромную прессу. Книга Владимира Мартынова «Казус Vita Nuovo», вышедшая на следующий год после премьеры, анализирует этот провал.
(обратно)6
Мартынов В. Безмолвие как бы на полчаса. Письма из Нефели. М., 2018.
(обратно)7
Мартынов В. Книга Перемен. М., 2016.
(обратно)8
Использовалась в качестве учебного пособия в машинописном виде начиная с 1987 года, в 1994-м издана в виде книги.
(обратно)9
«Богослужебное пение и музыка различны по своему происхождению. История богослужебного пения начинается на Небе. Если причиной ангельского пения является преизбыток благодати, то причина возникновения музыки коренится в утрате благодати, последовавшей сразу же за грехопадением. ‹…› В древнерусской традиции противопоставлялось „пение“, относившееся только к богослужебным песнопениям, и „играние“, обозначавшее пение в миру, даже в случае чисто вокального исполнения. Применительно к мирским песням никогда не говорилось „спеть песнь“, а только „сыграть песнь“. К XVII веку слова „игра“ и „играние“ заменяются словом „музыка“ или „мусикия“, но сохраняют профанное и даже демоническое значение. На это указывает разъяснение, помещенное в одном из азбуковников: „Мусикия – в ней же пишутся бесовские песни и кощунства“» (Мартынов В. История богослужебного пения: Учебное пособие. М.: РИО ФА; Русские огни, 1994. С. 6).
(обратно)10
Издан в 1997 году под названием «Пение, игра и молитва в русской богослужебнопевческой системе».
(обратно)11
Ветеринар Ефим Сапелкин (1917–2002), житель села Афанасьевка Белгородской области, организовал самодеятельный фольклорный ансамбль в 1958 году. Ансамбль существует по сей день.
(обратно)12
«До этого момента я был композитором, то есть человеком, который мыслит звуками и жизненный путь которого превращается в путь звуков ‹…›. Передо мной открылась перспектива мыслить не звуками, но интонационными квантами и следовать не по пути тонов, но по пути тонем. В певческой терминологии Московской Руси человек… оперирующий тонемами и попевками, определялся словом „распевщик“ ‹…› мне необходимо разучиться быть композитором, для того чтобы научиться стать распевщиком, – и смысл своего церковного ученичества я видел именно в этом. ‹…› [Это] далеко не просто и требует… кардинального изменения сознания ‹…› композитор создает нечто ранее не существующее… а распевщик входит в нечто уже существующее… чтобы актуализировать его… здесь и сейчас» (Мартынов В. Автоархеология, 1978–1998. М.: Классика-XXI, 2012. С. 68–69).
(обратно)13
Премьера балета, поставленного «Балетом Москва» на специально написанный четырехчастный цикл Мартынова, состоялась в 2013 году.
(обратно)14
Фестивали Владимира Мартынова ежегодно проходят в Москве в клубе «Дом». Помимо сочинений самого Мартынова, на них исполняют сочинения круга его друзей и коллег – Павла Карманова, Антона Батагова, Сергея Загния, Алексея Айги, Георга Пелециса.
(обратно)15
Беседа состоялась в кафе Московского дома композиторов после сольного концерта Рабиновича-Бараковского в Рахманиновском зале Московской консерватории.
(обратно)16
Мартынов В. Конец времени композиторов. М., 2002.
(обратно)17
Вано Мурадели (1908–1970), советский композитор и функционер, в 1959–1970 годах – председатель правления Московского отделения Союза композиторов РСФСР.
(обратно)18
Пианист, выпускник Московской консерватории. Ученик Льва Оборина и Льва Наумова. Брал уроки у Генриха Нейгауза и Марии Юдиной. В 1978 году эмигрировал, живет в Германии.
(обратно)19
«Структуры 1» (1951) и «Структуры 2» (1965) для двух фортепиано. Первая тетрадь «Структур» считается первым и одним из самых радикальных опытов тотального сериализма. Вторая тетрадь – эксперименты c так называемой мобильной формой, произведение, пребывающее в постоянном становлении (work in progress).
(обратно)20
Феруччо Бузони (1866–1924), итальянский композитор, пианист, дирижер и педагог. Сделанные им фортепианные транскрипции произведений Баха, в частности органной Токкаты и фуги ре минор и скрипичной Чаконы ре минор, пользуются непреходящей популярностью.
(обратно)21
Владимир Софроницкий (1901–1961), легендарный советский пианист.
(обратно)22
Термин «seconda practica», «вторая практика», придуман итальянским композитором XVII века Джованни Артузи в ходе полемики с Клаудио Монтеверди; обозначал новую барочную музыку с мелодическими и контрапунктическими вольностями – в противовес консерватизму строгой полифонии «первой практики».
(обратно)23
Премьера оперы «Франциск» состоялась на Новой сцене Большого театра в 2012 году.
(обратно)24
Режиссер Василий Бархатов, художественный руководитель проекта «Опергруппа», в рамках которого был поставлен «Франциск».
(обратно)25
«Минкульт предупреждает: современное искусство может быть опасно для здоровья россиян» (Культура. 2014. 10 апреля). Статья посвящена изменению составов экспертных советов по поддержке современного искусства в Минкульте РФ. Предыдущие, по мнению авторов, тратили бюджетные деньги на поддержку «чернухи, матерщины, порнографии, бездарного шаманства под вывеской инноваций». Среди прочего упомянуто сочинение Дмитрия Курляндского «Невозможные объекты»: «Музыканты используют инструменты не по прямому назначению, но извлекают из них звуки, подчеркивающие фактуру инструмента: дрожание, дерганье, скрип, стук по дереву и железу. Например, духовые используются для того, чтобы через них просто дышать, а не играть».
(обратно)26
Опера Владимира Раннева «Два акта» была номинирована на премию «Золотая маска» в 2014 году в номинации «работа композитора в музыкальном театре».
(обратно)27
Проект «Платформа» на Винзаводе был придуман режиссером Кириллом Серебренниковым в 2011 году для популяризации современного искусства – музыки, театра, танца и медиа-арта. Проект был поддержан государством, у каждого из направлений был свой, ежегодно меняющийся куратор (Сергей Невский курировал музыкальное направление в 2011–2012 годах). «Платформа» просуществовала три года, став важнейшей лабораторией нового искусства, базой для множества заметных премьер. В 2017 году команду «Платформы» обвинили в хищении бюджетных средств. Были арестованы Кирилл Серебренников, бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, ее бухгалтер Нина Масляева и директор РАМТ Софья Апфельбаум, ранее отвечавшая в Минкульте за выделение госсубсидий. На момент окончания работы над книгой судебный процесс продолжался.
(обратно)28
По статистике, в репертуаре современных оркестров музыка, написанная за последние двадцать пять лет, занимает около 12 процентов. Сочинения Бетховена, Моцарта, Чайковского и Брамса – почти четверть всего репертуара.
(обратно)29
Каденция, каданс – заключительный оборот, завершающий музыкальное построение. Совершенная каденция завершается в тонике, основной ступени тональности, то есть в той же точке, с которой построение начиналось, половинная как бы останавливается на полпути.
(обратно)30
«Cloud Ground» для скрипки и оркестра (2015).
(обратно)31
Финский дирижер и композитор. По состоянию на 2019 год в списке его сочинений было уже 327 симфоний.
(обратно)32
«Autlend» (2009), опера для шести солистов и камерного хора на тексты аутистов, была написана по заказу Рурской триеннале.
(обратно)33
Разговор состоялся в 2016 году, а в 2018-м в БЗК все-таки состоялась премьера нового сочинения Сергея Невского, написанного для Елены Ревич, – концертом для скрипки и оркестра «Cloud Ground» дирижировал Теодор Курентзис.
(обратно)34
Спектакль «Марина» был поставлен в «Гоголь-центре» в 2014 году.
(обратно)35
Спектакль «Человек-подушка» поставлен Кириллом Серебренниковым в МХТ в 2007 году.
(обратно)36
Опера-митинг «Крым» (на самом деле, опера советского композитора Мариана Коваля «Севастопольцы» [1946], переделанная в соответствии с требованиями момента) была поставлена режиссером Юрием Александровым в театре «Санкт-Петербург опера» в 2014 году.
(обратно)37
Андрей Волконский (1933–2008), композитор и клавесинист, основатель ансамбля старинной музыки «Мадригал», потомок княжеского рода Волконских. Родился в Женеве, позже переехал с родителями в СССР, закончил Московскую консерваторию. Стал неформальным лидером советского послевоенного авангарда, среди его сочинений – первые в СССР образцы серийной техники, алеаторики и хеппенинга. Эмигрировал в 1973-м, жил в Экс-ан-Провансе.
(обратно)38
Крупнейшее музыкальное издательство, основано в Вене в 1901 году. Издавало ноты Малера, Шенберга, Веберна, Штокхаузена и других.
(обратно)39
Комитас (1869–1935), армянский композитор, священник и музыковед; первым объединил европейскую композиторскую технику с традицией церковной и народной армянской музыки.
(обратно)40
Древнеармянский Парфенон под Ереваном, построенный в I веке н. э.
(обратно)41
Известная еще древним грекам семиступенная интервальная система, основа григорианского хорала; хроматическая гамма добавляет к ней еще пять ступеней, деля октаву на более равномерные отрезки. Проще говоря, диатоника – это только белые клавиши на фортепиано, а хроматика – и черные и белые.
(обратно)42
Борис Лятошинский (1898–1964), композитор, дирижер и педагог, один из основоположников модернизма в украинской музыке. Студенты, которым он в 1960-е годы преподавал композицию в Киевской консерватории, станут ядром «киевского авангарда» – в неформальную группу композиторов войдут Валентин Сильвестров, Леонид Грабовский, Виталий Годзяцкий, Петр Соловкин и другие.
(обратно)43
«Тихие песни», вокальный цикл для баритона и фортепиано (1974).
(обратно)44
Симфония № 3 «Эсхатофония» (1966).
(обратно)45
Серенада для баритона и семи инструментов на стихи Петрарки (1921).
(обратно)46
Во время исполнения этого оркестрового сочинения гаснет свет, и оркестранты должны зажигать спички, чтобы «звуки превратились в огонь».
(обратно)47
Брайан Фернихоу (р. 1943), британский композитор, один из ярчайших представителей так называемой новой сложности – сформировавшегося в 1980-е течения в академической музыке, для которого характерны головоломный и часто сменяющийся метр, почти невозможные задачи для исполнителей, подробная сверхтребовательная нотация.
(обратно)48
Хорхе Санчез-Чионг (р. 1969), австрийский композитор венесуэльского происхождения, автор броских высокотехнологичных сочинений на стыке академической музыки, электроники, диджеинга, видео-арта, свободной импровизации.
(обратно)49
«СоМа» («Сопротивление материала»), творческое объединение композиторов, основанное в 2005 году. В него вошли Борис Филановский, Валерий Воронов, Антон Сафронов, Дмитрий Курляндский, Сергей Невский и Алексей Сюмак. Впоследствии к ним присоединились Георгий Дорохов, Антон Светличный и Владимир Раннев. См. также на с. 90 наст. издания.
(обратно)50
Популярная оперетта азербайджанского классика Узеяра Гаджибекова «Аршин мал алан» (1913) экранизировалась несколько раз, но самой известной считается версия 1945 года с Рашидом Бейбутовым в главной роли.
(обратно)51
Музыка к кинофильму «Закат» (1990) Александра Зельдовича по произведениям Исаака Бабеля впоследствии ляжет в основу сюиты «Эскизы к „Закату“», существующей в симфонической (1992) и камерной (1996) версиях. «Эскизы» станут одним из самых популярных произведений Десятникова: их исполняли Deutsches Symphonie-Orchester, Лейпцигский оркестр Гевандхауза, musicAeterna и другие. В 2017-м Алексей Ратманский поставил на эту музыку одноактный балет «Odessa».
(обратно)52
Симфония «The Rite of Winter 1949/Зима священная 1949 года» для солистов, хора и оркестра (2000). Основана на текстах советского учебника английского языка 1949 года издания, найденного композитором на даче друзей в Кратово.
(обратно)53
«Возвращение» для гобоя, кларнета и струнного квартета (2000). Это строгие вариации, тема которых появляется лишь в конце и оказывается мелодией гагаку, японской средневековой церемониальной музыки.
(обратно)54
«Путешествие Лисы на Северо-Запад» на стихи Елены Шварц для сопрано и симфонического оркестра (2013).
(обратно)55
Премьера оперы на либретто Владимира Сорокина состоялась в 2005 году; это была первая за долгие годы опера, заказанная Большим театром современному композитору (предыдущей были «Мертвые души» Родиона Щедрина, 1977). Постановка Эймунтаса Някрошюса сопровождалась шумным скандалом: театр пикетировало провластное молодежное движение «Идущие вместе», а депутаты Госдумы требовали запретить показ «пошлой пьесы Сорокина» и «порнографии» на главной сцене страны.
По сюжету немецкий ученый Алекс Розенталь, бежавший в СССР, создает пятерых клонов великих композиторов – Вагнера, Моцарта, Мусоргского, Чайковского и Верди. Но в начале 1990-х государство прекращает финансирование эксперимента, Розенталь умирает – и осиротевшие композиторы побираются на площади трех вокзалов, где Моцарт влюбляется в проститутку Таню.
(обратно)56
Опера была заново записана через десять лет после премьеры и выпущена на компакт-диске фирмой «Мелодия».
(обратно)57
«Threni» («Плач пророка Иеремии», 1958) для солиста, хора и оркестра. Первое и самое продолжительное полностью додекафонное сочинение Стравинского.
(обратно)58
Цикл из двадцати четырех фортепианных прелюдий, получивший название «Буковинские песни», стал основой для одноименного балета, поставленного Алексеем Ратманским в American Ballet Theatre в октябре 2017 года.
(обратно)59
В стилизованном под Баха концерте 1979 года композитор Виктор Екимовский, по его словам, «взял побольше ненормативных баховских приемов, сконцентрировал их и усилил, но чтобы в результате получился материал, похожий на баховскую музыку».
(обратно)60
Владимир Раннев, «Сверлийцы. Эпизод V» (2015).
(обратно)61
«Любовь и жизнь поэта», вокальный цикл для тенора и фортепиано на стихи Николая Олейникова и Даниила Хармса (1989).
(обратно)62
«Ассоциация современной музыки – 2» (АСМ-2) была образована в 1990 году при активном участии композиторов Елены Фирсовой, Николая Корндорфа, Дмитрия Смирнова. В АСМ-2 входили Фарадж Караев, Александр Вустин, Владимир Тарнопольский, Александр Раскатов, Юрий Каспаров и другие. Председателем ассоциации стал Эдисон Денисов. АСМ-2 существует по сей день, возглавляет ее композитор Виктор Екимовский.
(обратно)63
«Все мои коллеги тихо бродили вдоль глухого денисово-шнитке-губайдулинского забора. Притом, что многие достижения этой бродячей молодой поросли, говоря объективно, были вполне сравнимы с достижениями мэтров. ‹…› Но ничто не вечно под луной – самые стойкие оловянные солдатики дождались-таки своего часа, когда волею судеб в середине 90-х Денисов оказался в Париже, Шнитке в Гамбурге, а Губайдулина в Аппене. ‹…› В отсутствие „великих“ быстро зацвели Вустин, Раскатов, Тарнопольский, Каспаров, перепало что-то и на мою долю» (Екимовский В. Автомонография. М., 1997. С. 183).
(обратно)64
Фарадж Караев (р. 1943), композитор, участник «Ассоциации современной музыки – 2», преподаватель Московской консерватории. Сын азербайджанского классика Кара Караева, художественный руководитель бакинского фестиваля современной музыки имени К. Караева.
(обратно)65
«Я уверен, что учить молодых надо очень строго и не должно быть никаких заигрываний с тем, что называется „современная фестивальная музыка“. ‹…› Молодых развращает участие в конкурсах, которых теперь великое множество. Нередко наши российские композиторы занимают призовые места за бессмысленные математические квазиформулы. ‹…› Ученикам надо периоды Бетховена показывать, с ними надо гармонию Дебюсси изучать, партитуры Шенберга! На философские темы дома говорите, в кафе, а на занятиях отвлекаться от изучения собственно ремесла – пагубно! Отсутствие мастерства подменяется пустословием, и вчерашние молодые ребята, которые у своих „педагогов“ так ничему и не научились, вынуждены объяснять-оправдывать свои опусы высокими концепциями. И нередко авторская аннотация становится гораздо более интересной, чем звучащая затем музыка» («Молодых композиторов развращает участие в конкурсах» // Colta.ru. 2016. 27 января).
(обратно)66
Джачинто Шельси, граф Д’Айяла Вальва (1905–1988), итальянский композитор-экспериментатор, большую половину жизни проведший затворником в своей римской квартире. Музыка Шельси связывает авангард XX века с архаичными ритуальными традициями и в значительной степени посвящена вглядыванию внутрь звука – поздний период его творчества принято отсчитывать от «Четырех оркестровых пьес на одной ноте» (1959), где, как и следует из названия, все построено вокруг исследования свойств всего одного звука.
(обратно)67
«Четыре оркестровые пьесы на одну ноту» (1959) Шельси характеризовал как новаторский «синтез статического и динамического элементов, всегда присутствующих в вибрации одного-единственного звука». Впоследствии эту идею развивали многие композиторы, в частности Луиджи Ноно, у которого в двадцатиминутном оркестровом сочинении «No hay caminos, hay que caminar» (1987) звучит одна и та же нота. Самое известное сочинение американского минималиста Ла Монте Янга называется «Composition 1960 #7» и представляет из себя квинту, интервал из двух нот, который требуется «держать продолжительное время». Сам Янг любит повторять в интервью анекдот про индийского музыканта, который играет всего одну ноту, потому что «вы еще ищете, а я уже нашел».
(обратно)68
«Сокровенный человек» (2002) для сопрано и четырех инструментальных групп на текст Андрея Платонова. С этим сочинением двадцатишестилетний Курляндский первым из российских композиторов побеждает на престижном конкурсе «Gaudeamus».
(обратно)69
Пятичастный цикл был впервые исполнен в 2013 году в Москве в рамках проекта «Платформа». «Невозможные объекты» объединяли музыку и видео-арт арт-группы «Провмыза» и были исполнены силами трех ансамблей современной музыки – московского МАСМ, санкт-петербургского eNsemble и нижегородского NoName ensemble.
(обратно)70
Трискайдекафобия (болезненная боязнь числа 13) Арнольда Шенберга, родившегося 13 сентября, хорошо задокументирована. Он избегал использовать 13 в нумерации опусов, заменяя его на 12а, однажды отказался снимать дом под номером 13 и переименовал оперу «Моисей и Аарон» в «Моисей и Арон», чтобы количество букв в названии не равнялось тринадцати. Он умер в пятницу, 13 июля, в возрасте 76 лет, который внушал ему особенные опасения (7 + 6 = 13).
(обратно)71
Невротическая мания все подсчитывать появилась у Антона Брукнера в 1865 году: он пересчитывал листья на деревьях, окна на фасадах домов, звезды на небе.
Описан случай, когда он набросился на богатую даму с криком: «Это невыносимо, я вынужден непрерывно считать, сколько жемчужин в Вашем ожерелье!» Подобный невроз навязчивых состояний сегодня называют обсессивно-компульсивным расстройством. Некоторые музыковеды полагают, что одержимость числами проявлялась в том числе в многочисленных повторах в его музыке.
(обратно)72
Концепция «трех китов», на которых держится «все музыкальное здание», была сформулирована композитором и педагогом Дмитрием Кабалевским в детской книге «Про трех китов и про многое другое» (1970) и стала важной частью советского музыкального образования.
(обратно)73
«Collectivision» (2011) для семи губных гармоник и аккордеона. «Пьеса вдохновлена неосуществленным проектом санатория лечебного сна Константина Мельникова (1929). Состав призрачно-монотембровый; форма решена как ряд несимметрично вложенных друг в друга концентрических кругов» (здесь и далее – цитаты из авторских пояснений).
(обратно)74
«Шмоцарт» (2006) для фортепиано, скрипки и виолончели. «Автор прямо ставит себя в положение ретранслятора моцартовской стилистики и сознательно паразитирует на ней».
(обратно)75
«Dramma muto» (2005) для кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано. «Название означает „немая драма“. Это собрание более-менее общих звуковых жестов, которые сведены к отвлеченным фигурам или исполнительским архетипам. Поэтому практически отсутствует нормальное звукоизвлечение: это не сами музыкальные мысли, а их скелеты».
(обратно)76
«Scompositio» (2014) для певицы, тринадцати исполнителей и аудиопроекции. «В 1909 году тридцатилетняя мать двоих детей Эмма Хаук была отправлена в закрытую психиатрическую лечебницу с диагнозом „шизофрения“. Оттуда она писала мужу письма, в которых было всего два слова: „Herzensschatzi, komm“ (сердечко мое, приди). Она покрывала ими лист за листом, превращая текст в текстуру. Ни одно из этих нечитаемых писем не было отправлено. Никто не пришел навестить ее. ‹…› Певица находится в окружении инструменталистов. В ушах у нее бинауральные микрофоны, звук с которых передается в зал; публика слушает как со своей позиции, так и ушами солистки, включая звуки ее тела и ее попытки извлечь звук из отдельных инструментов. Эта акустически расщепленная реальность и дает название: scomponere по-итальянски значит „расчленять“. ‹…› Мне хочется уловить само состояние замкнутости и одновременно раздвоенности, меня интересует звук, возникающий как результат не только звукоизвлечения, но и слушания».
(обратно)77
, популярный русскоязычный интернет-форум, очаг многолетних яростных споров о судьбе классической музыки.
(обратно)78
Эссе Милтона Бэббита «Who cares if you listen» («Кого волнует, слушаешь ты или нет») было опубликовано в 1958 году в американском музыкальном журнале High Fidelity.
(обратно)79
У венгерских князей Эстерхази с 1761 по 1790 год служил придворным капельмейстером Йозеф Гайдн. Вплоть до 1779 года все сочинения Гайдна по контракту считались собственностью семьи Эстерхази, писать для других заказчиков и продавать свои работы издателям он не имел права.
(обратно)80
Thomson V. In the Theatre // Modern Music. 1938. Jan. – Feb.
(обратно)81
Книга штатного музыкального критика журнала New Yorker Алекса Росса «Дальше – шум. Слушая XX век» (2007; русское издание – 2014) посвящена истории современной музыки.
(обратно)82
Griffiths P. Modern Music and After. 1995.
(обратно)83
Подробнее см.: Saunders F.S. The Сultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters. New York: The New Press, 1999.
(обратно)84
Авангардный московский рок-коллектив, основан в 1981 году. Единственный альбом группы, «Ноэма», вышел в 1990-м.
(обратно)85
«Falls» (1997, совместно с фольклорным дуэтом «Не Те» и диджеем Кубиковым), «Sister Grimm Tales» (1997, совместно с фольклорным дуэтом «Не Те»), «Сердца 4x33x» (1998).
(обратно)86
В 1997–1998 годах музыкальным оформлением канала НТВ занимался Антон Батагов. Заставки к телепередачам того времени, в том числе и «Старому телевизору», изданы в сборнике «Контракт рисовальщика» (2007).
(обратно)87
Александр Деспла, французский кинокомпозитор, автор музыки к фильмам «Отель Гранд Будапешт», «Королева», «Загадочная история Бенджамена Баттона», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Король говорит» и другим.
(обратно)88
Центральная музыкальная школа при Московской консерватории. С 1935 года – главная музыкальная школа для одаренных детей страны. Среди выпускников – Вера Горностаева, Владимир Ашкенази, Геннадий Рождественский, Алексей Рыбников, Владимир Спиваков, Владимир Крайнев и многие другие.
(обратно)89
Характерно, что в знаменитом выступлении первого секретаря Союза композиторов СССР Тихона Хренникова в 1979 году, громившем «советских авангардистов» (Губайдулину, Денисова, Кнайфеля и других), Канчели приводится в качестве положительного примера советского композитора – наряду с Хачатуряном, Прокофьевым, Щедриным.
(обратно)90
«Стикс» («Styx») для смешанного хора, альта и оркестра (1999).
(обратно)91
Песенный цикл «Пели» на стихи Хармса, Введенского и Хименеса в сопровождении струнного «Кураж-квартета» появился в 2013 году и вышел на компакт-диске в 2014-м. С тех пор у композитора появилось еще две песенные программы – «Мама» (2016) и «Псалми и танцi» (2018).
(обратно)92
Карло Джезуальдо ди Веноза (1566–1613), итальянский композитор, автор удивительных хроматических мадригалов. В 1590-м убил свою первую жену и ее любовника, застав их вместе.
(обратно)93
Безладовый струнный инструмент, родственный ситару, на котором в индийской классической музыке создается фоновый аккомпанемент.
(обратно)94
Кугиклы – традиционный духовой инструмент, многоствольная флейта, напоминающая флейту Пана, распространена в России и на Украине. Обычно делается из сухого камыша.
(обратно)95
Михаил Альперин (1956–2018), пианист, участник этно-джазового Moscow Art Trio – вместе с Аркадием Шилклопером (валторна) и Сергеем Старостиным (вокал).
(обратно)96
Люка Дебарг (р. 1990), французский пианист, лауреат XV конкурса Чайковского.
(обратно)97
Герман фон Гельмгольц (1821–1894), немецкий физик, врач, физиолог, психолог, акустик, автор труда «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки» (1863).
(обратно)98
Вышедший в 2013 году альбом фортепианных пьес вдохновлен поездкой Батагова на кладбище Кенсико, где похоронен Сергей Рахманинов. Это сборник воображаемых писем Рахманинова любимым музыкантам Батагова (Брайану Ино, Филиппу Глассу, Питеру Гэбриелу и другим).
(обратно)99
Фильм Ивана Дыховичного с фортепианной музыкой Антона Батагова. В 2007-м саундтрек был выпущен на компакт-диске.
(обратно)100
«Tayatkha» (2013).
(обратно)101
Серия альбомов с участием буддистских лам, записанных Батаговым в середине нулевых: «37 наставлений монаха Тогме» (2007), «Ежедневная практика» (2008), «Бодхичарья-Аватара» (2009), «Ламрим» (2009).
(обратно)102
«Где нас нет. Письма игумении Серафимы» (2017), серия фортепианных пьес, основанная на письмах Наталии Янсон (1895–1988), игуменьи Ново-Дивеевского монастыря (штат Нью-Йорк).
(обратно)103
Алексей Малобродский, генеральный продюсер театральной «Седьмой студии», был задержан в июне 2017 года в связи с подозрениями в хищениях бюджетных средств. Отказался признать вину и произнес на суде широко цитировавшуюся речь: «Я исхожу из предположения, что честь, ваша честь, имеет место в суде… Я также исхожу из предположения, что все без исключения участники заседания должны руководствоваться законом и все в равной мере несут ответственность за свои слова и поступки». В декабре 2017 года Ассоциация театральных критиков признала Малобродского человеком года с формулировкой «За честь и достоинство».
(обратно)104
Дубинец Е. Моцарт отечества не выбирает: О музыке современного русского зарубежья. М., 2016.
(обратно)105
«I fear no more. Избранные песни и медитации Джона Донна», масштабное сочинение для симфонического оркестра, которое требует участия вокалиста, бас-гитариста и ударника. Было заказано дирижером Владимиром Юровским для Госоркестра России и исполнено в 2014 году.
(обратно)106
«Тот, кто ушел туда» (2016), рок-кантата на древние буддистские тексты. Вокальную партию на премьере исполнил композитор Александр Маноцков.
(обратно)107
Премьера оперы «Два акта» состоялась в 2012 году в атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа.
(обратно)108
Владимир Кехман – бизнесмен и театральный деятель, в 2007–2015 годах – генеральный директор Михайловского театра, с 2008-го по настоящее время – художественный руководитель Михайловского театра.
(обратно)109
Опера «Кентервильское привидение» (1965–1966; в новой редакции – «Кентервиль») по повести Оскара Уайльда была написана Кнайфелем в двадцать два года и впервые поставлена на сцене Оперной студии Ленинградской консерватории.
(обратно)110
«Слушая музыку молодых, нередко ловишь себя на мысли: да, они многое знают, многое умеют, но всегда ли ставят перед собой подлинно содержательные, художественные задачи? Нет-нет, а приходится услышать сочинение, написанное только ради необычных тембровых комбинаций и эксцентрических эффектов, в котором музыкальная мысль, если и присутствует, то безнадежно тонет в потоке неистовых шумов, резких выкриков или невразумительного бормотания.
Тут уж не приходится говорить об индивидуальности или эмоциональной окрашенности музыки. И все это выдается за новаторство в искусстве. Бесконечные глиссандо струнных инструментов, утомительные соло ударных, отсутствие малейшего движения в музыке, тематический материал, не дающий возможности для развития, – все это производит весьма унылое впечатление ‹…› К сожалению, именно такие явления, которые не характеризуют подлинное лицо советской музыки, поднимаются на щит нашими идеологическими противниками. Организаторы всевозможных авангардистских фестивалей правдами и неправдами заполучив только что написанные партитуры наших композиторов – любителей сенсаций, тут же включают их в программы и выдают за последнее слово советской музыки. Сами же авторы (замечу, члены нашего союза, музыка которых звучит у нас иной раз чаще, чем она того заслуживает) объявляются „неофициальными композиторами“, якобы притесняемыми в Советском Союзе. Вот передо мной программа одного из таких фестивалей, прошедшего весной нынешнего года в Кёльне. Название у него довольно претенциозное – „Встреча с Советским Союзом“. ‹…› В программе фестиваля оказались в основном те, кого организаторы сочли достойными называться советским авангардом: Е. Фирсова, Д. Смирнов, А. Кнайфель, В. Суслин, В. Артемов, С. Губайдулина, Э. Денисов. Картина несколько однобокая, не правда ли? Примерно такую же картину представляет программа недавнего бьеннале в Венеции…» (Тихон Хренников, из отчетного доклада на VI Всесоюзном съезде советских композиторов.)
(обратно)111
«Argumenta de jure» 16-ти хоров (1969; здесь и далее названия даны в авторской редакции).
(обратно)112
«150 000 000», дифирамб (1966).
(обратно)113
Хорео «Медея» (1968).
(обратно)114
К 1991 году четверо композиторов из «хренниковской семерки» (София Губайдулина, Виктор Суслин, Елена Фирсова, Дмитрий Смирнов) покинули СССР. Арво Пярт эмигрировал в 1980-м.
(обратно)115
Александр Ивашкин (1948–2014), виолончелист, дирижер, музыковед, автор книги «Беседы с Альфредом Шнитке», монографий о Ростроповиче, Айвзе, Пендерецком и других.
(обратно)116
«„Алиса в Стране Чудес“, 24 картинки Льюиса Кэрролла в театре играющих, поющих, танцующих» (1994–2002).
(обратно)117
«„Глупая лошадь“, от четы» (1981).
(обратно)118
«„Восьмая глава“, canticum canticorum» (1993). Написана для Мстислава Ростроповича, обязательное требование автора – может исполняться только в храме.
(обратно)119
«„Жанна“, passione» (1970–1978).
(обратно)120
Так Кнайфель называет серию тихих и продолжительных сочинений 1980-х: «Случайное» (1982) – 1 час 30 минут, «Ника» (1983–1984) – 2 часа 20 минут, «Бог» (1985) – 1 час, «Agnus Dei» (1985) – 2 часа, «Сквозь радугу невольных слез» (1987–1988) – 1 час 40 минут.
(обратно)121
«„Блаженство“, стихотворения Александра Пушкина» (1997).
(обратно)122
«Subbassi „Ника“» (1983–1984).
(обратно)123
«„Agnus Dei“ для четырех инструменталистов a cappella» (1985).
(обратно)124
Эстонский скрипач и дирижер, основатель ансамбля старинной музыки «Hortus Musicus». В репертуаре ансамбля также сочинения Арво Пярта, Георга Пелециса, Гии Канчели и других.
(обратно)125
Уилсон Э. Жизнь Шостаковича, рассказанная его современниками. СПб., 2006.
(обратно)126
Ricardo Villalobos, Max Loderbauer, «Re: ECM» (2011). ECM Records.
(обратно)127
Keller Quartet, «Cantante e tranquillo» (2015), ECM Records.
(обратно)128
«„Айнана“ вариации» (1978). В основе сочинения – написанный Кнайфелем экспериментальный саундтрек к советскому фильму «След росомахи», современной интерпретации старинной чукотской легенды о любви. Айнана – имя главной героини фильма.
(обратно)129
Одноактная музыкальная драма «Новый Иерусалим» (2014) основана на истории российских праворадикальных активистов, устраивавших охоту на педофилов.
(обратно)130
«Последнее слово подсудимой» для меццо-сопрано с оркестром (2012).
(обратно)131
Официальный фильм Олимпиады в Сочи «Кольца мира» (реж. Сергей Мирошниченко, 2015).
(обратно)132
Премьера оперы «Новый Иерусалим» должна была состояться в апреле 2014 года в Санкт-Петербурге, однако продюсеры начали получать по телефону угрозы от чиновников; премьерные показы были отменены. Перед второй попыткой постановки на Илью Демуцкого напал неизвестный с электрошокером. Композитора защитила охрана Мариинского театра, вслед ему кинули записку: «Еще одна опера, и ты на кладбище». Попыток вернуться к постановке больше не было.
(обратно)133
Разговор состоялся за два месяца до премьеры, назначенной на 11 июля 2017 года. 10 июля гендиректор Большого театра Владимир Урин внезапно отменил показ балета, сославшись на «неготовность спектакля». Одновременно активно обсуждались слухи, что истинным автором запрета был то ли министр культуры Владимир Мединский, то ли влиятельный настоятель Сретенского монастыря Тихон (Шевкунов), недовольные автором, героем, «гей-пропагандой» и отдельно – использовавшейся в постановке знаменитой фотографией обнаженного Рудольфа Нуреева авторства Ричарда Аведона. Премьера «Нуреева» все же состоялась спустя полгода. Кирилл Серебренников, с августа находившийся под домашним арестом по делу «Седьмой студии», ни на репетициях, ни на премьере не присутствовал.
(обратно)134
«Дважды двойной концерт» (2009) для двух гобоев, двух флейт и двух камерных оркестров в двух разных строях.
(обратно)135
«Любимый ненавидимый город» («The City I Love and Hate»), секстет для фортепиано, струнного квартета и контрабаса (2012).
(обратно)136
Татьяна Чудова (р. 1944), композитор, профессор Московской консерватории. Ученица Тихона Хренникова, автор более пятисот сочинений, в том числе нескольких сюит для оркестра русских народных инструментов и трилогии симфоний «Советской молодежи посвящается».
(обратно)137
Владислав Агафонников (р. 1936), композитор, профессор Московской консерватории. Автор девяти опер («Сергей Есенин», «Юрий Долгорукий»), православных вокальных сочинений («Литургия св. Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение»), кантаты «К 60-летию победы» и других.
(обратно)138
Владимир Горлинский (р. 1984), композитор, импровизатор, автор пространственных композиций и звуковых инсталляций. Окончил Московскую консерваторию по классу композиции, преподает на кафедре современной музыки и ведет класс импровизации. Его сочинения исполняются ансамблями современной музыки по всему миру.
(обратно)139
Жерар Гризе (1946–1998), французский композитор, лидер французской спектральной школы. Цикл пьес «Акустические пространства» для разных составов (1974–1985) – ярчайший образец спектрализма и одно из самых известных сочинений Гризе: композитор пристально вглядывается внутрь звука, стараясь добиться того, чтобы оркестр превратился в звучащий спектр.
(обратно)140
AMM, британский коллектив, основанный в 1965 году, пионеры свободной импровизации. В разное время в его состав входили барабанщик Эдди Превост, композитор Корнелиус Кардью, пианист Джон Тилбери, гитарист Кит Роу и другие, время от времени с ними выступал композитор Крисчен Вулф. Сейчас существует как дуэт Превоста и Тилбери.
(обратно)141
Сатико Мацубара (Сатико М), японский музыкант, исполнительница на сэмплере, важная фигура японской импровизационной сцены онкиё, объединяющей свободную импровизацию, электронику и нойз. Использует в качестве инструмента тестовые сигналы для проверки аппаратуры. В 1990-е – участница коллектива Ground Zero.
(обратно)142
Тосимару Накамура, японский музыкант-импровизатор, еще один важный участник онкиё. Виртуоз игры на NIMB (no-input mixing board), микшерном пульте без входного сигнала. Выступал и записывался с Дэвидом Сильвианом, основателем AMM Китом Роу и другими.
(обратно)143
Александр Чайковский (р. 1946), композитор, профессор Московской консерватории, с 2003 года – руководитель Московской филармонии. Автор двенадцати опер, множества симфонических и камерных сочинений.
(обратно)144
Георгий Дорохов (1984–2013), композитор-акционист, участник композиторской группы «СоМа». Автор бескомпромиссных вещей, зачастую связанных с деструкцией, яростным разрушением предметов и инструментов на сцене. Поздние сочинения Дорохова написаны для нетрадиционных составов, одно из наиболее известных – «Русское бедное» для экстремального вокала, деревянных ящиков, мусорных баков, батарей центрального отопления, сирен, колоколов и железных листов. Умер от инсульта в двадцать восемь лет.
(обратно)145
Партитуры, записанные не нотами или символами, а словами, – по сути, текстовые инструкции для музыкантов. Такие инструкции не столько подробно фиксируют произведение, сколько описывают ситуацию, в которой будут существовать музыканты. Как и графические партитуры, нередко представляющие из себя рисунки или графики, открытые для интерпретации, текстовые партитуры прежде всего очерчивают поле для импровизации музыкантов. Появившиеся в 1950-е годы, во многом под влиянием Джона Кейджа, текстовые партитуры варьируются от тщательно прописанных правил, указаний и запретов до дзенских коанов (партитура «Фортепианной пьесы для Дэвида Тюдора № 3» [1960] Ла Монте Янга состоит из одной строчки – «большинство из них было очень старыми кузнечиками»). Среди классических образцов жанра – партитуры Ла Монте Янга, Элвина Люсье, Полины Оливерос, Йоко Оно, Крисчена Вулфа.
(обратно)146
«Plenilune» (2012) для кларнета, виолончели и импровизирующих музыкантов.
(обратно)147
«Selene» (2012) для фортепиано соло. Написана для пианиста Юрия Фаворина, длится около двух с половиной часов.
(обратно)148
«Present perfect» (2016) для альта и фортепиано.
(обратно)149
Серия импровизационных сочинений «Wallpapers» начата Алексеем Сысоевым в 2012 году. Существуют «Wallpapers» для разных составов: для фортепиано в семь или четырнадцать рук («Wallpapers 9. Travellers»), для восьми и более перформеров на открытом пространстве («Wallpapers 4») и даже для монгольских детей в стойбище («Wallpapers 6»). В данном случае речь идет о «Wallpapers 3» для трех-четырех и более перформеров, самом известном и часто исполняемом сочинении из этой серии; запись выпущена на лейбле Fancymusic.
(обратно)150
Prepared piano, препарированное или подготовленное фортепиано. Изобретенный Джоном Кейджем в 1938–1940 годах способ изменить звук фортепиано, добавив к струнам гайки, болты и другие предметы.
(обратно)151
Появление группы московских композиторов, которые активно занимались импровизацией и исполняли вещи друг друга, стало одним из самых ярких явлений современной музыки нулевых. В эту группу входили композиторы Кирилл Широков, Алексей Сысоев, Владимир Горлинский, Даша Звездина, Саша Елина, Александр Чернышков, Марина Полеухина, Даниил Пильчен, Александр Маноцков и другие.
(обратно)152
Винко Глобокар (р. 1934), французский тромбонист, композитор и импровизатор словенского происхождения. Ученик Рене Лейбовица, соратник Берио и Штокхаузена. В своих сочинениях активно использует принципы неопределенности, спонтанности и свободной импровизации.
(обратно)153
Знаменитое сочинение Ла Монте Янга «The Well-tuned piano» (1964), которое критики называли одним из самых значительных сочинений XX века. Представляет из себя фортепианную импровизацию, длящуюся от пяти до шести часов. Исполнение предполагает особенную настройку рояля, отличную от стандартной. Нот сочинения не существует, есть только короткое описание структуры, составленное композитором для пластинки 1981 года: в «Хорошо настроенном фортепиано» семь частей с названиями вроде «Магический аккорд» и «Елисейские поля». На протяжении жизни Ла Монте Янг (сейчас ему за восемьдесят) исполнил эту вещь несколько десятков раз. Кроме него, ее исполняет только его ученик, композитор и пианист Майкл Харрисон, которого автор научил авторской настройке и подготовке рояля к исполнению. В 1991 году музыковед Кайл Ганн вычислил правильную настройку и, с разрешения композитора, сделал ее общедоступной.
(обратно)154
Перкуссионист, яркий представитель берлинской экспериментальной музыки и электроакустической импровизации.
(обратно)155
Дерек Бейли (1930–2005), британский гитарист, один из основателей школы свободной импровизации. Выходец из джазовой среды, он сформулировал принципы «неидиоматической импровизации», предполагающей множество запретов – на повторяемость, цитаты, мелодии, регулярность любого рода (ритмическую, гармоническую, интонационную), отсылки к существующим школам и традициям. Это как бы спонтанная, непредсказуемая и сбивчивая речь на новом языке, который рождается прямо на глазах слушателя. Ранние импровизации Бейли демонстрировали сильное влияние Антона Веберна. Основатель собственного лейбла Incus, журнала свободной импровизации Musics, вдохновитель группы импровизаторов Company, в которую входили самые яркие представители движения, от Энтони Брекстона и Эвана Паркера до Фреда Фрита и Джона Зорна. В книге «Импровизация: ее природа и практика» (1980) констатировал, что неидиоматической импровизации больше нет – она превратилась в отдельный узнаваемый жанр со своим словарем, приемами и законами.
(обратно)


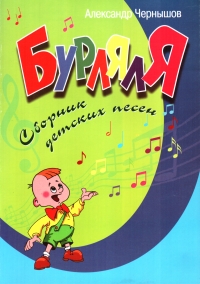


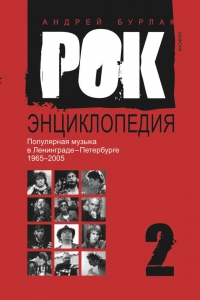


Комментарии к книге «Фермата», Алексей Юрьевич Мунипов
Всего 0 комментариев