© Flammarion, 2003 © ООО «ИД „Флюид“, 2005
"In the beginning there was Jack
And Jack had a groove
And from this groove came the groove of all grooves
And while one day viciously throwing down on his box
Jack boldly declared let there be house
And house music was born".[1]
Rhythm Control, "My house"
"Разве можно передать безумие прошедшего десятилетия с помощью одних фактов и имен? Многочисленные издания, пишущие о танцевальной музыке и прославляющие диджеев и клубных промоутеров, оказались не в состоянии достоверно описать это явление […] Потому что подлинная история заключается не в каких-то мифических записях, не в каких-то приемах, выдуманных диджеями или поп-звездами, а в ощущениях людей, которые пережили этот хаос, этот абсурд, этот психоз".
Сара Чемпион, из предисловия к антологии "Disco Biscuits"
Плейлисты "Электрошока" можно найти на сайте
Гпава первая I'll House you
С чего начать? С самого раннего воспоминания? Я закрываю глаза, чувствую, как уши наполняет мерный гул, и переношусь на много лет назад, на вечеринку — самую прекрасную из всех вечеринок, на которых мне довелось побывать. На этой вечеринке играла пластинка, и, пока она играла, что-то в этом мире перевернулось. На следующий день по серому северному Манчестеру покатилась шоковая волна. Сначала трясло клубы и радиостанции. Потом с невиданной скоростью стал меняться весь городской пейзаж. Волна проникала в музыкальные магазины, пабы, места подпольных тусовок и продолжала неистовствовать даже тогда, когда город отходил ко сну. Укрыться от этой мощной и чувственной вибрации было невозможно.
С этой вечеринки я и начну свой рассказ.
Манчестер. Весна 1987 года. Я иду своим привычным вечерним маршрутом и оказываюсь на безлюдной Уитворт-стрит перед краснокирпичным зданием с потускневшим от проливных дождей и заводского дыма фасадом. За то время что я живу в Манчестере, я уже успел сродниться с этим зданием. С его узкой входной дверью, с вышибалами, охраняющими эту дверь, с крадущимися вдоль стен тенями наркодилеров и их жертв. Это Hagienda.
Захожу в огромный зал, работая локтями, продираюсь к бару, достаю из кармана традиционные два фунта, заказываю выпить и начинаю наблюдать за тем, как по клубу, утопая в лучах яркого света, перемещаются его посетители. В основном это студенты. Иногда попадаются какие-то подозрительные личности, но можно не беспокоиться: никто не посмеет омрачить беззаботное настроение, царящее в зале.
Сегодня за вертушками Майк Пикеринг (Mike Pickering), один из лучших диджеев города. Его сет вполне соответствует музыкальному эклектизму Манчестера: в нем чередуются латиноамериканские мотивы, фанк, хип-хоп и электро. Но вдруг из колонок начинают литься звуки, словно пришедшие из какой-то параллельной реальности, и в ту же секунду в воздухе что-то резко меняется. Как я узнаю позже, это "Love Can't Turn Around" Farley Jack Master Funk.
Это как удар под дых. Звук становится в два раза громче, голоса начинают звучать отрывисто, ритм тяжелеет. Наблюдаю за реакцией танцующих, которые в течение нескольких секунд пытаются подстроиться под незнакомый ритм и наконец пускаются в неистовый пляс. Динамики Haçienda изрыгают могучие басы, а я по-прежнему не могу поверить своим ушам. "Что это играет?! — кричу я. — Вот это я понимаю! Вот это жесткий саунд!" В конце концов я сам оказываюсь на танцполе, и мои крики вливаются в общий рев. Мои руки поднимаются вверх, волосы на голове встают дыбом, тело покрывается мурашками, ноги начинают ходить ходуном, а губы сами собой шевелятся, повторяя: "Love Can't Turn Around".
Окажись среди посетителей Haçienda сейсмологи, они наверняка зафиксировали бы тела танцующих содрогаются в такт безумному биту. Несмотря на устрашающее шипение, доносящееся из динамиков, мое тело так и тянется к ним. Все мое существо пытается слиться с этими гремящими басами, и вдруг. — провал — пустота. — конец пластинки.
Пикеринг выжидает несколько секунд, оценивая произведенный эффект. На зал, по-прежнему купающийся в оранжевом свете, опускается гробовое молчание.
Я не могу сдвинуться с места и только как одержимый бормочу: "Господи, что это было?!" Наконец мое терпение иссякает, и, взрывая оцепенелую тишину зала, я кричу: "Хочу еще!"
Но Майк Пикеринг непреклонен: сегодня мы больше не услышим "Love Can't Turn Around".
Пока я нетвердой походкой пробираюсь к выходу, мечтая освежиться под весенним дождем, в голове у меня крутится незамысловатая мелодия, а все тело содрогается от новой, непривычной вибрации. В мою жизнь только что ворвалась пламенная страсть:
ХАУС.
Теперь расскажу о том, как я очутился в Англии. Учеба никогда не была моим любимым занятием (ну нет у меня этой жилки), тем не менее, чтобы не нарушать древнюю традицию семейства Гарнье, я поступил в школу гостиничного бизнеса, по окончании которой был рекомендован во французское посольство в Лондоне на должность лакея. Сотни километров, отделявшие Лондон от парижского пригорода Буживаль, где жили мои родители, означали для меня абсолютную свободу. Кроме того, моя работа давала мне кое-какие привилегии, благодаря которым я в свои восемнадцать лет без труда проник в замкнутый мир лондонских частных вечеринок. Дело в том, что в отличие от большинства тусовщиков, приходивших на вечеринки с низкокачественным пойлом из ближайшего магазина, я неизменно приносил с собой бутылки "Дом Периньона", "позаимствованные" в посольских погребах. Слух обо мне разнесся по всему Лондону, и меня, а вместе со мной и моих друзей-французов, стали приглашать на все частные вечеринки, проходившие в городе.
Playlist Cassette
Mantronix
Ladies
Pet Shop Boys
West End Girls
Trouble Funk
Pump me up
Beastie Boys
Hold it, now Hit it
Gwen Guthrie
An'i Nothing Goin’on but the Rent
Dead or Alive Job
Spin me round
Funkadelic
One Nation under a Groove
Aleem
Get Loose
Круг моих знакомых постоянно расширялся. Я вращался в среде, в которой основой всего и вся считалась музыка и заслужить всеобщее уважение можно было лишь доказав, что ты настоящий меломан. А быть меломаном означало записывать кассеты с собственными миксами и раздавать их друзьям. Я, за неимением соответствующего оборудования, тратил на это занятие уйму времени. Мои допотопные вертушки не позволяли мне даже регулировать скорость вращения, поэтому пластинки я сводил не по принципу интенсивности музыки, а по принципу постепенного нарастания темпа, с помощью пальца сглаживая слишком заметные перепады. На подготовку одного микса у меня уходило не меньше шести часов.
Безумная любовь к музыке сопровождала меня с самого детства, однако органичную среду она обрела именно в Лондоне, а точнее, в лондонской ночной жизни.
Я погрузился в удивительный мир — мир будоражащих воображение звуков, мир тайн и аномалий.
За два года, проведенные в Лондоне, я обошел десятки модных клубов и десятки клубов, вышедших из моды; побывал на импровизированных квартирных вечеринках, которые неизменно заканчивались развеселым крушением стен и мебели; послушал несчетное количество саундсистем — хороших и не очень, игравших, как правило, в заброшенных ангарах, где прямо на земле были свалены горы звуковой аппаратуры. Мои блуждания по городу каждый вечер приводили меня как в новые места, так и в места, уже успевшие стать для меня вторым или третьим домом. Вскоре у меня выработался свой собственный вечерне-ночной маршрут.
Что касается дневных часов, то их я проводил в новоампирных интерьерах, среди обитых шелком кресел, золотых светильников и монументальных застекленных дверей с тяжелой бархатной драпировкой. В этой умиротворяющей обстановке я исправно выполнял обязанности "придворного" лакея, заключавшиеся в том, чтобы прислуживать послу с той секунды, когда он вставал с постели, до той секунды, когда он обратно в нее ложился. Кроме того, я привлекался к проведению всевозможных приемов и банкетов, на которых мне случалось обслуживать английскую королеву, президента Миттерана и леди Ди. Как только посол отправлялся спать, я созванивался со своими приятелями, разбросанными по всему городу, и договаривался о встрече. Пропустив пару стаканчиков, мы принимались обсуждать программу дальнейших действий. Обычно рассматривались следующие варианты: Twist'n'shout в Camden Palace — ретро-вечеринки, на которых звучал rare groove 60-х; поход в Heaven — место сбора самых безбашенных клабберов — или в Hippodrome — гигантский клуб, куда весь Лондон ходил слушать Divine; вечеринки Taboo эксцентрика Ли Бауэри (Leigh Bowery), на которых хорошим тоном считалось вместо брюк надевать рубашку; и, наконец, вечеринки Playground. И это не считая бесчисленных warehouse parties — подпольных вечеринок, проходивших на заброшенных пригородных складах.
Но вся эта череда праздников была лишь прелюдией к главной — пятничной — вечеринке.
В течение всей рабочей недели в воздухе витал дух предыдущей пятницы, навевая приятные воспоминания и вызывая неудержимое желание вновь очутиться в объятиях этой дивной ночи, живущей по своим священным законам.
Но вот пятница наконец наступала, и мы всей компанией отправлялись в мекку английской клубной культуры — Mud Club на Тоттнем-Корт-роуд, заправлял которым истинный денди по имени Филип Сэллон (Philip Sallon). О том, чтобы пропустить хоть одну вечеринку в Mud, не могло быть и речи. Если семейный долг звал меня на выходные во Францию, я все равно шел в Mud и в субботу заявлялся к родителям изрядно помятый после бессонной ночи. За два года, что я провел в Лондоне, не произошло ничего, что бы заставило меня в пятницу вечером свернуть с проторенной дороги, ведущей на Тоттнем-Корт-роуд.
Playlist Mod Club
Nina Simone
My Baby dont Саге
Liquid Liquid
Cavern
Straff
Set U off
B52’s
Planet Claire
John Carpenter
The End
Jackie Wilson
Reet Petite
George Clinton
Do Fries Go with that Shake
Macattack
The Art of Drums
Trouble Funk
Drop the Bomb
Однако, чтобы пойти потанцевать в Mud, одного желания было недостаточно. Для успешного прохождения фейс-контроля нужно было выглядеть по-настоящему экстравагантно, причем это правило распространялось на всех без исключения. Такая политика уже проводилась в некоторых других клубах, и было доказано, что некоторая "недоступность" придает вечеринкам ореол таинственности. Достаточно вспомнить знаменитые вечеринки Фабриса Эмаэра (Fabrice Emaer) в парижском Palace с их "входом только для экстравагантных личностей". В Mud, как и в Palace, экстравагантность в одежде считалась носителем определенного настроения и потому удостаивалась не меньшего внимания, чем интерьер, музыка и тема вечеринки. Наградой для прошедших фейс-контроль было право внести свой вклад в магическую атмосферу Mud и насладиться подобранной с безупречным вкусом музыкой.
В пятницу, ближе к вечеру, вся наша тусовка, состоявшая из французских студентов, коренных лондонцев и перебравшихся в столицу провинциалов, собиралась на квартире в Южном Кенсингтоне. Выпив и дождавшись первых признаков опьянения, мы принимались помогать друг другу в выборе прикида на грядущий вечер. Смешные юбки, пестрые рубашки, сережки для мальчиков и прически-ирокезы для девочек — в ход шло все, что выглядело декадентски, но (как нам казалось) не слишком пошло, экстравагантно, но не нарочито эпатажно.
И вот, успешно пройдя фейс-контроль, мы оказывались в священных стенах Mud. Когда-то здесь находился театр. Теперь же место партера занимал просторный танцпол, окруженный металлическими колоннами, на которых висели динамики, а оба бельэтажа превратились в уютные залы, куда посетители поднимались, чтобы спокойно посидеть, выпить или продолжить танцевать.
А еще с бельэтажей было удобнее всего наблюдать за царившим на танцполе смешением жанров. Типичные представители лондонской клубной культуры благодушно танцевали бок о бок с матерыми сайкобилыциками в клетчатых рубашках, замызганных джинсах и с гигантскими чубами на голове (авторами этого имиджа считались участники культовой сайкобилли-группы King Kurt). Псевдопанки (панк к тому моменту уже умер, но черные куртки, значки "No Future" и взъерошенные волосы еще не утратили своей актуальности) с вызывающим видом бродили по залу, то и дело натыкаясь на именитых фотографов, новоиспеченных звезд современного искусства, фотомоделей, профессиональных тунеядцев и прочих представителей модной тусовки. Конечно, в Mud ходили в первую очередь ради музыки, которая в нем играла. Но таким дьявольски притягательным его, пожалуй, делало сочетание вседозволенности, разрушительного безумия и наркотиков.
Именно здесь я впервые в жизни стал следить за "творчеством" конкретного диджея — Марка Мура (Mark Moore). В Mud диджей считался ключевой фигурой вечеринки, и поэтому к нему предъявлялись очень высокие требования. Он должен был обладать хорошим чутьем, смелостью, а также известной музыкальной эрудицией. Руководство Mud не приветствовало проходную и чисто развлекательную музыку, и если диджей доказывал, что разделяет этот подход, ему предоставлялась полная свобода действий.
Когда я ходил в Mud, Марк Мур уже был заметным персонажем на лондонской клубной сцене. А через несколько месяцев сингл "Theme from S'Xpress" его группы S'Xpress угодил на первые строчки хит-парадов, и Марк прославился на всю Европу.
Но вернемся в Mud. По пятницам Марк Мур обычно играл с диджеем Джеем Стронгменом (Jay Strongman), и весь Mud боготворил эту гениальную парочку. Они заводили фанк, соул, рокабилли, а также модную в тот год музыку gogo, пришедшую из Вашингтона.
Gogo иногда сравнивали с хип-хопом, но в отличие от последнего в нем не было ни рэперов, ни диджеев, и по звучанию он больше всего напоминал духовой оркестр, играющий убойный фанк.
Неотъемлемым компонентом любой gogo-вещи был незамысловатый жизнеутверждающий клич в духе "Put your hands up in the air, do it like you just don't care".
Именно в Mud я первый раз в жизни попробовал амфетамины и протанцевал шесть часов кряду, чувствуя, как все тело содрогается от приливов счастья.
Именно в Mud я научился ценить качество музыкальной подборки, и диджей из одушевленного музыкального автомата превратился для меня в дарителя ценнейших откровений. Я понял, что он одновременно и дирижер, задающий направление, и музыкант, пытающийся слиться с танцующей толпой. Что каждый раз он рассказывает нам историю, смысл которой рождается не из слов, а из постепенного развития ритма и переплетения мелодий. Что ничто так не важно для него, как почувствовать публику и установить с ней доверительные отношения. Смелость "мадовских" резидентов и та потрясающая щедрость, с которой они предлагали нам лучшие пластинки из своей коллекции, превращала их вечеринки в настоящие курсы клубного диджеинга. С каждой пятницей я становился чуть более искушенным.
То что я хочу связать свою жизнь с музыкой, я понял ещё в детстве. Сотни купленных на последние карманные деньги и заслушанных "до дыр" пластинок; сотни розданных друзьям и знакомым кассетных сборников домашнего изготовления — все работало на эту цель. Но только в Mud желание стать диджеем созрело во мне окончательно.
Именно здесь я понял, что хочу играть для публики, хочу видеть, как свет обволакивает тела танцующих, чувствовать, как в воздухе что-то плавно меняется, и знать, что вот-вот произойдет полное обновление и тогда раздастся взрыв радости, вызвать который — не прибегая к резким контрастам — способна только М У З Ы К А.
В 1986 году я бросил работу лакея. От тех двух лет, что я провел в посольстве, в моей памяти сохранилось ощущение полнейшего, ничем не омрачаемого счастья. Посол замечательно относился ко мне, и я чувствовал себя совершенно свободным человеком, о чем большинство моих ровесников, работающих за границей, могли только мечтать. Но потом моего любимого посла перевели в другое место, а его преемник оказался таким строгим и занудным, что я сразу бросился паковать чемоданы.
У моей девушки была сестра, которая держала в Манчестере собственный ресторан и постоянно нуждалась в официантах. Поскольку в Лондоне нас больше ничто не удерживало, мы побросали во взятый напрокат фургон все наше скромное имущество, состоявшее из пластинок, шмоток и незатейливой мебели, и взяли курс на север. Через четыре часа мы уже въезжали в Манчестер. Мои первые впечатления от города были скорее отрицательными. Все, что я видел, действовало на меня угнетающе: серое небо, серые улицы, уродливые кирпичные постройки, заброшенные заводские кварталы… Да уж, индустриальная эпоха оставила Манчестеру незавидное наследство. Казалось, что город погружен в болото грусти и мизантропии. Но стоило мне познакомиться с его обитателями, как все эти неприятные впечатления мгновенно улетучились. Манчестерцы оказались людьми с врожденным чувством товарищества и гостеприимства и с замечательной способностью радоваться жизни, невзирая на внешние обстоятельства. Надо сказать, что среди их вечных соперников-лондонцев такое жизнелюбие и такая доброжелательность встречались нечасто.
Я подыскал себе дом — типовой пригородный коттедж, из тех, что в огромных количествах встречаются на севере Англии, — разместил в нем свою коллекцию винила и отправился изучать манчестерскую музыкальную жизнь.
Первое, что бросалось в глаза по сравнению с Лондоном, — это культ поп-музыки. Студенты все как один ходили в футболках The Smiths, New Order, A Certain Ratio и других групп, олицетворявших величие манчестерской поп-сцены. Еще поражала демократичность этого города. Никакой элиты: все, включая музыкантов, ходили в одни и те же клубы, принимали одни и те же наркотики и пили пиво в одних и тех же пабах. Распитие пива, как правило, сопровождалось жаркими спорами о футболе, переходящими в мордобой. Намахавшись кулаками, враждующие стороны в знак примирения угощали друг друга пивом и отправлялись веселиться дальше.
Но самое удивительное происходило ночью: весь город как будто озарялся ярким сиянием, и исходило это сияние от громоздкого неприветливого здания, расположенного в одном из самых уродливых кварталов города. Я думаю, вы уже поняли, что речь идет о клубе Hacienda.
Factory Records
Hagienda распахнула свои двери 21 мая 1982 года. Инициатором этого события был директор лейбла Factory (на нем, среди прочих, записывались Joy Division, New Order и Happy Mondays), по совместительству ведущий новостной программы на частном телеканале Granada TV и просто яркий светский персонаж — Тони Уилсон.
На мысль открыть клуб Уилсона навели его подопечные из New Order — группы, возникшей на руинах Joy Division. Ребята съездили в Америку на запись своего сингла "Confusion" и, вернувшись, принялись нахвалить нью-йоркские клубы. Наслушавшись их восторженных рассказов, Уилсон пришел к выводу, что Манчестеру просто необходимо место наподобие нью-йоркского Sound Factory, то есть клуб, в котором грандиозный масштаб и высокая пропускная способность сочетались бы с д'энс-эстетикой. Начинание Тони поддержали менеджер группы New Order Роб Греттон и культурный деятель местного значения Бернард Мэннинг.
Помещение для нового клуба Уилсон сотоварищи нашли на Уитворт-Стрит-Уэст — безлюдной улице на выезде из центра, имевшей репутацию рассадника заразы и вообще довольно стремного места. В ту пору Уитворт-стрит представляла собой вереницу заброшенных ангаров, в которых томились списанные железнодорожные вагоны. Выбор Уилсона пал на дом под номером 51, в прошлой жизни — демонстрационный павильон фирмы по продаже яхт. Это было мрачное серое здание, издалека походившее на многоуровневую парковку и по своим объемам способное потягаться с лучшими нью-йоркскими клубами.
Оформление Hagienda было поручено дизайнеру Бену Келли, который остановился на индустриальном стиле, что шло вразрез с европейскими клубными стандартами тех лет. По краям зала возвышались объемные металлические столбы, выкрашенные в желтый и черный цвета. Правое крыло было отведено под сцену для живых выступлений; дальний угол зала — под бар. Узкая лестница в нескольких метрах от входа уводила посетителей наверх, в Gay Traitor Bar- крошечный зальчик, вмещавший от силы сорок человек. Но сердцем клуба и его главной достопримечательностью был, разумеется, танцпол. От оставшейся части зала его отделяли маленькие парковочные столбики. Во время вечеринок на танцпол обрушивались оглушительные потоки музыки, которую в Hacienda было принято врубать только на полную громкость. Музыку органично дополняло необычное освещение, считавшееся важной составляющей вечеринки и потому продумывавшееся с особой тщательностью. В общей сложности в Hacienda могло набиться около полутора тысяч человек.
В те годы Тони Уилсон и его друзья находились под влиянием идей ситуационистов, поэтому клуб был задуман как товарищество, объединяющее равноправных членов, и как естественное продолжение лейбла Factory, о чем свидетельствовала висевшая у входа табличка "FAC 51 THE HACIENDA", напоминавшая порядковый номер пластинки из каталога Factory. Ответственным за музыку (живые концерты и диджейские сеты), а заодно и за видео и освещение, был назначен диджей Майк Пикеринг. В клубе сразу стали действовать два железных правила: никаких микрофонов в диджейской кабине и никакого дресс-кода.
Несмотря на то что Factory не жалел сил на ее раскрутку, дела у Hacienda первое время шли не лучшим образом. За полтора года было зарегистрировано всего три аншлаговых вечера: два концерта New Order (в июне 1982-го и в январе 1983 года) и один концерт The Smiths (в ноябре 1983-го). Ситуация изменилась в 1985 году, когда руководство клуба начаЛЬ отдавать предпочтение альтернативной музыке и в расписании появились такие тематические мероприятия, как Goth Night (название говорит само за себя) и панк-вечеринка No Funk Night.
Но ажиотаж вокруг панка быстро спал, и хозяевам Hacienda, чтобы не прогореть, пришлось заняться выдумыванием новых концептуальных вечеринок, удовлетворяющих запросы самой разномастной публики. Так, по четвергам FAC 51 становился студенческим клубом: все напитки отпускались за полцены, и юные, преимущественно светлокожие посетители беззаботно танцевали под эклектичную музыкальную подборку от диджея Дэйва Хэслама (Dave Haslam), в которой встречались все стили в диапазоне от дэнс-музыки до рока. А по пятницам проходили знаменитые Nude Nights Майка Пикеринга и Мартина Прендергаста (Martin Prendergast), посвященные горячим черным ритмам. На этих вечеринках танцпол оккупировали ямайские эмигранты из кварталов Мосс-Сайд и Халм, с одинаковым энтузиазмом танцевавшие под "Paid in Full" Eric В. & Rakim, "Jump Back" Dhar Braxton, сальсу от El Gran Combo или даже "Get into the Groove" в живом исполнении Мадонны.
Поскольку у Hacienda не было достойных конкурентов не только в Манчестере, но и во всей северной Англии, каждый уважающий себя клаббер из этих краев считал своим долгом регулярно отмечаться на Уитворт-Стрит-Уэст. Справедливости ради надо сказать, что большинство интересовала не столько игра Хэслама или Пикеринга, сколько возможность "себя показать и людей посмотреть".
Но ровно в два часа владельцы клуба, подчиняясь требованиям сурового английского закона, объявляли праздник законченным и вежливо просили всех покинуть зал, после чего самые пронырливые и опытные клабберы прибивались к какой-нибудь квартирной тусовке или подпольной пригородной вечеринке, а все остальные послушно брели домой, тоскливо взирая на опущенные металлические шторы пабов.
Хаус добрался до Манчестера в начале 1987 года — через два года после своего появления на свет в черных гетто Чикаго. От своих "родителей" — диско и фанка — он отличался более жестким звуком и отсутствием (во всяком случае, на раннем этапе) четкой структуры.
Если в основе диско лежала песня, строившаяся по схеме куплет-припев /куплет-припев/длинный проигрыш/куплет-припев, то хаус был преимущественно инструментальной музыкой. К тому же он был напрочь лишен типичных для диско помпезных скрипок и хоров, так что, если разобраться, единственное, что в нем сохранилось от диско, — это характерный пульсирующий ритм.
В самых первых хаус-треках — тех, что в 1985 году сочиняли пионеры жанра Маршалл Джефферсон (Marshall Jefferson), Farley Jackmaster Funk и Ларри Херд (Larry Heard), — еще можно было найти вокальные вставочки или даже полноценный текст, посвященный традиционным диско-темам: любви, сексу и танцам. Но уже в следующих композициях вокал перестал нести смысловую нагрузку и превратился в чередование синкопированных голосовых шаблонов — иными словами, в еще одну инструментальную партию, которую можно редактировать, кромсать, искажать и повторять до бесконечности. А вскоре в чикагских гетто появился так называемый порно-хаус — более жесткая разновидность хаус-музыки, отличавшаяся бредовыми текстами непристойного содержания.
Playlist Chicago Bass
LNR
Works it to the Bone
Mister Fingers
Can you Feel it
Jungle Wonz
The Jungle
Marshall Jefferson
Move your Body
Steve Silk Hurley
Jack your Body
Adonis
No Way back
The House Master Boyz
House Nation
Liz Torres
Mama's Boy
В самом Чикаго хаус довольно долго оставался маргинальным явлением. Единственным хаус-местом в городе был гей-клуб Warehouse, в котором первую скрипку играл диджей и продюсер Фрэнки Наклс (Frankie Knuckles). Warehouse ориентировался в основном на цветную публику. С радио и распространением пластинок дела обстояли не лучше: хаус крутили только на независимых черных станциях, а хаус-лейблы представляли собой маленькие кустарные предприятия[2], полностью оторванные от системы широкой дистрибуции. Пределом мечтаний хаус-музыканта было услышать свой трек на какой-нибудь вечеринке в Warehouse, а о том, чтобы зарабатывать себе на жизнь сочинением музыки он даже не помышлял. При таком раскладе у хауса были все шансы навсегда застрять в негритянских гетто Чикаго, а у европейской молодежи — продолжить дрыгаться под жужжанье рок-гитар. Но, к счастью, жизнь распорядилась иначе.
Рассказывают, что своему выходу из подполья хаус обязан… англичанам. В Англию попали хаус-сборники лейблов Тгах и Dû International, и несколько манчестерских диджеев (в их числе знакомый нам Майк Пикеринг), впечатлившись, решили слетать в Чикаго и посмотреть, что же там на самом деле происходит. В Чикаго Пикерингу предложили сыграть в клубе Milk Bar, располагавшемся в северной, белой части города. Майк отыграл целый сет, состоявший исключительно из хаус-треков. На вопросы недоумевающей публики, пришедшей послушать английский синти-поп, Пикеринг невозмутимо отвечал: "Так это же ваша, чикагская музыка!" Вот так, если верить рассказам, после многих месяцев прозябания в бедных южных кварталах хаус наконец добрался до белой публики с благополучного севера.
В Манчестере, как и в Чикаго, хаус первое время оставался "музыкой черных". Единственной вечеринкой, где можно было послушать хаус-музыку, была упомянутая Nude Night Пикеринга. Горячие ямайские парни, облюбовавшие эту вечеринку, отрывались на танцполе, отплясывая танец под названием "джекинг" (jackin[2]), который непосвященный наблюдатель скорее всего принял бы за разновидность чарльстона. Задача танцующего заключалась в том, чтобы, не отрывая ног от земли, заворачивать носки внутрь и при этом скрещивать колени с помощью размашистых движений бедрами. Джекинг считался занятием крутых парней. Здесь действовали те же правила, что и на хип-хоп-вечеринках: каждый пытался доказать, что он лучше остальных владеет техникой танца, и, если кто-то оказывался совсем уж не на высоте, его с позором изгоняли из круга танцующих.
Первое настоящее хаус-событие состоялось в Манчестере осенью 1987 года. Это была вечеринка, посвященная чикагскому лейблу Тгах, на котором в конце 80-х выходила добрая половина всех сколько-нибудь стоящих американских хаус-композиций (несколько лет спустя Тгах сильно подмочит собственную репутацию, отказавшись делиться с музыкантами заработанными в Европе роялти, что станет одной из причин кризиса чикагской хаус-сцены). Тысяче с лишним посетителей Hacienda, среди которых была лишь небольшая кучка бледнолицых, выпала честь первыми во всей Европе услышать сразу четырех корифеев чикагского хауса: Адониса (Adonis), Маршалла Джефферсона, Роберта Оуэнса (Robert Owens) и Лиз Торрес (Liz Torres). В 1987 году до живых хаус-вечеринок в сегодняшнем понимании было еще далеко: диджеи ограничивались тем, что запускали инструментальный трек и время от времени что-нибудь наговаривали или напевали поверх него. В тот вечер воздух в Hacienda был наэлектризован до предела. Зал буквально содрогался от неистовых телодвижений танцующих. Я помню, что сам всю ночь провел на танцполе, разучивая замысловатые джекинговые па.
Какое-то время спустя Манчестер посетил детройтский диджей Деррик Мэй (Derrick May) — один из родоначальников нового музыкального стиля техно, отличавшегося от хауса большей жесткостью и футу-ристичностью и одновременно большей меланхоличностью.
Выступление Деррика стало для меня настоящим откровением: я и не думал, что в одном человеке может быть столько энергии и изобретательности. Уже тогда Мэй считался виртуозом вертушек, а всего через несколько месяцев ему предстояло стать ключевой фигурой техно-движения и изменить расклад на мировой электронной сцене, благодаря, с одной стороны, своему лейблу Transmat, а с другой — своему синглу "Strings of Life". Манчестерское выступление Мэя прошло в крохотном клубе под названием Legends. На вечеринку пришла все та же ямайская публика, которая, как полагается, отплясывала джекинг и одновременно наблюдала за тем, как сам Деррик бодро скачет за своими вертушками.
Круг поклонников хауса постепенно ширился. Чтобы удовлетворить растущий спрос, два манчестерских музыкальных магазина, Spin In и Eastern Block, выписали из Америки двести наименований хаус-пластинок. Не прошло и пары недель, как эти диски уже крутились в нескольких городских клубах. На местном радио одна за другой появлялись передачи, посвященные чикагской музыке. Дошло до того, что один из лучших манчестерских радио-диджеев Сто Аллен (Stu Allen) нарушил считавшийся незыблемым формат своей передачи о хип-хопе и стал вовсю ставить хаус.
И пошло-поехало… Пластинки доставлялись из Чикаго целыми ящиками. Среди них были и такие, которые лейблы давно отчаялись кому-либо сплавить и которые так бы и доживали свой век в каком-нибудь пыльном чулане, если бы по Чикаго не пронесся слух о том, что "англичане, похоже, всерьез запали на хаус".
Вот так эта новая, очень искренняя и вместе с тем очень качественная музыка постепенно завоевывала себе место в истории.
Я стал постоянно бывать в Hacienda. На одной из вечеринок я познакомился с осветителем клуба — парнем по имени Дэни Джейкобе. Мы с Дэни подружились, и я принялся заваливать его кассетами со своими миксами в надежде, что хотя бы одна из них попадет в руки к арт-директору клуба Полу Консу (Paul Cons). Сам Коне не был большим знатоком музыки, зато он прекрасно знал всю клубную тусовку Манчестера и, соответственно, мог помочь в нее внедриться.
Поскольку надо было с чего-то начинать, я решил запустить собственную вечеринку. Я позвонил своему лондонскому приятелю Бобу — такому же сумасшедшему фанату музыки, как и я, — и попросил его на пару дней приехать в Манчестер, чтобы помочь мне организовать это мероприятие. Мы нашли в самом центре города небольшой паб под названием Swinging Sporran, владельцы которого любезно согласились пустить нас к себе при условии, что мы приведем им много новых клиентов. Все задумывалось как цикл вечеринок под названием Repent но первая вечеринка стала и последней. Мы отыграли свой сет перед практически пустым залом. И все же полным провалом эту затею назвать было нельзя, потому что среди наших немногочисленных слушателей были Дэни и… Пол Коне. Когда вечеринка закончилась, я сунул Дэни очередную кассету и проследил за тем, чтобы он передал ее Консу. А потом я уехал отдыхать и на целых две недели благополучно забыл обо всех этих перипетиях.
Playlist Zembar
Salt-N-Pepa
My Music Sounds Nice
Syreeta
Can't Shake your Love
Torn Torn Club
Genius of Love
LL Cool J
Rock the Bells
Isaac Hayes
Shaft
Sterligh Void
It's Alright
Sweet Tee and Jazzy Joyce
It's me Beat
Когда я вернулся домой, мой автоответчик был забит сообщениями от Дэни. Сначала шли вежливые просьбы, в конце преобладала нецензурная брань, но лейтмотив всех сообщений был один и тот же: "Срочно перезвони мне!" Что я и сделал, и на следующий день у меня уже была назначена встреча с Полом Консом.
За те несколько минут, что длился наш разговор, Коне поведал мне, что Hacienda запускает новую вечеринку, ориентированную на прогрессивную и взыскательную публику; главными составляющими вечеринки будут хэппенинги — их проведение уже взяли на себя несколько актеров — и горячая, зажигательная музыка, для которой клубу срочно требуется новый диджей; помимо меня на эту должность претендуют еще четыре кандидата, так что работу получит тот, кто лучше всех справится с конкурсным заданием — записью микса. Я накупил шоколада и минеральной воды и на несколько дней заперся в своей спальне. Когда я из нее вышел, в руках у меня была 90-минутная кассета, разрывающаяся от горячих фанковых вибраций. Кассета была отправлена по назначению, и началось томительное ожидание. Наконец раздался телефонный звонок, и бодрый голос на другом конце провода произнес: "Привет, лягушатник. Это Пол Коне. Ну что, не передумал?"
Вечеринку назвали Zumbar и отвели под нее вечер среды. Мне был присвоен статус резидента, а заодно псевдоним в духе общей концепции мероприятия: DJ Педро. В паре со мной работал DJ Хосе. У Пола Конса была конкретная задача — завоевать самую модную публику города, поэтому на вечеринке должна была царить необычная декадентская атмосфера. Всем, кто 7 октября 1987 года пришел на премьеру Zumbar, наверняка запомнилась огромная бычья голова, болтавшаяся над танцполом и сверлившая танцующих глазами. При этом пожелания организаторов к музыкальной программе были скорее общими: ставить можно было практически все — от откровенного китча до чистого эксперимента — главное, не опускаться ниже установленного в клубе стандарта качества.
Можете себе представить, что для меня означало первое настоящее выступление, тем более в таком месте, как Hacienda. Сказать, что я перенервничал, — значит не сказать ничего. За всю ночь я ни разу не сомкнул глаз. Когда на следующий день я заявился в Hacienda, я был таким бледным и напуганным, что весь персонал клуба сразу бросился меня подбадривать. Отступать было некуда. Я, робея, зашел в диджейскую кабину и обнаружил в ней вертушки Technics MK2 SL1200, которые я раньше и вблизи-то никогда не видел. Более того, я даже не умел пользоваться питчем! Резкий приступ страха парализовал все мое тело: глаза отказывались отрываться от танцпола, а руки ни в какую не хотели браться за пластинки. Наконец я собрался с духом и — вперед! К моему удивлению, на смену паническому ужасу моментально пришла самая настоящая эйфория.
Когда вечеринка была в полном разгаре, я завел заранее припасенный хит — "Pump up the Volume" проекта M/A/R/R/S, состоявшего из Дэйва Доррела (Dave Dorrel), диджея Си-Джей Макинтоша (С. J. Mackintosh) и Мартина Янга (Martyn Young) из группы Colourbox. He могу не сказать пары слов об этой гениальной вещи, которая предвосхитила музыкальные мутации конца 80-х. Чего в ней только не было: и навязчивый хаус-ритм, и завораживающий поп-рефрен ("Brothers and sisters, pump up the volume, you're gonna git yours!"), и несметное количество сэмплов, прошедших через знаменитый Akai S1000 — одно из главных орудий труда хаус-продюсеров первого поколения. Тогда "Pump up the Volume" воспринимался как типичный образец английской клубной музыки, попсовой и танцевальной. Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что это было гораздо больше, чем просто музыка для ног. M/A/R/R/S удалось собрать воедино лучшее из того, что звучало в английских клубах в конце 80-х. Только представьте себе: сэмплы из Офры Хазы, Criminal Element Orchestra ("Put the Needle to the Record"), Public Enemy ("You're gonna get yours") и Джеймса Брауна — и все это в одном треке. В сентябре 1987 года "Pump up the Volume" взлетел на первую строчку английских чартов. Это был один из тех редких треков, которые можно заводить по много раз за один вечер, не рискуя утомить публику.
Когда вечеринка закончилась, я, несмотря на пережитый стресс, чувствовал себя просто волшебно. Что касается Пола Конса, то для него это был стопроцентный успех. Правда, поскольку считалось, что все начинания Конса по определению обречены на триумф, никто не стал делать из этого сенсацию и тратить время на пустые похвалы.
Наверное, в эти месяцы и решилась моя дальнейшая судьба. Я окончательно "погряз" в музыке, а все прочие составляющие моей жизни отошли на второй план. Я расстался со своей девушкой, бросил работу у ее сестры и устроился в другой ресторан — в шестидесяти километрах от Манчестера. Я работал по пятнадцать часов в день пять дней в неделю, по средам крутил пластинки на Zumbar, а все остальное время просто где-то тусовался. Я уже не так сильно скучал по Mud — моим новым домом стала Hacienda.
В те годы нельзя было и помыслить о том, чтобы зарабатывать себе на хлеб диджеингом. Пожалуй, только три человека, точнее, не человека, а полубога — Майк Пикеринг, Дэйв Хэслам и Грэм Парк (Graham Park) — умудрялись жить исключительно за счет музыки; все остальные были вынуждены где-нибудь подрабатывать. Но это было всего лишь мелким неудобством, и на мою главную и единственную мечту — стать профессиональным диджеем — повлиять оно не могло. Пока что, несмотря на всю ответственность, с которой я подходил к проведению Zumbar, я оставался дилетантом. Но для себя я уже давно решил, что буду делать карьеру на диджейском поприще. Вечеринки следовали одна за другой, я постепенно набирался опыта, заводил новых друзей (иногда довольно условных, но что поделать: таковы правила игры); не прошло и нескольких месяцев, как я уже чувствовал себя своим в манчестерской музыкальной тусовке, да и вообще в Манчестере. Такое быстрое признание только придало мне уверенности в собственных силах.
До начала 1988 года большая часть белой публики имела смутное представление о хаусе и техно. Но зато, когда она наконец поняла, что к чему, началось такое— На Англию обрушилось настоящее пунами. Впрочем, помимо музыки у этого катаклизма был еще один источник: экстази.
Массовое увлечение экстази, начавшееся поздней весной 1988 года, совпало с появлением первого ответвления хаус-музыки — эйсид-хауса.
Отличить эйсид-хаус от просто хауса можно было по характерным кислотным басам, которые издавал синтезатор Roland TB303. В самых первых образцах жанра, таких, как "Acid Trax" DJ Пьера или "I've Lost Control" Sleazy D, еще попадался вокал, но вскоре от него отказались за ненадобностью.
За какие-то три недели эйсид-хаус покорил сердца всей североанглийской молодежи. Rare groove и соул вдруг зазвучали вяло и старомодно, и даже такие нетленные хиты, как "Cross the Tracks" Масео Паркера (Масео Parker), не первый год крутившиеся во всех клубах, ни с того ни с сего перестали радовать публику. Где-то в апреле-мае в музыкальных магазинах на Олдем-стрит появились эйсид-хаусные сборники, выпущенные лейблами Тгах и Gerkin Records, и сразу вслед за этим в Hacienda потянулись толпы представителей белого миддл-класса. От черных вечеринок с их танцами и ритуалами не осталось ни следа. Джекинг навсегда исчез с танцпола, на котором теперь, задрав руки вверх и истошно визжа, бесновались наглотавшиеся экстази белые подростки.
Под звуки эйсид-хауса Манчестер захлестнула новая мода, отличительными признаками которой были футболки со всевозможными надписями и просторные штаны и куртки. Этот стиль — явный потомок хипповой моды 60-х — получил название "scaLly" ("небрежный", "неряшливый"). Слово быстро вошло в широкий обиход и стало употребляться по отношению к манчестерской молодежи вообще: к ее образу жизни, музыке, которую она слушала, и так далее. Производство футболок с эффектными слоганами, вроде "Born in the North, Raised in the North, Die in the North" или "Jesus had long hair"[3], было поставлено на поток (в Манчестере — текстильной столице Англии — сделать это было несложно). Манчестерская молодежь, основную массу которой составляли студенты пролетарского происхождения, восприняла эти футболки как возможность громко и вместе с тем с юмором заявить о себе на всю страну. А во время первого Лета любви стало ясно, что "говорящие" футболки — это не просто униформа, а знамя, под которым объединились миллионы молодых англичан. Другим обязательным предметом гардероба настоящего scally была панамка; а самые большие экстремалы таскали под мышкой надувные бананы и на вечеринках или футбольных матчах развлекались тем, что лупили ими друг друга.
Экстази ворвался в город, подобно урагану, сметающему все на своем пути, включая социальные барьеры и вековые стереотипы. Манчестер, с незапамятных времен считавшийся бандитским городом, вдруг стал напоминать пасторальную идиллию: каждый вечер в клубах города тысячи человек, находившиеся в полной гармонии с собой и с внешним миром, сливались в единое целое. Отголоски этого удивительного коллективного опыта до сих пор время от времени звучат в Манчестере, даря его жителям ощущение волшебства, единения и силы.
Появление экстази заметно обогатило молодежный сленг. Например, когда юный северянин хотел дать понять, что он находится под кайфом, он говорил: "I am cabbaged"[4] или "I am sheded"[5]. Нередко можно было услышать и такое выражение: "Top one, nice one, get sorted"[6]. Но самым заметным социальным последствием моды на экстази стало неожиданно воцарившееся на футбольных матчах спокойствие: у наглотавшихся таблеток болельщиков напрочь пропадало желание бить друг другу морду, зато теперь их неудержимо тянуло обнять и расцеловать всех, кто попадется под руку.
Пока английская пресса искала причину этой метаморфозы, в бастионе новой молодежной культуры — клубе Hacienda — творились фантастические вещи. Клуб открывался в 21 час; к 22 часам на улице перед табличкой "Вход: до 23 часов — 1,5 фунта, после 23 часов — 2,5 фунта" собиралась очередь из тысячи с лишним человек; в 23 часа клуб уже трещал по швам; в 23.15 происходило массовое сбрасывание футболок, а ближе к полуночи на танцпол выпадали первые капли теплого соленого дождика.
Как и у всех английских клубов, у Hacienda были свои священные ритуалы. Например, в течение последних двадцати минут диджею разрешалось ставить только классические хиты. Обычно это была самая чудесная часть вечеринки: напряжение на танцполе ползло вверх и в какой-то момент достигало критической точки. Без пяти два диджей на несколько секунд вырубал музыку, возвещая таким образом о приближении конца и призывая публику высосать из оставшихся минут все что только можно. Мне кажется, что в это мгновение всех присутствующих в зале переполняло какое-то очень глубокое, почти религиозное чувство. Вся вечеринка словно служила прелюдией к этой последней — всегда одной и той же — композиции, предварявшейся несколькими секундами тишины. Это была "Someday" Си-Си Роджерса (Се Се Rogers). Как свидетель этого чуда я с полной ответственностью утверждаю, что, когда звучали первые ноты "Someday", каждый, кто находился на танцполе, испытывал ощущение, близкое к оргазму.
Но вот часовая стрелка достигала цифры 2, и музыка замолкала — на этот раз уже окончательно. Включался свет… Несколько сот человек продолжали в полной прострации стоять на танцполе, и у меня сердце обливалось кровью, когда из своей диджейской кабины я слышал жалобные стоны тех несчастных, кого беспощадные "два часа" застали врасплох.
Как ни парадоксально, именно жестокий "двухчасовой" закон стал катализатором легендарного всплеска английской ночной жизни.
Поскольку никто не собирался мириться с запретом тусоваться после двух, само собой напросилось альтернативное решение в виде так называемых warehouse parties — подпольных вечеринок, проводившихся на заброшенных складах.
На этих вечеринках звучала самая разная музыка: регги, хаус, электро, американский хип-хоп — и собирались самые разные люди: белые и цветные, продвинутые интеллектуалы и простые студенты, но всех их объединяло одно желание — веселиться до рассвета. А меньше чем через год главная идея warehouse-вечеринок, заключавшаяся в том, чтобы на несколько часов погружать не предназначенные для этого места в атмосферу анархии и веселья, была взята на вооружение организаторами первых английских рейвов. Но об этом чуть позже.
На юге Англии нашествие хауса прошло по несколько другому сценарию. В Лондоне, как и в Манчестере, имелись все предпосылки для быстрого формирования новой музыкальной культуры; тем не менее хаус довольно долго оставался в андеграунде и выплеснулся наружу только летом 1988 года. Не последнюю роль в популяризации хауса сыграл лондонский диджей и промоутер Ники Холлоуэй (Nicky Holloway), который еще в 1984 году начал вывозить английских подростков на Ибицу. В 1987 году (год, когда хаус уже вовсю выходил на Тгах Records и DJIntemational) сотни юных англичан вернулись с острова счастья с карманами, набитыми экстази, а Холлоуэй вместе с диджеями Дэнни Рэмплингом (Danny Rampling) и Полом Окенфольдом (Paul Oakenfold) провел несколько хаус-вечеринок в Waterman's Art Center рядом с аэропортом Хитроу. В том же году эта троица, по инициативе Рэмплинга, запустила вечеринку под названием Shoom, которая перевернула с ног на голову стандарты клубной культуры и стала первой ласточкой надвигающегося на город хаус-психоза. А в 1988-м в Лондоне появились новые промоутеры, а вместе с ними и новые хаус-вечеринки: Westworld, Delirium, Spectrum.
Важную лепту в формирование хаус-культуры внесли пиратские радиостанции, справедливо считавшиеся самым чувствительным барометром музыкальной ситуации и потому имевшие огромное влияние на клубную культуру. Особенно активно продвижением хауса занималась Kiss FM (станция, основанная в 1985 году диджеями Гордоном Маком и Норманом Джеем) в лице диджеев Джаджа Джулса (Judge Jules) и Пола "Trouble" Андерсона (Paul Anderson).
Playlist 6e Anniversaire Hacienda
T Coy
Carino
Bam Bam
Give it to me
Phuture
Acid Tracks
ESC
Moody
Moonfou
Shup up
Frankie Knuckles
Your Love
Итак, к 1988 году хаус прочно обосновался на английской земле. Во всех частях страны у него уже были свои клубы, свои диджеи, свои радиопередачи. Англия готовилась к первому Лету любви.
21 мая 1988 года, на заре Лета любви, Hacienda отпраздновала свое шестилетие. Приглашение выступить на праздничной вечеринке я воспринял как признание того, что после нескольких месяцев, проведенных за вертушками клуба, я стал полноправным членом "семьи". В честь юбилея на подступах к Hacienda был установлен гигантский поезд-призрак. А в полночь, во время сета Майка Пикеринга, прямо в зале прогремел фейерверк. После чего Пикеринга за диджейским пультом сменил Грэм Парк.
Грэм был одним из ведущих диджеев Hacienda, a также главным человеком на клубной сцене другого североанглийского города — Ноттингема. (Забегая вперед, скажу, что в 90-е годы Грэм войдет в число лучших английских диджеев.) Это был своеобразный персонаж, отличавшийся нетипичной для людей своей профессии внешностью (лысеющая голова, "интеллигентные" очки), безупречным вкусом и олимпийским спокойствием, которое позволяло ему без труда выкручиваться из самых щекотливых ситуаций. Мне, в частности, запомнился такой случай: Грэм очень эффектно свел два трека, а потом нечаянно поднял иглу с пластинки, которая только начинала играть. В зале повисла тишина. Грэм оглядел недоумевающую публику, как ни в чем не бывало опустил иглу обратно, сделал скретч, поднял руки вверх, и музыка понеслась дальше. Зал буквально взревел от радости и восхищения.
На шестилетии Hacienda Грэм сыграл сногсшибательный сет. Когда ровно в два часа музыка остановилась и в зале зажегся свет, прямо из недр земли (во всяком случае, так мне показалось) поднялся глухой стон: это тысяча впавших в транс человек оплакивали окончание вечеринки.
Но в один прекрасный день в ресторане, где я работал, раздался телефонный звонок, положивший конец моему беззаботному существованию. Звонила мама, чтобы сообщить, что я призван на военную службу и 1 августа должен быть в Париже. До этого я упорно игнорировал повестки, которые находил в своем почтовом ящике, но теперь было ясно, что мне не отвертеться. Я почувствовал, как моя жизнь летит под откос. Подумать только: я — солдат… Вот fuck!
Благополучно продержавшись в расписании Hacienda десять месяцев, в июЛе 1988 года Zumbar прекратила свое существование. На прощальную вечеринку в качестве почетных гостей были приглашены люди из культового журнала ID и диджей Марк Мур. Тот самый Марк Мур, виртуоз вертушек из Mud, мой первый кумир, человек, благодаря которому я открыл для себя целые пласты музыки. И вот мне выпала честь играть с ним на одной вечеринке… Выступление Мура стало событием городского масштаба. Дело было не столько в самом Муре и его мастерстве (в конце концов, манчестерцев было сложно чем-либо удивить), а в том, что в те годы приезд гостя из Лондона воспринимался как нечто из ряда вон выходящее — столичные диджей просто не ездили в Манчестер и все тут.
В самый разгар вечеринки Мур подошел ко мне и сказал, что через пару месяцев будет играть в парижском Palace: его пригласили в качестве почетного гостя на презентацию вечеринки Pyramid, которую запускает группа лондонских промоутеров. Я уже был готов к тому, чтобы попросить Марка включить мое имя в гест-лист, когда он произнес: "Приходи и приноси с собой свои пластинки".
Неделю спустя Пол Коне представил публике Hacienda свое новое детище: вечеринку Hot. Вечеринка прошла с оглушительным успехом — Лето любви было в полном разгаре, и Манчестер уже вовсю бился в хауслихорадке. Мне оставалась всего пара недель до отъезда во Францию, и я жадно впитывал наполняющие воздух вибрации в надежде, что они будут согревать меня, пока я буду тянуть солдатскую лямку. Вокруг происходило так много интересного и непривычного, что у меня даже не было времени на то, чтобы спокойно погоревать о своей несчастной доле. Не успел я опомниться, как — после третьей вечеринки Hot — уже прощался с друзьями и собирал чемоданы, последний раз вдыхая аромат счастья и единения, который долетал даже до моего сонного пригорода.
Решив, что мне надо как-то утешить самого себя, а кроме того, предчувствуя, что в армии деньги мне не пригодятся, я перед самым отъездом раскошелился на вертушки Technics MKII — мои первые серьезные вертушки! Когда в конце июля 1988 года я вернулся на родину, все мое богатство состояло из пары вертушек, коллекции винила, двадцати кассет с миксами да футболки Acid Trax.
Глава вторая French Kiss
Я был младшим ребенком в семье. Родители мои работали в развлекательном парке и постоянно покупали пластинки для своих аттракционов, так что в доме у нас всегда было много разной музыки. А еще у папы был друг мсье Фурнье, который руководил фирмой грамзаписи CBS и в изобилии снабжал нашу семью дисками Earth Wind & Fire, Сантаны и Trust.
Когда мне было десять лет, я переоборудовал свою комнату в минидискотеку. Кровать и письменный стол были задвинуты в дальний угол, а посередине, в окружении рядов пластинок, расположился танцпол вместимостью от трех до четырех человек.
Моя дискотека была оснащена по последнему слову техники. У меня было все — от мигающего стробоскопа и разноцветных прожекторов до ламп общего света и вращающегося зеркального шара. Стоя за диджейским пультом, который мне сконструировал отец, и гордо взирая на пустой танцпол и нагромождение пластинок, кассет, проигрывателей, микрофонов, усилителей и проводов, я приводил в движение шар и направлял на него прожекторы — в ту же секунду тысячи микроскопических звездочек пускались в космический танец по стенам моей комнаты. Это был своеобразный ритуал, который я проделывал каждый вечер: иногда в сопровождении музыки, иногда в полной тишине.
Танцпол предназначался для торжественных случаев. Конечно, самым частым гостем на нем был его хозяин, то есть я, но, поскольку танцевать и одновременно менять пластинки — задача не из легких, да и к тому же настоящий диджей обязан знать, как люди реагируют на ту или иную песню, я принялся вербовать слушателей из числа обитателей нашего многоэтажного дома. Как правило, публика состояла из мамы и пары соседей, согласившихся составить ей компанию. Но чаще всего выступление приходилось отменять в связи с полной неявкой слушателей, и тогда я запирался в своей комнате и устраивал для воображаемой публики самое грандиозное шоу, на которое только был способен.
Мерцают огни, ревут динамики, и я — великий и ужасный Мистер DJ — колдую над своими вертушками. Время от времени я едва заметно улыбаюсь, предвкушая, как мои невидимые поклонники застонут от удовольствия, когда я заведу очередной гениальный диск. Этот фарс мог длиться часами. Иногда я все-таки выпрыгивал на танцпол, чтобы проверить, правильно ли отрегулирован звук, и, забыв о том, что я вообще-то директор клуба (между прочим, самого андеграундного во всем Буживале), принимался выделывать немыслимые движения, перенятые не то у Джеймса Брауна, не то у каких-нибудь рокабиллыциков. Заканчивались все мои вечеринки одинаково: в клуб врывалась семейная полиция с требованием прекратить затянувшееся бесчинство, и я, понурив голову, выключал музыку, зажигал тусклую настольную лампу и извинялся перед своими воображаемыми посетителями: "Мне очень жаль, но мы закрываемся. Это требование полиции. Всем спокойной ночи, приходите еще".
По большим праздникам двери моего клуба были открыты для всех желающих, независимо от возраста и убеждений. А во время семейных торжеств я принимал у себя невиртуальных посетителей — друзей и родственников, которые с удовольствием резвились и дурачились на моем сокрытом от посторонних взглядов танцполе.
Увлекаться музыкой я начал задолго до того, как пошел в школу.
К восьми годам я уже не мог довольствоваться тем, чтобы просто слушать пластинки, — мне хотелось делиться ими с окружающими, и я стал активно записывать кассетные сборники и раздаривать их друзьям. Наверное, уже тогда я был законченным меломаном. Когда мне было двенадцать лет, я каждую ночь на цыпочках пробирался в гостиную, где стоял музыкальный центр, надевал наушники и в кромешной тьме с благоговейным восторгом крутил ручку приемника, покачиваясь на волнах FM-диапазона. Моими портами назначения были Radio 7 и несколько других пиратских радиостанций, на которых попадались передачи о зарубежной, прежде всего американской, музыке, не выпускавшейся во Франции. Все это записывалось на чистые кассеты, а информация о песнях и исполнителях скрупулезно заносилась в специальный блокнот. Таким образом я удовлетворял свою страсть к негритянской музыке (соул, фанк, диско) и открывал для себя новые жанры, например синтезаторный рок.
Еще одним важным источником информации для меня была телепрограмма "Sex Machine" Филиппа Маневра и Жана-Пьера Дионне, которая выходила раз в месяц, по субботам, в рамках передачи "Дети рока". Благодаря "Sex Machine" я приобщался к музыке Принса и других представителей миннеаполисской фанк-галактики.
А когда на рынке появились первые плееры, я просто перестал снимать наушники.
Playlist Cassette ado
Bon Rock and The Rythm Rebellion
Searching Rap
Unlimited Touch
I Heard Music in the Stree
Katmandu
The Break
Tom Browne
Fuckin' for Jamaica
Sinnamaon
Thanks to you
Shock
Let your Body Do the Talk
SKYY
Sky Zoo
Gino Soccio
Remember
Edith Nylon
Femmes sous cellophane
Taxi Girl
Cherchez le garçon
Soft Cell
Tained Love
Однажды я где-то вычитал, что известный диджей Янник Шевалье (Yannick Chevalier) открывает неподалеку от Парижа школу радио. Я загорелся идеей пойти учиться на радио-диджея, но мои родители ничего не хотели об этом слышать. И все же не считаться с моим желанием дарить людям музыку и танец они уже не могли и поэтому в качестве компромисса согласились купить мне вторую вертушку и микшерный пульт — таким образом у меня появился полный диджейский набор.
Когда мне было четырнадцать, мы с приятелем основали пиратскую радиостанцию под названием Radio Teenager (в те годы FM-частоты буквально кишели пиратскими станциями). Мы вещали четыре часа в неделю, по пятницам, из студии в городке Ле-Пек. Параллельно с этим мы отвечали за организацию всех вечеринок в нашем микрорайоне. А по субботам я втайне от родителей выбирался в Париж и наведывался в Champs Disques (единственный магазин, торговавший импортными пластинками), где и оседали все мои карманные деньги.
Я твердо знал, что хочу быть диджеем, хотя довольно смутно представлял себе, что за этим стоит. В моем понимании работа диджея сводилась к тому, чтобы легко и изящно крутить отборную музыку и таким образом заставлять людей танцевать и радоваться жизни. Все мои силы были брошены на освоение диджейской профессии. Я потратил сотни часов на то, чтобы научиться грамотно сводить пластинки, я записал сотни кассет со своими миксами и раздал их друзьям и друзьям друзей — и все это делалось в тайной надежде, что рано или поздно одна из этих кассет попадет в руки к нужному человеку, который поверит в меня и поможет мне начать профессиональную карьеру.
Это было двадцать с лишним лет назад, но до сих пор, когда я попадаю в клуб и наблюдаю за тем, как мерцают стробоскопы, как вращается зеркальный шар, проецируя на стены мириады звездочек, как земля дрожит от потока децибелов и как танцующие реагируют на малейшие изменения в музыке, меня охватывает глубокое волнение. Атмосфера дискотеки возвращает меня к одному из моих первых детских переживаний. Мне было семь или восемь лет. Мы всей семьей отдыхали на итальянском курорте Римини. Как-то вечером мой старший брат уговорил родителей отвезти его на дискотеку la Baia Imperial, которая находилась в нескольких километрах от города.
Мы подъехали ко входу, перед которым красовалось пестрое панно, сулившее посетителям "семь разных танцплощадок, семь разных атмосфер и бар на свежем воздухе". Даже не выходя из машины, можно было разглядеть, как внутри, в дискотеке, стробоскопы, прожекторы и зеркальный шар в синхронном движении озаряют ночь ослепительным светом, да так, что бледнеют звезды.
В ту секунду, когда мой брат вошел в дискотеку, на одной из открытых площадок прогремели первые аккорды "I Feel Love" Донны Саммер. С заднего сиденья родительской машины я внимал сладкому шепоту "чувствующей любовь" Донны и подпевал ей на своем птичьем английском. Мои вспотевшие от волнения руки опирались на дверцу машины, а голова и тело вывешивались наружу, изо всех сил пытаясь приблизиться к источнику этого небывалого счастья. В какой- то момент весь клуб, словно накрытый волшебной сетью, засиял в ореоле разноцветных огней. Это был шок! На следующий день я первым делом побежал в сувенирную лавку и накупил себе фирменных стикеров La Baïa Imperial с изображением Мэрилин Монро. Куда только я их потом не клеил: на мебель, на школьные тетрадки, на вертушки, на зеркала. Это раннее проявление фетишизма осталось единственным вещественным доказательством связи между моим "итальянским приключением" и решением стать диджеем.
Сегодня, много лет спустя, когда я ставлю нужную пластинку в нужный момент, когда я дарю публике все самое ценное, что у меня есть, и чувствую, как постепенно нахожу путь к ее сердцу, я говорю себе: "Вот оно, то самое ощущение, о котором я всегда мечтал". Потому что со временем я понял, что крутить хорошие пластинки — это только полдела и что настоящий диджей — это тот, кто каждый вечер заново отправляется на поиск Святого Грааля, который наделяет его магической способностью завораживать публику, изумлять ее неожиданным выбором музыкальных красок и будить в ней первобытную, но жизненно важную потребность в коллективном танце и крике.
Чтобы добиться этого контакта с публикой, не обязательно быть прирожденным лидером. Достаточно быть открытым и готовым к неожиданным встречам. Диджея связывают с публикой довольно необычные отношения, строящиеся на доминировании, хоть и неявном. Диджей улавливает в воздухе энергию, рождающуюся из взаимодействия в замкнутом пространстве клуба двигающихся тел, музыки и освещения. Если соблюдены необходимые условия (на несколько часов отброшены социальные приличия; все до одного жаждут с головой окунуться в музыку), то в зале возникает алхимическая реакция и в атмосферу выплескивается уникальная гамма чувств. В результате в воздухе образуется электрический ток, сила и направление которого теперь зависят только от диджея. Музыка превращается в путешествие. В такие мгновения, когда на зал как будто нисходит благодать, поднять иглу с играющей пластинки — значит поразить насмерть пятьсот, тысячу, пятьдесят тысяч человек. И даже самый замечательный диск, если его поставить в неподходящий момент, способен мгновенно разорвать нить безупречно выстроенного музыкального повествования. Умение чувствовать публику и делиться с ней тем, что чувствуешь ты, — вот единственный секрет успеха диджея.
В конце июля 1988 года я покинул Манчестер и, нагруженный вертушками, мешками с одеждой и ящиками с пластинками, вернулся в Буживаль, в свою родную комнату, которая мало изменилась с тех пор, как я открыл в ней мини-дискотеку: со стен на меня по-прежнему взирали Дэвид Боуи и Мэрилин Монро; вертушки и зеркальный шар ждали меня на том самом месте, где я их когда-то оставил; и даже пластинки, как в добрые старые времена, стояли по стойке смирно в своих деревянных ящиках… Любимые пластинки моего детства: Барри Уайт, Earth Wind & Fire и даже Тед Ньюджент (что поделать — ошибки молодости). В воздухе витал свежий аромат только что законченной уборки.
Музыка превращается в путешествие. В такие мгновения, когда на зал как будто нисходит благодать — иглу с играющей пластинки — поднять значит поразить насмерть пятьсот, тысячу, пятьдесят человек.
Я принялся заново осваивать свои двадцать пять квадратных метров: прилег на кровать, которая вдруг показалась мне ужасно узкой, достал подшивки журналов, полистал старый номер Actuel и в конце концов встал за свой старенький диджейский пульт. Одно движение руки — и в моей комнате снова мерцают прожекторы и крутится зеркальный шар. Под потрескивание разогревающегося лампового усилителя я принялся рыться в залежах винила и извлек на свет божий макси-сингл, выпущенный в 1977 году диско-лейблом Casablanca. Это был "I Feel Love" Донны Саммер, спродюсированный Джорджио Мородером. Я вытащил пластинку из конверта, нежно протер ее рукавом и поместил на проигрыватель. Игла задрожала, дернулась и послушно легла на виниловую дорожку. Я повернул ручку усилителя до упора, и стены моей комнаты завибрировали от сочетания метрономного бита и чувственных диско-басов. Не успел я опомниться, как дьявольский грув "I Feel Love" вынес меня на танцпол, и те одиннадцать минут, что длился трек, я провел задрав руки вверх и вопя как ненормальный.
1 августа 1988 года я был зачислен в сводный полк Чада, расквартированный в парижском пригороде Монлери, где меня ждал курс начальной военной подготовки. То еще развлечение, скажу я вам. Единственным напоминанием о моей прошлой, гражданской жизни была коробка из-под обуви с двадцатью кассетами, которые я записал еще в Манчестере. Через полтора месяца мне крупно повезло: по протекции маминой подруги я получил место подавальщика в офицерской столовой в Версале и мог теперь каждый вечер после службы возвращаться домой. Таким образом, от духовной и интеллектуальной гибели я был спасен. И все же чувство несвободы и безысходности не покидало меня. Прошло несколько недель. Как-то раз в разговоре со своим унтер-офицером, вполне приятным и интеллигентным человеком, я упомянул о том, что у меня в Манчестере остался дом и мне нужны деньги на то, чтобы оплачивать счета. Унтер-офицер вошел в мое положение и распорядился, чтобы меня на платной основе назначили ответственным за музыкальное сопровождение офицерских вечеринок, проходивших в столовой.
Офицерские вечеринки представляли собой довольно забавное зрелище. В столовую набивалось двести с лишним человек. Они обильно потребляли алкоголь и то и дело требовали поставить какую-нибудь песню Милен Фармер. Но в какой-то момент все присутствующие в зале доходили до состояния, когда требовать что-либо просто не было сил, и тогда я под шумок убирал диски Фармер и ей подобных и доставал свои любимые пластинки. Наблюдать за тем, как высшие военные чины на би-боповый манер пляшут под "Can You Feel It?" Mr. Fingers или какую-нибудь вещь Royal House, было ужасно смешно. По иронии судьбы эти офицеры оказались в числе первых французов, услышавших хаус.
Первым парижским клубом, в котором стали проходить эйсид-хаус-вечеринки, был Rex Club. Я знал Rex как заведение с устоявшейся рок-репутацией, но сам в нем прежде никогда не бывал. Французская хаусвечеринка в рок-клубе — это звучало вдвойне интригующе… Так что, как только у меня появилась такая возможность, я отправился на бульвар Пуасоньер в кинокомплекс le Rex, на территории которого и располагался одноименный клуб. Я спустился по лестнице, показавшейся мне бесконечной, прошел вдоль тускло освещенного бара и очутился в главном зале Rex. В зале царила кромешная тьма, которую нарушали лишь несколько дискотечных сканеров, выхватывавших из мрака фигуры официантов. Акустическая система клуба работала в рок-режиме: басов было мало, преобладал средний регистр. Я на ощупь пробрался на танцпол, полукругом раскинувшийся перед сценой с массивным багровым занавесом, и оказался под прицелом целой батареи стробоскопов. Вокруг меня, словно в замедленной съемке, извивались десятки танцующих тел. Справа от танцпола я обнаружил чилл-аут с альковами и бар, где можно было перевести дух после безумных плясок и спокойно поболтать вдали от рева музыки. На границе между этими двумя пространствами располагалась кабина диджея. Заглянув в нее, я вдруг понял, что по своей атмосфере Rex — это типичный английский клуб.
Пройдет пара лет, и Rex станет своего рода маяком, благодаря которому хаус и техно будут свободно путешествовать по ночному Парижу. Абсолютная преданность танцевальной культуре и любовь к риску — вот, пожалуй, главные достоинства этого уникального клуба, с которым неразрывно связана моя карьера и карьера десятков других диджеев и музыкантов. Но прежде, чем переходить к рассказу об этом периоде моей жизни, — пару слов об истории Rex.
Мозгом Rex был Кристиан Поле (Christian Paulet). Он пришел в клуб в 1984 году в качестве технического директора. На первых порах Rex представлял собой что-то вроде парижского аналога "Коттон-Клаб": со сцены звучал джаз эпохи биг-бэндов, музыканты были одеты по моде 30-х и играли, выстроившись в ряд. Однако концепция эта не вызывала восторга у французов, которые в тот момент все как один сходили с ума по альтернативному року, и, поразмыслив, промоутер Rex — компания Garance Productions — решил отказаться от уклона в ретро и стал три раза в неделю устраивать рок-концерты. Среди групп и исполнителей, прошедших через Rex, были такие будущие знаменитости, как Red Hot Chili Peppers, Les Rita Mitsouko (в Rex состоялся первый концерт в истории группы), Сюзанн Вега (Suzanne Vega), Tower of Power и Крис Айзек (Chris Isaak). Случались'здесь и такие важные события, как, например, after-show-вечеринка Принса. В результате за Rex закрепилась репутация одной из лучших рок-площадок столицы, и каждая заезжая рок-группа — если только ее не смущала ограниченная вместимость клуба (до четырехсот человек) — считала за честь выступить на его сцене.
Кристиан Поле быстро перерос должность технического директора, и стал наряду со своими прямыми обязанностями заниматься организацией концертов. В 1987 году кинокомплекс le Rex, являвшийся собственником здания, где находился клуб, ввел в свое расписание вечерние киносеансы, и оказалось, что саундчеки, проводившиеся в Rex в это же самое время, доставляют существенные неудобства кинозрителям. Компания Garance Productions, в тот момент поглощенная раскруткой своего нового приобретения — концертного зала "Элизе-Монмартр" на бульваре Роше-шуар, не горела желанием распутывать эту ситуацию и согласилась передать бразды правления Кристиану Поле. Первым делом Поле обошел лучших промоутеров Парижа, и, к его радости, все они с энтузиазмом восприняли предложение поработать в Rex. Вскоре, не отказываясь от имиджа рок-площадки, Rex стал потихоньку переходить к тематическим вечеринкам. Каждая вечеринка была посвящена определенному стилю: року, дабу, хип-хопу и так далее — и ориентировалась на определенную аудиторию, которая, как правило, не пересекалась с аудиторией остальных вечеринок.
Когда лондонские промоутеры Кевин и Барбара предложили Кристиану Поле запустить эйсид-хаус-вечеринку, Кристиан был вынужден признаться, что впервые слышит о таком стиле; но Кевин и Барбара производили серьезное впечатление и имели солидный промоутерский опыт, так что отказать им он не смог. Вечеринку назвали Jungle. Примечательно, что на флайере, выпущенном по случаю премьеры Jungle, Rex даже не упоминался — организаторы ограничились тем, что указали название вечеринки и адрес.
Вспоминает Кристиан Поле: "Это была сумасшедшая ночь. Мне кажется, ни с чем подобным французская публика прежде просто не сталкивалась. В зале царила очень странная и вместе с тем удивительно теплая атмосфера.
Люди, которые пришли на Jungle — а это были геи, журналисты, представители фэшн-индустрии и просто продвинутые юноши и девушки — уже были наслышаны об эйсид-хаусе, а кто-то даже успел съездить в Лондон на первые вечеринки Лета любви. В самой Франции клубная сцена на тот момент находилась в плачевном состоянии: старые идеи и концепции исчерпали в себя, и люди просто перестали ходить в клубы. И вот тут-то и возник эйсид-хаус: он словно зарядил людей свежей энергией и заставил их вернуться на танцпол. Я был очень доволен тем, как прошла первая Jungle, но то, что это веха в истории Rex, я тогда не осознал. Я просто отметил для себя, что в клубе появилась новая, прогрессивная публика, и решил, что хаус должен как можно чаще звучать в стенах Rex. Вот и все". Таким образом, весной 1988 года хаус получил свою первую прописку во французской столице.
В сентябре того же года примеру Rex последовал Palace — детище гениального визионера Фабриса Эмаэра (Fabrice Emaer). Для парижан Palace был больше, чем просто клубом. Это был символ культуры 80-х, с ее эпатажностью и отсутствием чувства меры, а также воплощение определенного нестандартного видения музыки, авангарда и ночной жизни. Всю первую половину десятилетия алый фасад Palace как магнит притягивал парижских полуночников. Насладиться уникальной атмосферой, которую создавал в своем клубе Эмаэр, приходили такие люди, как Энди Уорхол, Мик Джаггер, Дайана Росс, Дэвид Боуи, Игги Поп и Серж Генсбур. Кензо, Карл Лагерфельд и Ив Сен-Лоран устраивали здесь феерические дефиле и маскарады, на которые съезжался весь парижский бомонд; Ален Пакади публиковал отчеты о жизни Palace на страницах газеты "Либерасьон". Иногда в клубе появлялась знаменитая Грейс Джонс в окружении своей многочисленной свиты; а во время снобско-декадентских панк-вечеринок публика имела возможность лицезреть молодую гвардию французского рока в составе Taxi Girt Жакно (Jacno) и Патрика Эдлина (Patrick Eudeline).
Playlist New York classique
Double Ezposure
Ten Percent
War
Country City Country
Roy Ayers
Running away
Carl Bean
I was Born this way
The Salsoul Orchestra
Ohh I Love it
Loleatta Holloway
Love Sensation
Ecstasy Passion and Pain
Touch and Go
Barry White
My Sweet Summer Suite
История Palace неразрывно связана с именем Ги Куэваса (Guy Cuevas). Ги был одним из первых французских диджеев, побывавших в Нью-Йорке и досконально изучивших ночную жизнь этого города. Из Нью-Йорка, а точнее, из нью-йоркских клубов Loft и Paradise Garage Ги вывез'новый саунд, представлявший собой замысловатую смесь соула, фанка и диско (впоследствии этот саунд ляжет в основу стиля "гараж"). Своей любовью к этой музыке и вообще к прогрессивным музыкальным течениям Куэвас заражал всех, кто приходил в Palace. Диджейскую эстафету от Куэваса приняли Тьерри Бельфор (Thierry Belfort) и Дидье Дарт (Didier Dart), которым предстояло перебросить мостик из эры диско в эру хауса.
Но в 1988 году золотой век Palace был уже позади. Черная полоса в истории клуба началась с трагического события — смерти Фабриса Эмаэра. Парижская ночная жизнь утратила свой неповторимый блеск, а осиротевший клуб постепенно пришел в упадок. И, когда уже знакомые нам Кевин и Барбара запустили в нем свою вторую парижскую эйсид-хаус-вечеринку — Pyramid (в основу которой они положили концепцию своих же вечеринок в лондонском Heaven), о былом великолепии Palace напоминал разве что неподвластный времени дизайн.
На презентацию Pyramid я пришел с целой сумкой пластинок. Марк Мур не забыл своего обещания и в самом начале вечеринки пустил меня за вертушки. Публика — а большую ее часть, разумеется, составляли геи — приняла меня теплее, чем я ожидал. Мне даже не верилось, что эти люди еще несколько месяцев назад ничего не знали о хаусе. Надо сказать, что я находился в привилегированном положении: в отличие от большинства французских диджеев, только начинавших приобщаться к хаусу, я, благодаря своему длительному пребыванию в Англии, уже прекрасно разбирался во всех тонкостях этой музыки. Это, если угодно, было моим главным козырем, и Pyramid стала для меня возможностью пустить его в ход.
Playlist Pyramid
Inner City
Good Life
Kraze
The Party
The Minute Man
Bingo Bango
Ten City
That's the Way Love is
Hashim
Al Naafiysh
Playlist Jungle
Mantronix
King of the Beats
Ann Clarke
Our Darkness
Phase II
Reachin
Baby Ford
Oochy Koochy
Todd Terry
Bango
Когда я завершил свой сет, ко мне подошли Кевин и Барбара. Они попросили меня сыграть еще раз, в самом конце вечеринки, а заодно предложили мне стать ее резидентом. Я с радостью согласился, и на флайерах следующей Pyramid уже значилось мое имя (я решил отказаться от своего манчестерского псевдонима DJ Педро; кстати, в то время в диджейской среде было совсем не принято придумывать себе псевдонимы). А вскоре произошло еще одно приятное событие: обо мне написал журнал The Face. Так началась вторая глава моей диджейской карьеры.
Марк Мур выступил на презентации Pyramid и уехал обратно в Англию, а моим партнером стал другой английский диджей — Колин Фейвер (Colin Faver). Я отвечал за разогрев и "финал", Колин — за все остальное. Слух о новой классной вечеринке быстро разнесся по парижской гей-коммьюнити. С каждой неделей в Palace приходило все больше народа, и клуб постепенно поднимался из пепла. Теперь Париж уже мог похвастаться двумя полноценными хаус-вечеринками: по вторникам проходила Pyramid, а по пятницам — Jungle, к которой я тоже через какое-то время примкнул — в качестве резидента и напарника Колина Холсгроува (Colin Holsgrove).
Своей причастностью к вышеупомянутым вечеринкам я снискал расположение парижских геев, и дирекция Palace пригласила меня поиграть в паре с Дидье Дартом на дневной воскресной дискотеке Gay Tea Dance. Вообще-то с голубой тусовкой меня связывали давние отношения: когда я был подростком, я по выходным помогал старшему брату в его ресторане, и в качестве платы за мои услуги брат брал меня с собой в ночные походы по андеграундным гей-клубам. Так что участие в Gay Tea Dance означало для меня возвращение в ту самую среду, в которой когда-то начался мой "роман" с ночной жизнью.
Как только стрелка часов достигала цифры 3 и Gay Tea Dance объявлялась открытой, в Palace врывались две с половиной тысячи разгоряченных парней в облегающих футболках; одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять: эти ребята настроены с пользой провести воскресный день. К тому моменту большинство геев уже были преданными поклонниками хауса (чего нельзя было сказать об остальной клубной публике), поэтому значительную часть своих сетов мы посвящали новым чикагским релизам, а также детройтским техно-хитам. Я обожал царившую на Gay Tea Dance атмосферу сладостной истерии и со временем научился ею управлять. Когда напряжение на танцполе достигало определенного уровня, я затевал игру в "хозяина и собаку", в которой публика своим поведением должна была заслужить припрятанную мною "кость", то есть какой-нибудь обалденный трек, а вместе с ним право "улететь" еще немного выше.
Playlist Gay Tea Dance
Joe Smooth
Promised Land
Ten City
Right back to you
Corporation of One
The Real Life
Sha-Lor
I'm in Love
Phortune
String Free
Следующее деловое предложение не заставило себя долго ждать, и теперь после окончания Gay Tea Dance я уже не возвращался домой, а мчался по вечернему Парижу в очередной клуб играть очередной сет. Четырнадцать часов почти непрерывного диджеинга — вот что представлял собой типичный воскресный день Лорана Гарнье.
Выхожу из Palace, иду по улице Фобур Монмартр, которая плавно переходит в Нотр-Дам де Лоррет, которая в свою очередь переходит в Фонтен, и попадаю на площадь Бланш, за которой начинается квартал Пигаль. Прохожу мимо кабаре "Мулен Руж" и останавливаюсь перед ярко освещенным белым фасадом, на котором черными буквами выведено название скрывающегося за ним заведения: La Locomotive. Сюда-то мне и нужно.
С Хильдой, арт-директором La Locomotive (сокращенно — Loco), я познакомился еще в Манчестере, на одной из последних вечеринок Zumbar. Когда я вернулся в Париж, Хильда устроила мне встречу со своим начальником Фредом Боллингом — колоритным бородачом с не слишком изысканными манерами. Встреча длилась недолго. Фред внимательно выслушал меня, а когда я закончил говорить, сухо произнес: "Значит, хочешь быть у нас диджеем? Да ради бога: приходи, приноси свою дебильную музыку, посмотрим, что у тебя получится".
Годом рождения La Locomotive принято считать 1960-й, когда актер Андре Пус открыл по соседству с "Мулен Руж", где он работал конферансье, небольшой молодежный клуб, куда посетители знаменитого кабаре могли "сдавать" на время представлений своих детей подросткового возраста. Но годы бежали, клуб менялся, и к середине 80-х от Loco Андре Пуса осталось одно название. Теперь это было гигантское трехэтажное заведение, кишащее панками, скинхедами и прочими агрессивно настроенными молодчиками. Клуб начинался с длинной барной стойки, пройдя мимо которой посетитель попадал на главный танцпол, по своему дизайну напоминавший арену. Здесь безраздельно господствовал танец пого. Случалось, что во время концертов на танцполе одновременно рубилось восемьсот с лишним человек. Диджейский пульт был установлен в центре зала, на некотором возвышении. Этажом ниже, в подвале, находился камерный зал, оформленный в индустриальном стиле (металлические трубы, медные щиты), а уже отсюда по потайной лестнице можно было подняться на верхний ярус, с которого открывался замечательный вид на танцпол.
Я до мельчайших подробностей помню свое первое, пробное выступление в Loco. Был будний день. Клуб, как обычно, кишел панками и рокерами всех мастей. Я начал свой сет с относительно нейтральных вещей, но потом постепенно перешел к эйсид-хаусу. Реакция публики меня обнадежила. Фреда Боллинга в зале не было — он встречал посетителей у дверей клуба, но я знал, что он может следить за тем, что происходит внутри, благодаря висевшей над главным входом колонке.
Где-то в середине сета я завел кислотную версию песенки Мори Канте (Могу Kante) "Yeke Yeke", которая тогда как раз находилась в Тор 50. Надо сказать, что в те годы ставить в Loco что-либо, хотя бы отдаленно напоминающее африканскую музыку, было, мягко говоря, рискованно: это могло не понравиться скинам, а скины, как известно, церемониться не любят. Так что не успели прозвучать первые аккорды "Yeke Yeke", как ко мне с криком "Тебе что, жить надоело?!" подлетел разъяренный Фред. "Да ты посмотри на танцпол. Они же все поглощены танцем. Им больше ничего не надо", — возразил я. И действительно, в зале не наблюдалось никаких признаков недовольства.
Так я стал резидентом Loco. По будним дням я ставил мешанину из рока и хауса, а по воскресеньям получал в свое распоряжение подвальный зал клуба (за что отдельное спасибо Хильде) и мог с чистой совестью крутить эйсид-хаус и ничего кроме эйсид-хауса.
Хильда была большой поклонницей манчестерской клубной сцены, поэтому темой первой полноценной хаус-вечеринки, прошедшей в Loco, стал Манчестер. Вечеринка состоялась 25 января 1989 года. Специально по этому случаю из Англии приехали Грэм Парк, Джон Да Силва (John Da Silva) и Майк Пикеринг, до этого никогда не выступавшие во французской столице. Но и я не остался не у дел: Хильда назначила меня ответственным за подвальный зал. На манчестерскую вечеринку в La Locomotive пришла непривычная для него голубая и неагрессивная публика, прежде благоразумно обходившая это небезопасное место стороной. Так начался новый период в истории клуба.
Playlist H3O
Humanoid
Stakker Humanoid
D Shake
Technotrance
KLF
What Time is Love
Bam Bam
Where's your Child
Lil' Louis
French Kiss
Одним из резидентов Loco был диджей Эрик Рюг (Eric Rug) — не последний человек в парижской клубной тусовке и вообще довольно необычная личность. Перед тем как оказаться в Loco, он какое-то время жил в Берлине, а потом диджействовал в радикальном парижском панк-клубе Rose Bonbon. Эрик был ходячей музыкальной энциклопедией: он как свои пять пальцев знал мировую рок-сцену, а когда в Париже появились первые чикагские пластинки, сразу же стал большим знатоком хауса. Мне часто случалось играть вместе с Эриком. Мы подружились, и через какое-то время наша дружба вылилась в вечеринку под названием Н30, которая по нашим расчетам должна была в корне изменить имидж Loco. Обязанности между нами распределялись следующим образом: я отвечал за хаус и техно, а Эрик — за нью-бит (нью-битом называлось бельгийское техно с элементами индастриала). Фреду наша концепция понравилась, и он "подарил" нам вечер среды.
"French Kiss" в переводе с английского — "французский поцелуй". Так называлась композиция чикагского диджея и продюсера Лила Луиса (Lit' Louis).
Это был один из первых образцов минималистского хауса и, пожалуй, самая первая пластинка, в которой во всей полноте проявились и инновационность, и трансцендентность хаус-музыки.
"French Kiss" напоминал неопознанный летающий объект, чудесным образом залетевший в хит-парад и не желавший его покидать. Трек длился одиннадцать минут. Примерно к середине темп начинал замедляться, и через какое-то время музыка уступала место сладострастным женским стонам; дав девушке вдоволь настонаться, музыка медленно и со скрипом, словно несмазанный механизм, пускалась в обратный путь, постепенно ускорялась и под конец достигала своего первоначального темпа. Это была маленькая революция.
"French Kiss" прогремел на всю Европу и породил целую волну имитаций. Ремиксы, кавер-версии и просто вариации на тему "Французского поцелуя" заполонили собой клубы и пластиночные магазины. Мне запомнились две версии. Первая была примечательна тем, что женские стоны в ней были заменены на мужские; вторая — тем, что была спродюсирована французскими музыкантами и попала в хит-парад почти одновременно с оригиналом. "French Kiss" был, вне всякого сомнения, главным хитом сезона. Каждый раз когда диджей заводил его (а это могло быть и пять, и шесть раз за одну вечеринку), публика визжала от восторга.
Для нас с Эриком вечеринка Н3О была островком свободы и возможностью дать выход своей творческой энергии. Если публика слишком вяло реагировала на какой-нибудь нежно любимый нами трек, мы хватали микрофон и принимались ее поддразнивать. В Англии для этих целей существовал МС, то есть мастер церемонии, задача которого как раз заключалась в том, чтобы своей болтовней заводить публику. Во Франции ничего подобного не было, так что свои вылазки к микрофону мы расценивали как эдакий французский ответ англичанам.
Конечно, идея проводить хаус-вечеринку в панк-клубе была из разряда сумасшедших, и, как и следовало ожидать, часть наших сил уходила на то, чтобы защищать Н3О от вражеских нападок. Первые несколько месяцев обстановка на вечеринке была довольно напряженной. Наша явная ориентация на гей-тусовку не спугнула завсегдатаев клуба — панков и бритоголовых; в результате каждую среду в Loco образовывалась взрывоопасная смесь, и нам с Эриком приходилось думать еще и о том, как бы не допустить кровопролития. Во избежание неприятностей, мы даже перестали ставить группы, игравшие ледяной метрономный нью-бит (Front 242, Nitzer Ebb и им подобные), поскольку они пользовались популярностью среди скинхедов и могли вызвать у них слишком бурную реакцию.
Но границы между стилями постепенно размывались, и люди, еще недавно морщившиеся при упоминании о хаусе, начинали проявлять живой интерес к новым веяниям. Так, когда на наших вечеринках играла песня "Blue Monday" группы New Order, на танцполе можно было встретить не только геев и продвинутых клабберов, но и скинов, высоколобых интеллектуалов и простых рокеров.
К тому моменту в Париже уже существовала, хоть и в зачаточном состоянии, самостоятельная хаус-сцена, костяк которой составляли диджей Сирил Гордиджиани (Cyril Gordigiani), Оливье ле Кастор, (Olivier le Castor), Жером Пакман (Jérôme Pacman) и Гийом ла Тортю (Guillaume la Tortue). Вскоре появился и первый образец французского хауса — трек "How to do that", записанный кутюрье Жаном-Полем Готье и "экранизированный" клипмейкером Жаном-Батистом Мондино; правда, местная пресса увидела в нем всего лишь "милую диковинку".
Первые пластинки с французским хаусом выходили безо всякой раскрутки на принадлежавшем Маню Казана (Manu Casana) лейбле Rave Age. Импортом и дистрибуцией хаус-релизов занимался магазин Caramel. Журналистов, интересующихся хаусом, можно было пересчитать по пальцам одной руки (самыми влиятельными были Дидье Лестрад и Венсан Борель), все остальные представители масс-медиа считали танцевальную музыку побочным продуктом молодежной культуры и относились к ней с нескрываемым презрением.
Если разобраться, первые симптомы хаус-лихорадки были зафиксированы в Англии и во Франции практически одновременно. Однако по уровню воздействия на музыкальную жизнь страны французская хаус-культура безнадежно отставала от английской. Если английские поп- и рок-группы вовсю перенимали элементы хаус-эстетики и хаус-ритмики (взять хотя бы "Hallelujah" Happy Mondays или "Unbelievable" EMF), тем самым незаметно приобщая к хаус-культуре слушателей рок-радиостанций, то французские поп- и рок-деятели только брезгливо кривили рты и не желали иметь никакого отношения к этой "музыке для педиков", а многие склонялись к тому, что хаус и вовсе нельзя считать музыкой. Можете себе представить, каково было мне и моим единомышленникам: мы продвигали музыку, которую каждый кому не лень норовил смешать с грязью. И все же наши усилия нельзя было назвать бесплодными, потому что с каждым месяцем во Франции становилось чуть больше людей, которые ходили в клубы не ради флирта и общения, а ради музыки и танца.
За десять месяцев службы в армии я ни разу не взял отпуска или увольнительной, поэтому в июне 1989 года, то есть на два месяца раньше срока, я уже был на свободе. К тому времени я успел полностью забыть, что такое нормальный ночной сон.
Теперь у меня было одно-единственное желание: уехать из Франции и больше никогда в нее не возвращаться. Я попрощался с La Locomotive, Palace и Rex (кстати, англичане в тот момент как раз сворачивали свои хасус-вечеринки в Palace и Rex). 19 июня 1989 года я погрузил диски, вертушки и личные вещи в багажник своего "ниссана" и взял курс на Манчестер. Будущее виделось мне в радужных красках: впереди меня ждало место резидента на субботней вечеринке в Hacienda, работа в клубе Dry Bar (Пол Коне заблаговременно позаботился о моем трудоустройстве) и — самое главное — полная свобода.
В Англии начиналось второе Лето любви.
Г-н Лоран ГАРНЬЕ
Справка
Я, Фредерик БОЛЛИНГ, подтверждаю, что господин Лоран ГАРНЬЕ с СЕНТЯБРЯ 1988 г. по ИЮНЬ 1989 г. занимал должность ДИСК-ЖОКЕЯ в дискотеке La LOCOMOTIVE, расположенной по адресу: 90, бульвар де Клиши, 75018 Париж.
Господин Гарнье зарекомендовал себя как прекрасный работник с развитым чувством ответственности, креативным мышлением и прекрасными человеческими качествами.
Париж, 19 июня 1989
Он внес неоценимый вклад в развитие La Locomotive и способствовал укреплению репутации клуба. Я не сомневаюсь в том, что господин Гарнье будет так же радовать публику и руководство клуба, которому посчастливится взять его на работу, как он все это время радовал нас.
Глава третья Live the Dream
Я только что пересек Ла-Манш и теперь еду по автостраде, ведущей в графство Чешир. Мои пластинки и вертушки послушно трясутся в багажнике машины, время от времени громким стуком реагируя на неровности дороги. У Олтрингама я съезжаю с автострады, и вот уже вдали виднеется долгожданный щит с надписью "Добро пожаловать в Манчестер". "Обратно" — так и хочется мне добавить. Мой манчестерский дом встречает меня не слишком приветливо: судя по слоям пыли и кучам мусора, мои жильцы не утруждали себя регулярной уборкой. Но такие мелочи не могут омрачить мою радость от встречи с Манчестером. Вздремнув и приняв душ, я снова сажусь за руль и отправляюсь в центр. Короткой прогулки по городу с заходом в паб мне вполне достаточно, чтобы понять: я вернулся совсем не в ту Англию, из которой уезжал прошлым летом.
За какой-то год хаус-движение проделало колоссальный путь. Английская музыкальная индустрия со свойственной ей оперативностью наладила эффективную систему распространения хаус-музыки, и новейшие релизы стали добираться до жителей самых отдаленных уголков страны. Зародившаяся в Манчестере мода на мешковатую одежду (baggy) распространилась по всей Северной Англии. Из небытия был извлечен популярный в 70-е годы "смайлик" — желтая рожица с широкой улыбкой и смеющимися глазами, который тотчас же стал символом хаус-движения и прочно обосновался на футболках и значках молодых северян. Вслед за музыкальной прессой, в обсуждение новых веяний включились модные журналы (The Face, ID) и многотиражные издания (The Sun). Большинство журналистов склонялись к тому, что хаус-культура с ее ярко выраженным пацифизмом и тягой к пестроте ведет свою родословную от Вудстока. Таким образом, подпольному движению, исподволь перекроившему английский социальный ландшафт, была предоставлена официальная прописка в культуре XX века, а вместе с ней и право требовать от своих противников уважительного к себе отношения. Игнорировать существование хауса стало просто невозможно: повсюду звучали слова "революционный", "новый", "беспрецедентный"; из уст в уста передавались фантастические рассказы о свирепствующей на севере эпидемии счастья; Манчестер, с легкой руки музыкантов из Happy Mondays переименованный в Мэдчестер (от "mad" — безумный, сумасшедший), все больше напоминал столицу мировой клубной культуры.
За время моего отсутствия коллектив Hacienda почти не изменился, так что встретили меня очень тепло, почти как члена семьи. Пол Коне, как и обещал, доверил мне субботнюю вечеринку и помог устроиться на работу в уилсоновский Dry Bar, одним из преимуществ которого было то, что он располагался на Олдем-стрит — в двух шагах от лучших пластиночных магазинов Манчестера. Излишне говорить, что в этих магазинах оседала вся моя зарплата.
Когда я заходил в Hacienda в дневное время, меня встречал запах высохшего пива и сигаретных окурков — типичный дневной запах ночного заведения. Мои шаги со стуком отлетали от пустого танцпола. В эти часы Hacienda больше всего напоминала храм света, ни с того ни с сего переключившийся в черно-белый режим. Иногда я подолгу стоял посреди безлюдного зала, вслушиваясь в эхо прошедших вечеринок и гадая, чем меня удивит грядущая ночь.
Однако несмотря на то, что по всей стране дул ветер, если не сказать ураган, перемен, английский закон по-прежнему требовал от клубов, чтобы они прекращали свою деятельность не позднее двух часов ночи. А это означало, что диджею на то, чтобы прокрутить свои пластинки, а публике на то, чтобы получить свою дозу экстази, танца и счастья, отводилось каких-то жалких четыре-пять часов.
Манчестерцы всегда славились своим умением обходить "двухчасовой" закон. Когда ровно в два музыка во всех клубах города замолкала, тысячи еще не остывших юношей и девушек высыпали на улицы и принимались строить планы на оставшуюся часть ночи. О подпольных warehouse parties я уже рассказывал. А в 1988 году, пока я служил в рядах французской армии и параллельно оттачивал свое диджеиское мастерство в парижских клубах, warehouse-система под влиянием эйсид-хауса и экстази породила новый тип вечеринок — рейв. В основе рейва лежала идея тотальной свободы и желание танцевать до полного изнеможения.
Несмотря на свою возводимую в принцип нелегальность, рейв-движение за считанные месяцы достигло гигантского размаха. Устроители рейвов даже не пытались укрощать собственную фантазию: "Мыслить нужно широко, — рассуждали они. — Что нам мешает, скажем, выйти в чистое поле, установить звуковую аппаратуру и устроить праздник? Чем больше придет людей, тем лучше. Пускай всем будет хорошо".
Не менее интересные процессы происходили и в Лондоне. В 1988 году молодой промоутер Тони Колстон Хэйтер, известный своей любовью к крупномасштабным проектам, попал на вечеринку Shoom и открыл для себя эйсид-хаус. Чутье подсказало Тони, что у этой музыки огромный коммерческий потенциал, и в августе того же года он провел на территории Wembley Studios рейв под названием Apocalypse Now ("Апокалипсис сегодня"), на который в нарушение всех законов конспирации пригласил съемочную группу телеканала ITN News. Власти негодовали, хаус-тусовка обвиняла Тони во всех смертных грехах, но успеха "Апокалипсиса" это не отменяло. Преисполненный энтузиазма, Тони торжественно запустил серию рейвов Sunrise, но вскоре, столкнувшись с некоторым "непониманием" со стороны полиции, был вынужден умерить свой пыл. Sunrise перешел на систему "явок": место проведения рейва до последней минуты держалось в тайне, и получить необходимые указания мог лишь тот, кому был известен номер специального автоответчика. В октябре 1988 года Тони провел Sunrise в центре конного спорта графства Букингемшир: тысячи рейверов танцевали под открытым небом, а пластинки для них ставил молодой брайтонский диджей североанглийского происхождения — Карл Кокс (Carl Сох). С Sunrise в Англии началась эпоха крупномасштабных рейвов, собиравших по десять тысяч человек.
Но вернемся в Манчестер. Местные рейв-активисты довольно долго оставались глухи к звону монет. Вплоть до второго Лета любви североанглийские рейвы по своей атмосфере напоминали спонтанно организованные дружеские вечеринки: тысячи парней и девушек, получивших на выходе из какого-нибудь клуба флайер с информацией о предстоящем рейве — как правило, весьма скудной (скажем, упоминать на флайере имена диджеев считалось совершенно необязательным), собирались в указанное время в указанном месте и принимались танцевать. У таких вечеринок не было заранее продуманной программы: диджеи, в произвольном порядке сменявшие друг друга за вертушками, крутили все подряд — хаус, техно, хип-хаус (смесь хип-хопа и хауса) и свежие поп-хиты. Установленные прямо на земле динамики изрыгали тонны децибелов, а световые приборы бесновались так, словно им было дано задание зазвать на праздник жителей соседних галактик. Одним из главных украшений североанглийских рейвов были огромные надувные замки, об упругие стены которых рейверы самозабвенно бились в перерывах между танцами.
Но по мере того, как популярность такого рода времяпрепровождения росла, рейв-движение утрачивало свою хаотичность и спонтанность. Рейвы обзаводились барами, стэндами и профессиональными охранниками… Все шло к появлению настоящей рейв-инфраструктуры.
В 1989 году манчестерские рейверы обычно назначали встречу на какой-нибудь пригородной автозаправке, а оттуда огромной автоколонной ехали к месту проведения вечеринки. Это была абсолютно сюрреалистическая картина: глубокая ночь, разбитая сельская дорога, утопающая в густом-прегустом английском тумане, и среди всего этого великолепия… километровая пробка.
Сказать, что, впервые попав на рейв, я испытал глубокое потрясение, — значит не сказать ничего. Нет, та августовская ночь не просто потрясла меня, а полностью изменила мое представление о ночной жизни.
Joy. Так назывался этот рейв. Добирались мы с приключениями. Информации, содержавшейся на флайере, оказалось недостаточно, чтобы с первого раза найти нужное место: целых два часа мы с Дэни маялись в пробках, буксовали в грязи и тряслись на ухабах, тщетно пытаясь высмотреть какой-нибудь знак, указывающий на то, что мы движемся в правильном направлении. Наконец каким-то чудом мы добрались до нужного нам холма. Была темная, безлунная ночь. По холму стелился легкий зеленоватый туман, сквозь который проступали силуэты сотен машин. Несколько молодых scaLLies проскользнули мимо нас и с уверенным видом свернули на тропинку, уводящую куда-то вниз. Недолго думая, мы последовали за ними. Через несколько минут нашему взору открылся вид на просторную долину, окруженную грядами холмов, и по мере того, как мы приближались к ней, я все отчетливее различал дорогой моему сердцу звук — звук идеально настроенной акустической системы:
Мои глаза светятся неестественным блеском, волосы стоят дыбом, в горле словно застрял комок земли. Все вокруг кажется необычайно ярким, теплым и манящим. Я чувствую, как характерное возбуждение постепенно овладевает всем моим существом. Я говорю: "Гмммм. Ойойой. Уууууух. Уу-уууууф. Уаааааау". И вдруг понимаю, что гигантское зеленое гало, нависшее над долиной, — это не порождение моего возбужденного волшебными таблетками мозга, и что есть силы кричу: "Shit man, it's a real Laser down there, mate!"[7]
Всю ночь долина сотрясалась от грохота мощнейших динамиков (организаторы Joy взяли напрокат аппаратуру, которая обычно использовалась на стадионе Уэмбли — группами вроде U2). В шесть утра, когда лица танцующих озарили первые лучи солнца, диджей завел песню "Why" американской фолк-певицы Карли Саймон (CarLy Simon). В ту же секунду в небе раздался рев мотора, облака расступились, и из них вынырнул… самолет.
Он проскользнул в нескольких метрах от наших поднятых рук, покружил над долиной и под наши ликующие крики исчез в утренней мгле.
Интересно, кто-нибудь рассказал Карли Саймон про этот случай — с самолетом?
Про то, что после joy все североанглийские рейвы стали завершаться песней "Why"?
Про то, что тысячи молодых англичан стонали от удовольствия каждый раз, когда слышали ее ласковый, нежный голос?
Второе Лето любви подходило к концу, но рейверская лихорадка и не думала спадать. Молодые северяне ощущали себя участниками уникального, беспрецедентного процесса, совершенно не отдавая себе отчета в том, что: а) в этот процесс давно включилась вся страна, и б) северный рейв-психоз является прямым наследником другого массового помешательства — того самого, жертвами которого в свое время стали их собственные родители. Речь, конечно же, идет о явлении, вошедшем в историю как "северный соул" (northern soul).
Для того чтобы лучше понять феномен северного соула, стоит взглянуть на породившую его среду. Манчестер был первым английским городом, ответившим на вызов промышленной революции. Рассказывают, что в 1820-1830-е годы только для нужд хлопчатобумажной промышленности на его территории было возведено более восьмисот построек ангарного типа. В середине XIX века, благодаря беспрецедентному по своим темпам экономическому росту, Манчестер вошел в число самых процветающих городов планеты, а Северная Англия достигла экономической самодостаточности и вырвалась из-под абсолютной власти Лондона. Север стал своего рода страной в стране. Главными точками на карте этой "альтернативной" Англии были Ливерпуль (город-порт, в который из Америки приходили корабли с хлопком, а из Африки — корабли с рабами), Шеффилд (столица стальной промышленности), Бирмингем (центр инженерной мысли) и, конечно же, Манчестер, внутри и вокруг которого концентрировалось 90 % мирового производства хлопчатобумажных изделий.
Манчестер менялся на глазах. Стены домов покрывались копотью, небо постепенно исчезало за густеющим облаком пыли и грязи. Из-под земли, как грибы после дождя, вырастали рабочие бараки, в которых оседали нищие мигранты из Ирландии и неблагополучных английских районов. Ненасытная манчестерская промышленность постоянно требовала свежей крови, и вслед за отцами и старшими братьями к станку послушно вставали совсем еще зеленые мальчишки. Всю эту армию работяг нужно было как-то развлекать, и в Манчестере очень быстро наладилась веселая ночная жизнь, проникнутая духом алкоголя и местного фольклора. К концу XIX века запросы манчестерцев выросли, и бесцельное хождение по кабакам было признано примитивным времяпрепровождением. Тогда на выручку пришли кинематограф и музыка. В 20-е годы в Город дождей (так иногда называют Манчестер) стали регулярно заезжать чернокожие американские музыканты, для которых Европа была своего рода джазовым раем, где они могли ненадолго укрыться от расизма и унижений, преследовавших их на родине. В концертных залах и клубах Манчестера — а их с каждым месяцем становилось все больше — постепенно зарождалась новая танцевальная культура, которой через какое-то время предстояло сплотить вокруг себя всех жителей этого большого города.
В 1930 году в Северной Англии начался экономический спад. Значительная часть манчестерских текстильных предприятий разорилась; заводы, на которых еще недавно бурлила жизнь, стали напоминать безмолвных, затаивших обиду призраков. Манчестер впал в глубокую депрессию.
В 1948 году в Манчестерском университете появился на свет Manchester Mark I — первая вычислительная машина с хранимой программой, прототип современного компьютера. Город ожил и стал с надеждой смотреть в будущее. Тогда же в квартале Мосс Сайд образовалась своего рода "тусовочная зона" с богатым выбором клубов и прочих ночных заведений. В середине 50-х на радость представителям нового поколения рабочего класса, которые все как один сходили с ума от черной американской музыки и без зазрения совести спускали за выходные всю недельную получку, в Манчестер прямо из Америки хлынул поток ритм-н-блюзовых пластинок.
В 60-е годы жители Города дождей, не подозревая о том, что наслаждаются последними деньками экономической стабильности, отрывались в модных музыкальных клубах Twisted Wheel, Plaza и Oasis и вели бесконечные интеллектуальные беседы в славящихся своей битнической атмосферой кофе-шопах. Манчестер вполне мог похвастаться одной из самых развитых "ночных" инфраструктур во всей Англии. Как раз в это время в клубы пришло поколение, которое джазу предпочитало более простую, ритмичную и отвязную музыку. Часть диджеев перешла на пластинки Клиффа Ричарда, "Битлз" и им подобных, другая часть принялась пропагандировать американскую соул-музыку. И, хотя последних было значительно меньше, чем первых, через какое-то время весь Манчестер, а за ним и весь север, стал жить в пульсирующем ритме соула. Северная Англия снова превратилась в страну в стране: здесь упорно игнорировалось существование Элвиса, Нэшвилла[8] и белой американской мечты, а заполнявшие радиоэфир песни "Битлз" и "Роллинг Стоунз" воспринимались как второсортный продукт, непригодный даже для того, чтобы скрасить ожиданье очередной соул-вечеринки. Всю первую половину 70-х — пока все "нормальные люди" слушали рок и с радостью наблюдали за тем, как он превращается в мировую религию, — молодые северяне гонялись за раритетными соул-пластинками и танцевали в душных клубах пролетарских кварталов под записи безвестных черных певцов 60-х.
Этому поразительному феномену — североамериканской музыке соул, покорившей североанглийскую молодежь — было дано название "северный соул" (northern soul).
Playlist Northern soul
Don Thomas
Come on Train
Robert Parker
Let's Go Baby
Clarence Murray
Don't Talk like that
Jackie Lee
Would you Believe
Big Al Downing
Medley of Soul
Gloria Jones
Tained Love
R. Dean Taylor
Ther's a Ghost in my House
Edwinn Starr
Agent Double-o-Soul
История северного соула писалась в таких клубах, как Twisted Wheel (Манчестер), Месса (Блэкпул), Casino (Уиган), Torch (Сток-он-Трент) и Catacombs (Вулвергемптон). Именно в эпоху северного соула диджей из одушевленного придатка клуба превратился в полноценного артиста. Как следствие этого, выросли и предъявляемые к нему требования. Публика уже не радовалась, как прежде, любой заводной вещице, а жаждала чувственности, терпкости и дурмана. Более того, она хотела, чтобы пластинки, которые ей предлагал диджей, были раритетными. Со временем "раритетность" подборки стала едва ли не главным критерием, по которому оценивалось выступление диджея. Началась настоящая погоня за эксклюзивом. Каждый изворачивался как мог. Скажем, D3 Фармер Карл Дин (Farmer Carl Dean), вдохновившись примером лондонского диджея ямайского происхождения Каунта Сакла (Count Suckle), стал срывать этикетки со всех пластинок, которые покупал, — таким образом, он полностью исключил возможность того, что ушлые слушатели или конкуренты "ненароком" подглядят их название. А потом в Манчестере появились первые аудиопираты, а вместе с ними и богатый выбор мошеннических приемов, позволявших, помимо всего прочего, подделывать выходные данные пластинок.
Именно от северного соула и пошло то самое противостояние музыкальному мейнстриму и та самая одержимость танцами, тайнами и громким звуком, которые потом во многом определили сущность европейской рейв-культуры. Именно в эпоху северного соула вечеринка стала восприниматься не просто как приятное времяпрепровождение, а как священный ритуал, в который необходимо вкладывать всю свою душу и ради участия в котором стоит проехать сотню-другую километров.
Вскоре после того, как я вернулся в Англию, Пол Коне предложил мне стать резидентом вечеринки, которую он собирался запустить в Блэкпуле — приморском городе в шестидесяти километрах от Манчестера. В конце 80-х Блэкпул, некогда популярный английский курорт (эдакие английские Канны), представлял собой довольно унылое зрелище: со всех сторон на вас печально глядели брошенные и никому больше не нужные аттракционы, а попадавшиеся вам навстречу юноши и девушки казались ожившими иллюстрациями к газетным статьям о безработице, тяжелых наркотиках и депрессии. Если бы вы попросили блэкпульца рассказать вам о последнем значительном событии, происшедшем в городе, он, вероятно, вспомнил бы потасовку во время концерта "Роллинг Стоунз", в 64-м году или какую-нибудь вечеринку времен северного соула; и обвинять его в том, что он отстал от жизни, было бы несправедливо — в этой дыре действительно не происходило ровным счетом ничего.
Но несмотря на депрессивность Блэкпула, а может быть, именно благодаря ей, начинание Конса оказалось чрезвычайно успешным. Frenzy сразу же зажила какой-то особой — невероятно захватывающей и экстремальной — жизнью, которая не имела ничего общего с тем, что творилось в других местах. Вероятно, поэтому среди тусовщиков, толпившихся у входа на вечеринку (Frenzy проходила в здании бывшего кинотеатра), встречались жители городов, расположенных за сто, а то и за двести километров от Блэкпула. Когда двери кинотеатра распахивались, вся эта толпа сломя голову бросалась в безумную погоню за кайфом, рождавшимся из сочетания хауса, танцев и наркотиков. Последние поглощались в немыслимых количествах — местные тусовщики считали, что, используя менее действенные методы, они не смогут полностью прочувствовать дарованную им всего на несколько часов свободу.
Я работал в паре со Стивом Уильямсом (Steve Williams) — резидентом той самой вечеринки в Thunderdome (андеграундном конкуренте всемогущей Hacienda), которую проводили Spinmasters из группы 808 States. С половины десятого до без десяти два мы со Стивом планомерно повышали темп и напряжение музыки — проверенный прием, действующий на публику буквально гипнотически. Но свои коронные пластинки мы приберегали для последних десяти минут, и то, что происходило в зале в эти минуты, выглядело форменной истерией: люди висли на прожекторах, остервенело дули в туманные горны и из последних сил выделывали самые сумасшедшие движения, на которые только были способны. Но вот стрелка часов достигала цифры 2, музыка останавливалась, и все присутствующие в слезах принимались хлопать в ладоши в надежде получить напоследок хотя бы еще один трек. Я был уверен в том, что происходящее в Блэкпуле — это предел человеческого безумия, пока в один прекрасный день не познакомился с Марком Ноулером (Mark Knowler) из ливерпульского клуба Quadrant Park.
Playlist Frenzy
The Doc
Portrait of a Masterpiece
Orange Lemon
Dreams of Santa Anna
Slaughterhouse
The Funky Ginger
Heavy D & The Boyz
We Got our own Thang
The Back Room
Definition of a Track
E Zee Possee
Everything Stars with an E
Stetasonics
Talking all that Jazz
Mister Fingers
I Hawe a Dream
В 1989 году пролетарский Ливерпуль был как никогда далек от романтической картинки, с которой у большинства людей обычно ассоциируется родина "Битлз". В городе не первый год свирепствовала страшная безработица, так что юным ливерпульцам было нечего терять, кроме своей репутации самых безбашенных людей на свете, которая как раз и поддерживалась благодаря таким местам, как Quadrant Park.
Quadrant Park no праву считался одним из самых опасных клубов Северной Англии, но надо признать, что эта полукриминальная атмосфера придавала ему определенный шарм. В первое же свое выступление я стал свидетелем того, как охранники клуба сбросили какого-то парня с верхнего яруса, а затем спустились вниз и, даже не дав несчастному прийти в себя, принялись методично пинать его ногами. Потом выяснилось, что за несколько минут до этого бедолага повздорил с кем-то из вышибал и попытался ударить того бутылочным горлышком. За что и поплатился. "Если бы мы его не проучили, он бы завтра принес пушку и всех нас перестрелял", — со знанием дела объяснил мне один из стражей порядка. Но, несмотря на эти эксцессы, играть в Quadrant Park было одно удовольствие. Например, каким-нибудь никому не известным треком группы Elevation я мог привести публику в такой экстаз, которого в другом клубе не добился бы, даже крутя главные хиты сезона. За ором танцующих было почти не слышно гудения туманных горнов. (Да что там горны — я больше чем уверен, что две тысячи ливерпульских беспредельщиков без всякого труда переорали бы набитый до отказа стадион Уэмбли.) Стоя за своим диджейским пультом, я вдыхал пьянящий аромат единения и свободы и наблюдал за тем, как горячие ливерпульские парни забирались на верхний ярус клуба и оттуда сигали на головы танцующих; как не менее горячие ливерпульские девушки, забыв о приличиях, сбрасывали с себя футболки и как сотни обнаженных торсов терлись друг о друга в такт музыке.
В 1989 году каждому английскому диджею полагалось иметь свой фирменный стиль. Что касается моего стиля, то он был своего рода синтезом моего парижского, манчестерского, блэкпульского и ливерпульского опыта. В то время как большинство моих коллег потчевали публику английским техно и piano houses крутил смесь из нью-бита, техно и чикагского гетто-хауса — минималистского, фанкового и абсолютно непристойного по содержанию. Во Франции, где моя публика на девяносто процентов состояла из геев, треки с текстами в духе "Fuck me, fuck me 'till I start to scream" или "Slap your ass and move… bitch" шли на ура. В Англии все было наоборот: поначалу, когда я заводил что-нибудь в этом роде, люди в знак протеста против такой чудовищной пошлости просто-напросто покидали танцпол. Но через какое-то время желание танцевать взяло верх над пуританским воспитанием, и было решено, что к содержащимся в хаус-композициях призывам следует относиться с юмором. И все же были вещи, с которыми отказывались мириться даже самые прогрессивные клабберы, — например, секс с дьяволом. Поэтому, если я хотел позлить публику Quadrant Park, мне всего-то и нужно было, что завести песню Aphrodite's Child (группа Демиса Руссоса и Вангелиса) с альбома "666", в которой Ирена Папас как раз изображает женщину, предающуюся этому предосудительному занятию. Действовало безотказно. (Между прочим, когда я был маленьким, я ужасно боялся слушать эту пласт-инку: все-таки число зверя — это не для хрупкой детской психики.) За свою любовь к такого рода провокациям я заслужил репутацию "очень европейского диджея". Мое имя оказалось на слуху, и предложения от клубов и устроителей рейвов потекли рекой.
В сентябре 1989 года нас со Стивом Уильямсом пригласили поиграть на рейве, проходившем в сорока километрах от Манчестера. Дело было в субботу. Я завершил свой традиционный сет в Hacienda, прыгнул в машину, прихватил Стива, и мы отправились искать место, указанное на флайере вечеринки. Найти его не составило большого труда: через сорок километров мы съехали с шоссе и оказались на стоянке, посреди которой возвышалось цирковое шапито. Из шапито доносился оглушительный рев. Мы пробрались сквозь собравшуюся у входа толпу, поприветствовали организаторов и охранников, вошли в шапито и замерли от изумления: из темноты на нас смотрела стройная и прекрасная гигантская полистироловая буква Е.
Вечеринка в самом разгаре. Стив Уильямс заканчивает свой сет и передает в мои руки судьбу восьмисот перевозбужденных рейверов. Я встаю за складной столик, служащий подставкой для вертушек, завожу первый трек и в ту же секунду теряю ощущение времени. Полуголый, взмыленный и безумно счастливый, я пританцовываю за своими вертушками, ору во всю глотку и ставлю одну пластинку за другой. Вдруг с криком "The party is over" в шапито врываются люди в униформе. Пару секунду они в нерешительности озираются по сторонам — видимо, ищут зачинщика, а потом словно по команде бросаются к моему столику и принимаются светить мне в зрачки своими противными фонарями. Мне приказывают вырубить музыку. Я нехотя подчиняюсь. Какой-то сержант отводит меня в сторону и просит назвать имена организаторов. "Каких таких организаторов? — недоуменно спрашиваю я. — Я вообще ничего не знаю. Я просто зашел и решил поиграть". Но сержант, судя по всему, не верит в искренность моих слов. Меня хватают под руки и сажают в машину.
Это первый полицейский рейд в моей жизни. Все как в кино: собаки, рации, сирены. Меня привозят в участок. Я сдаю на хранение часы' ремень и шнурки и следую за дежурным в обезьянник, чувствуя, как меня резко накрывает. В соседней "клетке" уже сидит Стив Уильяме. В перерывах между приступами смеха мы перебрасываемся короткими фразами: "0-бал-денный приход!" — "А мне-то как вставило… Ты себе не представляешь!" Так проходит несколько часов. Затем меня отводят в комнату с мягкими стенами и огромным зеркалом. Ага, сейчас меня будут допрашивать, смекаю я. Я смотрю на непроницаемые лица полицейских, и меня разбирает дикий хохот. В этот момент в комнату входит комиссар. Он тоже вполне серьезен — видимо, в этом участке никто не разделяет моего веселого настроения. "Что значит эта буква Е?" — спрашивает он и сверлит меня своими ледяными глазами. Я собираюсь рассмеяться ему прямо в лицо, но вдруг вспоминаю, что хочу выбраться отсюда живым, и со всей силы прикусываю губу. "Ну это типа у Эрика день рожденья", — мямлю я. Комиссар очень вежливо и терпеливо, всем своим видом показывая, что он мечтает уладить это дело по-хорошему, но в случае неудачи за себя не ручается, переспрашивает: "Что значит буква Е?" И тогда я собираюсь с силами и выпаливаю: " Е значит Eric. У Эрика вчера был день рожденья, и мы решили сделать ему подарок. Вот, собственно, и все".
Итак, решение принято: я возвращаюсь домой. Я отыграл свой последний сет в Hacienda. В два часа ночи, когда вечеринка закончилась, я собрал пятнадцать человек друзей, посадил их в допотопный фургон моего брата Тьерри (Тьерри специально приехал из Франции, чтобы помочь мне с переездом), и мы все вместе отправились на Live the Dream — гигантский рейв, который подавался как одно из главных событий второго Лета любви. По доброй рейверской традиции мы сразу же сбились с пути и принялись плутать по не обозначенным ни на одной карте сельским дорогам. Все это, разумеется, сопровождалось обильным раскуриванием косяков. Через пapv часов, когда из-за марихуанового "задымления", усугублявшегося тяжелым запахом пота, мы уже с трудом соображали, кто мы и что мы, собственно, ищем, наш фургон победоносно въехал на огромную поляну, где среди щиплющих траву овечек и наспех разбитых палаток и шапито извивались во вдохновенном танце тысячи человеческих фигур. Пока мы со Стивом сводили пластинки в одном из шапито, Тьерри, прибившись к компании каких-то scallies, открывал для себя волшебные свойства весьма модной в тот год комбинации экстази и ЛСД. Ощущал он себя, надо полагать, эдакой Алисой в стране эйсид-хауса. С первыми лучами солнца на наши головы обрушился страшный ливень, а когда он закончился, в утреннее небо стали взмывать разноцветные монгольфьеры, и тысячи вымокших чумазых рейверов принялись как ненормальные носиться по поляне в надежде догнать эти сказочные шары. "Убойная комбинация" дождя, грязи, полумрака и воздушных шаров вывела из строя последние исправные нейроны Тьерри, так что теперь мой несчастный братец напоминал уже не Алису, а самого настоящего Сумасшедшего Шляпника… Вечеринка близилась к концу. Из динамиков несся голос Карли Саймон с ее вечным вопросом "Why?". Ветер развеивал эту бездонную меланхолию по окрестным полям и лугам, а я стоял и вопрошал: "Why… oh why… tell me, please, Carly, why do I really want to go back to Paris?"
Несмотря на то что моя диджейская карьера развивалась вполне успешно, меня не покидало ощущение, что англичан интересует не столько мое мастерство, сколько мое происхождение. Уже через несколько месяцев я понял, что, оставшись в Англии, никогда не избавлюсь от ярлыка "диджей-лягушатник", и начал серьезно подумывать о возвращении во Францию. Пускай мне придется тратить половину энергии на борьбу с хаусоненавистниками, рассуждал я, зато меня наконец перестанут воспринимать как какого-то диковинного зверька. Я стал разведывать обстановку на родине. Позвонил в Palace и в Loco. В последнем мне — как всегда очень любезно — ответили: "Конечно, можешь возвращаться. Тут все безумно соскучились по твоей дебильной музыке".
Глава четвертая Got the Bug
Я возвратился в Париж — в конце сентября 1989 года — с твердым намерением завязать с работой в ресторанах и полностью посвятить себя диджеингу. Это было смелое решение, учитывая, что во Франции в конце 80-х статус диджея не сильно отличался от статуса, скажем, бармена и, следовательно, найти достойно оплачиваемую диджейскую работу было практически невозможно. Я вернулся в La Locomotive и Palace: в первом мне поручили субботнюю рок-вечеринку, во втором — уже знакомый мне воскресный Gay Tea Dance. В Palace тогда как раз пришел новый арт-директор — Филипп Корти, который сразу же провозгласил своей целью омоложение потускневшего и дряблого лица клуба. 0 возврате в прошлое речи не было. Если в первой половине 80-х парижская ночная жизнь держалась на трех китах — деньгах, сексе и светских интригах, то к концу десятилетия приоритеты заметно сместились: успех клуба теперь зависел не столько от денежных вливаний, сколько от эффектной концепции, поиском которой и занялся Корти.
Диджей и промоутер Филипп Корти был живой легендой трэш-культуры. Этого дарня с начала 80-х боготворила вся клубная тусовка юга Франции. Корти усердно культивировал имидж законченного экстремала: он мог у всех на глазах спустить штаны и сделать скретч собственным членом; мог в самом разгаре вечеринки объявить состязание по бальным танцам; мог без предупреждения вышвырнуть из-за вертушек не понравившегося ему диджея; в конце концов, мог просто зайти в первый попавшийся клуб и устроить там крутой дебош. В своей диджейской ипостаси Корти был не менее дерзок и беспощаден. Рассказывают, что на весьма престижном чемпионате DMC по скретчингу, проходившем в античном театре Нима, он вверг публику в состояние глубокого шока, поставив, причем на максимальной громкости, песню Клода Франсуа… Излишне говорить, что для Palace, где, если не считать Gay Tea Dance, давно уже не происходило ничего достойного интереса (от вечеринки Pyramid к тому моменту остались одни воспоминания), приход такого человека на должность арт-директора означал радикальную смену курса.
Обновление музыкального репертуара клуба Корти поручил двум молодым диджеям: Давиду Гетта с "рексовской" рэп-вечеринки Unity — человеку, в котором искренняя преданность хип-хоп-движению странным образом уживалась с любовью к стразам и гламуру, — и вашему покорному слуге. Мы с Давидом поделили между собой вечеринки и принялись знакомить публику Palace с нашей любимой музыкой. Ни в какие жесткие стилистические рамки мы себя не загоняли. Во время наших сетов можно было услышать как "Fight the Power" Public Enemy, так и, скажем, "Promised Land" Джо Смута (Joe Smooth). К ноябрю 1989 года жизнь в Palace более или менее наладилась. На улицу Фобур Монмартр потянулись геи, гетеросексуалы, старлетки, светские львы и светские львицы. И все же, несмотря на все старания Корти, клубу по-прежнему не хватало самого главного — драйва.
Чтобы не обрывать все связи с английской музыкальной тусовкой, я продолжал регулярно играть на вечеринках, проходящих по ту сторону Ла-Манша. В пятницу утром, завершив ночной сет в Palace, я брал микрофон и, обращаясь к дюжине продержавшихся до победного конца тусовщиков, объявлял: "Я сейчас собираю пластинки и на все выходные уезжаю в Англию. Желающие могут присоединиться"…
И вот, запихнув пару-тройку вусмерть пьяных клабберов на заднее сиденье своего рейвмобиля, я сажусь за руль и беру курс на север. На душе у меня легко и празднично: что такое восемьсот километров для настоящего рейвера?! В пятницу вечером — вечеринка в Портсмуте. Тусуемся всю ночь и наутро едем дальше — в Манчестер. Перерывы на сон в нашем расписании не предусмотрены. В Манчестере все происходит по той же схеме, и в воскресенье утром мы опять в пути. В автомагнитоле крутится микс с только что закончившейся вечеринки. Впереди нас ждет третья и самая важная остановка — Ливерпуль. В ливерпульском Quadrant Park, как всегда, царит полный беспредел. Что ж, немного экстрима напоследок нам не помешает. К концу выходных мы с моими попутчиками напоминаем группу франкоговорящих зомби: ввалившиеся глаза; бледные лица; слипшиеся от пота, дыма и неопознанных жидких веществ волосы; полинявшие футболки. Мы забираемся в рейвмобиль, разгребаем накопившуюся за три дня кучу жестяных банок, окурков и недоеденных чипсов и дуем обратно в Париж… В таком режиме я прожил четыре года.
На заре 90-х парижское хаус-движение выглядело гораздо менее маргинальным и хаотичным, чем в мой "солдатский" период. Хаус медленно, но верно завоевывал позиции в андеграундных СМИ. Одним из первых его оплотов стала радиостанция FG 98.2, возглавляемая Анри Морелем (Henry Mauret). Первоначально станция называлась "Frequence Gay", то есть "гей-частота", но со временем от названия осталась одна аббревиатура. Эфир FG состоял из бесед со слушателями, передач о моде, литературе и искусстве и всевозможных ток-шоу, которые в совокупности образовывали хронику жизни парижской гей-коммьюнити. Первыми поставщиками хауса на гей-частоту стали диджеи-энтузиасты Гийом ла Тортю, Жером Пакман и Doctor Beat, он же Сол Рюссо (Saul Russo), директор пластиночного магазина ВРМ. На тот момент хаус уже звучал в большинстве гей-клубов столицы и воспринимался как часть голубой культуры, поэтому его появление на волнах FG выглядело вполне закономерным. Тем не менее, поскольку четкой музыкальной ориентации у радиостанции не было, в ее эфире по-прежнему можно было услышать и рок, и диско, и индастриал.
Важную роль в популяризации хауса и техно сыграла и радиостанция Жана-Франсуа Бизо Radio Nova, считавшаяся во Франции главным авторитетом в области некоммерческой музыки. Первым детищем Бизо был культовый журнал Actuel, еще в 70-е годы прививший французам вкус к гонзо-журналистике. Стиль и философия Actuel и легли в основу созданной в 1981 году Radio Nova, которую сам Бизо рассматривал как аудиопродолжение журнала. Больше всего Nova напоминала музыкальноинтеллектуальную лабораторию по тестированию оригинальных идей Бизо и его соратников. Журналисты Nova давали слово носителям уличной культуры, проповедовали смешение жанров и всегда первыми знакомили французов с новейшими музыкальными тенденциями, особое внимание уделяя различным производным соула, фанка и в принципе любой черной музыки. При этом они оставались крайне требовательными к качеству музыкального материала, что стоило им постоянных упреков в снобизме. Если разобраться, Nova выполняла ту самую просветительскую работу, от которой упорно отлынивали государственные радиостанции, не видевшие разницы между исследованием новых веяний и потаканием подростковому вкусу. Nova же была открыта всему свежему и необычному. Достаточно было на секунду заглянуть в ее студию, чтобы почувствовать ту ни с чем не сравнимую вибрацию, которая исходила от ее журналистов. Это были абсолютно разные люди, но всех их объединяла бесконечная любовь к музыке и готовность двадцать четыре часа в сутки трудиться на благо своей радиостанции. В обмен на что радиостанция предоставляла им практически неограниченную творческую свободу.
Меня на Radio Nova привел один из программных директоров станции Лоик Дюри (Loik Dury) — матерый радиоволк и большой знаток негритянской музыки. Я сразу же почувствовал себя в своей стихии. Мне безумно импонировало то, что к музыке, да и к культуре в целом, здесь подходят не как к какому-то продукту потребления, а как к высшей ценности, которую нужно отстаивать — отстаивать настойчиво и страстно, но не впадая при этом в оголтелый фанатизм. Я познакомился с интереснейшими людьми: бунтарем и провокатором Ариэлем Вицманом (Ariel Wizman), папой французского хип-хопа Dee Nasty, пионером музыки регги Lord Zeljko, мисс world music Бинту Симпоре (Bintou Simpore), знатоком джаза и латиноамериканской музыки Реми Кольпа-Копулем (Remy Kolpa Kopoul), неподражаемым DJ Gilb'r и многими другими. Вскоре у меня появилась своя еженедельная передача под названием Paradise Garage.
Как-то раз во время моего эфира в студию вошел заметно поддавший субъект с безумным взглядом, всклокоченной шевелюрой и дымящейся сигаретой в зубах. Субъект встал у меня за спиной и принялся наблюдать за моими действиями. Я продолжил сводить свои диски, но стоило мне потянуться к микрофону, как над ухом у меня раздалось недовольное: "Лучше бы уж ты молчал… Неужели тебя до сих пор не научили обращаться с микрофоном?!" Это была моя первая личная встреча с Жаном-Франсуа Бизо — живой легендой и ходячей энциклопедией (энциклопедия, ведущая деструктивный образ жизни — такое, согласитесь, встречается не каждый день). С тех пор мне довелось поиграть на многих парижских радиостанциях, но сердце всегда звало меня обратно на Radio Nova — так велико было мое преклонение перед этим человеком.
В 1990 году французское хаус-движение вышло на принципиально новый уровень: диджеи Эрик Овиль (Eric Hauville) и Жоаким Гарро (Joachim Garraud — впоследствии продюсер платиновых дисков Давида Гетта) запустили на парижских частотах первую стопроцентно танцевальную радиостанцию — радио Maxximum. Это был грандиозный проект — как с точки зрения затраченных на него средств, так и с точки зрения его наполнения.
Maxximum охватывал практически весь спектр танцевальной электронной музыки — от "умного" техно, представленного такими группами, как Orbital и LFO, до коммерческих проектов, наподобие Adeva или Blackbox. Я на радио Maxximum отвечал за субботнюю передачу Rave Max, представлявшую собой четырехчасовой обзор техно- и хаус-новинок. Передача записывалась в домашних условиях на катушечный магнитофон Revox, и единственным правилом, которого я неукоснительно придерживался, было никогда не ставить дважды один и тот же трек.
Стремительное шествие хауса по клубам и радиоволнам подстегнуло спрос на пластинки с новой танцевальной музыкой, и во всех продвинутых музыкальных магазинах (ВРМ, US Imports, Danceteria, TSF) появился широкий ассортимент импортных хаус-релизов. Слова "хаус" и "техно" все чаще мелькали во французской прессе. Дидье Лестрад ("Либерасьон" и "Gai Pied") и Венсан Борель (Actuel) публиковали на страницах своих изданий глубокие аналитические статьи, в которых вполне убедительно защищали электронную музыку от нападок своих более консервативных коллег.
Благодаря вечеринкам в Loco и Palace я находился в самой гуще клубной жизни, но этого мне было мало. Мне хотелось самому решать, как выстраивать отношения с публикой; мне хотелось чувствовать себя отцом*большой клубной семьи. Иными словами, мне хотелось иметь свою собственную вечеринку. Искусство организации клубной вечеринки — это то же искусство приема гостей. Выбираете ли вы пластинки для сета, раскладываете ли вы столовые приборы для праздничного ужина, цель у вас одна — сделать людям приятное. Если вы решили заняться этим искусством, будьте готовы к серьезным материальным жертвам. Ведь пригласить иностранного диджея, записать подарочную кассету с миксом, накрыть красивый стол — все это стоит денег, и немалых. Но, уверяю вас, в конечном итоге вы не останетесь в накладе, потому что даже в самом диком клубном угаре публика сможет отличить искренность от фальши. M если она почувствует, что вы искренни в своем желании сделать ей приятное, она ответит вам безграничной преданностью и любовью. А это важнее любых денег.
Я придумал концепцию будущей вечеринки ("английская ночь", объединяющая лучшие черты известных мне манчестерских вечеринок) и принялся искать подходящий клуб. Директор ВРМ Сол Рюссо посоветовал мне сходить в заведение под названием La Luna, располагавшееся в двух шагах от его магазина, на рю Келлер. La Luna оказалась камерным двухэтажным гей-клубом с невысокими потолками и тусклым освещением. Нижний зал был рассчитан на сто пятьдесят человек худощавого телосложения. Для моей вечеринки это был идеальный вариант. Я познакомился с директором клуба Кристианом Ваннье, изложил ему свою программу и сразу же получил разрешение на пробную вечеринку. Следующие дни были потрачены на то, чтобы напечатать флайеры и раскидать их по барам и музыкальным магазинам квартала Маре.
На премьеру Тгах (так я окрестил свою вечеринку), состоявшуюся 30 ноября 1989 года, пришла традиционная для Luna голубая публика, но вскоре подтянулись и гетеросексуалы. Первыми завсегдатаями Тгах стали несколько английских студентов, среди которых была скромная, но при этом очень грациозно двигавшая бедрами девушка — моя будущая жена. Слух о Тгах быстро разнесся по всему Парижу, и на улицу Келлер устремились толпы тусовщиков, мечтавших, не выезжая за пределы Франции, окунуться в атмосферу настоящего манчестерского клуба. На моей вечеринке играли такие диджеи, как Грэм Парк, Джон Да Силва, Стив Уильяме, и такие группы, как Candy Flip, Man Machine, Dream Frequency и Happy Mondays. Желанными гостями на Тгах были и художники-граффитисты — на время вечеринки стены клуба оказывались в их полном распоряжении. Я использовал свои регулярные поездки в Англию для раскрутки Тгах среди манчестерских и ливерпульских рейверов, в чем мне, кстати, помогали многие местные диджеи. В результате на La Luna свалилась совершенно не соответствующая ее скромным возможностям международная слава. Английские рейверы, приезжавшие из-за Ла-Манша специально ради похода на Тгах, ожидали увидеть "нормальный" клуб на пару-тройку тысяч человек, и испытывали глубочайший шок, когда понимали, что крошечное двухэтажное заведеньице на улице Келлер — это и есть "та самая La Luna". Помню, как какой-то парень стоял перед входной дверью и в растерянности бормотал: "Ну хорошо, допустим, это вход, но где же сам клуб?" И в этом была своя прелесть.
После запуска Тгах в моей жизни начали одно за другим происходить важные события, каждое из которых влекло за собой новые, не менее важные события, и так до бесконечности. Все началось с того, что на одной из вечеринок в La Luna я познакомился с фотографом Жаном-Клодом Лагрезом — одним из самых влиятельных персонажей во французской модной тусовке, а кроме того, духовным учеником королевы нью-йоркских трансвеститов Сьюзан Бартш. В тот момент Жан-Клод как раз запускал в Loco вечеринку French Kiss, которая по его замыслу должна была приобщить парижан к культуре drag queens и go-go's. Нам с Гийомом Ла Тортю было предложено стать резидентами French Kiss. На первой же вечеринке Лагрез представил на суд публики, состоявшей из геев, деятелей фэшн-индустрии и кучки приблудившихся рокеров, причудливое и шокирующее шоу. А вскоре после этого было решено устроить "выездную" French Kiss в La Baia Imperial — том самом La Baia Imperial в Римини, в котором я когда-то испытал свой первый клубный шок! При одной мысли о возвращении в это место на меня нахлынули сладостные воспоминания: вспышки лазеров, озаряющие небо под звуки "I Feel Love"; стикеры с изображением Мэрилин Монро, расклеенные по всей моей квартире… Но в Римини меня постигло горькое разочарование. La Baia Imperial оказался типичным итальянским клубом с вычурным интерьером и расфуфыренной публикой — иными словами, воплощением того, что я больше всего ненавидел в ночной жизни. Компенсацией за понесенный мною в результате этого открытия моральный ущерб стала встреча с владельцем дижонского рок-клуба An-Fer Фредом Дюмели, который в тот момент тоже находился в Римини. Фред спросил, не хочу ли я поиграть в его заведении. Я недолго думая ответил "да".
Playlist La Luna
Homeboy Hippy & Funky Dread
Total Confusion
S.H.I.E.L.A.
Mr Policeman
Man Machine
Man Machine
Shaded of Rhythm
Sweet Sensation
Ce Ce Rogers
Someday
Dream Frequence
Live the Dream
Мое первое выступление в Дижоне состоялось в июне 1990 года. An-Fer оказался довольно большим двухэтажным клубом с танцполом примерно такого же размера, как в парижском Rex. Наверху располагался небольшой уютный зальчик, до которого почти не долетал шум с первого этажа. Меня познакомили с работниками клуба, в том числе с совсем молоденьким осветителем, которому вскоре предстояло прославиться под именем DJ Tonio. Я решил не делать дижонским рокерам никаких поблажек и предложил им свою обычную техно- и хаус-подборку. Рокеры, явно не ожидавшие такого подвоха, с недовольным видом пили пиво, кричали: "Cure давай! U2 давай!" — и, видя, что я не реагирую на их требования, один за другим покидали зал. В итоге меньше чем за час моя аудитория сократилась с восьмисот человек до ста: остались геи и самые любознательные из местных рокеров. К концу вечеринки я был так пьян, что, когда опечаленный Фред спросил меня: "Ну как?", бодро ответил: "Нормально! Давай попробуем еще раз через месяц!" В течение последующих пяти лет я раз в месяц обязательно приезжал в Дижон.
В промоутерском деле есть одно золотое правило: как только вечеринка полностью оправдает возлагавшиеся на нее надежды, ее следует свернуть. Так что в июле 1990 года я провел прощальную Тгах и отбыл на Ибицу, где мне вместе с DJ Sasha предстояло сыграть на рейве Re-Live the Dream. Хедлайнером в том году была манчестерская электронная группа 808 State, в которую входили визионер Джеральд Симпсон (Gerald Simpson), также известный как A Guy Called Gerald, хозяин пластиночного магазина Eastern Block и лейбла Creed Мартин Прайс (Martin Price) и Грэм Мэсси (Graham Massey). Летом 1990 года 808 State как раз пожинали плоды успеха, который им принес их мегахит "Pacific State".
От той поездки на Ибицу у меня осталось ощущение тяжелейшего похмелья. Это были четыре сумасшедших дня, прожитых в постоянном движении: с рейва на пляж, с пляжа в клуб, из клуба снова на рейв… Остров кишел английскими подростками, приехавшими сюда в надежде обрести "рейверский рай на земле". Что-то в атмосфере, царившей на Ибице, напоминало мне второе Лето любви, со времен которого я никогда так явственно не ощущал чудодейственную силу эйсид-хауса.
Как-то само собой получилось так, что за неполный год, прошедший с моего возвращения в Париж, я осуществил все свои цели: научился зарабатывать на жизнь диджеингом, создал собственную вечеринку и органично вписался в динамику парижского музыкального процесса. Все мое существование сводилось к диджеингу. Ни на что другое у меня попросту не оставалось времени. И тем не менее, несмотря на непрекращающуюся гонку с вечеринки на вечеринку и на полную неразбериху в отношениях с девушками, друзьями и родственниками, несмотря на смешные гонорары и жилищные проблемы (моя тридцатиметровая комната уже трещала по швам, а пластинки все прибывали и прибывали), несмотря на макаронную "диету" и хроническое недосыпание — так вот, несмотря на все эти неурядицы, я был совершенно счастливым человеком! Заниматься любимым делом и чувствовать, что каждый прожитый тобой день наполнен смыслом — чего еще может желать двадцатичетырехлетний парень?! За каких-то три года я проделал путь от посольского лакея до диджея, прописанного на пяти вечеринках, и, конечно же, не собирался останавливаться на достигнутом. То что мой жизненный ритм не совпадает с ритмом окружающих меня людей и то что последние считают меня потерянным для общества, не казалось мне чем-то ужасным.
А когда, возвращаясь домой после трудовой ночи, я видел всех этих бедолаг, спешащих на глубоко безразличную им работу, я и вовсе чувствовал себя самым благополучным человеком на свете!
Даже постоянные переживания родных по поводу моего, как им казалось, неопределенного будущего уже никак не сказывались на моем существовании, поскольку я был совершеннолетним и материально независимым. "Нет, мама, музыка — это не мимолетное увлечение! Это на всю жизнь!"
В те годы я слишком высоко ценил свою личную свободу, чтобы хотя бы немного поступиться ею ради другого человека. "Пускай сами под меня подстраиваются, если им так надо!" — рассуждал я со свойственной юности жестокостью. Все изменилось в тот день, когда в моей жизни появилась женщина. Я сразу почувствовал, что любви слишком тесно в том узком мирке, в который я сам себя загнал. Чтобы связать свою жизнь с диджеем, нужно, наверное, обладать определенной страстью к самопожертвованию.
Думаю, все девушки и жены диджеев понимают, о чем я говорю. Ну разве это жизнь, когда твой парень куда-то пропадает на все выходные и праздники и когда в твоей квартире нельзя и шагу ступить, чтобы не споткнуться о ящик с пластинками?! Хотя не исключено, что есть и такие девушки, которые ловят кайф оттого, что их каждый день в семь утра будит потный и нетрезвый тип, клянущийся в любви до гроба ненормально прокуренным голосом. Можно успокаивать себя тем, что таков удел всех женщин, чьи мужья работают по ночам. Правда, я не уверен, что ночные сторожа и дальнобойщики заканчивают свою смену в текиловом угаре в компании нескольких сотен экзальтированных девиц и нежных девочек-подростков, извивающихся под звуки "Can You Feel It"… Что уж тут скрывать: жизнь диджея полна соблазнов.
Однажды в La Luna ко мне подошел какой-то тип, представившийся Морисом из Нью-Йорка: "Меня в Нью-Йорке все знают, — пояснил он. — У меня там несколько вечеринок. Если хочешь, я могу устроить тебе настоящие гастроли". Как всякий нормальный европейский диджей, я всегда мечтал сыграть в Нью-Йорке. Наверное, ни с одним другим городом в музыкальной мифологии не связано столько легенд. Paradise Garage Ларри Левана, Loft Дэвида Манкузо — эти имена и названия странным образом ласкают слух юного диджея, никогда не покидавшего пределы Европы… Недолго думая, я купил билет на самолет (предполагалось, что деньги Морис вернет мне уже на месте) и отправился в Нью-Йорк. Я был молод и доверчив. Я не мог предположить, что кому-то захочется меня обмануть.
Я прилетел. В аэропорту Кеннеди меня никто не встречает. Бросаюсь звонить Морису.
Морис моему звонку явно не рад: "Вчера всю ночь гуляли. Только я заснул, и тут ты звонишь. Чтоб тебя… Ну ладно, так и быть, сейчас приеду". Проходит два часа. Я начинаю нервничать. Наконец в толпе появляется заплывшая физиономия Мориса. "Слушай, я забыл забронировать гостиницу. Так что поживешь у меня, так будет даже лучше" — судя по тону, с которым это сказано, никакие возражения не принимаются. Мы берем такси и едем к Морису в Гринвич-Виллидж.
В выделенной мне Морисом комнате живут тараканы и пахнет общественным сортиром. Мне это уже не нравится. "Послушай, Морис, — говорю я, — я так и быть поживу у тебя один день, но завтра ты отвезешь меня в гостиницу, хорошо?" Морис начинает увиливать: "Да ты не волнуйся, все будет круто, вечеринки будут просто обалденные, вот увидишь. Кстати, ты не мог бы одолжить мне деньжат, а то мне надо еще за афиши заплатить. Я тебе сразу же отдам, не бойся…" Я чувствую, что все это не к добру, но решаю ничего не предпринимать. Весь следующий день проходит в прогулках по Сохо. Мой бумажник худеет с катастрофической скоростью, но Морис даже не заикается о деньгах и продолжает пудрить мне мозги: "Сегодня будет одна классная вечеринка. Давай сходим. Заодно устроим тебе промоушн: я уже подготовил флайеры и афиши". В клубе, где проходит "классная вечеринка", нас, конечно же, никто не ждет. Я начинаю подозревать, что в Нью-Йорке Мориса не знает ни одна душа. Битый час мы околачиваемся у входа и наблюдаем за тем, как фэйс-контролер с довольным видом глядит на толпу окоченевших людей. Тех немногих, кто соответствует каким-то одному ему известным критериям, он приглашает войти презрительным кивком головы. На редкость противное зрелище… Наконец мы чудом проникаем внутрь, и тут уже все становится на свои места: в клубе даже не пахнет флайерами и афишами моей вечеринки. На сцене клуба одетые по моде XVII века актеры развлекают публику живыми картинами по мотивам гринуэевского "Контракта рисовальщика"…
Утром следующего дня я застаю Мориса за перетряхиванием моих сумок. Теперь у меня уже нет никаких сомнений в том, что я имею дело с законченным мифоманом и кокаинистом. День опять проходит в праздных шатаниях по Нью-Йорку. Наконец наступает вечер, и я отправляюсь в Nells, где должна состояться моя первая нью-йоркская вечеринка. В клубе от силы три десятка человек. Ничего не поделаешь: придется играть для пустого зала. Через полчаса я уже зеваю от скуки и чувствую, что вот-вот свалюсь прямо на свои вертушки, но тут ко мне подходит совершенно лысый молодой человек. Мы знакомимся. Молодого человека зовут Моби, он владелец лейбла Instinct и автор прогремевшего на всю Европу хита "Co". После вечеринки Моби приглашает меня к себе в студию, где мы и проводим остаток ночи. Наутро я вытряхиваю из бумажника и карманов последние деньги и отправляюсь в гостиницу, потому что спать в Морисовом свинарнике у меня уже нет никакого желания. Выспавшись, я все-таки решаю заглянуть к Морису — вдруг он отдаст мне хотя бы часть моих денег? Как бы не так. Я начинаю строить планы жестокой расправы над своим обидчиком, но потом решаю, что это все равно ничего не изменит, и дарую ему жизнь. Вечером меня ждет еще одно разочарование: моя вечеринка в клубе Nick's Groove no непонятной причине была отменена дирекцией клуба. Я чувствую себя полным идиотом. Всю жизнь был уверен, что такие подонки, как Морис, встречаются только во второсортных боевиках. Я собираюсь высказать ему все, что о нем думаю, но обнаруживаю, что он уже куда-то исчез… Назавтра у меня запланировано выступление в Red Zone — гигантском клубе на две тысячи человек. Несмотря на горький опыт последних дней, интуиция подсказывает мне, что в Red Zone все пройдет замечательно. Ума не приложу, как этот наркоман Морис сумел втереться в доверие к владельцам такого крутого клуба.
Придя в Red Zone, я обнаруживаю шесть человек на танцполе (среди которых все тот же Моби) и примерно столько же человек в диджейской кабине. Значит, моя интуиция меня обманула, и я снова остался в дураках. В два утра становится ясно, что продолжать вечеринку не имеет никакого смысла. Разъяренные хозяева клуба бросаются на поиски Мориса, но мерзавца уже и след простыл.
В кошельке у меня пусто, так что ночевать придется на улице. Я поудобнее устраиваюсь на своем кейсе с дисками, прижимаю к себе мешок с одеждой и начинаю морально готовиться к неминуемой встрече с шайкой малолетних хулиганов. Сейчас они вынырнут из-за угла, отнимут у меня мое жалкое имущество, пару раз играючи пырнут меня ножом и скроются в темноте, оставив мое тело на растерзание бездомным псам… Вдруг я чувствую на себе чей-то взгляд, поднимаю глаза и вижу, что с противоположной стороны улицы на меня пристально смотрит какой-то подозрительного вида парень. Ну все, мне конец. Парень переходит дорогу, останавливается передо мной и говорит: "Привет, я тебя только что видел в клубе". "Правда? А я тебя что-то не заметил", — отвечаю я. Видимо, с жизнью я распрощался преждевременно. Выслушав мой слезный рассказ, парень приглашает меня к себе домой и обещает одолжить денег на обратный билет. Не знаю, чем бы закончилась моя нью-йоркская эпопея, если б не этот парень. Я никогда не забуду того, что он для меня сделал, и считаю своим долгом посвятить ему эти несколько строчек.
Я вернулся в Париж без гроша в кармане и с неприятным осадком на душе. Всем, кто меня спрашивал "Ну как там, в Нью-Йорке?", я отвечал: "Погано! Меня прокатили, как последнего лоха. Больше я в этот мерзкий город ни ногой!" Зато, благодаря этой поездке, я усвоил одно из главных правил выживания в клубных джунглях: отправляться на гастроли, не имея на руках обратного билета, гостиничной брони и денежного аванса, равносильно самоубийству.
Благодаря успеху вечеринок, на которых я играл, а также благодаря протекции Жана-Клода Лагреза, я постоянно получал новые деловые предложения, причем не только от клубов. Так, мне довелось выступить на праздновавшемся в Pre Catalan дне рождения Элтона Джона, а также на разогреве у нью-йоркской группы Deee-Lite, чей суперхит "Groove is in the Heart" тогда вращался во всех чартах Америки и Европы. О последнем мероприятии стоит рассказать поподробнее. Концерт состоялся в ноябре 1990 года в парижском зале La Cigale. Воспитанные на хип-хопе и хаусе ребята из Deee-Lite потребовали, чтобы в первом отделении выступили французская рэп-группа и французский хаус-диджей. Требование это повергло организаторов в полное недоумение — во Франции в те годы почему-то было принято считать, что у хип-хопа и хауса (соответственно, "музыка шпаны" и "музыка педиков") не может быть никаких точек соприкосновения. Это была абсурдная ситуация, особенно если учитывать, что оба жанра ведут свою родословную от музыки Kraftwerk: отголоски последней можно услышать как в "Planet Rock" Afrika Bambaata, так и в детройтском техно.
Тем не менее просьба Deee-Lite была удовлетворена, и первое отделение поделили между собой рэп-группа Supreme 93 (она же NTM) и ваш покорный слуга. Атмосфера в зале была хуже некуда: би-бои и геи изо всех сил делали вид, что не замечают друг друга, и все равно в их взглядах и движениях ощущалась какая-то неловкость и напряженность. Не успели Джоуи Старр (Joey Starr) и Кул Шен (Kool Shen) из Supreme 93 допеть последнюю песню, как би-бои косяками потянулись к выходу, и, когда я заступил за вертушки, в зале оставались одни геи и, сочувствующая им прогрессивная молодежь.
Примерно в это же время, то есть в конце 1990 года, я почувствовал, что должен больше внимания уделять просвещению провинциальной публики. Начал я с того, что запустил в уже знакомом мне дижонском An-Fer ежемесячную вечеринку New Age, которая, по моему замыслу, должна была стать продолжением вечеринок в La Luna. У завсегдатаев An-Fer музыка, которую я крутил, не вызывала большого восторга, что, однако, не мешало им толпами приходить на New Age и с упрямством, достойным лучшего применения, требовать, чтобы я поставил какую-нибудь песню Simple Minds. Благодаря Loco, у меня уже была отработанная технология усмирения рокерского контингента: в начале вечеринки я крутил манчестерские группы Stone Roses, EMF и Happy Mondays, которые, несмотря на свою явную принадлежность к рейв-движению, играли преимущественно гитарную музыку и, следовательно, не вызывали резкого отторжения у поклонников рока и попа; и только после такой основательной подготовки я начинал аккуратно "переманивать" своих слушателей из царства косух и длинных патлов в царство электронной музыки. Вскоре у моей вечеринки появились свои преданные поклонники. А в городе Безансоне даже образовался своего рода фан-клуб New Age, который каждый месяц в полном составе приезжал в Дижон. Заканчивались все мои вечеринки ритуалом под названием "свихнувшийся эйсид", который заключался в том, что я доставал из фонотеки клуба первый попавшийся диск (как правило, это было что-нибудь вроде "Alto Papa Tango Charlie" Морта Шумана) и принимался безбожно издеваться над ним, параллельно крича в микрофон "Хочу пива!" Через несколько месяцев публика An-Fer уже крепко сидела на техно и хаусе.
Однажды во время моего сета какой-то парень попросил меня поставить "Битлз". Я решил, что оставлять такие вещи безнаказанными нельзя, выключил музыку, схватил микрофон и обратился к публике: "Угадайте, о чем меня только что попросил этот молодой человек… Ни за что не угадаете… Он попросил меня поставить "Битлз"!!!" По залу прокатилось громогласное "Фуууууууу". "Стыд и срам", "лох позорный", "вон отсюда" кричали восемьсот возмущенных дижонских клабберов. Битломан с ненавистью посмотрел мне прямо в глаза, пробормотал "Да пошел ты!" и отправился домой переслушивать "Let It Be". После этого случая меня уже никто не просил поставить "Битлз".
Благодаря New Age, обо мне заговорили в провинции, и я стал регулярно играть в Монпелье, Марселе, Лионе и в разных богом забытых городишках, жители которых, как правило, даже не знали о существовании такой вещи, как техно. Во время одной из этих поездок я познакомился с экстравагантным молодым человеком по имени Александр Херкоммер, который занимался организацией гей-вечеринок в Швейцарии. Он пригласил меня поиграть в лозаннском клубе MAD (за этой аббревиатурой скрывалось оригинальное название клуба — "Moulin a Danse", то есть "Танцевальная мельница") — заведении, репутации которого позавидовал бы даже Palace времен Фабриса Эмаэра. MAD основали в 1984 году два ярких представителя поколения детей цветов — супруги Паскаль и Моник Дюффар. Он — бывший пианист-вундеркинд, аккомпанировавший Жильберу Беко; она — профессиональная светская львица. Первое время клуб был прописан в Женеве. Кстати, с формальной точки зрения MAD вовсе не был клубом: не желая подчиняться строгим правилам, регламентирующим швейцарскую ночную жизнь, Дюффары зарегистрировали свое детище как кружок бальных танцев. Каждый клиент MAD покупал годовой абонемент, в который входила еженедельная диско-вечеринка и около двадцати пяти концертов таких групп и исполнителей, как Les Communards, Клод Нугаро (Claude Nougaro), Ален Башунг (Alain Bashung), Magma, Mano Negra, Депрож (Desproges), Джанго Эдварде (Jango Edwards) и так далее. Через какое-то время MAD покинул Женеву и обосновался в лозаннском квартале Флон, в здании бывшего вокзала. Недвижимостью в квартале Флон распоряжалась компания под названием L0. В результате переговоров с L0 Паскаль Дюффар добился того, что всем остальным заведениям, расположенным на территории квартала, было запрещено иметь в своих стенах больше одной вертушки. Это была серьезная победа… Однако в 1987 году L0 задумала восстановить флонский вокзал, и клубу опять пришлось сменить место жительства. На этот раз выбор Дюффаров пал на огромное здание складского типа в самом центре Лозанны. Клуб удался на славу. В подвале разместился маленький зальчик, прозванный "приемной", на первом этаже — зал на две тысячи человек, способный менять конфигурацию в зависимости от характера вечеринки. Этажом выше расположился кинозал, а также чиллаут, в котором натанцевавшихся посетителей ждали выстроенные в шеренгу лежаки. И наконец, последний, третий этаж был отведен под ресторан и служебные помещения.
В 1987 году во Французской Швейцарии уже вовсю проводились хаусвечеринки. Ходила на них (как и во Франции) экстравагантная и преимущественно голубая публика. Первым диджеем, предложившим швейцарцам хаус-сет, был американец Тони Хамфрис (произошло это счастливое событие в городе Монтре, в концертном зале Casino), однако очень скоро в стране появилась своя собственная хаус-сцена во главе с такими персонажами, как Стефан Мандракс (Stephan Mandrax), Djamin и Willo.
Вечеринки проходили не только в клубах, но и на заброшенных складах и даже на горных вершинах, куда публику доставляли по канатной дороге.
Кроме того, швейцарские тусовщики внимательно следили за тем, что происходит в клубах соседней Италии, а многие и вовсе проводили все свое свободное время в бесконечных переездах из Лозанны в Римини и обратно. MAD, со дня своего основания неукоснительно придерживавшийся принципа музыкального эклектизма, в 1988 году пал под натиском модных веяний и целиком перешел во власть техно и хауса. При этом в нем все время происходило что-нибудь необычное. Так, случайно зашедший сюда человек вполне мог стать свидетелем импровизированного выступления танцовщиков из труппы Мориса Бежара (труппа базировалась рядом с клубом), а то и участником хэппенинга скандальной Сьюзан Бартш.
Мое знакомство с горячей "мадовской" публикой состоялось 16 декабря 1990 года. Когда вечеринка закончилась, мне передали, что со мной желает побеседовать начальство. Я поднялся на третий этаж, прошел через ресторан и оказался в служебных помещениях клуба, где меня встретили одетые во все белое господин и госпожа Дюффар. Мы поприветствовали друг друга, Паскаль задал мне какой-то вопрос, я что-то ответил и в ту же секунду почувствовал чудесный, но совершенно непрошеный приход ("О черт, а ведь прошло уже столько времени!"). Мне пришлось мобилизовать все свои моральные силы, чтобы не выдать своего состояния. Беседа продолжалась еще несколько минут. Наконец Дюффары вручили мне мой гонорар, я вежливо поблагодарил их и безумно довольный собой ("Они так ничего и не заметили!") выбежал из кабинета.
В следующий раз я столкнулся с четой Дюффар накануне первого сета, который мне предстояло отыграть уже в качестве резидента MAD (именно тогда в моей профессиональной жизни сложилась ось Париж-Дижон-Лозанна). Моник и Паскаль встретили меня очень радушно. И тут же сообщили, что впредь будут расплачиваться со мной до, а не после вечеринок: "Мы подумали, вам так будет легче. Да, Лоран?"… Да уж, наивно было полагать, что мне под силу одурачить двух настоящих детей цветов. Эти ребята сами кого угодно научат симулировать вменяемость.
В июне 1990 года во дворах французских школ замелькали завезенные из Англии смайлики.
Круг поклонников техно постоянно ширился, появлялись новые диджеи и промоутеры, в Париже постепенно налаживалась подпольная система рейвов…
Летом 1990 года в Армянском колледже и в форте города Шампиньи стали проходить техно-вечеринки "английского типа", за организацию которых отвечали промоутеры Маню Казана и Люк Бертаньоль. За каких-то три месяца "аудитория" этих мероприятий выросла с шестисот человек до двух тысяч, то есть более чем в три раза. 8 декабря в Ле Бурже состоялся первый праздник радио Maxximum, хедлайнерами которого стали выписанные из Англии LFO и Nightmares on Wax. А вскоре после этого очаг рейв-культуры переместился в парижский пригород Монтрей — один из бастионов французской коммунистической партии.
В середине шестидесятых годов в Монтрее был возведен первый в Европе многоэтажный промышленный комплекс — Мозинор. Комплекс был оборудован огромными пандусами, позволявшими тяжеловозам взмывать чуть ли не под самое небо, и увенчан просторной террасой, призванной в будние дни служить рабочей столовой, а по выходным превращаться в центр семейного досуга. Но, к сожалению, проект оказался слишком смелым для своей эпохи: консервативные французские промышленники не спешили обживать этажи Мозинора, цеха и складские помещения простаивали… Все закончилось тем, что комплекс перешел по наследству к мэрии Монтрея, которая о нем через какое-то время благополучно забыла.
Человека, благодаря которому Мозинор стал центром рейв-культуры, звали Эрик Напора. В ту пору Эрик находился в постоянном поиске помещений для корпоративных вечеринок и презентаций, организацией которых он зарабатывал себе на жизнь. Однажды он со своими помощниками отправился в Монтрей и совершенно случайно обнаружил последний этаж Мозинора. Место так понравилось Напора, что он решил прибрать его к рукам. В конце 1990 года помещение на одну ночь снял уже знакомый нам промоутер Люк Бертаньоль. Случилось так, что на рейв пришло меньше людей, чем ожидалось, и организаторы во главе с Люком вылетели в трубу. Но Эрик, для которого знакомство с рейв-культурой стало настоящим потрясением, согласился простить Люку долг за аренду при условии, что тот будет и дальше проводить рейвы в Мозиноре и будет привлекать его, Эрика, к их организации. Люк согласился и сразу же занялся раскруткой нового пространства. За время проведения вечеринок в Шампиньи он успел собрать солидную базу данных парижских рейверов, по которой и была проведена рассылка информации о Мозиноре. Технология сработала. Первая вечеринка прошла с большим успехом, а уже на вторую в Мозинор приехало почти две с половиной тысячи человек. Чтобы справиться с наплывом посетителей, Люку пришлось открыть террасу, а затем "узурпировать" несколько смежных с ней помещений.
С 1991-го по 1994 год бюджет вечеринки вырос в три раза. Звуковое оборудование стали привозить из Голландии, световое — из Англии, а диджеев — со всей Европы. При этом в Мозиноре строго следили за соблюдением французского закона: через OOO "CosmosFactory" организаторы вечеринок покупали лицензию на продажу алкоголя, нанимали профессиональных охранников и подавали информацию о своих мероприятиях в префектуру полиции. Оказалось, что, вопреки расхожему мнению, полная легальность нисколько не вредит магической атмосфере вечеринки.
Очарование Мозинора складывалось из совсем других, на первый взгляд незначительных, деталей. Чего стоил один восьмидесятилетний дедушка, самозабвенно танцевавший в окружении юных рейверов? Резиденты Мозинора Франческо Фарфа (Francesco Farfa) и Жером Пакман обычно оставались на своих рабочих местах до двенадцати часов дня. К восьми утра в Мозинор начинали подтягиваться новые посетители, приносившие с собой фрукты и круассаны. Рейверы завтракали, а потом выбирались на крышу и наслаждались первыми лучами солнца, тогда как
Здесь я вынужден признаться, что ни в Шампаньи, ни в Мозиноре меня особенно не жаловали. Это была абсолютно глупая ситуация: люди вроде Казана и Бертаньоля считали меня чересчур "гейским" диджеем, в то время как сами геи — завсегдатаи La Luna и Palace — постоянно сетовали на то, что я пускаю на свои вечеринки слишком много девушек. Плюс к этому всегда находился кто-нибудь, кому не нравились мои слишком близкие связи с Англией. "Отправляйся к своим педикам и пожирателям овсянки, а здесь больше не появляйся!" — сколько раз мне приходилось выслушивать подобные оскорбления. Конечно, такие слова больно ранят, но со временем у меня вырос защитный панцирь, и я просто перестал обращать внимание на все эти выпады в свой адрес. И все же без слез смотреть на то, как только-только сформировавшаяся парижская хаус-сцена постепенно увязает в бессмысленных междоусобных войнах, я не мог. Стоило кому-нибудь заявить о себе чуть громче остальных, как его сразу же клеймили позором и обзывали "продажной тварью". Наверно у французов это в крови. Если во всем остальном мире артисты сначала находят поддержку у себя на родине, а уже потом — за границей/то во Франции малейший намек на успех кажется людям чем-то страшно подозрительным. Такая вот у нас страна, и ничего с этим не поделаешь…
Я часто вспоминал об увиденном мною в одном из клубов Нью-Йорка спектакле из живых картин. В какой-то момент мне захотелось самому поэкспериментировать с этим жанром, и я запустил в Palace вечеринку под названием 0Z. Моим напарником стал диджей Дип (DJ Deep) — стеснительный студент-меломан, с которым я познакомился в La Luna. Премьера 0Z состоялась 23 мая 1991 года. Всю первую половину вечеринки сцену от зрителей отделял плотный занавес, на который проецировался циферблат часов. Ровно в 1.30 — под микс из музыки к "Волшебнику страны Оз" и "2001: Космическая одиссея" — занавес раздвигался, включались дымовые машины, и перед публикой возникали декорации из бумажных лиц и цветов, которые специально для вечеринки изготавливала одна моя английская знакомая.
В связи с частыми "сменами власти" финансовое положение Palace постоянно ухудшалось, и в 1991 году клуб на несколько месяцев просто приостановил свою деятельность. Тогда моя вечеринка переехала на рю Комартен, в помещение, где когда-то располагался культовый панк-клуб Rose Bonbon — настоящий рай для всех любителей побиться головой об раковину под музыку Sex Pistols. Когда костяк клуба в лице Фреда Боллинга и Эрика Рюга перешел в La Locomotive, Rose Bonbon закрылся, а на его месте возникло заведение для мальчиков под названием Boy, которому предстояло стать одним из лучших парижских гей-клубов 90-х.
Boy начинался с длинной барной стойки, пройдя мимо которой посетитель оказывался на огромном дугообразном танцполе. Рядом с танцполом располагалась небольших размеров сцена. Диджейская кабина была установлена в противоположном конце зала — на таком большом расстоянии от танцпола, что сотни танцующих тел казались диджею какой-то яркой бесформенной массой. Парижские геи воспринимали Boy как островок свободы, где не существует никаких табу и где в любой момент может произойти что-нибудь из ряда вон выходящее. Наверное, поэтому даже в семь утра клуб был набит до отказа!
По выходным завсегдатаи Boy большой тусовкой отправлялись на франкобельгийскую границу, где располагался нежно любимый всеми европейскими клабберами клуб Boccaccio. В Boccaccio играли нью-бит — мрачное и жесткое техно, выпекавшееся в бельгийских студиях звукозаписи. Кроме всего прочего, Boccaccio славился своей технологией создания хитов, которая заключалась в том, чтобы повторять одни и те же треки с интервалом в один час — в результате каждый клаббер, прошедший через это техно-пекло, возвращался к себе домой с плейлистами бокаччевских резидентов в голове и принимался требовать от своих, "домашних" диджеев такого же саунда и такой же экстремальной атмосферы, как в Boccaccio. He избежал этих требований и резидент Boy диджей Марко (Marco) — кстати, тоже бельгиец.
Вечеринка Z00 ("правопреемница" 0Z) появилась в расписании Boy в сентябре 1991 года. В пику всеобщему увлечению нью-битом, я крутил исключительно хаус и техно. Как и на 0Z, диджейский пульт располагался на сцене (благодаря чему диджей ощущал себя в центре событий), а музыкальная программа дополнялась живыми картинами, совершенно не соответствовавшими горячей атмосфере вечеринки. Это было очень забавное зрелище: на танцполе сотни парней отрывались в сумасшедшем танце, а на сцене в китчевых интерьерах, придуманных, между прочим, моим братом Тьерри Гарнье, парочка обывателей среднего возраста, напоминавшая героев комикса "Семейка Бидошонов", смотрела телевизор, читала книжки, вязала и просто спала. Публика была в полном восторге.
В 1991 году Европа уже жила в ритме техно: в Бельгии фирмы грамзаписи выдавали на-гора тонны музыки для рейвов; во Франции и Швейцарии промоутеры активно готовились к запуску новых, беспрецедентных по своему масштабу и безумию, вечеринок; в Германии берлинско-франкфуртская рейв-эйфория постепенно перекидывалась на провинциальные города; да и в Англии рейв-культура постоянно укрепляла свои позиции…
Но вот мы и подошли к следующей главе в истории техно — главе, в которой техно превращается в явление массовой культуры и в которой на передний план выходят новые персонажи: бизнесмены, гангстеры и полицейские.
Глава пятая Total Confusion
Каждую пятницу происходило следующее. На рассвете, когда все нормальные парижане отправлялись штурмовать автобусы и вагоны метро, я выходил из Boy, бросал сумки с пластинками в багажник своего рейвмобиля, переодевался в свежую футболку и трогался в путь. Монотонное рычание двигателя сливалось в моих ушах с миллионами еще не успевших перевариться звуков с прошедшей вечеринки. Я не спал уже целые сутки, а впереди, за Ла-Маншем, меня ждали новые бессонные ночи…
В Манчестере, как и в большинстве английских городов, основная часть населения приходится на пригороды. Пригороды контролируются бандитскими группировками, формирующимися, вопреки расхожему мнению, не по расовому или религиозному, а строго по географическому принципу. До конца 80-х борьба между группировками не выплескивалась за пределы Мосс Сайда, Сэлфорда и Халма и практически не сказывалась на существовании законопослушных манчестерцев. Все изменилось летом 1989 года, когда на волне эйсид-хауса в город пришел экстази. Пригородные группировки сразу почуяли запах больших денег и бросили все свои силы на освоение этого рынка, что очень скоро привело их в ночные клубы. За центр города, прежде мало интересовавший бандитов, началась настоящая война.
Hacienda, воспринимавшаяся бандитами как своего рода "лакомый кусочек", оказалась втянута в жестокие криминальные разборки. Хозяева клуба с отвращением наблюдали за тем, как рэкет и насилие постепенно становятся неотъемлемой частью их вечеринок, но воспрепятствовать этому были не в состоянии. Ходить по Уитворт-Стрит-Уэст стало по-настоящему опасно. Да и весь Манчестер уже напоминал театр военных действий: повсюду горели автомобили, бандиты в открытую выясняли отношения на центральных улицах города, охранники, осмеливавшиеся перечить членам группировок, получали пулю в живот.
Застигнутая врасплох этой вспышкой насилия, манчестерская полиция не придумала ничего лучше, как потребовать от хозяев Hacienda, чтобы они в кратчайшие сроки изгнали из клуба всех продавцов и покупателей экстази, что было совершенно невыполнимо, поскольку на тот момент экстази уже принимали почти девяносто процентов клабберов. Поняв, что ее требование не возымело действия, полиция направила властям округа рапорт, в котором утверждалось, что в Hacienda осуществляется открытая торговля наркотиками и что единственным выходом из сложившейся ситуации является скорейшее закрытие клуба. В ответ на это владельцы Hacienda заявили, что они сами испытывают давление со стороны наркоторговцев и поэтому ждут от полиции не карательных санкций, а реальной помощи. На сторону Hacienda встал Манчестерский городской совет, а также один из лучших английских адвокатов Джордж Кармэн, и суд признал требования полиции необоснованными. Желая на деле продемонстрировать свою решимость бороться с наркотиками, владельцы Hacienda увешали стены плакатами и наказали охранникам отсеивать всех бандитов, а по четвергам пускать в клуб исключительно обладателей студенческих билетов. Но, увы, эффект был нулевой. Полиция после своего поражения в суде потеряла к Hacienda всякий интерес и не стремилась помогать ей в борьбе с гангстерами. Криминальная обстановка в городе ухудшалась с каждым днем, и зимой 90-го года случилось то, чего все давно боялись: в ходе потасовки в Hacienda был убит человек. В январе 1991 года было объявлено о временном закрытии клуба.
Руководство клуба решило использовать этот тайм-аут для поиска более действенных методов борьбы с наркодилерами. Результатом поиска стало заключение сделки с… сэлфордской группировкой, опаснее которой не было во всем Манчестере. "В ситуации, когда к нам каждый день приходят люди с пушками, все, что мы можем сделать, — это нанять людей с еще более крутыми пушками", — оправдывался Тони Уилсон. Чтобы исключить возможность пронесения огнестрельного оружия, на входе были установлены металлоискатели. Правда, когда у дверей клуба появлялись свои, сэлфордские ребята, металлоискатели почему-то отключались. Hacienda снова открылась в мае 1991 года. За вертушки встали легендарные Дэйв Хэслам, Майк Пикеринг и Грэм Парк. Но возродить былую магию было уже невозможно — над танцполом витал неистребимый запах смерти.
Разумеется, с проблемой насилия и наркотиков сталкивалась не только Hacienda. Напряжение в городе постоянно росло, ночные заведения одно за другим обзаводились металлоискателями и "специальными" службами безопасности, а публика под воздействием музыки и экстази постепенно утрачивала чувство реальности и становилась неуправляемой. Ни один промоутер теперь уже не мог предсказать, чем закончится та или иная вечеринка: каждый раз могло произойти как что-то волшебное, так и что-то ужасное. Это была странная эпоха. Эпоха декаданса и легкомыслия… Англия играла согнем.
Во время своих поездок по Северной Англии я обычно останавливался у диджея Саши (DJ Sasha). Среди ребят, тусовавшихся в Сашином доме, был девятнадцатилетний парень по имени Ян, состоявший в сэлфордской группировке… Ко мне Ян относился довольно хорошо. Однажды он меня даже выручил: мне нужно было срочно ехать в Quadrant Park, а мой рейвмобиль ни в какую не хотел заводиться; тогда Ян вышел на улицу и через несколько минут вернулся на какой-то машине; на вопрос, откуда у него машина, он ответил, что взял ее напрокат. Какими темными делами промышляют Ян и его друзья, я понял только тогда, когда они принялись шантажировать жившего с Сашей в одном доме клубного промоутера. А вскоре после этого посетители Hacienda стали свидетелями следующей сцены: Ян поссорился с охранниками клуба, в порыве гнева пырнул одного из них ножом, а затем как ни в чем не бывало продолжил танцевать. Неделю спустя он купил себе автомат" Узи"…
Мы никогда не узнаем, как погибли Ян и его подруга. Был ли это несчастный случай? Или Ян хладнокровно выпустил обойму в девушку, а последний патрон приберег для себя? Единственным свидетелем их смерти был маленький ребенок. Их ребенок.
Итак, Madchester на глазах у всей Англии превращался в Gunchester. Но и в других частях страны обстановка была отнюдь не благополучной. Огромные деньги, крутящиеся на многотысячных южноанглийских рейвах, конечно же, не оставляли местных гангстеров равнодушными. Шло постепенное сращивание рейв-движения с криминалом. Группировки навязывали рейвам своих охранников, а охранники уже следили за тем, чтобы часть прибыли от продажи билетов направлялась на укрепление и расширение преступных сетей. Наименее щепетильные промоутеры сами включались в торговлю экстази и в разработку всевозможных мошеннических технологий. Так, в частности, возник феномен рейвов-призраков: печатались флайеры, анонсирующие крутой рейв с участием лучших диджеев, организовывалась предварительная продажа билетов, и в результате в субботу вечером сотни рейверов колесили по сельской глуши в поисках несуществующей вечеринки.
Полиция на эти случаи мелкого мошенничества смотрела сквозь пальцы. Ее заботила совсем другая проблема — проблема децентрализации ночной жизни. Если раньше в субботу вечером вся тусовочная молодежь словно по команде подтягивалась в центр города, то теперь она расползалась по полям и лесам и, как следствие этого, выпадала из поля зрения блюстителей порядка. Волновала эта тенденция и представителей городских властей; некоторым из них в передвижениях тысяч парней и девушек по сельской местности даже чудилась хорошо спланированная кампания по подрыву системы национальной безопасности. Желая вернуть молодежь в клубы и таким образом восстановить контроль над ее досугом, английские власти скрепя сердце пошли на значительное смягчение закона о потреблении спиртного в ночных заведениях. Но и это не помогло. Тогда полиция под давлением "негодующей общественности" решила произвести показательный арест. В качестве жертв были выбраны организаторы нелегальной корабельной вечеринки в Гринвиче. Несчастных обвинили в "проведении мероприятий, на которых осуществляется торговля наркотиками" и отдали под суд. Приговор был неожиданно суров: шесть и десять лет заключения. Но настоящая охота на ведьм началась после того, как в 1989 году два юных английских рейвера умерли от передозировки экстази. Правительственным указом двести полицейских были прикреплены к специальной ячейке под названием Pay Party Unit, которой было поручено вести наблюдение за всеми рейвами, проходящими на территории страны.
Рейв-промоутеры и службы правопорядка сошлись в жестокой схватке. Первые бросили все свои силы на поиск лазеек в законе. Промоутер Тони Колстон-Хейтер (для ребят из Pay Party Unit — враг номер один), например, перешел на систему членских карт, что позволило ему перевести свои рейвы в разряд вполне легальных частных собраний. Полицейские же первое время придерживались тактики сбивания с толку. Доходило до того, что они срывали дорожные указатели или же печатали — на деньги налогоплательщиков — флайеры несуществующих рейвов, а потом встречали незадачливых тусовщиков криками: "Возвращайтесь домой, здесь нет никакого рейва!" Но тактика оказалась неэффективной, поскольку большинство промоутеров просто-напросто перешли на другие средства оповещения: мобильные телефоны и так называемые "инфолайны", то есть автоответчики с информацией о предстоящем мероприятии. Pay Party Unit не осталась в долгу и бросила все свои силы на борьбу с инфолайнами. Отметим в скобках, что борьба эта велась далеко не самыми законными средствами.
В стремлении искоренить рейв как явление власти постоянно увеличивали финансирование Pay Party Unit, и в 1991 году эта политика начала приносить плоды. Организовывать рейвы стало рискованным делом. Несчастные рейв-активисты оказались меж двух огней: с одной стороны их терроризировали гангстеры, с другой их травили власти.
Выход из этого положения нашел видный промоутер Пол Шарри. В 1991 году Шарри взял себе в компаньоны Р. Спаррела — капитана регбийной команды города Бата (на тот момент — действующий чемпион Англии) и большого друга полиции — и основал компанию Universe. Шарри был уверен, что с такой "крышей", как Спаррел, он будет надежно защищен от рэкетиров и прочих нехороших людей, поэтому его удивлению не было предела, когда средь бела дня его похитили бандиты, обслуживающие конкурирующую промоутерскую команду Perception. Требования ребят из Perception не отличались большой оригинальностью: они всего-навсего хотели, чтобы Шарри поделился с ними выручкой от первого рейва Universe, который должен был состояться через неделю. Пол сделал вид, что ничего не смыслит в финансах ("Я вообще-то больше по музыкальной части, понимаете?"), и предложил своим похитителям пообщаться с Р. Спаррелом. Через несколько часов Пол снова был на свободе, а переговоры между Спаррелом и бандитами были назначены на канун вечеринки. Спаррел пришел на переговоры в сопровождении игрока своей команды, по совместительству замначальника полиции графств Эйвон и Сомерсет. Увидев полицейского, главный бандит из Perception испустил радостный крик. Оказалось, что они давно знают друг друга и находятся в самых теплых отношениях. Пол Шарри не мог поверить своим глазам…
Конфликт был улажен полюбовно, но несмотря на это следующей ночью Perception провел альтернативный рейв, на который ему удалось переманить восемь тысяч потенциальных "клиентов" Universe.
Ha Universe я попал благодаря диджею Саше. Саша, как и Карл Кокс, начинал свою карьеру в Южной Англии, и поэтому был хорошо известен местным промоутерам. Известен в первую очередь как отличный диджей, но еще и как человек без водительских прав и без чувства меры. Меня на юге никто не знал, но Пол Шарри согласился дать мне шанс при условии, что я доставлю Сашу на Universe "в рабочем состоянии". Сказано — сделано.
Несмотря на козни конкурентов из Perception, первая Universe собрала четыре с половиной тысячи человек, что можно было считать большим успехом. Саша играл на основной сцене, я — в маленьком шапито. Я понимал, что участвовать в такой вечеринке — это большая честь и от того, как я проявлю себя, может зависеть моя дальнейшая карьера. В тот год на английских рейвах в моду входил брейк-бит, но я решил, что буду крутить исключительно хаус, техно и нью-бит. И не прогадал. Публике и организаторам понравилось, и я тут же получил приглашение на следующую Universe. Когда рейв закончился, нас с Сашей позвали играть на afterparty, которая проходила в живописнейшем месте — по соседству с кукурузным полем. Слух об этой after-party дошел и до рейверов из Perception, таким образом все, кто проигнорировал Universe, получили возможность наверстать упущенное и хотя бы ненадолго погрузиться в ту неповторимую дружескую атмосферу, которую как никто другой умел создавать Пол Шарри — человек, глубоко убежденный в том, что на рейве все, кроме входа, должно быть бесплатно.
С этой вечеринки начался взлет Universe. А год спустя авторитетный журнал Mixmag признал организованную Шарри вечеринку Mind Body Soul (на которую, между прочим, пришло семь тысяч человек) лучшим рейвом 1992 года, и Universe получила то, о чем мечтала каждая английская промоутерская фирма — лицензию, дающую право проводить мероприятия на двадцать пять тысяч человек. Так появился Tribal Gathering — гибрид рейва и фестиваля.
В 1992 году на английской электронной сцене произошел раскол на два лагеря. В первом лагере оказались те диджей, которые ориентировались на рейвы, а следовательно, на самую невзыскательную публику, поскольку рейвы к тому моменту уже представляли собой огромные коммерческие предприятия. Во втором — те, которые, устав от творческих ограничений и малоприятного общения с гангстерами и нечистыми на руку промоутерами, вернулись в клубы и попытались вновь обрести утраченную на рейвах музыкальную невинность. Для некоторых из них — таких, как Карл "Three-Decks-Wizard" Кокс, DJ Sasha и Пол Окенфольд, — это стало началом звездной карьеры.
Я по-прежнему регулярно ездил в Северную Англию, и то, что я там видел, иначе как культурным упадком назвать было нельзя. Что могло спасти страну? Что могло подарить ей второе дыхание? Уж явно не хэппи хардкор и прочие поделки, заполонившие клубы и музыкальные магазины. Наркотики загубили все то хорошее, что было в рейве. Рейвер нового поколения был озабочен исключительно тем, чтобы побить рекорд своих товарищей по количеству проглоченных за ночь таблеток. "Сколько ты вчера принял?" — к ответу на этот вопрос обычно сводились все впечатления от вечеринки. О музыке никто даже не вспоминал. Мне это было бесконечно чуждо, и я все больше отдалялся от рейверской тусовки и все глубже погружался в свою музыку. Я стал много путешествовать в надежде найти место, где страсть к наживе еще не взяла верх над бескорыстной любовью к музыке, найти плодородную почву, на которой прижились бы хаус и техно.
В начале 1992 года в Париже заговорили о новом веянии, пришедшем из Берлина и Франкфурта, — немецком трансе. Мне не терпелось своими глазами увидеть, что творится в Германии, поэтому я с радостью принял приглашение поиграть на рейве в пригороде Мюнхена. Мое имя, разумеется, ничего не говорило четырем тысячам немецких рейверов, собравшимся в стенах заброшенного пригородного склада. Героем праздника был другой человек — лидер молодого немецкого техно и самый харизматичный персонаж на местной электронной сцене — Свен Фэт (Sven Vath).
Свои первые шаги на диджейском поприще Свен Фэт сделал в пабе своих родителей. Любопытная деталь: ради того чтобы получить право развлекать папиных и маминых клиентов, Свену пришлось выучить наизусть содержимое семейной фонотеки, отличавшейся заметным уклоном в 60-е и 70-е. Кумиром немецкой молодежи Свен стал задолго до того, как в стране вспыхнула эпидемия эйсид-хауса. По его собственному признанию, "техно-озарение" нашло на него тогда, когда он — в ту пору диджей франкфуртского клуба Dorian Gray (первого европейского клуба, над акустической системой которого потрудился Ричард Лонг, в свое время сделавший саунд нью-йоркских клубов Paradise Garage и Sound Factory) — впервые услышал альбом "Computer World" группы Kraftwerk. Потрясенный характерным для крафтверковских вещей сочетанием грува и математической точности, Свен решил, что хочет попробовать себя в роли композитора. Вместе с будущими членами группы Snap! он основал команду под названием OFF (Organisation for Fun) и стал играть нечто среднее между Kraftwerk и Dépêche Mode. Выпущенный в 1985 году сингл "Elektrika Salsa" принес группе мировую славу и проторил дорогу целой армии немецких электро-поп-артистов (Falco, Spliff и так далее)… В 1987 году музыкальная индустрия Германии уже была вполне готова к радикальным переменам.
Перемены не заставили себя долго ждать. Не успели первые пластинки с американским хаусом добраться до немецких музыкальных магазинов, как в клубах страны появилось новое поколение диджеев во главе с берлинцем Westbam и франкфуртцем DJ Talla. Свен Фэтушел из OFF, чтобы снова встать за вертушки Dorian Gray, а в 1988 году вместе с несколькими компаньонами выкупил франкфуртский клуб Omen, в котором стал проводить политику тотальной музыкальной эклектики.
Наступил 1989 год. Все лучшие пластиночные магазины Германии уже ломились от эйсид-хауса, нью-бита и техно. Ассортимент рос с каждой неделей, так что любой диджей теперь мог легко отыграть восьмичасовой сет из одних новинок, при этом ни разу не повторившись. По пятницам молодежь со всей страны съезжалась в Omen на Let's Sweat Keep Your Body Wet — первую полноценную немецкую техно-пати. А в Берлине тем временем набирали обороты техно-вечеринки в UFO, за которыми стояли Westbam и Dr Motte.
В июле 1989 года, то есть за четыре месяца до падения Берлинской стены, диджеям Kid Paul и Dr Motte пришла в голову безумная идея: они взяли напрокат грузовик, водрузили на него звуковую аппаратуру и в течение четырех часов разъезжали на нем по одной из центральных улиц Берлина, Курфюрстендамм, в сопровождении "эскорта" из ста пятидесяти бодро отплясывающих парней и девушек. Слоган этого мероприятия был выдержан во вполне хипповском духе: "Peace, love, unity & respect for one another"[9]. Так родился Лав-парад (Loveparade).
9 ноября 1989 года Берлинская стена рухнула.
Техно стало музыкой объединенной Германии.
Вдохновенность, жизнерадостность прославление танца и наслаждений — все это как нельзя лучше соответствовало охватившей всю страну эйфории.
По инициативе Фэта диджеи из Omen отправились в Берлин и приняли участие в бесплатной вечеринке с красноречивым названием Freedom.
Техно-сцена сразу же начала обживать монументальное архитектурное наследие Восточного Берлина. Исполинских размеров правительственные постройки одна за другой оккупировались под проведение рейвов, а власти даже не думали протестовать. Дувший над страной ветер свободы в Берлине приобрел поистине ураганную силу. Все запреты были сметены. Ничего невозможного не осталось.
В начале 90-х в Берлине открылись два гигантских (и в дальнейшем культовых) клуба — Trésor и E-Werk, благодаря которым берлинская публика получила возможность регулярно наслаждаться игрой лучших американских диджеев, таких, как Блейк Бакстер (Blake Baxter) и Джефф Миллз (Jeff Mills). Итак, клубная жизнь внутри страны была налажена, однако заявить о себе на мировой техно-сцене Германии мешало отсутствие собственных техно-лейблов и техно-продюсеров. Исправить это положение взялся все тот же Свен Фэт. Свен основал лейбл Eye Q, а вместе с ним и саб-лейбл Harthouse Records, ориентированный на вышедших из Omen молодых музыкантов, — и занялся покорением чартов вместе со своим новым проектом Barbarella. Похожие процессы происходили и в Берлине, так что не прошло и нескольких месяцев, как Германия уже могла похвастаться не одной, а целыми двумя техностолицами. У каждого города было свое фирменное звучание. Франкфуртцы во главе со Свеном Фэтом сначала записывали смесь техно, нью-уэйва и электро-попа, а потом придумали красочный психоделический саунд, которому предстояло лечь в основу немецкого транса. Берлинцы же разделились на приверженцев жесткого техно и любителей жизнерадостного, почти китчевого транса. Все эти стили сосуществовали в полной гармонии — до тех пор, пока, вдохновившись примером англосаксонских музыкальных изданий, никогда не упускавших возможности натравить друг на друга два города или двух артистов (Лондон — Манчестер, "Битлз" — "Роллинг Стоунз"), немецкий техножурнал Frontpage не решил выставить Франкфурт и Берлин как вечных соперников.
В 1992 году в Берлине прошла техно-акция Mayday — первый образец настоящего "рейва по-немецки". Отличительные черты рейва по-немецки: нечеловеческой мощности звук, лазеры и фрактальные картинки — осовремененный вариант психоделической живописи, проецирующиеся на гигантские экраны. Членов франкфуртской "делегации" во главе со Свеном Фэтом на Mayday можно было узнать по футболкам с надписями "Francfort Possee"[10] и "Don't Mess with Francfort"[11]. Послушать их и других диджеев пришли около шести тысяч человек.
Более чем терпимое отношение немецких властей к рейв-движению и, как следствие этого, полное отсутствие в последнем бунтарского подтекста привело к тому, что рейвы со временем превратились в эдакую всенародно любимую форму досуга. Началось сращивание рейва с бизнесом. Модные дизайнеры бросились запускать линии для "настоящих рейверов", а бизнесмены, в том числе и самые крупные, — спонсировать всевозможные танцевальные акции.
Но все эти культурные и экономические потрясения не были бы столь глубокими, если бы не транс — психоделическо-романтическое ответвление техно, изобретенное местными продюсерами.
Транс объединил под своими знаменами всю немецкую молодежь и стал неотъемлемой частью культурного облика Германии.
О немецком феномене заговорили такие авторитетные зарубежные журналы, как ID. Артисты, которых еще недавно ни один здравомыслящий промоутер не поставил бы хедлайнерами своего фестиваля, в одночасье превратились в звезд международного уровня; немецкие хиты "Vernon's Wonderland" Vernon и "Acperience" Hardfloor стали гимнами мирового рейв-движения; лейбл Свена Фэта Eye Q покорил французский и швейцарский рынки, а сам Свен за свой альбом "An Accident in Paradise" получил от британских журналистов титул "техно-кайзер". Во франкфуртский Omen стали наведываться музыканты с модных лейблов Warp и +8 и члены подпольного детройтского техно-сообщества Underground Resistance. В 1992 году от зарубежных диджеев, желающих поиграть в Германии, уже просто не было отбоя. Тем временем немецкая андеграундная техно-сцена продолжала расти и крепнуть. Появлялись новые имена (DJ Hell и Maurizio) и новые клубы (например, кельнский Warehouse). А в Мангейме, по инициативе промоутера Штефана Чарльза, стал проводиться рейв Time Warp — своего рода альтернатива Mayday с его гигантоманией, — на котором такие звезды, как Свен Фэт, Cosmic Baby, DJ Dag и Марк Спун (Mark Spoon), выступали на равных правах с практически неизвестными немецкой публике диджея ми — такими, как Джош Уинк (Josh Wink), Карл Кокс, Хуан Аткинс (Juan Atkins), Ричи Хотин (Richie Hawtin), Speedy J.
Я стал постоянным гостем на немецких рейвах и в немецких клубах. Мне случалось играть не только в крупных городах, но и в глухой провинции, где я чувствовал себя эдаким миссионером, обращающим местное население в техно-веру. В июле 1993 года по протекции Свена Фэта я был включен в число участников пятого Лав-парада и таким образом впервые очутился в Берлине. Я сразу же влюбился в этот город — такой волнующий, открытый, источающий потрясающую энергию и превращающий любые, даже самые дерзкие, фантазии в действительность. Падение Стены стало началом долгого переходного периода. Это была эпоха глубокой напряженности и одновременно невероятного социального подъема. Чувствовалось, что берлинцы, как восточные, так и западные, по-настоящему выстрадали эту свободу и что объединило их не что иное, как жажда перемен, которую они теперь так яростно утоляли. Ночь перед Лав-парадом я провел в крупнейшем берлинском клубе E-Werk, среди трех тысяч словно загипнотизированных техно-музыкой немецких рейверов. В E-Werk я встретил всех главных деятелей берлинской техно-тусовки и услышал много восторженных рассказов об обычно творящемся на Лав-параде безумии. Рассказы эти наполнили мою душу радостным предвкушением.
Но несмотря на основательную информационную подготовку, попав на Лав-парад, я все равно испытал глубочайшее потрясение. Двести тысяч человек, в танце перемещающихся по улицам вслед за гигантскими "музыкальными" грузовиками, — не знаю, что может сравниться с этим фантастическим зрелищем?! Превратившись в один из крупнейших германских праздников, Лав-парад тем не менее не растерял своего очарования и своей стихийности. Среди диджеев, сводивших пластинки на грузовиках, были и такие, кто договорился о выступлении всего за несколько минут до его начала.
Когда собственно парад завершился, вся уличная толпа плавно перетекла на заброшенные восточноберлинские склады, и праздник продолжился. Я же в ту ночь опять очутился в E-Wferk, но на этот раз уже не как рядовой зритель, а как диджей. Встать за вертушки E-Wterk было заветной мечтой любого человека моей профессии — прежде всего потому, что это была святая святых немецкой техно-музыки, о чем свидетельствовали установленные прямо над танцполом изваяния главных берлинских техно-знаменитостей, но еще и потому, что такой прекрасный, продуманный до последней мелочи звук, как здесь, большинству клубов даже не снился. В E-Wferk существовали идеальные условия для того, чтобы за одну ночь вкусить все до единой прелести рейва и клубной вечеринки. Та наэлектризованность, которой я пытался добиться на своих парижских вечеринках, здесь достигалась каким-то совершенно естественным образом, без видимых усилий со стороны диджеев или промоутеров. Я вернулся во Францию, а у меня перед глазами все еще стояла картина с этой вечеринки: три тысячи абсолютно счастливых клабберов, танцующих с поднятыми вверх руками и готовых проглотить любое, даже самое экзотическое музыкальное лакомство, лишь бы в нем были драйв и энергия.
Итак, к началу 90-х в Европе уже имелись две полноценные технодержавы: Германия и, несмотря ни на что, Англия. У Франции по сравнению с ними было в сотни раз меньше оснований претендовать на хоть сколько-нибудь важную роль в международном техно-движении. Ни одного артиста с мировым именем; ничтожное количество заметных клубных событий и рейвов; полное непонимание со стороны широкой публики, на корню губящее любую смелую инициативу… Одним словом, похвастаться нам, французам, было решительно нечем.
Глава шестая Wake Up
Наверное, не будет большим преувеличением, если я скажу, что моя международная карьера началась в тот день, когда я впервые переступил порог студии звукозаписи. Ведь именно своим первым пластинкам, а вовсе не своим диджейским успехам я обязан тем, что очутился сначала в Германии, а затем и в более далеких странах.
В 1989 году на рейве Live the Dream я познакомился с Яном Блендом (Ian Bland) — главным и единственным участником проекта Dream Frequency. Мы сразу нашли общий язык и провели вместе большую часть вечеринки. А через несколько месяцев Ян записал пластинку, которая стала главным андеграундным хитом сезона и сделала его настоящей звездой североанглийских рейвов. Пластинка так и называлась — "Live the Dream". Моя следующая встреча с Яном состоялась в 1990 году в Quadrant Park. Мы опять протусовались вместе всю ночь, а когда вечеринка закончилась, Ян пригласил меня к себе домой. В гостевой комнате, казавшейся островком чистоты и порядка на фоне царившего в остальной части дома хаоса, я обнаружил настоящую хаус-студию, состоявшую из синтезатора Ml, сэмплера Akai S1000, шестнадцатиканального микшера и массы других мерцающих приборов, опутанных паутиной проводов. Пораженный таким великолепием, я попросил Яна продемонстрировать мне, на что способна эта махина, и не прошло и получаса, как мы уже вовсю трудились над сочинением нового музыкального произведения. В двенадцать часов дня работа была завершена, плод наших усилий (нечто среднее между техно и нью-битом) записан на кассету, и я прямо в одежде пристроился на диване рядом с собакой Яна по кличке Кейси и заснул.
Когда я проснулся, был уже вечер. Я растолкал Яна, мы прыгнули в мой рейвмобиль и помчались в пластиночный магазин Eastern Block. Перед нами стояла вполне конкретная задача — найти лейбл для выпуска нашего музыкального продукта. Операция была проведена с умом. Сначала мы порылись в ящиках с винилом, набрали около тридцати пластинок и только после того, как почувствовали, что продавец проникся к нам симпатией, попросили его поставить кассету. Кассета еще играла, а продавец уже размахивал перед нами какой-то бумагой, смутно напоминающей договор.
Бумага была подписана, и через несколько недель на лейбле Creed Records вышел макси-сингл, на этикетке которого значилось "French Connection" — так мы решили назвать свой проект… Да, то было счастливое время. Время, когда можно было смастерить простенькую хаус-безделушку и на следующий же день найти лейбл, готовый ее издать. Время, когда в мире хаус-музыки еще не знали о таких понятиях, как гонорар, менеджер и адвокат.
Вернувшись в Париж, я стал активно крутить свой сингл в клубах, в том числе и в La Luna, куда, как и прежде, ходили английские студенты, начинающие музыканты, журналисты и геи… Среди завсегдатаев клуба был менеджер фирмы грамзаписи Barclay Эрик Моран. Мы с Эриком постоянно сталкивались на различных частных вечеринках и after-party, но повода для близкого знакомства как-то не находилось. Но однажды вечером мы все-таки разговорились и, когда лед был сломан (менеджеры мейджоров — не самые легкие собеседники), оказалось, что у нас много общих знакомых, в том числе Дидье Лестрад и Венсан Борель.
В Barclay Эрик отвечал за распространение продукции английского лейбла FFRR и за раскрутку во Франции нескольких зарубежных групп, в том числе обожаемых мною Orbital. Композицию Orbital "Belfast" я считал одним из величайших музыкальных произведений всех времен и народов и включал ее во все свои сеты. Поэтому, когда я через третьих лиц узнал, что Эрик собирается выпустить промосингл Orbital, на котором не будет "Belfast", моему возмущению не было предела. Поскольку Эрик когда-то приглашал меня зайти к себе на работу, я отправился в офис Barclay, в ту пору располагавшийся рядом с площадью Италии, уверенным шагом поднялся по лестнице, не обращая внимания на секретаршу, испуганно бормочущую: "У мсье Морана встреча, подождите, пожалуйста, в приемной", без стука вошел в кабинет Эрика и на одном дыхании произнес заранее заготовленную тираду о некомпетентности мейджоров во всем, что касается хауса, и о чудовищной ошибке, которую совершает Эрик, выпуская промодиск Orbital без "Belfast". За моей прочувствованной речью последовала длительная перепалка в духе "Да ты ничего не понимаешь!" — "Нет, это ты ничего не понимаешь!" Наконец эмоциональный накал немного спал, я сел, и наша беседа постепенно перетекла в мирное русло. Все закончилось тем, что Эрик вежливо проводил меня к выходу и на прощание вручил мне несколько промосинглов. Я был уверен, что после этого инцидента Эрик перестанет со мною знаться, но он оказался незлопамятным и продолжил ходить в La Luna, а через какое-то время мы даже стали хорошими приятелями. Однажды я дал ему послушать макси-сингл "French Connection" и спросил его, что он об этом думает. Выдержав полагающуюся в таких случаях паузу, Эрик сказал, что ему понравилось и что он даже готов походатайствовать за меня перед директором Barclay Паскалем Негром[12]. Негр, однако, не разделил энтузиазма своего подчиненного и вернул диск со словами: "Это какая-то жан-мишель-жарровщина! Это просто невозможно слушать!"
Как явствует из вышеописанного случая, политика Barclay в области танцевальной музыки отличалась удивительной недальновидностью. Чувствуя, что здесь ему никогда не дадут развернуться, Эрик Моран ушел в конкурирующую компанию Fnac, где создал и возглавил отдел танцевальной музыки (Fnac Dance Division). Руководство Fnac не вмешивалось в творческий процесс и вполне щедро финансировало новый отдел, так что Эрик смог незамедлительно приступить к осуществлению своего грандиозного проекта. Грандиозный проект заключался в следующем: найти перспективных хаус-артистов, дать им время спокойно набраться сил, а затем заняться их продвижением на международный рынок. Для Франции, никогда не славившейся умением продавать свою музыку за рубеж, это была необычная и потому рискованная стратегия. Но Эрик Моран не рассчитывал на внезапное изменение умонастроений, а делал ставку на уникальные по французским меркам логистические возможности Fnac. В отличие от большинства своих конкурентов, полностью зависевших от зарубежных лейблов или от покупающих лицензию на их релизы мейджоров, Fnac сам занимался и подбором артистов, и записью дисков, и промоушном, и распространением готовой продукции на внутреннем и международном рынках.
Я сразу же активно включился в работу Fnac Dance Division. С одной стороны, мне просто хотелось поддержать Эрика, с другой — я воспринимал это как возможность стать членом большой музыкальной семьи и разобраться в том, как на самом деле устроен шоу-бизнес. Мои обязанности (которые, впрочем, нигде не были прописаны) заключались в том, чтобы внимательно прослушивать всю музыку, записывавшуюся в студии, тестировать ее в различных клубах и докладывать начальству о своих впечатлениях.
Однажды, когда Fnac Dance Division еще только создавался, Эрик вернулся к разговору о сингле "French Connection". Он считал, что я не должен забрасывать свои музыкальные эксперименты и имею все основания стать первым артистом, который выйдет на его лейбле. Я попытался объяснить ему, что у "French Connection" не может быть продолжения и что по сравнению с диджеингом сидение в студии — это ужасная скучища. Но Эрик не стал вслушиваться в мои доводы и со словами "Отправляйся к Яну и без музыки не возвращайся!" вручил мне билет до Манчестера. Пришлось подчиниться, и неделю спустя я снова сидел у Яна в студии. Процесс написания музыки проходил в более чем расслабленной обстановке: мы с Яном без конца над чем-то смеялись и как только умели издевались над имевшейся в нашем распоряжении аппаратурой. Тем не менее через пять дней у нас было готово четыре трека: чем-то напоминающий "Someday" СиСи Роджерса "Join Hands", выдержанный в духе детройтского техно "Storm" и еще два, вдохновленных, соответственно, чикагским и английским саундом.
По возвращении в Париж я не без некоторого опасения отправился во Fnac: мне казалось, что Эрик обязательно почувствует, что эту музыку мы записали просто так, для прикола… Эрик поставил кассету и прослушал ее от начала до конца. Молча и с непроницаемым лицом. Я все это время сидел, съежившись, в углу и готовился к неминуемому разгрому. Но вместо брани и обвинений в безответственности я услышал: "Ну что ж, неплохо. Я беру. Но при условии, что на конверте диска будет не псевдоним, а твое имя!" Забыв о том, что еще секунду назад у меня от страха дрожали коленки, я завопил: "Нет, только не это! Только не мое имя! Это же андеграунд! Люди не должны знать мое имя!" Но перечить Эрику было бесполезно, и в декабре 1991 года Fnac Dance Division выпустил свою первую пластинку, на этикетке которой красовалось: Laurent Gamier & Mixmaster Doody (y Яна уже был договор с одним английским лейблом, поэтому он не мог записываться под собственным именем). Сразу же вслед за этим Эрик заключил контракт с еще двумя артистами: Людовиком Наварром (Ludovic Navarre), на счету у которого было уже несколько техно-синглов, выпущенных под псевдонимом Sub System, и музыкантом по прозвищу Шазз (Shazz) — фанатичным поклонником хауса и завсегдатаем La Luna.
Вскоре после запуска Fnac Dance Division Эрик установил связи с главным рупором блип-музыки (bleep music — так тогда называлось техно, которое записывали в городе Шеффилде) — британским лейблом Warp — и договорился о том, что Fnac будет распространять его продукцию на территории Франции. В эпоху, когда во всем мире единственным приемлемым форматом для издания электронной танцевальной музыки считался виниловый макси-сингл, Warp заявил о себе, выпустив один из первых долгоиграющих альбомов в истории техно, и к тому же не на виниле, а на компакт-диске. Это был диск шеффилдского дуэта LFO.
Итак, всего за несколько месяцев Эрик Моран подготовил французский хаус к выходу на международную орбиту.
Взлет Fnac Dance Division совпал по времени с уходом из французского радиоэфира танцевальной станции Maxximum и последовавшим за этим превращением Radio FG в полноценную технорадиостанцию. Где-то в начале 1992 года руководство FG взяло курс на бескомпромиссный андеграунд. Передачи о геях и для геев были выжиты из эфира, а их место заняли миксы от лучших парижских диджеев (DJ Aquarium, Sonic, Armand, Жером Пакман) и тематические программы, вроде "Rave up" Патрика Роньяна, представлявшие собой хронику столичного рейв-движения. В это же время во Франции начали проходить масштабные техно-акции. 18 января 1992 года Fnac Dance Division совместно с газетой "Либерасьон" и промоутерским агентством Happy Land провел рейв в квартале Дефанс — в зале, расположенном прямо под знаменитой Аркой. Это стало одним из первых андеграундных мероприятий, организованных с привлечением серьезных капиталовложений (кстати, ничего парадоксального я в этом не вижу). Для рекламы акции были использованы совершенно нетрадиционные с точки зрения рейва методы: анонсы на страницах "Либерасьон" и в эфире FG и открытая раздача флайеров на улицах города. В тот вечер все враждующие парижские хаус-кланы объединились ради общего дела. Гвоздем программы стало живое выступление LFO. Четыре тысячи рейверов, пришедших послушать шеффилдский дуэт, получили наглядное доказательство того, что техно-музыка может исполняться живьем и при этом звучать очень эффектно и занятно. Значительная часть публики находилась под воздействием ЛСД, и, вероятно, поэтому в зале царила очень странная атмосфера — ни с чем подобным я не сталкивался ни до, ни после этой вечеринки. Когда группа заиграла свой хит "LFO", я почувствовал, как музыка, пропущенная сквозь наркотический фильтр, наполняет души слушателей какими-то густыми, темными красками. Музыканты уловили это
Он выскочил на танцпол, разделся догола и лег на землю, не обращая внимания на ноги танцующих. Когда ему надоело лежать, он как был, нагишом, выбежал на улицу, где был схвачен полицией и отправлен в участок. Автобус вернулся в Англию без него.
И все же, несмотря на все старания Эрика и его соратников, в Париже по-прежнему не было постоянной техно-хаус-вечеринки международного уровня. И шансы на появление таковой с каждым днем становились все более призрачными. Вследствие серьезных финансовых трудностей и стремительного распространения СПИДа парижская ночная жизнь оказалась на грани исчезновения. Rex находился в безуспешных поисках новых идей и новой публики. Boy и Palace просто прекратили свое существование. Поговаривали, что к закрытию Boy приложило руку Министерство внутренних дел, решившее, что гей-клубу, да к тому же такому шумному, не место в роскошном квартале Мадлен. В то время как вся Европа вибрировала под звуки техно-музыки, которая постоянно принимала какие-нибудь новые обличья (транс в Германии, хардкор в Голландии, нью-бит в Бельгии, брейк-бит в Англии), во французской столице было просто негде послушать хаус или техно. Существовали, конечно, отдельные вечеринки, но общей картины они не меняли.
Вот в каком плачевном состоянии находилась парижская клубная сцена, когда мы с Эриком запустили в Rex вечеринку Wake Up. Мы не искали легких путей, поэтому задачу перед собой поставили более чем амбициозную: разбудить Париж! Обсуждение концепции происходило примерно следующим образом: "Как расшевелить публику? Как заставить ее ходить к нам каждую неделю?" — "Сначала надо понять, чего ей больше всего не хватает". — "Хорошо, а нам самим чего не хватает?" — "Наверное, нам не хватает выступлений наших любимых диджеев". — "А кто наши любимые диджеи?" — "Ну конечно же, американцы!" — "Замечательно, так давай приглашать на нашу вечеринку диджеев из Чикаго и Детройта!" Казалось бы, все просто, но оставалось убедить в перспективности нашей затеи директора Rex Кристиана Поле, любимым музыкальным стилем которого был рок-н-ролл. В этом деле главное было подобрать правильные слова: "Кристиан, ты не поверишь! Мы получили предварительное согласие от Деррика Мэя и Кевина Сондерсона! Что ты на это скажешь?!" Молчание. "Ну как бы тебе объяснить… Это как если бы в Rex за один вечер выступили "Битлз" и "Роллинг Стоунз". Ты же не упустишь эту возможность!" И Кристиан не упустил, хотя прекрасно понимал, что такие гастроли принесут ему одни убытки. Но он был одним из немногих французов, усвоивших главный закон ночной жизни: клуб, который никогда не рискует, — это мертвый клуб.
Шел 1992 год. Каждый четверг команда Wake Up, состоявшая из Эрика Морана, DJ Deep, блистательного портье Филиппа Сегино и вашего покорного слуги, принимала у себя в гостях какого-нибудь видного иностранного диджея. Плата за вход на вечеринку была почти символической, зато мы осмелились покуситься на господствовавшую в Париже с 80-х годов систему гест-листов, тем самым уравняв в правах именитых тусовщиков и рядовых клабберов. Недовольным — а таковых было немало — Эрик терпеливо объяснял: "Да, это платная вечеринка. Вы знаете, сколько стоит привести иностранного диджея?! А звуковое оборудование, сканеры… Это же тоже не бесплатно. Так что будьте любезны, заплатите за вход".
"Дарить, дарить и дарить" — так, наверное, мог бы звучать девиз Wake Up. На вечеринках бесплатно раздавались фрукты, конфеты, сахарная вата и всевозможные сувениры. А на первом и втором днях рождения Wake Up каждый посетитель получил по коллекционному юбилейному диску. Но, разумеется, главным подарком, с точки зрения парижских клабберов, была возможность каждую неделю знакомиться с корифеями техно и хауса. Wake Up стала своего рода парижским филиалом Чикаго и Детройта. Все началось 25 июня 1992 года здесь, когда в Rex выступили Деррик Мэй (Derrick May) и Кевин Сондерсон (Kevin Saunderson). За ними последовали Джефф Миллз, Лил Луис, Рон Трент (Ron Trent)…
Начав общаться с американскими диджеями, мы с Эриком обнаружили, что эти люди совершенно не привыкли к славе и почестям. Так, Рон Трент, пока не попал на Wake Up, даже не подозревал о том, что его композиция "Altered States" (которую он, между прочим, сочинил в возрасте четырнадцати лет) является одним из любимейших треков всех европейских поклонников хауса. А "официальный" родоначальник кислотной музыки DJ Pierre долго не мог прийти в себя, когда узнал, что в честь его приезда диджеи F6 целый день будут крутить исключительно чикагский хаус. Между Парижем и осью Чикаго-Детройт постепенно установились особые отношения, основанные на взаимном доверии и искренней симпатии. Само собой получилось так, что Wake Up стала местом встречи основных персонажей парижского техно-движения: сюда приходили Гийом ла Тортю, Оливье ле Кастор, Scan X, Лоик Дюри, Эрик Напора, диджеи с FG и другие интересные люди. С каждой неделей атмосфера в Rex становилась чуть более дружеской и приятной, и даже обычно сдержанные рексовские бармены со временем стали благодушно приплясывать за своими стойками, выражая таким образом радость от встречи с новой, вежливой и позитивной, публикой.
Моя жизнь по-прежнему протекала между Францией и Англией. К Манчестеру и Ливерпулю в моем маршрутном листе добавилась ежемесячная вечеринка в Бирмингеме. На этой вечеринке я сошелся с компанией абсолютно безбашенных клабберов, среди которых был человек по имени Доминик, работавший в студии звукозаписи в городе Сток-он-Трент. Мы взяли за обыкновение после вечеринок отправляться в студию и играться с имевшейся в ней аппаратурой. Из этого предрассветного озорства в сентябре 1992 года родился сингл "Stronger by Design" — моя вторая "фнаковская" пластинка.
Эрик Моран постоянно искал более эффективные методы продвижения хауса в массы, и в ноябре 1992 года вся команда Fnac Dance Division в сопровождении грузовика со звуковым и световым оборудованием отправилась бороздить просторы родной Франции. В плане наших гастролей, проходивших под лозунгом "Respect for France", значилось шесть городов: Рен, Страсбург, Тулуза, Дижон, Лиль и Монпелье. В каждом из городов Шазз и Deepside (проект Людовика Наварра) играли живьем, а я сводил пластинки в перерыве между их выступлениями. Эрик изо всех сил старался, чтобы все участники этого проекта остались довольны. А все — это, значит, и владельцы клубов, у которых хаус ассоциировался исключительно с голубой эстетикой, и провинциальные промоутеры, до смерти боявшиеся всего нового и нестандартного, и, наконец, Шазз и Людовик, до этого нигде никогда не выступавшие, а теперь вынужденные играть живьем, да к тому же перед совершенно неподготовленной публикой. Не обошлось и без непредвиденных трудностей… Так, в ренском клубе Pymps мы играли на следующий день после Божоле нуво[13].
Playlist Wake up
Choice
Acid Eiffel
Dajee
Brighter Days
Hardfloor
Acperience
Vapour Space
Gravitational Arch of 10
Vernon
Wonderland
Davina
Don't you Want it
Ron Trent
Altered State
Традиционная публика Pymps на нашу вечеринку не явилась — видимо, отмокала после принятого накануне, — и зал наводнили геи, которые, чувствуя, что им никто не мешает, весь вечер отрывались как ненормальные. И, хотя после вечеринки касса Pymps ломилась от денег, хозяин клуба был в бешенстве. "Что это за музыка и кто вы вообще такие?! — набросился он на Эрика. — Я не потерплю в своем клубе всякого там декаданса!" Но таких эксцессов, к счастью, было немного, и в целом нас принимали довольно хорошо. Региональная пресса, правда, обошла наше турне молчанием, но мы и не стремились попасть на страницы газет. Главное было в другом: Fnac Dance Division стал первым французским техно-хаус-лейблом, который в полном составе отправился в дорогу, чтобы встретиться со своей потенциальной публикой и попробовать завоевать ее расположение.
Итак, первый шаг навстречу провинции был сделан. Об успехе этого предприятия судить было еще рано, зато на отношениях внутри коллектива Fnac Dance Division поездка отразилась самым положительным образом: оказалось, ничто так не сплачивает, как совместное поедание бутербродов в придорожных забегаловках.
Для всех артистов Fnac Dance Division вечеринки Wake Up были своего рода лабораторией, где в реальных условиях можно было протестировать плоды своих музыкальных экспериментов. По счастливой случайности в тот вечер, когда я впервые завел Дат-кассету с записанным накануне треком "Acid Eiffel", на Wake Up как раз гостил Деррик Мэй. Я стоял и наблюдал за реакцией зала, которая была скорее обнадеживающей, когда ко мне подлетел возбужденный Деррик: "What's that shit, man?"[14] — проорал он. "Да это мы Шаззом и Людо вчера записали для прикола", — ответил я. Деррик бросил на меня испепеляющий взгляд и изрек: "You don't make a record for fun, man!"[15], после чего отправился играть свой сет. Когда вечеринка закончилась, Деррик снова подошел ко мне и заявил, что хотел бы издать "Acid Eiffel" на своем лейбле Fragile Records. Я не мог поверить своим ушам. Культовейший детройтский лейбл ни с того ни с сего выпускает сингл каких-то трех французских лоботрясов — это было слишком похоже на сказку. Но Мэй сдержал свое слово, и наш "Acid Eiffel" очень скоро появился в пластиночных магазинах и занял свое место в ящиках, украшенных логотипом Fragile Records.
Еще до выхода "Acid Eiffel" мы с Эриком успели съездить в Нью-Йорк на New Music Seminar — один из главных международных форумов в области звукозаписи. В тот год New Music Seminar наконец-то официально признал существование танцевальной электронной музыки, и по этому случаю в Нью-Йорк съехался весь цвет техно и хауса. Распорядок дня выглядел следующим образом: днем — бизнес, ночью — веселье (правда, и на вечеринках то тут, то там можно было услышать деловой разговор — все-таки Америка есть Америка). Было довольно забавно наблюдать за тем, как Карл Кокс, Ричи Хотин, Свен Фэт и Деррик Мэй с серьезными лицами бегают с деловой встречи на деловую встречу. Сразу чувствовалось, что на New Music Seminar приезжают работать, а не дурака валять. Однако даже в этой чересчур деловой, на мой вкус, обстановке можно было без труда определить, у кого из присутствующих есть собственное видение техно-музыки, а у кого его нет.
Среди прочих важных мероприятий в программе New Music Seminar значилась конференция, посвященная детройтскому техно. Пообщаться с Хуаном Аткинсом, Блейком Бакстером и Дерриком Мэем пришли десятки журналистов, диджеев, продюсеров, а также крупных и мелких акул шоу-бизнеса. Ситуация вышла из-под контроля, когда в ответ на чью-то не слишком умную реплику Хуан Аткинс выпалил: "Вы ничего не понимаете в техно! Вместо того чтобы чесать языками, съездили бы в Детройт и посмотрели, что там происходит. А то у меня уже уши вянут от вашей болтовни!" Можете себе представить, что тут началось…
Мы с Эриком приехали на New Music Seminar с конкретной целью: установить контакты с интересующими нас звукозаписывающими компаниями. Первым делом мы договорились о встрече с основателями канадского лейбла +8 Ричи Хотином и Джоном Акуавива. Ричи с Джоном явились на встречу в сопровождении своего агента, который подверг нас форменному допросу с целью выяснить, достаточно ли мы компетентны, чтобы с нами иметь дело. Эта беседа выжала из нас с Эриком все соки, но своего мы все-таки добились: Fnac стал официальным дистрибьютором +8 на территории Франции. Следующим в списке наших приоритетов значился лейбл Nervous Records — на тот момент один из лидеров нового нью-йоркского андеграундного хауса (с Nervous сотрудничали, в частности, Джош Уинк и Masters at Work). Наша встреча была очень показательна сточки зрения отношения американцев к европейской, читай не англосаксонской, музыке. Менеджер Nervous с большим энтузиазмом отнесся к идее распространения продукции своего лейбла во Франции, но, как только мы достали из своих сумок образцы фнаковских релизов, на его лице нарисовалась презрительная ухмылка. Он слушал пластинки с таким видом, как будто мы подвергаем его нечеловеческим мукам, а когда музыка стихла, облегченно вздохнул и произнес: "Вы, французы, совершенно не умеете работать со звуком. У вас в стране, наверное, нет звукоинженеров, поэтому и получается такое дерьмо!" Подобного мнения, как выяснилось, придерживались и представители хаус-лейблов Strictly Rhythm и Eight Ball. Единственным человеком, который заинтересовался нашими пластинками, был известный журналист Ларри Флик, писавший для еженедельника "Биллборд". Уже после New Music Seminar он опубликовал в "Биллборде" рецензию на один из релизов Fnac Dance Division, и этот факт, как ни странно, заставил многих американцев изменить свое отношение к французской музыке.
Надо признать, что при всей своей предвзятости в одном американцы были совершенно правы: звук, а точнее, качество записи на винил действительно было слабым местом французской электронной музыки. Во Франции все как будто сговорились, чтобы помешать техно- и хаус-артистам выпускать качественные пластинки. Главными "вредителями" были пресловутые звукоинженеры. То, как будет звучать диск, определяется на этапе мастеринга, когда музыка проходит обработку эквалайзерами. А отвечает за этот процесс именно звукоинженер. Может быть, нам просто не везло, но все звукоинженеры, привыкшие работать с рок-группами, — а других во Франции просто не было — упорно отказывались вникать в специфику техно-музыки, а когда мы пытались давать им рекомендации, делали круглые глаза: "Что?! Вы хотите вывести бочку на передний план? Да где же это видано, чтобы бочка звучала на переднем плане!" Другим злейшим врагом французского техно был компакт-диск, появившийся на свет в 1985 году и за несколько лет полностью вытеснивший старый добрый винил с музыкального рынка. Далекие от электронной музыки люди не могли понять, почему мы так упорно цепляемся за, казалось бы, отживший свое формат, и, когда мы объясняли им, что винил — это неотъемлемая часть техно-культуры, просто-напросто поднимали нас на смех. К 1992 гоДУ во всей Франции выпуском конвертов для долгоиграющих пластинок занималась одна-единственная типография, а выпуском пластинок не занимался вообще никто, так что нам приходилось пользоваться услугами немецких и голландских заводов.
Осмыслив итоги своей поездки в Нью-Йорк, мы пришли к неутешительному выводу: на мировом рынке наши пластинки никому не нужны. "В гастрономии и в парфюмерии вы, французы, конечно, сильны, а вот музыка — это не ваше, так что даже не пытайтесь!" — я и не думал, что эти идиотские стереотипы так прочно засели в умах людей. Да и в самой Франции нам было не от кого ждать поддержки: многотиражная пресса и широкая публика, как и прежде, ничего не хотели знать о техно. Презрительное "это не музыка" давно уже стало присказкой, на которую мы просто не реагировали. Спрос на наши пластинки был так ничтожен, что продажу трехсот экземпляров сингла Шазза мы отпраздновали как большую победу.
Одной из преград на пути к сердцу слушателя была царившая в мире техно тотальная анонимность. Среди музыкантов-электронщиков считалось дурным тоном выпускать пластинки под собственным именем: мол, важно, не кто я, а какую музыку я играю. Эрик же, будучи рьяным противником этого добровольного обезличивания, усиленно внедрял в работу Fnac Dance Division традиционные технологии раскрутки, включавшие в себя, в частности, организацию фотосессий, составление пресс-досье и тщательную проработку дизайна пластинок. За такое вопиющее пренебрежение неписаными законами техно-сообщества, а также за стремление к международному признанию Fnac Dance Division была удостоена ярлыка коммерческого, а попросту говоря, продажного, лейбла. Целенаправленная дискредитация Fnac со временем стала для наших конкурентов из различных продюсерских и промоутерских команд своего рода второй профессией. Одним словом, если Fnac в чем-то и не испытывал недостатка, так это в недоброжелателях.
Но, как это часто бывает в подобных случаях, полное непонимание со стороны окружающих из источника переживаний постепенно превратилось в мощный стимул к работе. Мы были уверены в том, что наша музыка достойна внимания, а в нашей PR-стратегии нет ничего предосудительного. И все же, как мы ни старались, французы оставались глухи к техно-музыке. Продажи не росли, и будущее Fnac Dance Division с каждым днем становилось все менее определенным. Спасти нас мог только хит. И вскоре он у нас появился. Вот как это случилось.
Мы сидели с Людовиком в его студии и трудились над новым синглом. Это был один из тех счастливых вечеров, когда музыка рождается словно помимо твоей воли, когда техника, обычно такая непокладистая, вдруг начинает понимать тебя с полуслова, и все на свете кажется простым и понятным. Не успели мы оглянуться, как у нас на руках уже была Дат-кассета с готовым треком. На следующий день я протестировал его на слушателях своей новой передачи на Radio FG, предварив трансляцию кратким комментарием: "Вещь, которую вы сейчас услышите, была записана прошлой ночью, она мне очень нравится, но я не могу найти для нее подходящего названия". Через несколько минут мне на Минитель[16] пришло сообщение от слушателя: "Действительно, очень красивый трек, мне он напомнил дыхание. Назови его "Breathe"[17]". В результате композиция была названа "Breathless"[18] и отдана на суд Эрика Морана. Приговор последовал незамедлительно: "Чтобы завтра же у меня была сторона Б!"
Что ж, слово Эрика закон, так что я снова отправился в студию Людовика. Мне уже давно хотелось посвятить какую-нибудь вещь всем завсегдатаям Wake Up, то есть самым преданным поклонникам техно и хауса в Париже. Но, с другой стороны, я чувствовал, что должен высказать все, что думаю о тех нелепых междоусобных войнах, которые ведут между собой французские лейблы, диджеи и промоутеры. Мне хотелось воскликнуть: "Проснитесь! Сколько можно играть в войнушку, давно пора понять, что техно — это наше общее дело и наша общая сила". Трек получился на славу: TR9O9 отбивал ритм, ТВЗОЗ изрыгал басы, а мой засэмплированный голос (Людовик пропустил его через массу разнообразных фильтров, чтобы придать ему сходство с ревом неистовствующего снежного человека) взывал ко всем французам: "Noooo moooore sleeeepiiiiing, waaaake uuuuuup"[19]. На следующий день кассета оказалась на столе у Эрика. Который послушал ее и твердо сказал: "Нет". Оказалось, его смутил крик снежного человека. Я пообещал учесть это замечание и отправился обратно в студию. Окончательная версия "Wake Up", вышедшая в апреле 1993 года, мгновенно взлетела на верхние строчки немецких (!) хит-парадов. Тут же подсуетился и лейбл Warp, и лицензионная версия "Wake Up" вскоре появилась на прилавках английских пластиночных магазинов. Мы торжествовали: наконец-то наши европейские соседи устремили свой взор, а точнее, слух в сторону французского хауса. Чувствуя, что это отличная возможность на всю Европу заявить о своей самобытности, Fnac Dance Division выпустила куртки с надписью "We give a French touch to house"[20].
Когда я ездил в Англию — а это случалось три раза в месяц, — я старался как можно больше времени проводить со своими безбашенными сток-он-трентскими друзьями. (Кстати, наш макси-сингл "Stronger by Design" разошелся во Франции двухтысячным тиражом, что было более чем достойным результатом.) Во время одной из наших пьянок мы торжественно основали общество законченных фриков под названием Moose Possee, то есть "Банда лосей". Заседания нашего общества обычно начинались с "лосиного" ритуала: мы запирались в студии, раскуривались, какое-то время сверлили друг друга своими красными глазами, а затем клали руки на затылок, растопыривали пальцы и во все горло вопили "Moooooose" — так в нашем представлении выглядела возбужденная лосиха, ищущая своего лося. И только после этого мы включали аппаратуру и приступали к работе. Нашей конечной целью было сочинение саундтрека к несуществующему фильму о лосях, обитающих на Северном полюсе. Вскоре цель была достигнута, и в июле на Fnac вышла пластинка "Lost in Alaska", повествующая о странствиях отбившегося от стада молодого лося. В конце пластинки наш главный герой, окоченевший и изголодавшийся, наконец-то находит своих сородичей, и в честь этого счастливого события на льдине устраивается грандиозная вечеринка!
Когда с северными лосями было покончено, Доминик подключил нас к работе над серией ремиксов "I Believe" Кевина Сондерсона, которая должна была выйти на лейбле Network. Мы "препарировали" каждую дорожку "I Believe" и в результате получили нечто напоминающее бесконечно долгий трип в страну ревущих лосей. Менеджеры Network пришли в полное недоумение — надо полагать, у них было иное представление о том, как должен звучать ремикс детройтского техно-стандарта, — но все же передали кассету Кевину Сондерсону, который оценил наше творение и дал добро на его издание. "I Believe" Laurent Gamier Frenchman in Stoke-on-Trent Ambient Chill Baseroom Mix вышел в свет в сентябре 1992 года.
Свой первый день рождения Fnac Dance Division встретил в хорошей форме. Примерно в это время в его каталоге появились новые имена — Scan X и Lunatic Asylum, а список иностранных партнеров, уже включавший в себя Warp и +8 (последний в тот момент как раз находился в центре всеобщего внимания благодаря синглу "Pull Over" Speedy J), пополнился за счет голландского лейбла Djax-Up. Однако в начале 1993 года на Fnac обрушились серьезные финансовые проблемы, и творческая независимость Эрика Морана оказалась под угрозой. На помощь опять подоспел хит: "The Meltdown" проекта Lunatic Asylum. "The Meltdown" покорил не только рейвы, но и парижские клубы, прежде упорно игнорировавшие французское техно, а в Германии популярность этого трека достигла таких размеров, что авторитетнейший немецкий журнал Frontpage признал Fnac лейблом месяца.
На этой волне фнаковские артисты стали регулярно ездить за границу и прежде всего в Германию, где их принимали очень тепло — не хуже, чем своих, немецких диджеев. Мы, в свою очередь, принялись активно приглашать на Wake Up немецких (Свен Фэт, Пол Ван Дайк, Pascal F.E.O.S) и английских (Карл Кокс, Колин Дейл, Даррен Эмерсон, Люк Слейтер, Black Dog) артистов, не забывая при этом и о нашем любимом Детройте. Среди выходцев из этого славного американского города, посетивших Wake Up, был и юный протеже Деррика Мэя Кенни Ларкин (Kenny Larkin), в активе которого уже имелись два отличных альбома: выпущенный на Warp "Azimuth" и выпущенный на R&S "Metaphor".
Поскольку меня безумно интересовало все, что связано с Детройтом, я буквально замучил бедного Кенни расспросами о буднях города, о музыке, которую слушают его обитатели, о жизни моих кумиров и так далее. Когда Кенни надоело отвечать на мои вопросы, он взял и пригласил меня к себе в гости.
Упустить такой шанс было бы просто преступлением.
Глава седьмая Final Frontier
"Техно, как и сам Детройт, — это одно большое недоразумение. Как если бы Джордж Клинтон и Kraftwerk застряли в одном лифте и у кого-нибудь из них оказался бы с собой секвенсор".
Деррик Мэй"We created tomorrow and live in your imagination. We wilt never die"[21].
Underground ResistanceВ Детройте пять часов вечера. Мой самолет только что приземлился в городском аэропорту. После скрупулезной проверки моей личности (неужели у меня такой подозрительный вид?!) сотрудник полиции ставит мне в паспорт розовый штамп и отпускает на волю. Я нахожу пустое такси, протягиваю водителю адрес Кении Ларкина и устраиваюсь на заднем сиденье. Сначала мы едем по неприветливой кольцевой дороге, затем, миновав щит с надписью "Downtown Detroit", выскакиваем на широкий проспект. В бледном свете фар мимо нас проплывают облезлые стены домов, будят в моем воображении образы древних, готовых обрушиться от малейшего дуновения ветра мавзолеев. Над городом возвышаются стройные башни, увенчанные красно-синими буквами G и М. Таксист поворачивается ко мне и с таким видом, словно речь идет о руинах главной местной достопримечательности, произносит: "Это, дружок, офис "Дженерал Моторс"". Из своего поднебесья красно-синие инициалы автомобильного концерна безучастно взирают на агонизирующий город.
Пока такси везет меня в белый пригород, где живет Кении Ларкин, я пытаюсь вспомнить, в какой связи я впервые услышал о Детройте. В связи с детройтским техно? А может быть, еще раньше, в связи с "мотауно-вским" соулом?.. Соул и техно, две вариации на одну и ту же тему — тему боли и искренности… Ясно одно: в моем мозгу слово "Детройт" сразу пристроилось рядом со словом "музыка". И для тех, кто, подобно мне, познавал мир не по учебникам, а по виниловым пластинкам, музыка, рождавшаяся в этом городе, — будь то джазовые и ритм-н-блюзовые эксперименты, футуристический фанк Джорджа Клинтона, неистовый рок МС5 и Stooges или волшебный мотауновский соул — служила, служит и будет служить эталоном качества.
Для Америки с ее культурной амнезией Детройт — один из редких, если не единственный надежный ориентир во мраке затянувшегося безвременья. Для Европы он, воплощение ритма, необузданной креативности и совершенства. Для меня же это земля страданий и скорби, на которой из семени джаза вырос цветок техно. Ведь если разобраться, великих техно-музыкантов волнуют те же вещи, что когда-то волновали великих джазменов. Вслушайтесь в музыку Деррика Мэя, и вы почувствуете в ней тот же грув, ту же бесконечную меланхолию и ту же одержимость временем и космосом, что пронизывают музыку Джона Колтрейна. Я приехал в Детройт для того, чтобы встретиться со своими духовными учителями. Чтобы попытаться раскрыть секрет бездонной печали, которая переполняет их музыку. Чтобы узнать, откуда в ней столько суровости, зрелости, чистоты и чувства. Я был готов к тому, что мне придется по крупицам собирать ответы на эти вопросы, но оказалось, что все они уже содержатся в истории Детройта.
С исторической точки зрения, Детройт для Америки — то же самое, что Манчестер для Англии. А именно первый крупный промышленный эксперимент.
В начале XX века на обосновавшиеся в Детройте заводы Форда начинает стекаться рабочая сила со всей Америки и из-за ее пределов. Самая тяжелая работа, например обслуживание литейных цехов, по традиции достается цветным. Облик города постепенно меняется. На его карте появляются Греческий квартал (Greek Town) и черное гетто Black Bottom. Именно в Black Bottom, на Хастингс-стрит, в начале 30-х будет основан первый храм нации ислама. (В 50-е годы Black Bottom будет снесен, а по освободившейся территории пройдет автострада.)
В 30-е годы Детройт удерживает пальму первенства среди американских городов по количеству деревьев на один квадратный километр и пытается оправиться от Великой депрессии. Но вот начинается Вторая мировая война, и Город автомобилей (Motor Town — неформальное название Детройта) на время превращается в Арсенал демократии. С конвейеров "Форда" сходят бомбардировщики Б-52, с конвейеров "Крайслера" — танки. Город снова процветает. Послевоенные годы Детройт проводит в джазовой лихорадке, а в 1959 году случается одно из самых счастливых событий в истории Motor Town — появление на свет лейбла Motown. 60-е годы проходят под знаком борьбы цветного населения за свои права, и в июле 1967 года Детройт на несколько дней становится ареной кровавого бунта. А в 70-е начинается закат, медленный и необратимый: автомобильные заводы закрываются, идеалы рушатся, гетто разрастается, белое население бежит в пригороды. В 80-е годы детройтское гетто наводняют торговцы крэком…
Техно-музыка — это рассказ об испытаниях, выпавших на долю детройтцев. Рассказ, в котором нет слов, а есть лишь несколько повторяющихся до бесконечности нот, но в этих нотах заключена потрясающая сила, подобная силе упорно отказывающейся угасать жизни. В техно много металла, много стали, много стекла, а еще, если закрыть глаза, в нем можно расслышать эхо человеческого крика.
Детройтское техно, как и джаз с блюзом, — это боль, превращенная в музыку.
Поэтому "научиться" техно невозможно: вы знаете кого-нибудь, кто бы смог научиться боли?
В начале 80-х американская индустрия звукозаписи рассматривала Детройт как своего рода экспериментальную площадку. Считалось, что если пластинка пользуется успехом в Детройте, то она будет пользоваться успехом во всей Америке, поэтому меиджоры охотно сотрудничали с местными радиостанциями и частично делегировали им разработку своих маркетинговых стратегий. Появление в радиоэфире по-настоящему творческих и изобретательных диджеев оказало колоссальное влияние на формирование детройтской музыкальной сцены. Все техно-продюсеры и диджеи первого поколения до сих пор с блеском в глазах рассказывают о передачах гениального Electrifying Mojo, который одним из первых стал скрещивать корневую черную музыку с европейской электроникой. В его эфире в прайм-тайм можно было услышать Принса, A Certain Ratio, Funkadelic, Kraftwerk, Visage, New Order, Pet Shop Boys, B-52's, Falco и французского скрипача Жана-Люка Понти (Jean-Luc Ponty). Именно Electrifying Mojo пробудил в молодых детройтцах желание встать за вертушки. А позднее именно он стал первым теоретиком техно.
В середине 80-х на детройтском радио появился еще один необычный диджей — Wizard, то есть Колдун. Виртуозная техника, тончайшее чувство микса, любовь к риску, а также нежелание раскрывать свое истинное имя превратили Колдуна в человека-легенду… Прошло двадцать лет, а коренные детройтцы по-прежнему называют Джеффа Миллза Wizard. На передачах Wizard выросло современное поколение детройтских рэперов, поэтому, когда Миллз играет в родном городе — а это, увы, случается нечасто, — в зале можно наблюдать всю местную хип-хоп-тусовку, что для техно-вечеринок большая редкость. После этих выступлений по городу долго ходят сплетни, основанные на "показаниях очевидцев": "Послушать Wizard пришел сам Эминем", "Jay Dee вошел в зал в сопровождении группы Slum Village" и так далее.
Джефф Миллз без преувеличения один из влиятельнейших музыкантов последнего десятилетия. Визионер, мозг техно-музыки, диджей с большой буквы — это все о нем. Я не знаю, что может сравниться со счастьем наблюдать за тем, как он по-кошачьи грациозно манипулирует своими тремя вертушками, и вслушиваться в то, как он тонко и искусно играет с самой минималистской, самой шершавой и самой фанковой музыкой, которая только есть на свете. В этой главе Джефф будет нашим проводником по Детройту 80-х. Он покажет нам город, который за одно поколение прошел путь от сытого благополучия до кошмарной нищеты, между делом произведя на свет последнюю революционную музыку XX века — техно.
ДЖЕФФ МИЛЛЗ: "в 1979 году мне было шестнадцать лет. У моего старшего брата, который к тому времени уже давно работал диджеем, были собственные вертушки, и я постоянно ходил к нему тренироваться. Иногда мы записывали кассеты с миксами и отсылали их на местные радиостанции, что тогда было совсем не принято. На одно только радио WDRQ я отправил, наверное, кассет пятнадцать, но ответа так и не дождался. Когда брат завязал с диджеингом, его аппаратура и пластинки перешли ко мне. Я разместил все это богатство у себя комнате и стал упражняться по несколько часов в день.
В конце 70-х — начале 80-х в Детройте все только и говорили, что о хип-хопе. Информация, которая — через Чикаго — долетала до нас из Нью-Йорка, была довольно скудной, но и ее было достаточно, чтобы почувствовать, что хип-хоп — это настоящая уличная культура. То есть культура, которую обитатели гетто создали в расчете на обитателей гетто. В общем, Фор Ус Бы Ус. Хип-хоп объединял четыре элемента: танец, граффити, рэп и диджеинг.
На Восточном берегу главными героями тогда были Grandmaster Flash и DJ DST, на Западном — Dr. Dre и DJ Yellow. Во Флориде и в Миссисипи все слушали так называемые Bass Stations — радиостанции, которые крутили электро и Miami Bass. А еще хип-хоп подарил миру такую прекрасную вещь, как скретчинг. Поскольку в те годы не существовало видеокассет с мастер-классами профессиональных диджеев, мы у себя в Детройте ломали голову над тем, как правильно делать скретчи и вообще как добиваться разных звуковых эффектов. Помню, кто-то высказал предположение, что, если надеть хирургические перчатки, скретч будет получаться намного быстрее, и на следующий день все детройтские диджеи бросились в медицинские магазины покупать эти самые перчатки.
По мере поступления информации из Нью-Йорка я овладевал новыми приемами, и моя техника игры постепенно совершенствовалась. Мне было интересно все, что имело отношение к музыке: имена продюсеров, ремиксеров, директоров лейблов, состав групп, различные методы скретчинга и так далее.
В те годы детройтские дети очень рано приобщались к музыке и ночной жизни. В четырнадцать все уже ходили в так называемые дискомобили, то есть передвижные дискотеки. У каждой возрастной группы была своя дискомобильная вечеринка. С этих вечеринок и началась моя диджейская карьера. Мне было тогда семнадцать лет.
Но всю жизнь играть в дискомобилях я не собирался. Мне хотелось научиться общаться с более взрослой и взыскательной публикой — иными словами, стать настоящим клубным диджеем. Мой брат принялся знакомить меня с разными видными персонажами детройтской музыкальной сцены в надежде, что кто-нибудь из них поможет мне выбиться в люди. Как-то раз он организовал мне прослушивание в клубе Lady. Поскольку лицам, не достигшим двадцати одного года, находиться в Lady было запрещено, мне пришлось воспользоваться служебным входом. Было всего десять часов вечера, но зал был набит до отказа. Короткими перебежками, чтобы не попасться на глаза охранникам, я добрался до диджейской, где меня уже ждали администратор и резиденты клуба. Мне сразу же было велено показать "все, на что я способен". Я встал за вертушки и с ходу продемонстрировал очень эффектный диджейский трюк: поставил трек не с начала, а с брейка, а потом на второй вертушке завел его же, но на этот раз с самого начала. По лицам своих экзаменаторов я понял, что никто из них эту фигуру раньше не слышал. Когда я закончил сет, мне был предложен недельный испытательный срок. Так я стал играть в Lady. Резиденты клуба согласились заняться моим образованием. Я узнал много полезных вещей: например, как заставить публику полюбить тот или иной трек (оказалось, очень просто — надо сыграть небольшой фрагмент трека, потом снять пластинку, а через час поставить ее снова — хит готов); как подобрать пластинки для сета так, чтобы потом иметь возможность выкрутиться из любой ситуации, и так далее. В общем, я прослушал настоящий курс психологии танцпола. И я очень рад, что мне представилась такая возможность, потому что большинству моих коллег пришлось учиться всем этим премудростям на собственных ошибках.
He прошло и нескольких месяцев, как я уже диджействовал в трех разных клубах. Одним из них был UBQ. Однажды UBQ выпала честь принимать у себя after-show Принса, который гастролировал в Детройте в рамках своего Purple Rain Tour. Вечеринку захотела транслировать в прямом эфире радиостанция WDRQ (та самая, на которую я так упорно посылал свои демо-кассеты). Мне было приказано крутить исключительно музыкантов из галактики Принса: Sheila E., Vanity, The Time и так далее. Я сильно нервничал и поэтому постарался заранее продумать каждую мелочь. За пару минут до начала сета ко мне подошла ведущая WDRQ и спросила, есть ли у меня псевдоним. Я ответил, что мой лучший друг называет меня Wizard. He успел я оглянуться, как она уже объявляла в микрофон: "Вы слушаете WDRQ, мы ведем прямую трансляцию из клуба UBQ. Сейчас для вас будет играть Wizard!" На следующий день я узнал, что во время моего сета WDRQ зафиксировала рекордное количество радиослушателей. Вскоре меня вызвал к себе новый программный директор WDRQ. Он был родом из Нью-Йорка и приехал в Детройт с намерением приобщить местную молодежь к хип-хопу. В тот момент он как раз искал диджея для новой передачи о хип-хопе. На это место был еще один претендент, но по итогам прослушивания выбрали меня. Директор отвел меня в свой кабинет, начал что-то мне рассказывать про будущую передачу, а потом вдруг сказал: "А ты знаешь, мы ведь давно за тобой наблюдаем". Я сделал удивленное лицо, и тогда он открыл шкаф и показал мне полку, на которой стояли, причем в хронологическом порядке, все демо-кассеты, которые я посылал им в течение нескольких лет. Так я и стал радио-диджеем. Я быстро усвоил все правила работы на радио. Научился вести эфир, монтировать передачи. Никто меня ни в чем не ограничивал. Мне сразу было сказано: "Вот тебе студия, вот тебе три вертушки, вот тебе секретарь. Действуй!" У меня был свободный доступ к фонотеке WDRQ, a кроме того солидный бюджет, так что я мог покупать все пластинки, которые привлекали мое внимание. Для парня, которому еще не исполнилось и двадцати лет, это был настоящий подарок судьбы. Меня сначала удивило оказанное мне доверие, но потом я понял, чем оно объясняется: WDRQ пыталась переманить аудиторию у конкурирующей радиостанции, для чего ей требовался человек со свежими, нестандартными идеями. И было решено, что я и есть тот самый человек".
Playlist
Kevin Saunderaon
Rock to the Bad
Blake Buter
Whmm UsedtoMaf
Mode! 500
Я * Bartit
Jeff Milk
The Bells
Mayday
Sinister
Aux 88
Direct Brim
K Hand
!Do
Eddie Flashing Fawlkes
Track Om
fCeimy Dixon
I'm Doing Bne
Theo Parrish
miking throught thi%
Alan Oldham
Engine flout Rtodor
Dark Comedy
В ноябре 1982 года WDRQ стала понемногу выводить Wizard в эфир. Но это была лишь подготовка к девятичасовому новогоднему шоу, с которого, по плану дирекции станции, должна была начаться звездная карьера Wizard. "Я все время находился в состоянии боевой готовности и по первому зову мчался в студию и выходил в эфир. Моей главной задачей было постоянно преподносить слушателям какие-нибудь сюрпризы. На фоне остальных диджеев я выделялся тем, что все время придумывал тематические миксы: например, "Майкл Джексон vs. Принс", "Автомобиль vs. Motor City" и так далее. Материалы для этих передач я находил в аудиоархивах WDRQ. Наверное, именно тогда впервые проявилась моя тяга к концептуальности.
Поскольку Wizard задумывался как мифический персонаж, мне пришлось поклясться, что я никому не буду рассказывать о своих радиопохождениях и не стану использовать этот псевдоним для клубных выступлений, которые по-прежнему занимали значительную часть моего времени. В детройтских клубах в начале 80-х было много очень талантливых диджеев, например Дэррил Шеннон (Darryl Shannon), Делано Смит (Delano Smith) или Карл Мартин (Carl Martin). И под влиянием передач Electrifying Mojo эти диджеи постепенно начинали приобщать публику к европейской музыке, а точнее, к синти-попу.
В 1981 году в Детройте вышла пластинка, с которой началась история техно. Пластинка называлась
и записали ее четыре студента: два парня и две девушки. Все они состояли в студенческом клубе Sharevari, который занимался организацией частных вечеринок. Эта деятельность приносила неплохой доход, и ребята создали группу под названием A Number of Names. Как-то раз, вдохновившись песней Moskow Diskow бельгийской группы Telex, они отправились в студию и записали трек, который в честь родного клуба назвали Sharevari. Пластинка попала в руки Mojo, и он сделал из нее настоящий хит. "Sharevari" стала первым образцом детройтского техно-саунда, правда, тогда для этой музыки не существовало никакого определения — слово "техно" появилось позже.
В самый разгар Sharevari-мании я познакомился с Хуаном Аткинсом. Хуан был большим поклонником Kraftwerk и одним из участников группы Cybotron, которая тогда как раз выпустила сингл "Clear". Выход "Sharevari" подвиг Хуана на поиск нового саунда. Его партнер по Cybotron переехал в Калифорнию и занялся поп-музыкой, а Хуан остался в Детройте и в 1985 году выпустил синглы "No UFO's" и "Night Drive", по звучанию довольно близкие к "Sharevari". Тут-то все и заговорили о техно… Сейчас уже сложно вспомнить, кто первым произнес это слово, да это и не важно. Главное другое: обретя название, новая детройтская музыка наконец заявила о себе как о самобытном явлении. Можно сказать иначе: если "Sharevari" была первой ласточкой детройтского техно, то Хуан Аткинс стал его первым героем. А потом у нас, детройтцев, появилась своя святая троица: Хуан Аткинс, Деррик Мэй и Кевин Сондерсон.
С Кевином Сондерсоном я познакомился на одной из негритянских вечеринок, куда меня пригласили в качестве диджея. Раньше мы никогда не сталкивались, потому что тусовки, к которым мы принадлежали, не пересекались между собой. Дело в том, что начале 80-х детройтские музыканты и диджеи жили совсем разобщенно. Вечеринки проходили на каждом углу — в клубах, в домах, во дворах, но большинство людей не имели ни малейшего представления о том, что творится за пределами их маленькой тусовки. Кевин подарил мне пластинку своего проекта "Reese & Santonio" и познакомил меня с Нилом Раштоном (Neil Rushton) — директором английского лейбла Network Records, который первым у себя в стране начал издавать пластинки с детройтским техно. А через несколько месяцев Кевин выпустил сингл "The Big Fun" и прославился на весь клубный мир.
У меня была своя группа, The Final Cut которая играла индастриал. Мы записали несколько пластинок, но меня не покидало ощущение, что я работаю не с теми людьми. И тогда судьба свела меня с Майком Бэнксом".
Майк Бэнкс (Mike Banks), он же Сумасшедший Майк (Mad Mike), — душа детройтского техно. Если и есть в Детройте человек, в котором воплотились вся боль и все страдания, выпавшие на долю этого города, то это именно он. Майк — эдакий герильеро, объявивший войну городскому кошмару. Его оружие — музыка. Его духовные учителя — афроамериканские лидеры 60-х. Сам Майк предпочитает говорить о себе как о "типичном продукте черной детройтской культуры". Остается добавить, что он еще и великий музыкант, а также один из самых влиятельных людей на мировой техно-сцене.
Майк ведет свою войну из глубокого подполья — отсюда нежелание общаться с журналистами и фотографироваться с открытым лицом. Во главе своего боевого отряда, известного также как проект Underground Resistance, он совершает хорошо спланированные музыкальные диверсии против расовой сегрегации, монополистской политики мейджоров и атмосферы безысходности, царящей в гетто.
Из своей штаб-квартиры, в которой помимо Underground Resistance разместились несколько студий звукозаписи и офис дистрибьюторской компании Submerge, опекающей все независимые лейблы Детройта, Сумасшедший Майк ведет борьбу сразу на двух фронтах: творческом и общественном. Помочь молодежи вырваться из плена наркотиков и криминала, рассказать людям о бедственном положении своего города-для него это такая же жизненная необходимость, как сочинение музыки и эксперименты со звуком.
Майк Бэнкс — необычный собеседник. Он не ждет от вас никаких вопросов, а сам низким, словно израненным, голосом начинает неспешный рассказ о своем детище, Underground Resistance.
МАЙК БЭНКС! "Как и все детройтские мальчишки, мы с Джеффом мечтали о великих делах и красивой жизни. Нам хотелось создать что-нибудь грандиозное, подписать контракт с мейджором, попасть в телевизор и на страницы журналов. Без этого у нас, в Детройте, тебя никто не будет считать состоявшимся музыкантом.
Джефф был фанатом индастриала, а я был фанатом Джеффа. В его исполнении любая музыка звучала безумно фанки. Я до сих пор считаю, что Джефф — самый фанковый человек на свете. Познакомились мы на студии United Sound. Я тогда работал с Майком Пирсом (Mike Pierce), Скоттом Кристерсом (Scott Christers) и Рэем (Ray) — Рэй потом, кстати, тоже присоединился к Underground Resistance. Мы были сессионщиками-универсалами и играли все подряд: ритм-н-блюз, фанк, госпел… Так получилось, что нас взяла под свое крыло компания Motown. Мы очень радовались, пока не узнали, что из нас хотят сделать очередной бойз-бэнд. Нам придумали какое-то идиотское название (For Girls Only или что-то в этом роде) и выдали кошмарные шмотки а-ля Принс. Нам тогда было по двадцать три — двадцать четыре года, и мы решили: да пропади он пропадом этот успех, если за него нужно платить такой ценой. Motown понял, что мы не будем плясать под его дудку, но, поскольку контракт был уже подписан, нас оставили в качестве сессионных музыкантов. Нам довелось поиграть с Джорджем Клинтоном, Эмпом Фиддлером (Amp Fiddler), преподобным Томасом Уитфилдом (Thomas Whitfield) и Дэвидом Спрэдли (David Spradley) — автором знаменитой "Atomic Dog". Но несмотря на это, от общения с Motown у меня на душе остался премерзкий осадок.
У Джеффа тоже все складывалось не слишком удачно. Никто не сомневался в его таланте, но было ясно, что со своей группой Final Cut он далеко не уедет. Многие вообще считали, что чернокожий парень, играющий индастриал, — это нонсенс. Джефф работал с фантастической скоростью. Мне и моим друзьям, игравшим ритм-н-блюз — а это музыка, требующая от исполнителя огромной точности, — случалось по два-три месяца трудиться над одной вещью, прежде чем мы добивались нужного звучания. Поэтому нас так заворожила музыка Kraftwerk. Мы не догадывались, что за этими звуками стоят не инструменты, а компьютеры, и тщетно пытались воспроизвести их на своих гитарах. Когда мы наконец поняли, в чем дело, нам захотелось самим поэкспериментировать с новыми технологиями. Кому-то из нас пришла в голову мысль обратиться к Джеффу Миллзу, и Джефф согласился прийти к нам в студию и помочь нам с редактированием треков, которые мы записывали. Так я с ним и подружился.
У нас с Джеффом оказалось много общего, в частности любовь к Public Enemy. Нас восхищало в них то, что они отказывались строить из себя шоу-ниггеров. У нас ведь как в Америке: если ты хочешь сделать карьеру в шоу-бизнесе и у тебя черный цвет кожи, то будь добр накраситься, одеться в яркие тряпки и усыпать себя блестками. Таких шутов мы и называем шоу-ниггерами. В моей семье всегда ненавидели шоу-ниггерство. Все мои родственники были спортсменами и работягами и считали, что, если ты родился в гетто, это еще не повод становиться наркодилером, проституткой или сутенером. Так что мне с детства внушили отвращение к мишуре, блестящей одежде и прочим сутенерским штучкам. Всех этих чернокожих парней, кривлявшихся в телевизоре, я считал просто безмозглым пушечным мясом. И, когда я впервые услышал Public Enemy, я понял, что их волнует то же, что и меня. Их музыка звучала так мощно, так убедительно. У них была своя эмблема: мишень, а внутри нее — фигурка человека. Они словно говорили всему белому истеблишменту: "Фигурка — это я. Я добровольно сделал из себя мишень. Можешь выстрелить в меня, если у тебя хватит смелости!" Неудивительно, что их затаскали по судам.
Нам с Джеффом прекрасно работалось вместе, и в какой-то момент мы поняли, что мы не просто коллеги, а самые настоящие единомышленники. Тогда мы придумали UR — Underground Resistance. Нам хотелось объединить немецкую точность Kraftwerk и бунтарскую силу Public Enemy.
В тот год Джефф, а точнее, его радиоперсонаж Wizard, находился на пике своей славы. У него была двухчасовая передача на крупнейшем черном радио Детройта — WJLB, Когда Джефф впервые поставил в своем эфире песню Public Enemy, дирекция радиостанции пришла в ужас и сделала ему строгий выговор. Но за время общения со мной Джефф успел превратиться в истинного партизана. Он знал, что может рассчитывать на моих товарищей, за которыми стоят уголовные банды, и, наплевав на запреты, продолжил крутить Public Enemy. В ответ на это руководство WJLB сократило его эфир сначала до часа, потом до получаса. А когда оно вознамерилось отнять у него еще пятнадцать минут, Джефф просто написал заявление об уходе, и Wizard не стало. Мы все ужасно переживали. Мне кажется, что исчезновение Wizard существенно замедлило формирование детройтской техно-сцены.
UR родился из духа неповиновения. От борьбы, которую вели предшествующие поколения бунтарей, наша борьба отличалась лишь тем, что мы подключили к ней современную технологию. Мы хотели, чтобы за нас говорила наша музыка. Никаких фотографий, никаких заигрываний с прессой — нас не устраивали правила игры, которые навязывал шоу-бизнес. Будучи студийными музыкантами, мы не видели ничего противоестественного в том, чтобы все время оставаться в тени — пускай люди интересуются нашей музыкой, а не тем, как мы выглядим, какого цвета у нас кожа и так далее. Не надо забывать, что в 80-е годы многие черные артисты осветляли себе кожу и меняли форму носа. Fuck! Как мы все это ненавидели! UR — это порождение Детройта и черной Америки в целом. Это продолжение рутинной, повседневной борьбы за выживание. Я уверен, что сила, с которой чьи-то мысли и чье-то творчество воздействуют на других людей, неподвластна времени. Наша музыка неподвластна нам самим. Я иногда привожу такое сравнение: музыка для нас то же, что кровь для вампира, а именно
Мы уйдем, а энергия, которую мы в нее вложили, останется и, возможно, передастся людям, которые придут через сто, двести, триста лет после нас. Я живу на этом свете для того, чтобы зажигать огонь в сердцах людей, в том числе тех людей, которые еще не появились на свет".
ДЖЕФФ МИЛЛЗ: "Мы с Майком решили создать совместный проект и стали обдумывать различные варианты. Из рассказов Деррика Мэя, Хуана Аткинса и Кевина Сондерсона следовало, что с мейджорами и европейскими лейблами связываться не стоит. Кевин, например, очень неодобрительно отзывался о мейджорах, которые выпустили его "Big Fun" и "Good Life". Да и у нас самих уже была возможность убедиться в нечистоплотности звукозаписывающих корпораций.
В общем, мы решили, что будем до конца сопротивляться всей этой гнусности и лицемерию. Так возникло название Underground Resistance, "Подпольное сопротивление".
Прежде чем заняться собственно музыкой, мы тщательно продумали концепцию нашего проекта. Если воинственность и ангажированность мы переняли у Public Enemy, то концептуальному мышлению нас научило радио. Каждый, кто когда-либо работал на радио, знает: единственная гарантия того, что твоя передача не затеряется в дебрях эфира, — это яркая, оригинальная концепция. Этот принцип и был положен в основу UR.
Мы с Майком прекрасно дополняли друг друга. У меня был доступ в лучшие студии звукозаписи, разнообразная аппаратура и солидный навык работы со звуком. Как диджей я одинаково уверенно чувствовал себя и на хаус-, и на хип-хоп-вечеринках. Майк же обладал уникальной манерой игры на клавишных и прекрасно разбирался в вокале. Именно он вдохнул в нашу музыку чувственность соула и добился определенной вдумчивости и неспешности музыкального повествования.
Мы собрали в одном помещении все наши инструменты и приборы и получили прекрасно оснащенную современную студию. Тогда музыку еще не сочиняли на компьютерах. Конфигурация студии позволяла трудиться одновременно над несколькими треками. У нас была четкая схема работы, в которой каждому отводилась определенная роль. Выглядело это следующим образом: мы покупали жареного цыпленка, закрывались в студии и принимались обсуждать накопившиеся идеи. Определившись с тем, что мы хотим сделать, мы сочиняли инструментальные партии. После чего Майк записывал партии клавишных и покидал студию, а я вставал за микшерный пульт. Майк возвращался в студию, чтобы принять участие в конечной стадии микширования, и снова удалялся, а я уже доводил получившийся трек до ума. За все время нашей совместной деятельности, то есть с 1990 года, когда вышла первая пластинка UR "Your Time is Up", и по 1992 год, мы ни разу не отступили от этой схемы.
В 1992 году мы спродюсировали пластинку молодой детройтской команды Members of the House. Пластинка была выпущена по лицензии английским лейблом React. Европейской публике она пришлась по душе, и группе предложили выступить в Англии. Члены Members of the House были типичными ребятами из гетто — непокладистыми и непредсказуемыми, и Майк решил, что будет лучше, если он поедет с ними. До этого мы с Майком никогда не разлучались больше чем на одну неделю. Я остался один и, чтобы не сидеть без дела, записал пластинку "The Punisher", которая стала моей первой сольной работой, вышедшей под вывеской UR.
В тот год некоторые детройтские артисты, в том числе Деррик Мэй или Блейк Бакстер, уже выезжали в Европу, и их рассказы о том, что творится за океаном, приводили нас в полное недоумение. У нас, например, никак не укладывалось в голове, что в Бельгии выступление американского диджея может собрать пятнадцатитысячную толпу. Эта цифра казалась нам абсолютно заоблачной! В самом Детройте творческий подъем к тому моменту уже успел смениться всеобщей депрессией. Лучшие музыканты один за другим уезжали из города: кто в Чикаго, кто в Нью-Йорк, кто в Калифорнию. Радиоэфир заполонил гангста-рэп; крутить техно стало практически невозможно. Радиостанции брали на работу молодых диджеев без музыкального бэкграунда, которые даже не проводили различия между хип-хопом и гангста-рэпом. Гангста-рэп полностью овладел умами детройтской молодежи и изменил ее образ жизни. По всему городу расплодились бандитские группировки, наркотики стали восприниматься как самое что ни на есть будничное явление, публика сделалась зашоренной и равнодушной".
В 1992 году Джефф Миллз покинул Underground Resistance и перебрался в Нью-Йорк. Майк Бэнкс остался и подключил к своей борьбе молодую гвардию детройтского техно (Drexciya, Aux 88, James Pennington, DJ Rolando). Но над городом продолжала сгущаться тьма.
Такси мчится по пустынным улицам, вдоль бесконечных складских стен и покосившихся металлоконструкций, по которым хлещет ледяной ветер. Когда-то этот квартал был детройтским Ренжисом[22]. Мы проносимся мимо необъятного паркинга, превратившегося в кладбище брошенных машин. Наверное, это совсем гиблое место, раз даже бурная детройтская растительность отказалась его обживать. На ржавеющих кузовах красуются граффити, но рассмотреть их я не успеваю.
Рассказывают, что по ночам на улицы Детройта выходит Неизвестный автор. Он скитается по заброшенным кварталам и неприветливым улицам гетто, оставляя на обшарпанных стенах свои стихи, лозунги и памфлеты. Благодаря LJR, воспроизводящему "избранные произведения" Неизвестного автора на этикетках своих пластинок, с этими едкими и злободневными высказываниями (например, "Don't allow yourself to be programmed"[23]) могут познакомиться и те, кто никогда не бывает в Детройте.
"И что же привело вас в наши края?" — спрашивает меня таксист. Помешкав несколько секунд, отвечаю: "Мне нужно кое с кем встретиться… А вообще я всегда мечтал попасть в Детройт. Просто есть некоторые вещи, которые я должен для себя уяснить". Тишина. Мой собеседник переваривает услышанное, потом начинает повторять слово "всегда", словно пытаясь почувствовать, какое оно на вкус, и наконец очень тихо, почти шепотом, произносит: "Значит, вы приехали, чтобы разгадать тайну Детройта. Тогда мы сейчас сделаем небольшой крюк. Я хочу вам кое-что показать. Это в нескольких милях отсюда, но не бойтесь: я с вас лишних денег не возьму". Мы сворачиваем на какую-то улицу. В машину снаружи проникают басовые вибрации непонятного происхождения. То тут, то там мерцают неоновые вывески. Баптистские часовни с потускневшими от времени и капризов погоды стенами чередуются с винными лавками. На маленьких пятачках земли толпятся люди — это, должно быть, точки сбыта кокаина. И так на протяжении нескольких километров: церковь, алкоголь, наркотики, церковь, алкоголь, наркотики…
Но вот пейзаж резко меняется, и мой таксист сбавляет скорость. В свете фар я начинаю различать полуразрушенные здания, покрытые пестрыми фресками. На одном из них висит огромный плакат, гласящий: "Вы въезжаете в мирную зону Гейдельбергского проекта". Стены домов и кузова брошенных машин испещрены круглыми буквами, из которых складываются стихи, призывающие к миру и взаимоуважению. "Мы сейчас находимся в зоне перемирия, — объясняет таксист. — Это, пожалуй, единственное место в Детройте, где незнакомые люди здороваются друг с другом и вместе совершают молитву. Вы не поверите, но даже гангстеры не посягают на эту территорию! Мне кажется, в этом весь Детройт: с одной стороны, все эти ужасы и насилие, а с другой — неистребимая надежда".
Такси разворачивается, и мы едем обратно в даунтаун. Вокруг все тот же унылый пейзаж. Даже не выходя из машины, можно ощутить витающий в воздухе запах смерти, наркотиков, насилия и одиночества. Не считая Греческого квартала, где компактно расположились все туристические точки Детройта (дорогие гостиницы, рестораны, сувенирные лавки), улицы даунтауна кажутся совершенно вымершими. Редкие прохожие, каким-то чудом оказавшиеся в этом городе-призраке, постоянно оборачиваются по сторонам, словно проверяют, что за ними никто не следит. Дожидающиеся зеленого света водители опасливо поглядывают на переходящих дорогу суровых парней и морально готовятся получить пулю в лоб. Так выглядит будничная жизнь внутри Восьмимильной дороги.
Восьмимильной дорогой (8 Mile Road) в Детройте называют кольцевую улицу, отделяющую даунтаун, где проживает восемьдесят процентов цветного населения города, от белых пригородов. Границу между этими двумя мирами круглосуточно охраняет дорожная полиция. Чернокожий парень, пересекающий Восьмимильную дорогу в направлении пригорода, может не сомневаться в том, что его остановят, подвергнут допросу (место проживания? цель поездки?) и на прощание снабдят каким-нибудь ценным "советом" ("Не забывайте, что в ваших же интересах побыстрее вернуться домой").
МАЙК БЭНКС: "Мне больно смотреть на то, что происходит с моим городом. Здесь любое позитивное начинание умирает, едва успев родиться. Как можно чувствовать себя счастливым или хотя бы просто довольным, когда ты знаешь, что не на этой, так на следующей неделе опять пристрелят кого-нибудь из твоих знакомых?! Стоит тебе на секунду забыться, как жизнь со всей силы бьет тебя по голове — чтобы не расслаблялся. Но несмотря на это, я люблю свой город, люблю его колорит. Здесь все не как у людей. Например, тебе захотелось креветок. Ты идешь в магазин и говоришь продавцу: "Взвесьте мне, пожалуйста, фунт креветок", а он в ответ: "Мы не торгуем креветками". За спиной у него огромными буквами написано "Креветки", а он невозмутимо заявляет, что креветок у него нет. Абсурд какой-то! Но со временем начинаешь любить этот абсурд. То же самое у меня было с церковью. Когда я был маленьким, я не понимал ни слова из того, что рассказывал священник. Он говорил о борьбе добра со злом, а я сидел и думал: "Ну-ну, как бы не так". А потом я повзрослел и понял, что борьба добра со злом — это не вымысел, а чистая правда. Мы живем среди вампиров. По-моему, лучше всех об этом сказали Public Enemy в песне "Night of the Living Baseheads"! С наступлением темноты на улицу выходят сотни людей. Они рыщут по ночному городу в поисках дозы, а на рассвете возвращаются в свои склепы. Когда я читаю про библейских бесноватых или про людей с раздвоением личности, вроде доктора Джекилла и мистера Хайда, я готов поручиться, что речь идет о моих знакомых героинщиках. И сегодня, когда я прихожу в церковь, я уже намного лучше понимаю слова священника. Повзрослев и набравшись опыта, я пришел к тому, что человек не вправе судить своего ближнего. В Библии ведь так и сказано: "Не судите, да не судимы будете".
Мы въезжаем в Бирмингем — белый пригород, в котором живет Кении Ларкин. В Детройте Кении принято считать баловнем судьбы. Он начинал свою карьеру как актер и в музыку пришел совершенно случайно. Вдохновившись творчеством Деррика Мэя, Кении записал несколько пластинок, две из которых — "Azimuth" и "Metaphor" — стали хитами по обе стороны океана и принесли своему автору славу и большие деньги. За такую удачливость многие недолюбливают Кении, но придраться к нему не так-то просто: его музыкальный вкус безупречен.
Кении поздравляет меня с прибытием и сообщает, что нас уже ждут в ресторане Fishbone в Греческом квартале. После чего как бы невзначай добавляет: "Не забудь захватить свои пластинки". "Зачем?" — интересуюсь я, но внятного ответа не удостаиваюсь.
Стены ресторана Fishbone украшают портреты местных бейсболистов и литографии старинных моделей "Форда". В глубине зала за круглым столом сидит весь генералитет детройтского техно. Кении знакомит меня с присутствующими, я включаюсь в разговор и через какое-то время начинаю понимать, что такие встречи в верхах нетипичны для детройтской техно-тусовки и что всех этих людей за одним столом собрало не что иное, как любопытство: европеец, интересующийся детройтской сценой, здесь все еще воспринимается как какой-то инопланетянин. Пообщаться со мной среди прочих, пришли Майк Бэнкс, Деррик Мэй, Келли Хэнд (Kelli Hand — одна из немногочисленных женщин на детройтской техно-сцене) и Маурицио (Maurizio — берлинский продюсер, вложивший деньги в детройтский завод грампластинок). Я знаю, что в общении с белыми детройтские техномузыканты предпочитают сохранять дистанцию, но со мной они ведут себя абсолютно непринужденно. Дело, вероятно, в том, что я уже успел зарекомендовать себя как человек, разбирающийся в детройтской музыке. Одним из немногих образцов детройтско-европейского сотрудничества была наша пластинка "Acid Eiffel", вышедшая на лейбле Деррика Мэя Fragile/Transmat. К тому же Деррик, Кевин и Майк уже приезжали в Париж на Wake Up и имели возможность убедиться в моей искренней любви к техно… За столом царит расслабленная и дружеская атмосфера. Все говорят о музыке, рассказывают анекдоты, перемывают косточки отсутствующим. Майк заявляет, что готов посвятить мне завтрашний день и с таинственным видом прибавляет: "I got somethin' to show ya"1. Потом беседа о музыке плавно перетекает в спор о бейсболе, и я, оставшись не у дел, начинаю наблюдать за ресторанной публикой. Мимо нашего стола проходят официанты и посетители, но никто из них не обращает внимания на чернокожих парней, с пеной у рта обсуждающих достоинства питчера какой-то третьеразрядной команды, и уж тем более не догадывается о том, что эти парни — живые полубоги.
Ужин закончился. Все встают из-за стола, закутываются в теплые зимние одежды и направляются к выходу. Кто-то спрашивает меня: "Ты взял с собой пластинки?" Я смущенно киваю. Мы садимся в машину, и Кении наконец-то объясняет мне, в чем дело. Оказывается, в моей программе на сегодняшний вечер предусмотрено еще одно мероприятие-выступление на вечеринке, которая проходит в здании начальной школы. Для Детройта это в порядке вещей: в городе почти нет клубов, готовых принимать у себя такого рода вечеринки, так что у любителей техно остается один выход — на время захватывать пустующие и плохо охраняемые помещения, хоть это и чревато встречами с полицией и местными бандитами. На такие подпольные вечеринки приходит не больше двухсот человек, и, как правило, значительную часть публики составляют подростки из белых кварталов.
В лабиринте школьных коридоров я натыкаюсь на диджея Боуна (DJ Bone), который велит мне следовать за ним. Мы входим в какую-то комнату. Внутри темно, но благодаря проникающему с улицы неоновому свету я понимаю, что нахожусь в обычном школьном классе, из которого вынесли все столы и стулья. На импровизированном танцполе толпится несколько десятков чернокожих парней и девчонок, которых в эту школу привело одно-единственное желание — насладиться музыкой и танцем. Видели бы эту картину парижские снобы, с умным видом рассуждающие о детройтской техно-сцене! Боун встает за вертушки, но уже через несколько минут предлагает мне принять диджейскую эстафету. Я судорожно вытряхиваю пластинки из сумки и начинаю свой сет. Публика поначалу реагирует скорее сдержанно, но это только раззадоривает меня. Наконец лед начинает таять. Танцпол расходится, девчонки принимаются выделывать движения немыслимой сложности, а когда я перехожу от трека St. Germain к "Loosing Control" DBX, раздается дружный женский визг.
Я на седьмом небе от счастья. Все происходит словно во сне. А может быть, это и правда сон?
Внезапно передо мной, как из-под земли, вырастает какого-то неприятного вида гражданин. Пытаясь переорать колонки, гражданин надрывается: "No more music here!"[24] Я оглядываюсь на своих товарищей: Боун застыл в нерешительности, Майк семенит в мою сторону. "В чем дело?" — спрашиваю я. "Вырубай музыку", — с обреченностью в голосе отвечает Майк.
Мне объясняют, что нас накрыла полиция и праздник придется завершить. Публика, по всей видимости готовая к такому повороту событий, покорно покидает здание школы. Я собираюсь последовать ее примеру, но вдруг до моего слуха доносится глухое уханье басов. Я иду на звук и в противоположном конце коридора обнаруживаю зал, в котором канадский диджей Ричи Хотин как ни в чем не бывало крутит пластинки для целой оравы белых подростков. Получается, что нашу тусовку полиция разогнала, а эту трогать не стала. Но почему? Внятного ответа на этот вопрос мне не может дать никто. Я собираю свои пластинки, прощаюсь с Боуном и иду к выходу, где меня терпеливо дожидается Кении.
На следующий день я созваниваюсь с Майком Бэнксом, и мы договариваемся встретиться на Уэст Гранд Бульваре перед домом номер 2648, известным всем любителям соула как Хитсвиль. В 1959 году знаменитый Берри Горди основал в этом здании звукозаписывающую фирму Motown, а теперь здесь располагается Музей истории "Мотауна". Майк поджидает меня, сидя на капоте своей видавшей виды машины. Он не тратит время на расспросы о моих вчерашних впечатлениях, а сразу же ведет меня к кассам, едва слышно бормоча: "Сейчас ты поймешь, что такое Детройт". Мы заходим внутрь. Майк покупает мне билет и со словами "Я буду на улице" оставляет меня наедине с призраками славного детройтского прошлого. С первых же шагов я понимаю, что очутился в священном месте. Здесь все говорят шепотом, как в церкви. Со стен на меня смотрят Марвин Гей, Стиви Уандер и The Suprêmes. A вот и легендарная мотауновская студия, благодаря хранителям музея дошедшая до нас такой, какой она была, когда Смоуки Робинсон (Smokey Robinson), Глейдис Найт (Gladys Knight), The Temptations и Норман Уитфилд (Norman Whitfield) записывали в ней свои бессмертные хиты. В золотые годы "Мотауна" студия не простаивала ни секунды: двадцать четыре часа в сутки триста шестьдесят пять дней в году в ней записывалась музыка. Так продолжалось до 1972 года, когда Берри Горди, а вместе с ним и большинство мотауновских звезд перебрались в Лос-Анджелес.
"Обитый" золотыми дисками коридор приводит меня в небольшой просмотровый зал. Я устраиваюсь в кресле, и в ту же секунду, словно по мановению волшебной палочки, в зале гаснет свет и начинается киносеанс.
Все происходит словно во сне.
А может быть, это и правда сон?
Передо мной проплывают старые кадры — иногда немые, иногда наполненные музыкой. Это не просто фильм об истории "Мотауна". Это рассказ о гордости и независимости, о целеустремленности и славе, и об идеале афро-американской культуры, олицетворением которого и был "Мотаун". Глядя на экран, я начинаю понимать, зачем Майк привел меня в этот музей. Он хотел указать мне на то, что ключ к тайне современного Детройта следует искать в его истории, а точнее, в истории его прекраснейшего детища. Дух "молодой Америки"[25] никуда не делся — он жив, и, чтобы его почувствовать, достаточно взглянуть на деятельность "Подпольного сопротивления". UR структурирован по образцу "Мотауна": это одновременно и дистрибьюторская сеть, гарантирующая артистам независимость от мейджоров, и студия звукозаписи, обеспечивающая всей продукции лейбла специфическое звучание, и сообщество ярких, самобытных музыкантов, исповедующих одну и ту же музыкальную религию, и, наконец, гениальный директор, вкладывающий все заработанные деньги в развитие своего лейбла и своего города.
Playlist Underground Resistace
World to World — Amazon
UR 303 — The Final Frontier
UR 3000 — Inspiration
World Power Alliance — The Seawolf
UR — Code Breaker
Rolando aka The Aztec Mystic — Jaguar
UR- Hi Teck Jazz
Suburban Knight — The Warring
Remote — Protecting My Hive
UR — The Illuminator
Galaxy To Galaxy — Journey Of The Dragons
Drexciya — Bubble Metropolis
Blake Baxter — When a Thought Becomes You
UR — Riot EP
X101-X102
Во всем, что делает Майк Бэнкс, чувствуется желание увековечить память "Мотауна". Однако те, кто полагает, что Майк слепо скопировал придуманное Горди ноу-хау, ошибаются. В любом случае в сегодняшнем, депрессивном Детройте это было бы просто невозможно. Повышенное внимание к окружающей действительности и нежелание мириться с ней — вот в чем на самом деле заключается наследство Горди. UR прошел путь от вокального хауса до жесткого техно, но нить, связывающая его с "Мотауном", не обрывалась никогда.
Сегодняшний Детройт не имеет ничего общего с золотым Детройтом эпохи Берри Горди. Чтобы это почувствовать, достаточно просто подышать его воздухом. Когда Детройт покинули музыканты, считавшиеся воплощением его души, город впал в летаргический сон, который продолжается и по сей день. Но для Майка Бэнкса и его единомышленников трагедия Детройта стала источником энергии и вдохновения. И рождающаяся из этого вдохновения музыка преследует одну-единственную цель: вернуть людям утраченную надежду.
МАЙК БЭНКС: "Для поколения моих родителей Берри Горди олицетворял собой надежду. Поэтому я так люблю музей "Мотауна". Когда я попадаю в него, я лишний раз убеждаюсь в том, что наша борьба мало чем отличается от борьбы, которую вело поколение 60-х. Горди победил в этой борьбе, при том что не располагал теми возможностями, которые имеются у нас. Офис Submerge забит компьютерами, факсами и ксероксами. Казалось бы, со всей этой техникой нам ничего не стоит добиться своей цели! Когда я смотрю на то, в каких условиях работали мотауновские артисты, и думаю о том, что с помощью этого скромного оборудования они изменили представление всего мира о черной музыке, меня переполняет чувство гордости за них! Берри Горди задался целью покорить планету и добился своего — несмотря на то, что в те годы афроамериканцы еще были лишены элементарных гражданских прав. Неудивительно, что этого человека боготворила вся черная Америка.
На мой взгляд, у "Мотауна" был один существенный недостаток: в системе, выстроенной Берри, музыкант практически не существовал как личность, и я знаю, что мотауновские артисты очень сильно из-за этого страдали. Нам в UR это, к счастью, не грозит, потому что, в отличие от Берри, я не только директор, но и действующий музыкант.
Берри жилось не так сладко, как думают многие. Ему каждый день приходилось сталкиваться с очень тяжелыми вещами. Например, такая ситуация: к нему-приходит мать музыканта, севшего на иглу, и просит дать ей денег… Это и есть обратная сторона успеха. В нашем городе на каждого парня, выбившегося в люди, приходится три тысячи безработных парней, которые бегают за ним и требуют, чтобы он поделился с ними своим богатством. Но ведь это невозможно! Когда Кевин Сондерсон переехал в белый пригород, все вокруг стали говорить: "Кевин продался. Кевин предал нас". А я считаю, что у него просто не было выбора. Кевин из тех, кто не умеет говорить "нет". Когда какой-нибудь парень просил у него пятьсот долларов на то, чтобы накормить своих детей, Кевин просто не мог отказать. Если бы он не переехал, он бы в конечном итоге сам остался без денег и не смог бы содержать собственную семью. Берри Горди в свое время тоже стоял перед выбором, уехать или остаться. В 1972 году он все-таки решил переехать в Голливуд, мотивировав это тем, что хочет продюсировать фильмы, но мне кажется, что он просто устал от всех этих людей, которым не давали покоя его деньги. Почему я так считаю? Да потому, что сам каждый день ощущаю на себе это давление.
Был, правда, еще один важный фактор. Музыканты Горди стали звездами и вполне могли позволить себе поселиться в каком-нибудь приятном месте с мягким климатом. Первое время ему удавалось сдерживать эти порывы — в первую очередь благодаря жесткому менеджменту, но в конце 60-х многие артисты стали отдаляться от него и поговаривать о том, чтобы уехать в Калифорнию. Берри знал, что не вынесет этой разлуки, и сам отправился в Голливуд — таким образом он мог и дальше опекать своих "детей" и параллельно с этим заниматься продюсированием фильмов. У меня сохранилась статья про Берри — и в свое время эта статья произвела на меня очень сильное впечатление, — в которой он говорит, что считает переезд в Калифорнию своей самой большой ошибкой, потому что после него мотауновская музыка зазвучала по-иному, она как будто утратила частичку своей души. В ней стало меньше бунтарства, меньше злободневности. Мне кажется, что, если бы они переехали в какую-нибудь дыру, вроде Комптона или Инглвуда, все сложилось бы не так печально. Но эти дурачки выбрали — подумать только — Беверли-Хиллз и, конечно же, моментально растеряли всю свою энергетику и очарование. А иначе и быть не могло.
Не могу сказать, что я привязан к Детройту, как собака — к своей конуре, но когда я попадаю в такие места, как музей "Мотауна" и чувствую эту фантастическую вибрацию — как будто музыканты, творившие здесь тридцать лет назад, где-то совсем близко, — так вот, в такие моменты мне начинает казаться, что я — часть этого города. Я часто говорю своим ребятам, что для того, чтобы проследить жизненный путь детройтского музыканта, достаточно прослушать его дискографию от начала до конца. Сначала он живет себе в Детройте, трудится в поте лица над своими треками, и у него получается настоящий, крепкий саунд. Потом он начинает гастролировать, и его саунд сразу же меняется, причем не в лучшую сторону. Он все больше общается с людьми, считающими, что, раз он из Детройта, значит, он настоящий техно-гуру и все, что он делает, по определению гениально. Тогда он окончательно расслабляется и начинает записывать полную лажу. Но в один прекрасный день он возвращается сюда и понимает, что с ним что-то не так.
Я благодарен Детройту за эту магическую силу, которая заставляет нас творить. Я не хочу сказать, что город — наш единственный источник вдохновения. Естественно, есть и другие факторы, и не последний из них — по крайней мере в моем случае — это элементарное желание заработать себе на хлеб. Многие выдающиеся техно-продюсеры — выходцы из нищих семей, и на сочинение музыки их сподвигло не что иное, как нехватка денег. Сколько раз мне приходилось слышать такие слова: "Мне сказали, что за музыку платят деньги. Я тут кое-что сочинил. Послушай, пожалуйста, вдруг сгодится".
Всю прибыль, полученную от продажи пластинок UR, Майк Бэнкс направил на развитие бедных кварталов Детройта (через помощь общественным организациям, яслям и т. д.) и на строительство здания для своего лейбла Submerge. "Эта строительная эпопея открыла мне глаза на многие вещи. Все получилось не так, как я предполагал. От тех, кого я всегда считал своими соратниками, помощь так и не пришла. А большинство людей, которые меня действительно поддержали — а это были мои двоюродные братья и несколько приятелей, — в тот момент крепко сидели на игле. Раньше я считал их безвольными людьми, губящими свою жизнь, но то бескорыстие, с которым они помогали мне, полностью изменило мое отношение к наркомании. Строительство оказалось более дорогостоящей затеей, чем я думал, и на каком-то этапе у меня просто закончились деньги. Я собрал своих ребят и сказал им: "Послушайте, парни, все кончено. Мне больше не из чего вам платить", на что мой кузен Клифф возмущенно ответил: "Неужели ты думаешь, что мы делаем это ради денег? Для нас главное — достроить здание, а все остальное ерунда!" Меня потрясла эта реакция. Я не мог вообразить, что люди, каждый день испытывающие нечеловеческие страдания, примут такое искреннее участие в моих в общем-то ничтожных проблемах. После этого случая я дал зарок никогда не судить людей. Для меня здание Submerge — это еще и возможность выразить признательность всем тем, кто купил хотя бы одну пластинку UR. Каждый заработанный благодаря им цент был вложен в это строительство. Я хочу, чтобы плодами моего успеха могли воспользоваться люди, живущие рядом со мной, мои дети, дети моих друзей. Я хочу, чтобы они — если, конечно, они сами этого захотят — пришли работать сюда, на Submerge, a не гнули спину на каком-нибудь заводе. На Submerge каждый человек чувствует себя незаменимым, у каждого есть что-то, что он может и должен передать другим. Я иногда представляю себе, как через тридцать лет наши дети будут наставлять подрастающее поколение: "Мой отец работал здесь, когда тебя еще не было на свете. Он научил меня упаковывать пластинки, и ты будешь упаковывать их точно так же". Мне всегда хотелось, чтобы люди, работающие в Underground Resistance и Submerge, чувствовали себя частью семейного предприятия со своей историей и своими традициями".
Если Детройт и изменился с 1992 года, то не в лучшую сторону. Обстановка стала еще более напряженной. Существовавшая в городе хрупкая техно-среда окончательно разрушилась под влиянием постоянных склок, интриг и нездоровой конкуренции. Лучшие музыканты и диджеи уехали в Европу. А немногочисленные техно-вечеринки, все еще проходящие в даунтауне, неизменно срываются полицией.
В 1993 году в Америке наконец-то осознали, какого размаха достигло европейское техно- и хаус-движение. Уставшие от непонимания публики и депрессивности гетто американские музыканты и диджеи не смогли устоять перед соблазном славы и легких денег, которые им сулили в Старом Свете. Таким образом, американская техно-сцена постепенно переориентировалась на европейский музыкальный рынок, а тот, словно заклинание, повторял слова "Детройт, Чикаго, Нью-Йорк". Если у себя на родине самые популярные американские диджеи за один вечер получали в лучшем случае пятьсот долларов, то, скажем, в Англии они не стесняясь запрашивали двадцать тысяч за трехчасовой сет. И спрос на американское техно был так велик, что европейские промоутеры даже не решались торговаться.
Изначально для большинства детройтских артистов музыка была всего лишь способом вырваться из нищеты и безысходности. О славе или многотысячных гонорарах никто и не мечтал. Но когда в 1993 году детройтская техно-сцена в полном составе была приглашена на берлинский Love Parade, все детройтцы, имеющие отношение к электронной музыке, почувствовали, что напали на золотую жилу: теперь они заключат контракт с каким-нибудь европейским лейблом, будут гнать халтуру, получать за это королевские гонорары и без труда затаскивать к себе в постель всех встречных блондинок.
Кто-то не выдержал испытания славой и совершенно потерял чувство реальности.
А кто-то просто цинично извлекал пользу из сложившейся ситуации, сбагривая европейским лейблам свои самые неудачные работы и получая за них огромные деньги. Пострадавшей стороной в этом деле оказалась музыка: восемьдесят процентов композиций, выпускавшихся детройтскими артистами в Европе, были выполненными на скорую руку поделками. Этим и объясняется странное отношение европейцев к детройтскому техно — отношение почтительное, но напрочь лишенное любви.
МАЙК БЭНКС: "Все дело в том, что в нашей, афро-американской среде детей не учат обращаться с деньгами. Неудивительно, что некоторые из наших ребят съехали с катушек, когда на них свалились первые крупные гонорары. Они решили, что им случайно выпал шанс немного пожить в свое удовольствие и больше такого шанса у них никогда не будет. И я их не осуждаю. Потому что, когда ты всю жизнь живешь в гетто, у тебя в мозгу формируется извращенная картина мира. Ты включаешь телевизор, чтобы посмотреть новости, и что ты видишь? Сплошную криминальную хронику, которая предостерегает жителей белых кварталов: "Не ходите в даунтаун, а не то обязательно получите пулю в лоб". Иногда покажут репортаж про каких-нибудь примерных горожан, которые организуют обеды для нищих. И все. Телевидение не способно честно рассказать о том, что происходит в городе, и это только углубляет пропасть между даунтауном и белыми кварталами. Мне кажется, что люди начинают заниматься техно для того, чтобы сбежать из этого кошмара. Но, как я уже говорил, город — это часть нас самих. И, когда мы пытаемся вырваться из него, мы, сами того не желая, наполняем им свою музыку".
Но если одним глазом Underground Resistance смотрит в сторону гетто, то второй его глаз устремлен в будущее, в космос. Пластинка за пластинкой UR исследует жизнь других галактик. О том, почему космическая тема пронизывает всю черную музыку — от Сан Ра (Sun Ra) до Funkadelic, от Колтрейна до техно, — рассказывает Джефф Миллз.
ДЖЕФФ МИЛЛЗ: "Для нас космос — это свобода. Возможность вырваться прочь: прочь отсюда, прочь из этого мира! Неопределенность нас не пугает. Если на других планетах окажется еще хуже, чем на земле, это не страшно. Лишь бы не оставаться здесь! Космос — это последний рубеж.
The Final Frontier.
Всегда есть один шанс из двух, что там будет лучше, чем здесь, а значит, есть какая-то надежда. Потому что если у тебя черная кожа, то в этой стране тебя не ждет ничего хорошего. Ничего!"_
Время пролетело незаметно, и вот уже такси везет меня обратно в аэропорт. Развалившись на заднем сиденье, я вчитываюсь в названия пластинок, которые увожу с собой в Париж. "Future", "Warfare", "Fugitives", "Planet", "Mystic", "Riot"[26]… В этих словах отразилась суть детройтского техно.
В Европе почему-то никто не говорит об истинной трагедии Детройта. А истинная трагедия Детройта — это трагедия несостоявшейся культурной столицы. Детройтцы попытались избавиться от всего, что напоминало им о славном прошлом их собственного города. Великолепные театры в итальянском стиле — главные свидетели золотой эпохи Детройта — были переоборудованы в паркинги. Та же участь постигла и концертные залы. На весь даунтаун сегодня приходится всего один книжный магазин, да и тот ютится в здании баптистской церкви. А о музыке здесь стараются вообще не вспоминать.
Я знаю, что, когда вернусь домой, мне опять придется выслушивать все эти избитые фразы о феноменальной детройтской техно-сцене. Fuck that shit! В Детройте давно нет ничего, хотя бы отдаленно напоминающего техно-сцену! Чтобы в городе существовала техно-сцена, в нем как минимум должна быть ночная жизнь. А чтобы наладить ночную жизнь, необходима соответствующая инфраструктура и — самое главное — желание и энтузиазм. Но ничего подобного в Детройте нет. Сегодня этот город представляет собой одну большую зияющую рану.
До этой поездки я часто фантазировал на тему Детройта. В моем воображении возникали жестокие сцены, от которых я тем не менее не мог оторваться. Как выяснилось, я был не так уж далек от истины: Детройт действительно оказался бесчеловечной, но вместе с тем жутко увлекательной антиутопией. И все же в одном я глубоко заблуждался. Мне казалось, что сопротивление этой невыносимой жестокости должно сплачивать людей, что детройтские артисты должны воспринимать музыку как служение некоему общему идеалу. А оказалось, что многие местные продюсеры и диджеи озабочены лишь тем, как бы повыгоднее "обналичить" в Европе свое детройтское происхождение, и до идеалов им нет никакого дела. И это открытие огорчило меня еще больше, чем та нищета, которую я увидел на улицах Детройта.
Не могу сказать, что эта поездка изменила мою жизнь. Я не стал по-другому относиться к детройтской музыке, зато я понял, почему она оказывает на меня такое сильное эмоциональное воздействие. Все очень просто: дело в том, что люди, которые ее пишут, не боятся предстать перед нами такими, какие они есть, беззащитными и несовершенными, не боятся обнажить свои переживания, обиды, раны и чаяния. И в этом отношении поездка в Детройт была для меня важным уроком. Я понял, что, если ты не готов вложить в музыку всю свою душу, лучше ею просто не заниматься.
Как говорил Деррик Мэй: "You don't make a record for fun, man".
Если на чикагский хаус я в свое время отреагировал ногами, то детройтское техно поразило меня прямо в сердце. Оно заставило меня плакать. Оно пробудило во мне чувства неведомой мне прежде глубины. Такие пластинки, как "World 2 World" или "Strings of Life" я вообще считаю саундтреком к своей жизни. Я их прослушал тысячу раз, и все равно, когда я сегодня кладу одну из них на вертушку, у меня, как и много лет назад, начинает бешено колотиться сердце. Вы спросите: в чем секрет этой музыки? И я отвечу: в искренности.
Глава восьмая Vertigo
Я вернулся в Париж с твердым намерением наконец-то заняться записью сольного альбома. Желание самостоятельно сочинять музыку преследовало меня не первый год, однако что-то — вероятно, отсутствие уверенности в собственных силах — постоянно мешало мне приступить к его исполнению. Признаюсь: до поездки в Детройт я воспринимал сочинение музыки скорее как хобби или способ приятно провести время в компании хороших друзей (Яна Бленда, ребят из Moose Possee, Шазза и Людовика Наварра). Мы сидели в студии, травили анекдоты, смеялись друг над другом и параллельно извлекали разные звуки из окружавших нас приборов. Если результат нам нравился, мы выпускали его на диске, если нет — отправляли в корзину. За такой легкомысленный подход к композиторскому делу я регулярно удостаивался язвительных замечаний в духе: "Да этот Гарнье просто примазался к своему дружку Наварру, а собственных идей у него нет и никогда не было". Но теперь я был полон решимости положить конец этим пересудам и продемонстрировать все то, чему я научился за последние годы. Сделать это можно было только одним способом — записав сольный альбом.
Я по дешевке приобрел все инструменты и приборы, необходимые техно-продюсеру: синтезаторы DX 100, Juno 106, JD 800 и SH 101, сэмплер Akai S1000 и драм-машину. Плюс к этому в моем распоряжении имелись черно-белый компьютер Atari 1040, пиратская версия программы Cubase и синтезатор ТВЗОЗ.
Здесь напрашивается маленький экскурс в историю музыкальной аппаратуры. На первом этапе развития хауса треки записывались с помощью четырехканального микшера и примитивного синтезатора, но результат все равно был впечатляющим — достаточно вспомнить такие классические вещи, как "Can you Party" Royal House или "Altered States" Рона Трента. Потом, в конце 80-х, в ход пошли все аналоговые инструменты, которые только можно было найти на музыкальном рынке. Многие из них еще в 70-е — начале 80-х звучали на пластинках европейских электронных групп (Tangerine Dream, Human League, Dépêche Mode и так далее), но когда под влиянием технического прогресса представление о модном звуке изменилось, они были отправлены на "заслуженный отдых", где и пребывали до тех пор, пока ими не заинтересовались ушлые техно- и хаус-продюсеры. Последние полностью игнорировали правила эксплуатации и подвергали нехитрые аналоговые синтезаторы и секвенсоры изуверским пыткам. В результате на свет появлялись звуки, о существовании которых никто, включая создателей этих приборов, даже не подозревал.
Но вернемся в Париж. Итак, я разместил свежеприобретенную аппаратуру в своей и без того захламленной комнате и с головой ушел в мир мегабайтов, герц, Midi и аналоговых входов/выходов. Следуя панковской заповеди "Do it yourself", я работал по наитию и прислушивался исключительно к собственной интуиции. Я знал, что хочу сочинять техно и хочу, чтобы оно звучало жестко, но, не считая этого, ни в какие рамки себя не загонял. Я был наивен и нетерпелив, мне хотелось как можно быстрее и без посторонней помощи научиться всем тонкостям студийной работы: как приручать инструменты и заставлять их выдавать нужные тебе звуки; как программировать отдельные акустические, мелодические и ритмические блоки и как затем синхронизировать эти блоки… В общем, легких путей я не искал.
У меня не было четкого метода работы. Я просто закрывался в комнате, "накачивался" своими любимыми чикагскими и детройтскими пластинками и включал аппаратуру. Постепенно я нащупывал главную тему композиции, ее атмосферу, потом придумывал "гиммик" и сочинял партии инструментов: баса, ударных и струнных. Обычно уже через два часа трек был на восемьдесят процентов готов. Но вот тут-то и начинались мои мучения: как только я пытался прибавить к треку дополнительные инструментальные слои, я терял нить своих мыслей, принимался топтаться на месте и в конечном итоге приходил в полное отчаяние. И так происходило с каждым треком. Пока в один прекрасный день я не понял, что действовать нужно в обратном направлении: не утяжелять звук, а наоборот, очищать его, избавляясь от всего, что мешает увидеть скелет музыки, ее сущность.
Я не хотел делать функциональную музыку, ориентированную исключительно на танцпол и за его пределами теряющую всякую привлекательность. Поэтому следующей ступенью для меня стало освоение законов музыкального повествования. Как с помощью музыки рассказать историю? Как сделать так, чтобы трек, оставаясь самостоятельным произведением, органично вписывался в общую концепцию альбома? Это была целая наука, и, признаться, не самая простая.
В таком режиме я проработал несколько месяцев. Бывали ночи, когда у меня буквально опускались руки. Например, когда я со всей ясностью осознавал, что не в состоянии перевести на язык клавишных все идеи, роящиеся в моей голове. Или когда, несколько часов провозившись с каким-нибудь "гиммиком", я понимал, что на самом деле не продвинулся ни на шаг. В такие моменты я чувствовал, как во мне зреет комплекс вечного дилетанта. Но, к счастью, бывали и совсем другие ночи — когда стоило мне включить свои инструменты, как на меня снисходило вдохновение и дальше все уже шло как по маслу. С тех пор как я вернулся из Детройта, меня не покидало желание выразить с помощью музыки свое отношение к этому городу. И вот в одну из таких волшебных ночей я встал за свой синтезатор, и у меня сама собой родилась тема нового трека — меланхоличная мелодия, которая, как мне показалось, хорошо отражала атмосферу Детройта. Оттолкнувшись от этой темы, я быстро сочинил все инструментальные партии и уже на рассвете, когда над Парижем вставало тусклое, холодное солнце, ликуя, наносил последние штрихи на свое новое музыкальное полотно… Прошло несколько дней, прежде чем я набрался мужества переслушать "Track for Mike" (так я назвал эту композицию — в честь Майка Бэнкса, разумеется), — мне почему-то казалось, что результат меня обязательно разочарует. Но мои опасения не подтвердились: трек звучал очень даже неплохо. Тогда я взял конверт, написал на нем адрес Underground Resistance и вложил в него кассету с сопроводительной запиской, в которой объяснял Майку, что эта вещь была сочинена под впечатлением от наших с ним бесед и что я хочу узнать его мнение. Я отнес конверт на почту и стал ждать. Прошло несколько недель, а ответа все не было. Я нервничал и терялся в догадках, пока однажды утром, вернувшись с "ночного дежурства" в клубе, не обнаружил на вылезшем из моего факса рулоне бумаги эти несколько слов: "I like it. It's cool. Put it out — Peace — Mike"[27].
Но, увы, озарения, подобные тому, из которого родился "Track for Mike", находили на меня не так часто, как мне того хотелось, и в большинстве случаев нужный результат достигался тяжким, кропотливым трудом.
Когда первые треки моего будущего альбома были доведены до ума, я отнес кассету Эрику Морану и получил от него наказ "продолжать в том же духе". В 1993 году словосочетание "техно-альбом" еще звучало непривычно для ушей как американских, так и европейских меломанов: техно по-прежнему считалось чисто танцевальной музыкой, а альбом — чисто роковым форматом, и все тут. Редкие исключения из этого правила — опусы Кении Ларкина, LFO и Orbital — хоть и вызывали интересу публики, но общей картины не меняли. На рынке техно-музыки, как и несколько лет назад, безраздельно господствовал виниловый макси-сингл. Существовали отдельные вариации этого формата (двойной макси-сингл, восьмитрековый ЕР), но и они предназначались для рейвов и клубов, а не для домашнего прослушивания. Мы же с Эриком были убеждены в том, что для Fnac Dance Division выпуск долгоиграющих пластинок — это единственный способ закрепиться на международном рынке. Однако, поскольку с финансовой точки зрения Эрик полностью зависел от Fnac Music, а у последней дела шли, мягко говоря, не лучшим образом, осуществление этого проекта приходилось постоянно откладывать.
Лучшие времена не наступали, разногласия между Эриком и дирекцией Fnac усиливались, и, когда стало ясно, что дальнейшее ожидание бессмысленно, мы приняли единственно возможное в этой ситуации решение: открыть собственный лейбл. В 1993 году во всей Франции было около полудюжины независимых лейблов (в том числе Boucherie Productions и Media 7), большая часть которых возникла в конце 80-х на волне альтернативного панка. Мы с Эриком прекрасно понимали, что, каким бы независимым ни был наш лейбл, ему все равно придется опираться — во всяком случае, в том, что касается логистики и юридических вопросов — на какую-нибудь более крупную структуру. Главное было не промахнуться в выборе этой структуры. Первым делом мы рассмотрели кандидатуры давних партнеров Fnac Dance Division — лейблов Eye-Q и Warp. Несмотря на то что с директорами обоих лейблов нас связывали дружеские отношения, переговоры проходили тяжело, и в результате мы так и не пришли к взаимовыгодному соглашению. Через какое-то время о нашей затее прослышали Кении Гейтс
Благополучно преодолев оставшийся отрезок пути, мы добрались до Ковентри и остановились перед трехэтажным строением складского типа, в котором и располагался Eclipse. Eclipse по праву считался одним из самых сумасшедших клубов во всей Англии. Описать словами тот беспредел, который творился в его стенах, просто невозможно. Единственным относительно безопасным местом во всем клубе была диджейская кабина, которую от остальной части зала отделяла металлическая решетка. Пока выступавший передо мной диджей доигрывал свой сет, мы с Эриком сидели на верхнем этаже и наблюдали за скачущими по танцполу юношами и девушками. Многие из них были вооружены туманными горнами, так что звучавшую из динамиков музыку то и дело перекрывало пронзительное гудение. Мое внимание привлек странный субъект в футболке с буквой Е, стоявший посреди танцпола и корчивший дикие рожи — вроде тех, что можно увидеть на межрегиональном конкурсе гримас. Всем своим видом он как будто говорил: "Я принимаю экстази, и я этим горжусь". Я словно завороженный смотрел на него и думал: вот оно, наглядное доказательство того, что английское рейв-движение зашло в тупик; неудивительно, что нам никто не верит, когда мы говорим, что между техно и экстази нельзя ставить знак равенства. И вдруг меня осенили: "Я знаю, что нам нужно! — проорал я Эрику прямо в ухо. — Нам нужно сделать футболки с буквой F! Почему F? Да просто потому, что это следующая буква после Е. Пускай мы будем выглядеть полными идиотами, зато всем будет ясно, что мы не имеем никакого отношения к этой мерзкой Е". "Классная идея, — отозвался Эрик. — А давай так и назовем наш лейбл: F. Ведь что идет следом за экстази? Музыка. Значит F — это и есть музыка. Получается, что мы как бы заявляем: музыка для нас важнее всего остального".
Не подумайте, будто бы мы отрицали то влияние, которое наркотики оказали на развитие музыки. Без ЛСД не было бы никакого Вудстока, а без экстази не было бы никакой хаус-революции — спорить с этим могли только полные невежды. Да что скрывать: я и сам одно время увлекался экспериментами с запретными веществами. Но даже в этот период моим главным "стимулятором", главной причиной, по которой я ходил в клубы и на рейвы, оставалась музыка. У большинства же юных английских клабберов, с которыми я сталкивался, все было наоборот: на первом месте находились наркотики, а музыка выполняла функцию своего рода придатка или фона. И именно в этом, а не в экстази как таковом, и крылась настоящая опасность. И именно с этим мы и хотели бороться.
F Communications заработал в апреле 1994 года. Чтобы всем было понятно, как наш лейбл позиционируется по отношению к наркотикам, мы придумали слоган: "After E comes F"[28]. Что касается собственно музыки, то F Com просто-напросто продолжил дело, начатое Fnac Dance Division. Единственным, но весьма существенным отличием было то, что теперь мы чувствовали себя полноправными хозяевами своего "предприятия" и могли не опасаться того, что нас обвинят в нерациональном использовании денег.
К началу 1994 года на территории Франции установился весьма благоприятный для развития техно климат. Самая тяжелая часть пути — та, что прошла под знаком борьбы с техно-ненавистниками, — была позади, и теперь уже можно было говорить о наличии французского рынка техно- и хаус-музыки. Кстати, около тридцати процентов этого рынка приходилось на долю релизов Fnac Dance Division (Lunatic Asylum, Deepside, Shazz и так далее) и его зарубежных партнеров Djax-Up, +8 и Warp. Изменился расклад и на международной арене. После того как детройтский Fragile выпустил "Acid Eiffel", а британский Warp — "Wake Up", англосаксы были вынуждены пересмотреть свое отношение к творчеству фнаковских артистов; а когда в журналах DJ Mag и Mixmag вышло сразу несколько статей о французской техно-сцене, они и вовсе начали проявлять живейший интерес ко всему, что происходит во Франции.
Таким образом, к моменту основания F Com цель, которую в свое время ставили перед собой Fnac Dance Division, — вывести французское техно на мировой рынок — была благополучно достигнута. Мы решили, что не будем ставить перед собой новых целей, а будем просто работать в свое удовольствие, параллельно наблюдая за тем, что происходит вокруг нас, и делая из этого соответствующие выводы.
Где-то к 1992 году хождение на рейвы превратилось в одно из любимых развлечений молодых парижан. На сцене появились новые промоутерские команды: Invaders, Fantôme, Tekno Tanz. Ребята из этих команд были людьми открытыми и демократичными. Случалось, что в самый разгар вечеринки они хватали микрофоны и принимались прочувствованно благодарить всех присутствующих за то, что те откликнулись на их приглашение, а потом, забыв о своей руководящей роли, отправлялись танцевать и постепенно растворялись в толпе беснующихся рейверов. Демократичность промоутеров проявлялась и в выборе музыки: они не отдавали предпочтения какому-то одному стилю, и таким образом на их вечеринках могли мирно сосуществовать представители самых разных музыкальных кланов — начиная от поклонников транса и заканчивая фанатами хардкора. Взаимоотношения между промоутерами и диджеями подчинялись простым и понятным правилам, а гонорар за один диджейский сет обычно не превышал двух тысяч франков, что было вполне разумной суммой.
Когда речь заходила о выборе места для будущей вечеринки, парижские промоутеры проявляли удивительную изобретательность.
Где только не проводились рейвы: на автостоянках и на складах, в теплицах для выращивания шампиньонов и в меловых карьерах, на заводе в городе Аньере и в бывших сквотах Фриго на набережной де ля Гар.
А в семь утра самых стойких тусовщиков ждала after-party на какой-нибудь барже или в подвале турецкого ресторанчика напротив Palace, а то и просто в чьей-нибудь квартире. Парижские after-party выполняли еще и функцию своеобразных "диджейских питомников": сюда приходили никому не известные молодые ребята, которые сначала внимательно наблюдали за игрой опытных мастеров, а потом сами вставали за вертушки и принимались старательно сводить пластинки. Именно на этих утренних вечеринках получили боевое крещение такие известные диджеи, как Хитрец Маню (Manu Le Malin) или Торгулл (Torgull).
Французские промоутеры внимательно следили за деятельностью своих зарубежных коллег, и, когда из Англии, Швейцарии и Германии стали поступать сообщения о первых гигантских техно-фестивалях, сразу же взяли курс на "укрупнение" своих рейвов. Изменение формата вечеринок не могло не привести к изменению их музыкального наполнения. Публика стала требовать чего-нибудь пожестче да погрубее, и тем диджеям, которые не желали подстраиваться под ее запросы, пришлось просто-напросто завязать с рейвами и вернуться в клубы.
За координацию парижского рейв-движения отвечала радиостанция FG. По ее адресу 3615 FG в Минителе можно было найти последние новости из жизни рейверского сообщества и анонсы предстоящих событий. А через какое-то время FG решила сама заняться промоутерской деятельностью. Для некоммерческой радиостанции, работающей практически на общественных началах (скажем, труд диджеев FG оплачивался по стажерским ставкам) и постоянно находящейся на грани банкротства, организация вечеринок представляла собой неплохую возможность исправить материальное положение.
В апреле 1993 года FG совместно с несколькими другими промоутерами провела рейв в аббатстве Монсель близ Компьеня. Залы, где когда-то делили трапезу и творили молитву строгие монахи, оказались во власти шумной оравы молодых рейверов. Функцию "настоятеля" взяли на себя сразу несколько человек: Джефф Миллз, Лиза'н'Элиаз (Liza'n'Eliaz), Жером Пакман, Sonic и Aquarium. В ту ночь в стенах монашеской обители гармонично сосуществовали все стили танцевальной музыки: миллзовское техно плавно перетекало в пакмановский прогрессив-хаус, и никому, даже отъявленным пуристам, не приходило в голову возмущаться. В самом разгаре вечеринки сломался один из усилителей — диджеи продолжили играть без усилителя. Час спустя отказали наушники — диджеи продолжили играть без наушников. От танцующих исходила такая невероятная энергия, что диджеям уже не нужны были никакие дополнительные приборы… Это был грандиозный успех.
1 мая 1993 года по инициативе FG целый автобус французских рейверов отбыл в Германию — на Mayday. На следующий день усталые, но довольные техно-туристы благополучно вернулись на родину и прямиком отправились в Вильнев-Сен-Жорж[29], где "под эгидой" все той же FG проходил рейв After Mayday. "The future of the universe is in our hands"[30] — так звучал девиз этого мероприятия. Для семи тысяч рейверов, собравшихся в огромном складском помещении в самом центре вильневского промышленного квартала, играли такие диджеи, как Мисс Джакс (Miss Djax) из Эйндховена, Дэймон Уайлд (Damon Wild) из Нью-Йорка, Майк Диаборн (Mike Dearborn) из Чикаго и Оливер Бондзио (Oliver
Bondzio) из Франкфурта. Когда на рассвете внутрь склада сквозь щели в стенах стали проникать лучи солнца, рейверы с удивлением обнаружили, что танцуют в огромном облаке пыли, которое сами же подняли своими ногами…
Вечеринка подошла к концу. Рейверы — изможденные, с расширенными зрачками и потускневшей кожей — потянулись к выходу. И вот, когда зал был уже почти пуст, диджей положил на вертушку пластинку "Energy Flash" Джоуи Белтрама (Joey Beltram), настроил звук на максимальную громкость и аккуратно опустил иглу. В ту же секунду воздух над городом задрожал и несколько тысяч парней и девушек, толпившихся на остановках в ожидании автобусов, словно по команде воздели руки к небу и воскликнули: " У а а а у".
В субботу вечером все парижские тусовщики настраивали свои приемники на частоту Radio FG, где их ждала встреча с главным рейвером столицы Патриком Роньяном. В передаче Роньяна "Rave up" можно было услышать обзор техно-новинок, живой микс от какого-нибудь классного диджея (кстати, именно в эфире Роньяна французы впервые услышали Лизу'н'Элиаз) и, конечно же, анонсы грядущих мероприятий. Патрик обладал непререкаемым авторитетом в рейверской среде. Именно ему принадлежало последнее слово во всех спорах о достоинствах и недостатках того или иного диджея или той или иной вечеринки.
Информацию о предстоящих рейвах также можно было получить в пластиночных магазинах, расположенных в квартале Бастилия: TSF, USA Import и ВРМ. В назначенный день рейверы встречались в определенном месте на выезде из Парижа, получали от организаторов схему проезда и веселой автоколонной отправлялись навстречу танцу, счастью и свободе.
Это была эпоха, когда на рейвах еще царила теплая, дружеская атмосфера, эпоха, когда любой желающий мог попробовать себя в роли промоутера — все, что для этого было нужно, это договориться с каким-нибудь американским диджеем, оплатить ему гостиницу и авиабилет эконом-класса и напечатать флайеры вечеринки.
Но, к сожалению, эта идиллия просуществовала недолго. Постоянное утяжеление техно-музыки рано или поздно должно было привести к расколу в рейв-тусовке. В конце 1993 года во Франции заговорили о хардкоре[31]. Сначала этим словом обозначали наиболее жесткие и мрачные техно-пластинки ("Mentasm" Джоуи Белтрама, "Cotdrush 008" PCP, "X101",
UR), однако постепенно в Европе сформировалась самостоятельная хардкор-сцена, и деятельность некоторых ее представителей иначе как звуковым терроризмом назвать было нельзя. Хардкор заполонил парижские рейвы и привел на них совершенно новую публику — поклонников тяжелого рока и индастриала. Обстановка на рейвах с каждым уикендом становилась все более экстремальной, и от безмятежности и гармонии вскоре не осталось и следа.
"Видишь ли, дорогая Ким, техно — это Искусство, и, как в любом Искусстве, в нем есть течения и субтечения, мастера и ученики. Хардкор — это просто самое радикальное течение в техно. Как кубизм". "Правда? А я и не знала, что бывает кубистское техно!" — восклицает Ким. Она явно не уловила главную мысль моей мини-лекции. А я всего-навсего хотел объяснить ей, что хардкор следует считать Искусством с большой буквы по той же причине, по которой картины Пикассо кубистского периода следует считать Живописью с большой буквы Ж. Мы смотрим на картину Пикассо, на ней вроде бы изображен профиль, а мы все равно видим два глаза — это и есть хардкор, только живописный".
Милан Даржен, "Суп из козлиной головы", изд-во "Ле Дилетант", 2002 год
У хардкора сразу же появилось множество не похожих друг на друга ответвлений — в диапазоне от чистого эксперимента до свирепой долбежки. Безусловным лидером европейского хардкора был основатель франкфуртского лейбла PCP Марк Аркадипан (Marc Arcadipane). Впрочем, влияние Марка распространялось не только на хардкор-тусовку, но и на техно-сцену в целом. Важную роль в развитии техно сыграли также роттердамские продюсеры, придумавшие габбу — дикое, беспощадное техно, идеально подходящее людям с учащенным сердцебиением.
Особого упоминания заслуживает и бруклинский продюсер Ленни Ди (Lenny Dee), который основал первый американский хардкор-лейбл — Industrial Strength — и стал скрещивать хардкор с брейкбитом, роком и хип-хопом.
Playlist Hardcore
Mescalinum United — We Are Arrived (Aphex Twin rmx)
The Hoororist — Flesh Is The Fever
Liza'n'Eliaz — Stockhausen
Micropoint — Anesthesie Internationale
D.O.A. - Muthafuckin' New York Hardcore
Spy — Bloodstrike
Lenny Dee & Sal. C. -Fucking Hostile
Laurent Ho — Look For Mashine
Dr Macabre — Poltergeist
Protectors Of Bass & The Mover — Phill Driver
Несмотря на то что эти и другие направления хардкора были с самого начала прекрасно представлены в пластиночных магазинах Парижа, французская хардкор-сцена развивалась крайне медленными темпами. Первое время на всю страну приходился один-единственный серьезный хардкор-диджей — Лоран 0 (Laurent Но). Впрочем, главным кумиром французских рейверов был не он, а бельгийская барышня андрогинной наружности — Лиза'н'Элиаз. Лиза обладала феноменальной музыкальной эрудицией и тончайшим чувством звука (результат десятилетнего классического образования), ничего и никого не боялась и обожала разного рода эксперименты. Музыка, которую она играла, была под стать ей самой: экстремальная и одновременно изысканная, агрессивная и в то же время остроумная.
Лиза оказала колоссальное влияние на развитие французского хардкора, сопоставимое с тем влиянием, которое Деррик Мэй оказал на развитие европейского техно. Во многом благодаря ей во Франции появился второй полноценный хардкор-диджей — Хитрец Маню… Подростком Маню вел деструктивный образ жизни, и неизвестно, что бы с ним стало, если бы в 1991 году он не попал на один из рейвов команды Invaders и, потрясенный увиденным, не решил посвятить себя музыке. Маню сразу же увлекся жестким и мрачным саундом и примкнул к радикальной техно-фракции, образованной лейблами PCP и Industrial Strength. Это была эпоха, когда публика начинала интересоваться личностью диджеев, и харизматичный, обильно татуированный Хитрец Маню моментально стал одним из главных героев всех европейских рейвов.
Итак, хардкор прекрасно прижился во Франции. Большинство парижских рейв-промоутеров быстро забыли про существование других стилей техно и принялись активно приглашать голландских габба-диджеев и прочих видных хардкор-деятелей. Армия фанатов хардкора росла с каждыми выходными.
Но успех и слава сыграли с хардкором злую шутку. На запах денег, исходивший от многотысячных парижских вечеринок, тут же примчались десятки предприимчивых граждан, не имевших никакого отношения к рейв-движению и желавших просто подзаработать. Действительно, что может быть проще: захватываешь какой-нибудь пустующий склад, печатаешь флайеры с броским слоганом, нанимаешь пару иностранных диджеев "второго дивизиона", и пожалуйста — тысячи подростков уже несут тебе свои кровные денежки. Не нужно быть большим математиком, чтобы понять всю привлекательность этого бизнеса…
Рейвы стали плодиться с фантастической скоростью. В субботу вечером в пределах одного района могли одновременно проходить три или четыре гигантские вечеринки, и, хотя в Париже по-прежнему действовали несколько креативных и добросовестных промоутеров, спасти рейв-движение от полной деградации было уже невозможно. Промоутеров нового поколения отличало глубокое пренебрежение законами гостеприимства. Паршивый звук, один туалет на несколько сот человек — для них это было в порядке вещей. И все равно каждые выходные тридцать тысяч рейверов послушно платили по сто франков за то, чтобы насладиться этой "теплой" атмосферой. Наглядным доказательством кризиса французской рейв-культуры мог служить дизайн флайеров, а точнее, его полное отсутствие: создавалось впечатление, что всем французским промоутерам раздали один и тот же шаблон, а они каждый раз просто подставляли в него дату и место проведения вечеринки.
Итак, в 1994 году типичный парижский рейв представлял собой бездушную махину, огромными партиями перемалывающую отупевших от наркотиков и потерявших способность воспринимать музыку, отличную от хардкора и транса, подростков. Слово "рейв" окончательно перестало быть синонимом искренности, изобретательности и свободы и стало синонимом бизнеса и легких денег.
Ну а дальше события стали развиваться по английскому сценарию. Крутящимися на рейвах деньгами заинтересовались представители криминальных группировок. Они стали подкупать работников секьюрити, что давало им возможность засылать на рейвы своих наркодилеров и прикарманивать часть выручки от продажи входных билетов. Были и такие бандиты, которые предпочитали работать по старинке. Так, в марте 1994 года во время рейва La Parade, который подавался промоутерами как своего рода "краткий обзор" всей французской техно-сцены (на Парад, среди прочих, были приглашены Хитрец Маню, Гийом ла Тортю, Жак из Марселя, Стефанович, Aquarium и Неуока, причем каждому диджею на выступление полагалось всего сорок минут), два вооруженных типа в вязаных шлемах у всех на глазах взяли из кассы несколько тысяч франков и скрылись в неизвестном направлении. Полиции поблизости, конечно же, не оказалось.
Зато, когда в услугах полиции никто не нуждался, она была тут как тут. Собственно, "роман" между рейверами и полицией, а точнее, жандармерией начался еще в 1992 году. Участники первых рейдов были, разумеется, совершенно не подготовлены к встрече с рейв-культурой. Врываясь с первыми лучами солнца на заброшенный склад, где, по их сведениям, всю ночь "бесновалась" молодежь, они рассчитывали увидеть гору полутрупов с исколотыми венами (все-таки полицейские были воспитаны в лучших рок-н-ролльных традициях), и каково же было их удивление, когда вместо этого они обнаруживали несколько тысяч жизнерадостных парней и девушек, энергично отплясывающих под музыку неизвестного им, жандармам, происхождения. Иногда возникали абсолютно комичные ситуации. Ветераны парижского рейв-движения до сих пор с улыбкой вспоминают капитана жандармерии, которого организаторы сорванной вечеринки (это была вечеринка в частном парке близ Парижа, на которую в качестве специального гостя был приглашен английский диджей из тусовки Orbital Стика (Stika)) уговорили подняться на сцену и объясниться с не желавшей расходиться публикой. Капитан думал отделаться формальным "дамы и господа, вечеринка окончена", но не тут-то было: публика свистела, визжала и по-прежнему не хотела расходиться. Тогда организаторы объяснили капитану, что рейверы хотят на прощание услышать хедлайнера вечеринки — англичанина Стику. Капитан задумался, а потом произнес в микрофон: "Дамы и господа, я знаю, что вы пришли сюда для того, чтобы послушать зарубежного артиста. Сейчас он сыграет для вас одну песню, но только обещайте, что после этого вы разойдетесь по домам. Договорились?"
Уяснив наконец для себя, что такое рейв, полицейские были вынуждены констатировать, что это явление не подпадает ни под одну из известных им статей.
Мирно танцующие в каком-нибудь меловом карьере или на каком-нибудь заброшенном складе подростки при всем желании не могли нарушить сон добропорядочных французов, а следовательно, формального повода для их разгона не было. Тем не менее, поскольку местные власти не желали вникать в эти тонкости и требовали от стражей порядка решительных действий, последним пришлось заняться сбором доказательств противозаконности и вредоносности рейвов, и вот тогда-то у французских промоутеров и начались серьезные проблемы.
Здесь следует уточнить, что возможность приобщиться к рейв-культуре была не только у столичных полицейских, но и у их провинциальных коллег, потому что, хоть мы до сих пор и говорили преимущественно о Париже и его окрестностях, это вовсе не значит, что в других частях Франции не было своих рейв-активистов. Взять хотя бы Лион. Первый официальный лионский рейв — Cosmic Energy (собственно, первым он был не только для Лиона, но и для всего региона Рона-Альпы) состоялся в феврале 1993 года в концертном зале "Тони Гарнье". Послушать Cosmic Baby, Hardfloor и диджеев Kid Paul и Pascal F.E.O.S. пришло восемь тысяч человек, что для буржуазного Лиона, ночная жизнь которого никогда не отличалась высокой активностью и не выплескивалась за рамки нескольких клубов (Ambassade, Factory, Hypnotic, Fish, Pyramide, Zoo), было большим достижением.
Вскоре после Cosmic Energy лионские рейверы получили постоянную прописку в концертном зале "Трансбордер". Когда во время вечеринки швейцарской радиостанции Couleur 3 в диджейскую кабину с криком "Выключаем музыку и достаем из карманов кокаин и экстази!" ворвалась толпа полицейских, вся рейверская общественность пришла в ужас. Но не прошло и нескольких недель, как рейверы привыкли к полицейским и стали воспринимать их как часть интерьера. Самые бесстрашные даже осмеливались подначивать стражей порядка: "Добрый вечер, господин инспектор. Как настроение? Надеюсь, вам с нами не скучно". А когда через какое-то время рейверы решили перебраться на природу и принялись обживать поля Божоле, оказалось, что доблестные полицейские вполне естественно смотрятся не только в интерьерах концертного зала, но и на фоне сельского пейзажа — главное, опять же, к ним привыкнуть.
Но вскоре относительно мирному сосуществованию рейверов и полицейских пришел конец. Начавшись с разгрома гренобльской вечеринки Transeruption, волна антирейверских репрессий прокатилась по всему региону Рона-Альпы, а затем захлестнула и юг Франции, где к тому моменту тоже успела наладиться рейверская жизнь (отметим в скобках такие крупные события, как рейв Atomix на заводе компании Seita в Марселе, рейв Creative Action в Тулузе или выступление Spiral Tribe). Поняв, что власти настроены биться до победного конца и к компромиссу не готовы, французские промоутеры по примеру своих английских коллег решили освоить профессию конспиратора. Отношения между полицией и рейверами стали напоминать игру в кошки-мышки. Первый этап игры обычно проходил в Минителе. Главной задачей полиции было разгадать место проведения следующей вечеринки, с тем чтобы выставить на подъезде к нему свой кордон. Главной задачей организаторов рейва было пустить полицию по ложному следу. Если на первом этапе полиция одерживала победу, то следующей задачей организаторов было вовремя оповестить рейверов об опасности и отправить их в другое, резервное место. Для этого использовались мобильные телефоны. Если оказывалось, что полиция каким-то образом успела пронюхать и про это место, организаторам уже приходилось импровизировать. Обычно все заканчивалось благополучно: оторвавшись от полиции, рейверы останавливались на какой-нибудь поляне или в каком-нибудь паркинге, быстренько подключали звуковую аппаратуру к генератору и принимались отплясывать прямо на капотах своих машин.
Обо всех этих проблемах с полицией я знал не понаслышке, поскольку сам регулярно выступал на юге и в регионе Рона-Альпы. Надо сказать, что в тот год у меня была крайне насыщенная жизнь: я оставался резидентом Wake Up, что позволяло мне поддерживать отношения с парижской публикой и техно-сценой, а в выходные колесил по французской провинции, а также по Германии, Швейцарии и Англии. У Англии в тот год как раз появился гигантский техно-фестиваль — Tribal Gathering, и для окончательно затравленного полицией английского рейв-движения это было вдвойне отрадным событием. Бесплатные ярмарочные аттракционы, шесть шапито, сорок первоклассных диджеев и музыкантов и двадцать пять тысяч позитивно настроенных молодых людей и девушек — вот что представлял собой Tribal Gathering.
Я взял с собой на Tribal Gathering парижского промоутера Эрика Напора, и, как оказалось, правильно сделал, потому что, до глубины души потрясенный увиденным, Эрик вернулся в Париж с твердым намерением подарить Франции собственный техно-фестиваль[32]. Я, конечно же, не мог не поддержать это замечательное начинание.
Еще в начале 1993 года Эрик Напора положил глаз на выставочный центр города Амьена. Этот гигантский комплекс, расположенный по соседству с амьенским ипподромом — а значит, вдали от жилых кварталов — включал в себя три выставочных павильона (вместимостью три, шесть и десять тысяч человек соответственно), несколько залов для прослушивания, также вполне пригодных для показа фильмов, большой парк, в котором можно было установить ярмарочные стенды и аттракционы, и, наконец, автостоянку на несколько тысяч машин. Как и всякий крупный выставочный комплекс, он отвечал всем требованиям, которые обычно предъявлялись к местам проведения массовых мероприятий. До Амьена можно было легко добраться на поезде, причем не только из Парижа, но и из Бельгии, Голландии и Англии… Одним словом, для Oz (так мы с Эриком решили назвать наше мероприятие) это был идеальный вариант.
Поначалу все складывалось как нельзя лучше. Власти Амьена отнеслись к нашей идее с большим энтузиазмом и пообещали, что будут всячески содействовать ее реализации. Мы подсчитали все предстоящие затраты — получилось 1,2 миллиона франков, что тогда казалось огромной суммой, — и занялись составлением программы. Меньше чем через полгода все было готово. На наше предложение откликнулись лучшие техно-диджеи и музыканты Европы, в том числе Карл Кокс, Rok, Дэйв Энджел (Dave Angel), Koлин Фейвер, Daz Saund, Лиза'н'Элиаз, Spiral Tribe, Свен Фэт (ему была поручена after-party) и, конечно же, все главные французские техно-персонажи. В общей сложности программа Oz должна была включать в себя десять живых выступлений и тридцать диджейских сетов. Мы напечатали двести тысяч флайеров и организовали предварительную продажу билетов. Несмотря на молчание прессы, которая упорно игнорировала наши пиар-усилия, и на антиозовскую кампанию, которую проводили отдельные деятели псевдоандеграундной парижской техно-тусовки, билеты расходились хорошо, и это означало, что Oz нужна европейским рейверам.
Примерно в это же время Эрик загорелся идеей провести благотворительную вечеринку в зале под Аркой Дефанс. В качестве партнера он выбрал общественную организацию Aids, занимавшуюся борьбой со СПИДом. Все, что требовалось от Aids, это оплатить аренду зала и после окончания вечеринки получить всю прибыль от продажи билетов. Организацию мероприятия Эрик полностью брал на себя. Выступить на вечеринке, причем совершенно бесплатно, согласились Свен Фэт и его подопечные с Harthouse: Spicelab и Hardfloor.
Помимо помощи конкретной организации у этой вечеринки была и более общая цель: навести мосты между техно-сценой и некоммерческим сектором. Но, увы, благие намерения Эрика не нашли поддержки у широкой общественности и в конечном итоге обернулись против него. Все началось с того, что за несколько дней до вечеринки Aids в газете "Юманите" вышла статья под названием "Рейв: музыка, одиночество и наркотики", в которой рассказывалось о рейве Celebration, устроенном в парижском парке Ля-Виллет (La Villette) другой французской газетой — "Либерасьон". Об отношении авторов статьи к рейву можно было судить хотя бы по такому пассажу: "Рейв преподносится нам как немного сумасшедшая, но в целом безобидная форма досуга — со своими ритуалами, своим сленгом и так далее. Но что мы имеем на самом деле? Повальную наркоманию и аудиомазохизм, а кроме того слепое поклонение музыкантам, исповедующим откровенно неонацистские взгляды". И дальше: "В какой-то момент вы просто перестаете верить в реальность происходящего. У вас вроде бы есть все основания считать, что сейчас вечер субботы и вы находитесь в Париже, в парке Ля-Виллет. Но если это так, то почему мимо вас постоянно снуют наглотавшиеся кислоты подростки, а никто даже не думает возмущаться? Как могло получиться, что никто ничего об этом не знает? А 26 июня нас ждет то же самое, только на этот раз под Аркой Дефанс, и всю прибыль они грозятся перечислить в фонд Aids — на борьбу со СПИДом. Как говорится, дожили!"[33]
Казалось бы, каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с историей культуры XX века, должен понимать, что клевета и перевирание фактов — это обычный журналистский прием. Достаточно вспомнить, сколько грязи было в свое время вылито на поклонников панка, рока и джаза. Тем не менее статья в "Юманите" спровоцировала настоящую бурю негодования. Антирейверскую пропаганду подхватили самые разные газеты и журналы. Журналисты хором обвиняли рейв в поощрении наркомании и требовали от властей решительных действий. Реакция властей не заставила себя долго ждать, и во Франции началась охота на ведьм.
Потрясенная ужасами, которые живописала "Юманите", организация Aids заявила, что выходит из игры, и бедному Эрику пришлось в срочном порядке искать другого партнера. Вечеринка все-таки состоялась — правда, не на Дефанс, а в Мозиноре. А на следующий день в газете "Франс-Суар" появилась статья, в которой утверждалось, что популярность диджея прямо пропорциональна качеству наркотиков, которые он продает публике. Атмосфера стала просто невыносимой.
За десять дней до Oz Эрику позвонил журналист из амьенской газеты "Курье Пикар". Журналист клялся и божился, что ничего не имеет против рейва и хочет написать честную, объективную статью. Эрик согласился дать ему интервью. Беседа прошла в дружеской обстановке, журналист внимательно выслушал все объяснения Эрика и, казалось, прекрасно понял, что к чему. Каково же было наше удивление, когда три дня спустя на последней полосе "Курье Пикар" появилась статья, в которой наш "объективный" журналист предупреждал законопослушных жителей Амьена о скорой встрече с ордами хулиганов и наркоторговцев. Тут же нашелся какой-то депутат от коммунистической партии, который взял на себя тяжелую работу по раздуванию скандала вокруг Oz. Обстановка накалилась до предела, но власти Амьена проявили стойкость и не пошли на поводу у возмущенной общественности, требовавшей отмены вечеринки.
И вот наступает канун Oz. Все готово. Динамики общей мощностью 200 киловатт (между прочим, эту же аппаратуру использовал во время своего европейского турне Принс) распределены между тремя павильонами выставочного комплекса. Световые и сценические приборы приведены в состояние боевой готовности. Эрик обходит залы и принимает работу. В одном из залов его поджидают два серьезных господина. У них в руках — постановление префекта. Они предлагают Эрику ознакомиться с документом. Эрик читает и не верит своим глазам: "В связи с тем, что в субботу через Амьен проходит "Тур-де-Франс", службы охраны порядка не смогут надлежащим образом обеспечить безопасность участников рейва Oz… В связи с тем, что в пятницу вечером полиция Амьена организует вечеринку для своих сотрудников, полицейские на следующий день не смогут надлежащим образом обеспечить безопасность участников рейва Oz" и далее в том же духе. Одним словом, праздник отменяется.
В тот вечер я выступал в Кельне. Там меня и настигло известие об отмене Oz. Еле сдерживая слезы, я доиграл свой сет и утром первым же самолетом вылетел в Париж. Через несколько часов я уже был в Амьене. То, что я увидел, ввергло меня в полную депрессию: опущенные ставни, заколоченные фанерой витрины, на каждом шагу кучки жандармов, а кроме них — ни души. Да уж, город основательно подготовился к нашествию вражеских полчищ. Ближе к полудню в Амьен начали прибывать поезда, автобусы и машины, набитые бодрыми, жизнерадостными рейверами. Бедняги, они еще ничего не знали. Тем временем в Париже в прямом эфире Radio FG уже вовсю велись бурные дебаты на тему: почему запретили Oz и что делать дальше? Радиодебаты вылились в стихийный митинг на площади Трокадеро, который потом плавно перетек на Лебединый остров — крошечный клочок земли посреди Сены напротив Дома радио. Выразить протест против запрета Oz пришли в общей сложности шесть тысяч парижан.
Ближе к вечеру встал вопрос: что делать с толпами рейверов, в полной растерянности слоняющихся по Амьену? Несколько промоутеров проявили инициативу и на скорую руку организовали альтернативные вечеринки. Одним из хедлайнеров Oz должна была стать техно-банда Spiral Tribe, изгнанная из родной Англии за организацию нелегальной вечеринки в Кэслмортоне и нашедшая временный приют во Франции. Узнав об отмене Oz, ребята из Spiral Tribe собрали солидную толпу рейверов, отъехали на некоторое расстояние от Амьена, установили свою аппаратуру в чистом поле и стали играть. Эту вечеринку Spiral Tribe принято считать первым "технивалем" (то есть стихийным рейвом без организаторов и заранее известной программы), прошедшим на французской земле.
Излишне говорить, что отмена Oz больно ударила по всем нам, и в первую очередь по Эрику. Многие люди, в том числе и совершенно незнакомые, поддержали Эрика в его беде. Например, этот парень, который через несколько дней после всех этих событий пришел в магазин TSF и попросил продать ему билет на Oz. Продавец от удивления открыл рот. Тогда парень объяснил: "Я знаю, что Oz отменили. Я знаю, что у вас из-за этого большие проблемы. И я хочу хоть чем-нибудь вам помочь, поэтому продайте, мне, пожалуйста, билет на Oz".
К сожалению, проблемы Эрика на этом не закончились. После Oz одно за другим закрылись все его детища: пластиночный магазин TSF, техно-журнал Code и наконец Мозинор.
В последовавшие за отменой Oz месяцы многие французские рейв-промоутеры, в надежде хотя бы частично застраховать себя от административных неприятностей, зарегистрировали юридические лица. Но машина антирейверской пропаганды была запущена, и остановить ее было невозможно. Растиражированное прессой утверждение "рейв равняется наркотикам" прочно засело в умах как рядовых французов, так и государственных чиновников. 29 июня 1993 года все издания, подписанные на ленту агентства "Франс-Пресс", получили депешу, из которой можно было узнать, как проходит типичная техно-вечеринка: "В час ночи к собравшимся на танцполе поклонникам техно выходит женщина в черном — мастер церемонии. Женщина поднимает руку вверх, и по ее команде публика пускается в неистовый пляс. Это очень напоминает сеанс массового гипноза: потерявшие контроль над собой юноши и девушки бешено дрыгаются под звуки грохочущей металлический "дробилки" мощностью 20 киловатт. Впрочем, это тахикардическое буханье, именуемое кислотной музыкой, для них всего лишь гарнир к чудодейственным таблеткам экстази". И далее: "Но где-то через два часа вихрь начинает стихать. Ряды танцующих постепенно редеют. Одни грохаются на пол, другие, словно зомби, бродят по залу, держась за стены, третьи нетвердой походкой направляются к выходу. У всех — расширенные зрачки и блуждающий взгляд".
Атаку на рейв власти решили начать с нейтрализации главных рупоров танцевальной культуры — парижских радиостанций Radio FG и Radio Nova. Директорам FG и Nova — Анри Морелю и Жану-Франсуа Бизо — было приказано явиться в префектуру. Работники префектуры провели с Егизо и Морелем разъяснительную беседу, а в конце вежливо, но настоятельно призвали их перестать пропагандировать рейв на своих волнах.
За этим последовал циркуляр под названием "Рейвы и связанные с ними риски", сочиненный членами Межведомственного комитета, по борьбе с наркотиками и наркоманией.
Сей ДОКУМЕНТ, явно навеянный английским Criminal Justice Вill, Содержал Подробное — вплоть до характеристики различных музыкальных жанров — описание рейвов и последствий приема экстази.
Циркуляр был разослан во все префектуры полиции, и полицейские со свойственной им простотой восприняли его как призыв к действию.
В 1994 году в городе Монпелье на юге Франции должен был пройти третий по счету техно-фестиваль "Бореалис" (Borealis). (Первые два прошли в античном театре Нима.) За организацию мероприятия отвечала группа студентов, называвших себя Пингвинами. В качестве места Пингвины выбрали Граммон — огромную концертную площадку на выезде из города. Но власти Монпелье, напуганные поднятой в прессе шумихой вокруг рейвов, отказались отдавать Граммон "на растерзание" Пингвинам, и фестиваль потерял всякий смысл. Тогда Пингвины придумали зимний вариант "Бореалиса" — "Поларис" (Polaris). Первый "Поларис" было решено провести в Лионе. Но и здесь Пингвинам не удалось осуществить свой замысел — на этот раз на их пути встал лионский профсоюз дискотечных работников. Недовольные тем, что организаторы рейвов уводят у них клиентов, труженики дискотек обратились за помощью в префектуру Лиона, и префектура не придумала ничего лучше, как потребовать от Пингвинов, чтобы те завершили свое мероприятие ровно в полночь. Это была та самая капля, которая переполнила чашу терпения. Французские рейв-активисты поняли, что нужно что-то делать, и основали организацию по защите рейвов "Технополь" (Technopol).
Кстати, если бы кто-нибудь взялся составить список авторов самых нелепых антирейверских выходок, то первую строчку в нем наверняка занял бы мэр одного из пригородов Тулузы, который, увидев на флайере намечавшегося в его городе рейва слова "живое выступление Scan X", решил, что речь идет о выступлении порнографического характера (его смутила буква X), и во имя сохранения морального здоровья проживающих на вверенной ему территории граждан поспешил запретить это сомнительное мероприятие.
С 1993-го по 1996 годы полиция срывала рейвы с достойным лучшего применения упорством. Методы, использовавшиеся стражами порядка для разгона танцующих, были далеко не всегда адекватны ситуации. Так, во время вечеринки парижской саундсистемы Teknokrat посвященной памяти одного из друзей музыкантов, полиция закидала толпу из четырех тысяч рейверов шашками со слезоточивым газом. Начались драки, погони, и в результате несколько ни в чем не повинных рейверов оказались в участке.
Конечно, главными мишенями полиции были диджеи и промоутеры. В регионе Рона-Альпы и на юге представителей этих странных профессий приравнивали чуть ли не к уголовникам. А парижским диджеям приходилось мириться с тем, что их телефоны постоянно прослушиваются, а в шесть утра к ним без приглашения заявляются ребята из бригады по борьбе с наркотиками.
Всем было ясно, что основная причина обрушившихся на головы рейверов неприятностей — это наркотики. На большинстве вечеринок действительно продавались различные запрещенные вещества, причем продавались не какими-нибудь дилерами-одиночками, а членами разветвленных, прекрасно организованных бандитских сетей. И надо сказать, что это отвратило от рейвов очень многих диджеев, промоутеров и простых тусовщиков.
Но был еще один фактор — экономический. Каждые выходные тысячи молодых французов тратили довольно серьезные суммы — один только входной билет на рейв стоил от ста до двухсот франков — на проведение своего досуга, а государство не имело с этого ровным счетом ничего. Организаторы рейвов налогов не платили, лицензий на продажу алкоголя не получали (были, конечно, отдельные исключения, например Oz и некоторые другие вечеринки, но общей картины они не меняли), и при этом многие из них гребли деньги буквально лопатами. Так что, если разобраться, у властей имелось достаточно оснований ненавидеть рейверов и устраивать на них гонения…
Получить разрешение на проведение рейва на какой-нибудь приличной площадке стало практически невыполнимой задачей. Но рейв-активисты не отчаивались. В то время как одни упорно пытались наладить диалог с властями, другие рассуждали следующим образом: зачем тратить время и силы на поиск каких-то оборудованных залов, на переговоры с какими-то именитыми диджеями и на раскрутку всего этого мероприятия, когда можно в любой момент завалиться со своей аппаратурой в какое-нибудь пустующее помещение и устроить там сумасшедший праздник, и ничего страшного, если на этом празднике не будет охранников, туалетов и прочих "предметов роскоши" — как-нибудь обойдемся и без этого.
Так во Франции появились фри-пати (free party) — стихийные, бесплатные и по своему духу совсем не похожие на традиционный рейв вечеринки, а вместе с ними и целые мобильные техно-общины, которые на своих допотопных грузовиках колесили по стране вслед за устроителями этих вечеринок. В роли устроителей обычно выступали большие и веселые банды диджеев — так называемые "саундсистемы", образцом для подражания французским саундсистемам служили уже знакомые нам англичане Spiral Tribe. Но, как это ни грустно, многие фри-пати со временем выродились в довольно гадкие сборища, где никому не было дела до качества музыки, да и до атмосферы в целом. "Зато мы ни за что не платим" — так, наверное, мог бы звучать девиз этих мероприятий. Хотя параллельно с этим во Франции продолжало действовать несколько отличных саундсистем, и именно они не давали духу фри-пати окончательно испариться.
Отдельную главу в истории французского рейв-движения занимают парижские after-party. В каких только экзотических местах не встречали столичные рейверы утро нового дня. Достаточно вспомнить легендарную баржу Ruby. Или гигантский зал компании "Франс Телеком" под башней Монпарнас, где состоялась афта-пати рейва "Апокалипсис". Но самые теплые воспоминания у всех, кто в те годы ходил на рейвы, наверняка связаны с пустынной набережной под мостом Тольбиак, что напротив Национальной библиотеки, где в течение всего 1994 года проходили афта-пати от промоутера Ракама и диджея Хитреца Маню. Эти утренники задумывались, с одной стороны, как дерзкий вызов властям, а с другой — как некая мирная зона, где можно было ненадолго забыть про раздиравшие рейв-сцену конфликты и интриги. Под мостом звучали все существующие разновидности техно, и поэтому среди тех, кто подтягивался сюда к восьми утра, встречались как любители хардкор- и транс-вечеринок, так и представители фри-пати-тусовки, а кроме того завсегдатаи клуба FoLie's Pigalle. Но, как и следовало ожидать, утренники под мостом Тольбиак через какое-то время стали жертвой своей собственной популярности и начали потихоньку вырождаться. Почувствовав это, Маню и Ракам официально объявили об окончании тольбиакской эпопеи.
Тем не менее, когда несколько месяцев спустя встал вопрос о том, где проводить афта-пати второго рейва "Апокалипсис", Маню и Ракам вспомнили про Тольбиак и, поразмыслив, пришли к выводу, что лучшего места им все равно не найти. За несколько дней до "Апокалипсиса" в пластиночных магазинах квартала Бастилия появились черно-белые плакаты, гласящие: "Собираемся в воскресенье утром под мостом Тольбиак. Вспомним старые добрые времена". На призыв организаторов откликнулись восемьсот парижских рейверов. А в два часа дня к ним "присоединились" четыреста жандармов. Стоявший в тот момент за вертушками Хитрец Маню сразу же получил дубинкой за то, что не пожелал "сию секунду выключить музыку". А дальше началась форменная облава: жандармы выхватывали рейверов из толпы, требовали предъявить документы и вывернуть карманы, а затем начинали выпытывать у них имена организаторов. Рейверы молчали как рыбы. Самых подозрительных и непочтительных забирали в участок.
Как я уже говорил, многих диджеев, промоутеров и простых тусовщиков не устраивала воцарившаяся на французских рейвах экстремальная атмосфера. Поскольку никаких улучшений не предвиделось, некоторые из них начали постепенно возвращаться к камерному формату. Для французского техно и хауса возврат в клубы стал спасением от полной деградации, и ведущую роль в этой спасательной операции сыграл парижский Rex.
К 1994 году в Rex было три электронные вечеринки: наша Wake Up, Temple Пьера Эрманна (Pierre Hermann) и Тьерри Венсана (Thierry Vincent) и Trance Body Express. На этих вечеринках можно было услышать самых актуальных международных техно-артистов и таким образом составить себе представление о том, что творится на мировой электронной сцене. Со временем техно начало приносить Rex неплохую прибыль, а поскольку традиционная публика клуба старела и не обновлялась, Кристиан Поле решил распрощаться с роком и превратить свое заведение в первое полноценное парижское техно-заведение (на тот момент в Париже по-прежнему не было ни одного клуба, где каждый вечер звучало бы техно). Интерьер клуба был полностью изменен. Дизайнеры перенесли диджейский пульт на бывшую концертную сцену углубили танцпол, благодаря чему потолки стали казаться выше, поменяли световую аппаратуру и мебель и выкрасили стены в оранжевый и ярко-синий цвета. В довершение ко всем этим переменам в Rex была установлена акустическая система Turbosound — своего рода "роллс-ройс" в области клубного звука.
Обновленный Rex открыл свои двери в сентябре 1995 года. Это было началом славной эпохи. На бульвар Пуассоньер сразу же потянулись диджеи и промоутеры из самых разных музыкальных кланов. В том числе и видные деятели рейв-тусовки, уставшие от творящихся на их вечеринках безобразий и желавшие наконец-то выйти из подполья. Вскоре после возобновления своей работы Rex пришлось столкнуться с проблемой наркотиков, а заодно и с проблемой полицейских преследований: полиция, в представлении которой техно-клуб был одной из разновидностей наркопритона, засылала на все рексовские вечеринки своих "наблюдателей", что, конечно же, не лучшим образом сказывалось на царящей в клубе атмосфере. Осознав всю опасность этой ситуации, Кристиан Поле занял четкую позицию: Rex будет всеми силами бороться с наркотиками и сотрудничать исключительно с профессиональными промоутерами. Иными словами, публика будет ходить в Rex ради музыки и танца, а не ради чего-то другого.
Мой альбом "Shot in the Dark" вышел в свет в октябре 1994 года. А несколько месяцев спустя во французских музыкальных магазинах появился другой релиз F Communcations — альбом "Boulevard" проекта Людовика Наварра St Germain. Продажи "Boulevard" достигли невиданных цифр (около двухсот тысяч экземпляров), об F Com заговорила вся музыкальная общественность, и, о чудо, из газетных статей о техно начали постепенно исчезать клеветнические обвинения и презрительные интонации. Правда, первое время в голове у большинства журналистов была полная каша. Так, многие из них почему-то считали, что отличительным признаком хаус-вечеринки является наличие танцоров gogo, а на рейвах все танцующие купаются в мыльной пене. Но главное было не это, а то, что в этих статьях техно описывалось как положительное явление, как что-то, с чем необходимо считаться. И это не могло не радовать.
Глава девятая Beyond the Dance
В прошлой главе мы говорили о Франции, а теперь поговорим о том, что происходило по другую сторону Ла-Манша.
Стараниями бандитов и наркодилеров английская техно-сцена оказалась в глубоком застое. Позитивный дух, свойственный техно-вечеринкам конца 80-х, исчез безвозвратно. Агрессивные кампании в СМИ сумели убедить англичан в исключительной вредоносности электронной музыки, и власти, чувствуя давление со стороны общественного мнения, объявили искоренение рейв-движения своей первоочередной задачей. Бюрократическая волокита, сопровождавшая процесс получения лицензии на проведение рейвов, стала настолько невыносимой, что даже самые законопослушные промоутеры были вынуждены отказаться от своих благих намерений и вернуться в подполье. Правда, в подполье их ждали не меньшие проблемы: полиция не жалела сил на борьбу с нелегальными вечеринками, поэтому вероятность того, что праздник завершится благополучно и организаторы смогут спокойно разойтись по домам, была крайне невелика.
Вся эта антирейверская кампания обходилась казне в сотни тысяч фунтов, и, в какой-то момент перед правительством встал вопрос о дополнительных источниках финансирования. Вопрос был решен очень просто: отныне каждый промоутер, запрашивающий разрешение на организацию рейва, должен был выложить 75 000 фунтов якобы на обеспечение, силами полиции, безопасного проезда к месту проведения вечеринки. Через некоторое время стоимость этой бесценной полицейской услуги по непонятной причине выросла до восьмидесяти, а затем и до ста тысяч. Это уже было не по карману даже самым крупным английским промоутерам. Кто-то, устав от постоянной борьбы с властями, просто отошел от дел, а кто-то предпочел отправиться в добровольную ссылку, как, например, Пол Шарри, вывезший свой Tribal Gathering в Германию.
В конце 1994 года английский парламент принял так называемый Criminal Justice Bill — закон, запрещающий англичанам "без предварительнотонной музыки". Под монотонной музыкой авторы закона, разумеется, имели в виду танцевальную электронную музыку, но, если разобраться, то такие произведения, как "Болеро" Равеля или "Funky Drummer" Джеймса Брауна, тоже вполне соответствовали этому определению. Для организаторов несанкционированных мероприятий Criminal Justice Bill предусматривал суровое наказание (штраф до 20 000 фунтов и шесть месяцев тюремного заключения), а для желающих провести вечеринку в строгом соответствии с законом — целый набор практически невыполнимых условий — таких, например, как наличие нескольких сотен туалетных кабинок, а в случае дождя предоставление каждому из участников мероприятия определенного количества квадратных метров под навесом. Иными словами, для того, чтобы получить разрешение на проведение рейва, организаторы должны были предварительно выстроить что-то вроде мини-города.
Через месяц после вступления Criminal Justice Bill в силу английская полиция разгромила подпольную вечеринку, проходившую в заброшенном ангаре в окрестностях Лидса. Восемьсот тридцать шесть участников вечеринки были арестованы, а диджей Роб Тиссера (Rob Tissera), призвавший рейверов перегородить вход в ангар, приговорен к трем месяцам тюремного заключения без права досрочного освобождения. После этого по всей стране прокатилась волна антирейверских репрессий, а параллельно с ней — волна акций протеста. Среди тех, кто наиболее активно выступал против произвола властей, были группы Orbital и KLF, журнал NME и промоутер Тони Колстон Хэйтер. Последний даже создал организацию под названием Freedom to Party. Однако, поскольку в Англии, как, впрочем, и во всей Европе, техно-движение никогда не было особенно политизированным, волна протеста очень скоро пошла на спад. Полицейские репрессии продолжились, и многие организаторы фри-пати, в частности саундсистема Spiral Tribe, спасаясь от преследований, бежали из страны в соседнюю Францию.
Никогда не благоволившие к рейверам английские таблоиды ликовали. "Ecstasy: the party is over"[34], - сообщали читателям набранные жирными буквами заголовки.
Если кто-то и извлек выгоду из сложившейся ситуации, то это были рок-промоутеры. Увидев, что значительная часть английской молодежи осталась без вечеринок, они недолго думая бросились осваивать освободившуюся нишу. Абсурдные требования, предъявлявшиеся властями к организаторам рейвов, их не смущали: у большинства из них были хорошие отношения с полицией, а кроме того солидные логистические и финансовые возможности. Так, в Англии появились гигантские коммерческие рейвы — с огромным количеством спонсоров и прочими атрибутами рок-фестиваля.
На этой волне изменилось и отношение к диджейской профессии. Самые популярные английские диджеи — Саша, Карл Кокс, Пол Окенфольд и некоторые другие — в одночасье превратились в полноценных звезд. Их портреты замелькали на страницах журналов, их имена стали стопроцентной гарантией успеха того или иного рейва или фестиваля — одним словом, техно зажило по законам поп-музыки. Звукозаписывающие компании тоже не хотели отставать от этого процесса, но, поскольку большинство диджеев не были музыкантами и, следовательно, альбомов не записывали, публике был предложен другой формат: диджейский микс. Сборники с говорящими названиями — Journey by DJ, Mixmag, X Mix и так далее — моментально наводнили прилавки музыкальных магазинов.
Итак, деньги потекли рекой, а техно превратилось в самостоятельную и весьма прибыльную индустрию, главную роль в которой играл диджей. Отныне место диджея было не в какой-нибудь скрытой от посторонних глаз кабине, а на сцене, лицом к публике. Личность человека, крутящего пластинки, вдруг стала намного важнее той музыки, которая содержится на этих пластинках. Гонорары звездных диджеев достигали сумм, которые еще совсем недавно казались заоблачными. Если в 1992 году в бюджете крупного рейва оплата артистов занимала около пятидесяти процентов (остальные пятьдесят процентов шли на организацию мероприятия), то уже к 1994 году ее доля выросла до семидесяти процентов, и, как следствие этого, выросли и цены на входные билеты. Заниматься диджеингом стало не только модно, но и выгодно.
Все эти изменения коснулись не только рейвов, но и клубной жизни. В Англии появилось новое поколение суперклубов, или, как их еще называли, корпоративных клубов (corporate clubs): Cream в Ливерпуле, Rennaissance в Ноттингеме, Gatecrasher в Шеффилде… Хозяева этих гигантских заведений не жалели денег на приглашение лучших американских диджеев, таких, как Дэвид Моралес (David Morales), Тодд Терри (Todd Terry) и Фрэнки Наклс. Какая музыка будет звучать на той или иной вечеринке, уже никого не интересовало, единственное, что имело значение, — это звездный статус гостей. Дабы подчеркнуть значимость диджея, большинство английских техно-клубов реорганизовали свое пространство таким образом, чтобы диджейская кабина оказалась в самом центре зала. Изнутри она теперь напоминала рабочее место пилота. Каждый уважающий себя клуб должен был предоставить в распоряжение диджея три вертушки, проигрыватель для компакт-дисков, микшер с процессором эффектов и Дат-магнитофон. Чего не было в диджейских кабинах нового поколения, так это пластинок (предполагалось, что диджеи будут крутить только ту музыку, которую принесут с собой) и микрофонов.
Итак, в Англии постепенно сформировалась система суперклубов и супердиджеев, печатными органами которой стали журналы DJ Mag, Muzik и Mixmag. В этой системе, которая держалась на постоянном притоке свежей крови и потому с невиданной скоростью плодила суперзвезд (техно-промоутеры не изобретали велосипеда, а просто переняли опыт своих поп-коллег), не нашлось места для диджея-резидента. Почти все техно-клубы постепенно избавились от своих резидентов и стали работать исключительно с приглашенными диджеями (guest DJs). Самые прыткие из диджеев за одни выходные успевали выступить в полудюжине клубов. Если раньше считалось в порядке вещей, что диджей "обслуживает" вечеринку от начала до конца, то теперь никто не задерживался за вертушками больше двух часов. Само собой разумеется, в таких условиях ни о какой творческой свободе не могло быть и речи, но подавляющее большинство диджеев даже не пытались отстаивать свои права. Действительно, зачем менять систему, которая позволяет тебе не напрягаясь зарабатывать огромные деньги? Конечно, в Англии продолжали существовать настоящие андерграундные клубы, например лондонские Club UK и The End, которые не опускали планку и предоставляли диджеям практически полную свободу, но противостоять мощной звездной системе они были не в состоянии.
Тем временем в Манчестере Hacienda, несмотря на не спадающее вот уже много лет давление как со стороны бандитов, так и со стороны полиции, пыталась возродить в своих стенах дух Лета любви, устраивая вечеринки новых манчестерских лейблов (например, Grand Central Records) и приглашая новых манчестерских диджеев, например Эллиотта Иствика (Elliott Eastwick). Первым за много лет стопроцентно успешным проектом стала ежемесячная гей-вечеринка Пола Конса Flesh. А в 1995 году Коне предложил диджею Дэйву Хэсламу субботнюю прописку в только что переоборудованном подвале клуба — огромном помещении, рассчитанном на тысячу человек, — и Хэслам, вспомнив старые добрые времена, принялся потчевать публику смесью фанка, хип-хопа, рока и прочих музыкальных стилей. "Эклектические" субботние вечеринки сразу же стали пользоваться огромной популярностью у манчестерцев. Hacienda мало-помалу приходила в себя…
В мае 1997 года клуб торжественно отпраздновал свое пятнадцатилетие, и на какое-то время все поверили в то, что Hacienda вот-вот снова станет одним из самых модных клубов страны. Но, увы, этого не случилось, и по очень банальной причине. Дело в том, что публика, практически полностью перешедшая на экстази, перестала пользоваться услугами бара, а без выручки от продажи напитков ни о какой рентабельности не могло быть и речи. Все это время Hacienda держалась на плаву благодаря другому детищу Уилсона — лейблу Factory. Но в какой-то момент стало ясно, что клуб поглощает всю до последнего пенни прибыль Factory. Вечно продолжаться это не могло, и 28 июня 1997 года Hacienda прекратила свое существование.
А теперь перенесемся в Германию. Полное взаимопонимание между властями и рейв-промоутерами привело к формированию мощнейшей рейв-индустрии, которая постепенно превратила рейв из стихийной андеграундной вечеринки в грандиозное коммерческое шоу. Самым известным образцом "рейва по-немецки" на протяжении всех 90-х годов оставался Mayday. На гигантском дортмундском велодроме, среди буйствующих лазеров и проецирующихся на огромные экраны фрактальных картинок, сорок с лишним диджеев в бешеном темпе сменяли друг друга за вертушками. Продюсером Mayday выступала одноименная организация; за распространение дисков с официальным гимном фестиваля (гимн менялся каждый год) отвечал лейбл Low Spirit; от компаний, желающих спонсировать это мероприятие, не было отбоя. С каждым годом Mayday все больше напоминал обычный коммерческий фестиваль.
Что касается берлинского Лав-парада, то он взял курс на коммерциализацию в 1994 году. На первый взгляд Парад в тот год выдался еще более веселым и насыщенным, чем обычно: на тридцати музыкальных грузовиках собрались лучшие американские техно-диджеи, а двести тысяч рейверов, перемещавшихся в танце по Курфюрстендамм, выглядели отличной иллюстрацией к официальному девизу мероприятия: "The spirit makes you move". Но это была внешняя сторона, а за кулисами происходило следующее: отныне каждый, кто хотел выпустить свой грузовик на улицы Берлина, должен был заплатить три тысячи марок организаторам и столько же — обществу защиты авторских прав (каким образом общество распределяло эти деньги между музыкантами, остается загадкой). С каждым годом требования к участникам Парада становились все более жесткими, и в первую очередь это касалось мер безопасности. Так, у каждого грузовика теперь должна была быть своя команда секьюрити, следящая за порядком в толпе танцующих. В результате всех этих нововведений в 1996 году средняя плата за участие грузовика в Лав-параде достигла двадцати тысяч марок, а количество людей, обслуживающих мероприятие, выросло до трех тысяч. Все диджеи и музыканты теперь подписывали контракт, запрещающий им выступать на территории Германии в течение трех месяцев до и после Парада, а лейблы обязывались не привлекать к финансированию своих грузовиков "неофициальных" спонсоров, то есть тех, которые никак не связаны с промоутерами мероприятия — лейблом Low Spirit. Во время самого Парада улицы города буквально утопали в рекламных плакатах и растяжках. Музыка постепенно отходила на второй план. Конечно, диджеи не могли не отдавать себе отчета в том, что творится с Лав-парадом, но добровольно отказаться от уникальной возможности выступить для нескольких сот тысяч человек (в 1996 году на улицы Берлина вышло семьсот пятьдесят тысяч рейверов, а через год — уже миллион) никто не мог, поэтому вся техно-тусовка послушно играла по правилам, навязываемым промоутерами.
Большие деньги оказывали разрушительное влияние не только на рейвы и фестивали, но и на индустрию звукозаписи. Когда в 1997 году Свен Фэт заявил о своем уходе с Harthouse, все почувствовали, что эпоха расцвета немецкого техно подошла к концу.
Итак, мы уже поговорили об Англии и Германии, и теперь у нас на очереди Швейцария. Что касается немецкой части страны, то здешние организаторы рейвов во всем ориентировались на своих германских коллег. Первым человеком, подарившим швейцарцам техно-фестиваль "по-немецки", был цюрихский промоутер по имени Арнольд Мейер. Излишне говорить, что источником вдохновения Мейеру послужили Лав-парад и Mayday. Первый Energy (так называлось мероприятие Мейера) прошел на заброшенном заводе, но потом власти Цюриха пустили рейверов в Халленштадиум — крытый стадион вместимостью двадцать тысяч человек. Я впервые очутился на Energy в 1993 году. Фестиваль начался с так называемого Стрит-парада: по улицам города разъезжали музыкальные грузовики, а вокруг отплясывали толпы довольных рейверов — если кто-нибудь попросил бы меня найти хотя бы пару отличий от Лав-парада, я бы, наверное, затруднился это сделать. Когда парад завершился, рейверы переместились на городской стадион, где их ждал весь цвет мирового техно: Aphex Twin, Jam & Spoon, Джоуи Белтрам и многие-многие другие. Это был грандиозный рейв. В одном только главном зале работало одновременно двадцать лазеров, акустическая система изрыгала нечеловеческое количество децибел, а десятки тысяч швейцарских рейверов отрывались так, как будто ждали этой возможности всю свою жизнь. За кулисами царила удивительно душевная атмосфера: диджеи обменивались пластинками, рассказывали анекдоты, угощали друг друга выпивкой и, конечно же, беседовали о музыке. Поначалу многие жаловались на то, что им на выступление отвели совсем мало времени (организаторы, желая втиснуть в рамки фестиваля как можно больше артистов, действительно сократили продолжительность сетов до минимума), но в конечном итоге все остались довольны: публика была восприимчивой, обстановка — приятной, а гонорары — щедрыми.
Что касается Французской Швейцарии, то здесь можно отметить такие важные для популяризации техно-культуры события, как включение электронной музыки в программу престижнейшего джазового фестиваля в Монтре (первая техно-вечеринка состоялась в 1994 году и была посвящена лейблу Harthouse) и появление техно и хауса в эфире знаменитой лозаннской радиостанции Couleur 3.
Но уже к 1996 году швейцарское рейв-движение окончательно выдохлось. Рейвы превратились в огромные коммерческие акции, нацеленные на молодую и непритязательную аудиторию, готовую проглотить любую музыку, которую ей будет скармливать диджей. Тогда очаг техно-культуры переместился в Лозанну, где неподалеку от MAD возникло сразу несколько новых хаус- и техно-клубов, в частности D! и Loft.
Если обобщить все вышеописанные факты, можно сказать, что в Европе к середине 90-х сформировалась система рейвов, техно-клубов и однодневных техно-фестивалей. Но вот чего до сих пор не было в Старом Свете, так это ежегодного смотра достижений электронной культуры. При этом под словосочетанием "электронная культура" я подразумеваю не только музыку, но и дизайн, имидж, прессу, а также различные технические новшества. Как ни странно, первой страной, проявившей инициативу в этом направлении, стала Испания. Почему это странно? Да потому, что Испанию было принято считать одной из наименее "техно-развитых" европейских стран. "А как же Ибица?" — возразите вы. Но согласитесь: Ибица — это все-таки не совсем Испания.
Единственным известным мне и моим друзьям образцом испанского техно был бакалао — стопроцентно коммерческая танцевальная музыка, производившаяся в городе Валенсия. Больше об испанской электронной культуре мы не знали ровным счетом ничего. Ну а поскольку все неизведанные территории вызывали у нас живой интерес, мы очень обрадовались, когда F Communications получил приглашение от организаторов нового техно-фестиваля под названием Sonar, который должен был состояться в Барселоне. Организаторы — журналист Рикард Роблес, музыкант Энрик Палау и деятель современного искусства Серджи Кабальеро — оказались увлеченными и бесконечно и преданными своему делу людьми. Первый Sonar продолжался три ночи. Мне, вместе со Свеном Фэтом и английским диджеем Миксмастером Моррисом, предложили сыграть в Apollo — старомодном, но несмотря на это вполне симпатичном концертном зале на пятьсот человек. Сначала реакция публики на мои пластинки была более чем сдержанной. Каталонские парни и девушки смотрели на меня как на какого-то инопланетянина, и в глазах их читался немой вопрос: неужели под эту музыку можно танцевать? Где-то через час я завел "Follow me" Jam & Spoon — трек, в котором ритм сначала медленно разгоняется, потом, достигнув приличной скорости, начинает постепенно замедляться, а в самом конце в буквальном смысле слова взрывается. И тогда случилось чудо: все пятьсот человек как один пустились в сумасшедший пляс, и остановить их было уже невозможно. Когда я закончил свой сет, ко мне подбежала толпа возбужденных испанцев, которые, захлебываясь от эмоций, повторяли "Gracias, gracias"[35]. Это было ужасно забавно и трогательно. Раз испанцы так радуются техно, подумал я, значит, мы, диджеи, просто обязаны давать им возможность слушать эту музыку.
Вечеринка в Apollo закончилась грандиозной пьянкой. Вернувшись в свой гостиничный номер, я обнаружил у себя в кровати незнакомых мне парня и девушку, всецело поглощенных друг другом. Да уж, чего только не увидишь в Испании! Изгнав непрошеных гостей, я лег спать, а наутро, несмотря на тяжелейшее похмелье, отправился на экскурсию по пластиночным магазинам Барселоны. В магазинах этих меня поразили две вещи: огромные залежи раритетных рок-, дэнс- и индастриал-релизов и полное — повторю, полное — отсутствие техно-пластинок. Создавалось, впечатление, что испанская индустрия грамзаписи просто не знает о существовании этой музыки. Поразмыслив, я пришел к выводу, что причина, по которой рейв-культура до сих пор не привилась на испанской земле, заключается не в какой-то мифической неспособности испанцев воспринимать электронную музыку (вечеринка в Apollo доказала обратное), а скорее в том, что для них, с детства привыкших к массовым гуляниям и праздникам на свежем воздухе, в самой идее рейва нет ничего необычного и волшебного.
В 1994 году включить диджейский сет в программу испанского фестиваля было смелым шагом. Но Sonar пошел еще дальше: он предложил испанцам не только выступления техно-диджеев, но и мультимедиа-шоу, выставки современного искусства и дизайна, а также множество семинаров, посвященных электронной культуре. В качестве главной площадки фестиваля был выбран Барселонский центр современного искусства: тем самым организаторы стремились показать, Sonar дал испанской электронной культуре колоссальный импульс к развитию. В считанные недели в Каталонии сформировалась самостоятельная техно-сцена, одним из лидеров которой стал в будущем знаменитый диджеи Анхель Молина. А через пару лет за Sonar окончательно закрепился статус самого интересного техно-события в мире. Только здесь можно было услышать как мировых знаменитостей, так и никому еще не известных новичков; как беспощадных экспериментаторов, так и вполне коммерческих артистов. Sonar органично сочетал в себе черты андеграундной тусовки и развеселой испанской фиесты — и из этого сочетания рождалась неповторимая "сонаровская" атмосфера.
что, техно не сводится к экстази и коммерческим рейвам, а является неотъемлемой частью современной европейской культуры.{1}
В целом же на мировой техно-сцене наблюдалась скорее обратная тенденция: вечеринки и фестивали все меньше напоминали стихийные ан-деграундные тусовки и все сильнее источали запах денег. Техно-среда постепенно превратилась в своего рода международное бизнес-сообщество, объединяющее диджеев, промоутеров, владельцев клубов, журналистов и спонсоров. А вскоре в этой компании появился еще один персонаж — агент. Надо сказать, что нам, диджеям, это очень сильно облегчило жизнь: мы больше не должны были тратить время на всевозможные переговоры, составление контрактов, выбивание гонораров и так далее. Всем этим отныне занимался агент. Агенты первого поколения были, как правило, людьми из техно-тусовки, поэтому они без труда находили общий язык с диджеями. Я работал с девушкой по имени Ник, которая помимо меня "обслуживала" Джоша Уинка, Карла Кокса и Ричи Хотина. Это была настоящая профессионалка, а кроме того очень яркая и неординарная личность. С каждым из своих подопечных Ник удавалось установить дружеские отношения. Для нее мы в каком-то смысле были детьми — иногда она нас так и называла: "мои babies". Для нас же Ник была не просто партнером по работе, а настоящим сообщником, человеком, с которым можно поделиться всеми своими мыслями. Одним словом, сотрудничать с ней было одно удовольствие.
Но вскоре на сцене появилось новое поколение агентов. Это были люди с совершенно другим менталитетом — менталитетом рок-менеджера и банковского служащего одновременно. Переговоры с промоутерами они предпочитали вести следующим образом: "Итак, сколько будет стоить входной билет? А сколько человек, по вашим расчетам, придет на вечеринку? Одну секунду, я возьму калькулятор… Умножаем… Ага, значит выручка от продажи билетов составит столько-то. Прекрасно, тогда если вы хотите пригласить моего клиента, то вам это обойдется во столько-то. Плюс пятнадцать процентов мне — за посредничество! Если для вас это слишком дорого, до свиданья!" Через какое-то время такие отношения стали нормой в техно-среде. Диджеям, которые пытались протестовать, агенты объясняли: "Если не будешь набивать себе цену, тебя перестанут уважать". Таким образом, диджей оказывался перед дилеммой: либо принять правила, которые навязывает бизнес, и начать делать деньги, либо остаться вне системы, рискуя поплатиться за это карьерой.
К 1996 году многие крупные диджей обзавелись менеджерами, адвокатами и бухгалтерами и стали походить на бизнесменов средней руки. Что касается меня, я никогда не интересовался деньгами. Главная причина, по которой я занимался, занимаюсь и буду заниматься диджеингом, — это те удивительные отношения, которые связывают меня с моей публикой. Каждое выступление в клубе, на рейве или на частной вечеринке — это в определенном смысле новый роман. Роман между мною и теми людьми, для которых я ставлю музыку. Отказаться от этого контакта для меня было бы равносильно тому, чтобы отказаться от общения с друзьями или от секса. Мне очень повезло: у меня на протяжении всех этих лет была преданная публика, готовая отправиться вместе со мной в любое, даже самое необычное музыкальное путешествие. Но взаимопонимание между диджеем и публикой не возникает само собой. Нет, это всегда результат многих десятков отыгранных сетов и многих тысяч прокрученных дисков. А деньги не имеют к этому ровным счетом никакого отношения.
Неважно, где ты играешь, неважно, сколько народу в зале, неважно, сколько ты получишь за свое выступление, — задача DJ в том, чтобы заставить людей танцевать. Любой ценой. Даже если в семь утра в зале остается всего несколько в доску пьяных клабберов, которым от тебя, казалось бы, уже ничего не надо, твоя задача, повторю, — это заставить этих людей танцевать, подарить им еще несколько мгновений удовольствия. Что для этого нужно? Прежде всего установить контакт с публикой, понять, чего она хочет, уловить ее самые потаенные страсти и желания. А затем поразить ее воображение, соблазнить ее, в случае необходимости буквально силой увлечь за собой на новые, неизведанные музыкальные территории. Но главное при этом — не забывать, что в конце ты обязан подарить ей то, ради чего она пришла на встречу с тобой. А именно счастье.
"А что получает диджей в обмен на ту энергию, которую он отдает публике?" — спросите вы. А я отвечу: он получает потрясающее, ни с чем не сравнимое ощущение власти, если не сказать всемогущества! Пожалуй, острее всего я испытывал это ощущение в набитых до отказа крошечных клубах, где можно было буквально увидеть, как жажда танца, поднимаясь от ног танцующих, постепенно заполняет собой все пространство: от стены до стены, от танцпола до потолка.
Почему нас так влечет в клуб? Я думаю, ответ на этот вопрос следует искать не в каких-то внешних причинах, а в природе человека, в его древних, тысячелетних страхах. Человек всегда воспринимал ночь как некую угрозу, и это побуждало его придумывать различные механизмы защиты. И сегодня, когда мы из темноты бежим в клуб, где нас ждут свет, ритм и человеческое тепло, мы, сами того не зная, воспроизводим защитные механизмы наших предков. Став частью некоей глобальной энергии, мы избавляемся от своих страхов и тревог.
Танец — это способ изгнать дьявола. Танец — это возможность выйти за пределы собственного я.
Сколько раз, находясь за вертушками или на танцполе, я ощущал чистое, стопроцентное счастье! В такие мгновения мне казалось, что я могу умереть. Мне хотелось навсегда раствориться в этом ощущении — так же как хочется навсегда раствориться в прекрасном, грандиозном оргазме. Я верю в обмен энергией. Я искренне убежден в том, что диджей может передать свои чувства игле вертушки, которая в свою очередь передаст их динамикам, а те уже выплеснут их на танцпол. Таким образом диджей как бы "подключается" к танцполу, и в тех случаях, когда это подключение проходит удачно, между ним и публикой как раз происходит обмен энергией.
Бывает, что на установление контакта с залом уходит несколько часов, а бывает и так, что в самом начале сета ты инстинктивно ставишь нужный диск в нужный момент, и этого оказывается достаточно, чтобы публика прониклась к тебе безграничным доверием. Нечто подобное произошло со мной в Белфасте, в клубе ирландского музыканта Дэвида Холмса (David Holmes). В первую же секунду я почувствовал, что публика в моей власти, что она пойдет за мной, куда бы я ее ни позвал. И так и случилось: в течение тех четырех часов, что длился сет, меня не покидало ощущение, что я крепко держу свою публику за руку. Когда я доиграл, ко мне подошла какая-то девушка: "Это было так странно, — призналась она. — Мне показалось, что ты нас полностью себе подчинил". Действительно, то, что произошло между мной и публикой, было любовной связью, в которой вся инициатива и вся власть принадлежали одному из партнеров — мне. Публика безоговорочно выполняла все мои приказания. Я приказывал ей танцевать — и она танцевала. Я приказывал ей сходить с ума — и она сходила сума.
До меня до сих пор иногда доносится эхо той вечеринки. А также эхо многих других волшебных вечеринок. И мне кажется, что это эхо живет где-то внутри меня. Те вибрации, которые мы впитываем, никуда не исчезают, они остаются в нашем теле и становятся его частью. Наше тело — транзистор, передающий и принимающий вибрации. Американский рэпер Сол Уильямс (Saul Williams) в одной из своих песен утверждает, что слово "person" ("человек") произошло от латинских выражения, означающего "состоящий из звуков". И делает из этого "научный" вывод: звуки являются частью нашего генетического когда. С теорией Уильямса, конечно, можно поспорить, но одно очевидно: потребность топать ногами или всем телом извиваться в такт отрывистому ритму заложена в нас самой природой. Это нечто глубинное, инстинктивное, вечное.
За те пятнадцать лет, что я занимаюсь диджеингом, я прекрасно усвоил главное правило игры: публику нельзя завоевать раз и навсегда. Поэтому каждый новый сет нужно воспринимать как новый завоевательный поход. Я создаю все свои миксы как бы в сотрудничестве с залом. Передо мной на микшерном пульте всегда лежат часы, и это нужно для того, чтобы случайно не нарушить биоритмы танцующих. Часы, слух и зрение — вот, пожалуй, основные инструменты диджея. Причем с годами я понял, что самый важный из этих инструментов — это все-таки зрение. Зрение нужно для того, чтобы "читать" виниловые дорожки, а также — и это главное — для того, чтобы читать мысли и желания танцующих. Потому что вопреки тому, что думает добрая половина современных диджеев, танцующий человек — это гораздо больше, чем просто пара ног.
Мне встречались диджеи, которые после окончания сета сразу возвращаются в гостиницу — словно работающие от звонка до звонка офисные клерки. Мне встречались диджеи, которые никогда не танцуют, даже тогда, когда их никто не видит. Для меня нетанцующий диджеи — это какая-то аномалия. Разве можно заразить другого человека, если у тебя самого стойкий иммунитет? Посмотрите на Джеффа Миллза, когда он играет. Его как будто лихорадит. Создается впечатление, что он воспринимает музыку каждой клеткой своего тела. Если диджей не ощущает вибрацию, которая заставляет людей двигать бедрами, значит, у него нет контакта с публикой, значит, он не чувствует исходящую от танцующих энергию. Правила игры таковы, что если ты ничего не даешь, то ты ничего не получаешь взамен. Я знаю диджеев, для которых единственным стимулом к работе являются деньги. Знаю и таких, для которых в их профессии главное — это возможность кататься по миру и спать с блондинками. А также таких, которых интересует исключительно слава. Но, к счастью, и сегодня можно найти немало диджеев, которые на первое место ставят не деньги и не славу, а музыку.
Когда я размышляю о взаимопонимании между диджеем и публикой, мне часто вспоминается одна вечеринка в Берлине. Эту вечеринку организовала Мисс Киттин (Miss Kittin) — девушка-диджей родом из Гренобля, страстная меломанка и уникальная артистка, обладающая неповторимым стилем. Когда я пришел в клуб, за вертушками стояла сама Мисс Киттин. Было около полуночи — по клубным меркам детское время, — но атмосфера в зале была уже наэлектризована до предела. С такой сильной энергетикой я не сталкивался очень давно. Несколько минут я простоял на танцполе с закрытыми глазами, вслушиваясь в звуки музыки и ощущая, как по всему моему телу разливаются потоки счастья. После чего отправился в диджейскую кабину, достал пластинки и начал свой сет. С первых же секунд я почувствовал, что парю над танцполом. Публика зарядила меня такой энергией, что я смог проиграть семь часов без передышки. Я ставил техно, дип-хаус, драм-н-бейс, хип-хоп, электро, рок — одним словом, все! К семи утра в зале оставалось двести человек — окончательно вымотанных, но все равно не желающих покидать танцпол. Я достал из своего кейса последний непроигранный диск. "Kid A" Radiohead. Неземной голос Тома Йорка, оттененный истерическим саксофоном и беспокойным басом, наполнил красные стены клуба. Это был волшебный финал. Двести человек стояли на танцполе, запрокинув головы, подняв руки вверх. На двухстах лицах застыла широкая блаженная улыбка. Когда наступила тишина, никто не сдвинулся с места. Так они и стояли — словно оцепенев, во власти слишком глубокого чувства, словно боясь, что малейшее движение разрушит магию вечеринки.
Но, к сожалению, далеко не всем клабберам свойственна такая восприимчивость и открытость. Помню, как-то раз в одном из франкфуртских техно-клубов я, чтобы немного разбавить свой сет, поставил какую-то хип-хоп-вещицу. В ту же секунду ко мне подскочил разъяренный подросток. "Что это за дерьмо ты ставишь?!" — набросился он на меня. Я попытался его успокоить: "Да ты расслабься. Пойди выпей пива. Это всего лишь пятиминутная передышка". Но парень не унимался: "Как ты можешь ставить такое дерьмо?!" "А зачем ты вообще сюда пришел?" — поинтересовался я. "А затем, что я хотел послушать Лорана Гарнье!" Я не поверил своим ушам. "Да, но Лоран Гарнье — это не музыкальный автомат. Ты что, думал, я буду играть исключительно твои любимые треки?! Я пришел сюда для того, чтобы такие, как ты, могли открыть для себя что-то новое. Понял?" Парень бросил на меня сердитый взгляд и удалился.
На следующий день я играл в Мангейме. Где-то в пять утра я поставил — опять же для разрядки атмосферы — "Love to Love you Baby" Донны Саммер. Каково же было мое удивление, когда ко мне с криком "Это просто супер!" подскочил вчерашний парень. "Господи, опять ты, — проворчал я. — Что тебе нужно?" Парень замялся, а потом произнес: "Ты знаешь, я тут подумал и решил, что ты, наверное, был прав".
Надо сказать, что этот подросток был типичным представителем своего поколения: в середине 90-х среднестатистический европейский клаббер слушал какой-нибудь один стиль, а ко всей остальной музыке относился с глубоким презрением. У меня и у других диджеев, не признающих стилистических рамок, эта зашоренность молодых европейцев вызывала сильное раздражение. Да и в целом Европа уже не представляла для нас такого интереса, как прежде. К 1995-му европейский рынок был полностью покорен, ничего неожиданного произойти здесь уже не могло. В общем, опасность погрязнуть в рутине и забыть, ради чего ты, собственно, занимаешься диджеингом, была очень велика. Единственное, что могло нам помочь, — это новый опыт, иными словами — встреча с новой публикой…
Я стал очень много путешествовать. Случалось, что я месяцами не "вылезал" из гастролей. Мне довелось побывать в Гонконге, Австралии, Мексике, Бразилии… В большинстве из этих стран люди еще только открывали для себя техно-музыку. Хотя в той же Бразилии, например, уже существовала полноценная электронная сцена во главе с диджеями May May (Май Май) и Марки (Marky). Интересно, что в бразильской технокультуре нашло отражение извечное соперничество между двумя главными городами страны, олицетворяющими собой два противоположных образа жизни: если жители расслабленного Рио-де-Жанейро сходили с ума от хауса, то обитатели бурлящего и кипящего Сан-Паулу предпочитали отрываться под жесткое техно.
Надо сказать, что клабберы Сан-Паулу произвели на меня огромное впечатление. На второй день гастролей я поделился своим восторгом с местными промоутерами. "Это еще что, — услышал я в ответ. — Вот в воскресенье в Hell's Club ты увидишь, что такое настоящий беспредел". Hell's Club оказался двухэтажным заведением для after-party, позиционирующимся как главное место сбора городских экстремалов. Почти все тусовщики, встретившиеся мне в Hell's, были покрыты татуировками, искусственными шрамами и кольцами. Посредством своего тела они как будто рассказывали о тех ужасах, которые каждый день творятся в их городе. Мне навсегда запомнилась одна девушка: абсолютно лысая, с головы до ног покрытая татуировками и удивительно красивая. Среди завсегдатаев клуба попадались трансвеститы, рейверы, гангстеры и просто мелкие хулиганы. В полумраке зала при желании можно было увидеть довольно занимательные вещи: например, как крутые качки страстно обнимаются с томными трансвеститами… Диджейскую кабину от зала отделяла стена, в которой было прорублено небольшое окошко, позволявшее наблюдать за танцполом. Во время моего сета в кабину постоянно врывались трансвеститы с фотоаппаратами, желавшие запечатлеть себя рядом с живым европейским диджеем. Это было очень забавно… Я предложил публике Hell's сет из чикагского booty-xayca. И не прогадал. Трансвеститы, гангстеры и малолетние хулиганы, истошно вопя, рубились в каком-то бешеном танце. Трансвеститов то и дело охватывал приступ нежности, и тогда они падали на диванчики и принимались остервенело ласкать друг друга. Да уж, завсегдатаям этого сумасшедшего заведения вечеринки в каком-нибудь ливерпульском Quadrant Park наверняка показались бы детским садом. Я вышел из Hell's ближе к вечеру — усталый, довольный, в сопровождении целой стайки трансвеститов, соперничающих между собой за право провожать меня до гостиницы, и нескольких татуированных качков, услужливо вырывающих у меня из рук тяжелые кейсы с пластинками…
Именно благодаря такого рода экстремальным приключениям я до сих пор продолжаю путешествовать по свету. В местах вроде Hell's начинаешь осознавать, насколько бессмысленна вся эта суета, которую создают агенты, менеджеры и прочие техно-бизнесмены. Да, конечно, без этих людей сегодня не сделать карьеры. Но когда ты оказываешься на другом конце света, за вертушками незнакомого клуба, перед публикой, которая ничего о тебе не знает и о которой ты ничего не знаешь, никакие агенты и менеджеры тебе не помогут. Ты один, и все зависит только от тебя.
Одиночество диджея — это вообще отдельная тема. Наверное, особенно остро свое одиночество ощущаешь по воскресеньям, когда после нескольких бессонных ночей, измотанный и опустошенный, оказываешься в зале ожидания аэропорта.
Жизнь диджея далеко не так безоблачна, как это кажется со стороны. Есть у нас и свои профессиональные заболевания, и, благодаря пятнадцати годам, проведенным за диджейским пультом, я знаю о них не понаслышке.
Постоянные вспышки световых приборов испортили мне глаза. Пыль и табачный дым засорили мне легкие. Про свои барабанные перепонки я просто не говорю. А еще у меня сколиоз. Вы, возможно, обращали внимание на то, что все диджеи сутулятся. Это результат бессонных ночей, которые мы проводим, склонившись над своими вертушками, а также нашей привычки повсюду таскать с собой тяжеленные кейсы.
Самое страшное для диджея — это потерять кейс с пластинками.
На первый взгляд это просто металлическая коробка с пятьюдесятью виниловыми лепешками внутри, но на самом деле — это часть нас самих.
Пластинкам, которые ты собираешь на протяжении всей своей жизни, не может быть цены. Помню, когда прошел слух о том, что в мадридском аэропорту какая-то банда промышляет воровством диджейских кейсов, многие диджеи просто перестали летать через этот аэропорт. А еще я знаю диджеев, которых все время мучает один и тот же кошмар: им снится, как они заходят в клуб, встают за вертушки, смотрят на сгорающую от нетерпения публику и вдруг обнаруживают, что их сумка с пластинками исчезла. Не хотел бы я оказаться в такой ситуации.
Но основная опасность — та, что угрожает профессиональному долголетию и цельности диджея, — исходит не от каких-то посторонних злоумышленников, а от самой клубной среды.
В жизни диджея слишком много соблазнов: алкоголь, наркотики, беспорядочный секс, — и противостоять им не так просто…
Десяткам диджеев отсутствие чувства меры стоило карьеры. Но еще больше тех, кого оно просто лишило способности доставлять публике удовольствие. Потому что если ты не можешь сохранять трезвый ум, значит, ты не уважаешь тех людей, которые пришли тебя послушать, а если ты их не уважаешь, значит, ты не сможешь доставить им удовольствия. Для меня уважительное отношение к публике с самого начала лежало в основе всего, что я делаю, и это, кстати говоря, совершенно не мешало мне брать от ночной жизни все.
Еще один серьезный источник опасности — международные гастроли. Поездка на другой конец света всегда связана с определенным риском. Даже если твой агент десять раз обговорил с промоутерами условия гастролей, даже если ты подписал идеально составленный контракт и получил денежный аванс, нет никакой гарантии, что в чужом городе тебя не поджидает какой-нибудь неприятный сюрприз.
В этом отношении особенно показателен случай, который произошел с двумя европейскими диджеями в России.
По прибытии в аэропорт ребята были похищены какими-то людьми, которые оказались конкурентами пригласивших их промоутеров. Похитители привезли диджеев в свой клуб, заставили их играть до самого утра, после чего отвезли обратно в аэропорт, вежливо поблагодарили за сотрудничество и заплатили в два раза больше денег, чем обещали их конкуренты!
Я думаю, любой часто гастролирующий диджей сможет рассказать вам какой-нибудь похожий случай из своей биографии. Значительная часть диджейских приключений и неприятностей так или иначе связана с аэропортами. Ты прилетаешь в незнакомый город, а тебя никто не встречает. Ты бросаешься звонить промоутеру, но он не берет трубку, а если и берет, то только для того, чтобы сказать: "Это не мои проблемы. Добирайся сам". А таможенный контроль? Помню, в одном из российских аэропортов я по непонятной причине вызвал серьезные подозрения у местных таможенников и был вынужден провести несколько часов в их компании — в ожидании переводчика.
Или еще такой случай: в 1991 году во время моих первых гастролей по Швеции я очутился совершенно один — с сорока килограммами винила, без денег и обратного билета — в аэропорту провинциального города, где должно было состояться мое выступление. Не обнаружив в толпе встречающих человека с табличкой "Гарнье", я кинулся звонить промоутеру. "Извини, но я не смогу за тобой приехать, так что тебе придется взять такси", — ответил мне на другом конце провода человек с сильным гортанным акцентом. Я наскреб по карманам немного долларов, нашел, причем с большим трудом, банк, согласившийся обменять их на местную валюту, и пошел ловить такси. По указанному адресу я обнаружил группку восемнадцатилетних мальчишек. Это и были промоутеры вечеринки. "У нас для тебя плохая новость, — сразу же сообщили они мне. — Твою вечеринку отменили". Естественно, моим первым желанием было высказать им все, что я о них думаю, но я сдержался и вежливо попросил их войти в мое положение: я нахожусь в сотнях километров от дома, — у меня в карманах ни цента, и к тому же завтра у меня день рожденья — в общем, я в полном дерьме. Когда я закончил говорить, в комнате воцарилась тишина. "Не волнуйся, — наконец произнес один из них. — Мы обязательно что-нибудь придумаем". "Хорошо", — ответил я, хотя их способность "что-нибудь придумать" вызывала у меня большие сомнения… Но малолетние промоутеры сдержали свое слово. Они взяли напрокат акустическую систему, установили ее в здании какой-то школы, мобилизовали всех своих знакомых тусовщиков — в общей сложности набралось двести человек — и устроили вечеринку. В два часа ночи один из организаторов неожиданно выключил музыку, взял микрофон, произнес какую-то фразу на шведском языке, и в ту же секунду все присутствующие в зале хором запели "Happy Birthday to you". У меня на душе стало необычайно тепло, и все обиды минувшего дня мгновенно забылись… Наутро промоутеры отвезли меня в аэропорт и отдали мне всю выручку от прошедшей вечеринки.
Эта история закончилась благополучно, потому что шведские промоутеры, несмотря ни на что, оказались хорошими ребятами. Но надо сказать, что среди людей этой профессии встречаются и законченные мерзавцы. Мне приходилось иметь дело с организаторами, которые после вечеринки со словами "Я устал, так что в гостиницу возвращайся сам" выставляют тебя на улицу или же исчезают, "забыв" расплатиться. А также с такими, которые селят артистов у черта на рогах — в жутких клоповниках, в которых клиентов принято поутру вышвыривать из постели под предлогом того, что "чек-аут строго до девяти утра". А как вам такая ситуация: после изматывающего перелета из Европы в Америку ты оказываешься в каком-нибудь сомнительном пригородном клубе, где на танцполе одиноко дрыгаются два с половиной тусовщика. За это тоже надо благодарить промоутеров.
Но все вышеописанное еще цветочки. Настоящий экстрим — это когда промоутер в ответ на твой закономерный вопрос: "Где мой гонорар?" — достает пушку и кладет ее на стол — мол, если будешь настаивать, я за себя не ручаюсь — или же вместо денег предлагает тебе… небольшую партию экстази. А также когда во время полицейского рейда запаниковавшие копы наставляют на тебя дула своих пистолетов (со мной такое случалось дважды: один раз в Мехико, другой — в Гренобле) или когда какой-нибудь свихнувшийся рейвер на полном серьезе угрожает тебе расправой — за то, что ты имел наглость во время техно-вечеринки поставить пластинку с драм-н-бейсом.
Как-то раз мне предложили поиграть в Лидсе, в клубе под названием Orbit, ориентирующемся на поклонников хард-техно. Я сразу же предупредил промоутера клуба, что не буду всю ночь крутить пластинки с техно-долбежкой и что в моем сете, скорее всего, будут вполне мелодичные треки. Промоутера это не смутило: "Так даже лучше, — заявил он. — Мы сейчас как раз пересматриваем нашу музыкальную политику. Так что можешь крутить любые пластинки. Все будет отлично". Передо мной играл Ричи Хотин. В течение двух с лишним часов Ричи потчевал публику Orbit свирепейшим техно. Публика была на седьмом небе от счастья. Затем настала моя очередь. Я тоже начал с довольно жестких техно-треков, но уже через полчаса мне захотелось разрядить атмосферу и я завел драм-нбейсовую пластинку. В зале раздались недовольные возгласы. Не обращая внимания на реакцию публики, я следом за этой пластинкой поставил еще одну в таком же духе. И сильно пожалел о своей настойчивости, потому что в ту же секунду на решетку, отделяющую кабину диджея от зала, запрыгнул какой-то тип с бутылочным горлышком в руке. Он просунул руку в кабину и попытался полоснуть меня по шее. Не знаю, чем бы все это закончилось, если бы мне на помощь не подоспели охранники клуба. Они оттащили нарушителя спокойствия в дальний угол и принялись его избивать.
Хотите еще историй? Пожалуйста.
Это произошло в Детройте, во время моих гастролей по Америке. Я знал, что в городе творится что-то неладное. Достаточно было вспомнить о том, что произошло с Кении Ларкином: к Кении в дверь постучались какие-то люди, он пошел открывать и получил несколько пуль в живот. Оправившись от ран, Кении сразу же перебрался в Калифорнию… В аэропорту меня встретил промоутер вечеринки. Когда мы садились в машину, я, как обычно, хотел занять пассажирское кресло, но промоутер не дал мне этого сделать: "Тебе лучше сесть на заднее сиденье. Мы сейчас едем в довольно опасное место, там белым лучше особенно не высовываться", — объяснил он. Мы приехали в какой-то страшный, почти трущобный квартал. Войдя в клуб, где должна была проходить наша вечеринка, я сразу же обратил внимание на решетки, защищающие окна. В клубе меня встретил Майк Бэнкс. "Сегодня здесь плохая вибрация, предупредил он. — Так что будь осторожен". Оказалось, что накануне бандиты, контролирующие этот квартал, повздорили с бандитами, обеспечивающими безопасность на нашей вечеринке. Мне вместе со Стейси Пулленом предложили играть в подвальном зале. На танцполе собралась разношерстная и позитивно настроенная публика, которая с огромным энтузиазмом реагировала на каждый новый трек. Все складывалось как нельзя лучше. Вдруг посреди моего сета в зал ворвался охранник. "Вырубаем музыку и сматываемся отсюда!" — проорал он. Было видно, что он не на шутку напуган. Публика, охваченная паникой, ринулась к выходу. Мы со Стейси в считанные секунды собрали пластинки и бросились вслед за остальными. Перед нами бежала какая-то девушка. В ту секунду, как она выскочила на улицу, у дверей остановилась машина. Из машины высунулась рука с пистолетом. Раздался выстрел. Девушка повалилась на землю. Заревел мотор, и машина умчалась в неизвестном направлении. К истекающей кровью девушке подбежали несколько охранников. Они подняли ее с земли и затащили обратно в здание. Потом один из них выхватил у меня из рук кейс с пластинками и со словами "Здесь опасно" затолкал меня внутрь. В вестибюле здания находилось еще около двадцати человек. Девушку, которая, как оказалось, была ранена в плечо, уложили на спину и укрыли какими-то тряпками. Вдруг раздался крик: "Ложись!" — и все двадцать человек бросились на пол. Несколько секунд мы лежали, боясь шелохнуться и вслушиваясь в свист пролетающих мимо машин. Потом наступила гробовая тишина, которую лишь изредка нарушали едва слышные возгласы "Fuck" и жалобные стоны раненой девушки. Полиция приехала только через пятнадцать минут.
На следующий день я узнал, что одного из бандитов, обеспечивавших безопасность на вечеринке, в тот же вечер прикончили ребята из конкурирующей группировки. Тело бедняги нашли в мусорном баке…
Все эти заграничные приключения, с одной стороны, сделали меня более взрослым человеком, а с другой — вернули мне утраченную было радость от общения с публикой. За время моих скитаний по свету во мне успели созреть два желания. Первое было связано с лейблом F Communications. F Com постоянно расширял свой каталог за счет новых артистов, и я был убежден в том, что теперь для него главным приоритетом должно стать завоевание новых рынков. Второе — с моей собственной музыкальной карьерой. Благодаря "Shot in the Dark" я узнал, какое это огромное удовольствие — сочинять музыку, и теперь втайне от всех вынашивал замысел своего второго сольного альбома…
Глава десятая Can you feel it?
Техно-музыке исполнилось семь лет. Вступление в сознательный возраст в ее жизни совпало с периодом первых бракосочетаний и первых трауров. 22 декабря 1994 года на юге Франции, в Каннах, Карл Кокс закатил сумасшедшую вечеринку по случаю своей женитьбы. Причем в жены он брал не кого-нибудь, а видного нью-йоркского диджея и трансвестита Леди Би (Lady В). А несколько месяцев спустя от рака скончалась журналистка и участница проекта Technohead Ли Ньюмен.
Тем временем F Communications продолжал активно осваивать новые территории. Особый интерес у нас с Эриком Мораном вызывала Восточная Европа, которую на тот момент еще не захлестнула волна техно. То, что мы увидели в России и в Восточном Берлине, произвело на нас сильное впечатление и вызвало желание всерьез заняться бывшими социалистическими странами. Итак, торжественно отпраздновав в Loco свой первый день рождения, F Com отправился покорять Белград. Бывшая Югославия тогда только-только начинала приходить в себя после долгой кровавой войны. Когда мы приехали в Белград, в городе под "присмотром" армейских танков проходила какая-то демонстрация. Крики демонстрантов долетали даже до парадного зала белградской мэрии, где в это же самое время проходил прием в честь… F Communications. На встречу с нами были приглашены все городские промоутеры. Церемония началась с презентации деятельности нашего лейбла и официальных речей, после которых нам были торжественно вручены ключи от города. Мы, разумеется, не ожидали столь роскошного приема и долго не могли понять, чему мы обязаны всеми этими почестями. Наконец кто-то из присутствующих объяснил нам, в чем дело. А дело было в том, что с момента окончания войны в Белграде еще не выступал ни один западноевропейский музыкант. Мы оказались первыми, и поэтому весть о нашем приезде вызвала бурную радость как среди простых белградцев, истосковавшихся по вечеринкам, так и среди представителей властей, для которых налаживание молодежного досуга на тот момент входило в число приоритетных задач. Под конец городские чиновники попросили нас подписать какое-то антинаркотическое воззвание. Пока мы его подписывали, за окном, на площади, продолжали как ни в чем не бывало маневрировать танки сербской армии. Помню, я тогда сказал себе, что в Белграде сосуществуют два параллельных мира…
Когда церемония закончилась, промоутеры предложили нам проследовать к месту проведения вечеринки. Мы очутились в каком-то складском помещении с широкими полками, заваленными железнодорожными рельсами. В зале была установлена мощная акустическая система, которую в момент нашего прихода звукоинженеры как раз старательно настраивали с помощью пластинки "The Dark Side of the Moon" Pink Floyd. На склад то и дело забегали какие-то цыганята, которые сначала внимательно вслушивались в не привычную для их ушей музыку, а потом принимались прыгать и танцевать, совершенно не обращая внимания на окружающих. Это было завораживающее зрелище: чумазые дети неземной красоты, самозабвенно танцующие под пинк-флойдовскую "Money".
Перед поездкой в Белград мы опасались, что нам придется играть для совершенно неподготовленной публики, и поэтому были приятно удивлены, когда увидели перед собой толпу позитивно настроенных парней и девушек, одетых по немецкой рейверской моде. Не успел Aurora Borealis (трансовый проект Шазза) начать свое выступление, как зал заходил ходуном. Люди радовались тому, что их город наконец-то пробуждается от кошмара войны. Алкоголь тек рекой. Рейверы запрыгивали на сцену и угощали нас пивом и еще каким-то непонятным вязким пойлом, а потом находили в зале Эрика Морана и принимались обучать его местным алкогольным обычаям… На следующий день в самолете, уносившем команду F Com на родину, стоял тяжелый запах перегара…
Через три дня после возвращения из Белграда мне предстояло отправиться в Японию. Я, конечно же, был наслышан о японской публике и о ее доходящей до фанатизма любви к музыке. Все диджеи, которым довелось поиграть в Стране восходящего солнца, рассказывали о ней с каким-то особенным блеском в глазах. Я понимал, что эти гастроли будут для меня серьезным испытанием, поэтому остававшиеся в запасе три дня решил полностью посвятить подготовке к встрече с японскими меломанами. Сначала я по новой переслушал все диски, находившиеся в моих диджейских кейсах, а затем принялся сортировать накопившиеся за последние недели новинки. Здесь следует уточнить, что мой недельный "урожай" новинок обычно составляет около ста релизов, восемьдесят из которых я, правда, сразу же отбраковываю. Оставшиеся двадцать я надписываю в соответствии со мною же изобретенной классификацией ("Dog's bollocks!", что значит "сумасшедший трек!"; "Fffwwwaaaarrrhhh!", что значит "классный трек!"; "бути-хаус", который в моей системе обозначается изображением голой задницы; "дип", "техно" и так далее) и укладываю в кейсы по принципу нарастающей интенсивности — от самой расслабленной пластинки до самой тяжелой…
Playlist Techno / House, Japonaise
Ken Ishii — Garden On The Palm
Flare — Peference To Difference
Fumia Tanaka — Micro EP
Susumu Yokota — Acid Mt Fuji LP
Mato — Drifting
Calm — Shadow of the Earth
Dj Kudo — Tiny Loops
К концу третьего дня процесс отбора музыки для японских гастролей был завершен. В последнюю минуту я бросил в сумку несколько пластинок с регги, фанком и бразильской самбой и отправился в путь.
Наверное, я действительно перенервничал, потому что перелет в Японию показался мне настоящей пыткой. Через одиннадцать часов мне стало так плохо, что я готов был все на свете отдать, лишь бы поскорее приземлиться… В Токио меня встретил Алек Прат (AlexPrat) — французский диджей, выросший в Японии и служивший посредником между японской публикой и французской хаус-сценой. До выступления оставалось еще несколько часов, и я, несмотря на усталость, попросил Алекса поводить меня по городу. Первым дело мы отправились в тусовочный квартал Сибуя, известный помимо всего прочего своими музыкальными магазинами. Такого богатства я даже не мог себе представить! Пластинки, которые я в течение многих лет тщетно разыскивал по всему свету, здесь преспокойно лежали на самом видном месте — бери не хочу. Был, правда, один сдерживающий фактор, а именно заоблачные цены, но как устоять, когда видишь такое великолепие?! Я достал свою Визу, купил сначала одну пластинку, потом вторую… Через несколько минут я уже умолял Алекса увести меня из этого опасного места.
Какой диджей не мечтает собрать идеальную фонотеку! Охота за эксклюзивом и раритетом — одна из основных составляющих диджейской профессии — зачастую превращается для нас в настоящую одержимость. Виниловую пластинку мы воспринимаем не как рабочий инструмент, а как сокровище, трофей, Святой Грааль, ради обладания которым стоит перерыть все пластиночные магазины мира. И если и есть на земле рай для таких виниломанов, как я, то этот рай, вне всякого сомнения, находится в Японии.
В первый вечер я должен был играть в легендарном токийском техноклубе Yellow. По своему дизайну Yellow напоминал типичный нью-йоркский клуб. В нем не было ничего лишнего: ни барных стоек, ни столов, ни стульев. Над самым центром зала вращался огромный зеркальный шар. Акустическая система выплескивала на посетителей басы невиданной мощности, словно напоминая им о том, что они пришли сюда ради того, чтобы танцевать и еще раз танцевать. Толпившиеся на танцполе парни и девушки были облачены в какие-то невообразимые наряды и смотрелись ужасно стильно. Пока я пробирался к диджейскому пульту, они бросали на меня любопытные взгляды и вежливо улыбались. Стоявший за пультом диджей, увидев меня, жестом показал, что уступает мне место. Я хотел отказаться, поскольку по расписанию до моего сета оставалось еще полчаса, но услышал за спиной голос Алекса: "Это знак уважения с его стороны. Ни в коем случае не отказывайся". Тогда я собрался с духом, сглотнул слюну и завел первую пластинку… То, что произошло с залом, не поддается никакому описанию. Мне показалось, что публика в прямом смысле слова сошла с ума. Градус безумия рос с каждым новым треком. Сначала я даже испугался такой неоправданно бурной реакции ("Да что на них нашло?! Может, они психованные?!"), но потом меня самого охватило неописуемое возбуждение. Мне опять вспомнились восторженные рассказы моих коллег-диджеев, и я наконец-то понял, чем было вызвано их преклонение перед японской публикой… Японцы — самые настоящие фанаты музыки, точнее, самые настоящие музыкальные маньяки: преданные, страстные, ненасытные и при этом чрезвычайно требовательные. Какой бы диск я ни ставил — никому не известную фанковую песню, техно-новинку или драм-н-бейсовый боевик, — в зале всегда находился какой-нибудь парень, который подскакивал к диджейскому пульту и, растопырив пальцы, словно желая таким образом выразить свое восхищение, принимался во все горло подпевать пластинке.
То же самое повторилось в Осаке, а затем и в Киото. Японцы на все реагировали с одинаковым восторгом, позволяя мне втягивать их в немыслимые музыкальные авантюры и самому отрываться на полную катушку… За эти несколько дней я получил колоссальный заряд энергии и во Францию вернулся другим, словно заново родившимся, человеком.
В 1994 году среди техно-промоутеров утвердился новый подход к составлению программ вечеринок, заключавшийся в полном игнорировании стилистических рамок. Например, в Австралии мне было предложено выступить с королем коммерческого транса Даджем Джулсом (Judge Jules), a в той же Японии — со звездой драм-н-бейса LTJ Bukem. Воцарившееся в клубах и на рейвах смешение жанров вдохнуло в техно новые силы и привело к появлению неожиданных проектов — таких, например, как совместный электро-релиз Вестбама и Африки Бамбата (Afrika Bambaataa) или хардкоровый макси-сингл, записанный Ленни Ди и вашим покорным слугой.
Примерно в это же время нескольким техно-промоутерам пришла в голову мысль создавать звездные диджейские команды и отправлять их в длительные гастроли по миру. Я оказался в одной команде с Джеффом Миллзом, Карлом Коксом, Ричи Хотином и Свеном Фэтом. Сначала все мы радовались возможности поиграть друг с другом, но вскоре нас стало не на шутку удручать полное отсутствие интриги в этих гастролях — реакция публики, пришедшей послушать "всех звезд" мирового техно, была настолько предсказуемой, что выступать перед ней было просто скучно. Именно тогда во мне окончательно созрело решение завязать с рейвами и супер-клубами и переключиться на заведения, в которые ходит более требовательная публика и в которых диджею дают возможность играть полноценные четырех, пятичасовые сеты. Тогда же я снова стал часто бывать в Англии, где моя миссия заключалась в просвещении молодого поколения клабберов, считавшего, что вся электронная музыка сводится к трансу и драм-н-бейсу.
Ксгнец 1996 года ознаменовался для меня двумя событиями: радостным — журнал "Muzik" признал меня лучшим международным диджеем года; и печальным — 17 декабря от лейкемии скончался чикагский продюсер Армандо, один из самых влиятельных людей в мире хауса. Второй раз после смерти Ли Ньюмен все мы почувствовали себя осиротевшими.
В том же 1996 году танцевальная музыка взяла курс на сближение с другими музыкальными жанрами, прежде всего — с джазом, дабом и роком. Техно- и хаус-продюсеры сначала украдкой приглядывались к этим жанрам, изучали их язык, исследовали их саунд, а потом начинали смело скрещивать их со своей электроникой.
С момента выхода "Shot in the Dark" прошло почти три года. Мне скоро должно было исполниться тридцать лет. Спектр моих музыкальных пристрастий за последнее время значительно расширился: я научился разбираться в джазе и стал интересоваться почти всеми современными стилями и течениями. Когда я почувствовал, что полностью созрел для второго альбома, я оборудовал на последнем этаже своего нового жилища (я тогда как раз переехал в одно из южных предместий Парижа) небольшую студию звукозаписи и приступил к работе.
Мне хотелось, чтобы мой новый альбом состоял из как можно большего количества красок и оттенков. Другими словами, чтобы в нем присутствовали непохожие и даже полярные "настроения", которые отражали бы разные грани моей личности. Как и в прошлый раз, я был настроен работать самостоятельно, но очень скоро мне стало ясно, что моя техническая безграмотность может просто-напросто загубить альбом. До сих пор я умудрялся обходиться без многих знаний и навыков, которые в принципе должны быть у любого техно-продюсера. Во время записи "Shot in the Dark" я работал практически на ощупь, методом проб и ошибок находя сидящие у меня в голове звуки и мелодии и время от времени нечаянно набредая на какие-нибудь интересные звучания. Однако на этот раз мне хотелось рассказать своим слушателям совершенно определенную историю, и для этого я должен был работать четко и профессионально, в общем, как настоящий продюсер.
Поскольку у меня не было желания перепахивать горы технической литературы, я обратился за помощью к своему товарищу Стефану Дри (Stéphane Dri), известному также как Scan X. Стефан был большим знатоком музыкальной техники, неутомимым экспериментатором и, как выяснилось, отличным педагогом. В течение целого месяца он каждое утро читал мне лекции по устройству микшера, сэмплера, эффект-процессора, компрессора и прочих приборов. Как-то утром он показал мне прием, позволяющий с помощью компрессии придать звуку некоторую шероховатость. Как только Стефан ушел, я решил опробовать полученные знания на практике. У меня в голове давно вертелась одна минималистская танцевальная вещица. Я встал за свой 3D 800, сыграл басовую линию, запустил ее по кругу, добавил бочку и хай-хэт, скомпрессовал все это дело и, чтобы дать ушам небольшую передышку, пошел прогуляться. Вернувшись домой, я переслушал трек и решил, что в нем чего-то не хватает. Тогда я переписал его на Дат-кассету, запустил MS20 и, нажав на одну из клавиш синтезатора, принялся теребить кнопки модулятора. На этот раз результат меня полностью удовлетворил: у меня получился суперзаводной трек — из тех, что диджеи обычно заводят, когда хотят взорвать танцпол. Я взял коробку от кассеты и написал на ней два слова: "Crispy Bacon".
Неделю спустя ко мне в гости зашел бывший проездом в Париже Джефф Миллз. Я попросил Джеффа послушать "Crispy Bacon" и сказать мне, что он о нем думает. Джефф слушал молча и с улыбкой на лице, а когда трек закончился, заявил, что хотел бы сделать на него ремикс. Зато название Джеффу категорически не понравилось: "Что это за чушь — "Crispy bacon"? Где ты откопал такое идиотское название?!" Я объяснил ему, что при прослушивании трека у меня в голове возникает образ ломтиков бекона, поджаривающихся в шипящем масле. "Ах вот в чем дело! — воскликнул Джефф. — В таком случае тебе нужно было назвать свой трек "Sizzling bacon", потому что "Crispy bacon" — это не поджаривающийся, а уже готовый бекон". "Ты ничего не путаешь?" — недоверчиво переспросил я. "Конечно нет. Твой трек должен называться "Sizzling bacon"!" — со знанием дела ответил Джефф, и мы оба расхохотались. Мой собственный ляп так позабавил меня, что, поразмыслив, я решил не слушаться Джеффа и оставить оригинальное название — "Crispy Bacon".
Итак, я продолжил работать над своим альбомом. Композиции рождались одна за другой — довольно быстро и без особых мучений, — и очень скоро альбом был полностью готов. За исключением трека "Flashback", посвященного памяти Армандо, ни к одной из моих новых вещей нельзя было применить определение "чисто танцевальное техно". Трек "For Max", написанный по случаю рождения сына у одного из моих друзей, был типичным даунтемпо, на дабовом "Theme from Larry's Dub" играл флейтист Magik Malik, а на посвященном Симоне Гарнье "Le Voyage de Simone"[36] пела певица по имени… Лорен Гарнье (Lauren Gamier), с которой меня познакомил ведущий Radio Nova Реми Кольпа-Копуль и которой уже много лет по ошибке звонили и писали мои поклонники.
Как я уже говорил выше, сочинение музыки давалось мне довольно легко, а вот с чем у меня были серьезные проблемы, так это со звуком. В 1996 году многие техно-артисты, и в первую очередь Autechre и их коллеги по Warp, достигли огромных высот в области экспериментов со звуком. Я же, руководствуясь принципом "do it yourself", решил не прибегать к услугам профессионального звукоинженера и полностью довериться собственной интуиции. Ну а поскольку никаких навыков работы со звуком у меня не было (например, я довольно смутно представлял себе, что такое "частота" или "спектр звука"), результат получился более чем посредственный. И хотя все треки с этого альбома я по-прежнему люблю, пластинка в целом сегодня кажется мне бесформенной и дурно смикшированной.
Первым (если не считать Эрика Морана) человеком, услышавшим мой новый альбом, стал мой приятель и единомышленник диджей Жак из Марселя. Мы куда-то ехали на машине, и я поинтересовался у Жака, не хочет ли он выступить в роли рецензента. Жак согласился, я засунул кассету в автомагнитолу и нажал на кнопку. Когда кассета доиграла, мне была выдана следующая рецензия: "Мне не все понравилось, но, по-моему, это уже вполне зрелая работа". И тогда меня осенило. Я наконец-то понял, как должен называться мой альбом: "30". Как тридцать лет — возраст, совпавший в моей жизни с периодом перемен, сомнений и поисков. Моя женитьба, мои страхи, мое стремление заявить о себе как о музыканте — все это нашло отражение в моем втором альбоме. Я прекрасно понимал, что "30" несовершенен, и тем не менее решил оставить его таким, какой он есть, в надежде на то, что внимательный слушатель почувствует и оценит по достоинству мою искренность и мое желание найти точки соприкосновения между различными музыкальными жанрами.
Дальше встал вопрос об оформлении пластинки. Мне хотелось избежать прилипших к техно визуальных штампов: всей этой цифровой эстетики, фрактальных картинок, психоделических красок и так далее. Я обратился к художнику Марку Ансельми и получил от него то, что мне было нужно: строгую черно-белую обложку с покрытым мелкими царапинками изображением моих глаз.
Теперь оставалось снять клипы к двум синглам с альбома — "Crispy Bacon" и "Flashback", и эту задачу я поручил музыканту и режиссеру Кентену Дюпье (Quentin Dupieux)[37]. Кентен подошел к моему поручению крайне ответственно и вместо обычного видеоклипа снял для меня очень личный и остроумный короткометражный фильм под названием "Nightmare Sandwich".
"30" поступил в продажу в декабре 1996 года. Первые отклики не заставили себя долго ждать. Слушатели и журналисты сразу же разделились на два лагеря. Из первого лагеря до меня доносилось: "самонадеянный", "претенциозный", "беспорядочный"; из второго — "зрелый", "сильный", "смелый".
К тому времени нападки на техно со стороны властей практически прекратились, и это привело к невиданному всплеску техно-активности во французской провинции. В Гренобле гремели вечеринки Futuria; в Рене очередной фестиваль Transmusicales завершился техно-праздником в городском выставочном центре; в Нанте в рамках фестиваля "Ги л'Эклер" (Guy L'Eclair) состоялся первый французский техно-парад. Отметились рейверы и в Каркасоне — на улицах Старого города, и в Конкарно — в сказочном замке Кериоле, распахнувшем свои ворота для участников международного техно-фестиваля Astropolis. Но, пожалуй, наибольшего размаха техно-движение достигло на юге Франции (в Каннах, Ницце, Экс-ан-Провансе и Монпелье), где первую скрипку играл диджей Жак из Марселя. Правда, репутацию южной клубной сцены сильно портили шантаж, мошенничество и кидание на деньги, остававшиеся излюбленными методами работы многих здешних промоутеров. Помню, во время своего выступления в клубе La Nit.ro в Монпелье я совершенно случайно наткнулся на включенный диктофон, спрятанный за грудой какого-то барахла. Сомнений быть не могло: это дело рук организаторов вечеринки, вознамерившихся выпустить кассетный бутлег с моим миксом (в те годы в Европе как раз процветало кассетное пиратство). Недолго думая, я вынул кассету из диктофона и положил ее к себе в карман. Когда я направился к выходу, дорогу мне перегородили ребята из секьюрити: "Пока не отдашь кассету, мы тебя не выпустим". Судя по тону, парни не шутили. Спас меня один из приятелей Хитреца Маню, присутствовавший при этой сцене. Он взял у меня кассету, бросил ее на землю и со словами "Заберите вашу кассету!" со всей силы наступил на нее ногой. Кассета раскололась на мелкие кусочки…
Самым главным южным техно-событием считался фестиваль "Бореалис". В 1997 году по случаю пятого "Бореалиса" на концертной площадке Граммон в Монпелье была выстроена настоящая деревня-однодневка. Выставки, концерты и вечеринки проходили по всему городу. Диджей Стефанович сводил пластинки прямо на площади Комедии[38], Джефф Миллз сопровождал выступление труппы современного танца, а на пяти основных сценах для шестнадцати тысяч рейверов играли Франсуа Кеворкян (Francois Kevorkian), Daft Punk, Chemical Brothers, Хитрец Маню и The End Sound System.
Я заступил за вертушки в шесть утра, когда на всех остальных площадках музыка уже стихла. Кабина, в которой я играл, была расположена ниже уровня сцены и всего на полтора метра возвышалась над землей, из-за чего у меня сразу возникло ощущение, что я нахожусь в крошечном клубе на сто человек, тогда как на самом деле передо мной отплясывали несколько тысяч рейверов. Когда начало светать, я обнаружил, что танцующие своими ногами успели поднять огромное облако пыли. За неделю до Бореалиса, выступая в Гонконге, я познакомился с участниками франко-китайского дуэта Technasia, и теперь у меня под рукой лежал их первый макси-сингл "Themes from a Neon City", который, по моему замыслу, должен был стать кульминацией этого сета. Когда солнце завершило свое восхождение и зависло над нашими головами, я понял, что пришло время для "Themes from a Neon City", и положил пластинку на вертушку. Что тут началось! Несколько тысяч рук взмыли вверх, ноги задвигались в два раза быстрее, а облако пыли в считанные секунды стало в два раза гуще. Вслед за "Themes from a Neon City" я завел одну из своих любимых пластинок — "World 2 World" Underground Resistance — и тем самым довел публику до полного экстаза… Сегодня, оглядываясь назад, я могу сказать, что это был один из самых волшебных моментов во всей моей карьере.
В 1997 году техно вплотную приблизилось к статусу респектабельного вида искусства. Власти и СМИ осознали, что покровительствовать технодвижению выгодно как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения имиджа. Первым официально зарегистрированным поклонником танцевальной музыки среди французских политических деятелей стал бывший министр культуры Жак Ланг, заявивший, что собирается принять участие в Бореалисе и берлинском Лав-Параде. Все крупные общенациональные издания обзавелись собственными специалистами по техно (например, в "Либерасьон" о техно писал Алекси Бернье, а в "Монде" — Стефан Даве), а французские меломаны наконец-то получили ежемесячный журнал, полностью посвященный электронной культуре, — "Тгах". Но главная перемена заключалась в неожиданном международном признании французского хауса. Все началось с того, что авторитетный английский журнал "Muzik" назвал пластинку "Pansoul" проекта Филиппа Здара (Philippe Zdar) и Этьена де Креси (Etienne de Crecy) Motorbass альбомом месяца, после чего сразу в нескольких английских изданиях появились статьи о молодом поколении парижских продюсеров, привнесшем в хаус определенный французский колорит — так называемый French Touch. Выражение "French Touch" (между прочим, употреблявшееся еще в начале 80-х по отношению к французским панк-группам, вроде Metal Urbain и Stinky Toys) моментально облетело весь земной шар, и музыкальные журналисты в унисон заговорили о феноменальной парижской хаус-сцене. Хотя если разобраться, за этой феноменальной сценой скрывалась небольшая тусовка, собиравшаяся в пластиночном магазине Rough Trade на Бастилии: Филипп Здар, Алекс Гофер (Alex Gopher), Тома Бангальтер (Thomas Bangalter), Boombass, Этьен де Креси, Димитри из Парижа (Dimitri from Paris) и еще несколько человек.
В 1997 году техно вплотную приблизилось к статусу респектабельного вида искусства. Власти и СМИ осознали, что покровительствовать техно-движению выгодно как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения имиджа.
Playlist French Touch
Stardust — Music Sounds Better With You
Duft Punk — Around The World
Kojak — Hold Me
Superdiscount — La Patron Est Devenu Fou
Motorbass — Fabulous
Cheek — Venus (sunshine people)
Modjo — Lady
Cassius — 1999
Первое время под словосочетанием French Touch подразумевался определенный саунд — фильтрованный фанковый хаус с вкраплениями попа, открыто заигрывающий с диско и гетто-хаусом и продолжающий традицию американцев DJ Sneak и Romanthony. Однако очень скоро этот ярлык стали без разбору лепить на все хаус-пластинки, записывающиеся в Париже.
Не будет большим преувеличением, если я скажу, что ключевую роль во французском хаус-нашествии сыграли мейджоры. Конечно, дорогу им проторили маленькие независимые лейблы, начавшие заниматься продвижением французской электроники на мировой рынок еще в начале 90-х, однако без мейджоров с их разветвленными сетями и колоссальными финансовыми возможностями никакого French touch-бума, скорее всего, не случилось бы. В 1996 году директор французского отделения Virgin Эмманюэль де Бюретель (Emmanuel de Buretel) подписал контракт с группой Daft Punk, и когда какое-то время спустя группа выпустила свой первый альбом "Homework", почва для международного триумфа была уже полностью готова.
Французские СМИ очень обрадовались появлению презентабельной и форматной разновидности электронной музыки. И хотя в это же время во Франции — причем не только в Париже, но ив провинции — бурно развивались гоа-транс, хардкор и собственно техно, журналисты не желали слышать ни о чем, кроме столичного хауса. French Touch без труда проник в эфир крупных неспециализированных радиостанций, которые еще недавно упорно игнорировали существование электронной культуры, и в стране началась настоящая хаус-эйфория. Каждый мейджор теперь мечтал заполучить своих собственных Daft Punk. За каких-то несколько месяцев в стране появились десятки новых French Touch-героев: Kojak — единственная настоящая концертная группа во всей французской хаус-тусовке; I: Cube — открытие лейбла Versatile и лично диджея Gilb'r; Air — тонкая и умная группа, имеющая мало общего с каноническим хаусом; Боб Синклер (Bob Sinclair) и так далее.
Продукция с этикеткой "French Touch" пользовалась колоссальным спросом за границей, так что любой безвестный французский артист, усвоивший рецепт фильтрованного хауса, мог без труда продать пять тысяч экземпляров своей пластинки европейским и японским меломанам. Неудивительно, что за один только 1997 год на территории Франции было зарегистрировано несколько сотен новых лейблов.
Словосочетание "French Touch" все это время не сходило со страниц газет и журналов, не упускавших возможность лишний раз порадоваться международному триумфу французской музыки. Диджей стал главным кумиром французской молодежи. Подростки на Рождество или день рожденья заказывали родителям вертушки и, получив заказ, принимались осваивать основы диджейского мастерства, жертвуя ради этого даже таким священным занятием, как игра в футбол. Парижская радиостанция Nova по инициативе Лоика Дюри и диджея Gilb'r отвела весь конец недели под диджейское шоу Novamix. С пятницы по воскресенье в студии Nova сменяли друг друга лучшие представители французской городской культуры: Dee Nasty, Lord Zeljko, Эрик Рюг, Лоик Дюри, DJ Volta, Gilb'r, Morpheus, Cut Killer, Иван Смаг (Ivan Smagghe), Жан Крок (Jean Croc), Ариэль Вицман, DJ Clyde и Джоуи Старр. Я присоединился к команде Novamix осенью 1997 года. Мы приглашали к себе в студию зарубежных музыкантов (например, Жиля Петерсона или ребят с Ninja Tune и Grand Central), журналистов, художников, писателей, кинорежиссеров и устраивали вместе с ними дебаты на разные актуальные темы. Это был совершенно новый подход к ведению музыкального эфира.
В 1998 году Тома Бангальтер, Алан Браке (Alan Brax) и Бенжамен Даймонд (Benjamin Diamond) организовали проект Stardust и выпустили на лейбле Roule Records, принадлежащем членам Daft Punk, макси-сингл "Music Sounds Better with You". Сингл пришелся по душе программным директорам периферийных радиостанций, видеоклип попал в тяжелую ротацию на музыкальных телеканалах, и в результате "Music Sounds Better with You" разошелся тиражом в несколько миллионов экземпляров. А когда через какое-то время похожая история приключилась с первым альбомом проекта Cassius, ажиотаж вокруг французской электроники достиг своего апогея. И если главные герои French Touch-волны — группа Daft Punk — продолжали упорно сохранять инкогнито, то некоторые другие хаус-деятели постепенно начали примерять на себя одежды поп-звезд.
"French Touch" без труда проник в эфир крупных неспециализированных радиостанций, которые еще недавно упорно игнорировали существование электронной культуры, и в стране началась настоящая хаус-эйфория.
Продукция с этикеткой
пользовалась колоссальным спросом за границей.
Вскоре укрыться от техно стало просто невозможно. Оно настигало вас, когда вы заходили в клуб или кинотеатр, когда вы включали радио или телевизор, когда вы открывали газету. Под звуки техно крупнейшие корпорации рекламировали свои духи, кроссовки и шампуни "два в одном", а модные дизайнеры демонстрировали свои новые коллекции. Не чурались техно и политические деятели: так, на съезде одной из правых партий в качестве саундтрека к выходу партийного руководства на сцену был выбран свежий французский хаус-хит.
Но, несмотря на головокружительные успехи французской электронной сцены, в обществе по-прежнему бытовало мнение, что хаус- и техно-артистов нельзя считать музыкантами, поскольку всю работу за них якобы делает компьютер. Сколько мы ни объясняли, что компьютер — это не более чем орудие труда и что мелодии пишет ни он, а живой человек, люди все равно продолжали цепляться за давно усвоенные стереотипы. Единственное, что могло заставить их изменить свое мнение, — это живые концерты техно-музыкантов.
Первыми живьем заиграли LFO и Orbital (это произошло еще в начале 90-х), затем по их стопам пошли Underworld, Prodigy, Chemical Brothers и, наконец, Daft Punk. Осознав, что будущее за живой электроникой, я решил, что мне самому пора начинать сценическую карьеру. Мешала неуверенность, собственных силах. Ведь одно дело — писать музыку, запершись у себя в студии, и совсем другое — играть эту музыку на сцене, да к тому же вместе с профессиональными инструменталистами. Я поделился своими сомнениями с Эриком Мораном и получил следующее наставление: "Забудь про комплексы и немедленно приступай к делу!"
Тогда же я познакомился с ударником Дэниелом Беше — сыном знаменитого Сидни Беше (Sidney Bechet). Мы начали репетировать вместе, и я сразу же понял, что в моих композициях катастрофически не хватает пространства для живых инструментов. На "подгонку" альбома ушло около полугода. Когда работа была завершена, я послал переделанные треки Дэниелу, а также Карин Лаборд — классической скрипачке из Бордо, тоже заинтересованной в сотрудничестве с электронным музыкантом. Теперь оставалось собрать гастрольную команду. Кристиан Поле, ставший к тому времени моим менеджером, познакомил меня с одним из самых авторитетных французских звукоинженеров Дидье Любеном по прозвищу Люлю, в свое время сделавшим звук Rex. Заручившись согласием Люлю, я пригласил к себе в команду основателей танцевальной труппы "Белые ночи" Ульриха и ККО и двух техников: Лорана Дефлора и бывшего технического администратора Rex Фреда Кикемеля.
Благодаря связям Карин для репетиций мы получили в свое распоряжение концертный зал "400" в Бордо. Здесь-то все члены нашей команды и познакомились друг с другом.
Репетиции продлились три дня, а потом начались гастроли, которым предстояло растянуться на целых полтора года. Опробовав свою программу на публике европейских фестивалей, мы отправились покорять французские города: Лион, Марсель, Бордо, Руан, Лиль, Дижон… Во время концертов моя задача заключалась в том, чтобы распределять роли между музыкантами и из-за своего пульта управлять образующимися из коротких лупов и секвенций ритмическими партиями, таким образом задавая направление всему треку. Я был доволен тем, как проходят гастроли. Публика встречала нас тепло, а атмосфера, царившая в самой команде, напоминала мне каникулы в летнем лагере.
Через полгода после начала гастролей я узнал, что мой альбом "30" был выдвинут на "Виктуар де ля Мюзик" в новой для этой премии номинации "электронная музыка". Оказалось, что незадолго до этого Эрик Моран без моего ведома связался с организационным комитетом "Виктуар де ля Мюзик"[39] и предложил им послушать "30". Альбом прошел предварительный отбор, и я, не приложив к этому никаких усилий, очутился в финале.
Награждение победителей должно было проходить в легендарном концертном зале "Олимпия". При этом каждому из пяти финалистов было велено подготовить какую-нибудь композицию и накануне церемонии провести в "Олимпии" саундчек и репетицию. Все желающие могли воспользоваться услугами симфонического оркестра, нанятого организаторами. Мы решили, что будем играть "Acid Eiffel".
Итак, 19 февраля 1998 года мы с Дэниелом и Карин отправились в "Олимпию". Мы вошли через служебный вход и, оказавшись за кулисами, спросили у кого-то из техников, как нам найти администратора. "Так вы и есть эти самые техно-музыканты! — услышали мы в ответ. — Если хотите знать мое мнение, ваша музыка — полное дерьмо". И началось… Каждый из техников считал своим долгом отпустить в наш адрес какую-нибудь гадкую шуточку. В это же самое время моя жена, сидевшая в зале в ожидании начала репетиции, была вынуждена выслушивать бесконечные причитания персонала "Олимпии": "Какой позор!", "До чего мы докатились?!", "Кто их сюда пустил?!" и так далее. Так продолжалось до тех пор, пока за кулисами не появился наш звукоинженер Люлю — человек, пользующийся огромным авторитетом среди своих коллег. "А ты как здесь оказался?" — поинтересовались техники. "А я работаю с Гарнье", — ответил Люлю. Техники удивились. Потом кто-то из них узнал Дэниела Беше и задал ему тот же вопрос. "А я играю с Гарнье", — ответил Дэниел. Техники пришли в полное недоумение. "Наверное, ужасно противно играть такую музыку, да?" — посочувствовали они. "Да что вы?! Как раз наоборот! — рассмеялся Дэниел. — Это такой кайф! Мы собираем по шесть тысяч человек за выступление, представляете?!" Техники так и остались стоять с открытыми ртами… В общем-то, этих людей можно понять, подумал я. Они, скорее всего, никогда толком не слышали техно и знают о нем лишь по газетным статьям и телевизионным передачам, поэтому вполне естественно, что их возмущает вторжение этой музыки в храм французской песни, где когда-то выступали Эдит Пиаф и Жак Брель.
Когда настала наша очередь репетировать, Карин раздала оркестру партитуру "Acid Eiffel". "И это все?! — изумились музыканты. — Да это ж каждый школьник сыграет!" Но не тут-то было: как только мы начали играть, оказалось, что струнные постоянно сбиваются с ритма. Карин взяла скрипку и встала напротив музыкантов. Это помогло, но ненадолго, и вскоре в оркестре опять начался полный разброд. Пришлось остановиться. "Ну так в чем дело? Вы же говорили, что это проще простого! — недоумевала Карин. — Не понимаю, что такого сложного в синкопе?!" Когда репетиция закончилась, мы вежливо поблагодарили техников и музыкантов и покинули зал.
На следующий вечер я облачился в костюм и снова отправился в "Олимпию". Этой же ночью мне предстояло играть в Генте на фестивале I Love Techno, и организаторы "Виктуар де ля Мюзик", пойдя мне навстречу, поставили номинацию "электронная музыка" в начало церемонии. Сама церемония прошла для меня словно в ускоренной перемотке. "30" объявили победителем, я поднялся на сцену, сказал, что посвящаю эту победу всем техно-музыкантам, мы сыграли "Acid Eiffel", я прыгнул в свой техномобиль и взял курс на Бельгию.
На франко-бельгийской границе меня остановила полицейская машина. Я морально приготовился к неприятному разговору, но приветливые полицейские, улыбаясь, объяснили мне, что их послал промоутер I Love Techno Петер Декупер и что они обязаны проводить меня до самого Гента. Вот уж не думал, что когда-нибудь приеду на собственное выступление в сопровождении полицейской машины, да к тому же с включенной мигалкой! За кулисами меня ждал еще один сюрприз: шампанское и пачка записок с поздравлениями. А когда я — прямо в костюме, поскольку переодеваться мне было некогда, — вышел на сцену, меня встретила настоящая овация. Растроганный и счастливый, я встал за вертушки, и шесть тысяч человек тотчас же пустились в пляс. Так я и отпраздновал свою Музыкальную победу.
Мой успех на "Виктуар де ля Мюзик" позволил F Communications завязать отношения со многими интересными людьми, которые еще недавно вряд-ли восприняли бы всерьез какой-то независимый электронный лейбл. Но была у этого успеха и обратная сторона. Чрезмерное внимание прессы превратило меня в глазах широкой публики в эдакого уполномоченного представителя техно во Франции, что, разумеется, не соответствовало действительности. Самое обидное заключалось в том, что журналисты, вместо того чтобы интересоваться моим творчеством, заваливали меня вопросами о роли наркотиков в техно-культуре и о пресловутом French Touch-движении, к которому, кстати сказать, ни я, ни F Com никогда себя не относили. Ситуация становилась невыносимой, а когда в технотусовке заговорили о том, что "Гарнье продался на корню", я почувствовал, что должен расставить точки над i, и выпустил свой новый макси-сингл "Dangerous Drive" крошечным тиражом в триста экземпляров, тогда как по законам шоу-бизнеса мне следовало закидать им все пластиночные магазины страны, предварительно налепив на него стикер "от лауреата "Виктуар де ля Мюзик"".
Тем временем мое "живое" турне по Европе продолжалось. Летом 1998 года я получил приглашение от организаторов знаменитого фестиваля в Монтре. Играть в Монтре, не имея в своем репертуаре ни одной джазовой композиции, было бы неуважением к публике, поэтому как только меня посетило вдохновение (а случилось это в Ирландии), я сочинил джазовую вещицу, которую без лишних затей назвал "Jazzy Track". За пару дней до фестиваля я познакомился с саксофонистом Финном Мартином (Finn Martin), мы сыгрались и во время концерта вместе исполнили импровизацию на тему "Jazzy Track".
Пока я колесил по Европе, французское хаус-движение продолжало крепнуть и развиваться. В сентябре 1998 года по инициативе общественной организации Технополь в Париже прошел первый Техно-парад. Интересно, что идея этого мероприятия возникла у активистов Технополя значительно раньше, однако начать серьезные переговоры с властями они решились в тот день, когда Жак Ланг публично заявил, что в Париже должен быть аналог берлинского Лав-парада. Заручившись поддержкой различных электронных артистов и лейблов, в том числе F Communications, "техно-польцы" принялись вести просветительскую работу среди представителей Министерства внутренних дел, Министерства культуры, жандармерии и Отдела по борьбе с наркотиками, растолковывая им, что такое техно-культура и какое важное место в ней занимают уличные парады. Параллельно с этим они обрабатывали Общество защиты авторских прав в надежде добиться для диджея официального статуса творческого работника. На словах все чиновники были искренними поклонниками молодежной культуры в целом и техно в частности, однако как только речь заходила о конкретном сотрудничестве, начинались классические бюрократические игры с путаными ответами и ни к чему не обязывающими обещаниями. С мертвой точки дело сдвинулось благодаря тому же Жаку Лангу, — сумевшему уговорить префектуру поддержать проект Технополя. И хотя между Технополем и чиновниками оставалось множество разногласий, было ясно, что теперь никто и ничто уже не помешает техно-музыке захватить улицы французской столицы. А заодно и ее музеи, поскольку к параду организаторы решили приурочить целый ряд мероприятий, посвященных электронной культуре, в том числе выставки Sonic Process и Global Techno в Центре Помпиду.
Первый парижский Техно-парад состоялся 19 сентября. На пестрых грузовиках, стартовавших с площади Данфер-Рошро и взявших курс на площадь Насьон, можно было наблюдать весь цвет французской электронной сцены. Музыканты F Communications совместно с командой Rex разъезжали по улицам на транспортном средстве, окрещенном "Грузовик разведчиков" и украшенном разнообразной пышной растительностью. Был теплый субботний день. Город радовался солнцу и музыке. С балконов домов нас приветствовали целые семьи с маленькими детьми. Когда наш кортеж торжественно въехал на площадь Бастилии, я не удержался и крикнул в микрофон: "Свершилось! Техно взяло Бастилию!" Мы были счастливы. Этот парад означал для нас успешное завершение начавшейся десять лет назад борьбы за предоставление техно-музыке французского гражданства.
В конечный пункт, на площадь Насьон, кортеж прибыл в начале вечера. На площади нас ждала эстрада, установленная специально для заключительной вечеринки Техно-парада, в которой, среди прочих, должны были принять участие Карл Кокс, Хитрец Маню, Жак из Марселя и группа Kojak. По договоренности с городскими властями вечеринка должна была завершиться ровно в полночь. Перед эстрадой собралась огромная толпа, в которой встречались как закоренелые рейверы, так и обычные зеваки, первый раз в жизни попавшие на техно-вечеринку. Все были настроены доброжелательно. Ничто не предвещало беды.
Беспорядки начались с наступлением темноты, когда на площади Насьон объявилась банда провокаторов. Хулиганы приставали к девушкам, задирали мирно танцующих рейверов — в общем, всеми средствами искали повода для драки. Я выступал самым последним. Когда я вышел на сцену, моему взору предстала жуткая картина: рассеянные по всей площади группки агрессивных молодчиков избивали беззащитных подростков и не давали прохода санитарам Красного Креста, пытавшимся оказать раненым первую помощь. Поняв, что дело принимает серьезный оборот, организаторы велели мне закругляться. Я начал судорожно собирать пластинки, наблюдая за тем, как тысячи людей, расталкивая друг друга, пытаются вырваться из этого ада. Сердце мое обливалось кровью: на последнем берлинском Лав-параде, в котором участвовало свыше миллиона рейверов, не было зарегистрировано ни одного серьезного инцидента, а в Париже каких-то двести подонков сумели испортить праздник пятидесяти тысячам человек!
К тому моменту когда я закончил собирать диски, команда Техно-парада успела благополучно покинуть "тонущий корабль". Я оказался за сценой в компании американского продюсера Ленни Ди и еще пяти таких же нерасторопных ребят. В нескольких метрах от нас десятки погромщиков били стекла машин и разламывали звуковую аппаратуру. Рассчитывать на то, что мы сумеем незаметно прошмыгнуть мимо них с сорока килограммами винила под мышкой, было глупо. Так мы и сидели за сценой, съежившись от страха и изо всех сил стараясь не привлекать к себе внимания. Наконец кто-то из наших товарищей по несчастью, не выдержав, встал и сказал, что попытается пригнать свою машину. Мы остались ждать. Через полтора часа наш спаситель вернулся, мы забрались в его машину и несколько минут спустя были уже далеко от площади Насьон.
Несмотря на омрачившие конец праздника беспорядки, первый Техно-парад позволил электронной музыке окончательно закрепиться в статусе важнейшего феномена французской культурной жизни.
Общественное мнение, которому техно-артистов теперь преподносили не как отъявленных маргиналов, а как вполне успешных молодых людей, стало благоволить к танцевальной культуре, а это рано или поздно должно было привести к коммерциализации французской электронной сцены. Соблазн легких денег (мейджоры отличались умением изящно и непринужденно жонглировать суммами с большим количеством нулей) был слишком велик, и многие диджеи и музыканты не смогли перед ним устоять. Что касается меня, то я твердо решил, что останусь в стороне от этой суеты и сосредоточусь на новых творческих задачах.
Глава одиннадцатая Chaotic Harmony
С тех пор как я стал играть живьем, самые разные люди из моего окружения регулярно подбивали меня дать сольный концерт в "Олимпии". Чаще остальных эту тему поднимал Кристиан Поле, для которого "Олимпия" с детства была чем-то вроде храма. Что касается моих товарищей по группе, то они говорили так: "Мы горы свернем, лишь бы тебе дали "Олимпию". И как бы ни прошел сам концерт, для тебя это будет бесценный опыт". Самого же меня эта затея скорее пугала, чем привлекала.
До 1998 года электронной музыке вход в "Олимпию" был заказан. На все предложения от техно-промоутеров дирекция зала неизменно отвечала отказом, мотивируя это тем, что вверенные ей легендарные подмостки предназначены для эстрадных, поп- и рок-исполнителей, но никак не для техно-музыкантов. Все изменилось в тот день, когда "30" был удостоен "Виктуар де ля Мюзик". Воспользовавшись благоприятной ситуацией, Кристиан Поле послал запрос менеджерам "Олимпии" и вскоре получил от них положительный ответ с конкретной датой (17 сентября 1998 года — в перерыве между двумя концертами певицы Анни Корди), которую тотчас же им и подтвердил. Меня Кристиан даже не поставил в известность — видимо, из страха, что пока я буду взвешивать это предложение, менеджеры успеют передумать.
Первый полноценный концерт в "Олимпии" имел для меня двойное значение. С одной стороны, я должен был выполнить ответственное задание — внедрить техно в святилище французской эстрады; с другой — мне предстояло вернуться, но уже в ином качестве, в то место, где я впервые в своей жизни увидел одно из самых прекрасных зрелищ на свете: сцену, утопающую в лучах разноцветных прожекторов (мне тогда было пять лет, и это был концерт не то Жерара Ленормана, не то Анни Корди). Позднее я узнал, что в "Олимпии" выступали не только эстрадные певцы, но и такие артисты, как Джеймс Браун, Джими Хендрикс, Kraftwerk, Нина Симон… И тот факт, что мое имя вскоре пополнит этот почетный список, казался мне подтверждением моей состоятельности как музыканта.
Понимая, что на наш концерт придут люди, никогда в "Олимпии" не бывавшие, мы решили специально для них придумать какое-нибудь необычное шоу, благо на подготовку у нас было целых полгода. На сцене "Олимпии" легко умещалось шестьдесят человек, так что решение выступать в расширенном составе напросилось само собой. Тщательно продумав декорации, освещение и различные организационные моменты, мы направили свои пожелания техническому администратору зала и тут же столкнулись с царящими в эстрадном бизнесе суровыми порядками. Оказалось, что в таких заведениях, как "Олимпия", в стоимость аренды зала входит исключительно аренда зала. За то, чтобы, организовать стоячий партер, заказать еду и напитки и вывесить свое имя над входом, приходится платить отдельно. Поскольку мне не улыбалось в день своего первого и, возможно, последнего концерта в "Олимпии" увидеть над входом в зал имя исполнительницы "Горничной священника"[40], да и просто потому, что мне хотелось, чтобы все было по высшему разряду, я решил пойти на дополнительные расходы и в результате сильно вылез за рамки бюджета. Не знаю, что бы я делал, если бы все члены моей небольшой команды не проявили потрясающую солидарность: музыканты и танцовщики согласились выступать за символическое вознаграждение, мой брат взялся доставить еду и напитки, шурин — изготовить из найденных на стройках кусков фанеры и ткани сценические декорации, и так далее.
Утром 17 сентября на сцену "Олимпии" были водружены четыре щита красновато-коричневого цвета. В каждом из них были проделаны сотни маленьких дырочек, сквозь которые сочился яркий оранжевый свет. С боков были установлены рамы, одетые в прозрачную ткань, на которую должны были проецироваться тени танцовщиков. Самим же танцовщикам предстояло танцевать на скрытом от взглядов зрителей помосте. Свое рабочее место я оборудовал посередине сцены. Прямо перед собой я установил микшер Yamaha 03D, по правую руку — сэмплер с компьютером, по левую — целую батарею синтезаторов: Juno 106, JD 800, DX 100 и старинный ТВЗОЗ. По соседству с моими приборами пристроилась электронная ударная установка Дэниела Беше. В глубине, на некотором возвышении, должны были расположиться струнные; у края сцены — саксофонист; и, наконец, на самой середине, в лучах света и на фоне продолговатого цилиндра из прозрачной ткани, — певица Лорен Гарнье.
К саундчеку мы подошли еще серьезнее, чем обычно: в пустом зале ощущалась какая-то странная вибрация — словно вобравшая в себя все чувства и эмоции, которые когда-либо были выплеснуты находившимися в нем людьми, — и нам во что бы то ни стало хотелось, чтобы звук наших инструментов соответствовал этому удивительному духу.
В 18.00 все было готово, и началось самое мучительное — ожидание. Чтобы немного отвлечься, мы с Эриком и Кристианом вышли на улицу, встали перед входом в "Олимпию" и принялись разглядывать красные буквы, из которых складывался заветный текст: "Tub-A Productions совместно с F Communications представляют: Лоран Гарнье". Это был очень волнительный момент. Я видел, как у Кристиана на глаза наворачиваются слезы и как Эрик изо всех сил сдерживается, чтобы нечаянным движением или возгласом не нарушить возникшую магию. Сам же я разрывался между ребяческой радостью и паническим страхом…
На землю нас вернул телефонный звонок от нашего звукоинженера: "Где вы шляетесь?! Уже семь часов, пора начинать!"
Мы направились к служебному входу. На пару секунд я задержался перед замурованной дверью, за которой когда-то находился легендарный гей-клуб Boy. Воспоминания о горячих ночах, проведенных в этом месте, нахлынули на меня сладостной волной. Потом кто-то схватил меня за руку и силой затолкал за кулисы.
А за кулисами как раз шли последние приготовления к концерту. "Струнные" настраивали инструменты и распределяли между собой украшения, предоставленные дизайнером Одеттой Бомбардье; Лорен Гарнье молча облачалась в свое белоснежное платье; артисты из "Белых ночей" и африканская танцовщица из группы Фредерика Галлиано делали разминочные упражнения, а музыканты просто сидели и концентрировались. Мне захотелось немного побыть в одиночестве, и я отправился в свою гримерку, где меня ждали цветы, бутылки шампанского и напутственные записки от друзей. Через несколько минут в дверь постучали, и на пороге показался Дэниел Беше с каким-то футляром в руках. Он сел передо мной, раскрыл футляр и достал из него кларнет: "Это кларнет моего отца. Он выступал в "Олимпии" сорок лет назад, и тогда публика от восторга разгромила весь зал. Сегодня повторится то же самое, я как чувствую!"
И вот настал час Ч. После краткого вступительного слова Ариэля Вицмана в зале погас свет и взору зрителей предстал обернутый в сияющую прозрачную ткань воздушный силуэт Лорен Гарнье. Лорен запела "Le Voyage de Simone", на сцену один за другим вышли остальные участники группы, и концерт начался. При мысли о том, что с балкона за мной наблюдают мои родители, моя теща, Жак Ланг, Пьер Анри, Катрин Тротманн[41], Ричи Хотин, Жан-Франсуа Бизо и Джефф Миллз, меня обуял панический ужас. Но уже в следующую секунду я почувствовал исходящую от зрителей энергию, увидел, как партер постепенно приходит в движение, и ужас улетучился сам собой.
Когда концерт был в самом разгаре, мои товарищи по группе деликатно удалились за кулисы, оставив меня один на один с публикой. Потом на сцену на ходулях выбежали Ульрих и ККО, облепленные крошечными лазерами, излучавшими яркий красный свет. В эту же секунду заработали дымовые машины, и Ульрих с ККО превратились в размытые красн*оват" ые пятна. Когда зазвучала басовая линия "Crispy Bacon", я, несмотря на дым и темноту, увидел, как в партере сотни рук синхронно взмыли вверх; когда к басу присоединилась бочка, я услышал дружный вопль, вырывающийся из сотен ртов; а когда после брейка заиграла последняя, самая взрывная часть трека, я всем телом почувствовал, как зал начинает лихорадить от счастья. Потом мои музыканты вернулись на сцену, и мы заиграли "Dance to the Music". Последним номером нашей программы был "Flashback", сопровождавшийся настоящим пиро-шоу в исполнении все тех же Ульриха и ККО, которые к тому моменту успели избавиться от своих лазерных "нарядов" и вооружиться огненными шарами.
Публика не хотела нас отпускать, и мы дважды выходили на бис. Всем своим коллегам-диджеям, никогда не игравшим живьем, должен сказать, что вызов на бис — это огромное удовольствие, которого они себя лишают. После второго биса мы еще раз поблагодарили публику, в зале зажегся свет, и я увидел перед собой три тысячи счастливых лиц. Сколько бессонных ночей, сколько терзаний и сомнений предшествовало этому концерту, а в результате все прошло так легко и естественно, что меня не покидало ощущение, будто бы я провел на сцене всего пару минут.
После концерта вся наша команда в сопровождении друзей и родственников отправились в Rex Club, где должна была состояться афта-пати с участием Джеффа Миллза. Для обладателей билета в "Олимпию" вход на вечеринку был бесплатным. Я все еще находился в состоянии эйфории.
Знакомые и незнакомые люди подходили ко мне, благодарили за концерт, поздравляли с успехом. Чтобы отдышаться и осмыслить происходящее, я зашел в диджейскую кабину и пристроился в уголке на своих кейсах с пластинками. Наблюдая за кошачьими движениями Джеффа Миллза и за толпящимися перед кабиной клабберами, я думал о том колоссальном пути, который мне пришлось проделать для того, чтобы оказаться здесь, на этой вечеринке…
Об оставшейся части ночи у меня сохранились довольно смутные воспоминания, но одно я знаю точна это был грандиозный праздник.
В течение следующих трех месяцев я продолжал ездить по свету со своей гастрольной командой, расширившейся за счет саксофониста Филиппа Надо (Philippe Nadeau). В одних городах концерты проходили успешно, в других — не очень, но мы все равно были счастливы. 31 декабря 1998 года мы сыграли в Лондоне вместе с New Order и Underworld, и на этом моя первая гастрольная эпопея завершилась.
Я вернулся к своему "догастрольному" образу жизни, но вместо того, чтобы-радоваться наконец-то появившемуся свободному времени, с первых же дней стал ужасно переживать из-за того, что в моей профессиональной жизни не происходит ничего интересного. Я человек гиперактивный, и безделье для меня — страшнейшая из пыток. Иногда мне кажется, что во мне живет какой-то бесенок, который не позволяет мне долго сидеть на одном и том же месте. На этот раз мои мучения усугублялись еще и тем, что за время гастролей у меня появилась масса новых желаний и интересов: я стал общаться с людьми, которым ничего не говорило имя Деррика Мэя, но которые могли часами рассуждать о творчестве Сан Ра, Джона Колтрейна или Art Ensemble of Chicago. Благодаря им я открыл для себя джаз и современную музыку и совершенно по-новому взглянул на рок. Мои музыкальные горизонты расширились, мое представление о звуке изменилось, да и сам я стал совсем другим человеком.
С тех пор как вышел "30", я не переставал переживать по поводу тех ошибок, которые допустил при его записи. Несмотря на то что в процессе гастролей многие треки были существенно улучшены и облагорожены, сам альбом по-прежнему вызывал у меня чувство неловкости. И поэтому, когда меня вновь посетило желание писать музыку, я решил, что никуда не буду торопиться и подойду к делу спокойно и с умом. Мой комплекс "недому-зыканта" никуда не делся, но взаимодействие с профессиональными инструменталистами научило меня довольствоваться другой, более подходящей мне ролью — ролью дирижера. И коль скоро я хотел, чтобы на этот раз конечный результат полностью совпал с тем виртуальным альбомом, который уже крутился у меня в голове, без посторонней помощи мне было не обойтись. Ну а кроме того, работая в коллективе, я уяснил для себя важную вещь: заниматься музыкой в одиночку просто-напросто скучно!
Постепенно я снова стал кочевать по свету с диджейскими сетами. Как-то раз, во время гастролей по Аргентине, я сидел в своем гостиничном номере и смотрел новости CNN. Шла война в Косово. Люди умирали от голода, города и деревни лежали в руинах, а американские журналисты хором лили слезы над каким-то сбитым бомбардировщиком стоимостью несколько сотен миллионов долларов. Это было просто неприлично! Я почувствовал, как во мне поднимается волна негодования. Мне было тридцать три года, большую часть своей сознательной жизни я провел, скитаясь по миру, и равнодушно смотреть на то, что происходит с этим миром, я уже не мог.
Не мог я равнодушно смотреть и на те безобразия, которые творились на техно- и хаус-сцене. Что будет с электронной музыкой? В чем смысл моей профессии? Эти вопросы неожиданно снова стали для меня актуальными.
В таком расположении духа я и приступил к записи своего третьего альбома. Первым делом я позвонил большому специалисту в области звука Лорану Колла, также известному под псевдонимом Elegia (первый альбом Elegia вышел на F Communications), и предложил ему стать моим звукоинженером. За время гастролей у меня накопилось много нового материала, написанного в расчете на живое исполнение, и теперь наша задача заключалась в том, чтобы приспособить этот материал для записи. Начали мы с композиции "Jazzy Track". Я долго сомневался, стоит ли включать в электроальбом трек с саксофонным соло, но в конечном итоге решил рискнуть и посмотреть, что из этого получится. Я позвал в студию саксофониста Филиппа Надо, объяснил ему, что мне нужно, запустил ритм-трек и включил запись. Филипп начал пробовать разные варианты — от би-боповых тем до фри-джазовых импровизаций, но каждый раз получалось что-то не то. Минут через пятнадцать я понял, в чем дело: Филипп был слишком скован и не позволял музыке управлять собою. По опыту наших совместных выступлений я знал, что Филипп из тех музыкантов, которым, для того чтобы разойтись, нужен какой-нибудь внешний стимул, и стал отпускать разные обидные замечания в его адрес: "Полная лажа!", "Да кто ж так играет!", "В корзину!" и так далее. В течение нескольких минут Филипп делал вид, что ничего не происходит, а потом рассвирепел и заиграл как сумасшедший. Я остановил запись и прокричал в микрофон: "Стоп! Сейчас было как раз то, что нужно!" Филипп повернулся ко мне и в недоумении вытаращил глаза. Он был весь красный от напряжения, по лицу струился пот, мундштук саксофона, казалось, застрял у него между губ. Его вид так рассмешил меня, что я недолго думая переименовал "Jazzy Track" в "Man with the Red Face"[42].
Когда Лоран и Филипп ушли домой, я засел за редактирование партии саксофона. На следующий день я должен был выступать в Ницце, и мне хотелось протестировать "Man with the Red Face" на местных клабберах. Когда демо-версия была готова, я переписал ее на кассету, а кассету бросил в свою дорожную сумку.
Реакция публики меня обрадовала: я ставил "Man with the Red Face" дважды, с интервалом в несколько часов, и оба раза клабберы всеми возможными способами демонстрировали свое одобрение. Вернувшись в Париж, я бросился звонить Лорану Колла: "Срочно приезжай! Ты должен помочь мне смикшировать "Краснолицего"!" Через пару дней первая композиция с моего третьего альбома была готова.
Следующим на очереди был "Downfall" — мрачный трек, навеянный программой CNN, которую я увидел в Аргентине. Когда я писал "Downfall", меня преследовал образ человека, в одиночестве скитающегося по разбомбленному городу. Мне хотелось, чтобы на середине трека у слушателя возникало ощущение флэшбека, как если бы пленка начала мотаться в обратную сторону, и чтобы в самом конце из музыки рождались картины войны и разрухи. За "Downfall" последовали "Greed" — трек, высмеивающий любителей МРЗ-халявы, и "The Sound of Big Babou" — сингл, в названии которого я использовал прозвище, данное мне коллегами с Radio Nova за мою любовь к радикальному техно.
Когда работа над альбомом была завершена, я, не дожидаясь отзывов критиков и публики, быстро собрал гастрольную команду (Филипп Надо — саксофон, Марк Шалосс (Marc ChaLosse) — клавиши, плюс две танцовщицы) и отправился в очередное турне. Первый концерт состоялся 23 марта 2000 года в Кембридже, за ним последовали выступления в Исландии, Испании, Дании (на фестивале в Роскильде) и Франции (на фестивалях Eurockeennes и Route du Rock, a также в легендарном парижском зале Эли-зе-Монмартр). В это же время в прессе стали появляться рецензии, в которых "Unreasonable Behaviour" — так назывался мой альбом — описывался как "работа зрелого музыканта".
А потом лейбл Nova Mute выпустил "Unreasonable Behaviour" в США, и в ноябре 2000 года я по горячим следам отправился в турне по Северной Америке. До этого я уже несколько раз бывал в Штатах в качестве диджея, и тот факт, что американцы не воспринимают техно и хаус всерьез, не был для меня секретом.
Среди европейских диджеев даже ходила такая шутка: "Проблема не в том, чтобы получить приглашение от какого-нибудь американского клуба, а в том, чтобы из двух плохих приглашений выбрать самое хорошее".
Американская ночная жизнь разительно отличалась от европейской. Если в двух словах, то она неравномерно распределялась между всемогущей черной гей-сценой, рассчитанной на невзыскательных подростков, коммерческим трансом и погрязшим в междоусобных войнах андеграундом. Но основная тенденция во всех этих тусовках была одна и та же: музыка постепенно отходила на второй план, уступая место танцу. Даже в Нью-Йорке с его богатейшей музыкальной мифологией люди перестали ходить в клубы ради музыки. К слову сказать, на сегодняшний день Нью-Йорк, пожалуй, единственный город на земле, в котором под техно по-прежнему танцуют брейк.
Наше американское турне началось с выступления в небольшом голливудском клубе на пятьсот человек. Сами мы прилетели в Лос-Анджелес накануне, но из-за проблем с перевозчиком багаж прибыл всего за час до начала вечеринки, так что установку аппаратуры и саундчек нам пришлось производить в ускоренном режиме и прямо на глазах у публики. Зал был заполнен всего наполовину, да и эта "половина", казалось, была совершенно не рада тому, что пришла на концерт. Холодный прием публики усугублялся еще и тем, что на первых композициях у нас постоянно возникали проблемы со звуком и мы были вынуждены не останавливаясь подстраивать аппаратуру. К середине концерта, правда, лед начал таять, а ближе к концу публика и вовсе стала проявлять явные признаки воодушевления. "Могло быть и хуже", — постановили мы, когда концерт завершился.
На выходе из клуба нас поджидал автобус — колоритная развалюха, выглядевшая так, словно она прикатила прямиком из 70-х. Я не удивился бы, если бы мне сказали, что на ней в свое время разъезжала группа EagLes. Как бы то ни было, на этой развалюхе нам предстояло проделать маршрут в шесть тысяч километров с остановками в Сан-Франциско, Чикаго, Детройте, Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Торонто и Монреале.
На пути из Сан-Франциско в Чикаго, в районе Солт-Лейк-Сити, мы попали под страшный снегопад, а уже на въезде в Чикаго на нас обрушился не менее страшный ливень. Мне даже не верилось, что еще три дня назад я нежился на теплом калифорнийском солнышке.
Сыграть в Чикаго было моей давней мечтой, но стоило мне переступить порог местного клуба, как я понял, что все эти годы мечтал о чем-то, чего уже давно не существует: реальный, современный Чикаго не имел ничего общего с Чикаго времен Фрэнки Наклса и клуба Warehouse Никакой хаус-сцены здесь не было и в помине, причем уже давно.
Где-то в гетто продолжали функционировать какие-то андеграундные клубы, но погоды они не делали. В конце 90-х, стараниями диджея Green Velvet и нескольких независимых лейблов (Relief, Cajual и Guidance) чикагская хаус-сцена ненадолго ожила, но очень скоро все вернулось на круги своя: Green Velvet и компания отправились покорять Европу, и в городе опять не осталось ни одного приличного хаус-музыканта.
Сказать, что наш концерт в Чикаго прошел ужасно, — значит не сказать ничего. В зале было от силы тридцать человек, и, хоть мы и старались играть с полной отдачей, избавиться от ощущения тоски и депрессивности ни нам, ни нашим слушателям так и не удалось. Когда концерт закончился, я поделился своими впечатлениями с промоутером клуба: "И ради этого мы трое суток тряслись в автобусе?! В чем дело? Почему никто не пришел на наш концерт?" Ответ промоутера поразил меня до глубины души: "Так сегодня ж среда, а по средам у нас всегда пусто. К тому же дождь, холодно. Кому захочется выбираться из дома в такую погоду?"
Мы уехали из Чикаго не дожидаясь утра и постарались поскорее забыть эту кошмарную вечеринку. К счастью, впереди нас ждали гораздо более приветливые города, в частности Торонто и Монреаль. В последнем у нас и вовсе состоялся один из лучших концертов за все турне. А завершили мы 2000 год на другом конце света — в Австралии.
Весь следующий, 2001, год тоже прошел в гастролях. Летом с нами связались организаторы крупнейшего бельгийского рок-фестиваля Torhout-Werchter и спросили, не хотим ли мы сыграть у них вместо группы… Guns N'Roses! У меня были все основания полагать, что мы не лучшая замена для группы волосатых хард-рокеров, но организаторы проявили настойчивость, и в конце концов я был вынужден согласиться.
Прибыв на место и увидев семьдесят тысяч подростков в футболках "Металлики", "Сепультуры", Stayer и Guns N'Roses, я очень сильно пожалел о том, что пошел на поводу у организаторов фестиваля. А когда оказалось, что через полчаса после нас выступает Стинг, я понял, что у нас практически нет шансов выбраться отсюда живыми. Но отступать было поздно. Ведущий фестиваля представил нас публике, мы встали за свои инструменты, собрались с духом и зарядили одну за другой свои самые ударные вещи: "Flashback", "Man with the Red Face" и "Crispy Bacon". Если за день до этого кто-нибудь сказал бы мне, что одним из самых волшебных мгновений в моей жизни станет выступление на бельгийском рок-фестивале, я бы поднял этого человека на смех. Но именно это и случилось: у наших ног семьдесят тысяч волосатых подростков прыгали с таким остервенением, словно хотели дотянуться до небес, и визжали с такой силой, словно хотели перекричать акустическую систему. А когда после очередного длинного брейка на них снова обрушивался свирепый бит, начиналась такая истерия, которой позавидовала бы любая хардроковая группа. В какой-то момент я взглянул на стоявшего рядом со мной Марка Шалосса и прочитал в его глазах два восклицательных предложения: "Ну надо же! Им понравилось!" В течение целого часа мы не давали публике спуску, и было видно, что она нам за это искренне благодарна.
Playlist Carl Craig
Psyche — Neurotic Behavior
69 — Desire
Carl Craig — No More Words
Paperclip People — Climax
Innerzone Orchestra — Eruption
BFC — Galaxy
Уходя со сцены, я наткнулся на одного из организаторов фестиваля. "Ну как впечатления?" — поинтересовался он. А я вместо ответа выпалил "спасибо!" и в изнеможении бросился ему на шею. Если бы у меня хватило сил развить свою мысль, я объяснил бы ему, что считаю бельгийцев самыми открытыми и благодарными слушателями на свете и что ни в одной другой стране мне не приходилось сталкиваться с чем-либо, хотя бы отдаленно напоминающим ту особую, пьянящую атмосферу, которая царит на всех бельгийских вечеринках: в клубе Fuse, на I Love Techno, на Ten Days of Techno и так далее…
После Бельгии я снова отправился в Штаты, но на этот раз уже в качестве диджея. Группа моя присоединилась ко мне только в Детройте, где в тот момент как раз проходил DEMF — единственный детройтский фестиваль электронной музыки.
У истоков DEMF стоял один из самых ярких местных продюсеров, давний соратник Деррика Мэя, директор лейбла Planet E и просто харизматичный персонаж — Карл Крейг (Carl Craig). Когда в 1994 году в мире разразился бум вокруг американского техно и все детройтские продюсеры оперативно переквалифицировались в диджеев, он оказался одним из немногих, кому действительно удалось достичь больших высот в искусстве микса. В последующие годы Карл много выступал живьем и успешно заигрывал с джазом. В отличие от большинства местных артистов, поспешивших переехать в другие, более пригодные для жизни края, он остался жить в многоквартирном доме в одном из трущобных районов Детройта. Пытаясь возродить техно-культуру в городе, эту культуру и породившем, Карл в 2000 году запустил вышеупомянутый фестиваль DEMF. Первый DEMF прошел в парке Харт-Плаза и заслужил самые положительные отзывы.
Прибыв в Детройт к началу второго DEMF, я узнал, что по настоянию спонсоров мэрия города отстранила Карла Крейга от организации его же собственного фестиваля! Несмотря на этот конфликт, в причинах которого я, впрочем, так и не разобрался, на DEMF собрался весь цвет мировой электроники: Карл Кокс, Autechre, Джон Акуавива, Moodyman, Гари Мартин (Gary Martin — единственный белый техно-музыкант, проживающий в детройтском даунтауне), и, наконец, ветераны Хуан Аткинс и Деррик Мэй. Но, к сожалению, то, что вполне могло бы стать одним из лучших фестивалей за всю историю американского техно, было на корню загублено чудовищной организацией, а точнее отсутствием какой бы то ни было организации. Приехав на Харт-Плаза, я первым делом отыскал технического директора DEMF, объяснил ему, кто я такой, но вместо "здравствуйте" или "как дела?" получил в ответ неприветливое: "Ваш выход через час, давайте шевелитесь". Как только мы приступили к установке оборудования, выяснилось, что организаторы полностью проигнорировали требования, содержавшиеся в нашем райдере. Пришлось выкручиваться с помощью подручных средств. Не знаю, как нам это удалось, но через час у нас все было готово. Мы стояли за сценой и смотрели, как Джон Акуавива заканчивает свой сет, когда к нам подкатили крутые парни из группы De La Soul: "Сейчас наша очередь! А ну проваливайте отсюда!" Мы недоуменно посмотрели на присутствовавшего при этой сцене технического директора, но тот сделал вид, что не понимает в чем дело, и нам пришлось в срочном порядке сворачивать свое оборудование. Когда De La Soul доиграли, мы снова — под понукающие крики организаторов — подключили инструменты и приборы и наконец-то начали концерт. Но на этом наши беды не закончились: одновременно с началом концерта на Детройт обрушился страшный ливень. Толпа стала редеть, и вскоре перед сценой оставалось жалких три сотни человек. Нормально играть в таких условиях было невозможно, а когда стало ясно, что из-за воды наша техника вот-вот отдаст концы, мы просто попрощались с публикой и покинули сцену.
Чтобы прийти в себя после этого кошмара, я решил прогуляться по центральной аллее DEMF, где местные лейблы торговали своей продукцией. Но то, что я там увидел, только усугубило мои страдания: лейблы, за пять лет выпустившие какие-нибудь три с половиной пластинки, без зазрения совести предлагали посетителям фестиваля широкий ассортимент футболок с собственной символикой — по двадцать долларов за штуку. Обалдев от такой наглости, я набросился на владельца одного из стендов: "Что все это значит?! С каких это пор вы стали специализироваться на пошиве одежды?! Или вы считаете, что текстильная промышленность — это будущее Детройта?"
Оставаться на этой вещевой ярмарке у меня не было ни малейшего желания, и, окончательно подавленный и разочарованный, я пошел смотреть, что происходит на других сценах. А на других сценах тоже не происходило ничего хорошего. Звук везде был отвратительный — чувствовалось, что организаторам глубоко наплевать на качество мероприятия. Но самое ужасное заключалось в том, что и публике было на это глубоко наплевать. Кое-где, правда, попадались люди в футболках с надписью "I Support Carl Craig"[43], но большинство посетителей фестиваля даже не догадывались о том, что стали жертвой наглого надувательства.
Мне запомнились какие-то экзальтированные подростки, которые хвастались тем, что проделали тысячу с лишним километров ради того, чтобы попасть на этот фестиваль. А то, что на этом фестивале нельзя и шагу ступить, чтобы не наткнуться на рекламу пива и газированных напитков, их совершенно не смущало. На одной из площадок я разговорился с группой французов. Когда на вопрос: "Ну как вам фестиваль?" — мои соотечественники с блеском в глазах ответили "Супер!", мне стало не по себе. Уверен, что будь мы в Париже, они наверняка обратили бы внимание и на паршивый звук, и на ненормальное количество рекламных растяжек, но мы ведь были в Детройте (произносится "Detrooooiiiiiiittt"), a всем известно, что Детройт — это круто, это родина техно и все такое…
Страшно подумать, что эти ребята наплели друзьям, когда вернулись домой.
А потом я случайно наткнулся на Карла Крейга. Карл был в ужасе оттого, во что выродилось его детище, и в качестве альтернативы собирался в тот же вечер устроить пати на каком-то складе в центре города. "Если хочешь, можешь поучаствовать", — предложил он, и я, конечно, согласился.
На вечеринку Крейга пришла молодая черно-белая публика. Передо мной в сопровождении певицы и саксофонистки Нормы Джин Белл (Norma Jean Bell) выступал один из лучших детройтских продюсеров нового поколения — Кении Диксон-младший (Kenny Dixon Jr) по прозвищу Moodyman. От любопытных взглядов публики Кении отделяла специальная ширма.
Я все еще был на взводе. В голове у меня в который раз прокручивались события уходящего дня: сначала этот ужасный концерт, потом общение с подростками, не способными отличить хороший звук от плохого, и с владельцами лейблов, озабоченными исключительно извлечением прибыли из своего детройтского происхождения. И выступление у Карла стало для меня возможностью выплеснуть всю эту отрицательную энергию. В тот вечер я играл как одержимый. Меня окружали люди, которые в совокупности и образовывали ту самую знаменитую андеграундную техно-тусовку Детройта, и, глядя на этих людей, мне хотелось выложиться без остатка.
Странный город Детройт. Каждый год в нем проходит две-три фантастических, незабываемых вечеринки. — Но кроме них — ничего.
Создается впечатление, что люди здесь просто боятся вкладывать силы и деньги в ночную жизнь, считая ее слишком опасной и непредсказуемой. На следующий день после DEMFfl встретился с Майком Бэнксом, который тогда приходил в себя после одной весьма неприятной истории.
Все началось в 1999 году, когда детройтский диджей Роландо под псевдонимом The Aztec Mystic выпустил на лейбле Underground Resistance макси-сингл "Knights of the Jaguar", который моментально вошел в список нетленных техно-хитов, пристроившись рядом с "Strings of Life" и "No UFO's". В этой пластинке было все, за что люди так любят детройтское техно: грув, зрелость, скорость, искренность и немножко магии. Но главным ее достоинством было, пожалуй, то, что она как бы перебрасывала мостик между техно и хаусом и потому совершенно естественно вписывалась в сеты таких разных диджеев, как Джо Клосселл (Joe Claussell), Жиль Петерсон и Джефф Миллз.
Вскоре после выхода "Ягуара" с Майком Бэнксом связались менеджеры Sony Music, которые хотели включить этот трек в один из своих сборников. Майк ответил отказом и благополучно забыл про этот случай… Несколько месяцев спустя почтовый ящик UR наводнили мэйлы с оскорблениями в адрес Майка и его команды, причем отправлены эти мэйлы были не какими-нибудь анонимными недоброжелателями, а людьми, с которыми UR вроде бы находился в замечательных отношениях. Майк терялся в догадках, пока не узнал, что Sony все-таки выпустила "Ягуара", правда в виде кавер-версии. На первый взгляд, в этом не было ничего особенного, поскольку по закону каждый человек имеет право выпустить кавер полюбившегося ему музыкального произведения при условии, что на диске будет указано имя авторов и что эти самые авторы получат причитающиеся им роялтиз. Но многие поклонники техно, не разобравшись что к чему, восприняли появление "Knights of the Jaguar" на диске Sony как известие о падении одного из последних бастионов честной, некоммерческой музыки. В техно-тусовке началось смятение. Майк понял, что надо что-то делать, и от имени всего электронного андеграунда объявил войну корыстолюбивым белым воротничкам из транснациональных корпораций.
МЭЙК БЭНКС: "У нашей общины глубокие музыкальные традиции, которые не смогло разрушить даже вековое рабство. Я имею в виду такие вещи, как культ Буду, гипнотическая сила ритма и так далее. И иногда эти древние традиции оживают благодаря совершенно современным музыкальным произведениям. "Knights of the Jaguar" как раз об этом. О том, что духовное начало выше материального. Название Aztec Mystic позаимствовано у одного мексиканского ресторана, в который мы часто ходим с диджеем Роландо. В этом ресторане на стенах изображены памятники ацтекской цивилизации. И вот как-то раз, глядя на эти изображения, мы с Роландо задались вопросом: что представляла собой музыка ацтеков? Какие мелодии в ней использовались? Какие тайны в ней хранились? Результатом наших размышлений на эту тему и стала композиция "Knights of the Jaguar".
Поэтому я так разозлился, когда эти ребята с Sony выпустили кавер "Ягуара". Они ведь понятия не имели, о чем это произведение, что мы хотели им сказать. Им было глубоко наплевать на мистику, на духовность, для них это был потенциальный поп-хит и не более. Я не имею ничего против того, чтобы музыканты сэмплировали друг друга или заимствовали друг у друга идеи. Более того: сэмплирование — это основа нашей культуры. Но то, что Sony сделала с "Ягуаром", к нашей культуре никакого отношения не имело. Это был просто наглый плагиат. Тем более что они даже не указали имя автора (а это уже нарушение закона) и поместили на обложку изображение таблетки экстази!
Мы несколько раз пытались связаться с Sony по телефону, но безуспешно: каждый раз секретарь обещала, что нам перезвонят, но никто нам, естественно, не перезванивал. Тогда в игру включились виртуальные коммандос "Подпольного сопротивления", и на менеджеров Sony обрушился шквал писем протеста. Вскоре менеджеры сломались и предложили нам какой-то компромисс. Мой ответ был такой: "Никаких компромиссов. Пока вы не изымете весь тираж из продажи, мы вас в покое не оставим". Я думаю, именно тогда они поняли, каким мощным оружием может стать интернет. В конце концов они заявили, что выполнят наше требование, но это был очередной обман: в Европе кавер "Ягуара" действительно был изъят из продажи, зато в Южной Америке его по-прежнему можно было купить чуть ли не в любом пластиночном магазине.
Каждый раз когда я вспоминаю эту историю, мне становится тошно. Совершить такое — все равно что надругаться над ангелом. И мне остается только молиться за спасение душ этих людей".
Пластинка "Knights of the Jaguar" вошла в историю электронной музыки как символ сопротивления произволу мейджоров. Рассказывают, что от сообщений поклонников UR почтовые ящики руководителей Sony и BMG (BMG купила лицензию на кавер-версию "Ягуара") буквально трещали по швам. Никогда еще эти монстры грамзаписи не сталкивались с такой мощной атакой "снизу". "Ягуар" оказался своего рода троянским конем, продемонстрировавшим всем врагам техно, а заодно и всему миру, что эта музыка никогда никому не продаст душу — ни за какие деньги.
А потом UR выпустили пластинку "The Revenge of the Jaguar" с ремиксами Деррика Мэя и Джеффа Миллза. На одном из треков были по отдельности воспроизведены ритмические и гармонические партии "Ягуара" (в частности, партия, струнных, которой "Ягуар" и обязан своей мощью). Таким образом, UR словно обращались ко всем музыкантам на свете: "В этом треке заключена сущность "Ягуара". Послушайте его, а потом — пожалуйста, сэмплируйте сколько вашей душе будет угодно". Что касается акул шоу-бизнеса, то специально для них UR поместили на обложку пластинки недвусмысленное предостережение: "Электроника разрушит вашу порочную систему и сотрет ее с лица земли".
Глава двенадцатая Cycle 30
Возвращение к оседлой жизни оказалось для меня неожиданно мучительным. За долгие месяцы, проведенные в обществе таких же тридцатилетних разгильдяев-меломанов, я привык говорить на особом жаргоне, состоящем из никому кроме нас не понятных шуток и намеков, и теперь мне приходилось заново учиться выражать свои мысли на нормальном, человеческом языке.
Но были у меня проблемы и посерьезней. Ежедневное поглощение огромного количества децибелов не проходит даром для слуха. Диагноз отоларинголога был прост: "Вы страдаете потерей слуха на частоте 4000 герц". С тех пор как я стал заниматься диджеингом, я ни разу не позволил себе передохнуть, и рано или поздно мой организм должен был рассчитаться со мной за такое жестокое обращение. Мне пришлось сбавить темп, отказаться от ряда предложений, сократить продолжительность гастролей. Я был убит и подавлен.
Тогда же я вернулся на Radio Nova и восстановил отношения с французской электронной сценой, которая в очередной раз переживала глубокие потрясения.
19-февраля 2001 года не стало Лизы'н'Элиаз — главной французской рейв-звезды 90-х. Ее смерть совпала с концом целой эпохи. Рейвы канули в лету, уступив место стихийным фри-пати. Все крупные техно-фестивали закрылись. А что касается пресловутого французского хауса, то он какое-то время еще держался на плаву, а потом начал выдыхаться и в конце концов приказал долго жить.
Но очень скоро на этом пепелище начала выстраиваться новая и, между прочим, не менее интересная сцена. За короткий промежуток времени во Франции заработало сразу несколько отличных лейблов. Парижская ночная жизнь стала потихоньку оживать благодаря таким местам, как Pulp — заведение для лесбиянок, перепрофилировавшееся в клуб для любителей электро, и Batofar — пришвартованный у моста Тольбиак кораблик, ставший местом встречи поклонников разнообразной умной музыки. Ну и самое главное — в стране появились новые талантливые артисты: Джон Томас (John Thomas), The Hacker, Miss Kittin, Avril, Blackstrobe, Dima…
К 2000 году электроника благополучно внедрилась во все существующие музыкальные жанры. Среди американских и европейских поп-артистов стало хорошим тоном прибегать к услугам именитых технопродюсеров, в совершенстве владеющих искусством омолаживания саундов и имиджей. Среди тех, кому инъекции техно позволили вернуться на верхние строчки чартов и завоевать расположение молодой прогрессивной публики, были и такие звезды со стажем, как Мадонна и Кайли Миноуг. Все это привело к тому, что электронные звуки перестали быть монополией электронных музыкантов. Кислотные басы ТВЗОЗ и агрессивные потоки Prophet 5 теперь обильно украшали собой творения свежеиспеченных звезд r'n'b (TimbaLand, Neptunes…) и героев новой нью-йоркской рок-волны (The Rapture, LCD Soundsystem…).
Итак, цель была достигнута: техно стало глобальным явлением. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. С этой точки зрения символичной оказалась встреча Нового, 2000, года, вошедшая в историю как Y2K. Задолго до 31 декабря крупнейшие клубы Америки и Европы вступили в ожесточенную борьбу за право напечатать на афише своей новогодней вечеринки имя какого-нибудь звездного диджея. Гонорары достигали заоблачных сумм, но промоутеры надеялись с лихвой окупить понесенные затраты, поскольку Y2K обещал стать одной из самых прибыльных акцией столетия. Я знаю диджеев, которые, набрав несколько вечеринок, за ночь с 31 декабря на 1 января обогатились на 100–150 тысяч евро. Неплохо заработал и один английский диджей (не будем называть его имени), выступивший на частной вечеринке у сына одного медиа-магната (его имени тоже не будем называть). Были, правда, и такие артисты, которые в надежде обеспечить себя и своих близких на ближайшие несколько лет запросили у промоутеров совсем неприличные суммы и в результате остались ни с чем. Что касается меня, то на все предложения я отвечал отказом. Один из промоутеров, решив, что я набиваю себе цену, подверг меня форменному допросу, и, чтобы он отвязался, мне пришлось рассказать ему о своих планах на Новый год: "Я поеду к себе в деревню. Мы там с друзьями устраиваем костюмированную вечеринку. Думаю, будет весело". Ответом мне был какой-то сдавленный звук, по всей видимости означавший: "Что?!"
По сути Y2K только укрепил уже сложившуюся к тому моменту рыночную систему, в которой музыка выполняла функцию второстепенного придатка, а статус диджея не сильно отличался от статуса стирального порошка или любого другого товара массового спроса. Не хочу сказать, что в мире не оставалось честных электронных артистов, но свой бунтарский и инновационный дух техно растеряло, и это было видно невооруженным взглядом.
Да, изобретение техно принято считать последней музыкальной революцией XX столетия. Но когда состоялась эта революция? Пятнадцать лет назад. Поэтому сегодня техно — это все что угодно, только не музыка будущего, и для того, чтобы обрести вторую молодость, ему нужно полностью переосмыслить себя и выйти за рамки существующих стилей. Что не так-то просто, учитывая, что юное поколение меломанов уже привыкло мыслить категориями стилей, а узнать об истинных корнях техно и об истории электронной музыки ему практически неоткуда: СМИ, за исключением нескольких общественных и государственных радиостанций, не ведут никакой просветительской работы, и, как ни странно, единственным институтом, целенаправленно занимающимся пропагандой музыкальной эклектики, на данный момент являются крупные европейские фестивали, большая часть которых в прошлом специализировалась на джазе или роке. Скажем, на фестивале Vieilles Charues сегодня можно услышать как St Germain, так и Энрико Масиаса (Enrico Marias), a на Eurockeennes — как Radiohead и Dionysos, так и Toots & the Maytals. На ренском Transmusicales за ночью маврикийской музыки в программе может стоять концерт нью-йоркских рокеров LCD Soundsystem или французских рэперов La Rumeur. A что касается Sonar, то его организаторы вполне способны на один вечер поставить выступления Бьорк, Underworld, Aphex Twin и Жиля Петерсона. Sonar — вообще особое явление в современной культуре. Пожалуй, ни один другой фестиваль не умеет так органично сочетать музыкальный и художественный (выставки современного искусства — важная составляющая Sonar) эксперимент с легкомысленной атмосферой испанской фиесты. Ну скажите, где еще в четыре утра диджей может позволить себе завести "Ain't no Sunshine" Билла Уитерса (Bill Withers), а сразу вслед за ним поставить какой-нибудь релиз лейбла Kompakt?
Да, изобретение техно принято считать последней музыкальной революцией XX столетия.
Но когда состоялась эта революция?
Пятнадцать лет назад.
Поэтому сегодня техно — это все что угодно, только не музыка будущего, и для того, чтобы обрести вторую молодость, ему нужно полностью переосмыслить себя и выйти за рамки существующих стилей.
2003 год стал кризисным для музыки в целом и для техно в частности. Золотой век независимой звукозаписи остался позади — в 90-х. Большинство маленьких лейблов закрылись, а те, что выжили, едва сводят концы с концами. Интернет не оставил музыкальной индустрии выбора — сегодня она просто обречена меняться. Существуют различные сценарии дальнейшего развития событий, но многие эксперты уже сейчас пророчат всем участникам музыкального процесса (лейблам, дистрибьюторам, музыкантам), а вместе с ними и музыкальным носителям полное исчезновение.
Виниловой пластинке скорую смерть начали предрекать еще в 1985 году, когда на рынке появился менее дорогостоящий и более удобный компактдиск. Выжила пластинка исключительно благодаря диджеям. И хотя по мере развития музыкальной техники клубы оснащались все более совершенными приборами вроде CD-проигрывателей, позволяющих сводить треки, или микшеров с эффект-процессорами, до недавнего времени диджей по-прежнему таскал с собой тяжеленные сумки с винилом, лишь в случаях крайней необходимости прибегая к записи на CD-R — например, чтобы протестировать на публике только что сочиненную композицию или чтобы переписать, в формате МРЗ какой-нибудь не доступный на виниле трек.
Все изменилось в 2001 году, когда диджею был предложен новый продукт под названием Final Scratch. Final Scratch состоял из небольшого электронного устройства и компьютерной программы, которые позволяли микшировать МРЗ-файлы не хуже виниловых пластинок. Это изобретение изменило саму суть диджейской профессии. Хоть мне и не близка точка зрения, согласно которой развитие техники стимулирует творческую активность, не исключаю, что Final Scratch и другие программы подобного рода заставят диджеев проявлять большую изобретательность и смелее смешивать различные стили… Но это оптимистический взгляд на вещи. Пессимисты же небезосновательно опасаются, что при таких темпах развития программного обеспечения диджею в скором времени будет совершенно необязательно присутствовать на вечеринке — он сможет спокойно отбирать треки, сидя у себя дома, и присылать в клуб полностью готовые миксы. (К слову сказать, первые шаги в этом направлении были сделаны еще несколько лет назад. Достаточно вспомнить парижский "техно-раут" с участием находившегося в Лондоне Карла Кокса: изображение Карла проецировалось на гигантский экран, а звук передавался по цифровым каналам.) Вся эта система наверняка будет подключена к интернету, а значит, диджей получит доступ ко всем произведениям, выложенным в Сети, и будет вынужден выполнять заявки публики, что неминуемо превратит его в современную разновидность музыкального автомата. И тогда диджеингу как искусству придет конец.
Тем не менее валить всю вину на технический прогресс и на алчность отдельных деятелей музыкального бизнеса было бы несправедливо. Причина обрушившихся на техно-музыку бед гораздо глубже. Если в двух словах, то дело в том, что в 2003 году техно (во всяком случае, то, что мы сегодня называем словом "техно") завершило свой жизненный цикл.
Десять лет назад Джефф Миллз выпустил на своем лейбле Axis максисингл под названием "Cycle 30". Сама композиция "Cycle 30" представляла собой ряд ритмических лупов, записанных на зацикленную дорожку. А на обратной стороне находился трек под названием "Man from Tomorrow", содержащий несколько вариаций одной и той же минималистской темы и наглядно иллюстрирующий утверждение о том, что при варьировании формы сущность остается неизменной.
"Cycle 30" отсылает нас к теории солнечных циклов, согласно которой каждые тридцать лет на планете происходят глубокие культурные потрясения — разные по своей форме, но одинаковые по своей сути. И техно прекрасно вписывается в эту теорию в качестве одной из многочисленных вариаций вечной культурной революции. Прошлой зимой Джефф Миллз выступал в парижском Rex'e, и я воспользовался этим, чтобы узнать, каким ему видится будущее техно. Ниже привожу отрывки из нашей беседы.
ДЖЕФФ МИЛЛЗ: "Чтобы убедиться в цикличности истории, достаточно взглянуть на то, что происходило с музыкой тридцать лет назад. В начале 70-х появились новые технологии звукозаписи, и музыка сразу же заметно усложнилась. Она стала какой-то ненормально вылизанной и совершенной. Послушайте поп-группы того времени — почти все они звучат сухо и неестественно.
Сегодня происходит то же самое. Технический прогресс позволил людям без особых усилий производить совершенную музыку. Я получаю огромное количество демо-записей от начинающих артистов. С технической точки зрения большая часть из них безупречна, но когда вслушиваешься, понимаешь, что они пустые, в них нет жизни. Их авторам никто не объяснил, что из совершенства автоматически не рождаются мысли или эмоции. На мой взгляд, то, что делают эти люди, нельзя назвать творчеством — они рабы компьютера и не более того. Новые технологии погубят техно, еще немного — и они выжмут из него остатки спонтанности. Но когда это случится, музыка не выдержит и взбунтуется. И снова станет фанковой, изобретательной и непредсказуемой. Как это, собственно, и произошло в 1971–1972 годах.
Главная беда техно в том, что за счет него кормится слишком много людей, не способных хоть что-либо дать ему взамен. Для большинства знакомых мне музыкантов желание заработать деньги первично по отношению к желанию сочинять музыку. Другими словами, они сначала решают для себя, что хотят выпустить пластинку, и только потом задумываются над тем, какая на ней будет музыка. И, что самое ужасное, их пластинки отлично продаются. Людям, которые присылают мне демо-записи, я обычно говорю: "Запиши сто треков, а мне пришли сто первый. Если будешь стараться, то за сто треков ты многому научишься и на сто первом уже сможешь проявить все знания". Но, к сожалению, сегодня львиная доля музыкального рынка приходится на эти самые "сто треков". Ты слушаешь пластинку и буквально видишь перед собой этого мальчишку, который купил себе новый крутой прибор, нажал на первую попавшуюся кнопку и отправил результат на какой-нибудь лейбл. Причем лейбл, скорее всего, вырвал у него этот "шедевр" с руками… Я уверен, что через три года — максимум через пять лет — техно полностью исчерпает себя, и тогда большинство из нас просто исчезнет".
Джефф Миллз прав: энергия, в течение пятнадцати лет заставлявшая техно-музыку двигаться вперед, испарилась. Красивая мечта о хаусгосударстве (house nation), объединяющем под своими знаменами приверженцев всех электронных стилей, так и не стала реальностью. Но от того потрясающего приключения, которое все мы пережили, у нас осталась не только волшебная музыка и не только приятные воспоминания, но и чувство гордости за то, что, преодолев сопротивление институций, мы сумели привить французам клубную культуру, сумели изменить расстановку сил в индустрии звукозаписи, а самое главное — сумели закрепить за техно статус одного из важнейших музыкальных течений XX века.
Итак, все цели достигнуты, годы ожесточенной борьбы остались позади, и вдруг оказывается, что техно — во всяком случае, то техно, которое мы знаем, — вот-вот завершит свой жизненный путь. Лучшее доказательство тому — ностальгия, неожиданно обуявшая тех, кто лично присутствовал при становлении хаус-культуры. Очень показателен с этой точки зрения фильм Майкла Уинтерботтома "Круглосуточные тусовщики", в котором эпопея лейбла Factory и клуба Hacienda рассказывается так, словно речь идет о давным-давно миновавшем золотом веке. Ривайвл эйсид-хауса не за горами…
Техно-музыка родилась из стремления стереть границы и подняться над условностями. И сегодня, пятнадцать лет спустя, для того чтобы выжить, ей необходимо снова ощутить эту жажду обновления и смешения.
Не исключено, что уже следующее поколение будет воспринимать чикагский хаус и детройтское техно как занятное ретро. Издательства завалят рынок книгами, воспевающими подвиги техно-героев, а лейблы — компиляциями, знакомящими слушателя с главными достижениями электроники 90-х — вроде тех сборников панка и рока 70-х, которые сегодня в большом количестве встречаются во всех пластиночных магазинах. И вполне может быть, что всего через несколько лет в продаже появится новая, доработанная и усовершенствованная, версия "Waveform", которая превратит этот замечательный альбом Джеффа Миллза в модную эстетскую реликвию (вспомните ремастеринговое переиздание флойдовского "Dark Side of the Moon").
Техно станет частью истории популярной музыки XX столетия.
Оно будет подвергнуто тщательной инвентаризации и систематизации и начнет источать характерный музейный запах. Лето любви историки, скорее всего, опишут как невинную шалость и тем самым скроют от грядущих поколений его истинный, революционный, характер. (Во всяком случае, именно так они в свое время поступили с Вудстоком.) На экраны один за другим выйдут несколько ностальгических фильмов о рейв-культуре, в которых — с помощью студийных декораций и многотысячной армии статистов — будет тщательно воссоздана атмосфера берлинского Лав-парада. В Голливуде обязательно снимут китчевую ленту, посвященную Тони Колстону Хэйтеру, а заодно — рассказ о полной приключений жизни какого-нибудь модного диджея. И могу вас уверить, что саундтрек к этой картине вы сможете по дешевке приобрести в любом супермаркете Европы и Америки.
Звукозаписывающие компании погреют руки на постепенно остывающем трупе техно, а потом, когда все мифы тех лет будут многократно пересказаны и пережеваны, даже не передохнув, примутся за очередной стиль-призрак. Но мальчишки-меломаны некоторое время еще будут рыться на развалах пластиночных секонд-хэндов в надежде найти какой-нибудь редкий чикагский винил, чудом избежавший "поголовной" оцифровки.
А что же будет с нами? Мы постареем, и наше будущее незаметно окажется в прошлом. Но до самого конца нас не будет покидать ощущение того, что мы соприкоснулись с историей и оставили в ней свой след. След в виде глубокой, чувственной вибрации.
Я часто задаю себе вопрос: переживет ли Rex техно-культуру или же его стены не выдержат разрушительного влияния времени? И узнают ли грядущие поколения о том, что когда-то в доме номер 5 по бульвару Пуассоньер проходили вечеринки, во время которых на несколько сот человек в одно и то же мгновение снисходила благодать? О том, что в течение пятнадцати лет здесь писалась история французского техно?
Я, как и сотни клабберов, считал Rex своим вторым домом. Добрая половина самых ярких воспоминаний связана у меня именно с этим местом. Не будь Rex, жизнь моя была бы совсем другой.
В конце 2002 года мы с Кристианом Поле начали размышлять над тем, как лучше отпраздновать пятнадцатилетие приобщения Rex к технокультуре. Мы прекрасно понимали, что за эти годы публика устала от Rex, устала от его интерьеров, от его диджеев и от его имиджа эдакого техноведомства. Поэтому нам захотелось вместо обычной юбилейной вечеринки устроить десятидневный фестиваль и представить в его рамках всю ту музыку, которую мы слушали в течение этих пятнадцати лет.
Начался фестиваль "Are you Rexperienced?" с рок-вечеринки, призванной напомнить парижанам о том, что Rex долгое время был одной из лучших концертных площадок столицы и что значительная часть нынешних диджеев клуба — выходцы из рок-тусовки. На следующий день мы предложили публике эйсид-хаус-пати с участием двух легендарных резидентов Hacienda: Майка Пикеринга и Дэйва Хэслама. Тот факт, что на английской кислотной вечеринке вполне можно было услышать "The Passenger" Игги Попа, "Kinky Afro" Happy Mondays или "The Party" Craze, стал для молодых парижских клабберов большим открытием. На этой вечеринке творились настоящие чудеса — точь-в-точь как на сумасшедших вечеринках первого Лета любви. Даже журналисты, которым профессиональная гордость обычно не позволяет отходить от бара дальше, чем на два шага, в ту ночь активно отрывались на танцполе. Естественно, были и недовольные — например, те, для кого Игги Поп оказался "недостаточно кислотным". Но такого рода жалобы нисколько меня не огорчили — наоборот, я воспринял их как признак того, что публике не все равно, что она способна критически подходить к тому, что ей предлагают. В общем, цели своей мы достигли: в клуб на одну ночь вернулась та самая вибрация, которая пятнадцать лет назад заставляла танцевать посетителей самых первых парижских эйсид-хаус-вечеринок.
Какая только музыка не звучала из акустической системы Rex в течение этих десяти дней: "French Kiss" Лила Луиса, "I Wanna be Your Dog" Stooges, "Fight the Power" Public Enemy, "Casa" Джеффа Миллза, "Code Breaker" Underground Resistance, "Can you Feet It" Ларри Херда, свинг Нины Симон… Это был краткий и вместе с тем обстоятельный пересказ богатой событиями жизни Rex. Своего рода панорама тех бесчисленных вечеринок, которые превратили этот клуб в живую легенду и продемонстрировали парижанам, что хаус — это свободная, изобретательная и человечная музыка.
Если бы меня попросили выделить из "Are you Rexperienced?" одну, самую сильную вечеринку, я бы, пожалуй, остановился на той, что прошла под знаком Underground Resistance. В ту ночь за вертушками Rex сменяли друг друга Хуан Аткинс, Джеймс Пеннингтон и Базз Гори (Buzz Goree), за клавишными стоял сам Майк Бэнкс, а на танцполе плясали клабберы со всей Европы и даже из Бразилии. Для многих из них эта вечеринка стала настоящим откровением. Они всю жизнь считали UR оплотом ортодоксального детройтского саунда, и вдруг оказалось, что на UR-овской пати танцуют не только под техно, но и под электро, под диско и даже под древние рейверские гимны; и что если на "Don't you Want it" или "Electric Soul" наложить бэнксовский электроорган, то от этих клубных хитов повеет добрым старым госпелом. В четыре утра Джефф Миллз завел "World 2 World", и тогда в зале произошло чудо: все — включая шустрых хостесс, размахивающих табличками "The Rex Loves You", и самых неугомонных танцовщиков — замерли и на несколько секунд погрузились в себя…
Я, как и сотни клабберов, считал Rex своим вторым домом. Добрая половина самых ярких воспоминаний связана у меня именно с этим местом. Не будь Rex, жизнь моя была бы совсем другой.
А закончить эту главу мне бы хотелось рассказом о другом чуде.
Однажды в дождливый воскресный полдень Rex наводнили… дети. Их было несколько сотен. От пяти до пятнадцати лет. Большинство из них никогда не слышали техно и тем более никогда не переступали порог ночного клуба. Они стояли на танцполе и словно околдованные наблюдали за колоритным чернокожим великаном, производившим какие-то таинственные манипуляции с какими-то таинственными приборами. Великана звали Карл Кокс.
Карл знал, что единственный способ покорить детей — это отдать им всю свою энергию, заразить их своим энтузиазмом. И ему это удалось. Когда раздались первые ноты миллзовской "The Bells", танцпол взорвался. Пятилетние карапузы отрывались на полную катушку. Одни носились из угла в угол, другие прыгали на месте, а третьи, самые смелые, подбегали к диджейскому пульту и принимались клянчить у черного великана поцелуй.
Рассказывают, что многие родители плакали, наблюдая за тем, как их отпрыски открывают для себя удивительное наслаждение, которое может родиться лишь из сочетания музыки, танца, света прожекторов и чувства свободы.
Этот детский праздник заставил нас по-новому взглянуть на те годы, которые мы посвятили борьбе за признание техно. Мы увидели перед собой молодое поколение, которому нравилось отрываться под нашу музыку и которое было готово принять от нас нашу энергию и взамен отдать нам свои улыбки, свои крики и свои — первые — танцевальные па.
Эмоции, рождающиеся из музыки, бессмертны. Поэтому вибрация, которая наполнила Rex в тот воскресный полдень, будет жить вечно. Она поселится в стенах клуба и в сердцах людей, а потом передастся другим людям, которые, в свою очередь, передадут ее еще дальше, и так до бесконечности. Пройдут годы, а она — целая и невредимая, не подвластная ни разрушениям, ни искажениям — будет как ни в чем не бывало продолжать свое путешествие в вечность.
Эпилог
В начале 2002 года меня посетили два моих старых знакомых: журналист и издательница. Цель их визита была весьма необычной: они хотели узнать, нет ли у меня желания попробовать себя в качестве писателя. Я сразу же загорелся этой идеей, и мы все вместе принялись обсуждать концепцию будущей книги. По итогам обсуждений было решено, что мы не станем замахиваться на фундаментальное исследование техно-музыки, а просто взглянем — сквозь призму моей творческой биографии — на некоторые события последних пятнадцати лет и попытаемся добраться до их сути.
Постепенно из абстрактного замысла книга превратилась в живой организм — самостоятельный и непредсказуемый. За полтора года мы взяли бессчетное количество интервью, переслушали бессчетное количество пластинок, перетряхнули бессчетное количество своих и чужих воспоминаний и на основании этого составили нечто вроде летописи "хаус-государства". Люди, с которыми мы общались в процессе работы, зачастую высказывали противоположные точки зрения, но всех их объединяли безграничная вера в магическую силу музыки и понимание того, что танцпол — это место, где творятся чудеса. Благодаря этим беседам мы осознали, насколько история техно прекрасна, печальна и неоднозначна.
Для меня работа над книгой оказалась еще и своего рода терапией. Она дала мне возможность разобраться в истоках той страсти, которая почти тридцать лет назад заставила меня переоборудовать свою комнату в дискотеку и которая до сих пор заставляет меня ездить по свету и дарить людям музыку. По мере того как книга принимала конкретные очертания, мои взгляды, мои устремления и даже мои сеты незаметно менялись, а давно ставшие родными места вроде Детройта или Манчестера вдруг раскрывались с совершенно новой стороны. И все это время — во всех моих путешествиях по миру и по воспоминаниям — меня сопровождал мой соавтор Давид Брен-Ламбер.
В апреле 2003 года мне предложили выступить в Манчестере на вечеринке Electric Chair, которую устраивали ребята из диджейского дуэта Unabomber, и я решил взять с собой Давида. Когда мы прилетели, был уже вечер. Забросив вещи в гостиницу, мы помчались на Олдем-стрит, но большинство пластиночных магазинов были уже закрыты, и тогда Давид попросил меня показать ему Hacienda, a точнее — то, что от нее осталось. Уитворт-Стрит-Уэст находилась на другом конце города, но мы не стали брать такси, а пошли пешком — для меня это была отличная возможность вспомнить свой любимый, несчетное количество раз проделанный манчестерский маршрут. Мы шли мимо ресторанов, с владельцами которых я когда-то был в приятельских отношениях, мимо супермаркетов и модных бутиков, на месте которых когда-то находились клубы, мимо безымянных пабов, заброшенных текстильных фабрик, обветшалых виадуков… Уитворт-Стрит-Уэст встретила нас в красочных брезентовых "одеждах", призванных скрыть бесконечные строительные леса. Улица, еще недавно считавшаяся одним из самых опасных мест Манчестера, теперь напоминала типичный тусовочный квартал — с раскинувшимися под аркадами модными кафе и с рассчитанными на настоящих гурманов дорогими ресторанами. Стенам старых домов в результате косметического ремонта был возвращен их оригинальный красно-кирпичный цвет ("фирменный" цвет северо-англииской архитектуры), так что теперь они смотрелись вполне современно даже на фоне окружающих их стеклянных новостроек. От Уитворт-Стрит-Уэст веяло молодостью и беспечностью.
А что же Hacienda? На месте клуба, который в течение всего моего манчестерского периода был для меня вторым, если не первым домом, я увидел печальное здание-призрак, обернутое в плотную пластиковую пленку. А перед ним — внушительные щиты, гласящие "THE HACIENDA, THE PARTY IS OVER"[44].
На противоположной стороне улицы агентство недвижимости предлагало всем прохожим полюбоваться макетом строящегося жилого квартала "Hacienda"…
"Как такое могло случиться?" — вопрошал я самого себя. А ответ был до смешного банален: несколько лет назад какой-то предприимчивый промоутер выкупил название "Hacienda" (кстати, основатель клуба Тони Уилсон
ОТСУТСТВУЕТ СТРАНИЦА
лирующих теней. Покружив над долиной, я полетел дальше. Поля сменялись лесами, леса — селами, а потом начался город. Пустынный промышленный город, выцветший от бесконечных проливных дождей и заводского дыма. На одной из улиц стояло красно-кирпичное здание с загадочной табличкой: "The Hacienda". A перед ним стоял двадцатилетний парень. Пленка стала крутиться еще медленнее, и я смог разглядеть его лицо. Было видно, что он здесь впервые и ему не терпится узнать, что находится за стенами этого здания. Наконец он вошел внутрь, и я вошел вместе с ним. Он пересек утопающий в лучах прожекторов зал, несколько секунд в нерешительности постоял на краю танцпола, а потом сделал шаг вперед, поднял руки вверх и отдался музыке.
В работе над этой книгой нам оказали неоценимую помощь: Майк Бэнкс, Джефф Миллз, Карл Кокс, Свен Фэт, Хитрец Маню, Дэйв Хэс-лам, Эрик Напора и Штефан Чарльз. А также Пол Шарри, Жиль Петерсон, Майк Пикеринг, Дилья Гарнье, Алекси Бернье, Эрик Моран, Кристиан Поле, команда фестиваля Sonar (Рикард, Энрик, Джорджиа), Анхель Молина, Жак из Марселя, Арно Годфруа, Эрик Рюг, Scan X, DJ Gitb'r, Лоран 0, Грегуар Гальян, Селин Ренар, Ямина Аррас, Фред Джалеб, DJ Саша, Базз Гори, DJ Боун, Джеффри Евгенидес, Эрик Грожан, Фред Бернар, Алекс из Токио, Филипп Корти, Иван Смаг, Эльза Прат-Каррабен и Максимилиан.
Особую благодарность мы хотели бы выразить нашему редактору Оливии де Дьёлевё — за оказанное доверие и проявленное терпение; Шарлю Арсен-Анри — за помощь в структурировании глав — и Антуану дю Пэра, Ре-ми Пелену и Беатрис Леконт — за активное участие в подготовке книги.
И наконец, отдельное спасибо Марку Бенаишу и всей команде Mondomix () — за доброту и теплый прием.
Примечания
1
"В начале был Джек,
И у Джека был грув,
И из этого грува родился
Самый грувистый грув.
Как-то раз, свирепо истязая свой бокс,
Джек бесстрашно воскликнул: "Да будет хаус!"
И в то же мгновение стал хаус".
(обратно)2
Рассказывают, что хозяева лейбла Тгах, чтобы изготавливать свои диски, "присасывались" к находящемуся по соседству заводу и воровали у него электроэнергию. (Прим. авт.)
(обратно)3
Родился на Севере, вырос на Севере, умру на Севере"; "Иисус был длинноволосым" (англ.)
(обратно)4
Вольный перевод: "Мне снесло кочан" (англ.)
(обратно)5
г Вольный перевод: "Мне снесло навес" (англ.)
(обратно)6
Вольный перевод: "Все будет круто, все будет супер, нужно только проглотить
таблетку" (англ.)
(обратно)7
"Черт возьми, да это же лазер!" (англ.)
(обратно)8
Город Нэшвилд — столица кантри-музыки. (Прим. пер.)
(обратно)9
"Мир, любовь, единение и взаимоуважение" (англ.).
(обратно)10
"Франкфуртская банда" (англ.).
(обратно)11
"С Франкфуртом шутки плохи" (англ.).
(обратно)12
На момент написания книги Паскаль Негр является генеральным директором Universal Music France. (Прим. авт.)
(обратно)13
Праздник молодого вина божоле. (Прим. пер.)
(обратно)14
"Что это за фигня играет, чувак?" (англ.).
(обратно)15
"Музыку нельзя сочинять для прикола, чувак!" (англ.).
(обратно)16
Minitel — информационная система, работающая на территории Франции с начала 80-х. (Прим. пер.)
(обратно)17
2Дышать (англ.).
(обратно)18
3Бездыханный (англ.).
(обратно)19
"Хватит спать, проснитесь!" (англ.).
(обратно)20
Вольный перевод: "Мы делаем хаус с французским лицом" (англ.).
(обратно)21
"Мы создали будущее и поселились в твоем воображении. Мы никогда не умрем" (англ.).
(обратно)22
Ренжис — пригород Парижа, в котором находится гигантский оптовый рынок.
(обратно)23
(Прим. пер.)
(обратно)24
Здесь: "Выключите музыку!" (англ.)
(обратно)25
"Музыка молодой Америки" ("The Sound of Young America") — так звучал слоган "Мотауна". (Прим. авт.)
(обратно)26
"Будущее", "война", "беглецы", "планета", "мистик", "бунт" (англ.).
(обратно)27
"Мне понравилось. Классный трек. Можешь смело его выпускать. Peace. Майк" (англ.).
(обратно)28
"За Е следует F" (англ.).
(обратно)29
Город неподалеку от Парижа. (Прим. пер.)
(обратно)30
"Будущее вселенной в наших руках" (англ.).
(обратно)31
Через какое-то время корень "кор" (от "core" — ядро) стал использоваться в самых разных сочетаниях: спидкор, транскор, эйсидкор, брейккор. (Прим. авт.)
(обратно)32
За исключением вечеринки Rave Ô Trans (с Underground Resistance в качестве специальных гостей), прошедшей в рамках ренского фестиваля Transmusicales, во Франции никогда не проводилось крупных независимых техно-мероприятий. (Прим. авт.)
(обратно)33
"Юманите", 15 июня 1993 г.
(обратно)34
"Экстази: праздник окончен" (англ.).
(обратно)35
Спасибо, спасибо (исп.)
(обратно)36
"Путешествие Симоны" (фр.).
(обратно)37
В 1998 году Кентен прославится на весь мир благодаря своему макси-синглу "Flat Beat", выпущенному под псевдонимом Mr Oizo. (Прим. авт.)
(обратно)38
Одна из центральных площадей Монпелье. (Прим. авт.)
(обратно)39
"Виктуар де ля Мюзик" (Victoires de la Musique — "Музыкальная победа") — престижнейшая французская музыкальная премия. (Прим. пер.)
(обратно)40
"Горничная священника" ("La bonne du cure") — хит Анни Корди. (Прим. пер.)
(обратно)41
Катрин Тротманн (CatherineTrautmann) — французский политик. С 1997-го по 2000 год — министр культуры и коммуникации. (Прим. пер.)
(обратно)42
"Краснолицый" (англ.).
(обратно)43
"Я поддерживаю Карла Крейга" (англ.).
(обратно)44
"Hacienda: праздник окончен" (англ.).
(обратно)Комментарии
1
непонятный кусок текста
(обратно)



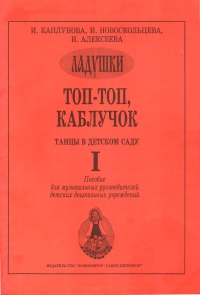

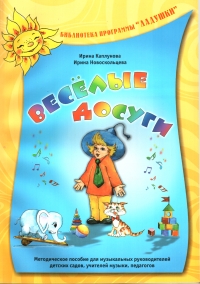

Комментарии к книге «Электрошок: записки диджея», Лоран Гарнье
Всего 0 комментариев