Предисловие
Я не музыкант и даже не музыковед. Как профессионал в науке я специализировался по разностороннему изучению культуры: археология, филология и культурная антропология. Довелось касаться и проблем искусства. Но из моих книг эта — первая о музыке. Нужно объяснить, с какой стати профессор археологии и антропологии решился изложить в печати свои соображения о музыке.
В детстве родители дали мне не только общее, но и музыкальное образование. Параллельно с общеобразовательной школой я учился в музыкальной школе, прошел ее ускоренным темпом и поступил в музучилище (заведение типа техникума). Там проходил уже не только занятия по классу фортепьяно, но и сольфеджио, историю и теорию музыки. Выступал до 13 лет с концертами, играл даже с симфоническим оркестром, словом меня направляли на стезю вундеркинда. Но я взбунтовался и эту перспективу отверг. Меня больше привлекали науки. Тем не менее, впоследствии я не чурался и музыкальных интересов: в студенческие годы руководил эстрадным ансамблем, в преподавательские — курировал факультетскую самодеятельность.
Автор за фортепьяно в годы написания книги
Все, чем я занимался, я старался осмыслить с позиций науки. Из размышлений о месте джаза и рок-музыки в перспективе истории культуры родилась небольшая книжка «Гармонии эпох», написанная около 1977 г. В книге я стремился проследить, как социальная психология эпохи сказывается на формировании приемлемой для этого времени гармонии, как гармонические структуры, входящие в моду, всякий раз соответствуют привычным для данной эпохи социальным представлениям и настроениям. Книга связывала социальную психологию с музыкой. Я написал ее по договоренности с одним издательством, но издание застопорилось.
Однако в 1978 году на Дворцовой площади в Ленинграде произошли многотысячные беспорядки, вызванные отменой запланированного рок-фестиваля с участием американских звезд. Рок-музыку стали давить с новым усердием, и издательство испугалось. Рукопись мне вернули. Но перед тем, видимо, кто-то ее скопировал. Так или иначе, она соскользнула в самиздат. А через год меня уже попросили представить оригинал в КГБ. Месяца два держали там рукопись, а потом улыбчивый молодой человек вернул ее, сказав, что у них весь отдел читал ее с увлечением, что никакой крамолы в ней нет, что как раз таких книг не хватает, отсюда и беспорядки, что некоторые шероховатости, политически нехорошие, редактирование уберёт, словом — я могу ее издавать. Они даже готовы дать рекомендацию. Но у меня что-то пропала охота.
А в 1980 г. наши войска вошли в Афганистан, разрядка окончилась. Сахаров был отправлен в Горький, на вольномыслящих и подозреваемых в вольномыслии обрушились репрессии, начались аресты ряда университетских преподавателей — им предъявляли чисто уголовные обвинения, поскольку Брежнев объявил, что в Советском Союзе нет политических заключенных. Я был арестован в марте 1981 г., и не мои музыкальные вкусы были причиной ареста. Власти были раздражены моей независимой позицией в науке (социальной науке!) и тем, что меня часто печатали на Западе. Тот самый молодой человек из КГБ руководил допросами по моему делу. Когда в 1982 г. я вышел на свободу, я долго был безработным, лишь постепенно начали снова печатать, а с 1994 г. восстановился в Университете.
Через пять лет после моего выхода на свободу нашелся один экземпляр моей рукописи о гармониях эпох. Я попытался продвинуть ее в печать, но тщетно. Издательства тогда еще опасались печатать недавнего зека. Знакомые, кому я давал рукопись читать, особенно из молодежи, настаивали на том, что нужно ее опубликовать: она им помогает понимать музыку. Коллеги, особенно искусствоведы, предостерегали: всё-таки я дилетант, могут быть просчеты, ошибки. Вдобавок, стремясь изложить сложнейшие проблемы кратко, для небольшого объема, я неизбежно упрощаю, скорее всего, чрезмерно. Но разработать тему подробнее всё руки не доходили. Так рукопись и залегла в моем архиве.
Со времени написания работы прошло три десятилетия. По моим нынешним представлениям, в рукописи есть смысл, но ее бы стоило интенсивно доработать — хотя бы потому, что столько литературы опубликовано с тех пор! Однако на проработку этой литературы и переработку самой рукописи у меня нет ни времени, ни сил (мне уже за восемьдесят). Отдавая ее в печать, придется ограничиться лишь самой простой редакционной правкой (кое-где всё же ввожу и содержательные вставки, выделяя их квадратными скобками, а также обновляю некоторые ссылки, заменяя старые издания новыми и иностранные — появившимися русскими переводами). Надеюсь, в основных чертах текст не устарел, и, заменив названия групп и стилей на более современные, молодежь узнает свои проблемы, свои конфликты и свои запросы. История всегда ведет к современности. Вчерашнее будущее — сегодняшняя злободневность, а сегодняшние перспективы — это уроки прошлого. Поэтому я без боязни отдаю на суд нынешнего поколения свои размышления, остановленные более 30 лет назад.
Чрезмерные упрощения, конечно, возможны, даже вероятны. Но когда стремишься понять сложные вещи, поначалу неизбежно упрощаешь. Потом можно устранить упрощения. Я излагаю здесь свои попытки понять зависимость музыкального языка от социальной психологии эпох. Надеюсь, они помогут тем, кто, так же, как я, стремится это понять.
1. Музыка будущего или плохая музыка?
Когда три электрогитары (соло-, ритм- и бас-), батарея барабанов и электроорган взрываются воем и грохотом, случайно попавшие в зал пожилые люди пожимают плечами. Они никак не могут взять в толк, с какой стати у пятерых длинноволосых юнцов, беснующихся в блике прожектора, на лицах — пафос творчества, и почему огромный битком набитый молодежью зал отзывается восторженным воплем и стоном. Ведь «хард-рок» — это не музыка! В лучшем случае — плохая музыка! Все эти «Лед Зеппелин», «Юрайя Хип», «Дип Пёрпл» из Англии, «Дорс» и «Грэнд Фанк» из США или наши доморощенные рокеры — разве это музыканты? Смесь регламентированного хулиганства с шаманским камланьем и заморской модой — вот что это.
Четверо на вершине славы — «Битлз» из Ливерпуля
Но еще совсем недавно так же точно ужасались группе «Битлз», а теперь этих кавалеров высокого британского ордена повсеместно признают талантливыми композиторами, творцами более 300 чудесных мелодий, классиками современной эстрадной музыки и уважительно величают по именам: Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр… Простите, Ричард Старки. Солидные оркестры аранжируют их темы.
Более полувека назад Максим Горький назвал джаз «музыкой толстых». Он побывал в странах, где звучал джаз, послушал, послушал — и возмутился:
«…Начинает сухо стучать какой-то идиотский молоточек — раз, два, три, десять, двадцать ударов, и вслед за ними, точно кусок грязи в чистейшую, прозрачную воду, падает дикий визг, свист, грохот, вой, рев, треск; взрываются нечеловеческие голоса, напоминая лошадиное ржание, раздается хрюканье медной свиньи, вопли ослов, любовное кряканье огромной лягушки; весь этот оскорбительный хаос бешеных звуков подчиняется ритму, едва уловимому, и, послушав эти вопли минуту, две, начинаешь невольно воображать, что это играет оркестр безумных, они сошли с ума на сексуальной почве, а дирижирует ими какой-то человек-жеребец, размахивая огромным фаллосом. …Это — эволюция от красоты менуэта и живой страстности вальса к цинизму фокстрота».
И дальше: «нечеловеческий бас ревет английские слова, оглушает какая-то дикая труба, напоминая крики обозленного верблюда, грохочет барабан, верещит скверненькая дудочка, раздирая уши, крякает и гнусаво гудит саксофон… (Горький 1953: 354—356).
Статью об этом он назвал «Музыка толстых», полагая, что в ее неестественности сказывается разложение и упадок общества при капитализме.
Потом немало было попыток представить дело так, что, де, это Горький о плохом джазе, о худших образцах, об антинародном извращении и коммерческой вульгаризации джаза. Да нет, Горький не делал таких различий. Он слушал молодой джаз, «чистый» джаз — тот, который сейчас некоторые музыковеды именуют «народным» (ср. Asriel 1966). И отверг в целом. А ведь это был всего лишь джаз, по нынешним временам весьма спокойный и мелодичный. Что бы сказал Горький, послушав хард-рок, и не где-нибудь в заморском гнезде мирового капитала, а в отечестве!
Еще в советское время в Ленинграде появился джаз-клуб «Квадрат», где выступал «Ленинградский диксиленд», одновременно в социалистической Чехословакии был издан «Джазовый словарь» (Wasserberger 1966), а в социалистической Польше стали проводиться международные джазовые фестивали «Jazz Jamboree».
В середине XIX века, познакомившись с новаторскими произведениями Вагнера, Карл Маркс поделился с Фридрихом Энгельсом: «…Пипер сыграл мне кое-что из музыки будущего. C’est affreux [франц.: это ужасно] и способно внушить страх перед „будущим“ с его поэзией и музыкой» (Маркс 1962: 6). Примерно тогда же Верди писал из Парижа своему другу: «Слышал также увертюру к „Тангейзеру“ Вагнера. Он безумен!!!» (цит. по: Бэлза 1962: 12). Бернард Шоу (2000: 36) вспоминает цирковые пантомимы, в которых клоун выносил на арену тромбон, изо всех сил выдувал начало хорала пилигримов из «Тангейзера» и иронически провозглашал: «Вот музыка будущего!».
Но близкое будущее (за исключением Льва Толстого) приняло музыку Вагнера. А затем эта музыка стала классической, традиционной и даже архаичной. Ныне есть список самых знаменитых композиторов, упорядоченный по количеству времени, которое отводят их произведениям западноевропейские радиостанции. В этом списке из 84 композиторов Вагнер занимает четвертое место — сразу после Моцарта, Бетховена и Баха (Моль 1973: 151).
Не всегда понимали современники, даже музыканты, и музыку Бетховена. Однажды кто-то из коллег (говорят, это был скрипач Феликс Радикати) спросил Бетховена: неужели он считает музыкой свой квартет, посвященный русскому посланнику в Вене, графу Разумовскому. «Да, — ответил композитор, — но не для вас, а для будущего».
Но и в близком будущем не все сразу оценили величие Бетховена. Лев Толстой не принимал музыку позднего Бетховена, Бетховена-романтика.
«Среди часто по заказу, второпях писанных бесчисленных произведениях его есть, несмотря на искусственность формы, и художественные произведения; но он становится глух, не может слышать и начинает писать уже совсем выдуманные, недоделанные и потому часто бессмысленные произведения. Я знаю, что музыканты могут довольно живо воображать звуки и почти слышать то, что они читают; но воображаемые звуки никогда не могут заменить реальных, и всякий композитор должен слышать свое произведение, чтобы быть в состоянии отделать его. Бетховен же не мог слышать, не мог отделывать и потому пускал в свет эти произведения, представляющие художественный бред. Критика же, раз признав его великим композитором, с особой радостью ухватывается именно за эти уродливые произведения, отыскивая в них необыкновенные красоты» (Толстой 1964: 154).
Других композиторов-романтиков Толстой считает подражателями «тех уродливых попыток художественных произведений, которые пишет глухой Бетховен» (Толстой 1964: 155).
Ныне музыкой Бетховена наслаждается и восхищается весь образованный мир. Приходится признать, что не Бетховен, а великий писатель был глух — к музыке позднего Бетховена.
Все эти уроки истории не стоит забывать. Музыкальный язык (Cooke 1959; Кон 1967; [Мазель 1991: 27—130]) принято считать самым всеобъемлющим из всех языков, самым общечеловеческим, этаким естественным эсперанто. Считается, что язык музыки понимают все люди одинаково, что он объединяет народы, разобщенные словесными языками и обычаями. А ведь это лишь отчасти верно. Не все народы приобщены к одной и той же музыкальной культуре. Пение арабов или индийцев, построенное на очень тонком различении звуков по высоте (не только полутонами, но и четвертями и восьмыми долями тонов), кажется европейцу заунывным завыванием. А на Востоке мелодичное пение европейцев воспринимается как обрывистое, крикливое. Еще больше сказывается подчас скачок в музыкальной преемственности поколений, разрыв в их музыкальном взаимопонимании.
Музыкальный язык дальше других языков от рассудочности, он строится исключительно на эмоциях. А эмоциональный строй личности, заложенный в юные годы, входит составной частью в характер человека и в дальнейшем гораздо меньше поддается изменениям и перестройке, чем рассудок. Между тем известно, как трудно (с помощью рассудка!) выучиться словесному иностранному языку в пожилом возрасте — время упущено: и память не та, и гибкость, податливость психики исчезла, хуже образуются условные рефлексы. Во сколько же раз труднее перестроить свою эмоциональную структуру и освоить новый музыкальный язык! Это почти невозможно.
Бывает, конечно, смена музыкальных симпатий в течение жизни человека. Совершенствуется вкус, изменяется характер — могут измениться и музыкальные пристрастия. Но не сменяется музыкальный язык.
Выросши и повзрослев, нынешние мальчики в массе не отойдут от рока. Когда с середины XX века джаз стал утрачивать популярность, это не означало, что от него отошли прежние поклонники. Просто они стали старше и, обремененные заботами, не смогли уделять много времени развлечениям. Но они не сменили любовь к джазу на новую привязанность. А вот поколение помладше на смену к ним не пришло: оно было захвачено роком. Джазовая публика постарела и поредела (Newton 1975: 14, 20—21). Рок недавно считался музыкой подростков, затем стал музыкальным самосознанием молодежи, сейчас пластинки «Битлз» коллекционирует среднее поколение и, несомненно, еще через несколько десятилетий это будет ностальгической усладой стариков. Но это не поколения передают музыку друг другу, как эстафету. Это возрасты перебрасывают друг другу одну и ту же генерацию людей с ее музыкальным языком.
Новосибирский студент-математик С., из очень консервативной семьи, поведал мне:
«Я был совершенно равнодушен к музыке. Симфонии, марши, Дунаевский, хор Пятницкого — всё оставляло меня холодным. Послушаю немного — и выключаю радио. Но однажды случайно услышал музыку, которая меня захватила и потрясла. Я стал искать такую же, и скоро понял, что не могу без нее. Потом я узнал, что это — рок».
Оказывается, без всякой музыкальной подготовки, без предварительной воспитанности, которую формирует музыкальная и культурная традиция, без нацеленной обработки рекламой, он был внутренне готов к этой музыке. Он воспринял ее как свою. Пластинки с этой музыкой он в состоянии прокручивать бесчисленное количество раз, по много часов в день. Более того, у него появился интерес и к музыке симфонической: «Картинки с выставки» Мусоргского он захотел прослушать в оригинале, после того как ему понравилась обработка Эмерсона (для бит-группы с синтезатором). Теперь разыскивает в оригинале Пятую симфонию Бетховена, так как полюбил ее в переводе Уолтера Мёрфи на язык рока.
В силу непосредственной эмоциональности, подсознательности музыкального восприятия «свой» музыкальный язык кажется людям естественным, прирожденным музыкальным языком, единственно возможным для них (а то и для всех). Его обусловленность данной культурой, искусственность, заученность как-то ускользает. К тому же в памяти образованных людей засели некие сведения по акустике. Это сведения об объективной физической природе акустических свойств звуков и о столь же объективной физиологической основе их психологических оценок. Звуки с близкой кратностью колебаний, с совпадениями в нижних обертонах сочетаются благозвучно — это консонансы. Если же интерференция колебаний приводит к биению, к малочастотной вибрации (30–60 в секунду), то создается ощущение хриплости, грязного звучания — это диссонансы. И т. д. (Дальше я остановлюсь на этом подробнее). Иллюзия естественности музыкального языка создается и в силу того, что обычно для огромной массы людей, включающей высокообразованных, музыкальный вкус в общем один. Одним могут нравиться одни музыканты и виды музыки, другим — другие, но вся эта музыка — в одном ключе. Все ее воспринимают как музыку. Поэтому выступления на ином, чуждом, новом музыкальном языке воспринимаются как нечто экзотическое, ненормальное, вызванное либо примитивностью, недоразвитостью субъектов, либо извращенностью, злонамеренным фокусничаньем.
Даже величайшие умы, люди широкого культурного кругозора, не могли отрешиться от нормативов привитого им смолоду музыкального языка, от «обжитой» ими музыкальной культуры — понятной, разработанной и близкой их душевным запросам. В кризисные моменты смены ведущего музыкального языка особенно учащаются и обостряются столкновения возрастов, споры о вкусах, обвинения в порче искусства, звучат осуждения «плохой» музыки.
[Люди старшего поколения воспринимают это как падение вкусов. Так, известный музыкальный критик Артемий Троицкий жалуется в интервью интернет-изданию «Газета.ru» (сентябрь 2007): «Музыкальное телевидение во всем мире выглядит сейчас довольно жалко, и от того расцвета, который был в 80–90 годы, сейчас мало что осталось. Это связано и с общим кризисом в музыкальной индустрии, и с творческим кризисом популярной музыки во всем мире, и с тем, что настоящие меломаны перестали смотреть музыкальное телевидение».
На сайте «Самая плохая музыка» мнения самые разные: «Плохая музыка — это то, что музыкой называть стыдно и совершенно невозможно, а именно наша русская ПОПса. Этот отстой слушать воспрещается…»; «99 % того что показывает ОРТ, РТР»; «Мне кажется, плохая музыка — это прежде всего непрофессиональность работы. А это определяется не стилем или направлением»; «Плахой музыки не бывает! :)».]
«Пинк Флойд», сформировавшиеся в Кембридже, ввели в свою музыку странные электронные шумы и квадрофонию
Но ведь есть же и в самом деле плохая музыка (слава богу, сколько угодно!). И в кризисные годы ее не меньше, чем в тихие. И рок-группы тоже разные. Нельзя поставить на одну доску низкопробные примитивы таких групп, как «Мад» («Грязь»), потуги таких хрипунов, как Элис Купер или Гари Глиттер, и творчество коллективов, достигших высокого профессионализма, как «Чикаго», «Крим», или «Эмерсон, Лэйк энд Палмер», не говоря уж о таких очень оригинальных и талантливых, как «Пинк Флойд». Глупо было бы, впав в своеобразный эстетический релятивизм, объявлять все варианты нового музыкального языка равноценными, раз уж у них есть свои слушатели и даже свои фаны. Ведь тогда понятия художественности, шедевра, мастерства, да и искусства стали бы бессмысленными. Как же отличить новый, непривычный, чуждый и непонятный, но ценный музыкальный язык от простой порчи существующего музыкального языка? Как отличить «музыку будущего» от плохой музыки?
2. Археология музыки
Задача неимоверно трудна теоретически и с легкостью решается на практике, стихийно, всегда решается. Проходит какое-то время — и масса слушателей накапливается на стороне «музыки будущего», отказываясь слушать дурные музыкальные кривляния. А уж тогда и теоретики быстро находят правдоподобное объяснение, почему это должно было произойти именно так. «Будущее» само выбирает свою музыку. Суть проблемы в том, как теоретикам научиться делать это «до того». Пусть не предсказывать — хотя бы распознавать при появлении. Не поднимать на щит бесперспективные новации, не подавлять и не выпалывать ростки лучших цветов.
В принципе есть лишь два возможных способа решения этой проблемы. Первый заключается в том, чтобы проследить внутреннюю логику исторического развития музыки. Рассматривая современное состояние как новейший, но не последний в закономерной смене этапов, нужно попытаться экстраполировать эту траекторию музыки на ближайшее будущее. Чтобы сравнить реальное разнообразие авангардных поисков с теоретическими ожиданиями. Это дело специалистов-музыковедов.
На этом пути исследователя ждут некоторые опасности. Развитие музыки — сложный процесс: которые из переплетающихся линий развития наиболее перспективны, часто оказывается спорным. К тому же траектория развития не всегда проходит геометрически правильной линией, ибо ее ломают и искривляют факторы, воздействующие на музыку из других сфер культуры.
В «Лестнице в небо», лучшей песне «Лед Зеппелин», Роберт Плант поет своим высоким пронзительным голосом о двух путях на выбор…
Второй путь решения как раз и связан с поиском этих факторов. Музыка существует в обществе и служит общению людей. Общение различно в разные эпохи, ибо резко изменяется общество, сменяются его нормы, идеология, стиль жизни, способы мышления и чувствования. Музыкальный язык всегда как-то связан с социальной психологией эпохи (Сохор 1975). Если мы поймем механизм этой связи, то познание основных социально-исторических особенностей наступающей эпохи позволит нам определять, какие новые музыкальные явления соответствуют этим особенностям. Это задача социологии искусства вкупе с эстетической семиотикой.
Конечно, и здесь возможны разногласия и некоторая неопределенность. Но ожидания здесь гибче, ближе к жизненной реальности. Есть смысл испробовать.
В «Лестнице в небо» — лучшей песне «Лед Зеппелин» — Роберт Плант поет своим высоким пронзительным голосом:
You there are two paths you can go by But in the long run There’s still time to change the road you’re on. Да, у вас на выбор два пути, Но долго по ним идти, И есть еще время сменить дорогу.С музыкой — как с другими частями культуры, как со всей культурой. Еще в конце 40-х — начале 50-х гг. французский ученый Ролан Барт выявил в литературе эпохальные стилевые общности, которые он назвал словом «écriture» («письмо», «манера письма», «литературный вкус»). И определял метафорой: «Письмо — мораль формы». Переход от одного эпохального письма к другому Барт характеризовал как «семиотическую революцию» (Barthes 1968). Почти в те же самые годы с аналогичной идеей выступил знаменитый физик Макс Борн:
«я думаю, что существуют какие-то общие тенденции мысли, изменяющиеся очень медленно и образующие определенные философские периоды с характерными для них идеями во всех областях человеческой деятельности, в том числе и в науке. Паули в недавнем письме ко мне употребил выражение „стили“: стили мышления — не только в искусстве, но и в науке» (Борн 1955: 102).
Это, конечно, нечто более широкое, чем стиль, если сопоставлять с обычным для искусствоведения значением термина «стиль». Это «письмо» Барта. Это некий общий ключ к разным семиотическим (знаковым) системам одной эпохи. Идею Борна реализовал Мишель Фуко, проследив в истории эмпирических наук смену самых общих принципов и навыков познания. Он назвал эти сменяющиеся и чуждые друг другу ключевые наборы «эпистемами». Результаты он обобщил в книге «Археология» познания» (Foucault 1968).
Смена культур как семиотических систем интересует археологов, пожалуй, больше, чем представителей всех прочих наук о культуре (Клейн 1975; 1977), но Фуко употребляет слово «археология» в его первоначальном, более широком и ныне скорее переносном смысле.
Если использовать слово «археология» в этом духе, то можно поставить вопрос об «археологии» музыкального развития человечества: углубиться в далекое прошлое музыки, расчленить музыкальную культуру, накопленную за много веков, и рассмотреть по отдельности слой за слоем. При этом, как в обычной археологии, необходимо прежде всего исследовать архитектурный каркас каждого слоя. То есть вскрыть структуру и логику его понятий и образований, отношения между ними, основы их формирования. Но если обратиться к основным структурам музыки (а это мелодика, гармония и ритм), то нетрудно заметить, что ритмика и мелодика скорее соединяют разные эпохи, а различаются они больше по гармонии. Перестройками гармонии выразительнее всего проявляются семиотические революции в музыке.
Однако эту мысль не хотелось бы абсолютизировать.
В аспекте гармонии между эпохальными слоями музыки существуют не только разрывы, но и связи, преемственность, переклички эпох. Это проявляется в двух формах.
Во-первых, новая гармония обычно не сменяет старую полностью, а лишь ограничивает сферу ее применения, вытесняет ее из некоторых жанров или основывает для себя новые жанры, составляющие дополнительное поприще. Многие старые музыкальные достижения не отмирают, а существуют наряду с новыми и даже продолжают развиваться в своих границах. Не исчезли ни такие виды фольклора, как частушки и блюз, ни мессы Баха; симфония Шостаковича не оттесняет симфонию Гайдна; кантри, джаз и рок существуют одновременно. Музыкальная культура постоянно обогащается и не любит терять свои богатства.
Во-вторых, в новой музыкальной гармонии нередко можно распознать инкорпорированные в нее старые структуры; нормы старого музыкального языка вдруг возрождаются через много веков, и это всегда связано с возникновением ситуаций, в которых почему-либо повторяются какие-то аспекты давней социальной психологии. Что ж, опыт пригождается, а новое, если к нему приглядеться, оказывается не только закономерным, но и… не то, чтобы не совсем новым, а не совсем чуждым традиционной музыкальной культуре. Джаз и рок — не исключение.
Обратимся к обзору слоев.
Археологи находят костяные флейты начиная с палеолита. Мы можем услышать звуки, раздававшиеся многие тысячи лет назад, но мы не знаем в точности, как они сочетались. Вот две костяные флейты неолита с поселения Дубокрай V на Псковщине, которые хранятся в Эрмитаже (фото и рисунки)
Многоствольная флейта — древний музыкальный инструмент у многих народов (греч. сиринга, др.-русск. кугиклы, молд. най, индейск. симпоньо). По древнегреческому преданию, на такой флейте играл бог пастушества Пан
Для марксистских историков чего угодно (хоть и музыки) естественно было начинать такой обзор с первобытного общества. И есть несколько работ о музыке в первобытном обществе — прежде всего, на основе фольклорных данных (например, Харлап 1972). Но фольклор — это область, в которой к нынешнему времени осело и сплавилось множество музыкальных стилей и произведений из разных эпох. В каждую эпоху в народные низы опускались из верхних слоев и приживались танцы и песни, ритуалы и инструменты. А в деревню эта струя шла из города. Народная русская гармошка изобретена не в деревне, да и изготавливалась не там. Таким образом, нынешний фольклор — это смесь звучаний разных эпох и разных социальных слоев.
Более реалистичные суждения о первобытной музыке можно составить на основе этнографических наблюдений за отсталыми народностями в проекции на археологические материалы о музыкальных инструментах каменного века. Но суждений о практиковавшейся гармонии из этого сочетания не извлечь. Мы знаем, что в каменном веке уже применялось три вида музыкальных инструментов: в палеолите — ударные (всякого рода погремушки, трещотки и барабаны), дудки (примитивные флейты, сначала без отверстий, потом с отверстиями) и с мезолита — лук, использовавшийся как струнный инструмент (есть много работ об этих находках). Привлекая практику наименее развитых современных племен, мы можем предположить, что и европейцы в каменном веке использовали ритм (ударных и струнных), мелодику (флейты и голоса), а о сочетании разных звучаний нам просто ничего не известно.
Сравнительно удовлетворительные сведения о гармонии (да и сам термин «гармония») мы получаем только от античного времени.
3. Единоголосие, единогласие
В Ленинграде «Поющие гитары» поставили рок-оперу «Орфей и Эвридика» (благонамеренности ради маскировалась под названием «зонг-оперы»). В сопровождении электрогитар и ударных поет соло Орфей, поет Эвридика, поют дуэтом, поет хор. Несмотря на разительные отличия от оперы Глюка, отделенной от нас двумя веками, всё же обе оперы больше схожи между собой, чем обе они походят на изображаемый в них древнегреческий хор. Там пел Орфей, Эвридика молчала, оркестра не было.
«Гармония» — слово греческое, «симфония», «оркестр» и «хор» — тоже. Между тем, у древних греков не было в музыке ни того, что мы называем гармонией, ни многоголосия, ни звучания оркестра. Слово «гармония» у античных авторов обозначало согласованность вообще («гармония сфер» у пифагорейцев), а в музыке — ритмический строй или порядок мелодического движения. «Орхестра» и «хор» обозначали сцену и коллектив актеров в драме. «Симфонией» называли одновременное исполнение двух звуков в приятном сочетании — и только.
А сейчас? Два звука ведь мы не только «симфонией», — «аккордом» не называем! Термин «созвучие» на практике, в сущности, не применяется, мы говорим всегда об «аккордах», но аккорд — это минимум трезвучие, и то не всякое. Когда же речь заходит о сочетании двух звуков, то независимо от того, звучат ли они одновременно или последовательно, мы называем их «интервалом» (от лат. «промежуток») (см. например, Вахромеев 1975: 75, 138).
Аэд с лирой. Бронзовая статуэтка с Крита (музей Гераклиона), IX век до н. э. — эпоха начала формирования гомеровского эпоса. Не так ли выглядел в глазах своих современников Гомер?
Еще в античное время интервалы были выстроены по ранжиру, и мы сохранили для них латинские названия, возникшие значительно позже. Для прыжка на месте (повторения одного звука) — термин «прима» (лат. «первая» — имеется в виду первая ступень отсчета), для перехода на соседнюю ступень гаммы — «секунда» (лат. «вторая»), через ступень — «терция» («третья») и далее — «кварта», «квинта», «секста», «септима», «октава», «нона», «децима»… Стало быть, «октава» — значит, просто «восьмая». «Чижик-пыжик» начинается терциями, «Интернационал» и гимн России — квартой, «Дубинушка» кончается октавой («Эй — ухнем!»). Но вернемся к древним грекам.
Певец (он же поэт и композитор) один пел оду — иногда это и называют: монодия. Пение было одноголосым: звучала одна мелодия. Аккомпанемента в нашем смысле не было. Пение сопровождалось игрой на инструменте, но инструмент вел ту же мелодию в унисон. Если звучали два инструмента, то либо они звучали в унисон, либо один отстоял от другого не на терцию, как было бы привычно для нашего слуха, а на кварту или квинту, ибо только они и октава считались благозвучными интервалами.
Это не было случайным капризом моды. Уже Пифагор (VI век до н. э.) заметил, что высота звука зависит от длины струны, а сочетания тем благозвучнее, чем проще соотношение длин. Пифагор ввел в науку не только «пифагоровы штаны», надетые на прямоугольный треугольник («гипотенуза равна…» и т. д.). Закон Пифагора для акустики гласит: Две струны звучат благозвучно, если в длину отношение между ними выражено целыми числами, образующими «треугольное число» 10 = 1+2+3+4 (сумму накопления постепенного равномерного роста целых чисел). То есть если отношения между ними составляют 1:2, или 2:3, или 3:4. И тем благозвучнее, чем ближе к началу этого ряда. Теперь мы знаем также, что длина струны определяет частоту колебаний. Это открыл один из последних крупных пифагорейцев Архит (IV в. до н. э.). Закон Архита (в более современном изложении) гласит: Частота колебаний звучащей струны обратно пропорциональна ее длине.
Пифагор с острова Самос (VI в. до н. э.) первым связал высоту звука с длиной струны и благозвучие сочетания звуков с делимостью их длин. Бюст Пифагора в Капитолийском музее в Риме
Теперь мы знаем, что человеческое ухо воспринимает как звуки колебания от 16 до 20 000 в секунду, а как музыку — обычно от 100 до 10 000 колебаний в секунду. Однако в музыке применяются лишь звуки от 16 колебаний (на органе) до 4300 (флейта-пикколо). Наиболее четко же мы распознаем звуки лишь от 500 до 3000 колебаний в секунду. Около 1600 г. Галилео Галилей открыл ряд физических законов, определяющих звук. Швейцарец и русский академик XVIII века Л. Эйлер, занимавшийся акустикой, уже знал, что чем чаще колебания, тем выше представляется нам звук.
Кстати, почему «выше»? Звуки, вызванные сравнительно редкими колебаниями, воспринимаются всеми как низкие, толстые, а звуки с частыми колебаниями — как высокие, тонкие. По-видимому, такое восприятие связано с тем, что первые человек берет так называемым «грудным голосом» и субъективно ощущает, как резонирует его грудь, а то и живот. Вторые же берет так называемым «головным голосом» и субъективно ощущает, как резонируют полости его шеи и головы — гортань, носоглотка, лобные пазухи. Естественно, что первые звуки он привык условно помещать где-то внизу, вторые — вверху. К этому добавляется еще и то, что крупные и массивные («толстые») животные обычно издают звуки низкой частоты, а их детеныши, мелкие животные и птицы с тонкими шеями — высокой.
Чем определяется благозвучие или неблагозвучие сочетаний звуков? Этого в античности не знали. Теперь-то нам известно: всякое звучащее тело (в том числе струна) колеблется не только во всю длину, но и дополнительно — почаще: каждой своей половиной, каждой третью и т. д. Поэтому одновременно с основным тоном звучат призвуки большей высоты — «обертоны». Они были открыты значительно позже (на исходе средневековья), но результаты их действия распознали уже в античности: разное благозвучие интервалов улавливалось на слух (и теперь можно эту разницу объяснить).
У двух струн одинаковой длины совпадает количество всех колебаний — и основных и дополнительных. Эти струны звучат как одна — в унисон («один звук»), очень слитно. Если одна струна вдвое длиннее другой, то колебания совпадают, начиная с первого ее обертона (отношение основных частей 2 : 1). Это и есть октава. Сочетание звуков получается очень гладким — почти как прима, почти как в унисон. Сразу отметим старое наблюдение музыкантов — звуки, расположенные на октаву друг от друга, кажутся одинаковыми и взаимозаменимы. Родственность таких звуков издавна использовалась при переносе мелодий из одного регистра в другой — от баса к альту или сопрано, при имитации басом альта и т. п. (пение через октаву приравнивается к пению в унисон). Все меньшие интервалы воспринимаются как части октавы. Самым малым интервалом, который в древности использовался как шаг мелодии, являлось то, что ныне мы называем секундой. В октаве умещалось шесть секунд. Вскоре, однако, стали различать в мелодии и полшага — малую секунду, по нынешнему. Мы обозначаем это также как тон и полтона. «Тонос» (корень «тон-») — по-гречески ‘звук’. Двенадцать полутонов составляют нашу гамму (пробежку по всем ступеням звукоряда, например, по всем клавишам). Но всю ее задействовали много веков спустя. Вначале звучала лишь часть ее (об этом дальше).
Ныне при разбивке сплошного длинного звукоряда (например, у клавишных инструментов) звукоряд разделен по октавам, и в каждом разделе повторяется одна и та же последовательность черных и белых клавиш, повторяются одинаковые названия ступеней: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Такова роль благозвучия октавы.
У квинты соотношение уже похуже — 3 : 2 (совпадения начинаются встречей первого обертона более высокого звука со вторым более низкого). У кварты соотношение еще хуже — 4 : 3 (а начало совпадений еще дальше — только второй обертон более высокого звука совпадает с третьим более низкого). У терции (5 : 4) уже только третий — с четвертым. Вот этого и дальнейших совпадений слух древних уже не улавливал. Начиная с этих созвучий интервалы считались неблагозвучными. Физическая природа неблагозвучия теперь ясна: интерференция (взаимоналожение) таких обертонов порождает «биения»: призвуки с частотой всего 30—50 колебаний в секунду. Они для уха, как правило, неприятны. Воспринять такие созвучия как благозвучные — значит научиться игнорировать какую-то часть биений.
Одновременное звучание в Древней Греции. Авлетистка (флейтистка) с двумя авлосами. Рельеф, ок. 470 г. до н. э.
На росписи чаши ок. 410 г. до н. э. (из нац. археол. музея в Торонто) менада, играющая на двойном авлосе
Помимо октавы античные музыканты считали квинту наиболее благозвучным интервалом, настраивая струны на квинту одна от другой. Если звучали одновременно две струны, то это обычно была либо октава, либо квинта. Только такие звучания считались «симфониями» (созвучиями).
У греческих музыкальных инструментов весь звукоряд настраивался, исходя из Пифагоровой чистой квинты (соотношение длин или частот 3 : 2). Греки так верили в благость квинты, что остальные интервалы определяли не прямо, а сложными вычислениями, исходя из квинтовых ходов (обращениями квинт). В результате (да и по другим причинам) полтона (малая секунда) занимало не половину большой секунды (тона), а больше. Это надолго стало правилом и для средневековых музыкантов всей Европы.
Певцы-поэты в Древней Греции сопровождали свое пение игрой на лире, китаре или другом инструменте. Поэтесса Сафо с лирой — роспись гидрии (сосуда для воды), VI в. до н. э.
Сопровождающим мог быть струнный инструмент — небольшая лира с плоским ящиком-резонатором или большая семиструнная кифара или китара — с выпуклым туловом-резонатором (прототип современной гитары). Применялся и авлос (дудка, похожая на кларнет, только очень простой). Китара использовалась в культе Аполлона, на авлосе возносили хвалу богу вина Дионису. Есть античные изображения, на которых музыкант ухитряется играть на двойном авлосе — как бы на двух авлосах одновременно. Одна дудка подлиннее, другая покороче. Неясно, использовался ли двойной авлос для мелодии и отклика или уже для двоичных созвучий — «симфоний». Полагают, что мелодию играла лишь одна из дудок, а вторая тянула одну ноту пониже. Античные и средневековые ученые считали, что древнейшей гармонией было соотношение трех звуков (тритоника) — две квинты одна на другой, этакое двухэтажное строение. Обычно эти три звука не звучали одновременно, но были опорными для мелодических ходов.
Оркестр в Древней Греции не складывался. Музыканты собирались, но для состязаний. На росписи краснофигурной вазы V в. до н. э. — музы с арфой и двумя авлосами и Аполлон или Орфей с лирой
Позже античные певцы расширили диапазон звучания и сделали основой музыки тетрахорд (букв. ‘четверострун’: четыре струны и четыре звука). В лире Орфея мыслилось четыре струны. Звуки тетрахорда (снизу вверх) назывались гипата, паргипата, лиханос и меса. Гипата и меса образовывали рамки для мелодии. В этих узких рамках, по этим четырем ступенькам мелкими шажками ходила мелодия. В фольклорном пении и сейчас у разных народов Европы можно найти немало таких мелодий: «А мы просо сеяли, сеяли». Мелодия могла и выходить за эти пределы, но тогда к тетрахорду прибавлялся еще один тетрахорд. Получалось восемь нот, но в каждой из частей мелодия строилась как в отдельном тетрахорде. На закате античности Мартиан Капелла (IX, 961) писал: «Тетрахорд — это стройное и правильное согласие четырех звуков в порядке их позиций».
Четыре звука часто складывались в кварту. Для античного уха кварта немногим хуже квинты и родственна ей: квинта вверх от любого звука, перенесенная вниз на октаву (а это почти унисон), образует кварту. И еще средневековый автор IX века Ремигий из Оксерра твердил античную максиму: «Кварта — это первоэлемент всякой музыки».
Но ревнители обычаев рассматривали расширение звукоряда как недопустимое новшество. В трактате Псевдо-Плутарха (12, 18) приводятся эти сетования древних на утрату новым поколением мастерства певцов VII века Олимпа и Терпандра: «Креке, Тимофей, Филоксен и другие мастера этого поколения, став несносными и полюбив новизну, изгнали ныне так называемую искренность и музыкальность. Ибо древняя малострунность, простота и серьезность музыки полностью утрачены».
Всё же для мелодических ходов возникло и более сложное строение — из пяти звуков (пентатоника — букв. ‘пятизвучие’), в четыре этажа, четыре квинты. Пентатоника сохранилась в современности в настройке скрипки («башня квинт»). Это не значит, что в пении голос прыгал на такие большие расстояния — перенося эти далеко отстоящие друг от друга тоны на октаву, их сдвигали поближе друг к другу, и, ориентируясь на четырехструнные инструменты, выбирали из этого ряда четыре звука (тетрахорд). Получалась такая последовательность трех интервалов (в современном представлении): два раза по тону и полтора, или полтора тона и два по тону (для музыкально грамотных это будет выглядеть так: до — ре — ми — соль или ля — до — ре — ми). Потом возникли и еще варианты интервалов и последовательностей между четырьмя ступенями тетрахорда. Они были разными у ионийцев, эолийцев и других племен Греции, а также соседних народностей — фригийцев, лидийцев и других. Но у всех по этим четырем ступеням и только по ним ходила мелодия (для современного слуха довольно заунывно). Такую древнейшую пентатонику находят в народных культурах не только древней Греции, но и Китая.
Те же предпочтения можно уловить и у более древних персидских музыкантов. В Британском музее хранится ассирийский барельеф, который изображает «эламик» — иранский дворцовый оркестр, встречающий ок. 650 г. до н. э. ассирийского завоевателя. Оркестр состоит из семи арфистов. Все они сидят в ряд одинаково и показаны в одинаковом ракурсе, но руки их лежат на разных струнах. Каждый арфист дергает две струны, причем избраны лишь некоторые струны — пятая, восьмая, десятая, пятнадцатая и восемнадцатая. Предположив, что струны были настроены пентатонически, а шкала не содержала полутонов, музыковеды определили, что у первого, пятого и шестого арфистов звучали квинты от одного и того же звука (или на октаву выше), у четвертого — прима (унисон), у остальных — октавы от того звука (Sachs 1975: 79). Конечно, это сугубое предположение: ведь кроме введенных условий, нужно еще допустить, что и ваятель был музыкально грамотен — знал, какие точно струны нужно изобразить звучащими (или обладал абсолютно фотографической памятью). Но такая трактовка барельефа возможна.
Возникла у греков и усложненная пентатоника из четырех интервалов, пяти ступеней: полтона — два тона — полтона — тон (для музыкально грамотных это будет выглядеть так: ми — фа — ля — си-бемоль — до). Пентатоника из пяти звуков с интервалами в тон, полтора тона, два по тону была также достаточно известна (ее можно услышать, играя на одних черных клавишах рояля).
Выходы за пределы пентатоники, умножение струн карались. Эфоры (государственные чиновники) следили за тем, чтобы число струн не превышало положенных. [Декрет спартанских эфоров гласил: «Так как Тимофей Милетский, прибывший в наше государство, пренебрегает древней музой и, играя, изменяет 7-струнную кифару и вводит многозвучие, он портит слух молодежи многострунностью и пустейшим, низменным и сложным мелосом». Тимофей был присужден к «отсечению лишних из 11 струн» его кифары (Герцман 1986: 208).]
В античности были изобретены нотные обозначения, далекие от современных, но они расшифрованы. Найдено два десятка [ныне уже больше пятидесяти] античных нотных записей. [Одну из этих находок немецкий музыковед О. Флейшер на рубеже XIX–XX вв. воспринял так:
«И вот весь мир облетело радостное известие: французские археологи во время раскопок в Дельфах обнаружили две обширные мраморные надписи с нотами. …Затем эти музыкальные произведения были исполнены в Афинах и Париже, однако, вопреки ожиданиям, античная музыка не стала снова пользоваться былым поклонением. …При виде длинных рядов переложенных нот возникало такое ощущение, как будто кто-то рассыпал полную горсть нот над системой линеек, не задумываясь над тем, куда они попадут. Некоторые места выглядели просто как издевательство над всеми музыкальными ощущениями» (Fleischer 1900: 54; цит. по Герцман 1986: 9).
Естественно: древняя музыка была построена на совершенно иных основах гармонии и мелодики, чем наша, это другой музыкальный язык, непонятный нам и нас не затрагивающий! И для них наша полифония была бы какофонией.]
Певец пел как бы не от себя — он выражал чувства и настроения массы слушателей, пел от имени народа и для народа. В искусстве античной цивилизации, как прежде — в фольклоре, личность творца всё еще была отчасти растворена в коллективном самосознании народа. Нечто похожее мы видим в сочинениях античных историков: нет представлений о «научной собственности», нет авторского права, нет понятия о плагиате; можно обильно цитировать и просто списывать без указания источника, без ссылок. Это норма, общая для музыки и науки. По меткому замечанию знаменитого дирижера Леопольда Стоковского, «гомофония (‘слитное звучание’. — Л. К.) коллективна, а полифония — индивидуалистична» (Стоковский 1959: 105). Античный мир не знал индивидуализма — и полифонии.
В пяти книгах «Об учреждении музыки» ок. 500 г. н. э. Боэций, канцлер короля остроготов Теодориха, суммировал античную (греко-римскую) ученость о музыке как образец и источник для средневекового музицирования, хотя музыкальные инструменты средневековая Европа заимствовала не у греков и римлян, а из Азии — через Византию (Sachs 1975: 280). Боэций описал и специальный инструмент, удобный для математического определения звуковых интервалов — монохорд (букв. ‘однострун’). Это было нечто типа камертона.
Кифаредом называют этого героя керамической росписи на античной амфоре ок. 490 г. до н. э. (из Нью-Йоркского музея искусств), поскольку он аккомпанирует себе на семиструнной кифаре (Герцман 1982), но перед нами явно певец (аэд, т. е. сочинитель и исполнитель своих песен, или рапсод, т. е. только исполнитель)
Одноголосым было и пение христианских монахов раннего средневековья, реформированное папой римским Григорием I Великим (кон. VI в.). Извлеченные из греческих и латинских сочинений тетрахорды (ионийский, фригийский и прочие) со своими удвоениями стали называться «ладами» и обеспечили разнообразие церковных песнопений. Гамму в дорийском ладе можно сыграть на рояле, если нажимать только белые клавиши от ми до ми, во фригийском — от ре до ре. Папа Григорий Великий знал 8 ладов, позже (к XVI веку, в трактате Глареана) церковных ладов насчитывалось 12. Григорианские хоралы исполнялись хором — теперь уже коллективом певцов. Но тексты, заимствованные из Библии, были прозаическими, и певцы пели их в унисон без сопровождения (a capella). Так же звучал «знаменный распев» средневековой Руси (певшийся по «знаменам» — нотным знакам). И сейчас еще похоже звучат молитвы в католических храмах, произносимые хором нараспев. Только григорианские хоралы звучали более напевно.
Папа Григорий Великий знал 8 музыкальных ладов, и по нему названы григорианские хоралы, исполнявшиеся в унисон
Биограф Григория Великого дьякон Иоанн рассказывает, как трудно было обучить этому пению северян — жителей Руана, Меца, Сен-Галена. Невозделанные, грубые глотки этих варваров, осипшие от пьянства, рокочут, скрипят, как телеги, и неспособны следовать нежным изгибам мелодии, так чисто выводимой итальянцами (у тех уже тогда был, выходит, прообраз bel canto). На севере же (то есть во Франции) вместо того, чтобы смягчать души слушателей, пение, хриплое и нестройное, наполняло их ужасом. Желательная чистота пения подразумевала строгую, полную, абсолютную согласованность. Все голоса вместе должны были звучать слитно, как один мощный, сладкий и нежный голос, поющий хвалу Господу.
Петь хвалу Богу нужно было точно так, как молиться и мыслить, — сообща, одинаково и по предустановленным образцам. Для правильного моления надо было собраться в храме и молиться под контролем. Молиться одинаковыми формулами, петь одно и то же. В музыке сказывались общий стиль жизни, нормативы социальной психологии эпохи.
4. Экскурс в современность
Да что раннее средневековье — еще в первой половине XVI века монах-минорит Мерсенн, физик и математик, друг Декарта, писал в своем трактате «Универсальная гармония», что
«унисон более нежен и приятен, чем октава», а поскольку он «представляет собой добродетель и все сокровища божества, можно сказать, что вся музыка является почти что нечем иным, как унисоном, так же как все добродетели являются нечем иным, как любовью, а, следовательно, любовь и унисон схожи» (цит. по Шевалье 1932: 22).
Но в основном единоголосого звучания добивались как идеала более тысячи лет назад. Это огромный пласт времени. Идеалы сменялись неоднократно, звучания тоже, и мы ушли неимоверно далеко от такого использования семиструнной «китары» и человеческих голосов. Но значит ли это, что монодия канула в Лету, что ее вовсе нет в нашей жизни? Воздержимся от такой гордыни. Наша современная музыкальная культура очень многослойна, музыкальный язык полифункционален и поливариантен, и сохранилось немало мест для монодии.
Дети поют всегда в унисон. Скульптура «Поющие дети» в парке Калининграда (фото Нат. Антоновой, ada-ardis)
Прислушаемся к пению детей. Если их не обучать специально, то поют они сугубо одноголосо — в унисон. Что ж, известна идея повторения филогенеза онтогенезом (видового развития — индивидуальным), и всё объяснимо. Дети же еще просто не доросли до более сложной музыки. Да кстати, и до более сложной психологии: дети не терпят разногласий и противоречий.
А не случалось ли вам слышать хор пьяных? Вероятно, кое-где иногда в отдельных случаях еще можно встретить такой нетипичный музыкальный феномен наших дней. Так вот обратите внимание: пьяные поют всегда в унисон. По крайней мере, они стремятся к этому, и им кажется, что они этого достигают. Правда, не всегда достигают стройности и совсем не заботятся о нежности звучания (интересно, что сказал бы дьякон Иоанн, прослушав северный хорал на идиллическую тему «Шумел камыш, деревья гнулись»). Кстати, пьяные тоже не очень склонны терпеть противоречия и разногласия. Здесь тоже налицо возвращение к ранним стадиям социальной психологии (в основном даже более ранним, чем средневековье — всё зависит от дозы: есть дозы, возвращающие прямиком к стадии питекантропов).
Пьяный обычно плохо слышит и неверно воспринимает свой собственный голос, так что не может удержаться на одном чистом тоне и всё время съезжает на какие-то доли тона, а то и на целые тона, заменяя точность исполнения громкостью. И, конечно, разнообразия ладов в пьяном хоре нет. И вообще посторонняя публика склонна считать, что в них нет «ни склада, ни лада». Но сами пьяные уверены, что поют очень стройно и красиво — в унисон.
Но было бы ошибкой связывать возвраты единоголосия со стадиальными пережитками и вольно или невольно придавать этим возвратам негативное значение. В нашей современной жизни есть ситуации, когда единодушие, единый порыв большой массы людей требует адекватного музыкального выражения, и тогда голоса людей, даже весьма изощренных в музыке, звучат в унисон, и это никому не кажется недостаточно совершенным. Так в праздник звучат на улицах массовые песни. Так большей частью поются под гитару студенческие и туристские песни на вечеринках и в турпоходах. Так на торжественных собраниях поются гимны. И право же, такое сугубо непрофессиональное исполнение подчас трогает гораздо больше, чем самая искусная полифония на многотысячном «празднике песни».
5. Органум — сверстник органа
Возможно, в народном пении разных народов были ранние опыты многоголосия (в частности, источники сообщают об очень древнем многоголосии у грузин). Но в единственную тогда форму серьезной музыки — церковную музыку — они не проникали. В ней первые попытки многоголосия появились в VIII–IX веках. Но даже в X веке, когда одноголосие уже сдавало свои позиции, святые отцы считали аккорды явлением греховным: «богу в большей степени угодно единогласие народа христианского» (цит. по: Анфилов 1964: 26—27). Между тем, доступных тонов стало больше. На рубеже X—XI веков Гвидо из Ареццо расширил диапазон звучания, точнее зафиксировал расширение — вместо тетрахорда был введен гексахорд (с греч. ‘шестиструн’), состоящий из шести ступеней (тон, тон, полтона, еще три по тону). Он же и предложил их названия ut, re, mi, fa, sol, la по первым слогам строк латинского гимна Св. Иоанну, считавшемуся покровителем певцов (в этой молитве мальчики-хористы просили святого предохранить их от хрипоты). Вот начало этого гимна: Ut queant laxis resonate fibris mira questorum famuli tuorum, solve polluti labili reatum, Sancte Ioannes!. Другой голландец, Ансельм Фландрский, добавил седьмую ступень (еще полтона), названную si (по инициалам того же святого), а позже (в XVII в.) голландский кантор Гибелиус ради лучшей напевности заменил название ut на do (вероятно, от domine — ‘господи’). Получилась современная гамма до-ре-ми-фа-соль-ля-си. Диапазон пения заметно расширился.
На миниатюре XII в. у монохорда бенедиктинский монах Гвидо из Ареццо объясняет интервалы епископу Теобальду. Гвидо ввел также нотный стан и названия ступеней гаммы — ут (позже до), ре, ми, фа, соль…
Первые попытки церковных музыкантов перейти от пения в унисон к многоголосому пению, разделить хор на голоса, расписать музыку на партии привели к гармонической системе, которая получила название «органум» по клавишному инструменту «орган» (от лат. organum, а то — от греческого οργανος — ‘инструмент’, ‘орудие’). Эта система родилась позже «органа» — клавишного инструмента, способного издавать одновременно несколько звуков любой длительности. Англичанин Иоанн Коттоний на рубеже XI—XII веков пишет: «Такой способ пения (диафония) называется обычно органумом, потому что человеческий голос, умело диссонируя с другим голосом, походит на инструмент, называемый органом» (цит. по Шевалье 1932: 3). Вот удобная основа для полифонии, для развития гармонии.
Этот новый инструмент существовал в нескольких разновидностях. Одной из них была лира с несколькими струнами и вертящимся колесом вместо смычка. Длиной звучащей части струн управляли через клавиши. Этот инструмент, габаритами более полуметра, назывался органиструм. Еще в X веке им пользовались, но инструмент был неудобен (требовались два музыканта: один крутит колесо, другой нажимает на клавиши). Это привело к тому, что колесная лира была вытеснена из монастырей и университетов. Ее заменил духовой орган, изобретенный еще в III веке до н. э. в эллинистической Александрии. Воздух нагнетался гидравликой, но впоследствии был изобретен орган с мехами, который через Византию распространился по Европе. В VIII–IX веках короли Европы обзаводились этим инструментом, вскоре он звучал уже во всех крупных костёлах — и звучит до сих пор. Это огромный инструмент с системой мехов. Ножными педалями нагнетается воздух в меха, они поддувают воздух в многочисленные трубы, настроенные постоянно каждая на один звук, а клавиатура управляет выбором труб. Поскольку каждый звук издается только одной трубой, то чтобы обеспечить пробежку по разным звукам в одном тембре, похожие трубы собраны в один регистр, и есть еще клавиши переключения регистра.
Колесная лира или органиструм — зародыш органа. Играть на ней нужно было вдвоем — как на рельефе XII в. в портике собора Сантьяго, Испания
В XII веке Эльред, аббат из Риво, сторонник прежнего сладкоголосого и нежного музицирования, возмущался этим громогласным звучанием: «Зачем столько колоколов и органов в храме? Чему должен служить, я спрашиваю, этот страшный рык мехов, напоминающий скорее рокот бури с громами, чем сладость голоса?» (Sachs 1975: 310).
Вот проблеск последующих фисгармоний и дальний предок нынешних гармошек. И, конечно, всего семейства электроорганов. Итак, вместе с широким использованием органа появился органум.
Эта ранняя система полифонии знала лишь простейшие приемы согласования партий. Она применяла два таких приема: а) диафонию (с греч. ‘разнозвучие’) или organum parallelum — вела две мелодии параллельными квартами или квинтами (как у древних греков), и б) «органный пункт» — долго выдерживала один басовый тон независимо от ходов мелодии над ним — как некогда вторая дудка в двойном авлосе. Маленький бедный родственник органов — волынка — иначе играть и не может, как с «органным пунктом»: басовая труба волынки — бурдон — может тянуть только одну и ту же низкую ноту. Орган, конечно, богаче.
Волынка — бедный родственник органов. В волынках на рисунке (из Франции и Италии) видны меха, вдувник (для нагнетания воздуха) и дудки для звучания — большая (бурдон) для монотонной основы и две помельче (чантерные) для мелодии
Эта система (иногда всю ее называют диафонией) сложилась в VIII–IX веках и удержалась до XI века. Это период образования феодальных государств в Европе — от Карла Великого до Первого Крестового похода. В церковном хоровом пении всё еще идеалом был аскетический стиль всеобщего единства. В трактате из Сен-Галена (X—XI вв.) сказано: «петь необходимо ровным голосом, стихотворные ряды не следует прерывать передышкой, никто не должен петь резче или ниже, приглушенней или глубже, медленнее или быстрее другого» (Денеш 1977: 212). Этот стиль получил название musica plana (‘ровная музыка’) или cantus planus (‘ровное пение’).
Ангелы за органом. Фрагмент росписи Гентского алтаря кисти братьев Ван-Эйк, Нидерланды, XV в.
Однако создателям этой системы наскучили полное единообразие и простота прежней музыки. Мир, в котором они жили, стал сложнее. Давно исчезли представления о равенстве перед Богом. Это первых римских пап хоронили в бедных саванах, так что археологи не могут отличить их от рядовых единоверцев. Теперь папа представал и перед Богом в своих роскошных одеяниях. Папа и простой монах, рыцарь и крестьянин — какая же ровня! Людям этого мира в массе не были свойственны идеалы всеобщего равенства, братства и свободы. До этого им было далеко. Они считали долгом повиноваться своим земным властителям — наследственным или выборным, соблюдали законы государств и обычаи. При всей индивидуальности запросов и интересов, люди в своем поведении старательно следовали предписаниям религии, нормам установившейся морали и неким идеализированным образцам — литературным и жизненным. В одежде, поступках, творчестве завзято подражали известным героям; состоятельные тянулись за магнатами, провинция — за столичными центрами, художники имитировали славных мэтров.
Для средневекового человека все в мире было упорядочено и место каждого отдельного человека предписано раз и навсегда. В сословном обществе каждому человеку самим его рождением было предустановлено находиться на определенной ступеньке некой социальной лестницы, подчиняться вышестоящим и повелевать нижестоящими. Точно так средневековый человек представлял себе и устройство всего мира — в виде некой Великой цепи бытия, шкалы существ, на которой человек занимал определенное место — выше остальных животных, растений и минералов, но ниже ангелов и Бога. Иерархия была и среди самих высших духов: под Богом располагались серафимы, затем херувимы, а еще ниже архангелы и, наконец, ангелы. Соответственно были размещены животные, растения и минералы. Об этом писали Св. Хильдегард из Бингена в XII в., Фома Аквинский в XIII в., да и более поздние авторы.
Эту модель мира средневековые люди невольно переносили и в свою музыку. Это было время сложения главных европейских государств, возникновения городов, и интересы церкви приходилось сочетать с устремлениями этих новых крупных сил. Церковные музыканты жили в мире, в котором звучали разные голоса. Но, в сущности, этим людям еще были недоступны представления о возможности согласовать разные идеи, разные мелодии. Либо один голос надо было подавить, лишить свободы и свести к смиренному постоянству («органный пункт»), либо оба нужно было заставить двигаться хоть и по разным руслам, но одинаково, параллельно.
Музыка отражала общий психологический климат эпохи — развитие новых социальных сил при сохранении феодальной иерархии и догматического церковного единомыслия.
Впрочем, в раннем средневековье постепенно возникали различия в толковании Библии, и церковь еще не очень этого опасалась (война с ересями началась позже). Средневековье Европы VIII—XI веков было сравнительно толерантным: иноверцы благополучно жили среди коренного населения (не только уклонисты от канонической веры, но также иудеи), в монастырях смотрели сквозь пальцы на чревоугодие и даже на любовь к юношам. Не было ни инквизиции, ни растянутых казней, ни охоты за ведьмами — это всё явилось позже.
В странах с прежним населением античного мира — греками и римлянами (не столько в Италии, где население в значительной части сменилось, сколько в Византии) библейские нормы должны были бороться против живой и мощной классической традиции высокоразвитого рабовладельческого общества с богатой культурой, против античной языческой религии с ее многобожием и гомосексуальностью богов. Тут победившее христианство было воинствующим и особенно свирепым, и церковь пользовалась помощью светской власти в своей борьбе за утверждение новой морали. Иначе обстояло дело в бывших варварских странах Европы, перешедших к феодализму непосредственно от первобытности — Франции, Англии и других. Христианская религия здесь, конечно, тоже конкурировала со старыми религиями, но за ней здесь стояли более высокая цивилизация и более гуманные нормы — отказ от кровавых жертвоприношений, неодобрение рабства. Она могла себе позволить более терпимое отношение к несоблюдению сексуальных норм, к пережиткам древних обычаев в быту, даже к разным толкованиям Библии.
Словно отражением в музыке этого допущения разных толкований Библии явилось развитие особой техники «имитации» — с различным движением голосов. Имитация возникала постепенно и поначалу спорадически. Однако примечательно само название этой техники — имитация означает копирование, подражание. К тому же и мелодии в разошедшихся голосах не были абсолютно независимы друг от друга. Характерны тогдашние названия для голосов: ведущий — dux (‘вождь’, ‘герцог’, ‘дюк’), подражающий — comes (‘спутник’, ‘участник свиты’). Композиторам даже не приходило в голову, что сочетать благозвучно можно и совершенно разнородные мелодии. Всё же одна мелодия оставалась главной, а остальные не брались из вольного фантазирования, а формировались «под нее», вырабатывались путем имитации мелодии основного голоса. Например, дополнительные голоса повторяли мотив главного, но вступали с задержками, отступя на шаг, друг за другом. Такой способ называется «канон» (от лат. canon — ‘предписание’, ‘образец’, ‘стандарт’), поскольку мотив основного голоса использовался в качестве «предписания» остальным. Затем при имитации стали производить преобразования: растягивали тему или сжимали, опрокидывали, переворачивали концом к началу и т. п.
К концу периода органума, к середине XI века, Коттоний сформулировал важное правило пения, легшее в основу системы дисканта («расходящегося пения»). Это правило гласит: когда мелодия поднимается, сопровождающий голос должен опускаться и наоборот. Английский автор середины IX века Иоанн Скотт (Шотландец) Эригена восхищался:
«Органум состоит из голосов различного рода и высоты, которые иногда расходятся на далекое расстояние и слышатся как бы раздельно, иногда же сходятся вместе; осуществляясь по определенным и разумным правилам музыкального искусства в соответствии с отдельными ладами, органум производит некоторую естественную прелесть» (цит. по Шевалье 1932: 2).
Принцип противоположного движения голосов Шевалье называет «душой полифонического письма», полагая, что «Установить этот закон — значило заложить фундамент звуковых строений Палестрины и Баха» (Шевалье 1932: 4). Дальше этого многоголосие системы органум не пошло.
6. Второй экскурс в современность: тяжелый рок
Странно, что некоторые принципы этой системы проскальзывают в самом современном из стилей популярной музыки — в «тяжелом роке» («хард-рок»). Опять подолгу гудит на одной ноте мрачный бас — теперь он ужесточен «фазз-боксом» и доведен до болевого порога усилителями. Опять скрежещут — но уже в бешеном темпе — параллельные кварты (например, в «Люси блюз» у группы «Юрайя Хип»). На гитарах вошли в обиход специальные квинтаккорды (или «power-chords» — ‘сильные аккорды’), которые, в сущности, не аккорды, а двузвучия. Будто снова делают и слушают музыку люди, сознающие, сколь мир различен, но не умеющие согласовывать разные мнения и подходы. Люди, склонные к односторонности и фанатизму, отрицающие равенство и отвергающие равноценность человеческих жизней. Люди, знающие только один путь к единению — насилие.
Группа «Юрайя Хип», одна из лидировавших в хард-роке
Группа «Кисс», игравшая три последних десятилетия XX века в жанре «шок» (разновидность хард-рока), обильно пользовалась макияжем и пиротехническими эффектами
Но ведь так оно и есть! «Тяжелый рок» возник в годы наибольшего размаха молодежных бунтов в Западной Европе и США (1967—1968). Он особенно популярен в той молодежной среде, в которой задает тон «хип» — не безобидный «хиппи» с цветочком, а тот агрессивный и истеричный «хипстер», каким он описан у Нормана Мейлера (Mailer 1957). Это крайний индивидуалист, противопоставляющий породившему его обществу тотальной атомной угрозы не личность вообще, а свою и только свою личность — как отрицание всех других. Это «хип», равно подверженный левому и правому экстремизму, готовый на робингудовские эскапады и уголовные зверства (так называемые «безмотивные преступления» с особой жестокостью), на крайний авангард в искусстве и политический терроризм.
А так как элементы нетерпимости, максимализма, агрессивного самоутверждения вообще свойственны молодежи (а современной, «акселератной» — особенно), то эта музыка находит отклик в более широкой молодежной среде, даже весьма далекой и от «хиппи» и от породившей его «западной» цивилизации. Когда эта молодежь повзрослеет, она избавится от максимализма и нетерпимости, но ей, скорее всего, по-прежнему будут нравиться «органный пункт» и прочие резкости «тяжелого рока» — как музыкальный язык, в который она будет вкладывать, вероятно, уже иное содержание. Ведь и сейчас, когда старик и юноша слушают одну и ту же музыку, они испытывают не одни и те же чувства. Вот и нынешний юноша, став стариком, вероятно, будет испытывать иные чувства, вслушиваясь в «сообщение» на том музыкальном языке, который ему близок с юных лет. Это время приближается быстро: «тяжелый рок» уже теряет популярность и бунтарский смысл.
7. Трубадуры, Ars Antiqua и гимель
Следующая гармоническая система складывается в XII—XIII веках. Это время Крестовых походов и трубадуров.
За несколько веков до того рыцари были низшим слоем аристократии, они несли конную военную службу своему сеньору, не обязательно королю — также и князю, графу или барону. В XI—XII веках сформировались особая мораль, кодекс поведения и ритуалы рыцарства, с чем оно и превратилось в особое военно-аристократическое сословие. Тогда же стали возникать и рыцарские ордена — тамплиеров или храмовников, лазаритов, госпитальеров (позже Мальтийский), меченосцев, Тевтонский, и др. — военная разновидность монашеских орденов. Там вдобавок к общим отличиям рыцарства был обет безбрачия и нестяжания. Смелость, щедрость и почтительность к женщине входили в идеальные качества рыцаря. Лидирующей в формировании рыцарства была Франция.
Франция была вся покрыта россыпью рыцарских замков — один от другого на расстоянии десятка километров. Хозяева замков непрерывно воевали то за своего сюзерена с другими, то за своего короля, то против него, то просто со своими соседями за то или иное угодье или по поводу личного оскорбления. При этом в отместку громили и уничтожали его крепостных. Кроме того, хозяева замков часто грабили и просто окрестных крестьян, обычно не своих, грабили проезжих купцов и даже знатных путников. Уводили скот, уносили ценности из церквей. Еще хуже, когда проходило вражеское войско рыцарей. Разные источники описывают одну и ту же картину: у населения всё отбирается, женщин насилуют, скот угоняют, поджигают дома, все уцелевшие разбегаются.
В феодальном обществе земельные владения доставались только старшему сыну феодала — так было установлено, чтобы не дробить владения. Только старшие сыновья феодалов женились и получали в приданое земли и замки. Остальные сыновья шли на церковные посты или составляли военное рыцарство. Эти холостяки оставались навечно «юношами». Для потаенного удовлетворения физиологических потребностей находились женщины из низов, но для любви, соответствующей рыцарскому достоинству, оставались замужние дамы из своего сословия. Некоторые поэты и певцы отказались от святости брака (освященного церковью!) и смело воспевали адюльтер, грешную внебрачную любовь, свободную от всех экономических и политических помыслов и знающую только красоту, очарование и наслаждение. Они следовали в этом Гильому IX, герцогу Аквитанскому, трубадуру начала XII века.
Трубадуры — это рыцари-песенники (поэты и часто музыканты). Рыцаря всегда сопровождал оруженосец. Трубадура (на севере Франции его называли трувером) сопровождал жонглёр или менестрель — служитель, который пел песни своего господина или сопровождал его пение игрой на вьеле или арфе. «Трубадур» в переводе с провансальского диалекта — ‘изобретатель’ (то есть автор), «менестрель» — на старофранцузском — ‘служитель’. Песни их — это любовные канцоны, альбы (рассветные песни), баллады (танцевальные), пастореллы (о соблазняемой пастушке) и др. У немцев такое песенное искусство о любви называлось миннезанг, а рыцари-певцы — миннезингерами. Своими песнями славились король Ричард Львиное Сердце и миннезингеры Вальтер фон дер Фогельвейде и Генрих Фрауэнлоб (Генрих Похвала Женщинам). Эта музыка была очень близка к фольклору и отличалась от аскетических церковных песнопений живостью и четким ритмом. Вместо церковных ладов здесь уже практиковался мажор, еще никак не сформулированный в виде правил. Но так как это была музыка верхнего класса, она неизбежно влияла на церковную музыку.
Генрих Фрауэнлоб из Мейсена (XIII век) на состязании миннезингеров играет на фиделе (виоле) в присутствии одного из германских государей. Прижизненная миниатюра. На щите — изображение Богоматери
В университетах также занимались музыкой, магистры и студенты пели хором, играли на инструментах. В городах сложилась прослойка бродячих музыкантов — вагантов и голиардов, часто из недоучившихся студентов и монахов-расстриг, которые были грамотеями, владели латынью и слагали на ней песни о любви и вольной жизни. Многие поступали в штат знати или становились войсковыми или городскими трубачами, барабанщиками и флейтистами. Несмотря на неуважаемость и официальное отторжение эта прослойка также была близка церковной среде.
В церковной литургии появился жанр троп. Тропы — это диалогические вставки в хоралы. В этих вставках разыгрывались евангельские сюжеты. Из них развились сценки с попеременным пением солистов и хора или двух хоров. Такие литургические драмы (зародыш оперы) сначала разыгрывались самими священниками, потом стали включать мирян и даже жонглёров. Как пишет Штейнпресс (1963: 96), «бытовые и комические эпизоды способствовали внедрению в литургическую драму песенных попевок, омузыкаленной бытовой речи, музыкальных инструментов». Папской буллой 1210 года спектакли в церквях были запрещены. Что ж, они были перенесены на паперть.
Уже начиная с XII века в церковном пении стали складываться новые принципы. Построенный во второй половине XII — первой половине XIII века Собор Парижской Богоматери стал центром развития полифонии. В XII веке регент собора Леонин сочинял двухголосые «органумы», в которых сочетаемые мелодии различались по ритму — медленные и быстро движущиеся. Его преемник Перотин Великий в XIII веке сочинял трех- и четырехголосые композиции. Но до XIII века цепко держались пережитки одноголосия: в нотах выписывался только ведущий голос (cantus firmus — ‘твердый голос’). Позже эту музыку назвали Ars Antiqua — «Старое Искусство».
В «Старом Искусстве» терция стала считаться сравнительно благозвучным интервалом. В IX—X веках «дитонус» (т. е. «два тона» — так тогда называли большую терцию) не числился среди консонансов. Около 1100 г. он уже считается «несовершенным консонансом» (Gut 1976).
Есть два варианта терции — большая (интервал в два тона) и малая (на полтона поуже). «Чижик-пыжик…» — это большая терция. «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный…» (из арии Фигаро Моцарта) — это малая терция. Большая терция (отношение колебаний — 5 : 4) глаже, малая (с отношением 6 : 5) — шероховатее, но обе прижились в консонансах (так сказать, в добропорядочных созвучиях). То ли века упражнений сделали человеческое ухо более изощренным и способным улавливать родство звуков с меньшей кратностью колебаний, то ли — что вернее — созвучия, построенные сплошь на квартах, квинтах и октавах, стали казаться слишком гладкими, пресными, однородными. От созвучий теперь ожидали стройного, согласного сочетания голосов, в котором бы, однако, голоса всё же не слишком бы сливались, а были хорошо различимы — пусть даже ценой некоторой шероховатости и резкости созвучия. Именно этим обе терции отличаются от кварты и квинты. Возможно, терция звучала интимнее, чем более широкие интервалы — кварты и квинты, более приспособленной к передаче любовной страсти, а уж из песен трубадуров и менестрелей соскользнула в церковное пение.
Распространилось пение параллельными терциями — гимель (от лат. cantus gimellus — «двойчатое пение», «пение голосами-близнецами»). Движение параллельными октавами, квартами и квинтами отныне отвергнуто, разрешается движение параллельными терциями. Это правило удержалось надолго в последующие эпохи. В 1690 г. Делер твердил: «Две квинты или две октавы подряд в одном и том же направлении запрещаются. Если меня спросят причину, по которой две квинты или две октавы подряд запрещены, …я отвечу, что красота музыки заключается в напевности, разнообразии, каковых отнюдь не имеется в повторении подряд означенных аккордов…». Еще через полтора века, в 1839 г., профессор Парижской консерватории Коле пояснял: «Следует хорошо запомнить, что чистая квинта — интервал нейтральный и бесцветный, что она не выразительна и что нужно ею пользоваться лишь для пополнения аккорда» (цит. по Шевалье 1932: 30, 101).
В церковной музыке широко применяли наиболее сложное достижение предшествующей системы полифонии — «канон». Однако голоса в нем становились всё более отличными друг от друга. Один голос как бы охотился за другим, догоняя его. Поэтому наиболее устойчивая форма такой музыки получила название «охоты» или «погони» — по-итальянски «каччья» (caccia), а позже по-латыни «фуга» (fuga — ‘полет’, ‘быстрый бег’). Эта форма музыки стала инструментальной и перешла из церковной в светскую.
Параллельное мелодическое движение стали всё чаще заменять противоположным. Если голос, ведущий главную мелодию, движется вверх, то сопровождающий должен двигаться вниз, если тот — вниз, этот — вверх. Отменена была и ритмическая параллельность: одной ноте основной мелодии могли уже соответствовать две ноты в сопровождающей. Эта система, возникшая еще в предшествующий период, была названа «дискантом» (от лат. discantus — ‘расчлененное’, ‘расходящееся пение’). Обычно сопровождающий голос двигался выше основного — на манер подголоска. Поэтому слово «дискант» и осталось в языке в качестве обозначения высокого, тонкого мужского или детского голоса. В церковном пении такое звучание считалось предпочтительным («ангельские» голоса). Нижний голос именовался «тенор» (по лат. ‘держащий’).
Это было очень напряженное время — эпоха Крестовых походов. К ним привело стечение ряда факторов.
В Европе сильно возросло население, усилилось могущество знати и развилась ее потребность в импортных предметах роскоши, укрепился авторитет папской власти. Одновременно на юго-западных и юго-восточных рубежах Европы появилась сильная угроза в лице воинственных мусульманских государств, на юго-западе (в Испании) — арабских, а на юго-востоке — еще и тюркских (там сельджуки сильно потеснили и урезали Византию). По призыву папы Римского собрались войска многих европейских государств и в самом конце XI века (1095 г.) отправились через Константинополь (Византия) на Ближний Восток в поход, названный Крестовым — отвоевывать Гроб Господень в Иерусалиме. Они отвоевали у мусульман Восточное побережье Средиземного моря и основали там ряд государств крестоносцев. Это был Первый крестовый поход. Борьба за территории продолжалась более двух веков, и пришлось организовывать еще три больших похода в течение следующего века и еще несколько, менее массовых, в течение тринадцатого. Последние походы утратили размах и сместили цель: вместо гроба Господня — просто против мусульман и даже против Византии.
Результатом Крестовых походов было усиление итальянских торгово-ремесленных городов и значительное расширение знаний европейцев о Востоке. Близкое знакомство с богатой культурой восточных народов и арабской музыкой расширило диапазон европейского музицирования. А контакты с мусульманской религией и конечная победа мусульман и вытеснение крестоносцев из Палестины несколько расшатали представление европейцев о безусловном превосходстве их собственной культуры и религии над всеми другими.
Некоторые мрачные явления, которые нам привычно считать средневековыми, только в этот период и расцвели. Прежде всего — гонения на еретиков. Еще в конце XII века Крестовые походы стали предприниматься против областей в самой Европе, охваченных ересями, — например, против альбигойцев (катаров) во Франции (альбигойские войны шли и всю первую четверть XIII века). В 1233 г. папа Григорий IX создал инквизицию, поручив ее монашескому ордену доминиканцев. Во Франции в XIII в. имущество целой категории богатеев-чужаков (банкиров-итальянцев из Ломбардии, по которым назван ломбард) было конфисковано, а сами они изгнаны из страны. По всей Европе начались преследования евреев. До XIII в. их торговле покровительствовали папы и короли. В 1215 г. IV Латеранский собор постановил, чтобы все евреи носили опознавательный знак на улицах. В XIII в. они были поголовно изгнаны из Англии, в XIV в. из Германии и Франции (а их имущество захвачено в королевскую казну), в XV в. из Испании и Португалии. До XII века власти относились весьма терпимо к содомитам. В XIII веке во всех странах Европы ввели смертную казнь за содомский грех. Прокаженных стали заключать в строго изолированные лагеря — лепрозории.
Таким образом, разгорелось преследование всех отклоняющихся от принятого канона поведения и облика, всех иноверцев, всех сектантов, всех инакомыслящих. Началась всесторонняя консолидация, конформизм становился обязательным. Человек должен был слиться со своим сословием, своей корпорацией, раствориться в ней.
Это рассматривается как ранняя реакция католической церкви на опасные для нее тенденции Возрождения. Однако такая реакция была бы очень уж упреждающей — Возрождение только-только начиналось. Для объяснения нужны другие факторы.
Видимым толчком были Крестовые походы. Для их ведения церковь нуждалась в духовном единстве, в монолитности всех христианских стран. А сами походы поставили христиан перед реальным и сильным врагом — перед иноверцами, мусульманами, и нужно было сделать образ врага устрашающим и отвратительным. Ему приписывались те пороки, которые издавна рисовались религией как грехи — теперь они скопились в образе врага и стали не просто адской угрозой. Они стали государственной изменой.
Но были и глубинные причины. Рост буржуазии и ее осознание своих интересов усилили критику феодальных особенностей католической церкви — ее землевладения, ее колоссальных богатств, роскоши ее служб и быта, ее иерархии, ее слитности с феодальной верхушкой. Реформация церкви еще не началась, но ее тенденции подспудно вызревали. Эти ереси стали чрезвычайно опасными для церкви, и она стремилась к сплочению и единообразию. Она готова была искоренить всякое свободомыслие, сурово подавить всякое отклонение от вероучения, его догм и его морали. Контрреформация также собирала свои силы задолго до эпохи Реформации. Сейчас мы наблюдаем мусульманский фундаментализм, а то, что было тогда, это был христианский фундаментализм.
Растущая буржуазия была питательной средой для антицерковных выступлений, но в одном она была едина с католической церковью — она тоже тянулась к единообразию и консолидации. Во-первых, ремесленники рекрутировались из крестьян, они и в городских общинах сохраняли некоторые свойства крестьянских общин — их страсть к единообразию, к строгому равенству наделов и возможностей. У средневековых цехов существовали специальные контролеры, которые ходили по рынкам и мастерским и уничтожали все изделия, которые были хуже или лучше принятой нормы. Во-вторых, буржуазии очень мешали те же феодальные магнаты, которые сопротивлялись королевской власти и обусловливали раздробленность страны. Буржуазия была за укрепление королевской власти, за консолидацию. Чужаки в народной среде были не только ненавистны ей как конкуренты (например, ломбардцы и евреи), они еще и нарушали милое ей чувство всенародного единства в нации, вере и морали.
Поскольку жизнь была трудна, полна жестокости и суеверий, монотонна и беспросветна, идеология, которая указывала виновных во всем (находила козла отпущения), была чрезвычайно заразительна. Это грешники и отщепенцы навлекали божий гнев и всенародные бедствия!
(Парадоксом истории является то, что эта вспышка сугубо средневекового мракобесия, этот взлет истинно средневековых процессов произошли как раз на исходе средневековья, они охватили всю эпоху Возрождения и продолжались в эпоху Реформации.)
Вот эта обстановка, психология этой противоречивой среды и привели к Ars Antiqua — «Старому искусству» в музыке. Разные голоса стали слышны в этом мире — трубадура и его менестреля, магистров и вагантов, ангелов и чертей (в драматической литургии), рыцарей и горожан, городской знати и черни. Терции лучше отвечали этому различению голосов, чем кварты и квинты, не говоря уже об октавах (унисонного пения). Однако нормы обязательного и всеобщего конформизма требовали, чтобы голоса ходили одинаково, параллельно — отсюда популярность гимеля, двойчатого пения.
И всё же понимание разности судеб (одним вниз, другим вверх), противоречий в логике («Да и нет» Абеляра), полярности в самой христианской религии (божье и дьявольское) побуждали всё больше прибегать к расхождению голосов — дисканту. Сходящиеся и расходящиеся голоса — это как бы антифонные хоры из тропов и литургических драм, перенесённые из реального пространства в звуковое. Разошедшиеся в хорале голоса можно было уподобить рукам, распахнутым для христианского (или плотского) объятия. Но можно было усмотреть в этом и намёк на движение к разномыслию.
А в начале XIII века Франко из Кёльна признает и употребление диссонансов в музыке, только за каждым диссонансом должен непосредственно следовать консонанс — диссонанс должен, так сказать, разрешаться в консонанс. Он тяготеет к консонансу. Это как вопрос и ответ, сомнение и утверждение.
8. Третий экскурс в современность
От этой эпохи в обыденном мирском пении и игре осталось стремление вести мелодию параллельными терциями — гимелем. Если на дружеской посиделке вы запели (хотя бы «Катюшу» или «Сулико»), а кто-то пристроился «вторить» и этот кто-то достаточно искушен, чтобы повести второй голос, он вряд ли сможет нащупать партию баса, а непременно будет подпевать вам, отступя на терцию вниз. А подголосок в импровизированных случайных хорах всегда забирается вверх — дискантом. Трудно сказать, в чем тут причина — в далеком ли влиянии старых церковных песнопений, или, наоборот, народные вкусы сказались в церковных песнопениях того времени, народная склонность к терции.
А в чем психологическая основа этого подспудного сходства столь разнесенных во времени эпох? Крестовые походы — и современность! Но неистовому противостоянию Крестовых походов подстать ожесточенность и смертоубийственная ярость нынешних мировых войн, революций и противостояния конфессий. Вахабистские призывы к джихаду мало отличаются от истовых устремлений тогдашних христиан освободить Гроб Господень. В довершение сходства Иерусалим так же остается ядром раздоров, как и тогда.
Но сходство очень ограничено — как в социальной психологии, так и в музыке. Тогда диссонансы лишь начинали входить в музыкальный оборот, а сейчас они едва ли не господствуют в музыке.
9. Контрапункт: точка против точки
В XIV веке в музыке Раннего Возрождения на смену Ars Antiqua пришло Ars Nova. Но хотя уже победили новые формы музыки, папство всё еще воевало с трехголосыми песнопениями — мотетами, в которых латинские песнопения сдабривались французскими народными песнями. На Тридентском соборе (XVI век) предлагалось изгнать из церкви полифоническую музыку под тем предлогом, что при многоголосии не разобрать слова благочестивых текстов. Но предложение не прошло. Всё-таки на дворе был уже XVI век — век Реформации!
Ars Nova («Новое Искусство») охватывает всю эпоху Возрождения, включая Реформацию (она совпадает с поздним Возрождением).
К XIV веку развитие тенденций дисканта привело к искусству наслаивать одна на другую несколько мелодий так, чтобы они хорошо звучали совместно. Эта система называется контрапунктом (или в старой русской литературе — «контрапунктой»). Она характеризуется тем, что основная мелодия звучит одновременно с другими, сопровождающими, и они не наскучивают однообразием, но и не противоречат друг другу, а звучат согласованно, благозвучно.
В XIV веке Филипп Витрийский, развивая идею Франко о допустимости диссонансов, делает их применение обязательным. В своем трактате «Ars Nova» он формулирует правило: «Два совершенных консонанса не должны следовать один за другим; несколько несовершенных консонансов могут следовать один за другим в случае крайней необходимости» (цит. по Шевалье 1932: 6). Совершенные консонансы — это прима и октава, а близкие к совершенным — кварта и квинта, несовершенные — это терции. Диссонансы — это секунды, тритон (увеличенная кварта), септимы и в меньшей степени сексты.
Несколько позже терция — уже вполне благозвучна: Бартоломе Рамос де Парейра в своем трактате 1482 г. «Musica practica» причисляет к консонансам терции и сексты (секста — это ведь как бы терция вниз). Но предпочитается вообще не параллельное движение мелодий — вместе вверх и вместе вниз, — а в противоположных направлениях: навстречу друг другу или расходясь — как в дисканте. Мелодии стали более живыми, разнообразными. Поскольку основным благозвучным интервалом стала терция, то теоретики XVI века Фольяни и Царлино и настройку всего звукоряда на музыкальных инструментах стали производить не по Пифагоровой квинте, а по большой терции. Причем не по Пифагоровой терции (исходное соотношение там получалось 81 : 64), а по найденной непосредственно исходя из логики античных мыслителей (исходное соотношение длин или частот — 80 : 64, т. е. 5 : 4). Эта терция, как легко сообразить, звучала более чисто и благозвучно, что было заметно при игре на органе.
Созвучия здесь уже не двоичные (подобно греческим «симфониям»), а многозвучные. Но они еще не имеют целостных характеристик и собственных законов смены и последовательности. Созвучия оказываются лишь результатами совпадения по времени отдельных точек (нот) из разных мелодических линий — точка против точки (отсюда и название — от лат. contra punctum ‘против точки’). Вот в этих совпадениях в опорных местах должны образовываться консонансы, не диссонансы. В то же время нельзя нарушать логику развития мелодии в каждом голосе. В этом суть искусства контрапункта.
Американский дирижер и композитор Леонард Бернстайн (1978: 84), часто выступавший с лекциями о музыке, в одной из своих телевизионных программ говорил о том, что в нашей современной музыке мы привыкли слушать мелодии, которые поддерживаются, как подушкой, аккордами аккомпанемента. А в эпоху контрапункта люди привыкли слушать музыку по-другому. «Ухо было приспособлено к тому, чтобы скорее, чем аккорды, слышать линии, одновременно звучащие мелодические линии». Он называл эту музыку «горизонтальной».
Инструменты эпохи контрапункта еще не очень отличались по своей роли в оркестре: одна и та же мелодия передавалась от струнных к деревянным духовым, а от тех — к медным. Например, скрипка, флейта, гобой и труба могут, чередуясь, исполнять одну и ту же мелодию — устраивая как бы перекличку.
Ars Nova («Новое Искусство») — так называли музыку контрапункта во Франции и в Италии. И боролись за него. Движение параллельными квартами и квинтами не просто выпало из обихода — оно было запрещено теоретиками «нового искусства». Папа Иоанн XXII в XIV веке обнародовал буллу, в которой негодовал по поводу Ars Nova и обличал его:
«Некоторые последователи новой школы обращают всё внимание на соблюдение временных соотношений и исполнение новых нот, предпочитая выдумывать новое, а не петь старое. Церковные мелодии поются в нотах мелких длительностей и пересыпаются нотами еще более мелкими. Певцы …украшают песнопения дискантами, во втором и третьем голосах навязывают им простонародные напевы…, запутывают множеством своих нот скромные и умеренные движения григорианского хорала, по которым церковные лады различить можно… Отсюда нужное нам благочестие гибнет, и усиливается вредная распущенность» (цит. по Штейнпресс 1963: 103).
Время господства контрапункта в европейской музыке: XIV—XVI века. Наивысшего расцвета он достиг в творчестве Джованни Палестрины (XVI век). По иронии истории, Палестрина был руководителем папской капеллы в римском соборе Св. Петра — через два века после буллы папы Иоанна XXII против Ars Nova! Теоретик этого же времени Джозефо Царлино в 1558 г. сформулировал ведущую идею контрапункта: «Гармония возникает из одновременного пения мелодий».
Палестрина, регент папской капеллы в римском соборе Св. Петра, мастер благозвучного разноголосия — контрапункта, музыки «строгого склада»
[Некоторые авторы видят в музыке Палестрины только церковную сторону. Л. Перловский (2005: 207) пишет:
«Высшее выражение духовная полифония XVI в. нашла в мажорной гамме и ангельских хорах Палестрины. Небесная гармония, звучавшая в музыке Палестрины, представляла одну сторону средневековой души христианства — абсолютную чистоту, выраженную в идее личности Христа. Христианство подняло идеал добра на недосягаемую для человека высоту, но этим самым обозначило, оттенило зло, как абсолютно противоположное Божественному. Абсолютизация зла подтверждалась практикой инквизиции, признававшей, по сути, зло как самостоятельную силу. Но идея реального существования зла долго оставалась неосознанной, в средневековой теологической концепции зла, как privatio bono (отсутствие добра), зла не существует. Как в теологии, так и в музыкальной традиции, идущей от раннего церковного псалмопения до Палестрины, диссонансные аккорды не поощрялись, тритоны, аккорды, звучащие сложной эмоцией как мажор и минор одновременно, были запрещены — зла, как если бы, не было».
Да, конечно, Палестрина всё-таки регент папской капеллы. Но полифоничность его музыки, его лидерство в Ars Nova побуждают взглянуть на нее с другой стороны.]
Эта новая система естественна для мироощущения людей эпохи Возрождения и Реформации — с их гуманистическими идеями о ценности человеческой личности, о праве человека на самостоятельное мышление, о государственном интересе как соединении интересов граждан. Привычной стала возможность рассуждать, открыто проявлять свои земные чувства, отстаивать свои личные интересы. Чем-то естественным стало уважение к этим индивидуальным проявлениям психики. Соответственно и в музыке стали казаться привлекательными, интересными именно индивидуализация, разделение голосов, движение их по разным путям, с некоторым противопоставлением, живость.
Разумеется, в это время церковная музыка была уже не единственным видом музыки. На месте миннезингеров в Центральной Европе оказались мейстерзингеры — мастера пения, организованные в сообщества. Это не были профессиональные композиторы или певцы, а любители из обычных ремесленных цехов (башмачников, портных, столяров и т. п.). Ради самодеятельного пения они составляли певческие общества, устраивая их наподобие ремесленных цехов — с иерархией (ученик — подмастерье — мастер пения), со строгой системой испытаний, с мелочной регламентацией творчества: количество слогов стихотворного текста было обязательным, церковные лады выбирались по жестким правилам и т. п. В то же время устав мейстерзингеров требовал оригинальности от сочинителей, чтобы ни один мотив не напоминал уже известные. Знаменитый мейстерзингер Ганс Сакс сочинил 4275 песен на 13 напевов (среди них особенно прославился «Серебряный тон»). Запрещалось передавать песни на сторону, вне корпорации — сочинения оберегались как производственные секреты. В опере Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры», поставленной в 1868 г., осмеивались мещанский консерватизм и косность мейстерзингеров.
Аналогичные мейстерзингерам чешские «братства литераторов» были менее схожи с ремесленными цехами и создавали церковные хоры, певшие не на латыни. В Италии основывались «академии», в которых интеллигенты-гуманисты всё больше обсуждали музыку и исполняли концерты. В XVI веке пришло и осознание того, что диссонансы не так уж чужды музыке. Тот самый Мерсенн, который восхвалял унисон, писал, что «наиболее сладкое — не всегда наиболее приятно, как это наблюдается в отношении сахара и меда и многих других сладостей, которые ненавистны для тех, кто предпочитает уксус и горькие вещи» (цит. по Шевалье 1932; 25).
Мейстерзингер Ганс Сакс сочинил 4275 песен на 13 напевов
Вообще «Новое искусство» становилось всё более изощренным, изобретательным, рассудочным и должно было на этом пути выродиться. В 1631 г. римский композитор Валентин сочинил, или лучше сказать, сконструировал «соломонов канон» для 96 голосов! Но к тому времени это была безжизненная игра по устарелым правилам. Уже был найден другой путь, выросли новые формы, а старые (например, фуга) зазвучали по-новому.
10. Четвертый экскурс в современность: джаз
Любопытно, что XX век частично возродил принцип контрапункта — в музыке популярной и бунтарской, в музыке, порвавшей с централизмом и всеобъемлющей дисциплиной классической гармонии. Эта музыка — джаз.
Ее создали негры США после освобождения от рабства, в условиях безуспешных попыток «интегрировать их в систему» стабильной империалистической эксплуатации. Они стали обостренно ощущать ценность человеческой личности в борьбе за реализацию своих прав на человеческое достоинство, уважение, естественные чувства и земное счастье. Борьба за свободу и равенство, порыв к творению собственной культуры — всё это создавало атмосферу своеобразного негритянского Возрождения. У негров США тогда не было ни собственной организации, ни идеи такой организации. Свой общий интерес они ощущали очень остро, но — как простую сумму интересов всех негров.
Один из ранних джаз-оркестров «Креол Джаз Бэнд» Кинга Оливера
И гармония джаза строилась по принципам упрощенного контрапункта (Newton 1974: 100; Бернстайн 1978: 169). Прислушайтесь к раннему джазу — тому самому, который, будучи в основе народным, простым, первичным, яснее всего выражает смысл джаза. Прежде всего, это нью-йоркский джаз негров и креолов, а также это северное подражание ему — «диксиленд» белых музыкантов (от просторечного названия Юга).
Корнет (позже труба) резко выводит основную мелодию с затейливыми украшениями. Кларнет вторит, отступя на терцию вверх, или выдает ответы на призывы трубы, не дожидаясь окончания призыва (часть его функций может перенять вторая труба). Тромбон подстраивается к корнету противоположными ходами, намечая контрмелодию. Легкие, но звучные щипки контрабаса создают опору в точках основного ритма, порой собираясь в очень простые повторяющиеся фигуры (итал. basso ostinato — ‘упорный бас’). Инструменты, способные издавать аккорды (банджо, рояль), хотя и наращивают на эти структуры гармонию, заимствованную из более поздних систем, в основном работают как участники ритмической секции (вместе с ударными).
Кроме глубинных психологических побуждений к контрапункту, ранних джазменов толкал к нему еще и стимул чисто технического порядка: ранний джаз был сугубо импровизационным — все играли без нот, без предварительного расписывания партий и без точного заучивания их наизусть. Чтобы такой оркестр мог играть полифоническую музыку, исходить нужно было не из аккордов, потому что в них с ходу определить место для каждого инструмента крайне затруднительно. Исходить нужно было из мелодий и из неких очень простых «предписаний» по их разделению и согласованию. Это и был контрапункт.
Гобой ок. 1700 г. и ок. 1900 г., охотничий рожок, английский рожок — деревянные духовые инструменты симфонического оркестра
Кларнет — деревянный духовой инструмент, перешедший из симфонического оркестра в джаз
О том, как осуществлялось взаимодействие «вождя» и «спутника» в оркестре трубача Кинга Оливера, у которого Луис Армстронг в юности учился и играл партию второй трубы, вспоминает Армстронг. Во время игры оркестра Кинг наклонялся к Армстронгу и, беззвучно пробегая пальцами по клапанам своей трубы, показывал, куда он поведет мелодию во время «брейка» (свободной вариации, завершающей известную тему). «Я смотрел и одновременно обдумывал свой ответ на его предложение. Когда наступал брейк, у меня уже была готова мелодия, тютелька в тютельку подходившая к его фразе. Публика прямо с ума сходила» (Переверзев 1974: 20).
Луис Армстронг со своей волшебной трубой — звезда джазовой музыки. Его хриплый голос стал эталоном для джазового пения
В 30-е годы расширилась и расслоилась публика джаза, изменились запросы к нему, иными стали сами негры-музыканты — и изменился джаз. В эру свинга и его биг-бэндов (больших джаз-оркестров) импровизационный элемент заметно ослабел: слаженно играть экспромтом — тут большому ансамблю никакой контрапункт не мог помочь. В джаз вошло много заимствований из позднейшей симфонической музыки XIX века. Да и в психологии негров уже не было прежних иллюзий насчет возможности стихийного автоматического согласования разных интересов. Ведущей фигурой в джазе стал композитор-аранжировщик.
Таким был Эдвард-Кеннеди Эллингтон, руководитель одного из лучших свинговых биг-бэндов, пианист и композитор со знаменательным прозвищем «Дюк» («Герцог»). Когда его спросили, а на каком инструменте играет он сам, «Дюк» отвечал: «На оркестре». От старых времен «Дюк» остался, «свита» (comes) превратилась как бы в клапаны большого инструмента. Эллингтон происходил из верхнего слоя негритянской интеллигенции (сын видного чиновника Белого Дома). Он приобрел высшее музыкальное образование, и свое прозвище получил, видимо, не за позицию магната в оркестре, а за великосветскость и элегантность, столь необычную на фоне джазовой богемы (впрочем, его выступления всё же оплачивались значительно ниже, чем концерты белых джазменов). Но прозвище угодило в точку, да и сам свинг, сделавший возможным появление таких фигур в негритянском джазе, примечателен.
Дюк Эллингтон со своим оркестром. Когда его спрашивали, на каком инструменте играет он сам, Дюк отвечал: «На оркестре»
Правда, «Дюк» Эллингтон, по крайней мере, всерьез считался с индивидуальными особенностями своих музыкантов, сочинял специально для них (например, «Концерт для Гутти» — для своего трубача Гутти Вильямса). Он приноравливал свою музыку к сложившемуся составу оркестра, умело используя выигрышные стороны каждого и стараясь не менять состав. Отсюда удивительная слитность звучания его оркестра, стилистическая выдержанность, тончайшее проникновение в дух каждой пьесы.
Иначе подходили к оркестру другие. Основатель часто подбирал музыкантов к своему характеру, к своему пониманию музыки, к своей манере исполнения. Тех, с кем не мог сжиться и сработаться, удалял из оркестра. Эта политика достигла апогея в современных джаз-бэндах и бит-группах. Состав их обновляется каждые несколько лет (состав «Крыльев» Пола Маккартни — почти ежегодно). Немногие из них вообще живут дольше десяти лет, обычно распадаются раньше.
Наиболее отчетливо этот принцип выражен у великолепного Берта Кемпферта. Этот западногерманский композитор и дирижер каждый год распускает свой оркестр и набирает новый из наиболее преуспевающих инструменталистов. Имена звезд привлекают его лишь как свидетельства их высокой марки, но не как знаки их индивидуальности. Оркестранты здесь — ничто, босс оркестра — всё. Музыкальный стиль Кемпферта — не джаз и не рок, а сентиментальные шлягеры с примесью поп-ритмов. Социальный стиль Кемпферта — коммерческая музыка. В ней нет места для контрапункта.
Берт Кемпферт со своим оркестром, который он каждый год сменял, не ценя индивидуальности
Но контрапункт не умер к середине XX века. С «перепрофессионализацией» джаза (чрезмерной профессионализацией, т. е. появлением «джаза для джазменов», а именно так характеризуют эру «бибопа»), с явным сужением его базы в публике, у джазменов обнаружилась тяга к народным истокам джаза. Выросшие повсюду, как грибы, бесчисленные диксиленды знаменовали собой так называемый «ривайвл» (англ. revival) — «возрождение» ранних форм джаза (Asriel 1966). И опять Возрождение связано с контрапунктом.
Поставьте диск «Ленинградского диксиленда», «диксиленда Макса Грегера» или чешского «Ривайвл джаз бэнд» — и снова сплетутся голоса трубы, кларнета и тромбона, украшая и имитируя основную мелодию, будь то «Сан-Луи блюз» или «Светит месяц»…
Но вернемся к далекому прошлому и взглянем на то, что явилось тогда на смену контрапункту.
11. Генерал-бас и И. С. Бах
В трехголосых мотетах французских композиторов XII—XIV веков основную мелодию вел нижний голос, а два других звучали высокими подголосками. У гуманистов Италии в лирических «хвалебных песнях» ведущим стал верхний голос, а тенор вместе с еще более низким становился гармонической опорой. Самый низкий голос стали именовать «басом» (от итал. ‘низкий’), а выше тенора появились «альт» (от итал. ‘высокий’) и «сопрано» (‘самый высокий’). Такое многоголосие, в котором голоса неравноправны, а есть ведущий, называется гомофонией. Партию баса, которая получила задачу поддержки всего ансамбля, стали поручать и отдельному инструменту. Эти явления привели вскоре к новой гармонии.
Монах Людовико Гросси из Виаданы (его так и называют Виадана — как Палестрину по его городу), сочиняя церковную музыку для исполнения одним певцом, около 1600 г. придумал такой прием: сопровождающий органист должен играть бас левой рукой, а правой заполнять гармоническую ткань.
Сказалось и еще одно обстоятельство.
Контрапункт с его многоголосием и терцовым строем совпадений сделал привычными для слуха сложные звукосочетания — из трех и более звуков, построенные на терциях). Это и есть то, что получило название «аккордов» (от французского accord — ‘согласие’). Такой аккорд, скажем, на рояле — на белых клавишах рояля через клавишу. Еще гораздо позже, в годы французской революции, парижанин Оноре Лангле писал: «Один единственный интервал производит всю гармонию и все аккорды, этот интервал — терция; …от наслоения двух, трех, четырех и пяти терций образуются все основные аккорды» (цит. по Шевалье 1932: 80).
Из аккордов особенно выделились трезвучия. А из четырех возможных трезвучий — два: одно звучало весело, бодро (это мажор), другое — грустно, печально, мрачно (это минор). Из современной музыки: «Нам песня строить и жить помогает» — тут мелодия пробегает по мажорному трезвучию. «Много песен слыхал я в родной стороне…» (начало «Дубинушки») — пробегает по минорному трезвучию. А вся-то разница — в том, что у первого трезвучия нижняя терция — большая, верхняя — малая, у второго — наоборот. Переход от первого ко второму достигается простой передвижкой среднего звука в аккорде на полтона вниз — уменьшением нижней терции. Переход от второго к первому — соответственно увеличением. По-итальянски «увеличивать» — «маджоре», «уменьшать» — «миноре». Отсюда и названия самих трезвучий. Распознал их первым автор трактата «Двенадцатиструнник» Глареан в 1547 г., хотя они уже давно и всё больше применялись практиками. В 1558 г. итальянец Царлино построил на них свое «Гармоническое установление». К нам они пришли во французской одёжке: мажор и минор (majeur — ‘больший’, mineur — ‘меньший’). Звучит мажорно или минорно не только само трезвучие, но и звучание всего звукоряда определяется им. Скажем, «Вы жертвою пали в борьбе роковой» (Похоронный марш революционеров) — это минор. Ария Фигаро — в целом мажор. Итальянцы ввели и другие обозначения: dur (твердый) и moll (мягкий).
Чем обусловлены порождаемые ими настроения? Ж. Рамо предполагал, что мажорное трезвучие обладает большим физико-акустическим единством. Пояснить это можно так. За исходное в определении благозвучности мы подсознательно принимаем последовательность: от большой терции к малой. В самом деле, тогда образуется соотношение частот 4 : 5 : 6, общий знаменатель — 30. Если же принять обратную последовательность, то совокупное отношение (5 : 6 и 4 : 5) примет вид 10 : 12 : 15, с общим знаменателем 60. Делимость (и, следовательно, благозвучность в восприятии) — вдвое хуже! Поэтому в таком трезвучии человек, прежде всего, слышит большую терцию, то есть воспринимает всё трезвучие, начиная со стороны большой терции. Но это значит, что он стремится двигаться при мажорном трезвучии (и в мажорном ладу) снизу вверх, что рождает настроения подъема, веселья. А при минорном трезвучии и ладе он мысленно движется сверху вниз, что навевает грусть и чувство подавленности. На психологическом различии тех или иных мысленных движений снизу вверх и сверху вниз строили свои объяснения разницы между восприятиями мажора и минора Гуго Риман, Э. Курт, Джулио Бас и др. (Шевалье 1931: 196; Мазель 1972: 291—333).
Может быть, есть какая-то другая физиологическая причина этих различий, но, так или иначе, звучит один аккорд, без мелодии, без движения, а уже возникло определенное настроение. И ощущение родственности этого аккорда основной мелодии или его чужеродности и непригодности. Правда, радость и печаль этих трезвучий определяют лишь грубо и условно их выразительное значение — композиторы нередко применяют мажор в трагических произведениях и минор — в праздничных, но психология — вообще штука сложная.
Около 1600 г. музыканты перешли полностью от церковных ладов к двучастному раскладу: мажор — минор. Но среди тетрахордов церковных ладов два были не так уж далеки от новых трезвучий — мажор напоминал ионийский лад, минор — эолийский. И еще до середины XVIII века (ок. 1750 г.), например у Баха, мажор и минор выступали в нотной одёжке церковных ладов, подлаживались в обозначениях под эти церковные лады. Однако сама музыка была уже новой.
Новая гармония строилась уже не на соединении отдельных мелодий, а на самодовлеющих аккордах. Аккорды появились не в результате совпадения каких-то точек нескольких мелодий, а как независимые друг от друга опоры основной мелодии. В каждом аккорде определяющим для всех его звуков, их общим исходным пунктом отсчета стал нижний тон аккорда — «генерал-бас» (лат. ‘общий бас’ — общий для всех звуков аккорда). Интервалами от него до остальных звуков определялось и название аккорда: скажем, в «кварт-септаккорде» один звук отстоит от баса на кварту, другой — на септиму. Эти названия удержались до наших дней.
У истоков этой музыки стоит итальянский композитор Клаудио Монтеверди. Он жил на переломе эпох — от Позднего Возрождения к Веку Разума, в конце XVI столетия и начале XVII. В жизни его было много трагического — он тяжело переносил недооценку со стороны своих знатных хозяев, смерть и бедствия близких (сын был арестован инквизицией за чтение запрещенных книг), сам он едва уцелел во время эпидемии чумы. Эти переживания отразились в его музыке, драматической, тяготевшей к диссонансам и угловатым мелодиям. Сначала он сочинял традиционные мадригалы (короткие лирические произведения с комплиментами), светские и духовные, потом оперы. В его операх бушуют человеческие страсти — он сам называл свой стиль «взволнованным». В оперу он ввел увертюру, а ткань оперы стал членить на арии. С его легкой руки в гармонии утвердился неустойчивый диссонансный аккорд, позже названный доминантсептаккордом, побуждающий к движению, модуляции. За это Шевалье (1932: 17) называет Монтеверди «отцом современной гармонии». Но в последующем Монтеверди был совершено забыт — о нем вспомнили только в XIX веке.
Клаудио Монтеверди (с портрета маслом) стоял у истоков музыки «свободного склада» — с мажором и минором, с мелодией и аккомпанементом, с аккордами и генерал-басом. Конец XVI — нач. XVII вв.
Генерал-бас может располагаться на любой ступени гаммы, вне зависимости от предыдущих басов, лишь бы он был созвучен одновременному тону (или тонам) мелодии, звучащей в первом голосе, лишь бы он поддерживал основной голос. Генерал-бас рассматривается как тон, которым определяется выбор остальных тонов аккорда. Иными словами, положение промежуточных голосов в аккорде определяется не предшествующим развитием мелодий, звучавших в этих голосах, а только созвучием этих тонов с генерал-басом. Они должны располагаться на консонансных интервалах от него. Легко понять, что мелодии просто исчезают из всех поддерживающих голосов. Голоса становятся плохо запоминаемыми. Петь их неимоверно трудно. Это музыка для очень профессионально вышколенных хоров и оркестров, а в большой мере — для клавишных инструментов — органа, клавикордов, клавесина.
Игра на клавикорде — инструменте, вошедшем в моду для музыки «свободного склада»
Именно в музыке с генерал-басом сложилась устойчивая схема клавирной разработки: ведущая мелодия в верхнем регистре (или на ином инструменте, в вокальном исполнении), а ниже — «аккомпанемент» (франц. ‘сопровождение’) сплошными аккордами или разбитыми созвучиями: бас на сильной доле такта и промежуточные «заполнительные» тоны или аккорды — на слабых. Такую музыку стали называть, используя греческие термины, «гомофонной» (буквально ‘однозвучной’) или монодической (буквально ‘однопевческой’). Поскольку аккомпанемент продолжался всё время, его назвали basso continuo (с итал.: ‘продолжающийся’ или ‘непрерывный бас’). Такой бас был удобен, если мелодия выдвигалась на первый план (например, в исполнении арий или кантат).
Изначально появлялось желание импровизировать аккомпанемент — подбирать его на ходу. Но законы движения мелодий и связи мелодий с гармонией были еще не разработаны, и в каждый момент предвидеть, какие аккорды будут соответствовать дальнейшему ходу мелодии, было трудно. Поэтому под строкой с основной басовой темой проставлялись цифры, означавшие условное обозначение подходящей гармонии, подходящих аккордов, для аккомпанемента на лютне, клавесине или органе. Скажем, цифра 6 означала секстаккорд, цифра 7 — септаккорд, цифра 4/3 — терцквартаккорд. Такой аккомпанемент называли «цифрованный бас» (изобрел цифровку тот же Виадана). Практически цифрованный бас совпадал с basso continuo. Но бас мог пристраиваться к первому голосу и без заполнительных промежуточных тонов — отдельно (итал. taste solo — ‘отдельными клавишами’).
Лютня и китара — струнные щипковые инструменты, на которых в музыке «свободного склада» нужно было брать аккорды, обозначаемые цифрами
Если в контрапункте основными исполнителями были хоры, капеллы (нередко певшие без сопровождения — a capella) или орган, то теперь преобладал инструментальный ансамбль или певец с аккомпаниатором. Примерно с 1600 г. вокальные произведения (кантаты — от cantare ‘петь’) стали уступать место сонатам и симфониям. В оркестре за инструментами стали закрепляться разные роли: одни инструменты чаще использовались для ведения мелодических линий, другие чаще применялись в аккомпанементе.
В новом стиле сочинял «красный священник» из Венеции (красный — потому что рыжий) скрипач-виртуоз и композитор Антонио Вивальди. Церковными обязанностями он как раз манкировал: во время службы уходил из алтаря, чтобы записать пришедшую в голову музыку (за что его и уволили от службы). Он разработал форму «кончерто гроссо» (concerto grosso — ‘большого концерта’) из трех частей для скрипки с оркестром или для других ансамблей, часто применял basso continuo. Музыка его певучая и прозрачная.
Антонио Вивальди — «красный священник» из Венеции, скрипач-виртуоз и композитор первой половины XVIII в.
В отличие от контрапункта, система с генерал-басом предоставляет больше свободы композитору: сняты строгие запреты на параллельность, отменено требование линейно развивать каждый голос как особую мелодию, а новый жесткий структурный каркас еще не сформировался. Поэтому систему с генерал-басом немецкие музыканты стали противопоставлять «строгому складу» (нем. strenger Satz) сочинений Палестрины — как «свободный склад» (freier Satz). Высшего расцвета этот «свободный склад» достиг в творчестве И. С. Баха. Правда, Бах интенсивно развивал и наследие контрапункта — известно, сколько места в его творчестве занимают фуги. [О них хорошо сказал Перловский (2005: 209):
«Фуга — это разговор нескольких музыкальных голосов, в котором тема “перебегает” от одного голоса к другому; голоса могут вести вежливый разговор или спорить, перебивая друг друга. В фугах Баха человек, споря сам с собой, обращается к Богу или к наивысшему в себе. Фуга сложна технически, многоголосие сочетается с гармонией, “по горизонтали” мелодии и “по вертикали” гармонического пространства звука… Если в церковном псалме утверждалось существование объективно возвышенного, как некоей коллективной цели, далеко отстоящей от переживаний отдельного человека, то в фуге человек слышит эмоции собственных противоречий в поисках возвышенного. Фуга — это способ индивидуального мышления и сознания обращенного к возвышенному…».]
Иоганн Себастьян Бах — великий композитор первой половины XVIII в., сплавивший вертикальную музыку с горизонтальной
Но во всех этих фугах разноголосые мелодии постоянно переливаются сквозь аккорды и вливаются в аккорды, покоящиеся на генерал-басах. Бернстайн (1978: 86) говорил, что Бах сплавил вертикальную музыку с горизонтальной. Кроме того, у Баха уже заметны и ростки следующей стадии в развитии гармонии: его мелодические линии хоть и руководят аккордами, но сами построены уже с ориентировкой на гармонические структуры тональностей.
В эпоху генерал-баса было сделано немало открытий в акустическом понимании музыки. М. Мерсенн в начале XVII века первым выявил обертоны. Ж. Совёр уловил связь между длиной струны, частотой колебаний и высотой звука. Очень важным открытием была темперация (от лат. ‘соразмерность’). Пока музыка была одноголосой или основанной на простом сочетании мелодических линий, настройка всего звукоряда по Пифагоровым квинтам, а потом по чистым терциям могла устраивать музыкантов. Но когда аккорды стали основным элементом музыки и смена ладов (мажора, минора) заняла видное место в ней, а в моду вошли клавишные инструменты — орган, клавиры (клавесин, клавикорд), фортепьяно, — возникли существенные трудности.
Дело в том, что по музыкальной теории уменьшенный на полтона интервал должен быть равен соседнему интервалу, увеличенному на полтона. Скажем, уменьшенная терция должна быть равна увеличенной секунде, звук до-диез должен быть равен ре-бемолю. На рояле путь к черной клавише от обеих соседних белых клавиш должен быть одинаков. Но по акустике в Пифагоровом строе и в строе на терциях этот путь не одинаков. Малая секунда, отсчитанная от звука, — несколько больше, чем оставшийся путь до целого тона (большой секунды). Двенадцать малых секунд (полутонов) не укладываются точно в октаву, как должны были бы уложиться! Как же настраивать клавишные инструменты? Как согласовывать аккорды в оркестре?
Еще в конце XVI века (в 1584 г.) китайский принц Чжу Цзай Юй из династии Мин предложил выход — равномерно разделить октаву на 12 полутонов, за которыми и закрепить звучания. В конце XVII века (в 1682—1707 гг.) немецкий органист Андреас Веркмейстер повторил это усовершенствование в Европе — еще раз изобрел «хорошо темперированный клавир». Если октава — это соотношение 2 : 1, то 1/12 октавы должна быть равна корню 12-й степени из 2 = 1,0595. Истинно, «поверил алгеброй гармонию» — всё-таки как-никак на дворе была эпоха Научной Революции, эпоха Декарта и Бэкона. В «хорошо темперированном» строе октава состоит из 12 равных полутонов, и хотя кроме октав все звуки (всех интервалов) сдвинуты по сравнению с чистыми, но не намного, зато полученные секунды можно без остатка уложить в октавы. Темперированная квинта меньше чистой на 1/108, темперированная кварта — больше чистой на 1/108 — это почти незаметно. Темперированная большая терция меньше Пифагоровой на 1/27, больше чистой на 1/16, это заметно, но приходится жертвовать ради лучших согласований.
Первым воспользовался открытием Веркмейстера его приятель композитор Д. Букстехуде, а затем восхищенный Бах выпустил в 1722 г. сборник фуг и прелюдий, так и озаглавленный «Хорошо темперированный клавир».
Словом, «свободный склад» с генерал-басом — это большой прогресс в музыке. Но для любителей старого «строгого склада» это было трагедией.
Вот идеализация «строгого склада», изложенная в романе о Верди устами выдуманного героя-музыканта (Верфель 1962: 206):
«Друг подле друга шли голоса, одинокие, углубленные в себя, как звезды, ничего о себе не зная, каждый в стройном порядке совершая свой отчетливо замкнутый мелодический период. Гармония была для Бога — человеческому духу была доступна только часть архитектурного целого…». А дальше идут нарекания в адрес «свободного склада»:
«Голоса, лишенные божественности, пошли вразброд. Вместо того, чтобы кружить по своим орбитам в бесконечном, непостижимом для человека порядке, они распались на две тощие системы: мелодию и бас. Впрочем, мелодия стала уже никакой не мелодией, а пустеньким мотивчиком, чириканьем с удобными интервалами в твердо выдерживаемых — на потребу плебсу — тональностях и при строгом разделении полов. Басом же завладел сатана! Бас перестал быть подлинным голосом и превратился в логовище зверя, похоти, голого ритма — словом, воистину злого начала».
Время «свободного склада» — XVII и XVIII века (от смерти Палестрины до смерти Баха). Это эпоха абсолютных монархий и Просвещения, это пробег от Английской буржуазной революции до кануна Великой французской буржуазной революции.
Интересно, как общее мироощущение эпохи отразилось в складе музыки.
Девизом этой эпохи был отказ от идеи предопределенности. Общество и весь мир перестали казаться неизменными, открылись в своем движении, в геологических катаклизмах (теория Кювье) и социальных революциях. Аристократическое происхождение уже не предопределяло с безусловностью блестящую карьеру, а отсутствие родословной не означало неизбежности прозябания. Значение, роль и ценность человека теперь часто определялись не прошлым, а ситуацией.
Жить настоящим днем — вот что стало мудростью эпохи. Один из первых членов британского Общества антиквариев писал в 1770 г.: «Мне не интересно знать, какими неуклюжими и грубыми были люди на заре искусства или во время упадка» (цит. по: Daniel 1962: 8). Если так думал ученый любитель древностей, то что было ожидать от настроений светского общества? «После нас хоть потоп». По своей эгоистической наглости и скандальной откровенности эта крылатая фраза французского аристократа исключительна, но она есть лишь крайнее и специфическое выражение общей тогдашней ориентировки во времени, общего отхода от закономерных следований по предуготовленным путям.
В архитектуре — это время барокко. Рельефные, сочно сгруппированные и выделенные украшения разбивают однообразие плоскостей и линий на фасадах. Всё должно быть живым и нарядным. При каждом повороте за угол может открыться неожиданная перспектива: еще один фасад, излом не под прямым углом, новый объемистый флигель.
Привыкшие к такому новому мироощущению музыканты перестали наращивать мелодию каждого из нижних голосов в зависимости от предшествующего хода мелодии в том же голосе и с расчетом на продолжение, а начали отдельно на каждом шагу оценивать каждую новую ситуацию, пользуясь некой иерархией ценностей.
В эту эпоху безусловно интерес государства (в особе ли абсолютного монарха или революционного вождя) полностью подчинил себе интересы личности. Правда, это уже не то время, когда, как в средние века, личные интересы можно было просто не замечать. Но и выдвигать их на первый план, суммировать, согласовывать, развивать по отдельным путям, как в эпоху Возрождения и Реформации, было уже невозможно. Гармония интересов понималась теперь иначе. И всякая гармония — в музыке тоже.
Всё мироощущение этой эпохи было проникнуто идеей градации, ранжирования, лестницы. Иерархия внутренне присуща феодализму. Ее, конечно, знали и в средние века. Но то была узкая иерархия дворянских верхов — сложные древеса генеалогии, связи старшинства и подчинения. Принадлежность к этой иерархии была привилегией и уже по этой причине исключала всех остальных и всё остальное. В оценках мира господствовал дуализм: Бог и дьявол, небесное и земное, духовное и светское, благородные и чернь, город и деревня и т. д. Всё решалось по принципу: или — или. Или привилегии или бесправие. Или рабство или господство.
Теперь же всё расслоилось и заняло места на разных уровнях. Часть дворян обеднела и занялась коммерцией. У церкви обнаружились и откровенно мирские интересы, и пропасть затянулась. Неоднородным оказалось и Третье сословие. Королевская власть, некогда исходившая прямиком от Бога, теперь держалась (и усиливалась!) прежде всего благодаря появлению добавочной опоры (в городах, в верхах третьего сословия) и возможности балансировать. Изречение Людовика XIV «государство — это я» как раз и означало, что в этом появились сомнения: его далеким предшественникам не было надобности это утверждать. В начале и в конце этой эпохи его английский коллега и французский преемник, осуществляя этот девиз на деле, поплатились коронами и головами.
Государство стало лестницей, все ступени которой необходимы. И сам человек занял место (высшее) на лестнице существ в «Системе природы» у Линнея. Пришла пора идее иерархии проникнуть и в музыку. Вот и возникла лестница отношений в каждом аккорде: от тона ведущей мелодии зависит генерал-бас, от того — дополнительные тоны других голосов. Генерал-бас в аккорде — как генерал-интендант в королевстве: над ним — король, под ним — народ, а что было раньше и что будет позже, не суть важно.
12. Пятый экскурс в современность: «Битлз» и другие
Музыка с генерал-басом стала привычной нынешней практикой в любом исполнении популярных романсов и песен с аккомпанементом. Мало-мальски опытный пианист может подхватывать любое пение на ходу, подбирать аккомпанемент, уловив тональность и лад — мажор или минор. Левая рука ударяет по басам, правая — выбирает заполнительные аккорды. Кое-где он пускает дополнительные мелодии, как в фуге. Не очень искушенные аккомпаниаторы ограничиваются в такой импровизации простеньким контрапунктом.
Если джаз освоил гармонию контрапункта, то рок-музыканты, прежде всего «Битлз», а за ними «Роллинг Стоунз», взяли за основу гармонию следующей исторической эпохи — «свободного склада». У них сформировалась новая форма ансамбля: квартет из трех гитар (соло-, ритм- и бас-гитары) и ударника. Это квартет, хорошо приспособленный для освоенной ими гармонии времен генерал-баса: мелодию ведет соло-гитара, басовую партию — бас-гитара, а заполнительные аккорды — ритм-гитара. Ударник поддерживал необходимый современной эстрадно-танцевальной музыке четкий бит.
«Роллинг Стоунз» были соперниками «Битлз», наиболее успешной рок-группой, и они музыкально оформили в XX веке конфликт поколений
Странная судьба ожидала Баха. То церковный органист, то придворный капельмейстер, при жизни он не пользовался большой известностью и влиянием в музыкальном мире. Убогий хорик и неполный оркестр — вот всё, что было в его распоряжении, когда он сочинял свои грандиозные «Страсти» для двух хоров и двух оркестров. Большей частью его произведения оставались рукописями и копировались вручную им самим. Бах умер в 1750 г. и был забыт. Только через 80 лет после его смерти Мендельсон извлек из забвения его «Страсти по Матфею», и с этого началась посмертная слава Баха. Он стал классиком.
Вивальди был забыт еще более основательно. Его вспомнили только в XX веке.
Но самую увлекательную загадку представляет собой колоссальный взрыв популярности Баха у молодежи в наше время — и не просто популярности у музыкально подготовленной аудитории: завсегдатаев филармонии, любителей классической музыки (в упомянутом выше списке Бах — на первом месте). Величественный и респектабельный Бах неожиданно вошел в популярную музыку, стал излюбленным композитором бит-групп. Его аранжируют для электрогитар, для ансамблей, поющих «скэтом» (случайно подобранными слогами), и даже для одних ударных. Рок-музыканты посвящают ему собственные сочинения, откровенно подражающие ему.
Помню выступление одной заезжей бит-группы (кажется, «Коллегиум Музикум») под открытым небом в Ленинграде. Меня поразила не музыка, а реакция публики — этой пестрой молодежной толпы выходного дня. Сначала на эстраду вышли стройные мальчики в ярких нарядных костюмах (так сказать, второй состав) и играли обычную эстрадную программу — испытанные шлягеры из хитпарадов, «ритмы планеты». Играли энергично, профессионально, весело. Публика отвечала вежливыми, но довольно жидкими аплодисментами. Во втором отделении вышел «основной состав» — несколько человек среднего возраста, затрапезного вида, в потрепанной одежде. Будто на репетицию. Бородач в очках, неуклюжий толстяк в блеклой футболке… И выдали «Посвящение Баху» — электрогитара и три ударных установки! Это было действительно здорово — в духе «свободного склада». И зал взорвался бурной овацией.
В чем причина? Известный советский дирижер Геннадий Рождественский в 1976 г. в своей очень интересной радиолекции об оркестровом искусстве Баха предположил, что причина этого — особая роль ритма у Баха (лектор имел в виду увлечение подчеркнутой ритмичностью в наши дни). Но ведь ритм у Моцарта и Бетховена не менее выразителен и богат. Более того, как раз у Баха в фугах и инвенциях мелодии ведутся по традициям контрапункта, метрически очень равномерно, без рельефного ритмического рисунка.
Иные полагают, что всё дело в особой абстрактности музыки Баха. Всякая музыка абстрактна, музыка Баха — особенно. «Бах не рассказывает историй, — пояснял Ренуар. — Бах это абсолютная музыка». А нынешнее искусство сторонится чрезмерной назидательности и однозначности, тяготеет к большей условности, к абстракции.
Можно подумать и о том, не является ли причиной взрыва популярности тесная связь музыки Баха с органом. А орган мощностью своего звучания, тембром и широтой диапазона близок электроинструментам бит-групп. Но и это не всё объясняет: для органа писали многие.
Все эти факторы могут объяснить лишь часть феномена — почему Бах популярен именно сейчас. Но не могут объяснить, почему популярен именно Бах, почему популярнее других.
Чтобы выяснить это, надо, видимо, обратиться к тем сторонам творчества Баха, которые отличают его от позднейших классиков и в которых он превзошел всех своих предшественников и современников. А это — мастерство «свободного склада». Видимо, чем-то «свободный склад» сродни современной музыке биг-бита. Чем же?
Пожалуй, секрет именно в «свободе» этого «склада».
Что означает поразившая Европу и Америку болезнь — «конфликт поколений»? Она означает, что выросло поколение, которое отреклось от традиций отцов, от идей и норм «больного общества». Это поколение бунтует, мечется и ищет. Оно не очень ясно представляет себе, чего оно хочет. Но зато вполне отчетливо знает, чего оно не хочет. Свою судьбу оно не считает предопределенной традициями отцов. Ему свойственна идиосинкразия к идеям предопределенности, обостренное чувство протеста против жесткой логики и связности в любом развитии, против суровой дисциплины и всеобъемлющей системы норм.
Эта молодежь жаждет постоянного обновления, свежести, неожиданностей. Она требует ломки привычных норм. В таком духе она формирует и свою собственную музыку. И в «свободном складе» Баха ее пленяет отсутствие жесткой системы гармонических норм, сложившейся позже и навязанной им с детства. Им нравится у Баха сложное переплетение мелодий, свободно изгибаемых и непредсказуемых. Им нравится, что каждый новый аккорд независим от предшествующих. Им нравится в его музыке принцип барокко: нарядность украшений и неизвестность того, что откроется за любым углом.
Однако жажда свежести, постоянная готовность к неожиданности, вкус к быстрой смене ситуаций и структур характеризует вообще современную молодежь — во всем мире. В этом секрет повсеместного увлечения молодежи такою музыкой, которая отвечает этим потребностям. Такой во всем остальном непохожей молодежи. Такою во всем остальном непохожей музыкой.
Вот сидят молодые люди совсем не филармонического пошиба — включили Баха на полную мощность и «балдеют»: зачарованные, отрешенные, с широко открытыми глазами.
Любопытен этот комплекс «балдения» — отключенность от окружающего, некоторая подавленность, всесторонняя охваченность «абсолютной музыкой», «уход» в иной мир… Церковь тоже этого добивалась. И заметьте, средства те же: гармония «свободного склада», неимоверная мощность звучания, вдобавок антифония — два хора, два оркестра — ведь это та же стереосистема для всестороннего охвата музыкой! На Западе к этому комплексу ныне добавляют наркотики для толчка в «трип» (путешествие), а у церкви, по словечку основателей марксизма, был свой «опиум для народа» — религия.
Эти не только «балдеют». Они ищут.
Я нередко спрашивал новых поклонников Баха: «Что вам нравится в этой музыке?» Отвечали: «Она похожа на рок». — «А в музыке рока что?» — «Интересно следить, как движутся мелодии. Ты думаешь, она сюда завернет, а она — в другую сторону. И аккорды нестандартные… Люблю неожиданные эффекты… А эти бодренькие песенки с куплетами — всё наперед известно, всё так сладенько, так красивенько. Нас утешающий обман. А тут — правда жизни».
Вот так. Мы им Хиля, а им нужны рок и Бах.
[Хиль — популярный эстрадный певец 1960—1970-х, исполнявший бодренькие советские молодежные песни.]
[Характерна и нынешняя востребованность Вивальди. Я имею в виду не только потрясающую популярность стихотворения Александра Величанского, превратившегося в бардовскую песню супругов Татьяны и Сергея Никитиных, которая то и дело звучит в эфире и реплицируется в рекламе:
Под музыку Вивальди, Вивальди! Вивальди! под музыку Вивальди, под вьюгу за окном, печалиться давайте, давайте! давайте! печалиться давайте об этом и о том.Вивальди действительно востребован массовым слушателем. Вот новейший пример. На только что прошедшем всероссийском и международном конкурсе самодеятельности «Минута славы» в финал вышло, получив высшие баллы от строгого жюри, петербургское трио «Кристальная гармония». Я думал, что название трио — это еще и цитата из Михаила Кузьмина:
Сильней лошадей, солдат, солнца, смерти и Нила, — Семинебесных сфер Кристальная гармония меня оглушила, Тимпан, воркуй! Труба, играй!Но оказалось, что организаторы конкурса перепутали название трио. Правильно: «Хрустальная гармония».
Эти три железнодорожника (поездная бригада) сорвали бурю оваций многотысячного зала, исполняя «Времена года» Вивальди не на фабричных музыкальных инструментах, а на наборах бытового стекла и хрусталя — рюмок, фужеров, бокалов, а также пробирок и колб. Рюмки издавали звук при вождении пальцами по краю, пробирки разного размера были составлены в некое подобие флейт Пана — в них один из музыкантов дул. Музыканты владели своими инструментами виртуозно, двигали руками пластично и изящно — помавали. Всё вместе складывалось в гармонию странного экзотического звучания, отдававшего старинной музыкой — вероятно, благодаря простоте устройства инструментов. Публика слушала, затаив дыхание, и была в полном восторге. Восхищение жюри объясняется, конечно, мастерством исполнителей, хотя имел какое-то значение и репертуар. А уж овации зала, перед которым в погоне за «минутой славы» прошло немало самых разных хитрейших фокусников и изумительных акробатов, — овации этого зала в значительной мере нужно объяснять обаянием Вивальди.
…под музыку Вивальди, Вивальди! Вивальди! под музыку Вивальди, под славный клавесин…]13. Функциональная гармония
Но в истории музыки наступил период, когда и «свободный склад» перестал удовлетворять наиболее творческих музыкантов. Прежде всего сказался придворный галантный стиль рококо — в моду вошли рациональные упрощения, а также завитушки и обилие кружев. В музыке появились триоли, форшлаги, морденто, трели и рулады, — всяческое дробное учащение звуков. Этим отличается французский композитор Куперен, в Германии четыре сына Баха тоже работали в этом стиле. Одного из них (младшего), Филиппа-Эммануэля, тогда даже звали «Великим Бахом», а старый Бах был для того времени всего лишь отцом «Великого Баха». Филипп Эммануэль Бах старался сделать музыку певучей, сентиментальной и выразительной. Творчество этого Баха оказало воздействие на Гайдна, Моцарта и Бетховена. Именно об этом Бахе Моцарт говорил: «Он отец, а мы его дети» (Штейнпресс 1963: 334). Филипп Эммануэль и его братья упростили гармонию, свели ее к мелодии с аккомпанементом и украшениями, число которых Филипп Эммануэль умерил.
Филипп Эммануэль Бах, один из сыновей великого Баха, но до середины XIX века именно он считался великим Бахом, а старый Бах — всего лишь его отцом
Но пристрастие к триолям и форшлагам можно заметить и у Моцарта. Вспомним его «Турецкий марш». По поводу одной из моцартовских опер австрийский император Иосиф II, мнивший себя знатоком музыки и привыкший к сдержанности музыки с «генерал-басом», недовольно заметил: «Слишком много нот!», на что Моцарт возразил: «Ровно столько, сколько нужно, Ваше Величество!». Он чувствовал это как потребность. Бернстайн именует Моцарта гением рококо. Впрочем, в творчестве Моцарта больше сказывалась другая гармония эпохи, мощная и победительная, перед которой отступали принципы рококо.
«Свободный склад» всё больше не нравился музыкантам не только по причине своей сухости. В нем чересчур часто сменялась природа созвучий, музыка казалась лишенной единства, подлинной гармонии. На рубеже XVII—XVIII веков появилась тяга к единству лада, к закреплению мажорного или минорного звучания на некой единой системе тонов. Выбрать эту систему, закрепить ее на определенной высоте — и выдерживать всю игру, в течение всего произведения или его крупной части. Это была стабилизация «тональности», хотя само понятие еще не было введено.
Мелодии издавна лились свободно, но с соблюдением некоторых правил и применением некоторых зарекомендовавших себя приемов. От эпохи к эпохе росла роль ритмического деления — некой организации с симметрией, с чередованием сильных и слабых долей, с выбором темпа.
В самой смене высоты звучания — в мелодическом рисунке — очень постепенно тоже проявлялась некая организованность: выбор небольшого количества уровней высоты звука, по которым только и двигаться мелодии. То есть мелодия взбирается и опускается не по покатому пандусу, выбирая любые его точки — это было бы завывание. Нет, она ходит как по ступеням некой лестницы вверх — вниз различными фигурами — то последовательно перебирая ступени, то прыгая, то переминаясь на месте. Эта лестница — звукоряд, гамма.
Расстояния между ступенями (интервалы) — не любые, а постоянные, строго отмеренные, и всего нескольких величин. Даже чередование интервалов в ряду (коротких и подлиннее) остается одним и тем же для целой песни, а то и для всех песен одной эпохи и одного народа. Принципы наладки такой лестницы (количество ступеней в гамме, набор и последовательность интервалов между ними) называется ладом. В церковной музыке средневековья — музыке модальной (то есть «настроенной») — применялось несколько таких ладов, унаследованных от античности: «ионийский», «дорийский», «эолийский», «лидийский», «фригийский» и др. Ступени их располагались близко друг к другу, мелодии топтались вокруг нескольких ступеней, словно боясь расширить диапазон. В системе мажор — минор количество вариантов поначалу уменьшилось, музыка как бы сгруппировалась.
Тогда же было замечено, что мелодия движется по ступеням этих ладов не безразлично, а подчиняясь какой-то логике, заимствованной из интонаций речи. Каждый законченный отрывок мелодии, как фраза речи, подолгу удерживается неподалеку от одной из верхних ступенек лестницы и часто к ней возвращается. Эта ступень преобладает в звуковом составе мелодии и поэтому была названа «доминантой». К концу вопросительной фразы голос повышается. А к концу утвердительной — резко понижается, и так как речь обычно заканчивается утверждением, то на такой нижней ступени и оканчивается мелодия. Эта ступень была названа «финалис» (с латыни — «конечная»). Ожидание конца, мысленное предвосхищение его делало «финалис» как бы опорой всего звукоряда, а при многоголосии обращало басы к его частому повторению — напоминанию.
Эти две ступени, как видим, имели определенные функции. То были зачатки функциональных отношений между ступенями звукоряда.
Зависимость мелодического рисунка от этих ступеней усилилась, когда было подмечено, что чем ближе голос к опорной ступени, тем сильнее тяготение к ней, тем напряженнее слух ее ожидает. Поэтому самые близкие к ней ступени (как можно более близкие) получили название «вводных».
Еще более связала мелодию кристаллизация мажора и минора. Чтобы придать звучанию «финалис» бодрую или грустную окраску, достаточно включить его в то или иное трезвучие. Чтобы изменить окраску, достаточно в трезвучии чуть сдвинуть средний звук: оба крайних остаются неизменными и отстоят на квинту друг от друга. Если «финалис» сделан нижним звуком такого аккорда (что и является для него наиболее естественной позицией), то общей для мажора и минора оказывается и пятая от «финалис» ступень вверх (квинта вверх). Это сделало ее важной. Приобретя такую важность, эта ступень стала сосредоточивать вокруг себя мелодию и завершать собой фразу с вопросительной интонацией (середину «куплета»). Так доминанта закрепилась на пятой ступени.
Если же трезвучие построить так, чтобы «финалис» стал его верхним звуком, а квинта до второго по важности звука отсчитывалась вниз, то появится «нижняя доминанта» («субдоминанта»), а всё построение приобретет неустойчивость (поскольку «финалис» — наверху). Но тогда стоит ли называть исходную для отсчета ступень словом «финалис»? Она ведь не при любой аккордовой поддержке звучит приемлемо для завершения!
Кроме того, выходит, что один и тот же по структуре аккорд может звучать по-разному в разных местах мелодии!
Это открытие. Сделал его младший современник Баха французский композитор и теоретик Жан-Филип Рамо. Он использовал также в полной мере еще одно старое наблюдение музыкантов — взаимозаменимость звуков, расположенных на октаву друг от друга. Родственность таких звуков издавна использовалась при переносе («транспонировании») мелодий из одного регистра в другой — от баса к альту или сопрано, при имитации басом альта и т. п. (пение через октаву приравнивается к пению в унисон). При разбивке сплошного длинного звукоряда (например, у клавишных инструментов) звукоряд разделен по октавам, и в каждом разделе повторяется одна и та же последовательность черных и белых клавиш, повторяются одинаковые названия ступеней: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.
Выделив три главных ступени, Рамо назвал их «тоника» (бывш. «финалис»), «доминанта» (квинтой выше) и «субдоминанта» (квинтой ниже). Если надо вписать субдоминанту в тот же отрезок звукоряда, который начинается с тоники и подымается гаммой на октаву вверх, то субдоминанта (передвинутая на октаву выше) придется на четвертую ступень (на кварту). Итак, первая ступень («прима») — это тоника, четвертая (кварта) — субдоминанта, пятая (квинта) — доминанта.
Жан-Филип Рамо — французский композитор и теоретик XVIII века, сын органиста, открывший законы функциональной гармонии
Такие же названия закрепились за построенными на этих ступенях (отсчетом вверх) трезвучиями. Трезвучие тоники (называемое тоже «тоника») — это устойчивый аккорд, годный для завершения фразы или законченной части фразы. Трезвучие субдоминанты звучит неустойчиво, после него так и просятся тоника или доминанта. Поэтому субдоминантное трезвучие уместно в начальных пунктах фразы или перед концом ее первой (взывающей) части. Трезвучие доминанты звучит тоже не так устойчиво, как тоника, но гораздо более напряженно, чем субдоминанта. Ведь в трезвучие доминанты входят звуки, «вводные» к тонике (отстоящие от ступеней тоники на тон или — особенно напряженно — на полтона). Это седьмая и вторая ступени. Поэтому такой аккорд усиливает тяготение к тонике. Место ему — перед тоникой.
Если после субдоминанты тоника, повторяя один из звуков субдоминанты, звучит еще не очень решительно и уместна для завершения первой части фразы, то после доминанты, из-за резкости контраста, тоника уже звучит окончательным разрешением напряженности. Ею уместно завершить всю фразу. Трезвучия, построенные на других ступенях, зазвучали как неустойчивые, тяготеющие к ближайшему из основных трезвучий — как промежуточные вехи движения.
Уместность или неуместность того или иного аккорда стала определяться не только его структурой и внутренней согласованностью, но и позицией аккорда в развертывании музыкальной фразы, его функцией в этом развертывании, а стало быть, тем, какие аккорды прозвучали перед ним и какие должны прозвучать после него. В словарь музыкантов вошли слова «тяготение», «напряжение», «разрешение».
Постепенно стали формироваться некие стереотипные последовательности аккордов с законченной логикой движения — «каденцы», «кадансы», «каденции» (от лат. cadere ‘падать’). Гармония теперь была возможна, жила, звучала и без мелодий. Зато мелодии уже не существовали в чистом виде — они воспринимались как пробежки по шпалам той или иной беззвучной каденции, как раздробление ее основных и вставленных в нее промежуточных, проходящих аккордов. В ушах слушателя теперь всё время мелодию сопровождает хотя бы мысленный аккомпанемент. Старую идею о том, что гармония вырастает из одновременного пения мелодий, Рамо совершенно перевернул: «Мелодия возникает из гармонии», — написал он в своем «Трактате» 1722 г. (цит. по: Schenk 1926: 103).
Функциональный подход резко изменил всю группировку аккордов по сравнению с привычной, основанной только на их внутренней структуре. Скажем, мажорные трезвучия, построенные на любой ступени, имеют одинаковую структуру, но функции их различны. Зато разные по структуре аккорды (трезвучие, кварт-секстаккорд, терцаккорд), построенные к тому же на разных ступенях — разных генерал-басах, оказываются функционально близкими, почти идентичными. Дело в том, что, перемещая тот или иной звук трезвучия на октаву, мы не изменим набор, подобранность звуков друг к другу и их отношение к ступеням звукоряда, то есть не изменим функциональные возможности этого аккорда. А вот его структура и место баса совершенно изменятся. Такие перестройки трезвучий получили название «обращений».
Всё это внесло в беспорядочную толпу аккордов, классифицированных прежде сугубо формально, некое единообразие, солидаризацию по ролям, мощную всеобщую связь, организованность. Так возникла система функциональной гармонии, основанная на признании функциональных различий между разными ступенями звукоряда, то есть на признании их неравноценности для размещения мелодии и для развертывания полифонической музыкальной ткани.
Это позволило Йозефу Гайдну («отцу симфонии» и великому мастеру квартетов) совершенно изменить оркестровку. Квартет — это и состав ансамбля, и произведение, написанное для него. В таком ансамбле для каждого звука аккорда, как для каждого голоса в хоре, предназначен особый инструмент — от самых высоких до самых низких. Скажем, в струнном смычковом квартете — скрипка, альт, виолончель и контрабас (как в хоре — сопрано, альты, тенора и басы).
На деле Гайдн не был отцом симфоний — они сочинялись задолго до него. Но он был отцом современного симфонического оркестра и современной оркестровки. При старой оркестровке клавишный инструмент или орган заполнял аккордами звуковое пространство. Так образовывался «скелет», на который накладывались мелодические линии скудного оркестра тех времен. Это та техника оркестровки, которую называли basso continuo — ‘непрерывный бас’. Она соответствовала гармонической системе генерал-баса. В произведениях Гайдна эта техника сходит на нет. Взамен приходит полнозвучное использование возникающего большого симфонического оркестра.
Йозеф Гайдн — австрийский композитор и капельмейстер, отец современного симфонического оркестра, мастер функциональной гармонии
Гайдн сначала отработал новую гармонию на квартетах, где каждый инструмент вел свою линию, а вместе они создавали ходы аккордов. Симфонический оркестр постепенно складывается у Гайдна из нескольких квартетов. Такой сложившийся из квартетов оркестр Гайдна — это основа современных симфонических оркестров. Квартет струнных смычковых (скрипки — первая и вторая, альты, виолончель, контрабас) издает нежные и пронзительно мелодичные звучания. Обычно им отдана львиная доля всех мелодий. Первых скрипок обычно от двух до десяти, столько же вторых, от двух до четырех виолончелей и т. д. Квартет деревянных духовых (флейты, рожки, гобой и фагот) дает звучания более тусклые и матовые. Он дублирует струнные или занят в аккомпанементе. Позже вместо рожков были введены кларнеты. Квартет медных духовых (трубы, валторны, тромбоны, иногда туба) применяется для энергичных звонких восклицаний — истинно трубных, фанфарных, для усиления ритмического рисунка. Добавочно звучат струнные щипковые и струнные ударные (арфа, фортепьяно) — для дробного заполнения музыкальной ткани. Наконец, перепончатые и медные ударные (литавры, барабаны, тарелки, колокола) служат для отбивания такта и мощной поддержки в нужных местах глухим гулом. Череду аккордов и всю гармонию создает весь оркестр, каждый инструмент вносит в созвучие свою ноту, и оркестр звучит, как один огромный инструмент.
Фагот, контр-фагот и сордун
Был, правда, случай, когда Гайдн по сути вернулся к некоторым основам прежней гармонии. Тридцать лет Гайдн прослужил капельмейстером придворного оркестра венгерского магната князя Эстергази. Когда князь надолго задержал своим музыкантам отпуск, они попросили своего капельмейстера дать князю понять, что они устали. Гайдн сочинил симфонию, которая и была исполнена. Во время исполнения вдруг группа музыкантов встала, погасила свечи на своих пюпитрах, закрыла ноты и тихо ушла со сцены. Оркестр продолжал играть в меньшем составе. Затем тот же трюк проделала еще одна группа. Симфония не прерывалась — она и была сочинена для всё уменьшающегося состава. Прощание с публикой проделывали всё новые группы музыкантов. Наконец, на полутемной сцене остались только две скрипки, игравшие мелодию. Они и закончили симфонию, после чего тихо удалились. Намек был понят, и отпуск подписан. Разумеется, чем меньше был состав оркестра, тем меньше возможностей для функциональной гармонии. То есть пришлось на прощанье возродить «свободный склад» Баха. «Прощальная» симфония Гайдна была не только прощанием музыкантов с публикой, но и прощаньем композитора с прежней гармонией.
(Мне «Прощальная» симфония Гайдна запала в душу потому, что в детстве, будучи лет 12, я участвовал в ее концертном исполнении, помнится, имитируя на рояле партию арфы — арфистка почему-то не могла прибыть на концерт. Я тогда тоже задул свечу на своем пюпитре, тихо закрыл крышку рояля и на цыпочках удалился за кулисы.)
Преобразования, внесенные функциональной гармонией, также освободили мелодию от скованности, от привязки к нескольким ступеням церковных ладов, от топтания вокруг них (в теории музыки это называется олиготоника — от греч. олигой ‘немногие’). Уже ученик Гайдна Моцарт сочиняет мелодии, перепрыгивающие через ступеньку-две или больше, пробегающие по трезвучиям, широкими зигзагами — вспомним ту же арию Фигаро (это называется хазмотоника — от греч. хазмос ‘раскрытый’, ‘раздвинутый’). Всё это в теории подготовил Рамо.
Вольтер, любивший ясность мышления, выступил в поддержку Рамо. А вот второму властителю дум эпохи — Жан-Жаку Руссо — не понравились выкладки о доминантах и субдоминантах: он увидел в этом насилие над природой, над естеством. Но ведь Рамо не изобрел все эти отношения. Он открыл их в музыке своих современников, вытащил на первый план, объяснил, обосновал, утвердил. В психике поколения всё было готово для такой музыки. Основатели Венской классической школы XVIII века Гайдн и Моцарт развивали эту гармонию как единственно возможную. Не случайно третий корифей Венской классической школы Бетховен в начале XIX века признался своему нотному издателю, что обычно сам он не ощущает новаторства своих произведений — он узнает об этом от критиков. Более того, императивы новой гармонии поначалу не были в тягость, не давили, а вся система воспринималась избавлением от старых догм, снятием оков, высвобождением творческих потенций.
Вольфганг Амадео Моцарт — австрийский вундеркинд, виртуоз и композитор, придавший функциональной гармонии больше свободы и ожививший ее изяществом рококо
В европейской музыке функциональная гармония была зачата на рубеже XVII—XVIII веков, после Английской буржуазной революции, и достигла пика в 90-е годы XVIII века — ко времени Великой Французской буржуазной революции. Эта гармония — ровесница победы капитализма на континенте Европы. Капитализм же, высвобожденный из оков и возведенный в идеал, диктует людям свои нормы, свои критерии оценок, свои типы связей и придает им статус естественных.
Наступила эпоха Просвещения, когда подчиненность всей жизни людей неким общим неписаным законам стала очевидной, стала какой-то обнаженной. Родилась тяга видеть в основе всего устройства общества и всей организации жизни людей единые разумные и справедливые принципы, удобные для свободного роста третьего сословия и общие для всего мира. Единство этих принципов осознавалось как простота и всеобщий охват. Экономика получила объяснение сначала в теории Адама Смита, потом — в теории Карла Маркса. Очень наглядно выпятилось, сколь зависимы функции, роли, значение и поведение любых человеческих сил от их позиции в обществе, от их экономического веса и партийно-классовой принадлежности. И от их места в закономерном историческом процессе.
Общая демократизация, ликвидация сословных рамок, перекройка групп научили людей всё подвергать сомнению, вскрывать любые покровы и оболочки, срывать эффектные униформы и искать за ними пружинки реального жизненного интереса, экономические побуждения, функциональные сходства и различия. Так стали подходить ко всему — от солдат и чиновников, идущих за одним генералом (Бонапартом), до аккордов с общим генерал-басом. Стали оценивать с точки зрения того, чем эта новинка обогатит ситуацию, что будет означать для своих предшественников, какие возможности откроет тем, кто появится позже. Какую роль сыграет в истории.
В условиях периодически повторяющихся революций и войн понятие гармонии приобрело характер не констатации или нормы, а цели, идеала, для достижения которого необходимы борьба, познание законов и овладение господствующими позициями.
Людям предшествующих поколений не могло придти в голову искать источник движения, источник развития внутри развивающейся структуры — в ее внутренней напряженности. Ведь в условиях социальной стабильности всякие радикальные перемены воспринимались как нечто случайное, странное, как результат внешних толчков — нашествий, неурожаев, капризов того или иного монарха. Совсем иная психология складывалась в условиях подготовки революционных взрывов. Для людей этой эпохи стало естественным искать стимулы развития. Источники движения в самом развивающемся объекте — будь то человек или общество, солнце или музыка. В самой позиции объекта и его отношениях с другими, с более ранними или более поздними, может скрываться «напряжение» или «тяготение».
Доминанта и субдоминанта не случайно заняли впервые такое место в музыке именно предреволюционной Франции — в среде, где всё более явно и грозно вызревала решающая социально-политическая доминанта: ярость народных масс. Один и тот же с виду аккорд событий — философский диспут или стычка голытьбы — теперь явно набирал силу не столько в зависимости от горячности и талантов участников, сколько от своего места в ряду событий — от того, сколь тесно связан этот аккорд с доминантой, и разразился ли он в начале исторической «каденцы» или близ «разрешения». Музыка позволяла решать такие задачи почти безошибочно, политика подводила чаще. Для выравнивания и подправок гармонии ритмикой пришлось усилить секцию ударных: в музыке — тамтамом, в политике — гильотиной. И даешь tempo rubato! («украденный ритм», «не вполне в такт» — рубка голов здесь не при чем). Функциональная гармония досталась человечеству нелегко. Она не выдумана, а выношена и выстрадана.
Напоминаю, что из созвучий в число благозвучных вошли только терции. Остальные еще считались диссонансами и в музыкальную ткань не допускались. Но у Моцарта есть один квартет (№ 19), называемый «Диссонанс» — в нем есть и другие диссонансы. Применение диссонансов необычно для Моцарта. Квартет новаторский, экспериментальный. Публика не приняла это произведение и осуждала композитора за него. Но это Моцарт! Еще больше их у Бетховена. И в дальнейшем эти диссонансы стали считаться благозвучными.
14. Шестой экскурс в современность: баян
С этой мощной, стройной и плодотворной гармонией европейская музыка вошла в XIX век. Гайдн и Глюк, Керубини и Моцарт, да в большой мере и Бетховен — всё это функциональная гармония. Эмпирически она хорошо изучена — ее элементы тщательно описаны, классифицированы, прослежены у великих композиторов. Но Чайковский называл ее «гармоническими таинствами». Она и до сих пор остается такой. Виднейший советский музыковед Л. А. Мазель, признавая ее эмпирическую изученность, в своей книге «Проблемы классической гармонии» пишет:
«Однако достаточно удовлетворительного объяснения основных свойств классической гармонии до сих пор всё-таки нет. Так, еще Рамо констатировал факт терцового строения аккордов, но за два с половиной века, прошедших со времени его Traité d’harmonie, наука не дала ответа на вопрос, почему аккорды классической гармонии строятся по терциям, в чем смысл такой структуры, решению каких задач она способствует. Точно так же не объяснено наличие в классической тональности именно трех гармонических функций, в частности не раскрыт внутренний смысл существования двух неустойчивых функций (доминанты и субдоминанты), не проанализирована с должной полнотой различная природа этих функций. Не вполне убедительно разъяснено и то, на чем зиждется общеизвестная противоположность колористических и эмоционально выразительных возможностей мажора и минора, в чем причина особого значения в европейской музыке XVII—XX веков именно этих ладов, почему они выделились среди ряда других, каково их реальное взаимоотношение. Такого рода коренные вопросы и принадлежат к числу нерешенных проблем классической гармонии».
Под классической гармонией он имеет в виду «двуладовую (мажорно-минорную) функциональную гармоническую систему».
При всей таинственности ее воздействия, она и построенные на ней произведения близки и понятны нам. И это не только потому, что эпоха функциональной гармонии не так уж далека от нашего времени, но и потому, что социальная психология этой эпохи, рожденная в народных революциях и ознаменованная победой буржуазного образа мышления, определила дальнейшее развитие человечества. Рыночные отношения расставили многое по местам. Убежденность в закономерном ходе истории, обусловленность деяний позициями деятелей, зависимость значений и сил от функций и рангов — всё это движет ныне помыслами масс не меньше, чем тогда. Так что ожидать быстрого и полного распада функциональной гармонии не приходится. Ей еще жить и жить — и в очагах классических традиций и в живом народном быту.
На законах функциональной гармонии построена и большая часть современной популярной музыки. Ее мелодии легко запоминаются потому, что логические отрезки этих мелодий направлены к центрам функциональной гармонии — доминанте, субдоминанте, тонике — и завершаются ими. Самодеятельные аккомпаниаторы так легко подбирают аккомпанемент (обычно упрощенный) к незнакомым мелодиям потому, что подсознательно улавливают логику в последовательности аккордов — смену напряжений и разрешений, колебания между доминантой и субдоминантой с непременным выходом к тонике, посильно строят простые каденцы.
По этим трем опорным аккордам — доминанте, субдоминанте и тонике, — по их басам и надстроечным ступеням (то есть по басам их обращений) — ходят в основном контрабас в джазе и бас-гитара в бит-группе при исполнении популярных песен. Если любой опытный аккомпаниатор легко подбирает без подготовки аккомпанемент к пению, а искушенный пианист делает аккомпанемент даже богатым, то это благодаря функциональной гармонии. Уловив на слух тональность и лад (мажор, минор), он дальше легко определяет опорные ступени — доминанту, субдоминанту, тонику, и по ним выбирает подходящие басы и аккорды, сразу же находит вводные к ним звучания, словом ориентируется в функциональной гармонии предложенной песни. Пальцы сами ударяют нужные клавиши, они ведь уже не раз пробегали по этим схемам при исполнении выдержанных в данной гармонии произведений.
Даже в строении некоторых инструментов популярной музыки отразилась функциональная гармония. Так, в XIX веке гармонь и баян вошли в состав русских народных инструментов. Но ведь они отнюдь не рассчитаны на фольклорные лады. Само расположение кнопок («ладов») под пальцами левой руки приноровлено к требованиям функциональной гармонии. И нижние тоны (басы), идущие по вертикали, и примыкающие к ним кнопки с аккордами — в следующих рядах кнопок (мажорное трезвучие, минорное трезвучие, септаккорд) соседят в каждом ряду не по принципу гаммы (с интервалом в полтона — тон), а по отношениям: субдоминанта — тоника — доминанта (с интервалом в кварту). Это чтобы не приходилось слишком далеко перебрасывать пальцы при аккомпанементе, исполняемом по правилам функциональной гармонии. По этой причине тому, кто приучен играть на рояле (там клавиши расположены по гамме), так трудно перейти на баян или аккордеон.
Расположение кнопок левой руки баяна повторено у аккордеона (тогда как правая сторона у него повторяет клавиатуру рояля). В баяне и аккордеоне подчиненность музыки строжайшим структурным отношениям функциональной гармонии доведена до предела — у них ведь и нет других аккордов, кроме предусмотренных основными схемами функциональной гармонии.
Эта плетенка стандартных аккордов под левой рукой воплощает в себе жесткий схематизм, вызревавший в функциональной гармонии новые шаблоны, новые оковы. Такой окостеневшей оказывалась функциональная гармония в тенденции, в пределе. В абсолюте.
Гармонь: под правой рукой кнопки для мелодии, под левой — кнопки для аккомпанемента
Баян: по правой рукой кнопки для мелодии, выше — переключатель регистров мелодии, под левой рукой — кнопки для аккордов аккомпанемента
Аккордеон: под правой рукой — клавиатура как у рояля, выше — переключатели регистров, под левой рукой кнопки для аккордов аккомпанемента, как у баяна
15. Гармония романтиков
Конечно, в музыке XIX века этот абсолют был лишь опасностью, а не неизбежностью. Вся история музыки XIX века была постоянной борьбой с этой угрозой, постоянным преодолением ее. Физик Герман Гельмгольц в 1863 г. опубликовал свою работу «Учение о восприятии звуков как физическая основа для теории музыки». Он выводил причины гармонии из характера колебаний, рождающих звук, объяснял диссонансы — несовпадением звуковых колебаний, интерференцией волн, наличием биений, неприятных для уха. Этим же объяснял и отличие минора от мажора. Исходя из этого, немецкий музыковед Гуго Риман полагал, что функциональная гармония не изобретена, а открыта, что в ней и заключена подлинная и единственная природа музыки (Riemann 1900). В связи с этим он считал, что вся предшествующая музыка была лишь путем к этому открытию, его подготовкой, и утратила ныне реальное значение. Всё развитие музыки в XIX веке было если не прямым опровержением его концепции, то движением в эту сторону.
Немецкий физик XIX века Герман Гельмгольц, разрабатывавший законы физики как базу для теории музыки
Гуго Риман — немецкий музыковед XIX века, разработчик и апологет функциональной гармонии
С точки зрения функциональной гармонии классическая музыка Гайдна, Моцарта и раннего Бетховена была идеалом, а в дальнейшем начались искажение и порча музыки. Лев Толстой явно придерживался этого мнения, когда отвергал позднего Бетховена. Поясняя свою позицию, он излагал такой эпизод (он очень красочный, и я позволю себе привести пространную цитату — все его впечатления и рассуждения, связанные с этим эпизодом):
«На днях я шел домой с прогулки в подавленном состоянии духа. Подходя к дому, я услыхал громкое пение большого хоровода баб. Они приветствовали, величали вышедшую замуж и приехавшую мою дочь. В пении этом с криками и битьем в косу выражалось такое определенное чувство радости, бодрости, энергии, что я сам не заметил, как заразился этим чувством, и бодрее пошел к дому и подошел к нему совсем бодрый и веселый. В таком же возбужденном состоянии я нашел и всех домашних, слушавших это пение. В этот же вечер заехавший к нам прекрасный музыкант, славящийся своим исполнением классических, в особенности бетховенских, вещей, сыграл нам opus 101 сонату Бетховена.
Считаю нужным заметить для тех, которые отнесли бы мое суждение об этой сонате Бетховена к непониманию ее, что всё то, что понимают другие в этой сонате и других вещах последнего периода Бетховена, я, будучи очень восприимчив к музыке, понимал точно так же, как и они. Я долгое время настраивал себя так, что любовался этими бесформенными импровизациями, которые составляют содержание сочинений бетховенского последнего периода, но стоило мне только серьезно отнестись к делу искусства, сравнив получаемое впечатление от произведений последнего периода Бетховена с тем приятным, ясным и сильным музыкальным впечатлением, как, например, то, которое получается от мелодий Баха (его арии), Гайдна, Моцарта, Шопена — там, где их мелодии не загромождены усложнениями и украшениями, и того же Бетховена первого периода, а главное — с впечатлением, получаемым от народной песни — итальянской, норвежской, русской, от венгерского чардаша и т. п. простых, ясных и сильных вещей, и тотчас же уничтожилось искусственно вызываемое мною, некоторое неясное и почти болезненное раздражение от произведений последнего периода Бетховена.
По окончании исполнения присутствующие, хотя и видно было, что всем сделалось скучно, как и полагается, усердно хвалили глубокомысленное произведение Бетховена, не забыв помянуть, что вот прежде не понимали этого последнего периода, а он-то самый лучший. Когда же я позволил себе сравнить впечатление, произведенное на меня пением баб, впечатление испытанное и всеми слышавшими это пение, с этой сонатой, то любители Бетховена только презрительно улыбнулись, не считая нужным отвечать на такие странные речи.
А между тем песня баб была настоящее искусство, передававшее определенное и сильное чувство. 101-я же соната Бетховена была только неудачная попытка искусства, не содержащая никакого определенного чувства и поэтому ничем не заражающая» (Толстой 1964: 175—176).
Русский писатель Лев Толстой, критик классической музыки и проповедник безыскусной народной музыки
Народная песня, конечно, безыскуснее (в ней всё-таки меньше искусства!) и действует прямее на эмоции, особенно, если сопряжена с изъявлениями личной преданности и симпатии к барину. Лев Толстой, с лукавой откровенностью заговоривший о том, о чем многие не решались и подумать, отчетливо и утрированно до парадоксальности выразил ощущение значительной части общества, воспитанной на старых музыкальных вкусах. Пожалуй, лишь в преклонении перед народной музыкой тут просвечивало воздействие романтизма. Между тем, именно романтизм охватил Бетховена в его зрелые годы и, пройдя бурей по всему XIX веку, трансформировал функциональную гармонию.
В 1832 г. Ф. Ж. Фети ввел понятие «тональности». Тональности выдерживались и задолго до Фети, он лишь сформулировал понятие. Под ним он понимал единство гармонии и мелодики, группирующихся вокруг некоторых центров звучания. Если такой центр (доминанта) помещается на некой ноте, то другие функциональные звуки размещаются на определенных расстояниях от него. Но стоит центр сместить на полтона, тон или больше — и с ним сместятся в ту же сторону и на такое же расстояние все остальные функциональные точки гармонии. Такое смещение означает смену тональности и называется модуляцией. Смена тональности бывает необходима, когда произведение, написанное для одного голоса или инструмента, нужно транспонировать для голоса или инструмента другого диапазона. Но модуляцию можно осуществить и во время исполнения на одном инструменте или, скажем, оркестром — для художественного эффекта.
Модуляцию применяли и раньше, но Фети разъяснил ее как смену тональности и разработал правила — как следует производить модуляцию, чтобы единство произведения не терялось, куда и на сколько смещать. Так, у Моцарта «Турецкий марш» начинается в миноре и вдруг переходит в мажор, но в другой тональности — на полтора тона выше. Третья ступень становится первой — тоникой. Что тут происходит? В минорном трезвучии нижняя терция малая, а верхняя — большая. Как только всё сдвигается на полтора тона (малую терцию) вверх, тотчас верхняя терция становится нижней, а она ведь большая! Добавьте к ней сверху малую терцию — и у вас уже мажор! Но мажор, в котором всё же по памяти ощущается незавершенность, тяготение к возвращению вниз, в минор.
Функциональная гармония долго строилась на том, что звучание каждого следующего аккорда сплеталось со звучанием предыдущего, повторяя часть его звуков. Новая гармония у Бетховена и Шуберта не боится неожиданных переходов из основной тональности в отдаленные, скажем, из до-мажор в ми-минор, то есть внезапно сдвигается на большую или малую терцию вверх или вниз. Смену тональности все слушатели ощущают как освежение, обновление звучания. Вагнер и Мусоргский применяли этот эффект еще более смело (Стоковский 1959: 93). Многие слушатели говорят, что в момент такого перехода сердце ёкает и в голове светлеет. Этот момент четко улавливается в «Болеро» Равеля — перед самым окончанием.
Начиная с Бетховена, композиторы стали часто пользоваться контрастами — в громкости, в тональности, в темпе и т. д. Это придавало музыке драматический характер.
Людвиг Ван Бетховен — австрийский композитор-романтик конца XVIII — начала XIX вв., третий гигант Венской симфонической школы (наряду с Гайдном и Моцартом)
Всё более усложнялась и разветвлялась система норм. Появлялись доминанты доминант (отступя на квинту от основной доминанты), медианты (трезвучия на третьей ступени, средней между тоникой и доминантой), аккорды, альтерированные (измененные) сдвигом одного звука на полтона.
Альтерация (букв. ‘изменение’) — это сдвиг звучания тона, обладающего какой-то функцией, на полтона вверх (на нотном стане это обозначается диезом #) или вниз (бемолем b). Такой сдвинутый тон звучит неустойчиво и напряженно, он так и просится «вернуть» его на положенное место. Термин «альтерация» особенно прилип к изменению на полтона квинты в трезвучиях, что превращало эти трезвучия в диссонансы, повышая напряженность. На рояле если основная тональность играется на белых клавишах, то диезы и бемоли расположатся на черных (они ведь на полтона отстоят от белых). Пианисты наступающего периода стали всё больше залезать на черные клавиши. Это придало звучаниям оттенок неуверенности, неудовлетворенной тяги и напряженности. Музыка стала всё больше использовать все звуки 12-ступенной гаммы (такая гамма — вся из полутонов — называется хроматической, по аналогии с цветовыми полутонами). Обильно прибегал к хроматизации Вагнер. Сравнив отрывки из Берлиоза с отрывками из Моцарта, Бернстайн (1978: 44) подсчитал, что у Берлиоза треть всех нот не принадлежит к диатонической (разноинтервальной) гамме, тогда как у Моцарта — только одна двенадцатая. То есть прибегание к хроматике у романтика Берлиоза в 4 раза больше, чем у классического Моцарта. Хроматика сильно расшатала нормы функциональной гармонии. Это был путь к разрушению тональности.
Минорный лад с помощью альтерации превратился в нечто необыкновенно напряженное, надорванное и экзотическое. В нем была альтерирована бемолем шестая ступень (секста), а так как она отстояла от седьмой на тон, то между шестой и седьмой ступенью образовался полуторатонный разрыв, который при обратном движении придал пению или звучанию инструмента просто рыдающие интонации. Это напоминало восточные песни и звучало экзотически. Стабилизировавшись, минор с уменьшенной секстой сформировал особый лад, получивший название гармонической пентатоники. Такая пентатоника часто звучит в произведениях Вагнера, Листа, Мусоргского, Пуччини, в «Шехеразаде» Римского-Корсакова. Применялась и увеличенная секста. А. И. Серов вспоминает, что как-то он выразил Глинке свое восхищение его романсом «Люблю тебя, милая роза» и рассуждал о его эстетических достоинствах. Глинка, как бы строя из себя работящего мужичка от музыки, не понимающего столь высоких материй, возразил: «А между тем, барин, тут есть и злоба. Мне хотелось доказать возможность употребления аккорда увеличенной сексты» (Серов 1950: 158)[1].
В число консонансов вошел еще один интервал — уменьшенная на полтона септима (практически ей идентична увеличенная секста). О ней Верди писал своему приятелю Флорино: «Она для нас для всех — клад и прибежище, мы не можем написать ни единого такта, не напихав в него с полдюжины этих самых септим!» (Верфель 1962: 542). [Гармонические особенности уменьшенного септаккорда, состоящего из трех малых терций, анализирует Мазель (1991: 61—62). Он отмечает: «Основная эмоционально-выразительная сфера его применения — образы глубокой скорби, тревоги и смятения, ужасов и катастроф…», но добавляет, что в гармонии романтиков этот аккорд стал стандартным. Чайковский признавался, что в своей увертюре «1812 год» часто прибегал для передачи ужаса к этому «дешевому средству».] Близкий Приятель Чайковского музыковед Г. А. Ларош (1913: 186) писал, что и Вагнер для самых драматических моментов своих опер не мог найти ничего лучшего, чем тремоло (дрожание) струнных на уменьшенном септаккорде: «Грозит ли несчастье, гремит ли проклятье, шипит ли злоба, трепещет ли страх, раскрывается ли тайна, совершается ли смертоубийство — весь струнный квинтет дрожит на уменьшенном септаккорде». Струнный квинтет — это скрипки первая и вторая, альт, виолончель и контрабас. Лев Толстой (1945: 320), подтрунивая над условностями симфонической и оперной музыки (он ведь исходил из психологии мужичка), так описывал оперный спектакль начала XIX века: «Но вдруг сделалась буря, в оркестре послышались хроматические гаммы и аккорды уменьшенной септимы…».
Шопен, Григ и Дебюсси открыли очарование в большом доминантноннаккорде. Нонна — на одну ступень (секунду) больше октавы, — так же, как секунда, числилась в диссонансах, и вот же оказалась достаточно благозвучной на вкус романтиков.
Композиторы стали часто пользоваться аккордами, построенными на медиантах. Медианта — это средняя часть трезвучия тоники. Верхняя медианта вынесена на терцию вверх (на третью ступень от тоники), нижняя медианта (субмедианта) — на терцию вниз (т. е. на шестую ступень). Медианты и построенные на них аккорды производят впечатление неустойчивых и тяготеют к разрешению в более устойчивые звуки и аккорды: нижняя медианта — в доминанту, верхняя — в субдоминанту. Медиантами часто пользовались Шуберт, Шуман, Брукнер, Берлиоз, те же Лист и Вагнер.
Мало того что еще некоторые диссонансы (малая септима) были переведены в консонансы. Всё больше места стало отводиться тем созвучиям, которые всё еще оставались диссонансами.
В арсенал композиторов вошли сложные аккорды с неопределенной ладовой характеристикой — то ли мажор, то ли минор. Таким был, например, знаменитый «тристановский аккорд» Вагнера — аккорд, с которого начиналась опера «Тристан и Изольда», «аккорд томления». Технически говоря, это звучание можно воспринять как терцсекстаккорд с повышенной секстой на основе альтерированной субдоминанты («двойной доминанты», как ее зовут в московской школе). Это аккорд очень неустойчивый с непонятным разрешением, требующий многих переходов для разрешения. Он может разрешаться почти во все тональности. Кстати, он применялся иногда и до Вагнера, но у Вагнера он стал знаковым, выражением стиля. Новаторство Вагнера вообще заключалось в замене арий речитативами, в закреплении за мотивами символических значений. Вагнер придумал короткие стереотипные мотивы, закрепленные каждый за определенным героем или типическим событием. Такая мелодия звучала при каждом его появлении или как напоминание о нем. Он назвал эти мелодии лейтмотивами (нем. ‘ведущими мотивами’), и с тех пор словечко это вошло в лексику всех языков. В гармонии новации Вагнера — это сложные и неопределенные аккорды и отсутствие тонической опоры, которое вело к бесконечным мелодическим ходам почти без разрешений, что, в свою очередь, создавало невыносимое томление и нарастание эмоций.
В чем смысл всех этих трансформаций? Какая психология времени в них отразилась? Какие социальные сдвиги и перемены? Это выход на общественную сцену романтиков.
Если эпоха Просвещения отличалась рационализмом, то романтиков обуревали противоположные идеи. Кризис рационализма имел социальную основу. Потрясения революции и наполеоновских войн расшатали представление о том, что человек действует в основном рационально, подчиняясь рассудку, и что, основываясь на рассудке, можно добиться всеобщего мира и благоденствия. Оказалось, что эмоции, субъективные и часто невразумительные, а также родившиеся в подсознании позывы личностей играют слишком большую роль в жизни людей и в истории. На этом основании появляется острый интерес ко всему необычному, непонятному, мистическому, а в философии замечается тяга к выявлению эффекта тайных, непреодолимых и непознаваемых законов истории, к обнаружению парадоксов и противоречий в жизни и людях.
Такое недоверие к разуму могло бы вызвать рост упований на религию, но и религия сильно ослабела после вековой очистительной работы атеистов-просветителей и после революционных экспериментов с культом Верховного существа.
Быстрый рост и распространение технических изобретений с самого начала вызывали не только научный энтузиазм, но и отторжение. Отторжение вызывала и урбанизация, при чем она раздражала не только неудобствами городской жизни в отрыве от природы, но и гигантским размахом централизации. Сетования вызывал не только отрыв от природы, но и обилие и жесткость культурных норм и запретов. Частая смена резко различающихся режимов и правительств привела к релятивистскому осознанию условности всех культурных норм. Все больше людей начинало тяготиться условностями своего собственного общества, своей среды, воспринимать их как насилие над личностью. Отсюда интерес ко всему экзотичному, ностальгическая тоска по давним временам, симпатии к простонародным слоям.
Еще одной отличительной чертой века были авторитет и привлекательность реформаторских и революционных идей — к ним тянулось все молодое, живое, творческое и перспективное. Стабильность, консервативность казались омертвляющими. Даже в периоды подавления революций, в условиях реставрации, немного находилось талантов, которые бы осмелились отстаивать консервативные ценности и правоту государственной власти. Бетховен сначала посвятил свою Третью симфонию (Героическую) в 1804 г. революционному и победоносному генералу Бонапарту, но, узнав, что Наполеон провозгласил себя императором, разорвал первый лист партитуры. «Теперь он будет попирать права человека и удовлетворять только собственное честолюбие», — были слова Бетховена. Вагнер, сам участник революции 1848 г., написал книгу «Музыка и революция».
Национально-освободительные движения и войны ряда народов против наполеоновской Франции, завоевавшей почти всю Европу, а затем национально-объединительная борьба в Германии и Италии имели своим следствием национальное самосознание и бурный рост национализма во многих странах Европы. Особую ценность приобрела идея национального духа, проявляющегося во всех созданиях народа и отличающего каждый народ от других.
Рихард Вагнер — немецкий композитор-романтик XIX века, радикальный националист, увлекавшийся немецкой мифологией и средневековьем. Вводил в музыку диссонансы, лейтмотивы и многодневные оперы
Революционность Вагнера была националистической и анархической. Познакомившись с анархистом Михаилом Бакуниным, призывавшим к полному разрушению всего старого мира, Вагнер получил дополнительный стимул к разрушительному нигилизму. Сам он с юмором сообщает о музыкальных интересах Бакунина: «Что до музыки, то он рекомендовал мне всячески варьировать всего один текст — тенор должен петь: “Обезглавьте его!”, сопрано: “Повесьте его!”, а бас твердить: “Огня, огня!”» (Галь 1986: 199). Со временем бунтарский национализм Вагнера приобрел расистскую и антисемитскую окраску, что сделало композитора одним из лидеров растущего немецкого расизма и впоследствии идолом нацистов. Вагнер отвергал всю музыку, современную ему, всех композиторов, кроме Бетховена и своего тестя Листа, и мечтал о создании «музыки будущего», написал теоретическую статью «Художественное произведение будущего». Таковой он мыслил свою музыку. После мюнхенской премьеры «Тристана» писал своим друзьям: «Несравненное достигнуто!» и выражал надежду, что «когда-либо вызреет в моей душе истинный плод самого своеобычного, самого немецкого искусства, глубина и красота которого превзойдут всё, что создавали во славу свою иные нации…» (цит. по: Галь 1986: 274).
Романтизм овладевает духовными помыслами людей литературы, культуры и искусства с конца XVIII века по середину XIX и несколько позже (примерно до 1870). Возникнув в Германии, в борьбе с классицизмом и неоклассицизмом, он вытесняет их и распространяется по всей Европе и по Америке (США), определяя литературу, искусство и в какой-то мере философию. Названием своим учение обязано одной из своих отличительных черт — увлечению средневековьем: “романами” в европейской литературе именовались главным образом средневековые рыцарские романы и повествования о куртуазной любви (то, что в русской литературе называется “романом”, в европейской терминологии называется “новеллой” — ср. англ. novel). В романтизме воображение было поставлено над рассудком, эмоции над логикой, интуиция над наукой. Ригоризм прежних стилей был отвергнут, романтики предпочитали более свободный стиль. Для романтиков была характерна смесь мятежности и меланхолии. Будучи людьми городской культуры, они отчаянно тосковали по естественной жизни на природе, отвергали реалии побеждающих буржуазных отношений и быта, мысленно убегали в прошлые века и в несбыточную фантастику.
В музыке их, естественно, тяготила непререкаемость норм функциональной гармонии. Чайковский пенял Римскому-Корсакову, что у того в учебнике гармонии всё предписано, ограничено и нет свободы. Против «правила VII» на полях он проставил замечание: «Господи, до чего много правил!» (Чайковский 1957: 237), а в письме Николаю Андреевичу сетовал: «Вы слишком щедры на правила, слишком мелочно и педантично трактуете о каждой подробности» (Чайковский 1957: XXI).
Это началось еще с первых шагов романтизма в музыке. Бетховена, жившего на рубеже XVIII—XIX веков, называли вершиной Венской классической школы, и одновременно он считается первым романтиком в музыке. Один приятель заметил Бетховену, что у того в музыке допущены параллельные квинты. «Ну и что?» — насторожился композитор. «Но ведь они запрещены…», — напомнил приятель. «Я разрешаю их!» — в бешенстве заорал Бетховен (Стоковский 1959: 39). Свое «я» он подставил на место романтической гармонии: разрешала она. Для Бетховена это был уже естественный образ мышления, ставший частью его личности. Он часто применял резкие смены музыкального ритма, силы звука, темпа, любил контрасты.
Уже его учитель Гайдн в конце жизни позволял себе прибегать к ним. В 1790-е годы он приехал в Англию и среди его симфоний, сочиненных там, была знаменитая симфония «Сюрприз» (№ 94). В ее медленной части тихая нежная музыка внезапно прерывается оглушительным ударом литавр. Гайдн сказал, что хотел «заставить дам подскочить на креслах». Возможно, он сам так и осмысливал свой придворный «Сюрприз», но на деле его, вероятно, побуждало к этому подсознательное понимание, что старая музыка становится слишком пресной и скучной. У контрастов Бетховена были более осознанно высокие намерения — выразить страсть, породить в душах волнение, вызвать душевный подъем.
Вообще романтики старались произвести могучее, грандиозное воздействие на слушателя. Они еще больше увеличили оркестр за счет медных духовых. Иллюстрируя это в своей телевизионной лекции, Леонард Бернстайн (1978: 52—53) прибег к эффектному приему, перевернув кунстштюк Гайдна с «Прощальной симфонией». Бернстайн напомнил слушателям о скудном оркестре Баха, примерно 1725 года, и повернулся к оркестру. По этому сигналу тридцать оркестрантов встали. Затем дирижер заговорил об оркестре Моцарта примерно 1785 года — еще тридцать оркестрантов встали. «А теперь, — сказал дирижер, — взгляните на оркестр (Рихарда) Штрауса в 1890-м — это фактически наш современный оркестр». Тут встали все оркестранты — больше ста человек.
Гектор Берлиоз в 1837 г. написал Реквием памяти павших героев революции 1830 года, свергшей режим Реставрации Бурбонов. Для открытого исполнения Реквиема он запланировал в оркестре 150 литавр, 60 рожков, 60 турецких колоколов, 100 валторн, 80 барабанов, 300 труб. И это было реализовано! Для Восьмой симфонии Малера (1909 г.) требовалось более 1000 участников.
Гектор Берлиоз — французский композитор-романтик XIX века, впервые использовал саксофон
Композиторов-романтиков очень привлекали неустойчивые сочетания звуков. Эти звучания, тяготеющие к другим, опорным звукам, требующие разрешения, невыносимо затягивались. Разрешение всё не наступало, и это неустойчивое положение приносило томление, почти страдание и изощренное наслаждение. В особенно напряженных местах использовались диссонансы — они усиливали тягу к благозвучному разрешению и радовали взломом норм. Частые модуляции в отдаленную тональность создавали атмосферу обновления и освежения — что и требовалось.
Саксофон — новый духовой музыкальный инструмент, металлический, но с мундштуком от деревянного кларнета, обладает певучим, но слегка гнусавым звуком. Изобретен Альфредом Саксом, введен в оркестр композитором-роматиком Берлиозом в середине XIX в., обычно используется в джазе
В поисках новых звучаний романтики вводили новые инструменты. Так, Берлиоз в середине XIX века использовал изобретенный Адольфом Саксом новый духовой инструмент саксофон — металлический, но с мундштуком от деревянного кларнета. Он обладал певучим и слегка гнусавым тембром и впоследствии стал любимым инструментом в джазе.
Но романтики избегали злоупотреблять диссонансами. В своем учебнике гармонии П. И. Чайковский (1957: 66—67) писал:
«Вообще же диссонирующие аккорды не должны переполнять гармонию; несмотря на их огромное множество, они для общей экономии представляют скорее тягостный избыток, чем насущную потребность. Истинное богатство ее составляют трезвучия. Приступая к свободному выбору аккордов, следует всего менее увлекаться стремлением к исключительно резким гармоническим формам; они драгоценны для композитора, который прибегает к ним для выражения особенных, исключительных настроений души; но в гармонии, не проникнутой мыслью… накопление сильно диссонирующих сочетаний, ничем не мотивированное, вредит впечатлению целого».
Многие композиторы стали часто прибегать к заимствованию мелодий и гармонических сочетаний из народных песен: Григ — из норвежских, Глинка — из русских, Бизе — из испанских, Сибелиус — из финских, Дворжак и Сметана — из чешских и словацких, Шопен — из польских. Австриец Йоганн Штраус ввел в классическую музыку ритмы народных танцев — вальс. Другие обратились к средневековью. Вагнер искал темы своих драматических спектаклей в раннесредневековом германском эпосе («Нибелунги»), других романтиков привлекали средневековые лады.
Лев Толстой (1964: 169—170) с позиций здравого смысла издевался над потугами Вагнера насытить до предела оперу шаблонными поэтическими образами романтики (русалки, гномы, чудища, битвы, волшебные огни, пение птиц), найти им механическое соответствие в лейтмотивах, стремление поразить звуковыми эффектами.
«Музыка эта отступает от всех прежде принятых законов, и в ней появляются самые неожиданные и совершенно новые модуляции (что очень легко и вполне возможно в музыке, не имеющей внутренней закономерности). Диссонансы новые и разрешаются по-новому, и это — занимательно. Вот эта-то поэтичность, подражательность, поразительность и занимательность доведены в этих произведениях… до последней степени совершенства и действуют на зрителя, загипнотизовывая его, вроде того, как загипнотизовывался бы человек, который в продолжение нескольких часов слушал бы произносимый с большим ораторским искусством бред сумасшедшего».
Музыковедом-теоретиком, выразившим принципы романтической гармонии, особенно первой половины XIX века, был Гуго Риман, живший во второй половине века. Он акцентировал внимание на различии консонансов и диссонансов; исследовал роль контрастов в музыке; в отличие от Рамо, считавшего минор производным от мажора, видел в миноре конструкцию, исходно противоположную мажору; субдоминанту называл «аккордом конфликта»; написал специальную статью против традиционных запретов (в частности запретов параллельных квинт). В то же время в статье «Музыка после Вагнера» он восхвалял чистое вино классической музыки, предпочитая его «опьяняющим смешанным напиткам модернистов». Берлиозу, Листу и Вагнеру он противопоставлял более сдержанного романтика Брамса, первую симфонию которого насмешливо называли последней симфонией Бетховена.
Между тем, всё многообразнее становились родственные связи между тональностями, допускающие модуляцию (переход из одной тональности в другую). Чем больше приемов включалось в нормы, чем больше возможностей открывалось музыканту, чем больше разрешалось, тем условнее становилась обязательность исходной гармонической системы. Она разбухла, стала изобретательной, богатой возможностями, но рыхлой. В 1920 г. швейцарский теоретик музыки Эрнст Курт пишет о «кризисе романтической гармонии» в музыке Вагнера. Потом эта книга выходила многими изданиями, есть и в переводе на русский (Курт 1975). Нашлось немало охотников распространить вывод Курта на всю гармонию — но это уже применительно к музыке XX века. М. Фогель считает, что кризис был не в романтической гармонии, а в современном учении о ней (Vogel 1962).
Курт явился теоретиком поздних романтиков. Он настолько проникся мыслями о разрушении функциональной гармонии, что связи аккордных тонов вынужден был искать в мелодических линиях. В книге «Романтическая гармония» он писал: «тоны являются, собственно, лишь балластом линии» (Kurt 1923: 7). Это побудило его вернуться к закономерностям контрапункта — в книге «Основы линеарного контрапункта» (есть русский перевод 1931 г.). Близок к этому был и Чайковский. В своем учебнике гармонии 1872 г. он писал (1957: 19): «…истинная красота гармонии состоит не в том, чтобы аккорды располагались так или иначе, а в том, чтобы голоса, не стесняясь ни тем, ни другим способом, вызывали бы свойствами своими то или другое расположение аккорда».
Петр Ильич Чайковский — русский композитор-романтик второй половины XIX в., был также преподавателем консерватории и автором учебника гармонии
Он вообще был не удовлетворен состоянием музыкальной теории конца века. В письме 6 опреля 1885 г. он придирчиво критиковал аналогичный учебник Н. А. Римского-Корсакова и так объяснял свои, как он выражался, «ехидство» и «злобность»:
«Мне кажется, что тут дает себя чувствовать моя ненависть к преподаванию гармонии; ненависть, происходящая от сознания, с одной стороны, несостоятельности существующих теорий и неумения изобрести новую, состоятельную, а, с другой стороны, от свойств моего музыкального темперамента, лишенного условий, требуемых для добросовестного преподавания. 10 лет я преподавал гармонию и 10 лет ненавидел свои классы, своих учеников, свой учебник и себя самого как преподавателя» (Чайковский 1957: XXI).
16. Седьмой экскурс в современность: блюз
Колоритная, красочная, полная напряжений, гармония романтиков звучала в европейской музыке почти весь XIX век. Симфонии Бетховена, оперы Гуно и Верди, балеты Чайковского и рапсодии Листа, Брамс и Шуберт, Глинка и Мусоргский, драматические мистерии Вагнера, «Свадебный марш» Мендельсона и «Фиалка Монмартра» Кальмана — всё это романтическая гармония, продолжающая и обогатившая функциональную. Она и построенные на ней произведения близки нам не только потому, что из всех произведений прошедших эпох эта ближе всех к нам по времени. Она близка нам еще и потому, что многие социальные, политические, культурные и идеологические конфигурации XIX века перешли в век XX и определяют его лицо. Социализм, вызревавший как идеал в XIX веке, стал реальностью в XX, но оказался драматичной и во многом трагической реальностью. Тоска по естественной жизни, проецируемой то в прошлые века, то в будущие; тревожное опасение, что всё это — несбыточные иллюзии; романтика борьбы и уход в себя; индивидуальный террор и апелляция к простонародью — всё это движет в XX веке помыслами интеллектуалов не меньше, чем в XIX, и, видимо, будет двигать в XXI. Эти века связаны воедино.
Более того, по впечатлению американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна (1978: 54), эта музыка привлекает нас больше, чем современная академическая музыка!
«И вот, — говорил он в 1961 г., — мы пребываем в нашем определенном, точном, деятельном, гигиеническом столетии, в глубине души тоскуя по прошлому. Это правда. Почему мы так рвемся к Шуберту, Шуману и Вагнеру? Почему устремляемся в концертный зал при одном лишь упоминании имени Брамса? Почему ваш любимый композитор — это Чайковский? Потому что он и его романтические собратья дают вам то, к чему вы рветесь в глубине души, то, чего лишены наша блестящая современность и будущее…. В сердце своем мы по-прежнему романтики. Я думаю, что мир, однажды уязвленный страстью к свободе, никогда полностью не избавится от лихорадки, неумолимо преследующей нас в жажде свободы».
И уж, конечно, романтическая гармония находит обильное использование в массовой музыке современности.
Альтерация нашла неожиданное соответствие в джазе. Специфически джазовая гармония, по ступеням которой проходит мелодия блюза и джаза, строится на так называемой джазовой гамме. Гамма эта — обычная минорная гамма, в которой альтерированы (сдвинуты на полтона вниз) не только третья, но и пятая и седьмая ступени. Все три сдвинутые тона называются «блю» (грустными или голубыми). Но аккомпанемент выдерживается в обычном мажоре. Получается расхождение мелодии и аккомпанемента, что создает диссонансные созвучия.
Параллельные кварты, разрешенные вновь Бетховеном в начале XIX века, звучат в джазовом пении XX века. Это пение отрешилось от чистых трезвучий, от привычного для нашего уха размещения голосов на терции друг от друга. Голоса в джазовом хорике отстоят друг от друга на кварты и секунды, создавая диссонансные созвучия и эффект особой хриплости пения. Джазовые хорики звучат как размноженный голос Луиса Армстронга с его природной хрипотой (или, может быть, природная хрипота Луиса Армстронга удачно попала в тон хриплому тембру джазового хора, с его тягой к диссонансам).
Элла Фитцджералд — королева блюза
Мелодии песен Шуберта и романсов Чайковского стали народными песнями, и гармоническая пентатоника перекочевала в популярную музыку. Альтерация, ведущая к хроматике, звучит в песнях «Битлз» (вспомним «Мишель»). В гитарном роке квинтовые «аккорды» (на деле двузвучия), с выпавшей терцией (выпавшим средним звуком), оказываются ладово неопределенными (ни мажор, ни минор). В этом смысле они продолжают традицию неопределенных романтических аккордов, хотя причина их появления иная: при физическом разрушении звука «грязнящими» средствами только чистые консонанты способны удержать высотную распознаваемость, без которой нет ни мелодии, ни гармонии.
В XX веке имело место не только продолжение, развитие и освоение традиций XIX века за пределами серьезной музыки, но и испуг перед этими традициями и их отвержение, особенно в советском музыковедении. Такой тонкий и высокообразованный музыкальный критик, как Иван Иванович Соллертинский (1956: 249), анализируя сравнительно консервативного романтика Брамса, писал:
«Брамс с поразительной проницательностью и дальновидностью понимал, что от листо-вагнеровских эротических томлений и экстазов, от шопенгауэровского, буддийского или неокатолического пессимизма, от тристановских гармоний, от мистических озарений, мечтаний о сверхчеловеке — прямой путь ведет к мистицизму и декадентству, к распаду классической европейской художественной культуры».
Иоганнес Брамс — немецкий композитор-романтик, консервативно придерживавшийся традиционных романтических принципов в музыке
Лучшие советские критики не могли (или не смели) сообразить, что музыка века романтики, так же как последовавшая затем музыка XX века, были обусловлены социальной психологией своего времени и соответствовали ей.
Однако в опасениях перед увлечением некоторыми сторонами этой гармонии было и много справедливого. Скажем, силовое воздействие звука оркестра Берлиоза нашло системное продолжение и безграничное развитие в современном звучании рок-ансамблей, с их сверхмощными усилителями, от которых сами музыканты вынуждены затыкать уши надежными пробками. Эти децибелы звучания стали органической частью музыки, рассчитанной на «балдеж», на отключение от рассудка, на потрясающие эмоции, для музыки, приравненной к алкоголю и наркотикам. Как ни странно, и такое использование музыки имело провозвестников в XIX веке.
17. Музыка XX века
Худо ли, славно ли, но XIX век подошел к концу. Окончилось нормальное, гладкое развитие капитализма. Резко обострились противоречия, пали иллюзии, благополучную разумность истории дискредитировали конвульсии мировых войн. Отчаянные лидеры выдвинули социализм как альтернативный путь развития человечества и подвигли массу людей, даже целые страны на испытание этого пути.
В результате всего зашаталось представление о единой системе норм и законов, управляющих миром. Многим жизнь стала представляться беспорядочной, невообразимо сложной и нелогичной. Новую культуру А. Моль (1973: 43—46) предлагает называть «мозаичной» и изображает в виде войлочной путаницы связей, без правильной кристаллической решетки (а именно такую решетку напоминала функциональная гармония). Одних эти перемены пугают, других радуют. Так или иначе, дают повод оправдывать безграничную свободу личной инициативы, волевые решения.
В этой обстановке функциональная гармония, даже в романтическом варианте, стала казаться некоторым музыкантам чересчур искусственной, однообразной, пресной. Уж очень она связывает вдохновение композитора, подчиняет его шаблонным и скучным ожиданиям толпы. И всевозможные ухищрения, позволяющие подвести чуть ли не любой выверт под какие-нибудь подпараграфы разросшегося свода гармонических законов, не отменяют установку на систематичность, на согласованность. В этой гармонии всё еще слишком много благозвучия — теперь это кажется едва ли не обманчивой, даже фальшивой красивостью.
И вот уже вместо привычной музыки, выдержанной в тональностях, появляется нечто новое (Persichetti 1961). Отменяется фигурно программированная последовательность интервалов — неравных (то на тон, то на полтона) и неравноценных, составляющих семиступенную диатоническую гамму (мажорную или минорную). На ее место выдвигается равномерная гамма и провозглашается функциональное равенство ее ступеней.
В последней четверти XIX века и первой четверти XX импрессионисты Дебюсси и Равель первыми сдвинули привычные нормы. Это были поздние романтики, увлекшиеся импрессионизмом и символизмом в поэзии. Желая передать не конкретную реальность, а лишь свои впечатления (impressions), французские художники-импрессионисты создавали лишь смутные зыбкие образы, в которых набор цветных пятен и оттенков должен был передать субъективные ощущения художника. Подражая этому, Дебюсси стремился к тому, чтобы его музыка звучала тоже смутно — без четких мелодий и гармонически неопределенно. Функциональная гармония, даже с романтическими альтерациями была для него слишком жесткой.
Ашиль-Клод Дебюсси — французский композитор последней четверти XIX — первой четверти XX века, работал в стиле импрессионизма, с полным отходом от функциональной гармонии
Он применял очень большие и сложные терцовые аккорды, в которых тональность смазывалась. Применял битональность — мелодия в одной тональности, аккомпанемент — в другой (нечто типа джаза, из которого кстати Дебюсси, современник его рождения, охотно заимствовал приемы). В полном соответствии с характерной для романтизма тягой к средневековью Дебюсси перенес в современную музыку средневековые лады, а главное — разработал полнотоновую пентатонику. В ней только интервалы по тону, нет полутонов. В ней нет также опорных и зависимых звуков, упрощенно говоря, нет бемолей и диезов. Или, наоборот, одни черные клавиши. Это полный отход от функциональной гармонии. Такая музыка звучит экзотично и бесплотно, абстрактно, без напряжений и тяготений, ее называют атональной.
Затем по пути атональной музыки пошла «новая венская школа» первой половины XX века, которая стала работать в хроматической гамме из 12 полутонов, абсолютно равноправных. Это додекафония венского композитора Арнольда Шёнберга (от греч. «додека» — ‘двенадцать’). Сам он описывал свои произведения как вещи «без архитектуры, без структуры, где присутствуют только постоянно нарушаемые последовательности цветов, ритмов и настроений». Но он протестовал против оценки его музыки как атональной. Среди его венских учеников, уверовавших в эту всё-таки атональную музыку, выделяются Альбан Берг и Антон Веберн. Экспериментировал с этой музыкой и поздний Стравинский, в частности в своем «Реквиеме».
Арноль Шёнберг — венский композитор первой половины XX века, основатель «новой венской школы», изобретатель додекафонии и сериальной техники
Чтобы ввести какую-то системность в этот беспорядок, Шёнберг строил всё сочинение на повторении мотивов, состоящих из ряда тонов хроматической гаммы, где каждый тон звучит не более одного раза. Он назвал эти мотивы «сериями». Во второй половине XX века его последователи стали вводить серийную технику, в которой допускаются и повторения тонов, а потом и «сериальную технику», в которой принцип серийности распространяется и на ритм, тембр и т. д. Эту музыку назвали «сериальной». Ее сторонники — Оливье Мессиан и его ученики Пьер Булез и Карлгейнц Штокгаузен. «Сериализм» — это тоже атональная музыка. Антон Веберн разработал особый стиль: отрывочные звуки, короткие, в 2—3 звука мотивчики окружены паузами — этот стиль (в подражание импрессионистам) назван «пуантилизм».
Еще дальше пошли пропагандисты «конкретной» музыки — итальянец Луиджи Руссоло и парижанин Пьер Шеффер. Они отказались от равнения на консонансы, от соразмерных интервалов и от музыкальных звуков вообще — отмеренных, чистых и абстрактных.
Эти новаторы стремятся организовать музыкальную ткань из «конкретных» звуков — шумовых, обыденных, натурально-бытовых — как топот, смех, крики животных, рокоты механизмов.
Американец Джон Кейдж экспериментировал с алеаторикой (от alea — ‘игральная кость’) — запланированным усилением элемента случайности в исполнении. Для него музыка — это любые звуки, которые возникают во время концерта. Обычно музыканты всячески стараются предотвратить посторонние звуки: покашливание, скрипение стульев, разговор и любые внешние шумы, которые могут донестись в концертный зал. Для Кейджа это музыка. Образец — фоновая музыка в ресторане под разговоры посетителей. Между струнами рояля он помещал разные предметы, чтобы добиться грязного и неожиданного звучания и вообще использовал рояль в качестве ударного инструмента. Играл он и на ансамбле радиоприемников, включая и выключая их. Алеаторике отдали дань также Булез и Штокгаузен. Произведение Кейджа, написанное в 1951 г. как пьеса для фортепьяно и названное «4’33», получило скандальную известность, вроде «Черного квадрата» Малевича. Исполнителю предписано 4 минуты 33 секунды не прикасаться к клавиатуре — пусть звучит зал. Что ж, в эпоху, когда слух заполнен фоновой музыкой отовсюду, тишина, пауза стала составным элементом музыки.
Американец Джон Кейдж, композитор-экспериментатор XX века, изобретатель алеаторики. В его произведениях значительная роль отводится тем случайным шумам, которые производит публика в зале
Это произведение вместе с сериализмом, роком, джазом и соул послужило отправным пунктом для американских композиторов, которые в конце 60-х создали течение минималистов. Они провозгласили принцип обходиться минимумом музыкальных средств. Из минималистов наиболее известны Стив Райли, Стив Райх и Филипп Гласс. Минималистская музыка строится на несложном, но четком ритмическом рисунке, при котором на фоне одних и тех же басовых ходов пролетают короткие и однообразные обрывки мелодий и статичной гармонии. Всё это повторяется бесконечное множество раз. Такая повторительность принесла минимализму также название репетитивной музыки (от лат. repetitio — ‘повторение’). Простоту мелодики и гармонии компенсирует изощренная ритмика. Эта школа имеет много сторонников по всему миру.
Филипп Глас — американский композитор второй половины XX века, один из лидеров течения минималистов, у которых в музыке на основе четкого ритма и одних и тех же басовых ходов пролетают короткие мелодические отрывки, всё время повторяющиеся
Всё это воспринималось традиционалистами как кризис и упадок. Еще на рубеже XX века композитор С. Танеев, учитель Рахманинова и Глиэра, провидчески и с неодобрением писал:
«Заступившая место церковных ладов, наша тональная система теперь в свою очередь перерождается в новую систему, которая стремится к уничтожению тональной связи и исключает из нее те элементы, которые расчленяют произведение на отделы, группируют мелкие части в крупные и скрепляют всё в одно целое. …Устойчивое пребывание в одной тональности, противопоставляемое более или менее быстрой смене модуляций, сопоставление контрастирующих строев, переход постепенный или внезапный в новую тональность, подготовленное возвращение к главной — все эти средства, сообщающие рельефность и выпуклость крупным отделам сочинения и облегчающие слушателю восприятие его формы, мало-помалу исчезают из современной музыки. Отсюда измельчение строения отдельных частей и упадок общей композиции. Цельные, прочно спаянные музыкальные произведения являются всё реже и реже. Большие произведения создаются не как стройные организмы, а как бесформенные массы механически связанных частиц, которые можно по усмотрению переставлять и заменять другими» (Танеев 1959: 9—10).
Танеев считал, что выход заключается в возрождении и укреплении контрапункта. Как мы видели, его рецепт странным образом воплотился в джазе.
Нужно сказать, что все эти пугавшие Танеева новации всё же не составили мейнстрима (главного течения) в серьезной музыке, хотя и дали другим композиторам источник для обогащения музыкальной ткани новыми звучаниями. В грамзаписях продолжали звучать классические произведения прежних веков, а крупнейшие композиторы XX века — Малер, Прокофьев, Шостакович продолжали придерживаться обогащенной романтизмом функциональной гармонии, но с обильным использованием хроматики и диссонансов. Это течение можно было бы называть неоклассицизмом, если бы это название не закрепилось за другой группой композиторов, которые возродили некоторые приемы эпохи Возрождения, барокко и венских классиков в смеси с сугубо современным музыкальным языком. В порядке и гармоничности старого искусства они искали спасения от хаоса и гипертрофированной эмоциональности экспрессионизма, но не могли уйти от изысков и техники модерна. Из русских композиторов эту тенденцию (неоклассицизм) проводил Игорь Стравинский в средний период своего творчества, из немецких — Пауль Хиндемит.
Дмитрий Дмитриевич Шостакович (рис. Н. П. Акимова) — крупнейший советский композитор, из первого авангарда, для которого характерен модернизм на классической основе. Всю жизнь Шостаковичу приходилось преодолевать грубое давление идеологов-догматиков из партийного руководства страны
Сергей Сергеевич Прокофьев (портрет работы Кончаловского) — другое светило первого авангарда, он также испытывал те же грубые формы давления властей
Но и в музыке Прокофьева и Шостаковича (это основные фигуры первого авангарда) чувствуется воздействие модернизма при сохранении классической основы. У Прокофьева (скажем, в «Скифской сюите») звучат страшные диссонансы, для него характерен широчайший диапазон мелодики с резкими скачками, но при всем том устойчивая тональность, четкие классические формы, упругий регулярный ритм. Шостакович включает в свой язык видоизмененные средневековые лады и распевы, симфонизирует фугу и развивает традиции Чайковского и Мусоргского. У него очень богатая полифония (с «густым» звуком), но с рваными ритмами, частой сменой тем и ладов, что-то от музыки для кино (и клипов), обильное прибегание к гротеску и фарсу.
На смену этому течению Альфред Шнитке (его причисляют ко второму авангарду) разработал стиль, который он назвал полистилистикой. Для него характерны намеки на разные стили и обильное использование цитат из сочинений классиков, а также соединение банального и изысканного, словом, деконструкция стиля. Значительное воздействие на формирование Шнитке и других композиторов этого направления (особенно Э. Денисова) оказала работа над музыкой к кинофильмам. В ней цитаты, стилизация и использование элементов «конкретной» музыки были естественны — обусловлены спецификой жанра. Кроме того, не входя в рамки академической музыки, в СССР, она как-то выпадала из-под контроля идеологических цензоров советской эстетики.
Альфред Шнитке — талантливый советский композитор, которого относят ко второму авангарду. Укрывался от давления идеологов в музыке для кинофильмов, вне академической музыки. Свой принцип называл полистилистикой
Но и неоклассицизм и модернизм первого авангарда — насыщенный и динамичный экспрессионизм на классической основе — воспринимались традиционалистами в штыки.
В написанных в 1955 г. воспоминаниях о Рахманинове А. В. Оссовский вспоминает, как осенью 1915 г. на заседании совета Русского Музыкального Издательства Кусевицких встал вопрос об издании «Скифской сюиты» («Ала и Лоллий») С. С. Прокофьева. Вопреки мнению многих членов совета, покровительствовавших «модернизму и декадентству», Рахманинов «решительно, со всей силой своего авторитета выступил против принятия этой, по его мнению, варварской, новаторски дерзкой, нарочито какофоничной музыки». Всё же сюита была издана. О дальнейшем Оссовский пишет:
«В январе 1916 года «Скифская сюита» была исполнена под управлением автора в одном из концертов Зилоти, происходивших во время войны в Мариинском театре. Это был тот исторический случай, когда флегматичный А. К. Глазунов, раздражённый и возмущённый музыкой «Скифской сюиты», демонстративно, во время самого исполнения, решительной (ему не свойственной) поступью покинул зал, пройдя к выходу на глазах публики через весь партер по среднему проходу. С последним аккордом сюиты стены зала потряс оглушительный грохот бурных аплодисментов и неистовые крики восторга, а весь этот адский шум и гам прорезывали пронзительные свистки и злобное шипение. В горячем обмене впечатлениями Рахманинов, в необычном для него возбуждении, тут же в зале сказал:
— При всём музыкальном озорстве, при всей новаторской какофонии, это всё же (должен признаться) талантливо. Мало у кого такой стальной ритм, такой стихийный волевой напор, такая дерзкая яркость замысла. Последняя часть — Шествие Солнца — предел какофонии, но прямо ошеломляет силой и блеском звучности» (цит. по интернетному сайту «Сенар» 2007).
Свою тираду о консерватизме Брамса И. И. Соллертинский в 1930-е годы продолжал так:
«Спор шел ни больше, ни меньше как о дальнейших судьбах европейской музыкальной культуры в целом: удержится ли она в лучших классико-романтических традициях, связанных с великим музыкальным прошлым, или неудержимо покатится по декадентскому наклону — ко всяческим «измам», к разрушению классических жанров, структур и связей, их нигилистическому отрицанию, к формальному гениальничанью, истерии и внутренней безыдейности — ко всему тому, что будет характеризовать этически опустошенное искусство загнивающего капитализма… Задержать распад европейской музыкальной культуры, ориентировать ее на великие классические эпохи прошлого, охватить ее железным обручем строгой классической формы, бороться с рыхлостью, расплывчатостью, дряблостью неоромантических эпигонов — такова была великая историческая задача Брамса. Поверхностным критикам эта задача казалась рожденной в голове упрямого консерватора и архаиста; по существу она была во всяком случае не менее дерзновенно-смелой, нежели вулканический замысел “музыки будущего”».
По поводу этой тирады другой советский литературный и музыкальный критик Ираклий Андронников (1975: 74) через полвека возглашает: «Какой блеск и какой не утрачивающий своего назначения смысл, хотя сказано это более четырех десятилетий назад! Нет, пожалуй, сейчас эти слова кажутся даже более современными, чем в 30-е годы!». В известной мере это было возрождение концепции Гуго Римана о достижении пика, предела в функциональной гармонии.
[Ах, тон всему этому интеллигентному критицизму задавало отношение идеологических заправил советской культуры — все эти постановления ЦК, передовицы «Правды»…]
В музыке Малера, Прокофьева, Шостаковича закладываются основы не «нулевой гармонии», а просто новой гармонии — более свободной, более резкой и напряженной. Она непривычна для уха, воспитанного на традиционных звукосочетаниях и каденцах. Но она вовсе не тождественна беспорядку и шуму, как об этом писали сталинские блюстители музыкальной нравственности («Сумбур вместо музыки»).
Любопытно, что Сталин и Гитлер одинаково симпатизировали упорядоченной и строго организованной классической музыке, третируя всякий модернизм и джаз как упадническое искусство: Сталин — как буржуазное разложение, Гитлер — как интернационально-еврейское повреждение расовой чистоты. Сталинские идеологи давили, травили и поучали гениев русской музыки, нацистские идеологи запретили музыку Хиндемита, вынужденного эмигрировать. Правда, в Советском Союзе Сталин не отправил обоих гениев в лагеря и на расстрел (в отличие от того, что он проделал со многими писателями и учеными), а в нацистской Германии Гитлер не расправился с Рихардом Штраусом, хлопотавшим перед ним за еврейских музыкантов, — фюрер и его главный музыкант два часа орали друг на друга, как вспоминает Штраус. Однако новаторства в музыке оба диктатора не терпели.
В чем основные структурные завязки новой гармонии? Некоторые кристаллизовавшиеся нормы улавливаются, но которые из них выдвинутся на руководящие позиции, а которые останутся частными регуляторами, пока неясно.
Возможно, что вскоре утратит прежнюю гегемонию терцовая структура аккордов. Уже сейчас применяются «квартовые аккорды», целиком построенные на квартах — как бы многоэтажные квартовые строения. Они играют большую роль в современной серьезной музыке (Камерная симфония Шёнберга, Седьмая симфония Густава Малера и др.). Эта новая гармоническая структура подготовлена выделением квартовых связей между основными функциональными ступенями (доминанта — тоника — субдоминанта). В какой-то мере она напоминает старинное народное многоголосие, но рассчитана на слушателя, преодолевшего рамки терцовых структур. На слушателя, готового к более резким и широким созвучиям, к разреженному, раздвинутому, просторному гармоническому каркасу, к дальним прыжкам мелодических ходов. Эта новая, резкая и тревожная гармония уже находит применение и в современной популярной музыке.
Применяются и аккорды, образованные секундами, — «кластеры». Для нашего уха это сугубо диссонансные звучания. Но мало ли аккордов звучало диссонансами прежде! Известный музыковед, специалист по гармонии, Ю. Н. Холопов (1993), проследив от эпохи к эпохе за последнюю тысячу лет постепенное увеличение «сонантного коэффициента» (соотношения частот в интервалах, почитаемых за приемлемые), сформулировал это увеличение как закон развития музыки.
Возможно, однако, что генеральный путь перестройки гармонии будет иным — что главный упор будет сделан на размельчение и обогащение системы интервалов. Октава разделена у нас на 12 полутонов, из которых мы обычно по-разному компонуем 7 ступеней гаммы (в зависимости от лада). Но ведь наше ухо различает и гораздо более тонкие соотношения. Уже Б. Бузони, композитор начала XX века, требовал ввести в музыку треть тона, одну шестую и одну двенадцатую. Другой музыкант, Алоис Хаба, предлагал узаконить четверть тона. Действительно, можно разделить октаву не на 12, а на 24 (или на 22 «шрути», как в Индии) или даже на 48 интервалов, а из них компоновать лады опять же умеренным набором разновеликих ступеней. Это называют микротональной музыкой.
Леопольд Стоковский (1959: 92) пишет:
«Примитивные гармонии древности основывались на нижних обертонах (это обеспечивало более простые математические отношения, а значит благозвучие. — Л. К.). В будущем гармония сможет располагать обширнейшей областью для своего развития сочетанием частотных соотношений высших обертонов, — например, интервалов между 12-м и 13-м обертонами. Таким образом будут созданы новые гармонические концепции, следующие по пути, указанному самой природой».
[Австрийский писатель Герхард Амансхауэр (1980) написал пародию в форме интервью — «Беседа с композитором». Композитор якобы предложил еще один вариант новой музыки — в ультразвуковом диапазоне, в котором общаются сигналами летучие мыши. Люди его не слышат.
«А. Г-н композитор, плекотоническая музыка, собственно, музыка летучих мышей; не кажется ли вам, что столь необычное название может навеять нам мысль, что своими композициями в ультразвуковой области вы намереваетесь подурачить людей?
К. В искусстве при обозначении новых направлений часто встречаются нелепые названия, к которым впоследствии привыкают. Над новой музыкой всегда вначале смеются».
Писатель возражает, что новую музыку встретила в штыки и весьма передовая публика:
«А. …это была публика, приветствующая все виды музыки и готовая принять и признать непривычное. Время скандалов, слава богу, миновало. Но как человек может одобрительно относиться к музыке, которую он не слышит?
К. Новую музыку вначале никто не слышит. Ее обычно начинают слышать позднее».
Далее композитор поясняет:
«Тоны — лишь небольшая часть в мире шумов. Тоновая музыка очень бедна. …Тоны европейской музыки — я иногда называю ее геометрической музыкой — всего лишь небольшая часть в мире слышимых звуков… Слышимый звук находится в том диапазоне, который с музыкальной точки зрения является самым неинтересным. Я хочу сказать: люди тугоухи».
Писатель снова возражает: «Но музыка не есть средство для постижения мира…»
«Так говорят сторонники старой музыки, — отвечает композитор-новатор. — Я теперь не очень охотно говорю о музыке. Я говорю о ‘сонике’».
Не правда ли, «плекотоническая музыка» подозрительно близка к «4’33» Кейджа и к запредельному звучанию многих рок-групп, а всё интервью выглядит очень реалистично? Именно так и происходит раздвижение диапазона звучаний, освоение новых созвучий, грозящих выходом за пределы музыки. Рассказ Аменсхауэра иронически обыгрывает реальные поиски «музыки будущего».]
В частности той микротональной, которую предвидел знаменитый дирижер симфонических оркестров Леопольд Стоковский. Той, на основе которой, по его гипотезе, зазвучат экзотические мелодии и созвучия «не от мира сего».
Зазвучат? Но ведь и они уже будоражат наш слух — джазовый певец часто сдвигает голос чуть-чуть в сторону не только от ритма (синкопа), но и от чистого тона. Еще настойчивее это звучит в экспериментах джазового авангарда, в индейских разработках мексиканского композитора Каррильо, в опытах с синтезаторами, в импровизациях Джимми Хендрикса, в перенасыщенной диссонансами и «конкретными» звуками музыке «тяжелого рока». То есть можно и движения в молодежной и популярной музыке рассматривать как эксперименты для музыки серьезной.
Эти звучания еще очень хаотичны, находимые структуры еще не устоялись, не сложились в системы норм. Однако это поиски оправданные, закономерные и перспективные. Немногие удачные находки станут такими нормами. Но чтобы это произошло, нужно многое отбросить, а чтобы многое отбросить, нужно многое испытать. Нужна смелость, которую серьезная музыка вправе себе позволить лишь в очень ограниченных пределах: она ведь держится на традициях, на потребностях образованной и подготовленной публики.
18. Музыка «легкая» и «тяжелая»
В первобытном мире вся музыка, обрядовая и бытовая, была одинаково народной и одинаково респектабельной. С окончанием первобытного существования музыка разделилась на «высокую» (возвышенную, серьезную) и «низкую» (массовую, легкую). К первой относили сначала церковную музыку, потом частично и светскую — рассчитанную на концертное исполнение в верхних слоях общества, на образованных и подготовленных слушателей. Ко второму разряду — сначала обрядовую и бытовую народную музыку, потом музыку для масс, танцевальную и развлекательную. В XIX и XX веках серьезная музыка считалась классической, то есть образцовой, ведущей (некоторые пуристы называют «классической» только музыку XVIII века — от Баха до Бетховена), а легкая массовая музыка называлась популярной, в XX веке сокращенно — поп. Сюда же относится и авангардная музыка богемы. Численно это очень разновесные категории. Свыше 80 % всех грамзаписей в мире — это лёгкая музыка, менее 20 % — классическая, а современная классическая — около 5 %. Впрочем, и в легкой авангард — не более 5 %.
Курт Блаукопф в книге «Музыка в переменах общества» (Blaukopf 1982: 277) приводит данные немецкого опроса слушателей радио 1963 г. По этим данным, опереттами и опереточными мелодиями интересовалось 60 процентов слушателей, развлекательной музыкой вообще — 58, народной музыкой — 51, танцевальной — 41, классической — 18, романсами — 14, симфониями — 11, целыми операми — 10, церковной музыкой (также органной и ораториями — 10, джазом — 7, современной серьезной музыкой — 6.
Он же приводит классификацию слушателей швейцарского радио 1979 г. (Blaukopf 1982: 280). Швейцария — одна из наиболее зажиточных и культурных стран. Швейцарская классификация разделяет слушателей на 5 категорий:
1. простонародный тип — 21 % (люди с узкими и устарелыми музыкальными предпочтениями, они вообще мало интересуются музыкой);
2. прогрессивный тип — 19 % (молодежь от 15 до 24 лет, с предпочтением ко всяческому авангарду, часто сами играют, радио слушают мало);
3. тип рок-поп — 19 % (в основном до 40 лет, любят англо-американскую легкую музыку и барокко);
4. разносторонний тип — 26 % (им желательна самая разная легкая музыка, часто слушают радио в машинах);
5. классический тип — всё же 16 % (но вместе с интересом к классической музыке эти также охотно слушают танцевальную, легкую, рок, поп и народную, серьезную же музыку охотнее слушают в концертах, чем по радио).
Компоненты музыки рождались в быту и ритуалах и переходили в серьезную музыку. Несомненную связь с повседневной жизнью имеют ритмы. Маршевый ритм приурочен к ходьбе, а изменение его темпа отражают различие психологических установок: бег, поспешное движение, мерный шаг, торжественное важное триумфальное шествие, медленный ход похорон. Четки разнообразные трудовые ритмы. Танцевальные ритмы возникли как их подчеркнутая, стилизованная и обогащенная разработка. Ритмы колыбельные, ритмы спокойные и отражающие взволнованное биение сердца, ритмы природных явлений (волн морского прибоя) — все они легко переносятся в музыку и без специального опознавания оказывают соответствующее воздействие на психику.
Очень богата ассоциациями мелодика музыкальных произведений — последовательность и размах, повышения и понижения, фразировка, дробность и контрастность разработки тем, вариации звучности, инструментовки и т. п. Ассоциации основаны на том, что мелодика, конечно, живо напоминает интонации человеческой речи — мужской и женской, грубой и нежной, гневной и томной, резкой и мягкой, ясной и глухой и т. д. Неисчислимым оттенкам живой человеческой речи и возможностям их перевода в музыку соответствует безграничный ассортимент ассоциаций, которые можно таким способом вызвать.
Сложнее воздействие гармонии, однако и тут мы выяснили физиологическую обусловленность воздействия на психику: благозвучные звукосочетания и неблагозвучные, напряжения и разрешения, тяготение и устойчивость, мажор и минор. В принципе они действуют на всех одинаково.
Однако смехотворны попытки понять и разъяснить, что в точности сказал композитор или исполнитель своей музыкой, или что хотел изобразить. Даже если он хотел что-то сказать или изобразить (есть и так называемая «программная музыка» с соответствующим пояснительным текстом), он членораздельно ничего не сказал и ничего не изобразил. На вопрос, часто задававшийся композиторам: «Ну и что вы хотели этим произведением сказать?» (любимый вопрос наших идеологических контролеров), — композитор вправе ответить: «Ничего». Точнее было бы: «Словами — ничего». Или: «То, что вы слышали». Он не оратор. Он воздействовал на слушателя в определенном направлении, создал ему определенное (запланированное) настроение, возбудил его воображение. А уж тот, поддавшись этому воздействию, сам себе нечто сказал и нечто вообразил, отчасти близкое к тому, что говорил себе и воображал себе творец, а, возможно, и совершенно не то. В том-то и своеобразие и очарование музыки, что она воздействует очень гибко, что ее идеи смутны и пластичны, что она предоставляет много свободы творческому соучастию слушателя. И она позволяет композитору, музыканту выразить и передать такие сплетения эмоций, такие наборы настроений, которые словами и изображениями не ухватить и — главное — не передать.
Если бы всё это лучше было выразить словами или рисунками и если бы их можно было так выразить, то для передачи этих идей музыка была бы попросту не нужна. Ведь неопределенность — не всегда недостаток. Это также и богатство возможностей. Чем сложнее и изысканнее конструкции естественных стимуляторов эмоций, чем тоньше ассоциации, тем, конечно, сложнее их уловить, труднее почувствовать их воздействие. Но тем богаче возможности — тем глубже музыка, тем выше наслаждение для тех, кто изощрен для такого восприятия. Там, где один различит богатую и сложную музыку, другой услышит только шум.
Вагнер был ярко одаренным композитором, но он явно хотел передать своей музыкой идеи, которые многим из нас чужды и даже ненавистны. Его музыку обожал Гитлер. Но это вовсе не значит, что мы должны воспринимать его музыку точно так же, как его шовинистически настроенные соотечественники. Мы слышим в его музыке совсем не то, что он стремился туда вложить. На музыке нет прямого отпечатка политических идей и социальных пристрастий. Есть лишь эмоции разного рода, а куда их приложить и повернуть, зависит от того, кто и когда воспринимает эту музыку. Святой и преступник услышат в ней разные вещи, но оба испытают ее воздействие, если оба имеют одинаковый уровень музыкальной культуры, если обоим доступен тот музыкальный язык, на котором написано это музыкальное произведение.
Отсюда ясно, как много в музыкальном восприятии зависит от слушателя, от его изощренности, развитости, подготовленности и настроения в момент восприятия.
Здесь и залегает критерий отличения так называемой легкой музыки от серьезной (трудной, глубокой, сложной для восприятия). Помню, как соседский паренек с тоской проговорил, когда я включал при нем проигрыватель: «Тяжелую музыку будете слушать…». В общем логично: легкой по идее противостоит тяжелая. В легкой музыке ритмы должны быть постояннее, четче, разборчивее. Мелодии должны быть интонационно простого рисунка, с четкими фразами и должны повторяться, чтобы запомнились, ибо человек с неизощренным слухом не может уловить в мелодии какую-то понятную интонацию, если, слушая, успевает сразу забыть ее пассажи, которые только что прозвучали. Гармония должна обеспечить эту понятность мелодической интонации, поэтому надо почаще приводить ходы к разрешению и нельзя изменять ладотональность слишком часто. Диссонансов должно быть поменьше, чтобы неопытное ухо не утратило нить гармонического движения. Предпочтительны небольшие размеры произведений.
Слишком простые и доступные мотивы, затасканные ходы мелодии кажутся изощренному слушателю примитивными, скучными и пошлыми.
Всё это вовсе не значит, что легкая музыка вообще хуже серьезной, ниже рангом, менее важна. Просто у нее другие задачи и другой адресат. По аналогии можно припомнить, что стихи для детей — не низший, не худший и не самый мелкий жанр поэзии.
Сделать цикл песен, которые примут и полюбят миллионы, может быть, не менее трудно, чем написать симфонию. Этот цикл может быть хуже, а может быть и лучше симфонии. [В интернете сейчас можно найти ожесточенный спор, кто выше — «гигант ДДШ», т. е. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, или «великий Дуня» — Исаак Дунаевский. Критериями выдвигают масштаб, народность, оригинальность, степень независимости от тоталитарного режима и т. п. Можно, конечно, мерить таланты, но правильнее величину каждого определять по особой шкале, потому что шкалы очень разные.] Приверженность слушателей к легкой музыке также не может считаться чем-то принижающим их человеческое достоинство, чем-то заслуживающим лишь снисхождения, чем-то, на что любой серьезный музыкант вправе смотреть свысока.
Памятник композитору, автору многих советских песен Исааку Осиповичу Дунаевскому на Новодевичьем кладбище в Москве
Дмитрий Дмитриевич Шостакович в конце жизни (умер на двадцать лет позже Дунаевского — в 1975 г.)
Пусть к восприятию легкой музыки всё запрограммировано несколько четче и определеннее, чем в серьезной музыке. И всё же в ней самой, в ее создании остается такая огромная свобода для вариаций, такое богатство нюансов, столько возможностей для передачи глубоких и сложных человеческих чувств, такое широкое поле для проявления творческих талантов, что нельзя отрицать принадлежность ее лучших образцов к высокому искусству. Ну, разумеется, в ней уйма пустых, бездарных, примитивных поделок. В нее легче пробиться без таланта и умения, а ее потребителя проще обдурить и одурманить. Но было бы глупо всю ее сводить к этому уровню.
Можно предпочитать легкую музыку и обладать очень развитым интеллектом — бывает, что он ищет сложные задачи в других областях, а в музыке требует только эмоциональной разрядки.
С другой стороны, и любителям легкой музыки не стоит третировать слушателей даже самой сложной серьезной музыки как свихнувшихся интеллектуалов, чуждых нормальным и простым человеческим чувствам. Или как снобов, которые только строят из себя знатоков и ценителей, а сами ничего не чувствуют, отсиживая в филармонии для приличия и престижа. Разработанность музыкального восприятия может заходить весьма далеко, и при этом нередко повышается требовательность к степени сложности музыки. У многих любителей легкой музыки постепенно расширяется диапазон приемлемых жанров — в сферу серьезной музыки. Нередко и целые разновидности легкой музыки — стиль за стилем, жанр за жанром — смещаются в сторону серьезной музыки, а затем и полностью в нее переходят — вместе с частью того поколения, которое было привержено ее последним стилям. Так было с джазом, а позже движение в эту сторону начинается в биг-бите. Можно наблюдать, как, отталкиваясь от биг-бита, молодые любители отбирали для себя органную музыку, Баха и Малера. К восприятию этой классики их, конечно, подготовили хард-рок и андерграунд.
19. Рядом с классической музыкой
Проделывая после изложения гармонии каждой эпохи экскурсы в современность, я прослеживал, как гармония этой эпохи откладывалась, отзывалась в современной массовой музыке — современной не этой давней эпохе, а нам. Гармонии, некогда бывшие новыми и передовыми, разрабатывавшиеся в серьезной музыке эпохи, оказывались слишком сложными для массовой музыки этой эпохи, но несколько веков или несколько десятилетий спустя, находили своих потребителей в массовой музыке. Так и проявились эти давние гармонии в легкой музыке нашего времени. Рассмотрев гармонию XX века, логично опять проделать экскурс в современность, но теперь это будет тот же XX век. Есть ли в массовой музыке нашего времени отражение современной гармонии, разработанной в современной же серьезной музыке?
Прямые отражения есть в причудливых рок-композициях Фрэнка Заппы — он разрабатывал идеи «новой венской школы» Шёнберга. Но есть и более общее увлечение тенденциями, характерными для «серьезной» музыки.
Рок-музыкант второй половины XX века Фрэнк Заппа, вносивший в свои рок-композиции элементы академической авангардной музыки — додекафонии и сериализма
Массовая музыка XX века чрезвычайно разнообразна. Однако новыми, ведущими и определяющими формами в ней являются в первой половине века — джаз, во второй — рок (или шире — биг-бит). О джазе и освоении им гармонии контрапункта я уже говорил. Для рока я также говорил об освоении его первопроходцами норм романтической гармонии, которую можно лучше всего почувствовать у «Битлз». Против «Битлз» в свое время было говорено много критических слов — противниками всего нового, особенно в советской печати. Потом их слава и авторитет стали непререкаемыми. [Теперь снова можно услышать критику их песенок, но уже с других позиций. Вот эскапады Эдуарда Лимонова (2003: 272—273):
«История „Битлз“ вульгарна. Они на самом деле та усредненная формула, которую шоу-бизнес предпочел извлечь из всего многообразия музыкального ассортимента того времени. Это безопасная формула. Улыбчивыми девочками, сладкоголосыми очаровашками высыпали на сцену эти рабочие ребятки. „Вокальный квартет“ назвали бы их на советской сцене. Вокальный квартет щебетал, резвился, встряхивал пушистыми челками и гривками, кланялся, производил звуки и движения в усредненном диапазоне. Заметьте, „Битлз“ никогда не позволяли себе ни истерики, ни экстаза. Средний диапазон. Они всех устраивали. И поклонников современности — песенки были незатейливы и музыкально просты, и левых — рабочие ведь парни, истинно „пролетарское искусство“, и консерваторов — ведь нет экстаза, нет истерики, всё приличненько. И поехали ребятки по миру, под простые припевчики, под дважды два — четыре. Счастливо заколачивая деньгу. Record business был тоже доволен — деньги эти середнячки принесли огромные.
Я не присоединялся к толпам, рукоплескавшим „Битлз“. Я ждал своего часа, пробавляясь Элвисом Пресли и ансамблем Советской Армии, до того времени, когда появились „Sex Pistols“ и „Clash“. Вот тут я сказал себе: „Это моя музыка!“ Мне нужна от музыки (и от искусства вообще) трагедия, социальный протест, истерика бунта. У „Битлз“ всего этого нет».
Требования к искусству у этого маргинала такие же, как у Бакунина и Сталина, пожалуй, ближе к последнему — большевистские: искусство должно служить политическим целям его партии, и только. У Сталина это был социалистический реализм, переросший в сталинский ампир, у Лимонова — революционно-анархический нигилизм, пока еще ни во что более не переросший.
Место «Битлз» в истории музыки он явно недооценил.] Прежде всего именно «Битлз» возродили для молодежной эстрады некоторые принципы исторической гармонии времени Баха — «свободный склад». Именно они сформировали и стабилизировали ту форму ансамбля, которая стала стандартом для молодежных бит-групп: квартет из трех гитар (соло-, ритм- и бас-гитары) и ударника. Они первые снабдили гитары электроусилителями и тем сформировали новый тип эстрадного оркестра.
«Битлз» в свою раннюю пору на сцене
Но «Битлз» не ограничились гармонией с генерал-басом. Они взяли у американских исполнителей первых форм рока, еще очень примитивных (Бил Хейли, Элвис Пресли, Маленький Ричард), этот эстрадный жанр и, соединив его с гармоническими структурами и мелодическими ходами композиторов-романтиков, преобразовали его в высокое искусство. Мелодии их не красивенькие, а красивые, со сложными ходами, гармонии — с модуляциями и хроматикой. По оригинальности и красоте песен их сравнивают с Шубертом.
Они повлияли на творчество «Роллинг Стоунз» и всех дальнейших рок-групп во всем мире. Разные стили рока восходят к ливерпульскому звучанию «Битлз». В том числе и все разновидности хард-рока — «тяжелого рока». [Тяжелый рок — это то, что больше устраивает Эдуарда Лимонова.] Не все группы хард-рока поют песни протеста (кстати, протест, хотя и без «истерики бунта», как раз характерен для творчества Леннона). Но хард-рок всегда характеризуется обилием диссонансов и применением более истеричных интонаций голосов (до крика, воплей и визгов), а также электрическими средствами изменения звуков гитары в сторону резкости и дребезжания (фазз-бокс и т. п.). Так что этот стиль рока также заимствовал кое-что из современной симфонической музыки — прежде всего обилие диссонансов и уход от функциональной гармонии.
В популярной музыке диссонансы ранее использовались гораздо реже: они мешали неискушенному слушателю следить за гармонической структурой и вносили настроения, которых он в легкой развлекательной музыке не искал. Легкая музыка того времени была очень благозвучной, умеренной, но на слух современного молодого человека, пожалуй, чересчур красивой, приглаженной и пресноватой. Ныне соотношения изменилось. В биг-бите, особенно в хард-роке, диссонансы применяются чрезвычайно широко, порою (на мой вкус) — чрезмерно обильно. Видимо это происходит в соответствии с новыми запросами молодого слушателя, с его исторической подготовленностью к сложным звучаниям и его нередко мятежными, бунтарскими настроениями. Его тянет к резким, неблагозвучным, диким звукам.
Примечательна популярность рэпа — в нем не музыкальные диссонансы, а просто речитатив с сопровождением, выраженным «конкретными» звуками с подчеркнутым ритмом.
Всё это не только дерзко, но и опасно. Не стоит забывать, что если в музыке всё забьют и вытеснят диссонансы, то гармония — основа для мелодии и аккомпанемента — исчезнет, пропадет богатство рисунка, развалится стройность и сложная организованность, которые делают музыку музыкой, и только ритм будет отличать ее от шума. [Она станет не музыкой, а «соникой» Амансхауэра.]
Сейчас даже трудно сказать, растет ли употребление диссонансов в массовой музыке под влиянием сдвигов в серьёзной музыке, или это массовая музыка воздействует на композиторов-симфонистов. Последнее весьма вероятно. [Трудно также сказать, повлияло ли минималистское направление на поп-музыку или это поп-музыка стала основой минималистского направления. Но бездна явно минималистских по духу песенок и пьес, исполняемых эстрадными певцами и коллективами, заполнила эфир. Немудреный ритмический рисунок, обрывочные непонятные намеки на гармонию, простенькие, совсем примитивные мотивчики и речитативы, монотонно и тупо повторяемые бесконечное количество раз до полного одурения, — вот их обычный репертуар. Популярность этих пьесок среди исполнителей поп-музыки понятна: для исполнения не нужно почти ничего — ни голоса, ни слуха, ни талантов, ни подготовки, ни заучивания. Достаточно иметь простейшие навыки ремесла. В эфире эту музыку можно нарезать кусками произвольной длины — отмерять столько, сколько нужно для данной передачи. Нарвавшись на подобную «репетитивную» музыкально-шумовую ткань, на этакие звуковые обои, я сразу же выключаю радио, но я знаю студентов, готовых часами слушать эту музыку и делать ее фоновой для себя. Видимо, какая-то психологическая потребность в этой музыке у них есть. Но ведь потребность бывает и в алкоголе, и в наркотиках…
В 1990 г., в самом конце горбачевской «перестройки», в консервативном тогда издательстве «Советская Россия» вышла тиражом в 50 000 маленькая книжечка двух авторов, психиатра и журналиста, «Рок: искусство или болезнь?» (Забродин и Александров 1990). Это было завершение длительной кампании травли рока в советской прессе. В новой социальной обстановке авторы открещивались от старой постановки вопроса о необходимости выжечь, вытравить это зло и даже предлагали снять вообще дилемму — запрета или безудержного восхваления. Но в своих выводах явно склонялись к разъяснению, что рок — это зло, это социальная болезнь. Тем не менее в их аргументации содержалось немало серьезных фактов, о которых действительно стоит задуматься.
Но чтобы трезво воспринять эти факты, нужно прежде всего отсеять неверную постановку вопроса. Авторы всё время обобщают опасные стороны рока, относя их без разбора ко всему течению (которое, как они сами признают, огромно и включает множество направлений и стилей, непрестанно меняющихся), тогда как на деле речь в этих инвективах идет в основном о хард-роке, особенно о хэви-метал и некоторых родственных стилях. Далее они критикуют бессодержательность всех текстов рок-музыки, отрицая мятежную и протестную направленность многих из них — ну, это передержка. Наконец, они полностью отрицают, что рок — это искусство. Для них рок — антимузыка, которая ведет с музыкой борьбу за выживание. Лучшим опровержением этого являются дуэты самых знаменитых оперных певиц со звездами рока (например, Монсеррат Кабалье с Фредди Меркюри) и совместные выступления перворазрядных симфонических оркестров с лучшими рок-группами.
Знаменитая классическая певица Монсеррат Кабалье поет дуэтом с Фреди Меркюри, солистом группы «Квин»
Но когда они сравнивают способы воздействия хард-рока с шаманством, это реалистично. Средства похожи:
«четко ритмизированная музыка с ведущими ударными инструментами, когда смысл песнопений оттесняется на второй план. Главное — эмоциональное воздействие, причем прямое, как бы хлещущее по слушателям. Не забудем и про атрибутику: у шамана — бляшки, развевающиеся лохмотья, ритуальные рисунки на лице и теле; у исполнителей рока — металлические бляшки, размалеванные лица, замысловатые прически, рассчитанные на эпатаж публики. Прибавим сюда и „шаманистый“ стиль сценического поведения: пританцовывание, подергивание, манипуляции с микрофоном» (с. 11).
Это наблюдение верное, но ведь и торжественное филармоническое исполнение симфонической музыки тоже весьма напоминает древние ритуалы, которые должны оказать дополнительное психическое воздействие. Разница только в стиле и характере.
Более серьезны соображения о примеси биологического воздействии рока на слушателей. Медицинское воздействие любой музыки подмечено давно, но имелось в виду воздействие целебное, на котором основана музыкотерапия. Однако, если возможно целебное воздействие, то возможно и воздействие противоположное, вредное: любое лекарство при злоупотреблении превращается в яд. О воздействии музыки авторы пишут:
«…такое воздействие происходит на двух уровнях: либо на низшем, физиологическом, либо на высшем, психическом. Последний предполагает осмысление музыки и наличие соответствующих представлений у слушателя. На низшем уровне воздействие оказывает музыкальная форма своим общим звучанием — это смена тембров, темпа, ритма и изменение громкости. Никакого осмысления не требуется. Читатель, наверное, сам понял, что рок — именно та музыка, которая в целом как раз и рассчитана на низший уровень» (с. 77).
На первый взгляд, всё так. Но вдумаемся. Выходит, что истинное понимание музыки — это только ее осмысление рассудком, то есть перевод в слова. Не проще ли тогда и изложить всё словами? Всякую серьёзную музыку авторы грубо уподобляют программной. Нет, восприятие всякой музыки психикой — это именно воздействие «музыкальной формой, общим звучанием». Это изменения тембров, темпа, ритма, громкости, и, конечно, богатство мелодики и гармонии, которых в дурном роке (как и в плохой музыке вообще) — минимум. Все они — все! — действуют и физиологически и психически. Но верно то, что выход любого из этих параметров за какие-то пределы — например, в сверхнизкие или сверхвысокие частоты (инфразвуки, ультразвуки), непереносимое усиление громкости, отупляющее обеднение, монотонное повторение и т. п. — начинает действовать болезненно. Опять же и физиологически и психически.
Установлено, что ритм около полутора ударов в секунду в сопровождении мощного давления сверхнизких частот (15—30 герц) ввергает человека в экстаз, а при двух ударах в секунду и тех же частотах человек впадает в танцевальный транс сродни шаманскому. Мощность установок, на которых играли «Битлз», тогда, по нашим представлениям, измерялась 500–600 ваттами (измерять сам звук децибелами у нас в прессе стали позже). «Дорз» имели уже вдвое более сильные установки. Нынешние группы достигают мощностей в 50—70 раз более высоких. При таких мощностях звука надолго отключается рассудок. В пример те же авторы приводят японских журналистов, которые обошли крупнейшие рок-залы Токио и задавали слушателям простейшие вопросы: «Какой теперь год?» и т. п. Никто не мог ответить. Швейцарские медики установили, что после рок-концерта человек ориентируется и реагирует на раздражители в три с половиной раза хуже, чем обычно. Как с похмелья. Что уж говорить о длительном и систематическом воздействии такой музыки.
Авторы приводят клинические случаи деградации личности молодых людей — снижения способностей, порчи характера, развития скандальности вплоть до истерики, распада социальных связей, погружения в наркотики. И заключение:
«во всех случаях изменения в психике были связаны с увлечением рок-музыкой. …Можно рассуждать, что тут первично, что вторично. Довел ли ребят рок до психического расстройства или, будучи людьми с неустойчивой, слабой психикой, они выбрали соответствующую их состоянию музыку. Как бы там ни было, ухудшение произошло под воздействием рока» (с. 84—85).
Вину авторы возлагают на весь рок, на все его разновидности и группы, на все проявления. На рок как жанр музыки.
Это пережиток советской компании огульного шельмования рока как «западной заразы». Но рациональное зерно этой критики заключается в том, что дурные стороны действительно есть — не столько в самом роке, сколько в сложившейся вокруг него «рок-культуре». Что есть очень разные рок-стили и рок-группы, в том числе и сугубо вредные, примитивные и бездарные. Такие, где недостаток таланта компенсируется экстремальными выходками, безудержным умножением децибелов и экспансией в запредельные частоты.
И еще одно соображение (чего не учли Забродин и Александров). Значительная часть публики рок-концертов — это подростки. Психологи знают, что для подростков характерны и естественны групповые пошумелки — с грохотом, шумом, носящим ритмический и музыкальный характер, с эпатированием взрослых. Подростки так демонстрируют самим себе свое освоение ритмов, коллективного взаимодействия и обретенного места в мире. Как пишет биолог В. Р. Дольник, биологические корни пошумелок уходят очень глубоко — в регулярные вспышки демонстративно шумного поведения обезьян. У людей это возрастное. Многие рок-группы удовлетворяют эту потребность своей юной публики.
В главе «Рок рока» Дольник разъясняет (1994: 78),
«что подросток в экстазе пошумелки, с одной стороны, по-прежнему остается современным разумным человеком, а с другой стороны, он охвачен древним инстинктом и извлекает из него первобытное наслаждение. Я хочу вам напомнить, что только во второй половине XX века впервые в истории человечества громкие музыкальные инструменты и средства воспроизведения звука бесконтрольно со стороны взрослых массово оказались в руках подростков. Что средства коммуникации обеспечили им возможность слушать пошумелки не только соседних групп, но всего мира. Что при этом неизбежно происходит унификация музыки пошумелок с доминированием самых пошумелистых».
Примитивные и грубые формы и средства здесь естественно предпочитаются. Проблема в том, чтобы инфантильный компонент музыки, забавный и даже милый в небольших порциях и в уместных ситуациях, не распространялся на всю жизнь поколения, не становился доминирующим в целом жанре, не превращался в пережиточно-первобытный стандарт. Чтобы примитивные, пошлые, грубые и физически болезненные формы рока, выходящие за пределы музыки, не оказались успешными в конкуренции с талантливым использованием музыкальных средств в роке и популярной музыке. Ведь практика рока показывает, что и в нем возможны интересные ритмы, красивые мелодии и сложные гармонические модуляции.]
20. Мастер и молоток
В развитии серьёзной музыки также есть опасность удариться в крайность. Испытывая новые приемы в серьезной музыке, композиторы рискуют переоценить присущий этому жанру уклон от массовости; они могут возвести элитарность в принцип и, совершенно оторвавшись от запросов публики, превратить свое творчество в «музыку для музыкантов» (лозунг джазового стиля бибоп). Тогда поиски нового утрачивают живость и содержательность, превращаются в пустые формалистические изыски, в фокусничество, в изобретательство новых средств ради самого изобретательства, ради самой новизны, ради самих средств. Музыка лишается души — инструмент остается, но исчезает творец. В 1955 г. французский композитор Пьер Булез написал камерную сюиту (для меццо-сопрано, вибрафона, гитары и ударных) под примечательным названием: «Молоток без мастера».
Известный американский дирижер первой половины XX века Леопольд Стоковский, глядя в будущее, не боялся разрушения тональности
С Леопольдом Стоковским, высказывания которого о музыке будущего я цитировал ранее, совершенно не согласен другой американский дирижер — Леонард Бернстайн (1978: 57). Он считает разрушение тональности гибелью для музыки.
«…я признаюсь, — пишет он в 1966 г., — по собственной воле, хотя и без радости, что в данный момент, да простит мне бог, я нахожу гораздо больше удовольствия, когда слежу за музыкальными приключениями Саймона и Гарфункеля…, чем в большей части того, что пишется теперь всей общиной композиторов-«авангардистов»… Поп-музыка представляется единственной областью, где всё полно жизни, где царит веселье изобретательства, где легко дышится. Всё остальное вдруг кажется устаревшим: электронная музыка, сериализм, алеаторика… — всё это уже приобрело затхлый запах академизма. Кажется, что даже джаз пришел к мучительной остановке».
Именно этим Бернстайн объясняет предпочтение музыке прошлых времен у публики.
«Уже пятьдесят лет слушатели проявляют интерес прежде всего к музыке прошлого… Страшный факт состоит в том, что между композитором и публикой за последние пятьдесят лет раскинулся океан. Можете ли вы вспомнить подобный пятидесятилетний период после эпохи Ренессанса, когда имела место такая же ситуация? Я не могу. И если это правда, то она означает драматические качественные изменения в нашем музыкальном обществе, а именно: мы впервые живем музыкальной жизнью, не основанной на произведениях нашего времени. Это явление характерно именно для XX века, — оно никогда не возникало прежде» (Бернстайн 1978: 56).
Леонард Бернстайн, американский дирижер и композитор, считал, что без тональности музыки нет и разрушение тональности гибельно.
Бернстайн делает оговорку:
«Я могу допустить, что когда-нибудь будет существовать музыка, напрочь оторванная от тональности. Я не слышу у себя в голове этой музыки, но готов представить себе такую возможность. Но это «когда-нибудь» наступит тогда, когда произойдут фундаменальные изменения в наших физических законах, быть может, тогда, когда человек оторвется от этой планеты» (Там же, 60).
В лучших произведениях Стравинского, Шёнберга и Веберна он улавливает всё-таки тональный подтекст, какие-то призраки тональности. «И мы вернемся к ней. В этом смысл нашего переходного периода, нашего кризиса. Однако мы вернемся к тональности по-новому, обновленные катарсисом наших страданий» (Там же, 60).
Противопоставление мнений двух выдающихся дирижеров, как бы их полемический диалог, обозначило проблему авангарда, академизма и музыки будущего. Пафос Бернстайна очень заразителен, но объективности ради нужно упомянуть, что в первой половине XX века, о которой он судил, творили такие любимые публикой композиторы как Шостакович, Прокофьев, Хачатурян и Бриттен. А музыка авангардистов, которую он так решительно отвергал, нашла неожиданный отклик в поп-музыке (то ли продолжение, то ли основу).
Представленный здесь обзор показывает, что джаз, блюз и рок — это в основе не антимузыка, а разновидности музыкального языка, формы музыки, которые вполне вписываются в общее музыкальное развитие европейской цивилизации и культуры. Что каждая из этих форм опирается на традиционные формы музыки, частично возрождает какие-то традиции, развивая некие их неожиданные аспекты, обновляя и освежая музыкальный язык. Это не обязательно деградация, возвращение к примитиву. Музыкальные формы, как и вообще формы культуры, редко уходят насовсем. Они возрождаются через века, преобразованные и перешедшие в новые формы, обогащая мировую культуру.
Чтобы оценить жизненность и будущность новых форм, нужно попытаться уловить их связь с социальной психологией современников, особенно — с мышлением и чувствованиями молодого поколения, а для этого надо бы испытать эти новые музыкальные формы в широкой аудитории.
Гораздо большей свободой всегда обладала и сейчас обладает популярная музыка — песни народных бардов, танцевальные и развлекательные программы для простонародья, музыкальное оформление кинофильмов, непритязательное музицирование любителей. Здесь экспериментальный цех. Здесь раньше и откровеннее находит путь в музыку социальная психология эпохи. Здесь наряду с заведомым браком и побрякушками-однодневками куются рамки для будущих гармоний.
Это здесь молодой Брамс, играя в венских садах и ресторанах, готовил то, чему Шуман посвятил приветственную статью «Новые пути».
Это здесь самоучка Шёнберг набирался новых музыкальных идей, подвизаясь в кабаре, перед тем как взойти на кафедру композиции Венской музыкальной академии. Это здесь «Битлз» подслушали звон «Серебряного молотка Максвелла» и, вопреки черному юмору текста этой озорной песенки, уловили в серебряном звоне необходимую для новой гармонии свежесть и бодрость. Четыре ливерпульских парня сумели соединить силу народного творчества и изощренность современного мастерства. Когда слушаешь эту и другие их песни, полюбившиеся молодежи всех стран, возникает надежда, что мастер не выронит из рук свой серебряный молоток. А если поперек дороги новой гармонии встанет нудный блюститель старых гармонических добродетелей, замшелый ревнитель музыкального православия, готовый осудить и запретить всё новое, то
Bang! Bang! Maxwell’s silver hammer came upon his head; Clang! Clang! Maxwell’s silver hammer made sure that he was dead. Бом-бом! Серебряный молоток Максвелла опустился на его голову, Дон-дон! Серебряный молоток Максвелла пришиб его наверняка.Что мастер без молотка, что молоток без мастера — всё жалкое зрелище. Но ведь и молоток в руках мастера, — это не стоит забывать, — вовсе не обязательно должен понравиться каждому встречному. А вы готовы признать музыку будущего в этом серебряном звуке? Да и нужна ли вам, лично вам, музыка будущего? А если не нужна, — и это не такая вещь, которой надобно стесняться, — то готовы ли вы допустить, что кому-то она все же нужна и для кого-то хороша, и что этот кто-то не хуже вас, не грубее вас, а всего лишь моложе?..
Послесловие
Со времени написания представленного здесь текста прошло более трех десятилетий. Современный читатель, возможно, заметит склонность автора объяснять явления искусства, в частности музыки, социальными условиями эпохи. Эта склонность покажется читателю несколько наивной и сугубо марксистской, явно навеянной условиями тогдашней эпохи и среды. Это и верно и неверно. Я, безусловно, воспитывался в советской научной школе и осваивал советскую методику анализа исторических явлений. Эти навыки и сейчас у меня не исчезли.
Но тут у меня есть две оговорки. Первая состоит в том, что поиски социальной обусловленности исторических явлений, в том числе и явлений искусства, характерны не только для марксизма. Они существовали до марксизма, существовали и вне марксизма, во многих научных школах. Да и в самом марксизме, если не абсолютизировать и не доводить до крайности, это не худший его компонент. Вторая оговорка заключается в том, что я очень рано, еще в студенческие годы осознал пороки марксизма, особенно марксизма-ленинизма, и развил в себе критическое к нему отношение, разумеется, маскируемое в печатных произведениях. Тем не менее, многое проскальзывало, и полностью укрыть свое истинное отношение к марксизму-ленинизму не удавалось.
Это относится и к данной работе. Правоверному марксисту тех дней сразу же бросалось в глаза не то, что в работе есть, а то, чего в ней нет, но должно было бы наличествовать. А именно: в работе, посвященной периодизации художественного развития, нет деления на эпохи по социально-экономическим формациям. По знаменитой «пятичленке»: первобытное общество — рабовладельческое — феодализм — капитализм — социализм. Нетрудно увидеть, что у меня объединялись в одну эпоху (в эпоху единоголосия) первобытное общество, античное и раннефеодальное, а поздние эпохи все падали на этапы капиталистической формации.
Это отражало мои тогдашние взгляды, да и не только мои. На историческом факультете я тогда был одним из кураторов художественной самодеятельности (вместе с историком и драматургом Д. Н. Альшицом и Ю. Д. Марголисом). Самодеятельность наша доставляла факультетскому руководству немало хлопот. Одна из постановок факультетской самодеятельности (концерт выпускного курса) называлась «история в танцах». На сцену сначала выходили парни и девушки в звериных шкурах и устраивали дикие пляски (под музыку половецких танцев Бородина), а голос диктора объяснял, что это представлено первобытное общество. Потом на сцене появлялись рыцари и дамы, изображавшие нечто средневековое, затем господа и дамы в камзолах, танцевавшие менуэт. Менуэт сменялся вальсом, вальс — танго, танго — рок-н-роллом и твистом, а голос диктора всё комментировал это социологическим анализом, как вот растущий капитализм сменяется капитализмом реакционным и загнивающим, ритмы становятся синкопическими и ломкими, движения коверканными. А затем на сцену вбегали парни в тужурках и девушки в красных косынках и, сметя всю буржуазную сволочь со сцены, убегали. Сцена оставалась пуста. Все ждали какое-то время, а потом вдруг понимали, что наступил социализм.
Наглость этой постановки дошла до Обкома партии, тогдашнего всевластного распорядителя жизни в Ленинграде. Постановку обсуждали на заседании Обкома. Студенты на вопрос, почему при социализме танцы у них окончились, отвечали с деланной наивностью: А какие танцы характерны именно для социализма? Нет еще таких танцев. Вот нам пока танцевать и нечего. Декан и секретарь партбюро получили по выговору. Но политически острая обида Обкома за невеселый социализм заслонила более глубокий (и страшный) смысл постановки: ироническое обыгрывание догматической подладки всего многообразия развития под простенькую схемку пяти формаций.
Спорил я по вопросу об отказе от этой догмы и с одним из моих прежних учителей профессором Б. Б. Пиотровским — директором Эрмитажа. Мы встречались на перерывах между лекциями и на заседаниях, и он пытался меня убедить, что всё развитие культуры подчиняется этой периодизации — по рубежам между пятью фазами. Я же отстаивал тезис, что в культуре есть много автономных сфер, имеющих свои собственные рубежи, свой особый ритм, свои эпохи. Что факторы, маловажные для социоэкономического развития страны или региона, могут иметь определяющее значение для перемен в какой-то одной сфере культуры. «Возьмите историю шапок, — говорил я. — Какие шапки — первобытные, какие — рабовладельческие, какие — феодальные, какие — капиталистические? Какую шапку носите Вы? Такую же, как Ваш буржуазный коллега из Англии!» — «Подождите, — отвечал Б. Б., — социализм еще существует слишком мало времени. Социалистические шапки еще не сформировались, но непременно появятся». Споры шли по форме шутливо, но содержание было серьезно. Обычно Б. Б. закачивал их самым тяжеловесным аргументом: «Вас посадят». Он имел в виду не только мои взгляды, но и мои частые выходы в зарубежную печать. «А сажать меня не за что, — отвечал я. — Я не даю повода». Он был уверен, что повод найдется (в свое время он и сам был посажен, правда, ненадолго). Тут он был прав.
Вскоре меня арестовали с уголовным обвинением, но по инициативе КГБ (во время перестройки мой бывший следователь от прокуратуры И. И. Стреминский опубликовал открытое письмо с признанием, что сожалеет о своем участии в этом деле, что меня посадили и на него давили «силы застоя»). Выйдя из заключения, я написал под прозрачным псевдонимом «Лев Самойлов» очерки и книгу об этом деле и своих приключениях. Там мельком упоминалась и история с этой рукописью. Данной публикацией я могу поставить точку в этой музыкальной истории.]
Приложение: полемика
В процессе подготовки этой книги я, конечно, советовался со знакомыми искусствоведами. Обращаясь к двум самым авторитетным, профессорам М. С. Кагану (ныне покойному) и Е. В. Герцману, я понимал, что надеяться на благоприятный отзыв не приходится. Каждый из них за долгую жизнь сформировал собственную концепцию развития музыки, и моё построение вряд ли сможет в нее вписаться. Кроме того, я припомнил, каково обычно мое собственное отношение к непрофессионалам, вторгающимся в мою науку. Действительно, оба отнеслись к моим рассуждениям сугубо скептически. Я вспомнил знаменитого историка Игоря Михайловича Дьяконова, который обычно формулировал свой отзыв так: «Всё никуда не годится, печатать не следует, а кроме того на страницах таких-то и таких-то нужно исправить то-то и то-то». По этой модели и были построены отзывы моих коллег. Я им глубоко признателен за критические замечания, которые помогли мне улучшить мой текст.
А печатать я всё же решился. Я ведь не первый раз осмеливаюсь затронуть новую для меня смежную науку (входил в классическую филологию, культурную антропологию, сексологию). Всякий раз мои друзья, работавшие там профессионально, отговаривали меня, но всякий раз мои книги, будучи напечатанными, получали признание. Да и в моей собственной науке, археологии, мои первые рукописи при обсуждении наталкивались на непонимание и ожесточенное сопротивление, получали отрицательные отзывы, но когда мне всё же удавалось пробить их в печать, занимали заметное место в научной литературе и даже получали высокие оценки (в частности, от того самого И. М. Дьяконова).
В данном случае я не претендую на открытия и перевороты в изучении музыки. Мне хотелось осмыслить, понять общий ход ее развития с точки зрения культурной антропологии и социальной психологии. Понять, почему со сменой эпох одна гармония сменяется другой. В литературе я не нашел достаточно вразумительного ответа, не встретил широкоохватного обзора этой темы. Мне хотелось показать музыкантам (конечно, знающим музыку неизмеримо глубже меня), что есть некоторый смысл во взгляде на музыку со стороны, с позиций смежных наук: развитие музыки становится понятнее. Мне хотелось ознакомить и людей, непричастных к музыке, со своими соображениями на сей счет — в надежде, что это обобщение, эта попытка построить систему, сблизить музыку серьезную и легкую, включить музыку в общий ход развития культуры, заинтересует людей и приблизит их к музыке разного плана, приобщит к ее восприятию. Расширит их музыкальные интересы.
Издатель, прочтя рукопись, заявил, что на него лично мои соображения действуют именно так. Он сказал, что многое в музыке стало ему понятнее и интереснее, и что если книга и на других подействует так же, то она явно полезна и может пользоваться спросом. Что он готов ее издать.
Меня всегда занимало, а в данном случае было особенно интересно, как на мои соображения реагирует молодежь, в частности компетентная молодежь — молодые музыканты. В ходе подготовки книги к печати мой редактор, молодой художник и искусствовед Павел Дейнека, и редактор другой моей книги, молодой театральный режиссер Владимир Кустов, с моего ведома знакомили своих сверстников с этим текстом. Из отзывов меня заинтересовало письмо молодого композитора Настасьи Хрущевой, студентки консерватории, к ее приятельнице, знакомой Кустова. С одной стороны, исполненная пиетета (к моему возрасту и научному багажу), а с другой — горящая молодым задором и, естественно, профессиональным снобизмом, она оспаривала мои суждения со знанием дела. Уловила и некоторые мои конкретные ошибки, не замеченные другими (по забывчивости назвал не того композитора, ошибся в номере симфонии и т. п.). Я встретился с Настей, ознакомил ее со своими примечаниями к ее письму, мы продолжили дискуссию устно и решили по обоюдному согласию опубликовать ее письмо приложением, со всеми его оборотами — хвалебными и критическими (опустив лишь те, которые я просто с благодарностью учел в тексте при правке). Особенно любопытна та критика, которая мне показалась спорной. Поскольку такие критические мысли могут возникнуть и у других читателей, я помещаю их в книге, приводя свои возражения и разъяснения[2]. Мои примечания к пунктам Настиного письма помечены моими инициалами.
Письмо Настасьи Хрущевой
Здравствуй, Ася! Если тебя действительно интересует мое мнение, то я буду честной (от тебя и научилась) и выскажу некоторые критические замечания.
1. Сама основная идея — поиск соответствий между социальной психологией эпохи и ее музыкой — конечно, интересна, но, к сожалению, не нова. Так или иначе, эта проблема затрагивается практически во всех учебниках, связанных с гармонией и ее историей — например, в книге Гуляницкой «Современная гармония», в труде Холопова «Теоретический курс гармонии», в работе Когоутека «Композиторские техники XX века» и многих других. Настораживает, что в списке использованной литературы они отсутствуют, хотя есть популярные, беллетристического характера издания типа Ганса Галя («Брамс, Вагнер, Верди»), Бернстайн («Музыка — всем») и другие. Уже сама история гармонии — настолько сложная проблема, что решение ее не мыслится без специального теоретического образования — тем более, если говорить о ее связях с социальной психологией!
ЛК. Очень признателен за выявление пробелов в библиографии. Однако эти пробелы не все — реальные пробелы в моем знании. Некоторые из названных книг я читал, но не нашел в них на что сослаться. Я ведь не историографию пишу, а излагаю некую свою идею и стараюсь ее прояснить, причем прояснить так, чтобы было понятно и неискушенному в музыке читателю. Ясно, что приходится выбирать ссылки преимущественно на популярные издания, хотя, скажем, Бернстайн сочетает популярность с высочайшим профессионализмом. Проблема, конечно, не нова, но ее постановка в чистом виде мне нигде не встречалась, как и предложенное мною решение с экскурсами в современность. История гармонии — несомненно дело специалистов. Но увязка истории (вычитанной у специалистов) с социальной психологией, в которой я больше сведущ, может и мне оказаться по силам. Разумеется с риском огрехов, которые и нужно устранить.
2. Автор говорит в предисловии, что книга родилась «из размышлений о месте джаза и рок-музыки в перспективе истории культуры», а затем утверждает, что хотел проследить, «как социальная психология эпохи сказывается на формировании <…> гармонии». Но ведь это две абсолютно разные задачи! При раскрытии первой из них совсем не нужно было делать столь подробные экскурсы в прошлое (например, не стоило бы так долго распространяться о церковных ладах). Если же в центр поставить социальную психологию и гармонию, то необходимо было бы охватить не только рок-музыку и музыку академическую, но и другой не менее важный пласт — фольклор.
ЛК. Для меня это одна задача. Потому что рок и джаз родились под воздействием европейских систем гармонии, и это связано с социальной психологией разноэтничного простонародного слоя Америки XIX—XX века. Фольклор я почти не затрагиваю, потому что он давно уже окостенелый. Отражает больше первобытную эпоху, меньше — феодальную, и слои, которые не определяли основное развитие музыки, смену эпох, а для меня важна именно смена эпох — это моя тема. (После прочтения письма Насти я внес более пространные соображения о фольклоре в главу «Археология музыки».)
3. Очень интересная идея — провести параллели между рок-музыкой и музыкой академической. Но в таком случае не нужно было связывать и то и другое с социальной психологией. Ведь говорить о психологии нашего времени невозможно без знания хотя бы эпохи второго авангарда (40—60 гг.), которая упоминается вскользь. У читателя может сложиться неверное представление о том, что все современное музыкальное искусство сводится к поп-музыке, а ведь это совсем не так! Тогда вместо Шопена нужно было бы говорить о современных ему плоских салонных вальсах. Если бы автор проанализировал академическую музыку второго авангарда, многие вещи встали бы на свои места.
ЛК. Второй авангард (Денисов, Губайдулина, Шнитке) в общем связан с теми течениями второй половины XX века, которые я затрагиваю (сериализм, сонористика и т. д.). Прошу не забывать, что книга писалась «при жизни» второго авангарда, когда он был еще подавляем и очень слабо изучен. Шнитке и Денисов у меня упомянуты. Что у меня всё современное сводится к поп-музыке — это просто неверно, тут у критика перебор.
4. По утверждению автора, имитационная техника предполагает, что один голос является главным, а все остальные — второстепенными, поскольку они повторяют первый голос (все это связывается с феодальной иерархией). Здесь — явный просчет. Как раз в имитационной полифонии все голоса равноправны, каждый из них — абсолютно самостоятелен. Когда три независимых человека входят в комнату через узкую дверь, кто-то из них неизбежно войдет первым. Однако мы не делаем из этого вывод, что все остальные подражают ему! Тот факт, что голоса вступают в разное время, как раз свидетельствует об их независимости друг от друга. А вообще в имитационной полифонии все голоса равны в своих правах. Не зная фуги, невозможно определить по звучанию отдельных голосов, какой из них вступает первым, какой — вторым… Именно потому, что в фуге нет главного голоса!
Очень любопытно, как автор работы смог бы объяснить этот парадокс: при феодальном строе — свободная демократия в музыке? :)
ЛК. Это интересное замечание, над ним стоит подумать. Хотя и при проходе в дверях обычно определяют, кому проходить первым, исходя из отношений иерархических. А как еще могло бы выразиться неравноправие голосов, если не в последовательности их вступления? Дело даже не в том, какой голос пущен первым, а в том, что все придерживаются одной темы, высказанной в нем, и все другие неизбежно его повторяют. Если бы другие голоса проводили другие темы, то была бы независимость. А так ее нет. Пусть в высшем смысле голоса равноправны (как для современного композитора), так ведь и при феодализме перед богом все равны, но на земле кто-то идет первым. Наконец, предшественником фуги был канон, а канон означает «образец», «предписание».
5. На этой же странице автор пишет, что органный пункт — голос «смиренный», принужденный стоять на месте. Мысль остроумная, но опять неверная. Органный пункт — это тон в басу, который тянется несколько тактов, в то время как другие голоса движутся. Ясно, что именно нижний голос здесь является главным, определяющим — ведь остальные голоса всегда должны под него подстраиваться, к тому же именно органный пункт выражает доминирующую в данный момент функцию. Если проводить параллели с социальным строем, то органный пункт — как минимум король!
ЛК. Тоже интересная мысль, но полностью с ней согласиться трудно. Органный пункт определяет только тональность, и то если он вообще неподвижен. А все остальные музыкальные задачи решаются мелодией движущихся голосов. Так и для феодализма можно объявить крестьянина королем: от его производительности ведь зависит вся свобода феодала. Феодал вынужден подстраиваться под производительность своих крепостных. Но все главные задачи общества решает он, а не его крестьяне.
6. Несколькими страницами дальше автор говорит, что «свободный стиль» Баха всегда пленяет молодые поколения (и в том числе — поклонников биг-бита) именно своей свободой, свежестью, независимостью. Ася, ну даже на эмоциональном уровне неужели у тебя музыка Баха ассоциируется с бунтом и разрушением норм??
На самом деле так называемый «свободный стиль» свободен только относительно «строгого стиля» Палестрины и нидерландских полифонистов XV—XVI веков. По сравнению, скажем, с музыкой Моцарта, этот стиль аскетически строг. Фуга строится по четким законам, нарушение которых просто невозможно. Это сложная, если угодно — «интеллектуальная» музыка, во многом близкая математике.
К сожалению, здесь автор попал в сети терминологии. В «свободном стиле» никакой свободы нет — даже с большой натяжкой.
ЛК. Согласен, что терминологический акцент, возможно, не очень удачен. Но всё же привлекает молодежь в Бахе именно свобода и барочная неожиданность. И аскетизм тоже. Не бунт, не сплошное разрушение норм, а отсутствие привычных норм современной функциональной музыки. Нельзя считать, что эволюция стилей идет в сторону всё большей свободы. Всякая последующая система от чего-то освобождает, какие-то новые нормы накладывает. В Бахе и находят свободу от тех норм, которые принесла функциональная гармония. Таково мое предположение. Оно может быть ошибочным. Ну, предложите другое для объяснения тяги молодежи к Баху.
7. Самые большие проблемы возникают в главе о музыке XX века. Настораживает уже фраза «среди его <Шёнберга> учеников, уверовавших в атональную музыку, выделяются Альбан Берг и Антон Веберн». Это не просто ученики, которые «выделяются». Это последователи, поднявшие открытую Шёнбергом технику до необыкновенных художественных высот. По дарованию они стоят даже выше своего учителя.
И совершенно неясно, почему автор абсолютно не касается музыки Веберна. Мне хотелось бы узнать, какой особенностью социальной психологии были вызваны, например, пьесы Веберна, длящиеся 9 или 10 секунд?
ЛК. О Веберне стоило бы поговорить больше, хотя не обязательно в данной книге. Но прорыв всё-таки сделал Шёнберг. Это принципиально.
8. Неверно изложены сведения о музыке Шёнберга (Новая Венская Школа). Додекафония и серии поданы раздельно. Но серии и ряды уже есть у Шёнберга — ведь именно в них и заключен принцип додекафонии! Додекафония — это и есть серийная музыка! И почему же додекафония — это беспорядок??? Как раз это почти самый четкий в истории музыки порядок!! Сериализм действительно возник после Шёнберга, и в нем достигнута еще большая упорядоченность.
Нововенцы создали первые образцы действительно атональной музыки (с оговоркой на некорректность этого термина). Поэтому нельзя сказать, что она «затем пошла» по этому пути. Цитата из Шёнберга (об отсутствии архитектуры и структуры) относится как раз к так называемому «атональному» периоду его творчества, когда в его музыке действительно не было ни архитектуры, ни структуры. К додекафонному творчеству это высказывание отношения не имеет — ведь додекафония есть высшая форма порядка в музыке.
ЛК. Вероятно, нужно больше сказать о сериях, но мне бы не хотелось втягивать читателя в различение серий, серийной техники и сериализма. Пожалуй, придется (при редактировании в дальнейшем я это сделал). Дело в том, что у меня же не излагается последовательность развития каждого течения, а объясняются только их основные параметры. Относительно музыки Шёнберга я объясняю, что такое додекафония (12, атональность) и отдельно, что такое серии, сериализм. Для меня этот кусок логичен. Что же до беспорядка, то для уха, привыкшего к звуковым соподчинениям функциональной гармонии, не исчезнувшим у романтиков, атональность, хроматика — это, конечно, беспорядок. Порядок в теории, в написании, но на слух… Возможно, это субъективное восприятие.
9. Течение минимализма автор также освещает неверно. Здесь его опять название ввело его в заблуждение. Да, сами элементы предельно просты, но зато ритмическая игра, которая с ними происходит, — бесконечно сложна! Вспомните Адамса, которого мы играли с Сашей. Если бы все было так просто, нам бы не нужно было сыгрываться каждый день по нескольку часов!
Автор же сравнивает минимализм с примитивными попсовыми песнями. Суть минимализма такова: простота тематических элементов — их бесконечное повторение — изощренная ритмическая сложность. В попсовых песнях ничего подобного нет.
ЛК. Моя вина в чрезмерном сокращении определений. Но в основе не вижу ошибки. Ритмика в музыке минимализма усложнена, но гармония и мелодика просты. А я говорю о гармонии, не о музыке в целом. Попсовые песни сложной ритмики не имеют, это верно, но в роке сложные ритмы есть. Да не минимализм я сравнивал с попсовыми песнями, а в песнях усматривал воздействие минимализма. По-моему, тенденция общая.
10. Стоит ли продолжать? Это только самые непростительные погрешности. [Из существенных замечаний критика наиболее существенными мне показались указания на неверную характеристику неоклассицизма и первого авангарда — эти замечания я принял и погрешности устранил. — ЛК]. Есть и более мелкие. [Далее в письме следовал еще ряд указаний на погрешности, которые я устранил. Я очень признателен критику за все эти замечания. — ЛК].
Несмотря на всё вышесказанное, автор заслуживает глубочайшего уважения. Не будучи профессиональным музыкантом, он осмелился все обобщить. Кроме того, он явно очень интересный человек и, я думаю, блестяще реализованный в своей области. Лев Самуилович Клейн — один из немногих гигантов уходящего поколения. Я безмерно уважаю таких людей, которые и в преклонные годы работают больше молодых. Таков и мой педагог Сергей Слонимский — не далее как сегодня он мне показал только что написанную 15-ую симфонию, а ему почти 75 лет.
Ася, надеюсь, вы с Володей ему [Л.C.] ничего не передадите? А если вы все-таки будете передавать мою критику, делайте это в максимально мягкой форме. [Посредники, спасибо им, передали мне письмо в полном виде. — ЛК], И вообще, история гармонии — настолько тонкая материя, что не профессиональному теоретику разобраться в ней практически невозможно. Поэтому даже то, что сделал Клейн, — заслуживает всяческих похвал уже за само намерение.
И еще раз, спасибо огромное за такое доверие ко мне. Критицизм у меня в натуре, ничего не могу с этим поделать. :) Тем более, ты передала мне, что Володя очень интересуется моим мнением!
В общем, спасибо вам обоим и надеюсь, что вы не обидитесь на меня смертельно за такую критику, потому что мне бы очень хотелось продолжить наше общение!!! :)))
P.S. Теперь зато у вас есть моральное право разносить мою музыку! :)
-------------------
На этом кончается письмо Насти Хрущевой, испещренное извинительными улыбками — :) — на компьютерном новоязе. Ее музыку я пока не слышал, а услышав, разносить не буду. Вероятно, она написана на языке, чуждом мне и не очень понятном. Чувствуется, что автор письма и мой критик увлекается Шёнбергом и Веберном. Письмо ее показывает, что музыкальная молодежь, вежливо критикуя вкусы и мысли «уходящего поколения» и признавая некоторые его резоны (уж «гиганты» мы или нет — это вообще рано судить), формирует собственные взгляды на мир и на музыку и, вероятно, со временем напишет по-иному то, что продумал и в этой книге изложил я.
Я всё же предложил Насте изложить места, вызвавшие ее наибольшие возражения, иначе — так, как она бы хотела их видеть в моей книге. С тем, чтобы я, сославшись на нее, мог исправить их. На это умная Настя ответила, что по зрелом размышлении решила ничего не менять в тексте, мотивируя это словами, которые я не могу не процитировать:
«Книга — живой организм, и когда концепция уже сложилась, поздно что-то менять. Я все равно считаю, что с точки зрения профессионального музыковеда в ней осталось некоторое количество некорректных идей и фраз. Но для Вашего адресата — немузыканта эти погрешности в самом деле не имеют никакого значения, а книга и в таком виде сыграет свою замечательную роль».
Я-то надеюсь, что и для музыкантов в книге найдется пара-другая интересных идей, способных стимулировать их собственное мышление или, по крайней мере, показаться полезными. А Насте могу лишь ответить: «Спасибо за напутствие!»
Резюме
Автор этой книги — не музыкант, а известный ученый, специалист по археологии и культурной антропологии. В книге прослежено, как изменялась гармония на протяжении истории, как одна гармоническая система сменялась другой под воздействием сдвигов в социальной психологии. Этот подход позволяет автору рассмотреть формы серьезной классической музыки в сравнении с музыкой легкой. Он показывает, что джаз и рок — не антимузыка, а закономерные формы музыки, связанные со всем развитием музыкальной культуры, что они многими корнями уходят в традиционную музыку. В связи с этим ставится вопрос о путях дальнейшего развития музыки.
В книге 20 небольших глав. В первых главах ставится вопрос о том, что у каждой крупной эпохи (века или поколения) — свой музыкальный язык, и что поколения часто не приемлют музыку предшествующего века или поколения, как и следующего. Начав обзор этих эпох, автор в дальнейших главах рассматривает единоголосие как первый такой этап, затем следуют органум, Ars Antiqua с гимелем, контрапункт, генерал-бас, функциональная гармония, затем гармония романтиков, и, наконец, гармония XX века с ее атональностью, додекафонией, алеаторикой, конкретной музыкой и т. п. В этом контексте рассматриваются неоклассицизм, первый и второй авангарды. А далее прогнозируется возможное дальнейшее развитие гармонии.
Все эти этапы сопоставляются с этапами развития социальной психологии античного и средневекового человека, Крестовых походов и Возрождения, века Просвещения, научной революции, буржуазных революций и Наполеоновской Империи, технических успехов XIX века и мировых войн XX века с тоталитарными эпизодами и распадом империй.
Для каждого из этапов гармонии с его местом в мировой истории автор находит отклик в современности, некое повторение основных принципов и приемов, но в музыке более легкой, массовой и молодежной. Это связано с повторением некоторых укладов социальной психологии в специфической среде. Так для органума находится соответствие в тяжелом роке (бурдон), для контрапункта — в джазе, для генерал-баса — в музыке «Битлз», для функциональной гармонии — в популярной музыке и строении баянов и аккордеонов, для гармонии романтиков — в джазовой гамме и т. д. Семь таких экскурсов перемежают главы с описаниями гармонических систем и соответствующих им эпох социальной психологии.
Рассматривается и борьба Сталина и Гитлера против гармоний XX века, живые компоненты и разрушительные тенденции в роке. В конце книги помещена полемика с молодым музыкантом, приверженцем додекафонии и второго авангарда.
Harmonies through the ages by Leo S. Klejn
Summary[3]
The author of this book is not a musician or musicologist, but a cultural anthropologist and archaeologist. In the book, he traces how harmony has changed over the course of history, how one system of harmony was replaced by another under the influence of shifts in social psychology. This approach allows him to compare the forms both of serious music and of light music. He believes that jazz and rock are not ‘anti-music’ (an opinion widely held in the Soviet Union) but proper forms of music. Accordingly they have their place in the overall development of musical culture, and many of their roots to be found engrained in musical tradition. From this perspective the question of the further development of music is considered.
There are twenty short chapters in the book. In the earlier ones, the idea is proposed that each epoch (age or generation) has its own musical language, and that generations are often unable to appreciate and assimilate the music of the preceding and following ones. In the ensuing chapters, the author considers monophony as the first such stage. Then organum harmony follows, after which come the next stages of harmony, as follows: Ars Antiqua, counterpoint, thorough-bass, functional harmony, then romantic harmony, and finally twentieth century harmony with its atonality, dodecaphony, aleatoric sounds, concrete music etc. Neoclassism is considered in this context, as well as the First and Second Avant-Guarde movements.
All of these stages can be confronted with stages of social psychological development: firstly, of classical antiquity and medieval man, of the Crusades and the Renaissance, later of the Enlightenment, the Scientific Revolution, the Bourgeois Revolutions and Napoleonic Empire, nineteenth century technical achievements and twentieth century World Wars, totalitarian episodes and the disintegration of empires.
Each of these harmonic systems having a place in world history finds a response in the present, its main principles and devices being reiterated (mainly in the music of young people and in the music of the masses). This phenomenon is connected with the reappearance of certain modes of mentality within specific social milieus. So, for organum harmony a correspondence is found in hard rock; for counterpoint, jazz; for thorough bass, the music of the Beatles; for functional harmony, pop music and music for bayans and accordions; for romantic harmony, the jazz scale; and so on. Seven such comparisons are made, together with descriptions of successive harmonic systems and the corresponding stages of social psychology.
The struggle of Stalin and Hitler against the harmonies of the twentieth century is considered, along with a discussion of the fruitful components and destructive tendencies of rock music. Finally, there is a discussion of these problems with a young composer, a musician who is an adherent of dodeca-phony and of the Second Avant-Garde.
Harmonien der Epochen von Leo S. Klejn
Zusammenfassung
Der Verfasser des Buchs ist kein Musiker oder Musikkritiker. Er ist ein Kulturanthropologe und Archaeologe. In seinem Buch verfolgt er, wie sich die musikalische Harmonie im Verlaufe der Geschichte ändert, wie imfolge der Wandlungen in der Sozialpsychologie ein System der Harmonie ein anderes ablöst. Solch ein Zugriff erlaubt dem Verfasser, die Formen der akademischen Musik im Vergleich zur leichten Muisk zu betrachten. Entgegen einer in der Sowjetkultur weit verbreiteten Meinung glaubt er, daß Jazz und Rock keine Antimusik sind, sondern natürliche Formen der Musik, die mit der gesamten Entwicklung der musikalischen Kultur verbunden und auf vielfältige Art in der musikalischen Tradition verwurzelt sind. In diesem Kontext stellt sich dann die Frage nach der weiteren Entwicklung der Musik.
Das Buch ist in zwanzig kleinen Kapiteln gegliedert. In den ersten wird der Gedanke vorgestellt, daß jede große Epoche (ein Zeitalter oder eine Generation) ihre eigene musikalische Sprache spricht und daß oftmals eine Generation unfähig ist, die Musik des vorhergegangenen Zeitalters (oder der vorhergegangene Generation), wie auch des folgenden, zu rezipieren, zu verfassen und anzueignen. Weiter folgt eine Übersicht der Epochen. Der Verfasser betrachtet Monophonie als die erste solche Etappe, wonach Organum, Ars Antiqua, Kontrapunkt, General-Baß und Funktionsharmonik folgen, weiter Harmonie der Romantiker und endlich Harmonie des XX. Jahrhunderts mit Atonalität, Zwölftonmusik, Aleato-rik, Konkreter Musik usw. In diesem Zusammenhang werden Neoklassizismus, sowie Erste und Zweite Avantgarde behandelt. Im Anschluss prognostiziert er die mögliche weitere Entwicklung der Harmonie.
Alle diese Etappen werden im Zusammenhang gesehen mit der Entwicklung der Sozialpsychologie der klassischen und mittelalterlichen Welt, der Kreuzzüge und der Renaissance, der Aufklärung, der bürgerlichen Revolutionen und des Napoleonischen Reiches, der technischen Leistungen des XIX. Jahrhunderts und der Weltkriege des XX. mit seinen totaltären Episoden und Zerfall der Imperien.
Für jeden dieser Etappen, mit ihrem Platz in der Weltgeschichte, findet der Verfasser einen Widerhall in der Gegenwart, eine Wiederholung von Hauptprinzipien und Verfahren — aber in der leichten Musik, in der Massenmusik der Jugend. Das ist mit der Wiederholung etlicher Formationen der Sozialpsychologie im spezifischen Milieu verbunden. So ist etwa für den Organum ein Widerhall im Hard Rock zu finden (Bourdon), für den Kontrapunkt im Jazz, für den General-Baß in der Musik der Beatles, für die funktionale Harmonie in der Pop-Musik und der Struktur von Knopfharmonika und Akkordeon, für die romantische Harmonie in der Jazz-Tonleiter usw. Sieben solcher Exkurse sind an die Kapiteln mit Beschreibungen der Harmonie der Romantiker und der entsprechenden Epochen der Sozialpsychologie abgeschlossen.
Der Kampf Stalins und Hitlers gegen die Harmonien der XX. Jahrhunderts wird erörtet, ebenso werden die lebendigen Komponenten und verderblichen Tendenzen der Rockmusik untersucht. Den Schluss bildet eine Polemik mit einem jungen Komponisten, Anhänger der Dodekaphonie und der Zweiten Avantgarde.
Литература
Амансхауэр Г. 1980. Беседа с композитором. — Иностранная Литература, 12: 217—219 (пер. с нем.; ориг. в изд. Residenz-Verlag, Salzburg und Wien, 1979).
Андронников И. 1977. К музыке. Москва, Советский композитор.
Анфилов Г. Б. 1964. Физика и музыка. Москва, Детгиз.
Бернстайн K. 1978. Музыка — всем. Пер. с англ. Москва, Советский Композитор (ориг. 1959 и 1966).
Борн М. 1955. Состояние идей в физике и перспективы их дальнейшего развития. — Вопросы причинности в квантовой механике. Москва, Иностр. Литер.: 102—121 (пер. с англ. изд. 1953).
Бэлза И. 1962. Франц Верфель и Джузеппе Верди. — Верфель 1962: 9—16.
Вахромеев В. 1975. Элементарная теория музыки. Изд. 7-е. Москва, Музыка.
Верфель Ф. 1962. Верди. Москва, Госполитиздат.
Галь Г. 1986. Брамс. Вагнер. Верди. Три мастера — три мира. Пер. с нем. Москва, Радуга (ориг.: Hans Gal. 1975. Brahms. Wagner. Verdi. Drei Meister — drei Welten. Frankfurt a. M., Fischer).
Герцман E. B. 1986. Античное музыкальное мышление. Москва, Музыка.
Горький М. 1953. Музыка толстых. — Собрание сочинений, т. 24. Москва, Худлит: 351—356.
Денеш З. 1977. Этос и аффект: История философской эстетики от зарождения до Гегеля. Москва, Прогресс.
Дольник В. Р. 1994. Непослушное дитя биосферы. Москва, Педагогика-Пресс.
Забродин Г. Д. и Александров Б. А. 1990. Рок: искусство или болезнь? Москва, Советская Россия.
Клейн Л. С. 1975. Проблема смены культур в современных археологических теориях. — Вестник Ленинградского Университета, 8: 95—103.
Клейн Л. С. 1981. Проблема смены культур и теория коммуникации. — Количественные методы в гуманитарных науках. Москва, издат. Московского университета: 18—23.
Кон Ю. 1967. К вопросу о понятии «музыкальный язык». — От Люлли до наших дней. Москва, Музыка: 93—104.
Курт Э. 1975. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. Москва, Музыка.
Ларош Г. А. 1913. Собрание музыкально-критических статей. Том I. Москва, Об-во Музыкально-теоретическая библиотека.
Лимонов Э. 2003. Священные монстры. Москва, Ad marginem.
Мазель Л. А. 1972. Проблемы классической гармонии. Москва, Музыка.
Мазель Л. А. 1991. Вопросы анализа музыки. Москва, Советский композитор.
Маркс К. 1962. Письмо Ф. Энгельсу от 12 февраля 1856 г. — Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., изд. 2. Москва, Господитиздат, т. 29: 6—10.
Моль А. 1973. Социодинамика культуры. Москва, Прогресс.
Переверзев Л. 1974. Я и джаз родились вместе. — Ровесник, 3: 19—21.
Перловский Л. 2005. Эволюция сознания и музыки. — Звезда, 8: 192—223.
Соллертинский И. И. 1956. Музыкально-исторические этюды. Ленинград, Музгиз.
Сохор А. Н. 1975. Социология и музыкальная культура. Москва, Советский композитор.
Стоковский Л. 1959. Музыка для всех нас. Москва, Советский композитор.
Танеев С. И. 1959. Подвижной контрапункт строгого письма. Москва, Музгиз.
Толстой Л. Н. 1945. Война и мир. Ленинград, ОГИЗ.
Толстой Л. Н. 1964. Что такое искусство? — Собр. соч. в двадцати томах, т. 15. Москва, Худлит: 44—246.
Чайковский П. И. 1957. Руководство к практическому изучению гармонии. — Полное собрание сочинений, т. 3-A. Литературные произведения и переписка. Москва, Госмузиздат: 1—162; От редакции: I—XXVI; Замечания на полях «Учебника гармонии» Н. Римского-Корсакова: 226—249.
Харлап М. Г. 1972. Народная русская музыкальная система и проблема происхождения музыки. — Ранние формы искусства. Москва, Искусство: 221—273.
Холопов Ю. Н. 1993. О формах постижения музыкального бытия. — Вопросы философии, 4: 106—116.
Шевалье Л. 1931. История учений о гармонии. Пер. с франц. Москва, Музгиз.
Шоу Б. 2000. О музыке. Москва, Аграф.
Штейнпресс Б. 1963. Популярный очерк истории музыки до XIX века. Москва, Госмузиздат.
Asriel А. 1966. Jazz. Analysen und Aspekte. Berlin, Lied der Zeit.
Barthes R. 1968. Le degre zero de l’ecriture, suivi d’elements de semiologie. Paris, Gonthier.
Blaukopf K. 1982. Musik im Wandel der Gesellschaft: Grundzüge der Musiksoziologie. München und Zürich, Piper.
Cooke D. 1959. The language of music. London, Oxford University Press.
Daniel G. E. 1962. The idea of prehistory. London, Watts.
Fleischer O. 1900. Sind die Reste der altgriechischen Musik noch heute künstlerisch wirksam. — Zeitschrift der Internationalen Musikgesellschaft, 1899—1900, 1.
Foucault M. 1968. L’archeologie du savoir. Paris, Gallimard.
Gut S. 1976. Le commentaire musicologique, du grćgorien a 1700. Paris, Champion.
Mailer N. 1957. The white negro — superficial reflection on the hipster. San Francisco, Calif., City Lights Books.
Newton F. 1975. The jazz scene. New York, Da Capo Pr. (orig. McGibbon & Kee, 1959).
Persichetti W. 1961. Twentieth-century harmony: creative aspects and practice. New York, Northon (new ed. 1978 London, Faber and Faber).
Riemann H. 1900. Die Elemente der musikalischen Aesthetik. Berlin — Stuttgart, Spemann.
Sachs C. 1975. Historia instrumentów muzychnych. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe (пер. с англ.; ориг. The history of musical instruments. New York, Norton, 1940).
Schenk P. 1956. Allgemeine Musiklehre. Leipzig, Hoffmeister.
Vogel М. 1962. Der Tristan-Akkord und die Krise der modernen Harmonielehre. Düsseldorf, Gesellschaft zur Förderung der Systematischen Musikwissenschaft.
Wasserberger I. a kollektiv. 1966. Jazzovy slovnik. Bratislava, Statne Hudobne Vydatel’stvo.
Источники иллюстраций
Blaukopf K. 1982. Musik im Wandel der Gesellschaft: Grundzüge der Musiksoziologie. München und Zürich, Piper — иллюстрация на странице 44.
Штейнпресс Б. Популярный очерк истории музыки до XIX века. Москва, 1963. Госмузиздат — иллюстрации на страницах 30, 31,32, 44, 46, 48, 58, 70, 72, 84, 86, 87, 100, 104, 107, 110.
Герцман Е. В. Античное музыкальное мышление. Москва, 1986. Музыка. — иллюстрации на страницах 33, 37.
Asriel А. 1966. Jazz. Analysen und Aspekte. Berlin, Lied der Zeit. — иллюстрация на странице 74.
Смена систем гармонии. Синхронистическая таблица
№№ Историческая эпоха Даты Гармония Мыслители Композиторы Отклики старой гармонии в современности 1 Античность и раннее средневековье VII в. до н. э. — VII в. н. э. МОНОДИЯ (одноголосие) Квинтовая тритоника Тетрахорд Пентатоника Модальная система (лады) Пифагор Архит Боэций Григорий Великий - Совместное пение детей Совместное пение пьяных 2 Ранние феодальные государства VIII–X вв. Гексахорд ОРГАНУМ (диафония) Гвидо из Ареццо - Хард-рок 3 Крестовые походы XI–XIII вв. Ars Antiqua Дискант и гимель - Трубадуры Бытовое вторение 4 Возрождение (классицизм) XIV–XVI вв. Ars Nova КОНТРАПУНКТ «Строгий склад» Фольяни Царлино Дж. Палестрина Джаз 5 Век Разума (барокко) XVII и часть XVIII в. «Свободный склад» Генерал-бас Гомофония Виадана Веркмейстер (темперация) К. Монтеверди А. Вивальди И. С. Бах Бытовой аккомпанемент и бит-ансамбли 6 Просвещение (неоклассицизм и рококо) большая часть XVIII в. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГАРМОНИЯ (классическая) Ж.-Ф. Рамо Куперен, Ф.-Э. Бах, Гайдн, Глюк, Керубини, Моцарт, ранний Бетховен Поп-музыка и современные нар. муз. инструменты (баян) 7 Развитой капитализм XIX век РОМАНТИЧЕСКАЯ ГАРМОНИЯ Альтерация, модуляция, хроматизация Ф.-Ж. Фети Г. Гельмгольц Г. Риман Э. Курц поздний Бетховен, Берлиоз, Лист, Вагнер, Верди, Брамс, Глинка, Чайковский, Шопен, Григ, Й. Штраус Альтерация и параллельные кварты в джазе Модуляции в лирических песнях 8 Империалистические войны и развал империй XX век Атональная система Додекафония Сериализм Алеаторика Конкретная музыка Минимализм Неоклассицизм Полистилистика - Дебюсси, Равель, Шёнберг, Веберн, Мессиан, Булез, Штокгаузен, Кейдж, Руссоло, Шеффер, Райли, Райх, Гласс, Малер, Прокофьев, Шостакович, Шнитке Обилие диссонансов и хроматика в роке «Конкретные» звучания в электронной музыке Минимализм и сериализм в фоновой музыкеУказатель предметный
А
Ars Antiqua 56, 59, 64, 67, 193, 195, 197, 204
Ars Nova 67, 69, 70, 204
В
basso continuo 85, 87, 106
basso ostinato 74
bel canto 39
С
cantus firmus 59
cantus gimellus 60
cantus planus 49
D
discantus 61
dur 81
M
Moll 81
musica plana 49
О
organum parallelum 45, 46, 195
P
powerchord 53
A
авангард 55, 155, 156, 175
авангард второй 147, 148, 186, 193, 194
авангард первый 146, 147, 148, 190, 193
авлос 30, 31, 32, 33, 47
аккомпанемент 27, 69, 83, 85, 86, 93, 101, 105, 107, 114, 115, 116, 117, 137, 142, 166, 205
аккорд 25, 43, 53, 54, 60, 61, 69, 70, 74, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 103, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 138, 141, 149, 151
акустика, акустический 14, 27, 28, 81, 88, 89
алеаторика 143, 144, 174, 193, 206
альт 29, 81, 103, 106, 125
альтерация 123, 125, 137, 138, 141, 204, 205
андерграунд 161
ансамбль 6, 76, 80, 86, 87, 94, 106, 139, 144, 163, 164, 205
античность 24, 25, 28, 29, 34, 36, 37, 50, 51, 102, 179, 193
ария 60, 81,83, 85, 109, 120, 126
археология 5, 18, 20, 21, 182, 186, 192
атональность 142, 143, 189, 190, 193, 206
Б
балдеж 97, 139
бард 176
барокко 91, 96, 146, 156, 204
бас 9, 10, 29, 47, 53, 68, 74, 80, 83, 84, 85, 90, 93, 94, 102, 103, 106, 114, 115, 128, 187
бас цифрованный 85
бемоль 35, 89, 123, 142
бибоп 78, 172
бигбит 96, 161, 163, 165, 188
бигбэнд 76
биение 15, 30, 31, 119, 156
бит 94
блюю 137
блюз 21, 53, 79, 136, 137, 175
брейк 75, 76
бурдон 47, 194
буржуазия, буржуазный 63, 64, 90, 110, 114, 129, 150, 179, 180, 193
В
вагант 59, 64
вальс 10, 132, 179, 186
вибрация 15
Возрождение 63, 64, 67, 71, 74, 79, 83, 91, 146, 193
Вторить 66, 74
высота звука 13, 27, 28, 88, 101
Г
гамма 26, 29, 38, 43, 44, 70, 84, 102, 104, 115, 123, 125, 137, 141, 142, 143, 152, 194
гармония 6, 7, 21, 24, 25, 32, 36, 45, 70, 73, 74, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 94, 97, 98, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 126, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 150, 151, 152, 157, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 176, 183, 184, 185, 188, 190, 191, 193, 194, 204, 205
гармонь, гармошка 23, 115, 116
гексахорд 43, 204
генералбас 80, 83, 84, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 101, 106, 111, 165, 192, 194, 204
гимель 56, 60, 65, 66, 193, 204
гитара 9, 25, 32, 42, 53, 94, 95, 114, 165, 173
голиард 59
гомофония 36, 81, 85, 204
грамзаписи 146, 155
Д
Децима 26
Джаз 6, 10, 11, 13, 21, 22, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 94, 114, 131, 132, 137, 142, 144, 146, 150, 155, 161, 163, 174, 175, 185, 193, 194, 205
диатоника, диатонический 123, 141
диафония 45, 46, 47, 204
диез 89, 123, 142
диксиленд 11, 74, 78, 79
дилетантизм 7
дирижер 36, 68, 78, 95, 130, 131,137, 153, 173, 174
дискант 61, 65, 66, 67, 68, 69, 204
диссонанс 15, 45, 65, 66, 67, 68, 83, 112, 119, 123, 125, 128, 132, 133, 138, 146, 147, 151, 154, 159, 165, 166, 207
дитонус 59
додекафония 142, 162, 189, 190, 193, 194, 206
доминанта 102, 103, 104, 105, 109, 111, 112, 114, 115, 121, 123, 125, 151
Е
единоголосие 25, 27, 41, 43, 88, 179, 193, 204 3
звукоряд 29, 68, 81, 88, 102, 103, 104, 106
знаменный распев 38
И
имитация 29, 51, 103
импрессионизм 141, 143
инквизиция 62, 70, 83
интервал 24, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 38, 44, 59, 60, 61, 68, 80, 83, 84, 89, 90, 102, 115, 124, 141, 142, 151, 152
история гармонии 164, 184, 185, 191
история музыки 5, 18, 100, 118, 164, 181, 189
К
каденция 105, 112, 114, 150
какофония 36, 149
канон 51, 61, 63, 72, 187
кантата 85, 86
кантри 21
капелла 69, 70, 86
капельмейстер 94, 107, 108
кварта 26, 27, 29, 34, 47, 53, 60, 64, 68, 69, 83, 89, 104, 105, 115, 137, 138, 151, 205
квартет 12, 94, 106, 107, 112, 163, 165
квинта 26, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 47, 60,61, 64, 68, 69, 88, 89, 103, 104, 123, 124, 129, 133
китара 32, 40, 85
кифара 32, 35, 37
кластер 151
композитор 10, 11, 12, 27, 51, 68, 71, 72, 76, 80, 82, 83, 86, 87, 89, 94, 100, 103, 104, 107, 109, 110, 113, 122, 125, 128, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 157, 158, 159, 165, 166, 173, 174, 175, 183, 184, 187, 204
конкретная музыка, конкретные звуки 143, 148, 154, 166, 193, 206, 207
консерватизм 71, 127, 138, 149, 167
консонанс 15, 60, 65, 67, 68, 84, 124, 125, 133, 143
контрапункт 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 94, 95, 134, 146, 163, 194, 204
Крестовые походы 47, 56, 61, 62, 63, 66, 193, 204
культура мозаичная 140
культура музыкальная 13, 15, 21, 22, 41, 149, 150, 158, 193
куплет 97, 103
Л
лад 38, 41, 52, 57, 69, 71, 82, 88, 93, 101, 102, 109, 113, 115, 123, 124, 132, 138, 142, 145, 147, 152, 185, 204
Лед Зеппелин 9, 19
лейтмотив 126, 128, 132
лира 26, 32, 33, 45
лира колесная 45, 46
М
мажор 57, 70, 81, 82, 83, 89, 93, 102, 103, 113, 115, 119, 121, 122, 125, 133, 137, 138
медианта 123, 125
мейнстрим 146
мейстерзингер 71, 72
мелодика 21, 24, 36, 121, 145, 147, 156, 157, 169, 190
мелодия 10, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 39, 47, 50, 51, 52, 59, 61, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 101,102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 114, 116, 120, 126, 132, 137, 138, 141, 142, 145, 153, 155, 158, 159, 165, 166, 172, 188
менестрель 57, 60, 64
месса 21
микротональность, микротональная музыка 152, 153
минимализм 144, 145, 166, 190, 206
миннезанг 57
миннезингер 57, 58, 71
минор 70, 81, 82, 83, 89, 93, 101, 102, 103, 113, 115, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 133, 137, 138, 141, 157
модуляция 83, 121, 131, 133, 145, 165, 172, 204, 205
монархия абсолютная 90
монодия 27, 40, 41, 204
монохорд 38, 44
морденто 100
музыка будущего 9, 11, 17, 18, 128, 150, 153, 173, 175, 177
музыка для музыкантов 173
музыка и идеология 148, 150, 151
музыка классическая 11, 73, 94, 119, 132, 133, 155, 156, 162, 193
музыка легкая 155, 156, 158, 159, 160, 161, 165, 183, 193, 194
музыка серьезная 43, 138, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 166, 169, 173, 183
музыкотерапия 169
Н
напряжение 104, 105, 111, 114, 123, 131, 137, 142, 150, 157
народность, народный 11, 23, 24, 34, 35, 43, 66, 67, 74, 78, 112, 114, 119, 120, 121, 132, 138, 151, 155, 156, 159, 176
национализм 127, 128
неоклассицизм 129, 146, 147, 148, 190, 204, 206
Новая Венская школа, нововенцы 142, 146, 163, 189
нона 26
ноты, нотные обозначения 32, 34, 36, 38, 44, 47, 53, 59, 61, 68, 69, 74, 101, 108, 109,121, 123
О
обертон 15, 28, 29, 30, 88, 152
обращение аккорда 106, 114
ода 27
октава 26, 27, 29, 31, 34, 35, 40, 60, 65, 68, 89, 103, 104, 106, 125, 152
олиготоника 109
опера 25, 59, 71, 83, 101, 124, 128,132, 136, 155
орган 9, 28, 43, 45, 46, 47,48, 68, 84, 85, 86, 89, 95, 106
органиструм 45, 46
органный пункт 47, 50, 55, 187
органум 43, 45, 46, 52, 59, 193, 194, 204
оркестр 5, 10, 25, 33, 35, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 84, 86, 87, 89, 94, 95, 97, 106, 107, 108, 121, 125, 130, 131, 139, 153, 165, 168
осмысление музыки 130, 169, 183
П
партитура 127
пентатоника 34, 35, 124, 138, 204
пентатоника полнотоновая 142
Пинк Флойд 16
пифагорейцы 25, 28
подголосок 61, 80
полистилистика 148
полифония 36, 37, 42, 45, 46, 59, 61, 147, 186, 187
попмузыка 15, 53, 73, 94, 114, 115, 138, 151, 154, 155, 156, 165, 166, 172, 174, 175, 176, 186, 190, 194
пошумелки 171
прима 26, 29, 35, 68, 104
Просвещение 90, 110, 126, 204
психология социальная 6, 8, 19, 21, 39, 41, 114, 139, 176, 183, 184, 185, 186, 189, 193, 194
Пятницкого хор 14
Р
разрешение 105, 112, 125, 126, 131, 157
революционность 128
регистр 29, 45, 84, 103, 116, 117
репетитивная музыка 145, 166
Реформация 63, 64, 67, 71, 91
речитатив 126, 166
ривайвл 79
ритм, ритмика 9, 20, 21, 24, 57, 59, 74, 90, 94, 95, 112, 130, 132, 142, 143, 144, 145, 147, 149, 154, 156, 158, 165, 166, 169, 170, 171, 172, 179, 180, 190
рок 6, 13, 14, 21, 22, 25, 78, 97, 138, 144, 144, 163, 165, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 185, 186, 190, 193, 194, 207
рок тяжелый 9, 11, 53, 54, 55, 154, 161, 165, 168, 205
рококо 100, 101, 110, 204
Роллинг Стоунз 93, 94, 165
романтизм, романтический 121, 129, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141 146, 163
рулада 100
С
самодеятельность художественная 6, 98, 114, 179
свободный склад, свободный стиль 83, 84, 85, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 101, 129, 164, 188, 204
секста 26, 68, 123, 124, 125
секунда 26, 29, 32, 68, 89, 125, 138, 151
септима 26, 68, 83, 124, 125
сериализм 143, 144, 162, 174, 186, 189, 190, 206
серия 143, 189, 190
симфония 14, 21, 25, 31, 32, 68, 86, 106, 108, 109, 127, 130, 131, 133, 136, 151, 155, 159, 184, 191
синкопа 154
синтезаторы 14, 154
скэт 94 сольфеджио 5
сонантный коэффициент 151
соната 86, 120
сопрано 29, 80, 103, 106, 128, 173
социальная болезнь 168
социологизм, формационный подход 19, 179
стиль 7, 16, 19, 20, 23, 39, 49, 53, 78, 83, 86, 100, 126, 129, 141, 143, 147, 148, 161, 165, 168, 169, 171, 173, 188
строгий склад 39, 70, 87, 90, 188, 204
струна 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 45, 88, 144
субдоминанта 103, 104, 105, 109, 111, 113, 114, 115, 125, 133, 151
сумбур вместо музыки 150
Т
такт 84, 107, 112, 124, 187
танцы, танцевальная музыка 23, 57, 94, 132, 155, 156, 179
темперация 88, 205
тенор 61, 80, 128
теория музыки 5, 109, 118
терция 26, 27, 30, 59, 60, 64, 66, 68, 74, 81, 82, 88, 89, 112, 113, 122, 124, 125, 137, 138
тетрахорд 33, 34, 43, 82, 204
томление 125, 126, 131, 139
тон 13, 28, 29, 32, 34, 35, 41, 43, 47, 55, 60, 71, 83, 84, 85, 89, 92, 101, 104, 115, 121, 122, 123, 134, 137, 138, 141, 142, 143, 150, 152, 153, 154, 187
тональность 88, 90, 93, 101, 113, 115, 121, 122, 123, 131, 133, 141, 142, 145, 147, 173, 174, 175, 187
тоника 104, 105, 114, 115, 122, 123, 125, 151
тоталитарный режим 159, 194
традиционализм 145, 148
трезвучие 25, 81, 82, 103, 104, 105, 106, 109, 115, 122, 123, 125, 132, 137
трель 100
триоль 100, 101
тритон 68, 70
трубадур 56, 57, 60, 64, 205
тяготение 103, 105, 111, 122, 142, 157
У
унисон 27, 29, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 43, 72, 103
Ф
феодализм, феодальный 47, 50, 51, 57, 63, 64, 92, 179, 180, 186, 187, 188, 204
фисгармония 46
флейта 22, 23, 24, 28, 69, 98, 107
фольклор музыкальный 21, 24, 33, 57, 185
форшлаг 100, 101
фуга 61, 72, 88, 90, 93, 95, 147, 187, 188
функция 74, 105, 110, 113, 114, 123, 187
X
хазмотоника 109
хард-рок 9, 11, 53, 54, 161, 165, 168, 205
хор 14, 25, 39, 41, 43, 59, 65, 66, 70, 71, 84, 86, 94, 97, 106, 138
хорал 11, 38, 39, 41, 59, 65, 69
хроматика, хроматический 123, 125, 143, 146, 190, 204, 207
хэвиметал 168
Ч
частота колебаний 28, 30, 68, 81, 88, 151
частушки 21
Ш
шаманизм 10, 168, 170
Э
эмоции 13, 70, 88, 121, 126, 129, 139, 157, 158
Я
язык музыкальный 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 36, 41, 55, 146, 158, 175, 176, 193
Указатель именной
А
Абеляр П. 65
Адамс Дж. 190
Александров Б. А. 167, 171
Альшиц Д.Н. 179
Амансхауэр Г. 152, 166
Андронников И. Л. 150
Ансельм Фландрский 43
Анфилов Г. Б. 43
Армстронг Л. 75, 76, 138
Архит 28
Б
Бакунин М. А. 128, 164
Барт Р. 20
Бас Дж. 82
Бах И. С. 11, 21, 52, 80, 82, 87, 88, 90, 94, 95, 96, 97, 100, 103, 108, 120, 130, 155, 161, 164, 188, 205
Бах Ф. Э. 100, 101
Берг А. 142, 189
Берлиоз Г. 123,125, 130, 131, 132, 133,139
Бернстайн Л. 74, 88, 101, 123, 130, 136, 173, 174, 175, 184, 185
Бетховен Л. ван 11, 12, 14, 95, 100, 109, 113, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 129, 130, 133, 136, 137, 155, 205
Бизе Ж. 132
Битлз 9,10, 13, 93, 94, 138, 163, 164, 165, 170, 176, 194
Бонапарт Наполеон 111, 127
Борн М. 20
Бородин 179
Боэций (Аниций Манлий Торкват Северин) 37, 205
Брамс Иоганнес 133, 136, 137, 138, 139, 149, 150, 176, 184, 205
Брежнев Л. И. 6
Бриттен Б. 175
Брукнер А. 125
Бузони Б. 152
Букстехуде Д. 89
Булез П. 143, 144, 173, 207
Бэкон Ф. 89
Бэлза И. 11
В
Вагнер Р. 11, 71, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 132, 133, 136, 137, 158, 184, 205
Валентин 72
Вальтер фон дер Фогельвейде 57
Вахромеев В. 25
Веберн А. 142, 143, 189, 191, 207
Величанский А. 97
Верди Дж. 11, 90, 124, 136, 184, 205
Веркмейстер А. 89, 205
Верфель Ф. 90, 124
Виадана (Людовико Гросси из Виаданы) 81, 85, 205
Вивальди А. 86, 94, 97, 98, 99, 205
Вильямс Гутти 77
Вольтер (Франсуа Мари Аруэ) 109
Г
Гайдн Й. 21, 100, 106, 107, 108, 109, 113, 119, 120, 122, 130, 205
Галилей Г. 28
Галь Г. 128
Гвидо из Ареццо (Аретинский) 43, 44, 205
Гельмгольц Г. 118, 205
Генрих Фрауэнлоб 57, 58
Герцман Е. В. 36, 37, 182
Гибелиус О. 43
Гильом IX Аквитанский, герцог 57
Гитлер А. 150, 151, 158, 194
Глазунов А. К. 149
Глареан (Генрих Лорис) 38, 81
Гласс Ф. 145, 207
Глинка М. И. 124, 132, 136, 205
Глиттер Г. 16
Глиэр Р. М. 145
Глюк К. В. 25, 113, 205
Горький М. 6, 10, 11
Грегер М. 79
Григ Э. 125, 132, 205
Григорий I Великий 38, 39, 205
Григорий IX, папа 62
Губайдулина С. А. 186
Гуляницкая Н. С. 184
Гуно Ш. 136
Д
Дворжак А. 132
Дебюсси А. К. 125, 141, 142, 207
Дейнека П. В. 183
Декарт Р. 40, 89
Делер 60
Денеш З. 49
Денисов Э. В. 148, 186
Дольник В. Р. 171
Дунаевский И. О. 14, 159, 160
Дьяконов И. М. 182, 183
З
Забродин Г. Д. 167, 171
Зилоти А. И. 149
И
Иоанн XXII, папа 69
Иоанн, дьякон 39, 41
Иосиф II, император 101
К
Кабалье М. 167, 168
Каган М. С. 182
Кальман И. 136
Капелла М. 34
Карл Великий 47
Каррильо X. 154
Кейдж Дж. 143, 144, 153, 207
Кемпферт Б. 78
Керубини Л. 113, 207
Кинг О. 73, 75
Клейн Л. С. 20, 191
Когоутек Ц. 184
Коле 60
Кон Ю. 12
Коттоний И. 45
Креке 34
Купер Э. 16
Куперен Ф. 100, 205
Курт Э. 82, 133, 134
Кусевицкий С. А. 148
Кювье Ж. 90
Л
Лангле О. 80
Ларош Г. А. 124
Леннон Дж. 10, 165
Леонин, регент собора НотрДам 59
Лимонов Э. 163, 165
Линней К. 92
Лист Франц (Ференц) 124, 125, 128, 133, 136, 205
Людовик XIV 92
М
Мазель Л. А. 12, 82, 113, 124
Маккартни П. 10, 77
Малевич К. С. 144
Малер Г. 131, 146, 150, 151, 161, 207
Марголис Ю. Д. 179
Маркс К. 1, 110
Мейлер Н. 55
Меркюри Ф. 167, 168
Мерсенн М. 41, 72, 88
Мёрфи У. 14
Мессиан О. 143, 207
Моль А. 11, 140
Монтеверди К. 83, 84, 205
Моцарт В. А. 11, 60, 95, 100, 101, 109, 110, 112, 113, 119, 120, 121, 122, 123, 131, 188, 205
Мусоргский М. П. 14, 122, 124, 137, 147
Н
Никитины Т. и С. 97
О
Олимп 34
Орфей 25, 33
Оссовский А. В. 148
П
Палестрина Дж. 52, 69, 70, 80, 87, 90, 188, 205
Парейра Бартоломе Рамос де 68
Переверзев Л. 76
Перловский Л. 70, 88
Перотин Великий, регент собора НотрДам 59
Пиотровский Б. Б. 180
Пифагор 27, 31, 68, 88, 89, 205
Плант Р. 19
Пресли Э. 163, 165
Прокофьев С. С. 146, 147, 148, 150, 175, 207
ПсевдоПлутарх 34
Пуччини Дж. 124
Р
Равель М. 122, 141, 207
Радикати Ф. 12
Разумовский граф 12
Райли С. 145, 207
Райх С. 145, 207
Рамо Ж. Ф. 81, 103, 104, 105, 109, 113, 133, 205
Рахманинов С. В. 145, 148, 149
Ремигий Оксеррский 34
Ренуар П. О. 95
Риман Г. 82, 118, 119, 133, 150, 205
Римский-Корсаков Н. А. 124, 129, 135
Ричард Львиное Сердце 57
Ричард Маленький 165
Рождественский Г. Н. 95
Руссо Ж. Ж. 109
Руссоло Л. 143, 207
С
Сакс Г. 71, 72
Сахаров Д. А., академик 6
Серов А. И. 124
Сибелиус Я. 132
Слонимский С. М. 191
Сметана Б. 132
Смит А. 110
Совёр Ж. 88
Соллертинский И. И. 138, 149
Сохор А. Н. 19
Сталин И. В. 150, 151, 164, 194
Старр Ринго 10
Стоковский Л. 36, 37, 122, 130, 152, 153, 173
Стравинский И. 142, 147, 175
Стреминский И. И. 180
Т
Танеев С. И. 145, 146
Теодорих 37
Терпандр 34
Тимофей Милетский 35
Толстой Л. Н. 11, 12, 119, 121, 125, 132
Ф
Фети Ф. Ж. 121, 205
Филипп из Витри 67
Филоксен 34
Флейшер О. 36
Флорино 124
Фогель М. 134
Фольяни Л. 68, 205
Фома Аквинский 50
Франко из Кёльна 65, 67
Фуко М. 20
X
Хаба А. 152
Харлап М. Г. 23
Харрисон Дж. 10
Хачатурян А. 175
Хейли Б. 165
Хендрикс Дж. 154
Хиль Э. 97
Хильдегард Св. из Бингена 50
Хиндемит П. 147, 151
Холопов Ю. Н. 151, 184
Ц
Царлино Дж. 68, 69, 81, 205
Ч
Чайковский П. И. 124, 129, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 147
Чжу Цзай Юй 89
Шевалье Л. 40, 45, 52, 61, 68, 72, 81, 82, 83
Ш
Шёнберг А. 142, 143, 151, 163, 175, 176, 189, 190, 191, 207
Шеффер П. 143, 207
Шнитке А. Г. 147, 148, 186, 207
Шопен Ф. 120, 125, 132, 186, 205
Шостакович Д. Д. 21, 146, 147, 150, 159, 160, 175, 207
Шоу Б. 11
Штейнпресс Б. С. 59, 69, 100
Штокгаузен К. 143, 144, 207
Штраус Й. 132
Штраус Р. 131, 151
Шуберт Ф. 122, 125, 136, 137,138, 165
Э
Эвридика 25
Эйлер Л. 28
Эллингтон Эдвард Кеннеди, Дюк 76, 77
Эльред из Риво, аббат 45
Эмерсон Кит 14, 16
Энгельс Ф. 11
Эригена С. И. 52
Asriel А. 11, 79
Blaukopf К. 155, 156
Barthes R. 20
Cooke D. 12
Daniel G. E. 91
Gut S. 60
Fleischer M. 36
Foucauit M. 20
Mailer N. 55
Newton F. 13, 74
Persichetti W. 141
Riemann H. 119
Sachs C. 35, 37, 46
Schenk P. 105
Vogel M. 134
Wasserberger I. 11
Примечания (к электронной версии)
Перечень ошибок набора, обнаруженных и исправленных верстальщиком
С. 18: Первый заключается в том, [чтобы, проследить] => чтобы проследить внутреннюю логику исторического развития музыки.
С. 38: Извлеченные из греческих и латинских сочинений тетрахорды (ионийский, фригийский и прочие) со своими [удвоенниями] => удвоениями стали называться «ладами» и обеспечили разнообразие церковных песнопений.
С. 68: Поскольку основным благозвучным интервалом стала терция, то теоретики XVI века Фольяни и Царлино и настройку всего звукоряда на музыкальных [инструментов] => инструментах стали производить не по Пифагоровой квинте, а по большой терции.
С. 71—72: В Италии основывались «академии», в которых [интелигенты-] => интеллигенты-гуманисты всё больше обсуждали музыку и исполняли концерты.
С. 78: Берт Кемпферт со своим оркестром, который он каждый год сменял, не ценя [индивидульности] => индивидуальности
С. 91: По своей [эгоистическоцй] => эгоистической наглости и скандальной откровенности эта крылатая фраза французского аристократа исключительна, но она есть лишь крайнее и специфическое выражение общей тогдашней ориентировки во времени, общего отхода от закономерных следований по предуготовленным путям.
С. 108: [Окрестр] => Оркестр продолжал играть в меньшем составе.
С. 111: Стали оценивать с точки зрения того, чем эта новинка обогатит ситуацию, что будет означать для своих [предшествеников] => предшественников, какие возможности откроет тем, кто появится позже.
С. 119: На днях я шел домой с прогулки в [подавленом] => подавленном состоянии духа.
С. 119—120: В таком же [возбужденом] => возбужденном состоянии я нашел и всех домашних, слушавших это пение.
С. 121: Народная песня, конечно, безыскуснее (в ней всё-таки меньше искусства!) и действует прямее на эмоции, особенно, если [сопряженна] => сопряжена с изъявлениями личной преданности и симпатии к барину.
С. 132: Так, Берлиоз в середине XIX века [ипользовал] => использовал изобретенный Адольфом Саксом новый духовой инструмент саксофон — металлический, но с мундштуком от деревянного кларнета.
С. 134—135: Он вообще был не удовлетворен состоянием музыкальной теории конца века. В письме 6 [опреля] => апреля 1885 г. он придирчиво критиковал аналогичный учебник Н. А. Римского-Корсакова и так объяснял свои, как он выражался, «ехидство» и «злобность»...
С. 148: Вопреки мнению многих членов совета, покровительствовавших «модернизму и [декаденству] => декадентству», Рахманинов «решительно, со всей силой своего авторитета выступил против принятия этой, по его мнению, варварской, новаторски дерзкой, нарочито какофоничной музыки».
С. 175: Но это «когда-нибудь» наступит тогда, когда произойдут [фундаменальные] => фундаментальные изменения в наших физических законах, быть может, тогда, когда человек оторвется от этой планеты.
С. 183: Меня всегда занимало, а в данном случае было [особено] => особенно интересно, как на мои соображения реагирует молодежь, в частности компетентная молодежь — молодые музыканты.
С. 194: [Расматривается] => Рассматривается и борьба Сталина и Гитлера против гармоний XX века, живые компоненты и разрушительные тенденции в роке.
Примечания
1
У Серова называется квинта, но Мазель (1991: 142) показал, что это ошибка памяти.
(обратно)2
За время подготовки книги Настасья Хрущева окончила консерваторию и поступила в аспирантуру. Ныне она член Союза композиторов, автор ряда научных статей и музыкальных произведений, исполняемых в России, Германии, Испании и Мексике.
(обратно)3
The style of the summary is kindly corrected by Stephen D. Leach.
(обратно)



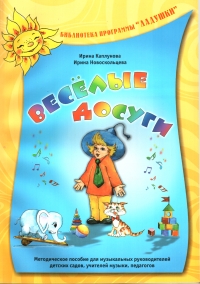
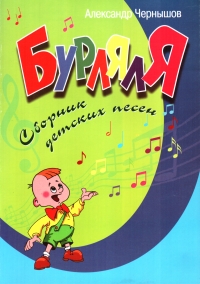

Комментарии к книге «Гармонии эпох. Антропология музыки», Лев Самуилович Клейн
Всего 0 комментариев