МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ 1925 № 1
*
Изд-во «П. П. СОЙКИН»
ЛЕНИНГРАД, — СТРЕМЯННАЯ, 12.
Ленинградский гублит № 8010 (9287)
Типография им. Гутенберга.
Tиp. 15.000 (30.000)[1]
СОДЕРЖАНИЕ
«ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Рассказ Д. Коллинза. С англ.
«БИТТ-БОЙ, ПРИНОСЯЩИЙ СЧАСТЬЕ»
Рассказ А. С. Грина
«РАМЗЕС XVII»
Рассказ Отто Рунг. С шведск. Иллюстрации Мишо
«ОПЫТ»
Рассказ В. Богословского
«СКВОЗЬ ОГНЕННЫЙ БАРЬЕР»
Рассказ Джоржа Глендона. С англ.
«ОСТРОВ СИРЕН»
Рассказ М. Коргановой
«ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА ФИПКИНСА»
Рассказ Коутс Брисбэн
С англ. Иллюстрации М. Я. Мизернюка
«ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ»
Восточная сказка В. Розеншильд-Паулина
«КОТОРЫЙ ИЗ ДВУХ?». Рассказ-задача.
Пост-скриптум в письме А. П. Горш
«ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ»
Рассказ Вас. Левашева
«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧЕСТЬ»
Рассказ Ф. Б. Бейли. С англ.
«ОТ ФАНТАЗИИ К НАУКЕ»
— Откровения науки и чудеса техники
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
— О подписке на журнал «Мир Приключений» на 1925 год.
Обложка исполнена художником М. Я. Мизернюком
От Издательства
Наука шествует мерными и твердыми стопами, фантазия — летит…. Но нередко то, что было фантазией писателя, несбыточной грезой для читателя, недостаточно обоснованной, хотя и интересной выдумкой в глазах современного ученого, — становилось впоследствии реальным фактом, покоящимся на незыблемых устоях точных знаний.
Лучший пример — всемирно известные произведения Жюля Верка. Не прошло и ста лет, как его фантастические, необычайные путешествия и приключения осуществились в иных формах, во многом на иных научных основаниях, но все же — осуществились. Появились летающие машины, подводные лодки, дальнобойные орудия, невероятной силы взрывчатые вещества, X-лучи, беспроволочный телеграф, передвижные дома (автомобили), и пр. и пр.
За последние годы темп научных открытий и технических изобретений стал необычайно быстр и естественно, что бытовые приключения старого времени в жизни и ее отражении — литературе — наполовину вытеснены повествованиями нового тина, где действие происходит в обстановке и в условиях, создаваемых изумительными достижениями науки и технического прогресса. И Издательство «Мир Приключений», как заметили, конечно, наши читатели, посильно отражает на столбцах журнала это новое течение литературы, утвердившее фантастический рассказ, в основе которого лежит только что высказанная научная мысль, вчерашнее или завтрашнее открытие и изобретение. В портфеле Издательства — целый ряд произведений, где занимательность беллетристическою рассказа является привлекательной оболочкой научного или технического стержня.
Основная цель таких произведений — и в часы заслуженного отдыха, развлекая, — будить мысль и стремление к знанию.
В этих видах Издательство предпринимает и еще новый шаг, с этого номера вводя отдел:
«ОТ ФАНТАЗИЙ К НАУКЕ» — ОТКРОВЕНИЯ НАУКИ И ЧУДЕСА ТЕХНИКИ.
Тщательно следя за всем, появляющимся в этих областях, Издательство в сжатой, доступной всем форме сообщений, заметок и иллюстраций — будет ежемесячно знакомить с замечательными открытиями и изобретениями человеческого гения, с тем, что является реальным воплощением фантастических грез еще недавнего прошлого. Издательство не задается большими планами, которые может в должен ставить себе специальный журнал, но своей иллюстрированной хроникой откровений науки — и чудес техники оно надеется толкнуть пытливую мысль к источникам знаний. А может быть беллетристы найдут в наших заметках и новые темы для своих произведений, популяризующих великие достижения сегодняшнего дня.
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
Рассказ Д. Коллинза
С английского пер. М. Матвеевой
Если бы я решился немножко подтасовать факты, можно было бы написать недурную повесть о любви и возмездии. Но тогда это не была бы история Петерса и его «Жемчужины Раздора», не было бы в ней правды об островах Санта-Джозефс, и ее можно было бы приурочить лишь к такой группе островов, которую омывало разве только море чернил.
Мы здесь не занимаемся героинями романов, вроде красавиц, выбрасываемых морем в объятия пещерных обитателей островов Санта-Джозефс. Когда однообразие жизни нарушается каким-либо необычным поступком, то дело не обходится без пролития мужской крови и женских слез.
Но знайте, что с тех пор, как Симпсон нашел жемчужину, а Петерс получил ее, воздух у нас значительно очистился, так как оба они были черными пятнами на картине. А картина была недурная, если вы можете представить себе до боли яркое голубое море, сливающееся с небом; волшебно шепчущие, куда бы вы ни пошли, пальмы, белый, как кость, коралловый песок и морской берег, весь кишащий полчищами краббов. Это до болезненности очаровательное место сначала захватывает вас, а затем заставляет только о том и думать, как бы скорее из него убраться.
Я не желал обидеть других джентльменов нашей группы, сказав, что Петерс и Симпсон были самыми темными личностями, когда-либо свившими себе там гнездо, хотя некоторые из них и могли бы оспаривать мое мнение, но я считаю, что оно вполне подтверждается фактами. Петерс был человек угрюмый, худощавый, как железный прут. Он был порядочно изнурен лихорадкой, но это нисколько не отозвалось на его силе, закаленности, жадности и способности сделать гадость при удобном случае. Его жгучие, глубоко впавшие под нависшими черными бровями глаза, ничуть не потускнели, как; это бывает под тропиками. Они имели свойство как-то вдруг загораться, смотря на людей.
Симпсон, наоборот, напоминал мягкую, вздутую перину. Голубоглазый и румяный, как кукла, он, несмотря на свою толщину, выглядел моложе своих сорока с чем-то лет. Одна женщина, жившая в гостинице Райяна в порте Морсби, как-то вечером назвала его «чортовой куклой». Это меткое прозвище так и осталось за ним.
Если Петерс и Симпсон не нарушали сообща каждой буквы каждого слова заповедей Моисея, то разве только потому, что какое-нибудь беззаконие показалось им не стоющим их внимания.
Ну, теперь вы их видите перед собой, как видели их мы. На Санга-Джозефс выбирать не приходится. Мы их взяли такими, какими они были.
Петерс и Симпсон жили друг против друга в очень приличных домиках, правда, туземной постройки, но прохладных и просторных. Их разделяла лишь широкая лагуна.
Белые женщины к нам не заглядывают. Мы сами иногда спускаемся к югу лишь для того, чтобы послушать шелест юбок, остальное же время — мы живем на островах Санта-Джозефс.
Некоторые из нас (не думайте, что я рисуюсь перед вами или хочу корчить из себя проповедника, нет, я только констатирую факт) придерживаются до сих пор старых взглядов на коричневых женщин, и их не переспоришь. Правда, эти женщины стройны, гибки, как молодые пальмы, а некоторые даже похожи на бронзовые изваяния, но, ведь, в другой цвет себя не перекрасишь. Не стоит, однако, возвращаться к этому старому вопросу. Речь идет лишь о том, что Петерс и Симпсон не были разборчивы. Они взяли, что им попалось под руку.
Симпсон взял себе двух девушек. У Петерса, надо ему отдать справедливость, пока жил с нами, была только одна, и он по своему был ей верен.
Есть еще одно обстоятельство в связи с тем же вопросом, о котором я тоже не хочу спорить. Вам скажут, что туземные женщины только делают вид, что любят белых. Можете верить или не верить — это дело ваше. Но я хочу сказать, что Леони, так он ее называл, любила Петерса. Она любила его, положим, не так, как любила бы миленькая девушка из Гольдерс-Грина: она любила его на свой первобытный лад, как животное, — дикой и опасной любовью, но это было, во всяком случае, дело Петерса, а также его вина и его несчастье.
Девушки Симпсона не имеют отношения к этой повести: обе они были туземные девушки, которых он выменял на табак.
Полоса воды между домами Петерса и Симпсона кипела жизнью. Когда вы днем переправлялись через нее на байдарке, вы уже могли об этом догадаться: море кишело рыбами, похожими на бабочек, морских, змей, скатов и акул. Но видеть все это вполне можно было только ночью. Говорю вам, вода казалась тогда живой массой, горела и сверкала фосфорическим блеском. Когда вы плыли, у носа лодки вздымалась волна блестящего кварца и каждый тихий всплеск весла поднимал кверху как бы ракету из пылающих рыб. Какие-то светящиеся штучки сонно проплывали мимо вас, а глубоко внизу вы могли заметить огромную светящуюся массу, которая украдкой быстро продвигается вперед. И везде другом корчились, извивались змеи, как черви, рвущиеся из адского огня.
Да, это море было отвратительно и жутко. Если вы когда-либо держали в руках большую жемчужину и видели, как сладострастно она дышит, как бы в любовной неге, вы поняли бы, что в таком море должно быть много жемчужин. В большинстве случаев, жемчуг попадался мелкий, но, иногда, водолазу улыбалось счастье и он возвращался с жемчужиной такой красоты, что просто дух захватывало. Но не забудьте, только иногда.
Симпсону и Петерсу долго не везло. Затем Петерсу вдруг привалило счастье. Его «бои»[2]) ныряли как-то безошибочно. Говорили даже, что в каждой раковине было по жемчужине, а в каждой десятой из них — крупная, ну, как бы на манер девятого вала. Конечно, это была басня, как многое другое, о чем болтают люди, но нельзя было отрицать того, что Петерс собрал такую жатву, какая немногим выпадает на долю.
Он поддразнивал этим Симпсона, сидя вечерком у него на веранде.
— Всего только полдюжины сегодня, Симпсон — говорил Петерс. — Я думаю, бросить ловлю жемчуга.
Симпсон делал вид, что смеется, но это ему не удавалось, и он подливал себе виски. Видите-ли, тут все дело в счастьи, а ему, положительно, не везло. Он тщетно старался раздвинуть свою толстую рожу в некоторое подобие улыбки, но кожа как-то не растягивалась.
А Петерс продолжал хвастаться. Он был опьянен успехом в эти дни и кровь его кипела. Эти чародейки, которых ему дарило море, чуть не сводили его с ума, заставляя его болтать без умолку.
Так продолжалось довольно долго, но, наконец, настала очередь Симпсона. Он нашел такую жемчужину, которая заставила бы халифа Дамасского предать смерти хранителя своих драгоценностей за то, что до ее находки даром получал свое жалованье.
Это была одна из тех жемчужин, которые создают себе мировое имя, о которых даже сто лет спустя пишут целые истории, когда какой-нибудь миллионер закладывает их, а потом заявляет полиции, что украли с туалетного стола его жены.
Жемчужина была черная и без малейшего изъяна. Когда вы смотрели на нее, казалось, что она глубиной, по крайней мере, фута три. Я ничего не понимаю в жемчуге и не хочу понимать. В нем есть что-то волшебное, какие-то злые чары. Но эта жемчужина, по моему мнению, была самой красивой из всех, которых когда-либо выносила устрица.
Обыкновенно на островах Санта-Джозефс, когда человек находил подобную жемчужину, он прятал ее в самый грязный из- своих носков, затем получал из Австралии дурные известия от своей старой матери и уезжал раньше, чем можно было догадаться, в чем дело.
Но вся беда нашей уединенной группы состоит в том, что вследствие одиночества, лихорадок и спиртных напитков мы не всегда нормальны.
Симпсон тоже не был исключением.
Он в тот же вечер отправился хвастнуть перед Петерсом своей находкой.
Он сам случайно открыл эту устрицу, повинуясь какому-то жуткому любопытству, и даже его собственные «бои» не знали о том, что он в ней нашел. Я полагаю, что он сам всецело был виноват в том, что излучилось. Во всяком случае, не следует забывать, что в нашем одиночестве мы, поневоле, становимся несколько странными. Хвастовство Петерса слишком сильно действовало Симпсону на нервы, и ему захотелось в свою очередь похвастаться перед ним.
Я припомнил впоследствии, что в этот вечер тьма была непроглядная, в мягком, как бархат, воздухе чувствовалось что-то тяжелое, а звезды на небесном своде были похожи на апельсины. Эта жуткая, таинственная ночь на многие месяцы покрыла тайной то, что произошло в доме Петерса. Только после того, как «бой», случайно бывший тому свидетелем, пришел в себя ст ужаса, который лишил его на время языка, я выпытал от него эту историю.
Я представляю себе, как они сидели на широкой веранде у стола с керосиновой лампой, бросавшей золотистый сноп лучей на черную завесу ночи. Должно быть, свет играл на графине с желтым виски и обрисовывал черными штрихами худое, мрачное лицо одного из них и херувимский лик другого. Симпсон, наверное, позволил Петерсу несколько времени похвастаться, а затем преспокойно вытащил из кармана своей защитного цвета рубахи какую-то тряпку.
— Мне тоже немного повезло сегодня, — вероятно, сказал он.
И, хладнокровно развернув тряпку, он обнажил свою красавицу, причем упавший на нее свет нырнул в нее и затеплился в ее бездонных недрах, как бы не в силах ее покинуть. И тогда Симпсон уже наверное не пытался больше скрывать своих чувств. Лицо его, должно быть, озарилось гордостью и страстной любовью к сокровищу, трепещущему жизнью на его ладони.
А Петерс, наверное, собирался раскритиковать его находку, как будто не придавая ей значения, но, остановившись на ней, глаза его, несомненно, засверкали из-подлобья и челюсти судорожно сомкнулись, придав ожесточенный вид его, как из стали, вылитому лицу.
Без сомнения, оба сидели над пульсирующей жизнью жемчужиной, лежавшей между ними на мягкой ладони Симпсона.
Они, наверное, ничего не говорили, но из груди их, может быть, вырвался шепот восторга, которого не выразишь словами. Глотая спирт, они не спускали с нее глаз. И, может быть, Петерс протянул к ней руку, чтобы поближе ее разглядеть, а Симпсон сделал вид, будто не замечает этого, и продолжал любоваться этим чудом.
И вот, вдруг, красавица жемчужина свела их с ума: Петерс, как я узнал позже, встал с места, и вошел в комнату, находившуюся позади Симпсона. Если б Симпсон был в здравом уме, это должно было в нем возбудить подозрение.
Но он был также ненормален, как и Петерс, и замечтался над своей жемчужиной, а потому Петерсу не трудно было оглушить его сзади папуасской боевой дубиной и прикончить двумя ударами копья, висевшего на стене в виде украшения.
Петерс оглушил его папуасской боевой дубиной…
Чтобы никого не разбудить и не оставить никаких следов, он очень осторожно вытащил Симпсона в глубокую темь ночи, он уложил его в его же лодку и вывез его в лагуну, где отдал его на съедение кишащему населению воды. Он подождал немного, пока не увидал, что море вспыхнуло фосфорическим светом в том месте, где большие рыбы вступили в драку из-за тела Симпсона и, вернувшись на берег, он опрокинул байдарку и оттолкнул ее подальше от берега.
Вернувшись домой, Петерс вынул все свои жемчужины из небольшого замшевого мешечка, висевшего у него на шее на цепочке, небрежно высыпал их в коробку от спичек и водворил на их место это единственное в мире чудо.
Он докончил бутылку виски уже наедине с жемчужиной.
Известие о том, что Симпсон утонул, возвращаясь с попойки от Петерса, не заключало в себе ничего такого, что могло бы удивить или вызвать общую печаль. Повидимому, он был настолько пьян, что даже не разбудил своих «боев». А сам отвалил от берега. Видели, как его опрокинутую вверх дном лодку уносило течением в море, через каменистую гряду. Нечего было искать его тело. Мы знали, куда оно делось.
Не было также ничего удивительного в том, что о Петерсе начали ходить темные слухи. Намекали, что в эту ночь свершилось какое-то темное дело, но никому не было дела до производства следствия. У нас в Санта-Джозефс нет полиции. А сыщикам из любви к искусству у нас бы не поздоровилось. Мы вовсе не желали заводить у себя шпионов.
Я готовился к маленькой поездке в Самараи, когда Петерс, увидев меня на берегу, подошел ко мне. Мои «бои» были заняты погрузкой копры, а я за ними наблюдал, поощряя по временам их рвение хорошим пинком. Без этого, знаете, нельзя.
Петерс небрежно подошел ко мне, худой и мрачный, как тень, и поздоровался.
— Уходите? — сказал он, указывая пальцем на шкуну.
— Да, — ответил я. — Не подвезти ли вас?
Он кивнул головой.
— Счастье мне кажется изменило, наконец; думаю, что мне пора убираться на юг, пока лихорадка меня не прикончила, и немного поразвлечься. Я кое-что заработал и могу это себе позволить.
Мы всегда здесь живем в дружбе, когда, конечно, не ссоримся, и поэтому я его поздравил.
— Да, счастье изменило, — сказал он. — Нет больше никакого смысла болтаться в этой проклятой дыре.
Признаюсь, что мне тогда пришло в голову, не было ли правды в ходивших про него темных слухах. Но в Санта-Джозефс было совершенно бесполезно задаваться такими вопросами. Плата за переезд приходилась мне очень кстати, а в самом Петерсе мы вовсе не нуждались.
Плавание на шхуне с экипажем, состоящим исключительно из канаков, не особенно весело. Того и гляди наткнешься на коралловый риф, а тут еще вовсю печет солнце, приходится ругаться с неграми, да еще, вдобавок, и тараканы одолевают. Мне кажется, что очень привередливый человек скорее предпочел бы одиночество обществу Петерса. Но я не таковский. Я знал про него много больше того, что нашел нужным вам рассказать, но все-таки относился как-то снисходительно к своим грешным братьям, когда они являются единственными белыми людьми в стране чернокожих. Я не говорю, что так и быть должно, но оно так. Мы закусывали на палубе на ящиках с газолином; там же и выпивали, спали и болтали, и я не думал к нему придираться. Мне не было никакого дела до его нравственности.
Но все же я видел, что он чем-то радостно взволнован и что у него что-то было на душе, чем он хотел поделиться. Иногда мне случалось поймать на себе его взгляд, пытливо на меня устремленный из-под нависших бровей, как будто он обдумывал, можно ли мне безошибочно довериться. Видно было, что язык у него так и чешется, как он ни старался его прикусить. Я не пытался расспрашивать его. По правде сказать, я боялся, что это может иметь отношение к Симпсону. А мне, по совести говоря, не особенно хотелось что-нибудь услышать о Симпсоне. Если он имел что-нибудь сказать по этому поводу, так в Сама-рай был на это местный судья, который мог бы лучше оценить его доверие.
Вероятно, счастье продолжало валить Петерсу, так как мы совершили славный рейс, лучший из всех сделанных мною за много месяцев.
В последний вечер, который мы провели в море, Петерс выболтал свой секрет. Ночь была лунная. Море и небо как-бы сплелись между собой в серебристую ткань. Стоял полный штиль, и я развел пары во втором котле, чтобы прибавить ходу. Мы были слишком близки от нашей цели, чтобы мешкать. Мы сидели на люке, так как я хотел следить за нашим курсом. Мы мирно покуривали трубки.
Петерс первый нарушил долгое молчание.
— Вы умеете держать язык за зубами? — внезапно спросил он с некоторым оживлением.
Боюсь, что я не поощрил его к откровенности:
— Если я должен держать его за зубами, то я не вижу, почему бы вам того же не делать, — ответил я коротко.
Но он не мог уже удержаться.
— Слушайте! — сказал он. — Мне надо с кем-нибудь поговорить. Поверьте, у меня точно крылья выросли. Вы немного смыслите в жемчуге, не правда ли?
Я никогда не скрывал того, что не любил жемчужин, даже боялся их. Лучше бы их на свете не было. В них есть что-то безумное. И опять я не-стал поощрять его, хотя у меня и отлегло от сердца, когда я увидел, что он хочет говорить не о Симпсоне.
— Если я не вам расскажу, то скажу кому либо другому, не столь безопасному. Иногда мне кажется, что вы слишком порядочный человек для этих краев, Чайлдерс.
Он был как школьник. Я никогда не видел его таким человечным. Он зорко огляделся кругом, чтобы удостовериться, что никто из «боев» за нами не подглядывает, но, кроме рулевого у колеса (у штурвала), они все были на носу, приводя в порядок свой скудный праздничный наряд для предстоящего спуска на берег. Сняв с шеи замшевый мешечек, он выкатил из него жемчужину к себе на ладонь.
Я также выругался, увидев ее, как сделал бы всякий другой на моем месте, но в то же время я содрогнулся. Это была самая злодейски прекрасная вещь, какую я когда либо видел. Это была настоящая морская Саломея. Я боялся ее и боготворил ее. Лицо Петерса горело страстью любовника или фанатика.
— Как вы ее назвали? — спросил я. Всякая похвала казалась мне неуместной. Эта жемчужина была для меня живым существом, а потому совершенно естественно было спросить ее имя.
Петерс, казалось, нисколько не удивился этому вопросу.
— Я называю ее «Жемчужина Раздора», — просто ответил он.
Никогда нельзя сказать, что скрывается в человеке, пока не заглянешь ему в душу. Возьмите, например, этого самого Петерса, необтесанного, исковерканного жизнью человека, а ведь нашел же он для этой жемчужины единственное имя. в котором выражалась бы ее бурная красота.
Я кивнул головой.
— Вы только представьте себе, — сказал он. усмехнувшись, — сколько бед она принесет с собой на землю Не одно сердце разобьется из-за этой хорошенькой безделушки, которую я собираюсь продать человечеству.
Он быстро сунул ее опять в мешечек, как бы боясь, что она меня заворожит своими злыми чарами, и снова скрылся в своей обычной скорлупе, как закрывается карманный нож. Он с жадностью пустился в догадки об ее возможной стоимости, стараясь меня уверить, что море ее послало ему, чтобы увенчать его благосостояние.
А я, я соглашался с ним, хотя, право, я бесхитростный человек, и он не ошибся, выбрав меня, в поверенные своей тайны. Признаюсь, я был рад, что не видел больше этой жемчужины. Мне уже начало мерещиться, что я вижу, как она светится сквозь его рубашку. В этот вечер, прежде чем завернуться в одеяло, я здорово клюкнул, чтобы иметь возможность заснуть, но даже и во сне меня беспокоил длинный ряд мрачных видений.
Пораженный смертью Симпсона, я не мог освободиться от чар этой жемчужины, ворочаясь с боку на бок на своей постели.
Для меня, поистине, было облегчением, что с рассветом дня мы пришли в Самараи, где, занятый делами, я только заметил спину Петерса, который удалялся по обсаженной кактусами дороге, в направлении гостиницы, крытой железом.
Пароход в Австралию уводил на следующий день. Я преднамеренно не пошел его провожать, но, стоя в темном углу судна, я видел, как он, проходя мимо нас, махнул мне рукой.
Петерс покинул Санта-Джозефс совершенно внезапно и стремительно, как и все мы, когда отправляемся на юг.
Заведутся у нас денежки, опротивеет нам вдруг это место и тогда — давай бог ноги. Тогда не найти парохода, достаточно быстроходного для нас. Так случилось и с Петерсом: в его торопливости не было ничего необыкновенного. Он вышел из дому, как бы на прогулку, и оставил в Санто Джозефе все свое имущество. В Самараи он смог купить себе дорожный костюм для парохода, а все остальное в Сиднее. Там он и «загуляет» на несколько месяцев, а затем вернется домой.
Так он и бросил все, включая Леони. Несмотря на то, что это было не в первый раз, она затосковала. Тоска светилась в глубине ее кротких глаз. Она чувствовала себя несчастной, скучала и плакала из-за своего негодного сожителя. Это было ясно даже для такого ненаблюдательного человека, как я. Я не очень склонен совать свой нос в переживания туземных женщин, в особенности когда они спутались с белыми, но я не мог не восхищаться привязанностью Леони к Петерсу и, хотя встречал ее лишь изредка, всякий раз меня поражало трагическое лицо этой девушки, тоскующей по своему мерзавцу. Не следует позволять жалости, симпатии и тому подобным вещам усложнять жизнь, и без того нелегкую, а поэтому я избегал Леони, но все-таки не мог не заметить, что Петерс был для нее дороже всего на свете.
Хозяин судна, совершающего рейсы между такой группой островов, как наша, и уголком цивилизованного мира, является в одно и то же время и газетой, и почтальоном. Он привозит почту, но вместе с нею целый короб не менее интересных сплетен с юга. Там приходят к нему люди с новостями, которые могут быть интересны и для севера.
Таким-то образом я и узнал об удивительных приключениях Петерса в Сиднее.
Я сидел в глубоком кресле на веранде гостиницы в Самараи, потягивая виски с содовой водой и лениво наблюдая за погрузкой парохода, когда вдруг влетел Гике, американский судостроитель. Он только что вернулся из Сиднея, куда ездил отдохнуть, и привез массу новостей. Он придвинул свой стул ко мне, а я приказал «бою» принести вторую порцию виски.
— Послушайте, — сказал Гике, подмигивая мне из-за стакана. — Ваш друг Петерс ни в чем себе не отказывает там, на юге.
— Это понятно, — согласился я. — Он уехал отсюда с целым мешком жемчуга, которому мог бы позавидовать король.
— Беда с этими молодцами, которые торчат у острова Джозефе. Вы, кажется, воображаете, что это единственное место, где можно найти жемчуг? — сухо заметил Гике.
— А разве Петерс находит его в гавани Сиднея?
Серые глаза Гикса сверкнули.
— Во всяком случае, недалеко оттуда. Что, если я вам скажу, что он нашел там жемчужину высокой ценности.
Я сперва подумал, что он говорил про «Жемчужину Раздора», но Гике рассказал все толком. Оказалось, что Петерс, действительно, зажил в Сиднее на широкую ногу: остановился в лучшей гостинице, жил как какой-нибудь лорд, и вообще производил впечатление, будто он был королем Тихого Океана. Он влюбил в себя очень богатую невесту — хорошенькую невинную девушку с несколькими миллионами приданого, очаровав ее своим видом богатого человека. Я знаю, что Петерс, когда захочет, может очаровать кого угодно, а не только женщин, потому что он хорошо знал их и был экспертом по этой части.
— Он женится на ней, или мое имя не Гике. Тогда уж прощай Санта-Джозефс и ловля жемчуга: мистер Петерс превратится в изящного богатого джентльмена.
Ну, мы и выпили за его здоровье, хотя, видит бог, мне стало жалко этой богатой девушки, собирающейся купить себе Петерса в мужья. Но хозяину корабля, совершающему рейсы между островами, не к лицу корчить из себя рыцаря Галахэда, гарцующего на коне и спасающего девушек от драконов.
Это была самая крупная новость, с которой я возвратился в этот рейс. Могу вас уверить, что она произвела большее впечатление, чем все новости мира, и мы начали гадать, выгорит ли у Петерса это дельце.
Нечего говорить, что я не отправился к Леони, чтобы сообщить ей эту приятную новость. Но она все. таки услыхала об этом. Ничего не скроешь, когда повсюду торчат эти «бои». Новость эта, как по телеграфу, передавалась из «куста в куст» и каждый туземец нашей островной группы уже знал ее, как только я ошеломил ею торговца Смиддерса.
Любопытных людей могло бы заинтересовать, что думала об этом Леог ни, но я, может быть, из-за трусости не чувствовал никакого любопытства. Какое мне было дело до этого бедного маленького коричневого создания?
Все возвращающиеся с юга привозили свежие новости о Петерсе. Он стал чем-то вроде национального героя, действиями которого интересовались более, чем действиями президентов, королей, сановников и прочей мелкоты. Дела его, повидимому, шли в гору. С каждым рейсом я привозил кое-какие новости о нем.
А затем пришли газеты с подчеркнутыми карандашей заметками из хроники светской жизни. Там было объявлено о помолвке нашего Петерса с богатой наследницей. Мы очень удивились, узнав, из какой знатной фамилии он происходит, и с усмешкой подумали, что сказали бы его почтенные родители, живущие в своем поместии в одном из английских графств, если бы узнали, какова была карьера их сына, пока Ваал и Купидон не вернули опять его имя на столбцы светской хроники.
Мы хохотали, в то же время жалея его невесту, и, мне думается, что Леони долго плакала по ночам, прежде чем принять на себя какой-то странный, загадочный вид. Возбужденное любопытство так и осталось неудовлетворенным, но я лично не желал бы находиться на месте Петерса, если бы ему пришлось встретиться с нею.
Мне это казалось невероятным, но в один прекрасный день, когда я съехал на шлюпке на берег в Самараи, я увидел Петерса, поджидавшего меня. Он сказал, что приехал для того, чтобы окончательно покончить со своими делами на островах и затем навсегда покинуть это проклятое место. Это казалось довольно правдоподобным, но мне часто потом приходила в голову мысль, что его также могло притягивать болезненное желание еще раз взглянуть на дом, где он добыл окровавленными руками «Жемчужину Раздора». Я, видите ли, верю в старую теорию возвращения преступника на место преступления. Мне приходилось это наблюдать неоднократно.
Как бы то ни было, но Петерс возвратился. Он очень изменился, стал еще хитрее и загадочнее и еще более уверенным в своей способности обращать зло себе на пользу. Он стал еще более скрытным и рассеянным. Но это была не рассеянность влюбленного (я содрогался при мысли о медовом месяце. ожидавшем его невесту), а скорее человека, которого вдруг окутала тьма. Уж, если вы хотите знать, то я скажу, что он был не совсем нормален.
Этот наш переход был довольно странный. Петерс не обнаруживал желания доверять мне свои тайны, и мы, в сущности, очень мало разговаривали. Похоже было, что на корабле покойник.
Признаюсь, меня мучило любопытство на счет судьбы «Жемчужины Раздора». Если такая драгоценность появилась бы на рынке, она должна была бы произвести сенсацию. О ней наверное писали бы в газетах. Но, как будто, еще никто не слыхал о ней, кроме Петерса и меня.
Я попробовал коснуться с ним этого вопроса.
— Что вы выручили за «Жемчужину Раздора»? — спросил я его с деланно-равнодушным видом во время одной из наших молчаливых трапез.
Он равнодушно посмотрел на меня своими странными глазами.
— Не так много, как я рассчитывал, — коротко ответил он и снова ушел в себя.
Но по его манере я угадал, что он ее не продал, что она овладела им и все еще дремлет тихо в своем мягком гнездышке на его загорелой груди. Он купил свою богатую невесту на более мелкие жемчужины и не мог расстаться с бесценной чародейкой. Будь я судьей, я повесил бы Петерса только за это, но ведь мы не судьи.
Обитатели Санта-Джозефс также заинтересовались Петерсом, как будто он был новым видом кокосового ореха, наполненного ромом и молоком. Но они также мало с него взяли, как будто бы говорили с этим самым орехом. Петерс сделался теперь большим человеком с загадочной душой. Мы его теперь боялись больше, чем когда, либо прежде.
Леони выехала к нему навстречу на пироге с полдюжиной «боев» у весел. Свидание их — покинувшего и покинутой — было самое спокойное и хладнокровное, какое только можно себе представить. Петерс более, чем когда либо, походил на железный прут. Справившись со всем, что ему было нужно, он сошел на берег, где его поджидала Леони, и, рассеянно поздоровавшись, обнял ее за талию. Так она и пошла рядом с ним. Это была самая обыкновенная встреча в мире.
А между тем, для тех, кто знал ту земцев и у кого были открыты глаза, в ней было что-то зловещее. Леони была так спокойна, так сдержана, незаметно было, что она огорчена. Она казалась как-бы застывшей, недоступной. Кто из белых людей осмелился бы разобраться в диких, первобытных мыслях, роившихся в ее голове?
Насколько мне известно, только ее родные и видели их после этого в живых.
Обыкновенно я не дохожу до Венканара. Это не более, как точка, отстоящая в шестистах милях расстояниия в открытом океане. Это одно из тех мест, которые уже свыклись с мыслью, что о них все забыли. Но старый Хилей, который не только торговал, но и царил там, выписал довольно большой груз товаров, и я взялся его доставить, столько же из желания оказать старику услугу, сколько из-за фрахта.
Было решено, что по возвращении я захвачу Петерса с собой, чтобы отвезти его на юг.
Мы шли туда под благоприятным пассатным ветром, но на обратном переходе попали в полосу штиля. Нам выпали на долю бесконечные дни полного затишья и если-бы я уже не выучился терпению, я думаю, что мне бы это надоело. Но в конце концов привыкаешь к бесцельному шатанию. На шестой день по выходе в море, мы прошли не более ста пятидесяти миль. Не было ни малейшего ветра, я развел пар, и мы час за часом медленно ползли по огромной зеркальной равнине, чуть-чуть колыхающейся, но неизменно гладкой. Солнце пылало на небе, которое как бы заимствовало цвет от моря.
В час полуденной вахты, называемой «собакой», «капитан», которому этот титул давался только из вежливости, хотя он им весьма гордился, пришел ко мне на ют, где я дремал в кресле, сделанном туземцами по рисунку одного миссионера, который, по правде сказать, сумел соединить удобства с наименьшими размерами.
— Одна человек, пирога он идет, табада, — доложил мне этот «бой» на своем ломаном английском языке.
Я сонно кивнул головой и хотя удивился тому, что пирога могла забраться так далеко, но не счел нужным беспокоиться из-за сумасшествия туземных мореплавателей. Как я уже сказал, солнце сильно припекало, бросая свои отвесные лучи на тент, а мерный стук машины как бы убаюкивал меня.
Но «капитан» не отставал от меня, рискуя вызвать гнев.
— Табада, — снова повторил он, — Ты посмотри-погляди; одна человек пик-пик в пироге. Ки-ки кругом, циплята кругом.
Тут я окончательно проснулся. Пирога была очень мала и в ней находился какой-то корм, привлекавший морских чаек. Мой долг повелевал мне выяснить, в чем дело.
Я послал «капитана» за подзорной трубой и, когда он ее принес, навел ее на указанную им на обширной поверхности океана черную точку. Она оказалась, действительно, очень маленькой пирогой, над которой кружились морские чайки. Я сделал знак «капитану» и он, взявшись за штурвал, повернул корабль носом к утлому челноку.
«Какие-то туземцы, должно быть, поплатились жизнью за свое безрассудство», — подумал я.
Солнце спускалось к горизонту с такой быстротой, как будто оно утомилось от собственного жара и торопилось окунуться в прохладную пучину моря. Я поддал еще пару.
Да, несомненно, в пироге что-то находилось. Чайки разлетелись во все стороны и до нас доносились их гневные крики. Челнок уже находился почти борт о борт с нами, когда мне удалось разглядеть, что в нем находилось.
Лучше я не стану описывать, что там было. Чайки и солнце уже сделали свое дело над грузом челнока. Я не из особенно впечатлительных людей, но, признаюсь, меня затошнило. «Бои» завыли, как бешеные собаки.
Нет, не буду описывать того, что находилось в челноке: достаточно сказать, что он заключал в себе все, что оставалось от Петерса и Леони. Я остановил машину и челнок притянул к борту. Я смотрел на них сверху и мог без труда восстановить трагические обстоятельства, при которых они вернулись ко мне на широком просторе океана.
Было ясно, что Леони чем-нибудь оглушила или опоила Петерса. Пока сознание еще не вернулось к нему, она связала его такими узлами, какими умеют опутывать одни туземцы. Он был перевязан, как курица. После этого она взялась за весла и, пробравшись через каменную гряду, она увезла отвергнувшего ее любовника в океан, где они очутились вдвоем, одни на веки.
Я не знаю, сколько времени она продолжала грести, но перевязанный Петерс, должно быть, лежал, как бы в узком гробу, в то время как влюбленная в него девушка вела его погребальное судно в дразнящую синеву волшебного кошмара. И солнце жгло, и жажда мучила его.
Она тоже страдала в своем слепом безумии и, отбросив весла, пустила челнок по воле ветра. И уже после того, как в муках этого кромешного ада все стерлось и забылось в ее уме, она освободила обоих, перерезав ему и себе вены у кистей рук острым краем устричной раковины.
Так и плыли они одни по воле ветра и морских течений, отрезанные от всего мира бесконечным простором океана, и только теперь Петерс вернулся к кораблю, который должен был увезти его от нее.
Но теперь ничто уже не могло разлучить их и он мрачно скалил зубы на меня.
Я не хочу, чтобы вы подумали, что это была трогательная или великолепная картина. Это был один сплошной ужас. И лишь потом я понял все его значение.
Эта мрачная повесть имеет странный конец.
Я колебался было рассказать о нем, но, может быть, лучше покончить с этим сразу.
Леони нашла «Жемчужину Раздора» в мешечке, висевшем у Петерса на шее. Она вынула ее из тайника и сунула во впадину его волосатой груди. Может быть, она выполнила этим какой-либо первобытный ритуальный обряд.
Там она и покоилась, переливаясь в своей ужасающей оправе, вделанная в уродливую рамку, но все так же манящая, искушающая, все еще полная волшебного очарования.
Вы уже отчасти знаете меня за человека степенного, осторожного, живущего своим трудом и не вмешивающегося в то, что его не касается, но в ту минуту, когда я завидел «Жемчужину», вы бы меня не узнали. Да, я едва ли и сам себя узнавал.
Клянусь вам, что она меня звала к себе, клянусь, что ее влюбленный взор лишил меня рассудка. Охваченный волной алчности и страсти, я позабыл об отвратительном грузе этого плавучего гроба и видел только «Жемчужину».
Весь мой страх, все мое благоразумие исчезло.
Мне уже пора бы, кажется, знать, как прыгать в лодку, а, между тем, — это вам покажет — насколько я обезумел— вся моя сноровка покинула меня на этот раз. Я прыгнул в челнок так неловко, как это делают люди, не имеющие понятия о море. Во мне не оставалось ни капли разума. Истрепанный морем челнок раскололся на двое и все мы — трупы, жемчужина и я — оказались в воде. Океан стал страшным, но я не думал ни о чем другом, кроме спасения «Жемчужины».
Я был в одной фуфайке и коротких брюках, но они мне мешали. Я нырнул и открыл глаза в помутневшей воде. Алчность придала мне сверхестественную силу. Я увидел, как «Жемчужина» лениво спускается ко дну вместе с другими темными предметами. Я с бешенством нырнул за ней еще раз, плывя вниз головой, как это делают искатели жемчуга.
Был момент, когда концы моих пальцев коснулись ее. Но я не мог ее схватить. Она скользнула вниз.
Петерс спускался мимо меня, как бы ныряя, как и я, за своей «Жемчужиной». При приближении его тела, она свернула в сторону, избегая его. В эти несколько секунд я пережил целую вечность, ясно отдавая себе отчет во всем. Но я уже не мог ее догнать. «Жемчужина Раздора» вернулась в море.
В ушах у меня звенело, а легкие, казалось, готовы были лопнуть. «Жемчужина» исчезла.
Леони спускалась в бездонную пучину к своему сожителю.
Я вынырнул на поверхность с таким усилием, как будто свинцовый груз притягивал меня вниз. Беспредельное ясное небо приветливо мне улыбнулось. И свежая струя воздуха про никла в мои легкие. Меня вытащили на палубу шхуны.
Во всякое иное время я бы потерял сознание в эту минуту, но бешенство еще меня не покидало. Как сумасшедший я заорал на «боев», приказывая им нырнуть в воду. Но мысль об акулах приводила их в ужас, и притом они знали, что дело безнадежно.
С проклятием я толкнул двух из них к борту, приказывая им нырнуть, если они дорожат жизнью.
И вдруг все передо мной завертелось и погрузилось во мрак.
Когда я пришел в себя, солнце уже погасло, небо и море слились в легкую туманную дымку. Поднялся чистый, свежий ветерок, но парусов еще не поставили. «Капитан» стоял подле меня в ожидании приказаний. Ветер принес мне с собою какое-то полное чувство новой жизни и радости. Весь мир, казалось, ликовал, что «Жемчужина» исчезла.
Невыразимое счастье охватило меня при мысли о том, что море взяло обратно эту красавицу. Я готов был запеть от радости, как дитя. Я вообще не признаю молитв, но теперь все во мне молилось.
«Капитан» не спускал с меня глаз. Я подал ему знак. Канаты с песней пробежали в блоках; паруса огромной тенью надулись и взвились вверх; шхуна накренилась на бок и послышалось журчание воды. Мы понеслись вперед под кровом волшебной ночи.
Я вспомнил о бедняжке богатой невесте в Сиднее. Я знал, что она будет плакать.
А все-таки мир стал чище после гибели Петерса и его «Жемчужины Раздора».
БИТТ-БОЙ, приносящий счастье
Рассказ А. С. Грина
Иллюстрации Мишо
I.
Есть люди, напоминающие старомодную табакерку. Взяв в руки такую вещь, смотришь на нее с плодотворной задумчивостью. Она — целое поколение, и мы — ей — чужие. Табакерку помещают среди иных, подходящих вещиц, и показывают гостям, но редко случится, что ее собственник воспользуется ею, как обиходным предметом. Почему? Столетия остановят его? или формы иного времени, так обманчиво схожие — геометрически, с формами новыми, настолько различны по существу, что видеть их постоянно, постоянно входить с ними в прикосновение, — значит незаметно жить прошлым? Может быть — мелькает мысль о сложном несоответствии? Трудно сказать. Но, — начали мы, — есть люди, напоминающие старинный обиходный Предмет, и люди эти, в душевной сути своей так же чужды окружающей их манере жить, как вышеуказанная табакерка — мародеру из гостиницы «Лиссабон». Раз навсегда, в детстве ли, или в одном из тех жизненных полным раствором жидкости: легко взмути ее — и вся она, — в молниеносно возникших кристаллах, застыла неизгладимо… в одном из таких поворотов, благодаря случайному впечатлению или — чему иному, — душа укладывается в непоколебимую форму. Ее требования наивны и поэтичны: цельность, законченность, обаяние привычного, где так ясно и удобно живется грезам, свободным от придирок момента. Такой человек предпочтет лошадей — вагону; свечу — электрической груше; пушистую косу девушки — хитрой прическе, пахнущей гарью и мускусом; розу — хризантеме; неуклюжий парусник с возвышенной громадой белых парусов, напоминающий лицо с тяжелой челюстью и ясным лбом над синими глазами, — предпочтет он игрушечно-красивому пароходу. Внутренняя его жизнь, по необходимости — замкнута, а внешняя — состоит во взаимном отталкивании.
Как есть такие люди, так есть семьи, дома и даже города и гавани, подобные вышеприведенному в пример человеку с его жизненным настроением.
II.
Нет более безтолкового и чудесного порта, чем Лисс, кроме, разумеется, Зурбагана. Интернациональный, разноязычный, город этот определенно напоминает бродягу, решившего, наконец, погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены, как попало, среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Все это завалено густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь, на бугрообразнрм дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия; яркое платье; аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро; зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки с смеющимися голосами, — вот Лисс. Здесь две гостинницы: «Колючей подушки» и «Унеси горе». Моряки, естественно, плотней набивались в ту, которая ближе; которая вначале была ближе — трудно сказать; но эти почтенные учреждения, конкуррируя, начали скакать к гавани, в буквальном смысле слова. Они переселялись, снимали новые помещения и даже строили их. Одолела «Унеси горе». С ее стороны был подпущен ловкий фортель, благодаря чему «Колючая подушка» остановилась, как вкопанная, среди гиблых оврагов, а торжествующая «Унеси горе», после десятилетней борьбы, воцарилась у самой гавани, погубив три местных харчевни.
Население Лисса состоит из авантюристов, контрабандистов и моряков; женщины делятся на ангелов и мегер; ангелы, разумеется, — молоды, опаляюще красивы и нежны, а мегеры — стары; но и мегеры, не надо забывать этого, полезны бывают в жизни. Пример: счастливая свадьба, во время которой строившая ранее адские козни мегера раскаивается и начинает лучшую жизнь.
Мы не будем делать разбора причин, в силу которых Лисс посещался и посещается исключительно парусными судами. Причины эти — географического и гидрографического свойства; все, в общем, произвело на нас, в городе, именно то впечатление независимости и поэтической плавности, какое пытались выяснить мы примером человека с цельными и ясными требованиями.
III.
В тот момент, как начался наш рассказ, за столом гостиницы «Унеси горе», в верхнем этаже, пред окном, из которого картинно видна была гавань Лисса, сидели четыре человека. То были: капитан Дюк, весьма грузная и экспансивная личность; капитан Роберт Эстамп, капитан Рениор и капитан, более известный под кличкой «Я тебя знаю», благодаря именно этой фразе, которой приветствовал он каждого, даже незнакомого человека, если человек этот высказывал намерение загулять. Звали его, однако, Чинчар.
За столом сидели капитаны…
Такое блестящее, даже — аристократическое общество, само собой, не могло восседать за пустым столом. Стояли тут разные торжественные бутылки, извлекаемые хозяином гостинницы в особых случаях, именно — в подобных настоящему, когда капитаны, народ вообще недолюбливающий друг друга по причинам профессионального соревнования почему-либо сходились попьянствовать.
Эстамп был пожилой, очень бледный, сероглазый, с рыжими бровями, неразговорчивый человек; Рениор, — с длинными, черными волосами и глазами на выкате, напоминал переодетого монаха; Чинчар, кривой, ловкий старик с черными зубами, с грустным голубым глазом, отличался ехидством.
Трактир был полон; там — шумели, там — пели; время от времени какой-нибудь, веселый до беспамятства, человек направлялся к выходу, опрокидывая стулья на всем пути; гремела посуда; и в шуме этом два раза уловил Дюк имя «Битт-Бой». Кто-то, видимо, вспоминал славного человека. Имя пришлось кстати: разговор шел о затруднительном положении.
— Вот, с Битт-Боем, — вскричал Дюк, — я не убоялся бы целой эскадры! Но его нет. Братцы капитаны, я, ведь, нагружен, страшно сказать, взрывчатой пакостью. То есть, не я, а «Марианна». «Марианна», впрочем, это я, а я — это «Марианна», так что я нагружен. Ирония судьбы: я — с картечью и порохом! Видит бог, братцы капитаны, — продолжал Дюк мрачно одушевленным голосом, — после такого угощения, какое мне поднесли в интендантстве, я согласился бы фрахтовать даже сельтерскую и содовую.
— Капер снова показался, — третьего дня — вставил Эстамп.
— Не понимаю, чего он ищет в этих водах, — сказал Чинчар; — однако, боязно подымать якорь.
— Вы чем же больны теперь? — спросил Рениор.
— Сущие пустяки, капитан. Я везу жестяные изделия и духи. Но мне обещана премия.
Чинчар лгал, однако. «Болен» он был не жестью, а страховым полисом, ища удобных места и времени, чтобы потопить своего «Пустынника» за крупную сумму. Такие отвратительные проделки не редкость, хотя требуют большой осмотрительности. Капер тоже волновал Чинчара, он получил сведения, что его страховое общество накануне краха и надо поторапливаться.
— Я знаю, чего ищет разбойник, — заявил Дюк. — Видели вы бригантину, бросившую якорь у самого выхода? «Фелицата». Говорят, что она гружена золотом.
— Судно мне незнакомо, — сказал Рениор. — Я видел ее, конечно. Кто ее капитан?
Никто не знал этого. Никто его даже не видел. Он не сделал ни одного визита и не приходил в гостиницу. Трое матросов «Фелицаты», преследуемые любопытными взглядами, чинные пожилые люди, приехали с корабля в Лисс, купили табаку и более не показывались.
— Какой-нибудь молокосос, — пробурчал Эстамп. — Невежа! Сиди, сиди, невежа, в каюте, — вдруг разгорячился он, обращаясь к окну, — может, усы и выростут!
Капитаны захохотали. Когда смех умолк, Рениор сказал:
— Как ни верти, а мы заперты. Я с удовольствием отдам свой груз (на что нам, собственно, чужие лимоны?) но отдать своего «Президента»… — Или «Марианну» — перебил Дюк. — Если она взорвется… — Он побледнел даже и выпил двойную порцию. — Не говорите мне о страшном и роковом, Рениор.
— Вы надоели мне с своей «Марианной», — крикнул Рениор; — до такой степени, что я хотел бы даже и взрыва.
— А ваш «Президент» утонет!
— Что-о?!
— Капитаны, не ссорьтесь! — сказал Эстамп.
— Я тебя знаю! — закричал Чинчар какому-то, очень удивившемуся посетителю. — Поди сюда, угости старичишку!
Но посетитель повернулся спиной. Капитаны погрузились в раздумье. У каждого были причины желать покинуть Лисс возможно скорее. Дюка ждала далекая крепость. Чинчар торопился разыграть мошенническую комедию. Рениор жаждал свидания с семьей, после двухлетней разлуки, а Эстамп боялся, что разбежится его команда, народ случайного сбора. Двое уже бежали, похваляясь теперь в «Колючей Подушке» небывалыми Ново-Гвинейскими похождениями.
Эти суда: «Марианна», «Президент», «Пустынник» — Чинчара и «Арамея» — Эстампа спаслись в Лисс от преследования неприятельских каперов. Первой влетела быстроходная «Марианна», на другой день приполз «Пустынник», а спустя двое суток бросили, запыхавшись, якоря «Арамея» и «Президент». Всего с таинственной «Фелицатой» в Лиссе стояло пять кораблей, не считая барж и мелких береговых судов.
— Так я говорю, что хочу Битт-Боя — заговорил охмелевший Дюк. — Я вам расскажу про него штучку. Все вы знаете, конечно, мокрую курицу Беппо Маластино. Маластино сидит в Зурбагане, пьет «Боже мой»[3]) и держит на коленях Бутузку. Входит Битт-Бой. — «Маластино, подымай якорь, я проведу судно через Кассет. Ты будешь в Ахуан-Скапе раньше всех в этом сезоне». Как вы думаете, капитаны? Я хаживал через Кассет с полным грузом, и прямая выгода была дураку Маластино слепо слушать Битт-Боя. Но Беппо думал два дня: «Ах, штормовая полоса»… — «Ах, чики-чики, сорвало бакены». — Но суть-то, братцы, не в бакенах. Али, турок, бывший бепповский боцман, сделал ему в бриге дыру и заклеил варом, как раз против бизани. Волна быстро бы расхлестала ее. Наконец, Беппо, в обмороке, проплыл с Битт-Боем адский прилив; опоздал, разумеется, и деньги Ахуан-Скапа полюбили бы других больше, чем макаронщика, но… каково же счастье Битт-Боя?! В Кассете их швыряло на рифы… Несколько бочек с медом, стоя около турецкой дыры, забродили, надо быть, еще в Зурбагане. Бочечки эти лопнули, и тонны четыре меда задраили дыру таким пластырем, что обшивка даже не проломилась. Беппо похолодел уже в Ахуан-Скапе, при выгрузке. Слушай-ка, Чинчар, удели нам малость из той бутылки.
— Битт-Бой… я упросил бы его к себе, — заметил Эстамп; тебя, Дюк, все равно, когда-нибудь повесят за порох; а у меня дети.
— Я вам расскажу про Битт-Боя… — начал Чинчар; — дело это…
Страшный, веселый гвалт перебил старика. Все обернулись к дверям, многие замахали шапками, некоторые бросились на встречу вошедшему. Хоровой рев ветром кинулся по обширной зале, а отдельные выкрики, расталкивая восторженный шум, вынеслись светлым воплем:
— Битт-Бой! Битт-Бой! Битт-Бой! «Битт-Бой, приносящий счастье!».
IV.
Тот, кого приветствовали таким значительным и прелестным наименованием, сильно покраснев, остановился у входа, засмеялся, раскланялся и пошел к столу капитанов. Это был стройный человек не старше тридцати лет, небольшого роста, с приятным, открытым лицом, выражавшим силу и нежность. В его глазах была спокойная живость; черты лица, фигуры и всех движений отличались достоинством, являющимся скорее отражением внутреннего характера, чем привычным усилием. Чрезвычайно отчетливо, но не громко звучал его задумчивый голос. На Битт-Бое была лоцманская фуражка, вязаная коричневая фуфайка, голубой пояс и толстые башмаки; через руку перекинут был дождевой плащ. Битт-Бой пожал десять, двадцать рук… взгляд его, улыбаясь, свободно двигался в кругу приятельских осклаблений; винтообразный дым трубок, белый блеск зубов на лицах кофейного цвета и пестрый туман глаз окружали его, впродолжение нескольких минут, животворным облаком сердечной встречи; наконец, он высвободился и попал в объятия Дюка. Повеселел даже грустный глаз Чинчара, повеселела его ехидная челюсть; размяк солидно-воловий Рениор, и жесткий, самолюбивый Эстамп улыбнулся на грош, но по детски. Битт-Бой был общий любимец.
— Ты, барабанщик Фортуны! — сказал Дюк. — Хвостик козла американского! Не был ли ты, скажем, новым Ионой в брюхе китишки? Где пропадал? Что знаешь? Выбирай: весь пьяный флот на лицо. Но мы застряли, как клин в башке дурака. Упаси «Марианну»!
— О капере? — спросил Битт-Бой. — Я его видел. Короткий рассказ, братцы, лучше долгих расспросов; вот вам история: вчера взял я в Зурбагане ялик и поплыл в Лиссу; ночь была темная. О каперах слышал я раньше; потому, пробираясь вдоль берега, за камнями, где скалы поросли мхом, был под защитой их цвета. Два раза миновал меня рефлектор неприятельского крейсера, на третий раз толкнуло меня опустить парус. Как раз!., ялик и я высветились, как муха на блюдечке. Там камни, тени, мох, трещины, меня не отличали от пустоты, но, не опусти я свой парус… итак, Битт-Бой сидит здесь благополучно. Рениор: помните фирму «Хевен и К0». Она продает тесные башмаки с гвоздями на вылет; я вчера купил пару и теперь у меня пятки в крови.
— Есть, Битт-Бой, — сказал Рениор, — однако, смелый вы человек. Битт-Бой, проведите моего «Президента»; если бы вы были женаты…
— Нет, «Пустынника», — заявил Чинчар. — Я же тебя знаю, Битт-Бой. Я нынче богат, Битт-Бой.
— Почему же не «Арамею»? — спросил сурово Эстамп. — Я полезу на нож за право выхода. С Битт-Боем это верное дело.
Молодой лоцман, приготовившийся было рассказать еще что-то, стал вдруг печально серьезон. Подперев своей маленькой рукой подбородок, взглянул он на капитанов, тихо улыбнулся глазами и, как всегда, щадя чужое настроение, пересилил себя. Он выпил, подбросил пустой стакан, поймал его, закурил и сказал:
— Благодарю вас, благодарю за доброе слово, за веру в мою удачу… Я не ищу ее. Я ничего не скажу вам сейчас; ничего, то есть, определенного. Есть тому одно обстоятельство. Хотя я и истратил уже все деньги, заработанные весной, но все-же… И как мне выбирать среди вас. Дюка… О, нежный старик! Только близорукие не видят твоих тайных слез о просторе и чтобы всем сказать: — на-те вам! Согласный ты с морем, старик, как, я. Дюка люблю. А вы, Эстамп!? Кто прятал меня в Бомбее от безтолковых сипаев, когда я спас жемчуг раджи? Люблю и Эстампа; есть у него теплый угол за пазухой. Рениор жил у меня два месяца, а его жена кормила меня полгода, когда я сломал ногу. А ты, «Я тебя знаю», Чинчар, закоренелый грешник, — как плакал ты в церкви при встрече с одной старухой… Двадцать лет разделило вас, да случайная кровь. Выпил я — и болтаю, капитаны; всех вас люблю. Капер, верно, шутить не будет, однако — какой же может быть выбор? Даже представить нельзя этого.
— Жребий, — сказал Эстамп.
— Жребий! Жребий! — закричал стол. Битт-Бой оглянулся. Давно уже подсевшие из углов люди следили за течением разговора; множество локтей лежало на столе, а за ближними стояли другие и слушали. Потом взгляд Битт-Боя перешел на окно, за которым тихо сияла гавань. Дымя испарениями, ложился на воду вечер. Спросив взглядом о чем-то, понятном лишь одному ему, таинственную «Фелицату», Битт-Бой сказал:
— Осанистая эта бригантина, Эстамп. Кто ею командует?
— Невежа и неуч. Только никто еще не видел его.
— А ее груз?
— Золото, золото, золото… — забормотал Чинчар, — сладкое золото…
И со стороны некоторые подтвердили тоже:
— Так говорят.
— Должно было пройти здесь одно судно с золотом. Наверное, это оно.
— На нем аккуратна вахта.
— Никого не принимают на борт.
— Тихо на нем…
— Капитаны! — заговорил Битт-Бой, — совестна мне странная моя слава; а надежды на меня, ей-богу, конфузят сердце. Слушайте: бросьте условный жребий. Не надо вертеть бумажек трубочками. В живом деле что-нибудь живое взглянет на нас. Как кому выйдет, с тем и поеду, если не изменится одно обстоятельство.
— Валяй им, Битт-Бой, правду-матку! — проснулся кто-то в углу.
Битт-Бой засмеялся. Ему хотелось бы быть уже далеко от Лисса теперь. Шум, шутки развлекали его. Он затем затеял и «жребий», чтобы, протянув время, набраться как можно глубже посторонних, суетливых влияний; рассеяний моряцкой толкотни и ее дел. Впрочем, он свято сдержал бы слово, — «изменись одно обстоятельство». Это обстоятельство, однако, теперь, пока он смотрел на «Фелицату», было еще слишком темно ему самому и, упомянув о нем, руководствовался он только удивительным инстинктом своим. Так впечатлительный человек, ожидая друга, — читает или работает и, вдруг, встав, прямо идет к двери, чтобы ее открыть; идет друг, но открывший уже оттолкнул рассеянность и удивляется верности своего движения.
— Провались твое обстоятельство! — сказал Дюк. — Что же, — будем гадать. Но ты не договорил чего-то, Битт-Бой?!
— Да. Наступает вечер, — продолжал Битт-Бой; — немного останется ждать выигравшему меня, жалкого лоцмана. С кем мне выпадет ехать, тому я в полночь пришлю мальчугана с известием на корабль. Дело в том, что я, может быть, и откажусь, — прямо. Но, все равно, играйте пока.
Все обернулись к окну, в пестрой дали которого Битт-Бой, напряженно смотря туда, видимо, искал какого-нибудь естественного знака, указания, случайной приметы. Хорошо, ясно виднелись все корабли: стройная «Марианна»; длинный «Президент» с высоким бугшпритом; «Пустынник» с фигурой монаха на носу, — бульдогообразный и мрачный; легкая, высокая «Арамея» и та, благородно осанистая «Фелицата», с крепким соразмерным) кузовом, с чистотой яхты, удлиненной кормой и джутовыми снастями;— та «Фелицата», о которой спорили в кабаке. — есть ли на ней золото.
Как печальны летние вечера! Ровная полутень их бродит, обнявшись с усталым солнцем, по притихшей земле; их эхо протяжно и замедленно-печально; их даль — в беззвучной тоске угасания. На взгляд — все еще бодро вокруг, полно жизни и дела, но ритм элегии уже властвует над опечаленным сердцем. Кого жаль? Себя-ли? Звучит ли, неслышный ранее, стон земли? Толпятся ли в прозорливый тот час вокруг нас умершие? Воспоминания ли, бессознательно напрягаясь в одинокой душе, ищут выразительной песни?.. Но жаль, жаль кого-то, как затерянного в пустыне. И.многие минуты решений падают в неумиротворенном кругу вечеров этих.
— Вот, — сказал Битт-Бой, — летает баклан; скоро он сядет на воду. Посмотрим, к какому кораблю сядет поближе птица. Хорошо-ли так, капитаны? Теперь, — продолжал он, получив согласное одобрение, — теперь так и решим: к какому она сядет ближе, того я провожу в эту же ночь, если… как сказано. Ну, ну, толстокрылый!
Тут четыре капитана наших обменялись взглядами, на точке скрещения которых не усидел-бы, не будучи прожженным насквозь, даже сам дьявол, Папа огня и мук. Надо знать суеверие моряков, чтобы понять их в эту минуту. Меж тем, неосведомленный о том баклан, выписав в проходах между судами несколько тяжелых восьмерок, сел как раз между «Президентом» и «Марианной», так близко к середине этого расстояния, что Битт-Бой и все — усмехнулись.
— Птичка божия берет на буксир обоих, — сказал Дюк. — Что-ж! Будем вместе плести маты, друг Рениор; так, «что ли?
— Погодите! — вскричал Чинчар; — баклан, ведь, плавает. Куда он теперь поплывет, занятный вопрос?
— Хорошо; к которому поплывет, — согласился Эстамп.
Дюк закрылся ладонью, задремав как-бы; однако сквозь пальцы зорко наблюдал баклана. Впереди других, ближе к «Фелицате», стояла «Арамея». В ту сторону, держась несколько ближе к бригантине, и направился, ныряя, баклан. Эстамп выпрямился, самолюбиво блеснув глазами.
— Есть! — кратко определил он. — Все видели?
— Да, да, Эстамп, все.
— Я ухожу, — сказал Битт-Бой;— прощайте пока; меня ждут. Братцы капитаны! Баклан — глупая птица, но, клянусь вам, если-бы я мог разорваться на четверо, — я сделал бы это. Итак, — прощайте. Эстамп! вам, значит, будет от меня справка. Мы поплывем вместе, или… расстанемся, братцы, на «никогда».
Последние слова он проговорил вполголоса; смутно их слышали, смутно и поняли. Три капитана мрачно погрузились в свое огорчение; Эстамп нагнулся поднять трубку и никто, таким образом, не уловил момента прощания. Встав, Битт-Бой махнул шапкой и быстро пошел к выходу.
— Битт-Бой! — закричали вслед.
Лоцман не обернулся и поспешно сбежал по лестнице.
V.
Теперь пора нам объяснить, почему этот человек играл роль живого талисмана для людей, профессией которых был организованный, так сказать, риск.
Наперекор умам логическим и скупым к жизни; умам, выставившим свой коротенький, серый флажек над величавой громадой мира, полной неразрешенных тайн, — в кроткой и смешной надежде, что к флажку этому направят стопы все ищущие и потрясенные, — наперекор тому, говорим мы, встречаются существования, как-бы поставившие задачей заставить других оглядываться на шорохи и загадочный шопот неисследованного. Есть люди, двигающиеся в черном кольце губительных совпадений. Присутствие их тоскливо; их речи звучат предчувствиями; их близость навлекает несчастья. Есть также выражения, обиходные между нами, но определяющие другой, светлый разряд душ. «Легкий человек», — «легкая рука», — слышим мы. Однако, не будем делать поспешных выводов или рассуждать о достоверности собственных своих догадок. Факт тот, что в обществе легких людей — проще и яснее настроение; что они изумительно поворачивают ход личных наших событий пустым каким-нибудь замечанием, жестом или намеком; что их почин в нашем деле, действительно, тащит удачу за волосы. Иногда эти люди рассеяны и беспечны, но чаще оживленно-серьезны. Одна есть, верная их примета: простой смех, — смех потому, что смешно, и ничего более; смех, не выражающий отношения к присутствующим.
Таким человеком, в силе необъяснимой и безошибочной, был лоцман Битт-Бой. Все, за что брался он для других, оканчивалось неизменно благополучно, как-бы ни были тяжелы обстоятельства; иногда, даже, с неожиданной премией. Не было судна, потерпевшего крушение в тот рейс, в который он вывел его из гавани. Случай с Беппо, рассказанный Дюком, — не есть выдумка. Никогда корабль, напутствуемый его личной работой, не подвергался эпидемиям, нападениям и другим опасностям; никто на нем не падал за борт и не совершал преступлений. Он прекрасно изучил Зурбаган, Лисс и Кассет, и все побережье полуострова, но не терялся и в незнакомых фарватерах. Случалось ему проводить корабли в опасных местах стран далеких, где он бывал лишь случайно, и руль всегда брал под его рукой направление верное, как если бы Битт-Бой воочию видел все дно. Ему доверяли слепо, и он слепо верил себе. Назовем это острым инстинктом, — не все ли равно, — когда невидима та рука, что ведет нас в битвах душевных и человеческих? «Битт-Бой приносящий счастье» — под этим именем знали его везде, где он бывал и работал.
Битт-Бой прошел ряд оврагов, обогнув гостиницу «Колючей Подушки», и выбрался по тропинке, вьющейся среди могучих садов к короткой, каменистой улице. Все время он шел с опущенной головой, в глубокой задумчивости; иногда внезапно бледнея под ударами мыслей. Около небольшого дома, с окнами, выходящими на двор, под тень деревьев, он остановился, вздохнул, выпрямился и проник за низкую, каменную ограду.
Его, казалось, ждали. Как только он проник в сад, зашумев по траве, и стал подходить к окнам, всматриваясь в их тенистую глубину, где мелькал свет, — у одного из окон, всколыхнув плечом откинутую занавеску, появилась молодая девушка. Знакомая фигура посетителя не обманула ее. Она кинулась, было, бежать к дверям, но, нетерпеливо сообразив два расстояния, вернулась к окну и выпрыгнула в него, побежав на встречу Битт-Бою. Ей было лет восемнадцать; две темных косы под лиловой с желтым косынкой падали вдоль шеи и почти всего тела, столь стройного, что оно, в движениях и поворотах, казалось беспокойным лучем. Ее неправильное, полудетское лицо с застенчиво-гордыми глазами было прелестно духом расцветающей женской жизни.
— Режи, королева ресниц! — сказал меж поцелуями, Битт-Бой; — если ты меня не задушишь, у меня будет чем вспомнить этот, наш вечер!
— Режи, королева ресниц, — сказал Битт-Бой…
— Наш, наш, милый мой, мой безраздельно! — сказала девушка. — Этой ночью я не ложилась; мне думалось, после письма твоего, что через минуту за письмом подоспеешь и ты.
— Девушка должна много спать и есть — рассеянно возразил Битт-Бой. Но он тут же стряхнул тяжелое угнетение. — Оба ли глаза я целовал?
— Ни один ты не целовал, скупец.
— Нет, кажется, целовал левый… Правый глаз, значит, обижен. Дай-ка мне этот глазок… — и он получил его вместе с его сиянием.
Но суть таких разговоров не в словах бедных наших, и мы хорошо знаем это. Попробуйте такой разговор подслушать, — вам будет грустно, завидно и жалко: вы увидите, как бьются две души, пытаясь звуками передать друг другу аромат свой. Режи и Битт-Бой, однако, досыта продолжили разговор этот. Теперь они сидели на небольшом садовом диване. Стемнело.
Наступило, как часто это бывает, молчание: полнота душ и сигнал решениям, если они настойчивы. Битт-Бой счел удобным заговорить, не откладывая, о главном.
Девушка, бессознательно, помогла ему:
— Справим-же нашу свадьбу, Битт-Бой. У меня будет маленький!
Битт-Бой громко расхохотался. Сознание положения отрезало и отравило его смех коротким вздохом.
— Вот что, — сказал он изменившимся голосом; — ты, Режи, не перебивай меня. — Он почувствовал, как вспыхнула в ней тревога, и заторопился. — Я спрашивал и ходил везде… нет сомнения… Я тебе мужем быть не могу, дорогая. О, не плачь сразу! Подожди, выслушай. Разве мы не будем друзьями?! Режи… ты, глупая, самая лучшая! Как же я могу сделать тебя несчастной?! Скажу больше: я пришел, ведь, только проститься. Я люблю тебя до разрыва сердца и… хоть бы великанского! Оно убито, убито уже, Режи! А, разве, к тому же, я один на свете? Мало ли хороших и честных людей?! Нет, нет, Режи; послушай меня, уясни все, согласись… как же иначе?
В таком роде долго говорил он, перемалывая стиснутыми зубами тяжкие, загнанные далеко, слезы; но душевное волнение спутало, наконец, его мысли. Он умолк, разбитый нраственно и физически, — умолк и поцеловал маленькие, насильно отнятые от глаз, ладони.
— Битт-Бой… — рыдая, заговорила девушка; — Битт-Бой, ты Дурак, глупый болтунишка! Ты еще, ведь, не знаешь меня совсем. Я тебя не отдам ни беде, ни страху! Вот видишь — продолжала она, разгорячаясь все более, — ты расстроен! Но я успокою тебя… ну-же, ну.
Она схватила его голову и прижала к своей груди.
— Здесь ты лежи спокойно, мой маленький. Слушай: будет худо тебе, — хочу, чтоб худо и мне. Будет тебе хорошо — и мне давай хорошо. Если ты повесишься, — я тоже повешусь. Разделим пополам все, что горько; отдай мне большую половину! Ты всегда будешь для меня — фарфоровый, белый… Я не знаю, чем уверить тебя; смертью, быть может!?
Она выпрямилась и сунула за корсаж руку, где, по местному обычаю, девушки носят стилет или небольшой кинжал.
Битт-Бой удержал ее. Он молчал, пораженный новым знанием о близкой душе. Теперь решение его, оставаясь непреклонным, хлынуло в другую форму.
— Битт-Бой, — продолжала девушка, заговоренная собственной речью и обманутая подавленностью несчастного;— ты умница, что молчишь и меня слушаешь. — Она продолжала, приникнув к его плечу. — Все будет хорошо, поверь мне. Вот что я думаю иногда, когда мечтаю или сержусь на твои отлучки. У нас будет верховая лошадь «Битт-Бой», собака «Умница» и кошка «Режи». Из Лисса тебе, собственно, незачем больше-бы и выезжать. Ты купишь нам всю новую, медную посуду для кухни. Я буду улыбаться тебе везде, везде — при врагах и друзьях и при всех, кто придет; пусть видят все, как ты любим. Мы будем играть в жениха и невесту: как ты хотел улизнуть, негодный, но я уж не буду плакать. Затем, когда у тебя будет свой бриг, мы проплывем вокруг света тридцать три раза…
Голос ее звучал сонно и нервно; глаза закрывались и открывались. Несколько минут она расписывала воображаемое путешествие спутанными образами; затем устроилась поудобнее, поджав ноги, и легонько, зевотно, вздохнула. Теперь они плыли в звездном саду, под яркими подводными цветами.
— …И там много тюленей. Битт-Бой. Эти тюлени, говорят, добрые. Человеческие у них глаза. Не шевелись, пожалуйста, так спокойнее. Ты меня не утопишь, Битт-Бой, из-за какой, там, не знаю… турчаночки? Ты сказал — я «королева ресниц»… Возьми их себе, милый, возьми все… все…
Ровное дыхание сна коснулось слуха Битт-Боя. Светила луна. Битт-Бой посмотрел сбоку: ресницы мягко лежали на побледневших щеках. Битт-Бой неловко усмехнулся, затем, сосредоточив все движения в усилии неощутимой плавности, — высвободился, встал и опустил голову девушки на клеенчатую подушку дивана. Он был ни жив, ни мертв. Однако, уходило время; луна поднялась выше… Битт-Бой тихо поцеловал ноги Режи и вышел с скрученным в душе воплем на улицу.
По дороге к гавани он на несколько минут завернул в «Колючую Подушку».
VI.
Было около десяти вечера, когда к «Фелицате», легко стукнув о борт, подплыла шлюпка. Ею правил один человек.
— Эй, на бригантине! — раздался сдержанный окрик.
— Эй, на бригантине! — раздался сдержанный окрик…
Вахтенный матрос подошел к борту.
— Есть на бригантине — сонно ответил он, вглядываясь в темноту. — Кого надо?
— Судя по голосу, — это ты, Рексен? Встречай Битт-Боя.
— Битт-Бой! В самом деле!.. — Матрос осветил фонарем шлюпку. — Вот гак негаданная приятность! Вы давно в Лиссе?
— После поговорим, Рексен. Кто капитан?
— Вы его едва ли знаете. Битт-Бой. Это — Эскирос, из Колумбии.
— Да; не знаю. — Пока матрос спешно опускал трап, Битт-Бой стоял посреди шлюпки в глубокой задумчивости. — Так вы таскаетесь с золотом.
Матрос засмеялся.
— О, нет; мы погружены съестным, собственной провизией нашей, да маленьким попутным фрахтом на остров Санди.
Он спустил трап.
— А все-таки золото у вас должно быть… как я понимаю это, — пробормотал Битт-Бой, поднимаясь на палубу.
— Иное мы задумали, лоцман.
— И ты согласен?
— Да, так будет, должно быть, хорошо; думаю.
— Отлично. Спит капитан?
— Нет.
— Ну, веди.
В щели капитанской каюты блестел свет. Битт-Бой постучал, открыл двери и вошел быстрыми, прямыми шагами.
Он был мертвецки пьян, бледен, как перед казнью, но, вполне владея собой, держался с твердостью удивительной. Эскирос, оставив морскую карту, подошел к нему, прищурясь на неизвестного. Капитан был пожилой, утомленного вида человек, слегка сутулый, с лицом болезненным, но приятным.
— Кто вы? Что привело вас? — спросил он, не повышая голоса.
— Капитан, я — Битт-Бой, — начал лоцман, — может быть, вы слышали обо мне. Я здесь…
Эскирос перебил его:
— Вы! Битт-Бой, «приносящий счастье»?! Люди оборачиваются на эти слова. Все слышал я. Сядьте, друг; вот сигара, стакан вина; вот моя рука и признательность.
Битт-Бой сел, на мгновение забыв, что хотел сказать. Постепенно соображение вернулось к нему. Он отпил глоток; закурил; насильственно рассмеялся.
— К каким берегам тронется «Фелицата»? — спросил он. — Какой план ее жизни? Скажите мне, капитан, это.
Эскирос не очень удивился прямому вопросу. Цели, вроде поставленной им, вернее, — намерения, — толкают иногда к откровенности. Однако, прежде, чем заговорить, капитан прошелся взад-вперед, ради сосредоточия.
— Ну, что-же… поговорим, — начал он. — Море воспитывает иногда странные характеры, дорогой лоцман. Мой характер покажется вам, думаю, странным. В прошлом у меня были несчастья. Сломить они меня не могли, но, благодаря им, открылись новые, неведомые желания; взгляд стал обширнее, мир — ближе и доступнее. Влечет он меня, — весь, как в гости. Я одинок. Проделал я, лоцман, всю морскую работу и был честным работником. Что сзади — известно. К тому же есть у меня, — была всегда, — большая потребность в передвижениях. Так я задумал теперь свое путешествие. Тридцать бочек чужой солонины мы сдадим еще скалистому Санди, а там — внимательно, любовно будем обходить, без всякого определенного плана, моря и земли. Присматриваться к чужой жизни, искать важных, значительных встреч, не торопиться; иногда спасти беглеца, взять на борт потерпевших крушение; стоять в цветущих садах огромных рек, может быть, — временно пустить корни в чужой стране, дав якорю обрости солью, а затем, затосковав, снова сорваться и взять ветер, — ведь, хорошо так, Битт-Бой?
— Я слушаю вас, — сказал лоцман..
— Моя команда вся новая. Не торопился я собирать ее. Распустив старую, искал я нужных мне встреч, беседовал с людьми и, один по одному, набрались у меня подходящие ко мне люди. «Экипаж Задумчивых»! Капер нас держит в Лиссе. Я увильнул от него на — днях, но лишь благодаря близости порта. Оставайтесь у нас, Битт-Бой, и я тотчас же отдам приказание поднять якорь. Вы сказали, что знали Рексена…
— Я знал его и знаю по «Радиусу», — удивленно проговорил Битт-Бой;— но я еще не сказал этого. Я подумал об этом.
Эскирос не настаивал, объяснив, про себя, маленькое разногласие забывчивостью своего собеседника.
— Значит, есть у вас к Битт-Бою доверие?
— Может быть, я бессознательно ждал вас, друг мой.
Наступило молчание.
— Так в добрый же час, капитан! — сказал вдруг Битт-Бой ясным и бодрым голосом. — Пошлите на «Арамею» юнгу с запиской Эстампу. — Приготовив записку, он передал ее Эскиросу. Там стояло:
«Я глуп, как баклан, милый Эстамп. «Обстоятельство» совершилось. Прощайте все: вы, Дюк, Рениор и Чинчар. Отныне этот берег не увидит меня».
Отослав записку, Эскирос пожал руку Битт-Бою.
— Снимаемся! — крикнул он зазвеневшим голосом и вид его стал уже деловым, командующим. Они вышли на палубу.
В душе каждого несся, распевая, свой ветер: ветер кладбища у Битт-Боя; ветер движения — у Эскироса. Капитан свистнул боцмана. Палуба, — не прошло десяти минут, — покрылась топотом и силуэтами теней, бегущих от штанговых фонарей. Судно просыпалось впотьмах, хлопая парусами; все меньше звезд мелькало меж рей; треща совершал круги брашпиль и якорный тросе, медленно подтягивая корабль, освобождал якорь из ила.
Битт-Бой, взяв руль, последний раз обернулся в ту сторону, где заснула Королева Ресниц.
VII.
«Фелицата» вышла с потушенными огнями. Молчание и тишина царствовали на корабле. Покинув узкий, скалистый выход порта, Битт-Бой круто положил руль влево, и вел так судно около мили, затем взял прямой курс на восток, сделав почти прямой угол; затем еще повернул вправо, повинуясь инстинкту. Тогда, не видя вблизи неприятельского судна, он снова пошел на восток.
Здесь произошло нечто странное: за его плечами раздался как-бы беззвучный окрик. Он оглянулся, то же сделал капитан, стоявший возле компаса. Позади их, от угольно-черных башен крейсера падал на скалы Лисса огромный голубой луч.
— Не там ищешь! — сказал Битт-Бой. — Однако, прибавьте парусов, Эскирос.
Это и то, что ветер усилился, отнесло бригантину, шедшую со скоростью двадцати узлов, миль на пять за короткое время. Скоро повернули за мыс, тоже слегка «на благополучный проскок», пели, теперь не стесняясь, вверху; пение доносилось в каюту. Они пели песню «Джона Манишки».
Битт-Бой передал руль вахтенному матросу и сошел вниз, к капитану. Они со откупорили бутылку. Матросы, выпив
Не ворчи, океан, не пугай! Нас земля испугала давно. В теплый край, — Южный рай, Приплывем, все равно! Хлопнем, тетка, по стакану! Душу сдвинув набекрень, Джон-Манишка без обмана Пьет за всех, кому пить лень! Ты, земля, стала твердью пустой; Рана в сердце… Седею… прости! Это твой След такой… Ну — прощай и пусти! Хлопнем, тетка, по стакану. Душу сдвинув набекрень, Джон-Манишка без обмана Пьет за всех, кому пить лень! Южный Крест там сияет вдали… С первым ветром проснется компас; Бог, храня Корабли, — Да помилует нас!Когда зачем-то вошел юнга, ездивший с запиской к Эстампу, Битт-Бой спросил:
— Мальчик! Он долго шпынял тебя?
— Я не сознался, где вы. Он затопал ногами, закричал, что повесит меня на рее, а я убежал!
Эскирос был весел и оживлен.
— Битт-Бой, — сказал он. — Я думаю о том, как должны быть вы счастливы сами, если чужая удача — сущие пустяки для вас.
Слово бьет иногда на смерть, Битт-Бой медленно побледнел; жалко исказилось его лицо. Тень внутренней судороги прошла по нему. Поставив на стол стакан, он завернул к подбородку фуфайку и расстегнул рубашку.
Эскирос вздрогнул. Выше левого соска, на побелевшей коже, торчала язвенная безобразная опухоль.
— Рак… — сказал он, трезвея.
Битт-Бой кивнул и, отвернувшись, стал приводить бинт и одежду в порядок. Руки его тряслись.
Наверху все еще пели, но уже в последний раз, ту же песню. Порыв ветра разбросал слова последней части ее. Внизу услышалось только:
«Южный Крест там сияет вдали»:… и, после смутное эхо, в захлопнувшуюся от качки дверь:
«…Да помилует нас!».
Три слова эти лучше и явственнее всех расслышал лоцман «Битт-Бой, приносящий счастье».
РАМЗЕС XVII
Рассказ Отто Рунг
С шведского пер. Н. Кочкарева
Иллюстрации Мишо
Владелец отеля, где я остановился в Луксоре (дивная панорама Нила и гробница фараонов) — швейцарец родом — знакомил меня с Азисом Наиб-эффенди.
— Это, — сказал мне г-н Обермейер, — верховный глава и шейх всех антикварных торговцев здесь, в верхнем Египте. Мало найдётся людей, которые продали бы столько сокровищ, извлечённых из этой исторической почвы, как он. Но ныне он «пресыщен деньгами и аферами, этот богатейший человек во всём Луксоре, благодаря продаже мумий американским туристам и небольшой частной ссудной кассе для феллахов, которых он ссужает деньгами под залог их жатвы, взимая скромные 500 %. У него неисчислимое количество десятин в плодородной Нильской долине, и его светлость, хедив, вскоре пожалует ему титул бея.
Несколько дней спустя мы заглянули в гости к Наибу-эффенди в его виллу, расположенную на Нильской набережной. Своим выбеленным, изящным фасадом она была обращена к струившемуся мимо неё потоку элегантных туристов, а обмазанною глиной, грязной задней стороною глядела на упавшие колонны храма Рамзеса II. Наиб-эффенди принял нас в нижнем этаже, в своём mandarah, с длинными диванами, обитыми немецким изделием Крефельда, и с украшавшими его красные, в полоску, обои фотогравюрами, изображавшими президента Рузвельта, Клео де Мерод и Айседору Дункан — босоножкою и с собственноручной надписью. Сам Наиб был маленьким, тощим господином с красным тарбушем на своём желтом черепе, напоминавшем голову коршуна, что делало его странно похожим на изображаемого с головою коршуна бога Харахту. Из под его длинного, несколько потёртого, сюртука выглядывали шерстяные чулки. и красные тунисские туфли. Он был копт и, следовательно, потомок древнейших обитателей Нильской долины. С невозмутимой серьезностью произнес он обычную приветственную формулу бедуинов:
— Bêti bêtak — мой дом — твой дом— после чего он начал показывать нам свои античные вещи — без всякого, можно сказать, обычного для торговца, навязывания их.
Древности эти были разделены на два кабинета.
— Направо, — говорил Наиб, — вы найдёте лишь подлинные вещи. Взгляни, о эффенди, на эти погребальные маски Саисской эпохи — в особенности на этот женский портрет из Файума — на эти бронзы, на этого Анубиса, на этого Амон-Ра. на эти намогильные фигуры, а там, на полке, на эту барку Изиды из дерева, эпохи древнейшего царства. Здесь же налево. — добавил он — имеются вполне аналогичные им вещи, но все сплошь современные и поддельные. Вы не найдёте никакой разницы, да и ваши европейские знатоки Это первоклассные имитации, не с той греческой фабрики скарабеев в Каире, которая ежегодно продаёт тысячи тонн поддельных вещей ничего не подозревающим туристам. Но, как говорят арабы: честность в торговле предохраняет от ругани на торжище. И если хорошо сохранившаяся мумия может заинтересовать вас, г-н барон… ах, не барон… профессор, в таком случае… или, ну, директор?… Так имеется и такая, в полной сохранности, судя по надписи, мумия верховного жреца. Вы видите ее вон там у стены, она эпохи восьмой династии, вполне подлинна — antika bêtir, bêtir! и я могу ее рекомендовать самым горячим образом.
Мумия, о которой шла речь стояла стоймя, прислонённая к стене, заключенная в два свои ящика, из дерева и картона; позолоченная лицевая маска с эмалевыми белками глаз улыбалась в сознании своей вековой мудрости иронической снисходительной улыбкой, как многоопытный турист, которому ничто более не импонирует и который, пресытясь обществом самого себя, предал себя во власть бюро Кука и К0.
Никакой покупки не состоялось, но несмотря на это Наиб эффенди с арабской grandezza предложил нам, на своем балконе, отведать густого, как сироп, кофе из маленьких чашечек, похожих на рюмки для яиц — по одной чашке, ибо две — это невежливость по отношению к гостю, а над третьей висит меч, как говорит арабская пословица. Под нашими ногами, по ту сторону аллеи и пальм отельных садов, блестела серебристая полоса Нила. Красная дхабие с повисшими парусами тащилась на веслах под пение лодочников, ливийский берег реки лежал, сверкая своими желтыми песками, а за ним лежали глиняные хижины и зловещая пустыня, Фиваидские горы сияли, рдея на солнце, как стена из роз, а у подножия их пестрели, как ячейки в улье, пещеры древнего кладбища. К северо-западу в горе виднелась котловина Biban el Moluk, королевская долина, где нашли себе успокоение фараоны трех династий. Слабый бриз доносил благоухание Луксорских садов, вдали слышался звон колодезных цепей и басовые ноты оросительного колеса. В зените виднелись золотистые точки: то коршуны или соколы зорко всматривались в глиняные голубятни феллахов.
Имея ту же панораму перед глазами, сидел я несколько позже на знаменитой террасе отеля, прислушиваясь к сообщаемой мне моим хозяином хронике истекших сезонов, в особенности из дней знаменитых раскопок в этой местности — в Луксоре, в Карнаке, в Фивах.
— Наиб-эффенди, — говорил он, — был в те дни ключом ко всем могильным находкам верхнего Египта. Сама Ântikah (управление древностей Каирского музея) должна была считаться с его благорасположением. Нильская долина — это царство сплетен, где слухи и сплетни переносятся из уст в уста. Если пашущий феллах наткнётся на прорытый шакалом ход к какой-нибудь древней усыпальнице при Abd el Kurna — или крот дороется до глиняного горшка с золотом в Тuk el Garinus, то сообщение об этом шло от шейха погонщиков ослов к тому или другому «рейсу» или «омдеху», а от них попадало в всегда отверзстые уши Наиба-эфенди. После того, как он снимал пенки, наступала очередь музея. Сам Лоре, вынувший в 1898 г. 9 мумий из усыпальницы Амон Хотепа II, получал свои сведения от агентов Наиба-эффенди, годами снабжавшего его кабинет находками из потайного магазина в королевской долине.
Но я расскажу о крупной неудаче Наиба — да, о случае, когда он впал в необузданную ярость. Я вспомнил об этом, увидев ту замечательную мумию, которая имеется у Наиба, в числе его более или менее подлинных вещей. Мы, посвященные, здесь, в Луксоре, зовем эту мумию Рамзесом XVII. Почему? Потому, что эта мумия была семнадцать раз продаваема Наибом туристам и семнадцать раз пересылалась в Александрию с адресом на Нью-Йорк или Филадельфию. Как вы знаете, всякий вывоз мумий из Египта воспрещен. Поэтому Наиб-эффенди всегда, вполне лояльно, говорит своим покупателям: «Вывоз мумий карается, как контрабанда, и вы должны, поэтому, господин мой, на Александрийской таможне розыскать чиновника, которого зовут г-н Тадрос Бадьер Вабба. За бакшиш в 20–25 фунтов стерлингов он вам все устроит, передайте ему только поклон от меня».
Прекрасно, г-н Тадрос тотчас замечает длинный ящик, помеченный, как содержащий образцы семян для посева.
— «Вскрыть его» говорит он своему помощнику. И затем: «Машаллах! Вы пытаетесь тайно вывезти мумию?! Это вам обойдется в 25 фунтов стерлингов штрафа, кроме того конфискация вывозимых ценностей, а также тех сумм, которые вы осмелились предложить в виде взятки чиновникам его светлости хедива!».
Машаллах! Вы пытаетесь тайно вывезти мумию!..
И Рамзес XVII отправлялся, таким образом, в обратный путь к г-ну Наибу в Луксор, готовый встретить ближайшего покупателя своей подлинной позолоченной и крайне обязательной улыбкой. Рамзеса хорошо знают на железной дороге. Семнадцать раз туда и обратно в качестве груза большой скорости. Но с последнего раза Наиб стал много осторожнее.
В моём отеле поместился в прошлом году м-р Солон В. Хоткинс, мясной король из Чикаго. Но титул этот он тщательно скрывал. Небезызвестная книга, озаглавленная «Джунгли», незадолго перед тем сделала людей этого сорта — чикагских консервировщиков — не особенно популярными.
А м-р Хоткинс, проводивший зимний, сезон в Луксоре вместе со своей дочерью, мисс Сэди, хотел водить компанию с подлинными французскими виконтами и офицерами английской оккупационной армии, часто посещавшими мой отель. В Каире он записался в число членов Гезерехского спортивного клуба, а мисс Сэди даже завезла свою карточку матери хедива, — безрезультатно, впрочем. Консервные фабрики Хоткинса имели, однако, у себя агента для рекламы в мировом масштабе, и молодчик этот был гением в своем роде.
В те дни перекрестки всех больших улиц пестрели огромными плакатами с изображением ярко-красного быка, стоящего на одной из консервных коробок Хоткинса. На всех лестницах, в вокзалах, в ватерклозетах стояло, крупными буквами: Солонина Хоткинса! Консервы Хоткинса рдели огненными буквами на всех площадях от Иокогамы до Берлина. Агент этот обладал фантазией завравшегося ковбоя. Лассо его достигло и до Египта. Световые рекламы жирных коров Хоткинса были проектированы на Хеопсовой пирамиде и по всему миру сыпались дождем авио-рекламы Хоткинса. Не пощажен был даже багаж путешественников, хотя вообще говоря чемоданы украшаются снаружи лишь маленькими нарядными этикетками отелей, в качестве памяти о приятно проведенном времени. Железнодорожный персонал всего мира — также и здесь, на линии Александрия-Луксор, — получал мзду от агента Хоткинса, будучи обязан наклеивать на багаж туристов назойливые, громадные, огненно-красные плакаты с надписями:
— «Почему Адам съел яблоко? — Потому, что у него не было деликатных мясных таблеток Хоткинса!».
— «Кушайте бульон Хоткинса в кубиках и Вы избавитесь от расходов на курорты!». Мои гости приходили в ярость, видя как чемоданы вынимаются из омнибуса отельным швейцаром заклеенными сверху до низу Хоткинсом.
Но сам Хоткинс не показывал своего герба. Это был решительный и крайне вспыльчивый господин, гигантских размеров, с головою, походившей на футбольный мяч и опущенным левым веком. Его дочь, Сэди, была стройной, уверенной в себе красавицей с многообразными талантами. Она рисовала акварели с фресок в фараоновых гробницах, под руководством одного юного английского художника по фамилии Сесиль Уайт, славного, но довольно бездарного малого, младшего сына фамилии, как я думаю, с маленьким доходом, весьма очарованного мисс Хоткинс и её миллионами, хотя и неосведомленного о том, что последние вели свое начало от бесчисленных стад скота, проходивших чрез мясорубки в Чикаго.
Мисс Хоткинс сопровождалась постоянно Мохаммедом бен Али, её личным драгоманом, прославленным Адонисом Луксора, бронзово-коричневым полубогом в затканном золотом шелку от плеч до ног. Его животная красота сообщала ей ритм. Стройная и ловкая она скользила бок о бок с ним шагами пумы. Маленькое, отчетливо очерченное личико с изящным ротиком и большими агатовыми глазами напоминало мне Сехмет, богиню с кошачьею головою, которую вы видели в том маленьком красивом храме за священным озером, у Карнака… эту Сехмет, о которой арабы говорят, что она каждую ночь выходит из храма и поедает людей!
С самим м-ром Хоткинсом я побывал в знаменитом гипостиле карнакского храма. С пренебрежением взирал он на полусотню колонн этой величествен ной колоннады, вышиною в башню и покрытых дивной позолотой. «В Америке», — пробурчал он — «мы воздвигаем камешки куда покрупнее. Слыхали вы когда-нибудь о небоскрёбе Зингера — 512 футов?». Между прочим, побывал он и на охоте на шакала. Вы видели там, на Нильской набережной, трех грязных арабов с охотничьими ружьями, которых можно нанимать. На прибавку получаешь труп осла, разложившийся до последней степени. Позади него располагаются на окраине пустыни, стараясь укрыться от вони, пока шакалы не начнут выходить из своих нор на арабских кладбищах. Тогда их подпускают на десять шагов. М-р Хоткинс вернулся однажды утром домой с пятью штуками, в качестве трофея, и, не переодетый, явился к лэнчу. Сам он, конечно, был не чувствителен к той ослиной вони, которой от него несло, закалясь за годы ежедневного пребывания в консервных мастерских. Но лэди Мильфорд почувствовала себя дурно уже за супом и принуждена была покинуть табльдот.
Ну-с, так вот! В те времена трое из доверенных ассистентов Флиндерса Пе — три были заняты раскопками в Бибан эль Молук возле того места, где Теодер Девис нашёл могилу королевы Тени и ту мумию, о которой некоторые учёные еще и по сию пору спорят, что это мумия не ее, а ее знаменитого сына, фараона-еретика Эхнатона. Ждали новых, важных находок. М-р Хоткинс приказал оседлать мула, прихватил с собой трёх драгоманов и отправился туда. Археологи вынырнули из своих шахт. Полуослепшие, желтые от малярии, лихорадочно возбужденные пребыванием денно и нощно, в продолжение многих месяцев, — в жгучей пустыне, оглашаемой лишь воем гиен. Жадные мухи роями сидели на их хаки. Измученные жарою, осипшие от постоянной перебранки с арабами, просеивавшими в большие корзины могильный песок, они с невольным раздражением взирали на этого упитанного, корпулентного туриста, критическим взглядом окидывавшего их труд. Хмурым, из-подлобья взглядом встретил глава египтологов вытаращенный взгляд м-ра Хоткинса. М-р Хоткинс сполз со своего мула, насмешливо ухмыльнулся и процедил своё: «Европейские методы! У нас, в Калифорнии, отводят воду из ближайшего ручья и размывают весь бок горы, пока не доберутся до породы!» Он шагнул к отверстию гробницы. Два юных атлета встретили его там и он вылетел оттуда, словно выброшенный извержением вулкана. Разозлённые археологи исчезли в своей гробнице, отделив себя эпохою в три тысячи лет от м-ра Хоткинса.
На следующий день меня посетил юный Уайт. Его миньятюрное заячье личико имело более бледный и запуганный вид, нежели обычно.
— «Дорогой г-н Обермейер, — сказал он с видом человека, готового вот-вот сейчас расплакаться. — «Вы должны помочь мне. Мисс Хоткинс не хочет разговаривать со мной. Она говорит, что среди англичан нет ни одного джентльмена. И, сказать по правде, м-р Хоткинс подвергся тяжкому оскорблению со стороны моих соотечественников, этих трех египтологов. Мисс Сэди требует, что-бы я доставил ее отцу полное удовлетворение. И вот мне пришла в голову идея. Не могли-ли бы вы, путем ваших связей в… в арабском мире сделать как-нибудь так, чтобы м-р Хоткинс сам открыл гробницу, которая принадлежала бы ему и никому другому. Совсем простенькую, маленькую могилку, совсе^м даже не фараона или какой-нибудь там принцессы?».
Гм, — сказал я, — это не лежит в сфере моей специальности, но это, во всяком случае, обойдётся не дешево. Затем я направил его к своему другу Азису Наибу. Если он не сможет, — сказал я, — то никто не сможет. Я даже отправился сам с ним к Наибу эффенди. Мы просидели несколько часов за кофе на его террасе в разговорах о новостях из мира туризма и об урожае хлопка и затем, постепенно, перешли к истинной цели нашего визита. Г-н Наиб закрыл глаза и погрузился в соображения: это будет стоить около 500 фунтов в виде бакшиша арабам, которые знают подобные секретные вещи, — кроме полагающейся лично мне суммы наличными. Я должен получить чек авансом и весь риск лежит на вас, эффенди. — На том и порешили.
Когда я, на следующий вечер, сидел на своей террасе, наслаждаясь закатом солнца за Фиваидскими горами, к моему столу присела мисс Сэди.
— Вам знакома, — сказала она, — некая личность коптского происхождения, по имени Азис Наиб? Прекрасно, он заявился ко мне вчера. Вы знаете про оскорбление, которому подвергся мой отец у фараоновых могил третьяго дня? Прекрасно. Г-н Азис Наиб явился с предложением, которое дает нам полное удовлетворение в глазах отеля, да, даже всего цивилизованного мира. Нужно сказать вам, — продолжала она, — что г-н Наиб знает адрес совершенно неизвестной гробницы, там, в пустыне, за Мединет Хабу. Он уступил нам право первой заявки. Мы оплачиваем раскопки, и она получает имя гробницы Хоткинса. Понятно, это будет мировой сенсацией, но, ради бога, не говорите ничего здесь, в отеле, об источнике, откуда мы получили эти сведения, в особенности этому юному идиоту м-ру Уайту, Он совершенно не умеет держать язык за зубами.
— Осмелюсь спросить, мисс Хоткинс, — поинтересовался я из чистого любопытства, — сколько взял г-н Наиб за свое сообщение.
— 2.000 фунтов стерлингов, — ответила она небрежным тоном.
Я просила папу выдать ему чек, как только он укажет место. Мы были там вчера и все было all right. Во вторник начинаем раскопки. Газеты уже поставлены в известность.
Действительно уже со следующей американской почтой прибыли нумера «New Iork Herald» и «The Tribune» с телеграммой из Каира: «С. В. Хоткинс разыскивает мумии в Египте!».
Каждое утро м-р Хоткинс выезжал по дороге в Мединет Хабу, в сопровождении трех своих драгоманов с ружьями, с гордым презрением измеряя взглядом Мемнонские колоссы, которые ему приходилось проезжать на полпути, вспоминая при этом случае колоссальную статую Свободы в Нью-Йоркской гавани. Наиб раздобыл целый штат рабочих. Днем и, в особенности, по ночам, артель из 40 арабов работала непрерывно в горах, на расстоянии часа езды от Мединет Хабу. Однажды, ночью, когда мне не спалось, я заметил со своего балкона переправлявшийся через Нил грузовой паром, плотно укутанный брезентами, а на корме его тёмную фигуру, поджарую словно ибис: Наиб эффенди! Я встретился с ним на следующий день.
— Послушай, — сказал я, — что это еще за могила такая там, у тебя?
Мне было известно, что в той местности было полным-полно древних могильных шахт, ограбленных уже тысячелетия тому назад и затем полузасыпанных песком, — не представлявших никакого интереса для современных исследователей. Но Наиб взглянул на меня непроницаемым взором:
— Это самая, что ни на есть доподлинная могила, — был его ответ.
В один прекрасный день три археолога из королевской долины отправились также туда, видимо напуганные слухом о новой и неизвестной доселе гробнице — необыкновенно редкий случай в Египте: сам Масперо лишь раза два натыкался на подобную девственную гробницу. Но над песчаной кучей, высившейся над раскопками, показался м-р Хоткинс, с засученными рукавами и браунингом в каждой руке.
— Вон отсюда, сволочь! — прорычал он, а арабы аккомпанировали ему бранным «убирайся» по адресу египтологов: «Имши!».
Прошло несколько недель. Затем м-р Хоткинс устроил у себя в один прекрасный день garden-party и за шампанским, постучав по бокалу, возвестил, что раскопки Хоткинса у Мединет Хабу ныне закончены и завтра состоится торжество открытия гробницы, на которое он приглашает всех уважаемых гостей. Среди них находились лица с такими именами, как генерал сер Вальтер Тернер, виконт Лепляж и голландский посол. На заре следующего дня прибыли также каирские корреспонденты шести распространённейших в мире газет. Кавалькада переправилась на паромах через Нил и зазмеилась длинной цепью по направлению к позлащённым восходящим солнцем Фиваидским горам. Мисс Сэди была одета в костюм в стиле дочери фараона, выполненный по рисункам молодого Уайта. Затканная золотом ткань мягкими складками падала от скарабея, украшавшего ее грудь, красиво обрисовывая ее узкие бедра, вплоть до усаженных драгоценными камнями ремней сандалий, покрывавших ее ступни.
Раскопки Хоткинса представляли собою дыру в горном массиве посреди 500 других, на половину занесенных песком. Вся скала была источена словно кроличий садок. Но могила Хоткинса была подлинной и к тому же очень глубокой дырой с двадцатью высеченными каменными ступенями, ведшими вглубь. Один из сторожей Карнакского храма и три вооруженных ружьями драгомана составляли своего рода почётный караул, и мы, около 30 человек почётных гостей, полезли по очереди в гробницу. Ариергард составляли 3 фотографа с внушительными кино-аппаратами, которые были привезены сюда упакованными на осле. Впереди шествовала мисс Сэди, слегка опершись на руку своего бронзового драгомана Мохаммеда. Мы спустились вниз по заботливо подметённым ступеням и прошли сквозь пустой длинный корридор в первый покой усыпальницы. Там не было никаких фресок, их не бывает в этих могилах у Мединет Хабу, но потолок носил следы сажи от факелов, горевших при погребении. Вдоль стен стояли обычные погребальные принадлежности. Там было резное деревянное кресло, ларец для драгоценностей, сосуд для благовонных мазей, бронзовые статуетки Анубиса, Изиды, Амон-Ра, несколько кинт, сосудов для внутренностей мумии, — всё это очень красиво расставленное по росту, словно в витрине выставки. М-р Хоткинс демонстрировал эту коллекцию тоном аукциониста:
— Здесь вы можете видеть, джентльмены, крайне удачное изображение бога Анубиса. Голова у него точь-в-точь как у тех шакалов, которых, пристрелил на прошлой неделе.
Трое арабов — рабочие начали выламывать камни из замурованной двери, которая вела в самый склеп. Тёмная дыра разверзлась перед нашими взорами. Я покосился на своего друга Наиб эффенди. Он стоял неподвижно, со своим соколиным профилем, в своей феске и своем старом сюртуке, в котором он походил на полковника в отставке. Ничего-то не вычитаешь в этих точных физиономиях, ровным счётом ничего! Мисс Сэди оперлась на ответившую ей благодарным пожатием руку юного Уайта, но взгляд ее бессознательно следил за небрежной, но беспорной грацией драгомана Махоммеда.
Наконец, м-р Хоткинс провозгласил громогласное: Come along, и переступил через кучу щебня во внутренность похоронного склепа.
— «All right, в мире усопший, действительно, находится здесь», констатировал он. «Господа фотографы, приготовьтесь».
Вспыхнуло четыре мощных ацетиленовых прожектора, и поверх бледных, полных ожидания, лиц лэди Мильфорд, генерала Тернера и др., мы увидели: внутри камеры широкоплечий и массивный стоял м-р Хоткинс. Торжественно развернул он усеянное звездами знамя. Кино-аппараты принялись усердно работать.
М-р Хоткинс в гордом величии поднял свое звездное знамя.
— Во имя Соединенных Штатов и науки.
М-р Хоткннс торжественно произнес: Во имя С. А. Ш. и науки!.. II мы увидели…
И в этот же момент три араба подняли из только что открытого саркофага мумию в ее позолоченном ящике со скарабеем на груди, над руками, скрещенными, словно два крыла. И лицом к лицу оказались Мясной Король из Чикаго и пресловутый Луксорский Рамзес XVII со своим позолоченным ликом, и со своей слегка презрительной улыбкой тысячелетней мудрости! И в то время как жужжали кино-аппараты, мы все увидели ясно, поверх бандажей, герметически окутывавших мумию — видимо наклеенный каким-то старательным железнодорожником при последнем запоздавшем рейсе с экспрессом Александрия-Луксор несколько дней тому назад — огненно-красный плакат: Консервы Хоткинса выдерживают тысячелетия!
ОПЫТ
Рассказ В. Богословского
Человек медленно шел, с трудом передвигая ноги. Невыразимая усталость овладела всем его существом. Словно кто-то невидимый, неумолимый, страшной тяжестью давил на его плечи, пригибая к земле тело. Больное сердце билось неровно, с трудом выталкивая кровь, го стучало быстро, сильными ударами, болью отзывавшимися в голове, словно по ней били острыми молоточками, то замирало, как двигатель, в котором на исходе бензин. Ноги человека дрожали так, что он вынужден был, сделав еще два — три неверных, колеблющихся шага, прислониться к стене. От непреодолимой слабости кружилась голова и подгибались колени… Четвертые сутки он ничего не ел. Голод, терзавший его первое время, теперь как будто утих, и пустой желудок лишь изредка давал о себе знать мучительными спазмами.
В сыром воздухе чувствовалась близость дождя. Холодный, порывистый ветер гнал по небу свинцовые тучи, гудел между иззябшими, наполовину оголенными, деревьями городского парка, устилая аллеи сухими, шуршащими листьями, невидимыми пальцами касался телеграфных проволок, беря на них, как на струнах исполинской арфы, мрачные аккорды, яростно трепал полы поношенного летнего пальто прохожего и, забираясь за воротник и в рукава, заставлял все тело его болезненно съеживаться. Стемнело. Надвинувшаяся на город со всех сторон тьма неслышно ползла от окраин к центру, погружая в сырую мглу, одну за другою, улицы, до того ярко освещенные и полные народа. Погасли залитые светом витрины магазинов и переливающиеся огнями вывески. Лишь кое-где горели газовые фонари и колеблющиеся зеленоватые язычки пламени, почти задуваемого ветром, заставляли плясать тени на стенах домов и на мостовой. Усталый за день человеческий муравейник постепенно затихал. Замирало уличное движение, временно оживившееся с окончанием спектаклей в театрах и других зрелищ. Холодная октябрьская ночь, безлюдная и унылая, пришла на смену полной шума и движения дневной сутолоке большого города.
Около прохожего, ярким квадратом вырисовываясь на темном фасаде огромного дома, светилось окно магазина. «Вино. Фрукты. Гастрономия». Гастрономия!.. В мозгу прохожего пронеслись, как на кинематографической ленте, ряды гонких блюд и изысканных закусок… Пропитанные запахом моря скользкие, упругие устрицы, спящие в шершавых раковинах, выложенных внутри перламутром… Толстые, похожие на змей, копченые угри с чуть отдающим тиною жирным мясом под лоснящеюся, мелкозернистою кожей… Большие омары и лангусты, покоющиеся на разноцветных коврах из овощей… Паштеты из дичи, как младенцы в пеленках, окутанные белым слоем шпика, страсбургские пироги с трюфелями… Большие рыбы с нежным мясом розового или желто-розового цвета и с серебристой, мелкой чешуей — семга и лососина… Янтарные балыки… Икра в хрустальных сосудах… Различные заливные — целые сооружения с просвечивающимися сквозь слой полупрозрачного, дрожащего желе, разноцветными кусками мяса, рыбы, дичи и овощей… Разнообразные сыры: орошенный прозрачными слезами швейцарский, бри и камамбер в деревянных, треугольных или круглых, гробиках-коробках, похожий на застывший варенец с мягкой корочкой, рассыпающийся рокфор с черными точками и прозеленью… Фрукты, горы фруктов… Душистые яблоки и груши в красивых вазах. персики с нежной, как щеки юных девушек, кожей… ананасы, увенчанные пучками листьев, как головы дикарей… Янтарно-золотистый и темный, почти черный, с синим налетом, виноград, впитавший в себя лучи горячего солнца и отдающий их в токе благородного вина… Тонкие вина… ряды запыленных бутылок с таящей в себе солнечную энергию ароматной влагой, дающей радость и забвение… Гастрономия!.. Челюсти его сжались и рот наполнился слюной. Есть! Прохожий толкнул дверь магазина и вошел внутрь.
Есть, есть, во что-бы то ни стало!..
— Что вам угодно?
Хорошенькая продавщица с утомленным лицом и припухлыми глазами, улыбаясь любезной, заученной улыбкой, оглядела вошедшего с ног до головы, ожидая его ответа. Прохожий собрался было попросить на хлеб, но остатки прошлого, впитанные им с молоком матери взгляды и жизненные принципы, вступили в яростную борьбу с инстинктом самосохранения, мешая готовой вырваться у него мольбе о помощи слететь с посиневших, дрожащих губ. Есть, есть во что-бы то ни стало, жевать, запуская зубы в теплое, сочное мясо… грызть кости… Все тело его напряглось в одном желании, одна лишь мысль судорожно билась в усталом мозгу. Есть!
— Магазин сейчас закрывается. Вам отпускают? — повторила вопрос продавщица.
Прохожий решился и, пошатываясь, подошел к прилавку.
— Вот, кажется, что нам нужно, — произнес за спиной прохожего чей-то голос металлического тембра и кто-то положил руку ему на плечо. Прохожий оглянулся и взгляд его встретился с тяжелым, пристальным взглядом устремленных на него холодных, зеленовато-серых глаз среднего роста человека лет сорока — сорока-пяти с выдающимся, почти квадратным подбородком и тонкими, плотно сжатыми губами на бледном, гладко выбритом лине. — Не поможете-ли вы нам, мне и профессору, — говоривший кивнул в сторону своего спутника — высокого старика с умным, привлекательным лицом, обрамленным седой бородой, — донести до дому наши покупки? Он указал жестом на различные свертки, которые приказчик осторожно укладывал в стоящую перед ними довольно большую корзинку. Прохожий перевел взгляд с незнакомца на корзину и отчаяние промелькнуло в его впалых глазах: он так слаб, что вряд-ли смог-бы это сделать.
— Ничего, ничего, — промолвил незнакомец, окидывая взором жалкую, дрожащую фигуру, стоящую перед ним у прилавка, и словно прочитав мысль прохожего, — хоть вы и здорово ослабели, но мы вас подкрепим, да, к тому-же, это недалеко отсюда. Получите щедро на чай.
— Я к вашим услугам, попробую, — пробормотал, едва шевеля губами, прохожий.
Незнакомец попросил у приказчика стакан воды и, влив в него несколько капель из маленького граненого флакончика, протянул стакан прохожему.
— Выпейте-ка.
Тот выпил содержимое стакана и почувствовал некоторый прилив сил. Слабость прошла и только слегка кружилась голова.
— Ну, как вы себя чувствуете? — спросил незнакомец.
— Благодарю вас, значительно лучше, я думаю, что смогу вам донести вещи.
— Вот и прекрасно.
Пока приказчик запаковывал корзинку, взгляд бритого человека продолжал медленно, словно изучая, скользить по лицу прохожего и последнему казалось, что лица его касаются какие-то невидимые щупальцы, проникающие сквозь кожу и забирающиеся глубоко в мозг.
— Идем!
Сказал-ли это человек с квадратным подбородком, или слово это сложили в мозгу прохожего невидимые щупальцы, как дети, играя, складывают из кубиков слова и целые фразы, но он всем существом своим почувствовал, что не исполнить содержащегося в этом слове приказания он не смог-бы, даже если-бы пытался это сделать. Прохожий взвалил, с помощью приказчика, корзину к себе на плечо и последовал за незнакомцем и его спутником. Услужливо открытая приказчиком дверь магазина закрылась за ними и они зашагали по опустевшим улицам. Впереди шел незнакомец со стариком, перекидываясь с ним, время от времени, короткими, отрывистыми фразами. Прохожий с трудом поспевал за ними, задыхаясь от ходьбы и борясь с начинающей вновь его охватывать слабостью. Пройдя два-три квартала и свернув в узкий, похожий на щель между двумя высокими домами, переулок, они остановились перед небольшой калиткой, проделанной в каменной высокой ограде, над которой местами свешивались ветви деревьев. Незнакомец отпер ключом железную дверь, и они вошли во двор, вымощенный большими каменными плитами, сквозь которые кое-где пробивались пучки сухой травы. В глубине двора стоял небольшой, строгого стиля, особняк с тяжелой дубовой дверью под стеклянным навесом. В больших зеркальных окнах не видно было света. Старый слуга с бакенбардами, одетый в темную ливрею, открыл им дверь, молча помог раздеться и, захватив принесенную ими корзинку, по знаку бритого незнакомца, повидимому, хозяина дома, бесшумно удалился.
— Вы голодны и устали, — обратился незнакомец к прохожему, ожидавшему обещанной платы. Насколько я могу судить, обстоятельства последнее время не совсем благоприятно складывались для вас?
— Да, это правда, — вздохнул тот, — я четвертые сутки ничего не ел.
— Ну вот видите. Я думаю, вы не откажетесь поужинать с нами? У меня собралось несколько человек друзей. Отдохнете, обогреетесь.
— Спасибо, но… — Прохожий замялся, — я так грязен…
— Ничего, ничего, — ободряюще произнес незнакомец, надавив кнопку электрического звонка. — Проведите его умыться, — приказал он, указывая на прохожего, вошедшему старому слуге, тому самому, который открыл им дверь, — и дайте ему что-нибудь из моих вещей, чтобы переодеться. Мы будем ждать в библиотеке. Велите повару поторопиться с ужином.
— Слушаю-с.
Старый слуга провел прохожего в ванную комнату, отделанную кафелем, с самыми разнообразными умывальными принадлежностями, принес ему простыню, белье и платье хозяина и ушел. Вернувшись через некоторое время, он. проведя прохожего, успевшего умыться и переодеться, через амфиладу богатых, со вкусом обставленных комнат, ввел его в уютную, отделанную мореным дубом, комнату с тяжелыми книжными шкафами по стенам и удобными кожаными диванами в промежутках между шкафами. В глубине комнаты, между дверями, высился огромный, темно-зеленого мрамора, камин, в котором, потрескивали дрова, освещая трепетным светом часть комнаты и темные силуэты стоявших и сидевших у камина людей. При входе нового лица все с любопытством обернулись в его сторону. Это были почти сплошь старее, пожилые люди с серьозными лицами. Многие были в очках. Молодых лиц совсем не было видно.
— Я надеюсь, господа, вы ничего по будете иметь против того, чтобы молодой человек, которого вы видите, поужинал с нами? — обратился к ним хозяин дома, указывая на прохожего. — Он, я полагаю, является очень подходящим человеком для нас.
Один из присутствующих, высокий, полиций старик, с выпуклым лбом и большой седой бородой, к которому окружающие относились с видимым почтением, внимательно оглядел прохожего и что-то вполголоса спросил у хозяина.
— Да, — последовал ответ, — профессор все время был со мной…
Конца фразы прохожий не расслышал.
— Кушать подано, — доложил, появляясь в дверях, старый слуга и все перешли в столовую — большую комнату, отделанную в английском вкусе, со стильной мебелью времен королевы Анны. Свешивающаяся с отделанного деревом, как и стены столовой, потолка большая люстра с овальным абажуром освещала лишь самый, красиво убранный, стол, заставляя переливаться алмазами граненый хрусталь бокалов и рюмок и бросая на белоснежную скатерть рубиновые и топазовые блики вин, налитых в отделанные серебром старинные графины. Хозяин и высокий полный старик поместились в центре стола, прохожего же посадили наискось от них, рядом со стариком, бывшим в магазине с хозяином дома» Двое молодых слуг, под руководством старого слуги в бакенбардах, бесшумно разносили блюда. Прохожий погрузился в еду, запивая ее вином, которое ему подливал его сосед, профессор.
Вымытый, одетый в чистое белье и платье, прохожий выглядел довольно прилично. На вид ему можно было дать лет двадцать семь — тридцать, не более, но лишения и невзгоды наложили печать на его исхудалое бледное лицо, на котором теперь, под влиянием выпитого вина, заиграл слабый румянец. Забыв обо всем на свете, прохожий был поглощен едой, уничтожая все, что ни подкладывал ему на тарелку сосед, Он ел с жадностью, с упоением, упиваясь возможностью дать жевать челюстям, давно бывшим без дела. Он был как во сне. Да разве не сон, что с ним случилось? Какой-нибудь час тому назад он, умирая от голода и холода, бродил по улицам, падая от усталости, не имея, в чужом городе, где главы преклонить, не зная никого, к кому бы обратиться за помощью, а теперь сидит в теплой, светлой комнате, одетый во все чистое, ест вкусную, разнообразную пищу и пьет вино, такой приятной теплотой разливающееся по жилам. Так приятно ощущение свежего белья, чистого, разогретого тела. От выпитого и съеденного прохожим стала овладевать сонливость, усталое тело требовало покоя. Из этого состояния его вывел голос хозяина дома и устремленный на него пристальный, тяжелый взгляд его зеленовато-серых глаз. Бритый человек протянул прохожему большой граненый бокал, наполненный до краев золотистым вином.
— Выпейте-ка этот бокал за здоровье всех присутствующих, как это делаю я. С этими словами он налил вином такой же бокал и, обведя взором всех за столом, осушил его. — Ваше здоровье, господа!
Прохожий также осушил свой бокал.
— Господа, — продолжал между тем хозяин дома, — я нахожу своевременным посвятить нашего молодого друга, — он кивнул в сторону прохожего, — в цели нашего сегодняшнего собрания и объяснить ему, что мы собою представляем, чтобы он знал, среди кого он находится и чем вызвано его, кажущееся случайным, присутствие в нашей среде сегодняшнею ночью. Вы видите перед собой, — говоривший обращался теперь исключительно к прохожему, — членов особого общества, целью которого является приходить на помощь несчастным, силою вещей поставленным в безвыходное положение. Жизненные обстоятельства складываются часто так, что попавшему в тяжелое положение неудачнику не остается ничего, кроме как умереть. Всякая помощь окружающих в таких случаях является лишь временным облегчением и только оттягивает роковую развязку. Однако, очень немногие обладают достаточной силой воли, чтобы, убедившись в без-исходности того положения, в которое поставила их неумолимая Судьба, разом покончить с обрушившимися на них несчастьями, прервав неудавшуюся жизнь. Вот таким-то, лишенным необходимого мужества, людям мы, т. е. наше общество, и приходим на помощь. Мы облегчаем им переход в Небытие, давая им возможность умереть тогда, когда они менее всего этого ожидают, избавляя их тем самым от предсмертных нравственных мук…
По мере того, как говорил хозяин дома, смутное, все усиливавшееся, беспокойство овладевало прохожим, теперь напряженно вслушивавшимся в каждую его фразу. Взгляд говорившего с особой силой остановился на глазах прохожего, давил на них, словно к зрачкам прикасались невидимые пальцы, так что даже было больно смотреть, а в то же время не было сил отвести взора.
— Наше общество, председателем которого я имею честь состоять, следило за вами и установило, что вы принадлежите именно к той категории неудачников, несчастливцев, помогать которым оно поставило своей задачей. Верное своим принципам, оно постановило умертвить вас, прекратив ваше печальное существование, в самый неожиданный для вас момент и, притом, наиболее гуманным, минимально болезненным способом… Вино, которое вы только-что выпили, отравлено. Через пять минут вы умрете.
— Что?!! Вы… вы шутите?.. Не правда-ли?..
Прохожий вскочил, блуждающими взорами обводя сидящих за столом. Отодвинутый им порывисто стул опрокинулся на пол. Он смертельно побледнел. Вся кровь отхлынула с его впалых щек. Неужели он умрет?! Не может быть? Это просто шутка, дурного правда, тона, но все таки только шутка. Над ним решили зло посмеяться, очень зло, но и только. Он в отчаянии протянул руки к председателю.
— Ну, скажите, умоляю вас, скажите, что это лишь шутка?
Тот стоял скрестив на груди руки, бесстрастный, пристально смотря на прохожего.
— Я нисколько не шучу, — промолвил он невозмутимо, отчеканивая каждое слово. — Вам осталось каких-нибудь две — три минуты жизни. Вы сейчас умрете. Умрете.
— Негодяи, как вы смеете! Вы — убийцы, кто дал вам право так поступать!
Прохожим овладела ярость. Он со стиснутыми кулаками ринулся на председателя, вне себя от бешенства. Пена выступила у него на губах.
— Проклятый!!.. Проклятый!!.. Я не позволю, не позволю, понимаете-ли… — прохожий задыхался, его волосы растрепались, глаза налились кровью. — Помогите, помоги…те, спаси…те!!.. А-а-а!!!..
Волна крови неудержимым потоком устремилась от ног к голове, мутя рассудок. Прохожий дико вскрикнул, в горле его заклокотало, он пошатнулся и рухнул навзничь на ковер. Произошло смятение. Сидевшие за столом, до того времени с любопытством наблюдавшие за происходившим на их глазах, повыскакали из-за стола и окружили упавшего, над которым склонился профессор. Он приложил ухо к груди прохожего, пощупал пульс, взглянул в белки закатившихся глаз и, разведя руками, растерянно произнес:
— Он умер.
Он умер, — растерянно произнес профессор…
Хозяин дома выпрямился, напряженное выражение его лица сменилось довольной улыбкой и, протянув своему соседу, высокому полному старику с выпуклым лбом руку, он произнес:
— Дорогой коллега, теперь вы видите, что я был прав. Опыт удался блестяще. я внушил первому встречному человеку, которого вижу впервые, что вино в его бокале отравлено и он мертв. Надеюсь, смерть этого бедняги положит конец той полемике, которую мы с вами чуть-ли не три года вели на страницах научных журналов. Как я и был всегда убежден, можно убить человека внушением. Вино, как вы знаете, не было отравлено.
И он выпил остатки вина.
СКВОЗЬ ОГНЕННЫЙ БАРЬЕР
Рассказ Джоржа Глендона
Иллюстрации Мишо
I.
— Смотри сам! — воскликнул Жан.
Затаив дыхание, смотрел на индикатор и его брат.
— Да! Это удалось! Этот мотор уж наверное даст им победу! И еще кое с чем, еще большем, чем это, думал Пьер, и глаза его приняли мечтательное выражение!
Еще несколько месяцев тому назад, эти два молодые человека, которым не было еще и тридцати лет, занимали ответственные должности в крупнейшей автомобильной фабрике Франции. Начав с учеников, они, шаг за шагом, в течение пятнадцати лет, добились выдающегося положения у Гомон и К0. Пьер Марбрун стал наиболее талантливым шоффером этой получившей мировую известность фирмы. А Жан, прирождённый изобретатель, был старшиной в мастерских, фирмы, изготовлявших гоночные машины.
Но их карьера создала им также и завистников.
В особенности получившие научную подготовку инженеры косо посматривали на молодого самоучку-конструктора с его смелыми идеями. И когда, к тому же, Пьеру не повезло раза два на Grand-Prix в прошлом году — правда без всякой вины с его стороны — их недоброжелателям удалось добиться того, что престарелый глава фирмы пригласил нового человека, бельгийца Деместра. С первых же шагов бельгиец стал строить различные подвохи и Пьеру, и Жану. Стало сразу ясно, что он метил на то, чтобы объединить в своей особе те выдающиеся положения, которые занимали братья. И близнецы в конце концов оказались не имеющими иного выхода, кроме как покинуть свои места.
Но на улице они не остались. Уже, много лет они прилежно, неделя за неделей, откладывали кое-какие сбережения.
И теперь они наняли скромный парижский гараж на улице Барро, оборудовав при нем также и починочную мастерскую. Но в то же время они лелеяли гораздо более широкие планы — работали неустанно, каждый в своей области, чтобы добиться осуществления их.
Одною из главных причин тех обострённых отношений, которые окончились отказом братьям от места, было как раз одно изобретение, сделанное Жаном, исходившим при этом из мысли, давно уже не дававшей ему покоя. Ему пришла в голову идея применить при постройке наиболее мощных моторов недавно вошедшие в употребление так называемые легкие металлы. Его учёные противники в мастерских фирмы начисто отвергли этот проект, хотя им были представлены все расчёты. «Безумие! Адские машины, которые взорвутся, как только их пустят в ход!» наговаривали они престарелому главе фирмы.
Но вот Жану все-же удалось теперь, своими средствами, закончить новый «Марбруновский гоночный мотор», как он окрестил его. И то количество сил, которые развивали, согласно указаниям индикатора, эти, на вид столь хрупкие, цилиндры и рычаги, превзошло Даже его ожидания.
Но нужно сказать, что эта удача пришла для братьев как раз во время — иначе Пьер стосковался бы на смерть.
Уже в следующее воскресенье, после потери им и Жаном своих мест, ему пришлось претерпеть еще горшее унижение. Как всегда, он отправился провести вечер в семье Лаллемана, одного из чертежников фирмы. И узнал там, что Деместр, этот новый пришелец, обосновался у них в доме и уже был на дружеской ноге с единственной дочерью этой семьи, Сюзанною — которой Пьер уже давно, раз навсегда, отдал свое сердце. Молодая девушка, ослепительной красоты, живая и прекрасно одарённая, но не в меру пылкая — бредила моторными гонками. И Пьер вынужден был, в течение целого вечера, быть свидетелем того горячего энтузиазма, с каким она слушала рассказы бельгийца о своих подвигах в качестве шоффера, равно как и о тех, которые он намерен был свершить с тою, нового типа, маши ною, которую построил для него Гомон! Он собирался побить мировой рекорд в Ницце, выиграть приз в 40.000 на гонках Париж-Бордо и завоевать себе первое место на больших международных гонках Париж-Кельн! «Да, да, положитесь на меня, барышня! С моим прошлым, я покажу вам чудеса!». Сюзанна, казалось, ничего не видела и не слышала кроме него — Пьер рано ушел домой в полном отчаянии.
В течение следующих недель мучения его получили новую пищу, потому что Деместр ежедневно проносился по улице Борро, где корпели над своей работой братья, — на той самой старой учебной машинке, которою так часто пользовался сам Пьер. И на переднем сиденьи, бок-о-бок с ним сидела Сюзанна — выглядывавшая прелестнее, чем когда-либо.
II.
Но теперь братья, собственным умом и силою, вложив в дело все свои сбережения до последнего гроша, создали себе средство, при помощи которого они надеялись наверстать все свои неудачи.
Дюйм за дюймом они сами построили шасси. Марбруновский гоночный мотор был монтирован на нем. Можно было начать пробные пробеги. И в одно дивное летнее утро, вскоре после восхода солнца, близнецы выехали на свой первый пробег вокруг Парижа.
К Пьеру вновь вернулось его прежнее жизнерадостное настроение, как только он почувствовал в своих руках тяжелое вибрирующее рулевое колесо, — в то время как машина пожирала километры. О, лететь стрелой в этом свежем воздухе, оставляя за собой птиц, видеть, как проселочная дорога бежит под тобой серой струей! А Жан, сидевший с наклоненной вперед головою, сливался, казалось, всею душою своею с лихорадочным пульсом мотора; в его ушах бешеный стук рычагов сливался в победные фанфары.
Несколько впереди себя они заприметили Эсти, закадычного друга Деместра, также служившего у Гомона. Он объезжал одну из тех двух, новых типов, машин, которые в наступающем сезоне должны были представлять фирму. Он шел с очень большой скоростью, но, хотя Пьер держался значительно ниже максимальной скорости, ему вскоре удалось оставить его за собой.
Двумя днями позже они нагнали самого бельгийца. Вопреки всем правилам с ним была Сюзанна. Деместр увеличил скорость, когда ему стало ясно, кто идет за ним, и девушка послала назад насмешливый воздушный поцелуй. Но тогда и Пьер в свою очередь перевел свой мотор на полный ход. Короткая, бешеная гонка кончилась тем, что он промчался мимо своего конкуррента. И у Сюзанны мгновенно выражение лица изменилось так, что братьям пришлось предположить, что в это мгновение она не была настроена особенно милостиво к своему кавалеру!
«Так она будет выглядеть каждый день. — когда будет замужем!», — сказал Жан, всегда недолюбливавший Сюзанну.
«Нет, если она будет моей женой!»— весело улыбнулся Пьер.
В начале следующей недели Жан получил анонимное письмо, в котором братьям давался совет на будущее время не отлучаться из мастерской и иметь неусыпный надзор днем и ночью над их сокровищем. Дважды в ближайшие дни были сделаны попытки проникнуть к ним ночью. В четырех или в пяти случаях также и днем им приходилось выпроваживать в высшей степени подозрительных субъектов, являвшихся под предлогами разных починок. И, в конце концов, в одно прекрасное утро явилась собственною особою Сюзанна. — хотя она и Пьер не обменялись ни одним словом с того злополучного вечера, когда она позволила ему уйти. Она великодушно протянула руку и послала ему взгляд, заставивший весь его гнев разом растаять:
— «Мне так хотелось бы посмотреть вашу новую гоночную машину, Пьер!».
— «Ни под каким видом!», — ответил поспешивший вмешаться Жан. — «Довольно у нас тут перебывало шпионов!».
— «Ну, покажите же мне вашу машину, Пьер!» — повторила она, и глаза ее зажгли уже сладкий и опьяняющий пожар в его сердце. Он предложил ей свою руку и повел ее внутрь, где стояла машина под скрывавшим ее брезентом. С трудом удержался Жан от желания пришибить ее на месте, когда они проходили мимо него.
— «Да, она хороша. Но здесь нет ничего нового или особенного. Я так и расскажу Деместру!».
— «Да, она хороша. Но здесь нет ничего нового или особенного».
«Вы, вероятно, уже давно знаете, что мы собираемся повенчаться. Сейчас же после Grand-Prix Париж-Кельн. Если он возьмет его, конечно!». — сказала она, когда, немного спустя, собралась покинуть мастерскую.
— «Клянусь всеми небесами?», — разразился Пьер. — «Это никогда ему не удастся!».
— «Предатель!», — прошипел Жан.
III.
Сезон открывался гонками Париж — Бордо, где известнейшим шофферам страны предстояло оспаривать друг у друга приз.
Солнце сияло. Оркестр республиканской гвардии заставлял, казалось, звучать самый воздух. Тысячи флагов извивали по ветру свои белые, красные и синие полосы. И празднично одетая толпа заполняла, болтая, смеясь, каждую пядь земли перед огороженным пространством.
Когда Пьер Марбрун прибыл к месту старта, ему пришлось пробираться, лавируя сквозь тесно сплотившуюся кучу служащих Гомона. Посредине толпы стоял Деместр, высокий брюнет, в своем черном кожаном костюме. Все указывали на него, как на фаворита дня. Он увеличил количество сил своей машины после встречи с братьями, — и с улыбкой пожал плечами, увидев низкую, необыкновенно узкую и длинную машину, при помощи которой Пьер собрался оспаривать у него его ранг.
Деместр вытащил жребий на первую группу. Эсти получил место во второй. Пьер с Жаном в качестве механика оказался в гораздо более дальней очереди.
Во время невообразимой суматохи, сопровождаемой оглушающими криками «галло» при каждом новом старте, два брата держались спокойно на указанном им месте, не разговаривая, тесно прижатые друг к другу, на узком переднем сиденье. Наконец, пришла и их очередь. Одно, два быстрых движений руки — и машина тихо покатилась вперед, с работающим, как бы шутя, мотором, между двумя нескончаемыми стенами глазеющих людей.
Автомобили двинулись со старта.
Вот вокруг них, направо и налево, раскинулся широкий ландшафт. Шоссе лежало перед ними ослепительно белой полосой, испещренной чередующимися тенями. Деревья аллеи, казавшиеся в отдалении сплошным барьером, бежали со страшною скоростью им на встречу, расступались в сторону, беззвучно пролетали мимо них и исчезали.
Гонка шла все ускоряющимся темпом.
Встречный воздух, с силою, тропического урагана, давил им в лицо и в грудь.
Прошло лишь немного времени, а они уже обогнали все машины своей группы. И снова лежала перед ними проселочная дорога, широкая и пустынная, срет и тени в бесконечном чередовании, пестрой, тянущейся на целые мили, лентой — до самого горизонта.
Они прошли внешние форты, лежавшие под солнечным зноем на высотах, осеняемых трехцветным знаменем. Они пролетали, под оглушительные крики, мимо изумленных или восторженных сельских жителей. Насладились мгновенно прохладою, проезжая через лес у Орлеинь. Попали тотчас же опять в ослепительный свет. А скорость все возростала и возростала. Закругления, повороты, железнодорожные переезды чередовались с длинными, прямыми участками. И неотступно, как в лихорадке, трещал, словно пулемет, Марбруновский мотор, заставляя их лететь вперед, по твердому шоссе, миля за милей, словно выпущенный снаряд!..
Но вот они начали настигать конкуррентов второй группы.
Облако пыли мчалось вдоль линии шоссе, плотное и тяжелое, застревая в вершинах деревьев, принимая огненнокрасный оттенок под палящими лучами солнца. Пьер постепенно все более развивал свою скорость, потому что, собственно, лишь теперь дело начинало идти в серьез. Перед ним летела стая машин известнейших марок, управляемых шофферами мировой известности. А сзади гналась куча не менее ожесточенных конкурентов, готовых пожертвовать целостью своих рук и ног и даже жизнью, чтобы только установить рекорд, чтобы победить!
Но один за другим, эти торпедообразные автомобили оставались позади, — теперь, когда его машина могла развернуть всю свою мощность. Раз за разом он замечал перед собою новое облако пыли, приближался к нему, погружался в него, ощущал себя секунды на две оглохшим и ослепшим под душем песку и мелкого щебня, — затем Марбруновская машина пролетала мимо с своеобразным жужжанием «ссссвсссс!», занимала ведущее положение и предоставляла обойденному глотать пыль.
Приблизительно в половине гонки Пьер заметил Эсти, который, со своим новым Гомоном, был нумером первым в своей группе. Пьер стиснул молча зубы, ибо он знал Эсти и его приемы: не было такого трюка, на который он не пустился бы, когда положение становилось затруднительным.
С бешеной быстротой мчались обе машины вперед.
Телеграфные столбы мелькали мимо, словно жерди частокола.
А там, впереди, метрах в ста перед Пьером, где шоссе делало загиб, в вихре пыли — летела машина Эсти.
Но Пьер перевел ход на максимальную скорость. На одно мгновение он упустил из виду состояние дороги. И в ближайший момент исчез в водовороте, где в очки его хлестало словно крупным градом, а кожу на лице кололо словно иголками.
Жан почувствовал, словно у него с лица содрало всю кожу. За наглазниками его утомленные чтением глаза моргали и слезились. Он не видел ничего впереди даже на метр расстояния. Но его барабанным перепонкам громовое гудение его цилиндров свидетельствовало о максимальной скорости хода, — при которой ошибка на дюйм обозначала крушение, увечье, смерть!
Внезапно он ощутил горячее дыхание передней машины. Грохот чужого мотора врезался в слух. Где-то там, впереди, в этом головокружительном хаосе, летел вперед Эсти, недоступный глазу. Жан прижал обе свои ладони к лицу, чтобы защитить его. Быстрым броском метнулась влево машина, так что его едва не выбросило.
Еще один момент безумных скачков и толчков. Затем вновь бросок в сторону, на более ровную дорогу. И внезапно воздух кругом прояснился, шум утих, — далеко во все стороны разостлались поле и дорога под ослепительным сиянием солнца.
Пьер пожал плечами.
Жан злорадно улыбнулся: он понял тотчас же, что Эсти намеренно заманил их на более рыхлый щебень вдоль края, дороги, где менее опытный шоффер рисковал своей жизнью. И этот мошенник маневрировал так ловко, что они даже не могли заявить протеста!
IV.
Несколько минут спустя, Пьер достиг крайних домов в Лерм. Протянутые поперек шоссе плакаты извещали, что здесь находится контроль. Его карточка была проштемпелевана, он узнал, что только Деместр и двое других находятся впереди него, — и отправился продолжать гонку.
Почти сейчас же за ним прибыл Эсти. Он соскочил со своей машины, вбежал в находившийся тут же маленький кабачок, прошел к телефону — и через минуту был уже соединен с ближайшей из тех летучих мастерских, которые его фирма раскинула в разных местах вдоль всей дороги. Он сообщил им, что Марбрун идет впереди — и дал приказ, чтобы все следующие вспомогательные станции были уведомлены об этом по телеграфу, для сообщения о том Деместру.
Это известие было получено бельгийцем в пункте, отстоявшем миль за двадцать впереди. Ему пришлось завернуть в починочную мастерскую, с текущим баком, который нужно было запаять, и одним сожженным цилиндром, заменить или поправить который нечего было и думать.
Еще в то время, как машина Деместра ждала, пока пара механиков лихорадочно возилась около нее, с последней, только что пройденной станции было получено известие, что две другие машины, которые вели гонку, вышли из состязания, получив серьезные повреждения при столкновении. Оставался лишь один конкуррент позади: Пьер Марбрун.
Бак бельгийца был кое-как приведен в порядок, — когда внезапно его осенила одна идея.
В один момент питательный насос пополнил его запас бензина. — и он потребовал еще несколько бидонов дополнительно, на случай, если запаянное место сдаст. Бидоны тотчас же прикрепили позади. «Готово!» и он унесся вперед. Прекрасно зная местность, он уже составил свой стратегический план. Он следовал предписанным путем — где, невдалеке от места его остановки, дорога круто огибала лес. и затем подымалась в гору, ведя к высокой дамбе, по которой шоссе было проложено через реку Альв. В этом месте, как раз перед мостом, он внезапно остановился, сказав, что с мотором, по его мнению, что-то неладно: надо его пересмотреть! Не успел механик приступить к работе, как Деместр положил ему на плечо руку:
— «Предоставьте это мне, Франсуа!», — сказал он: — «А вы сейчас же-ка назад, туда, где дорога поворачивает к лесу. Ведь это Эсти сзади нас идет. Стерегите его появление. Но только ровно пять минут, пока я управлюсь здесь — и затем возвращайтесь»!
Механик отправился бегом на указанное место. Бельгиец быстро изготовил свою машину к отправлению, затем соскочил с нее, забрал свои три запасных бидона с бензином и отнес их назад., метров на пятьдесят по дороге, поставив их как раз по середине дамбы. Он отвинтил пробки, окинув еще раз мысленным взглядом всю ситуацию: Нет! Один цилиндр — капут, — это значит, что мощность его машины уменьшилась на одну пятую. При таких условиях, несомненно, Марбрун выиграет. А этого ни в каком случае не должно было допустить! Итак…
Он поднял голову: правильно, он различил шум машины своего противника, там, внизу, — в лесу!
И по всей дороге, куда ни посмотри — ни души!
— Прекрасно!..
Одним толчком ноги он опрокинул три тяжелых бидона. Бесцветная жидкость разлилась поперек всего шоссе — образовав на дороге, где пыли было на целый дюйм, — большую, черно-серую лужу.
И когда он, спустя минуту, услышал, что противники его подходили уже к завороту из леса, — он чиркнул спичку и швырнул ее на край большой, темной лужи. С ревом взметнулся высоко в воздух столб пламени.
Внизу, на подымавшейся вверх дуге дороги, показались Пьер и Жан.
Полным ходом, с гремящим мотором, они вынеслись на дорогу — и испустили крик ужаса, увидев огненную стену, преграждавшую им путь. Они были слишком близко от нее. чтобы успеть остановиться, она тянулась поперек всей дамбы, края которой сулили верную смерть при всякой попытке поворота. Опаснее всего было замедлить ход, потому что в таком случае они сгорели бы.
— «Насквозь!» — крикнул Пьер. — «Машина позади огня!» — прорычал Жан.
Пьеру удалось заставить свою машину взять немного влево, откуда шел ветер, таким приемом он мог надеяться обогнуть автомобиль, если бы лаже он стоял посередине дороги.
Жан, словно в полусне, схватил банку с вазелином, снял крышку, захватил полными пригоршнями мазь и обмазал густым слоем лицо брата до самых очков, свое же собственное уткнул ему в спину.
Бешеною скоростью летели они вперед. Вот в лицо им пахнул дьявольский жар. Через секунду они были в середине огня. Огонь спереди и сзади, сверху и с боков, огонь везде, словно в преисподней.
Но вот они пролетели, — и Пьер убавил ход, чтобы дать брату возможность погасить искры, затлевшиеся на их платье. Лицо Жана было страшно опалено, левый глаз был черен, словно уголь. И все же он подмигнул весело одним, взглянув назад: там в неистовстве бесновался Деместр около своей машины, которая стояла в огне. Поврежденный бак дал снова течь, вдоль, шоссе натекла как бы дорожка бензина и воспламенилась от устроенного им костра!
_____
В рекордное время Пьер и Жан влетели в Бордо, приветствуемые ликованием публики.
И гордость Пьера одержанною им нелегкою ценою победою возросла до степени блаженной, розовой надежды, когда он увидел Сюзанну Лаллеман, которая так и сияла в тот момент, когда мэр собственноручно прикреплял к его груди почетную награду.
ОСТРОВ СИРЕН
Рассказ М. Коргановой
Было так ясно, что неба и моря нельзя было отличить. Все сливалось в одной нескончаемой, темно-голубой дали. Ни ветерка, ни облачка. Доносился заглушенный рокот волн, веселые крики детей на пляже. Было спокойно, слишком спокойно. Однообразие этой эмалевой глади раздражало меня. Я стоял у окна виллы, и пряный запах магнолий ударял мне в нос. Тщетно старался я заглушить его, дымя папиросой; это не удавалось. Голуби кружились над садом, нежно гулькая. Яркие бабочки садились на крупные махровые розы, образующие живую изгородь. Мальчик лет трех, с ослепительно-рыжеватыми локонами, копался в песке, под моим окном. Я не поэт, и вся эта поэтическая идиллия действовала мне на нервы. Я отбросил папироску, измеряя большими шагами комнату, и вдруг блестящая идея пришла мне в голову. В одно мгновение я переменил белый, полотняный костюм на защитного цвета парусиновые бриджи; на смену желтым туфлям с острым носком явились ботфорты и ботинки, кожаная фуражка осенила голову^ и с непромокаемым плащом под мышкой, с кодаком через плечо, я промчался мимо удивленных дачниц, впрыгнул в лодку, и через пять минут благополучно выплыл в открытое море. «Уф!» облегченно вздохнул я и, достав табак, стал набивать трубку. Было дивно.
Берег уходил назад и только можно было различить громоотвод электрической станции, и антены радио-телеграфа. И чем меньше становились они, тем сильнее охватывало меня чувство удовлетворения.
Я плыл к острову Сирен, лежащему неособенно далеко и названному так чьей-то странной фантазией, так как я ни разу не видел там ничего, кроме сухих водорослей и серых чаек. Среди высоких голых скал, в ветрянную погоду слышались чьи-то стоны, раздавался дикий вой. Вообще мрачный ландшафт нагонял жуть, и остров дачниками посещался редко и неохотно. Зато холили слухи, что контрабандисты далеко не избегают его, и часто скрываются там. Говорили также, что одно время там имела притон какая-то разбойничья шайка. Всем этим слухам я не придавал никакого значения, тем более что большей частью они исходили из женских уст. Да и мужчины курорта были не лучше, совершенно обабившись среди женского общества. Я решил сфотографировать почти неприступные скалы острова Сирен, живописные своей мрачной красотой и ореолом таинственности, окружающим их. Я скоро был у цели своего плавания. Они особенно резко и ярко вырисовывались на фоне безоблачного неба. Несколько чаек кружилось над ними. Глухо ударяли волны, откатывались, и вновь приползая, униженно лизали серую, гладкую поверхность. Лодка причалила. Я выпрыгнул на берег, привязал ее к выступу, и по природным грубо-высеченным ветром ступенькам начал взбираться наверх.
Полной грудью вбирал воздух, пропитанный запахом гниющих водорослей и соленой горечью моря. Останавливался то здесь, то там, запечатлевая щелчком аппарата понравившиеся мне места. А их попадалось не мало среди этих суровых скал, нависших над морем. «Моя коллекция будет пополнена», думал я, с увлечением меняя пленку за пленкой.
«Хорошо, что пришла в голову мысль удрать из этого приторного уголка. Вечные кисло — сладкие физиономии женщин, за которыми, как собаченки несущие поноску, следуют мужчины с зонтиками, простынями и романами в желтых обложках. Гримасы, когда имеешь неосторожность закурить папиросу в их присутствии, не говоря уж о том, что будет, если дым попадет им в лицо. Тенис с сухопарыми, рыжими мисс, как только спадает жара, и когда так тянет прокатиться куда-нибудь на велосипеде. А все остальное время выносить присутствие всей этой своры детей, которая теребит тебя за пиджак, мнет тебе панталоны, и портит шляпу под благосклонными взглядами мамаш. И приходится нежно улыбаться, и называть их дорогими и милыми, когда так и хочется собрать их всех в охапку и бросить в море. Пусть там кричат себе на здоровье».
Мои размышления были прерваны шумом скатившихся камней. Я поднял голову, обернулся… Руки мои разжались. и, стуча о камни, мой кодак покатился по склону, унося за собой всю коллекцию сделанных снимков. Губы открылись сами собой, и дикий крик, крик ужаса попавшего в ловушку зверя, раздался в тишине этого солнечного, ослепительного дня. Передо мной стояло какое-то странное существо, человек, вся голова которого была покрыта шлемом. На лицо была надета маска, сквозь отверстия которой горели мрачным огнем темно-серые глаза. В поднятой руке он держал револьвер, устремленный прямо на меня, и медленно подвигался вперед. Второй крик вырвался у меня из груди. Я был безоружен. «Шайка разбойников!» промелькнуло у меня в голове, и отчаянным прыжком, рискуя остаться там на веки, я перескочил через скалу на другую, и побежал. Я бежал как никогда в жизни, перескакивая через трещины, скользя вдоль скал, увлекая за собой камни, которые грозили сломить мне голову. Я взлетал на самые крутые вершины, катился под гору, не чувствуя боли раздираемого камня ми тела. «Лишь бы достичь лодки? Тогда — спасение», мелькало у меня в голове. И вдруг завертелась нелепая но неотвязчивая мысль: «В первый раз в жизни женщины оказались правы. О, чтоб их!».. Скатывались камни, рвалась на части моя рубаха. Дыханье прерывалось, силы истощались. С минуты на минуту я мог упасть. А он не отставал. Я слышал за собой его свистящее дыхание. Он повторял за мной все мои головокружительные прыжки, на которые меня толкали ужас и отчаяние. Расстояние между нами все уменьшалось, а до лодки было еще далеко. Я сделал последнее усилие. Но ноги подкашивались, голова отказывалась работать. «Остановитесь, чорт вас дери!» — донесся хриплый голос. «Остановитесь, а то…» Но я и так не мог уж более. Зловещие глаза впились в мои, две сильных руки обхватили меня. Я был во власти злодея С легкостью, как будто я был перышком без веса, он вбежал со мной на вершину. Это была воистину замечательная по своей красоте скала, дальше и выше всех выдававшаяся над морем. С громким, торжествующим криком, разбойник поднял меня на воздух, завертел, и размахнулся над пучиной. «Конец!» подумал я. Все закружилось и поплыло перед глазами. Я потерял сознание.
Я катился под гору, не чувствуя боли раздираемого тела…
…………………..
Когда я очнулся, солнце было очень низко. Я лежал на той же знаменитой скале, на чьем-то теплом пальто. Рядом со мной стояла бутылка рома. На груди у меня была прикреплена бумага. Я отцепил ее и. мигая глазами от удивления, прочел: «Многоуважаемый господин! Мы очень извиняемся за причиненное вам беспокойство. Но войдите в наше положение: нам необходимо как можно больше реальности в картинах. Прорепетированная несколько раз на острове Сирен сцена преследования английского лорда Черной маской никуда не годилась. Мы причалили сегодня для репетиции. Вы были слишком заняты фотографией и не заметили нас. План созрел в одну минуту. Фильма получилась идеальная! Готовится небывалый успех!!! У нас не было времени ждать, пока вы очнетесь). (Да и настроение у вас по всей вероятности, было-бы не из самых любезных). В правом кармане пальто вы найдете чек на тысячу долларов — честно заработанная вами плата, и возмещение за убыток сломанного кодака, а также и почетный билет во все кинематографы. Приходите посмотреть на себя в «Острове Черной Маски». Не пожалеете! Конкуренция устранена! Одна реальность, воплощенная жизнь. Небывалый успех!
Благодарная вам Дирекция Синематографическвх фильм Сине-Триумф».
ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА ФИПКИНСА
Рассказ Коутс Брисбэн
С английского пер. М. Д.
Иллюстрации М. Я. Мизернюка
Теперь Фипкинс говорит об этом невероятном случае, как о сновидении или галлюцинации. Но я, слышавший расказ сейчас-же после происшествия, могу уверить вас, что в то время у него не было ни малейшего сомнения в его действительности. Ведь у него были вещественные доказательства, которые мне, по крайней мере, показались весьма убедительными. Однако, лучше послушайте сами эту историю в том виде, в каком он сам мне ее рассказал; постараюсь передать ее как можно точнее, со всеми прикрасами и комментариями — даже нравоучительными рассуждениями.
Фипкинс, надо вам сказать — старый лысый хрен. У него агентство в одном из дворов близ улицы Флит. Не назову точно улицы, ни укажу его специальности; скажу только, что Фипкинс агент по продаже предмета, употребляемого в печатном деле. Фирма была основана его отцом и дело шло, повидимому, автоматически, — а то вряд ли Фипкинс мог бы извлечь из него большой доход.
Так как и у меня агентство в том же дворе, я имею неизмеримое удовольствие лицезреть Фипкинса, приходящего ежедневно в 9 ч. 30 м. утра, в свою контору.
Он носит сюртук прекрасного покроя и цилиндр. Этот головной убор, ныне почти вышедший из употребления в коммерческом мире, а также некоторая точно окоченелая прямота походки, вызванная изрядным брюшком — выделяет его из толпы. Чтобы дать вам более полное представление о фигуре мистера Фипкинса, скажу, что вряд ли за последние годы он видел собственные ноги, — разве только в постели или в ванне, да и то лишь при счастливой случайности.
М-р Фипкинс всегда был изысканно одет…
В то время наше знакомство было только шапочным: раза два мы встречались в ближайшем ресторане. Откровенно говоря, Фипкинс был не из приятных собеседников. Он считал себя философом: начитался Канта и Гегеля, Спенсера и Ницше — и даже сражался с Эйнштейном и был им побежден.
Все это, несомненно, очень похвально, и иногда служило приятным разнообразием после обычных будничных разговоров с печатниками. Но как главная тема для бесед за столом, — благодарю покорно! В десять минут можно было вполне насытиться этим. — Но довольно болтовни, перейдем к делу.
Был один из тех редких прекрасных апрельских дней, когда хочется дышать свежим воздухом, а не сидеть прикованным к письменному столу и иметь перед глазами в качестве пейзажа узкий двор и старую кирпичную стену. Я пришел в контору в 9 ч. 10 м., дал своему штату, состоящему из одного мальчика, бумаги для регистрации и уселся за письменный стол просматривать почту. Писем было немного, и к половине десятого я уже все прочел. Уставив взор на противоположную стену дома, я старался сосредоточить свои мысли на маленькой кредитной операции.
Обыкновенно такая поза располагала меня к мышлению, но на сей раз кредитные операции сразу вылетели из моей головы. Я остолбенел от изумления. В стене внезапно образовалась щель; казалось, кирпичи стали прозрачными. Сквозь них я ясно увидал залитую солнцем поляну, поросшую травой и терновником и окруженную крупным кустарником, а позади виднелся густой лес, состоявший из гигантских деревьев.
Видение длилось не более секунды. Оно блеснуло и исчезло. Потрясенный, я протирал глаза и раздумывал, не обратиться ли мне к окулисту или к невропатологу. В эту минуту показался Фипкинс. Сверкающий цилиндр, сюртук — чудо портняжного искусства, жемчужно-серые гетры на ослепительных ботинках, — словом, картинка из модного журнала, если бы не некоторый недостаток стройности в фигуре, о котором я уже упоминал.
Как раз против моего окна он остановился, уставился в стену, сделал неожиданный шаг вперед, так что должен был сильно ушибиться, — и исчез. Вот и все.
Между тем, стена стояла на своем месте, такая же, как всегда. Я схватился за голову. Я укусил свой палец. Я повернулся к Генри, — да, он был здесь, вполне реальный, и делал вид, что очень занят регистрированием бумаг. Убедившись таким образом, что я не сплю, я встал и вышел во двор.
Я. стал на то самое место, на котором в последнюю минуту видел Фипкинса. Каменные плитки, на которых я стоял, не думали шататься. Я провел рукою по поверхности стены. Цемент между кирпичами слегка осыпался, но, тем не менее, постройка была вполне солидной.
Я отвернулся, уверенный, что был жертвой галлюцинации, увидел, как Генри отскочил от окна, в которое следил за моим странным поведением, и только что хотел войти в контору, как услышал позади себя громкий вздох и увидел… Фипкинса.
Но вместо прежнего изящного, щеголеватого Фипкинса, передо мной стояло невероятно растрепанное и оборванное существо. Ослепительный цилиндр превратился в смятый, бесформенный предмет, утративший половину ободка и весь свой блеск. Жемчужно-серые гетры исчезли. Пальцы ноги вылезали из дырявого ботинка, одна штанина была оторвана от самого колена. Рубашка и остатки великолепного сюртука были грязны, точно он вылез из канализационной трубы, а на плечи было накинуто одеяние, которое я принял сперва за меховой коврик. Взамен аккуратно сложенного зонтика он держал в руке короткую дубинку с каменной головкой. Вообще это был совсем иной Фипкинс, ничуть не похожий на того, каким он был несколько минут тому назад.
Вместо прежнего щеголя Фипкинса передо мной стояло оборванное и растрепанное существо.
Я был до того ошеломлен, что не мог даже выразить своего удивления, и только глазел на него с раскрытым ртом. Он схватил меня за рукав.
— Это вы, Смит? — произнес он с усилием, точно не веря своим глазам. — И все это… — Он окинул взглядом двор и поспешно юркнул в мою дверь. — Впустите меня к себе. Я не хочу, чтобы мой приказчик увидел меня в таком состоянии. — Он тяжело и хрипло дышал. — Я пережил ужасные три часа.
Он вбежал в мою контору. Предоставляю вам судить об изумлении Генри при его появлении. Мальчик стоял с разинутым ртом и с глазами, готовыми выскочить из орбит. Я запер дверь и поставил ширму, защищающую часть комнаты от любопытных глаз случайных посетителей.
Я усадил Фипкинса в кресло, достал из шкафа бутылку виски, хранившуюся там для… гм — на случай внезапного заболевания какого-нибудь клиента, налил ему изрядную дозу и с удовлетворением заметил, что это его ободрило. Он сжал ручки кресла, в упор посмотрел на меня, на Генри, переставшего даже притворяться,‘что занят работой, и снова взглянул на меня.
— Эйнштейн прав. И все эти остальные ученые, толкующие о четвертом измерении, тоже правы. Иначе быть не может. Это единственное объяснение.
— Послушайте, Фипкинс, дружище, у вас было какое-то ужасное потрясение, это видно, — сказал я успокоительным тоном. — Но вы что-то там путаете. Вы ведь уходили всего на каких-нибудь три минуты. Я видел, как вы вошли во двор, видел, как вы остановились, вон там, — и вдруг исчезли. Взгляните на часы. Вы вошли во двор в 9 ч. 25 м., как и всегда, а теперь только 9 ч. 41 м.
— Говорю вам, я пробыл там три часа, — настаивал он.
Я указал на часы. С минуту он был озадачен, затем слабо улыбнулся.
— Ничего не значит. Время — только одна форма движения. Я находился в другой плоскости, где измерение его иное. Вот и все. Пожалуй, я сумею объяснить вам. Допустим…
— Сперва лучше расскажите, что с вами случилось, — прервал я его — О теории мы поговорим после. — Кое что я видел сам, хотя только на мгновение: там, в стене появилась щель, и по ту сторону я заметил кусты и деревья. Это действительно показалось мне вполне реальным, но…
— Как раз то же самое и я увидел, — возбужденно воскликнул он. — Сначала я подумал, что это какой-нибудь рекламный трюк. В стене была дыра, и я прошел. Так просто прошел, прошел сквозь стену. Вы мне не верите?
— Сегодня я готов всему поверить. Да, кроме того, я же сам видел вас, — ответил я. — Ну, а затем?
— У меня слегка закружилась голова. Ощущение было такое, как при неожиданно быстром опускании лифта. На мгновение я был ошеломлен, и все вокруг точно покрылось туманом. Я протянул руку, чтобы опереться о стену, — рука прикоснулась к чему то шероховатому. Когда в глазах просветлело, я увидел себя стоящим на траве и ухватившимся рукой за ствол большого дерева. Представьте себе мое удивление! Я ведь знал, что во дворе нет ни одного дерева, а близ улицы Флит нет никакой открытой местности. Откровенно говоря, я здорово испугался. Я обернулся, чтобы вернуться сквозь стену, но она исчезла. Была только поляна, покрытая травой, а за ней лесная чаща. Из-за кустов пара, глаз следила за мной. Это был волк, огромный волк, какого я никогда не видывал в зоологическом саду. Он вышел крадучись, за ним последовало еще два. Они бросились прямо ко мне. Я говорил себе, что все это воображение, но когда до меня донесся запах этих зверей, я убедился, что опасность вполне реальна. Когда-то в детстве я читал историю о быке, который испугался зонтика. Я раскрыл свой и стал махать им, и, к моему великому облегчению, волки повернулись и убежали назад в кусты.
— Но я сознавал, что передышка будет непродолжительной. Я улавливал их беспокойные движения. Затем я увидел, как один направился влево, а другой вправо: очевидно, они хотели подойти ко мне с двух сторон. Оставаться на месте было опасно. Я осмотрелся кругом, ища убежища, но нигде не видно было ни одного строения.
— Дерево, под которым я стоял, было слишком толстым, чтобы я мог взобраться на него, но на небольшом расстоянии я заметил другое, потоньше, ветви которого спускались почти до земли. Громко крича и размахивая зонтом, я пустился к нему.
— Мое бегство ободрило волков. Не успел я добраться до дерева, как они уже были близко от меня. Я остановился и снова стал махать зонтиком, но на этот раз они отступили недалеко. Подняв большой камень, я швырнул его изо всей силы и, к счастью, попал в ближайшего волка. Они подались назад, и я благополучно добрался до дерева и влез на него.
— Я находился на высоте около шести футов, когда волки с воем напали на меня. Первый подпрыгнул и схватил меня за штанину; пасть его коснулась моей ноги, но зубы не проникли в тело. На мгновение зверь повис, затем штанина оборвалась, и он упал; я, тем временем, вскарабкался выше.
Волк повис, затем штанина оборвалась…
— На высоте около двенадцати футов я устроился в разветвлении, закрыл зонт, изрядно мешавший мне при подъеме, и стал обдумывать свое положение. Волки, повидимому, сделали то же самое, они уселись в кружок, точно обсуждая, как бы меня схватить.
— Я находился в состоянии полнейшего смятения. Да и неудивительно! Подумайте только, ведь я был перенесен из самого сердца цивилизации в среду абсолютного варварства, и притом безо всякой вины с моей стороны.
— Я осмотрелся вокруг. На север от меня лежали холмы, совсем близко, на юг — река, на восток — болотистое место, на запад и юго-запад — снова холмы. Очертание местности было знакомо мне. Я вспомнил рельефную карту Лондона и его окрестностей, которую недавно изучал. Сомнения быть не могло: вся эта область, окружавшая меня, была областью, на которой построен Лондон.
— Так могло быть три или четыре тысячи лет тому назад, — рассуждал я сам с собою, и вдруг меня поразила ужасная мысль, что все это и происходит несколько тысяч лет тому назад.
— Но… — начал я.
Фипкинс нетерпеливо махнул рукой. — Право же, это единственное объяснение, — сказал он. Подумайте сами. Мы говорим обыкновенно о трех измерениях — длине, ширине и высоте, и совершенно не принимаем во внимание время. Предположим, что пуля, лежащая в дуле винтовки, имеет один дюйм в длину и летит в первую секунду после выстрела со скоростью трех тысяч футов. Ясно, что пролетая любую точку пространства, она будет длиннее одного дюйма, ибо в любую частицу секунды она занимает площадь большую дюйма. Если мы назовем эту частицу 1/2000-ной секунды (протяжение времени, недоступное человеческому уму), то пуля будет длиною в один фут. Таким же образом, та же пуля, летя со скоростью тысячи пятисот футов в секунду, будет в тот же промежуток времени иметь шесть дюймов в длину. Ясно ли я выражаюсь?
Я смутно понимал, что в этом рассуждении есть какой то ложный вывод, но, горя нетерпением услышать дальнейшее о волках и других перепитиях этой истории, я только кивнул головой.
— Итак, наша пуля, находясь в движении, должна быть длиннее одного дюйма. Мы существуем в такой плоскости, где время должно рассматриваться, как расстояние. Под словом «время» мы подразумеваем непрерывное движение вперед. Мы не можем с точностью говорить о настоящем мгновении, ибо мгновение прошло, прежде чем мы успеем формулировать мысль о нем. Мы также не можем определить скорости его движения, хотя мы и приняли условный способ, основанный на движении земли, способ, вполне пригодный для практических целей, но и только.
— Следовательно, — я только высказываю предположение, — я проскользнул через трещину во вселенной, если можно так выразиться, в другую плоскость, где время имеет другую скорость движения; точно также, как если бы путешественник перешел из поезда, идущего со скоростью пятидесяти верст в час, в поезд, движущийся со скоростью двадцати пяти верст в час. Я предполагаю, что вступил в плоскость, где время отстало на четыре или пять тысяч лет от нашего. Понимаете?
— В данную минуту не хочу и пытаться понять. Расскажите же, что случилось с вами дальше, а вопрос о времени и местности мы обсудим после.
— Говорить о местности незачем. Дерево, на котором я нашел себе приют, стояло приблизительно на двести ярдов к западу от нас, скажем, у подножия Фэттер Лэн. Сидя на высоте двенадцати футов от земли, я думал обо всем этом и оплакивал свою несчастную судьбу. Я считал себя погибшим. Быть может, если бы я мог добраться до той точки, где вступил в этот юный мир, мне удалось бы возвратиться в мой век. Но подо мною стояли голодные волки, а я уже убедился, что их скорость передвижения значительно превосходит мою, так что мне ничего не оставалось делать, как сидеть на месте, пока они не уйдут или я не упаду прямо на них.
— Тут я вспомнил, что у человека есть защита против этих зверей, — огонь. Дерево, на котором я сидел, было чем то вроде сосны или ели и очень смолисто. Взобравшись повыше, я нарвал веток и свил из них факел. Сообразив, что при близком столкновении со зверьми мне полезно будет иметь запас огня, я не удовольствовался этим и, потеряв чуть ли не целый час, карабкаясь по сучьям, наделал себе полдюжины факелов, из которых каждый мог гореть по меньшей мере десять минут. Затем я приготовился спуститься. К этому времени я пришел в такое состояние духа, что был способен на все. То же, я думаю, было с волками: они следили за моими действиями с величайшим интересом, время от времени испуская нетерпеливый вой.
Но едва я спустился на фут или два, как они отступили. Я не верил своим глазам. Но нет, они, действительно, удирали по направлению к соседней чаще.
— Вот так то лучше, — подумал я. — Это трусливые звери и….
— Но тут мои размышления прервались, и я убедился, что они основаны на недоразумении. Волки удирали не от меня, как я гордо вообразил, а от чего то куда более страшного: от огромного зверя, покрытого рыжей с черными полосками шкурой. Из пасти его выдавались два ужасных изогнутых клыка, длиною не менее шести дюймов.
— Ух! — прервал Генри, весь превратившийся в слух, — да это был тигр с мечеобразными клыками! Я читал о нем в книжке, и — там была картинка…
— Думаю, вы совершенно правы, мой друг, — снисходительно сказал Фипкинс. — Я также видел изображение этого зверя, но, поверьте мне, никакая картина не могла бы дать правильного представления о страшном оригинале. Вряд ли я преувеличу, если скажу, что длиною он был, от морды до кончика хвоста, не менее двадцати футов.
Его сверкающие зеленые глаза были устремлены на меня и с диким ревом он понесся прямо к дереву, поднялся на задние лапы и содрал несколько футов коры со ствола, на котором я так непрочно держался.
Дерево покачнулось. Я был убежден, что чудовищу, при его невероятной силе, удастся сломать дерево или сбросить меня с него. Обхватив ногами ствол, я вынул спичечницу, к счастью оказавшуюся полной, зажег спичку и поднес ее к факелу. Мелкие ветки сразу вспыхнули, и весь пучек ярко запылал. Наклонясь вперед, я бросил его в тигра. Он упал на длинную шерсть, торчавшую вокруг его шеи, и она сразу воспламенилась.
Результат получился чрезвычайно удачный. Оглушительное рычание сменилось болезненным воем. Зверь опустился на все четыре лапы, и, когда я поспешно зажег второй факел и швырнул его прямо в морду, он с пылающей шерстью понесся к той самой чаще, где раньше скрылись волки. Я увидел, как последние выбежали с другой стороны, и через минуту чудовище помчалось на всех парах по направлению к вокзалу на улице Фаррингдон, или, выражаясь точнее, туда, где через несколько тысяч лет этот вокзал должен был стоять.
Я не терял ни секунды. Мое место мне надоело. Заметив, что волки имеют намерение обойти кругом и вернуться к прежнему прикрытию, я переменил свое первое решение добраться до той точки, где я проник в этот старый мир, и, поспешно спустившись, побежал на запад.
Мне пришло в голову, что близ реки я, может быть, найду людей. Когда то я слыхал, что во время раскопок близ Темпля найдены были остатки доисторической деревни, построенной на сваях. Я решил разыскать каких-нибудь первобытных обитателей этого примитивного мира, добиться, чтоб они проводили меня к месту моего появления, а там попытаться проскользнуть в свой век.
— Неужели вы решились бы притти вместе с ними? Если бы они…
— О, полиция позаботилась бы о них, — поспешно возразил он.
Я рассмеялся. Сопоставление наших важных, почтенных констеблей с шайкой дикарей каменного века показалось мне очень уж забавным.
— Если вы находите мой рассказ юмористическим, — начал он обиженным тоном.
— Нет, нет. Я только представил себе человека каменного века на скамье подсудимых, обвиняемого в бродяжничестве. Продолжайте, пожалуйста. Что нашли вы у реки?
— То, чего и ожидал: деревню, построенную на сваях посреди реки. Это была своего рода крепость: единственным путем, которым можно было добраться до нее, не промочив ног, был узкий мостик, вернее, доска, положенная так, что ее можно было убрать в любой момент. Около нее сидел человек, повидимому, приставленный для этой цели.
— Я ступал очень тихо, но он все же услышал меня, и когда я вышел из кустов, он смотрел в моем направлении.
На нем была звериная шкура, а в руках он держал лук, к которому, завидя меня, приставил стрелу. Он поднял тревогу, и толпа мужчин и жен-шин выбежала на платформу, на которой стояли хижины. Все они были вооружены копьями, дубинами или каменными топорами, и, сознаюсь, у меня душа ушла в пятки.
— Человек с луком стоял в нерешимости, не зная, стрелять ли, оттянуть ли доску, или принять меня как гостя. Я остановился у мостика, трижды раскрыл и закрыл зонтик в знак приветствия и стал ожидать их решения.
— В эту минуту, когда, — я думаю, — жизнь моя висела на волоске, послышался шум в кустах позади меня и вопль ужаса людей, стоявших на платформе, и, быстро обернувшись, я увидел другого страшного тигра с мечеобразными клыками.
— Это, я думаю, была самка того, которого я попалил. Она, вероятно, выслеживала своего товарища и напала на мой след. Как бы то ни было, она стояла на растоянии двадцати футов от меня, приготовляясь к прыжку, который неизбежно покончил бы со мною.
— Подходя к мостику, я бросил свой тлеющий факел, думая, что он мне больше не понадобится. Он все еще дымился на земле, совсем близко от тигрицы, и был, конечно, недосягаем для меня. Почувствовав, что настал мой последний час, я с отчаяния кинулся к зверю, крича и размахивая зонтиком, как сумашедший.
Я кинулся к зверю, крича и размахивая зонтиком.
— У меня почти не было надежды, что эта безумная выходка спасет меня, но, против ожидания, она оказалась изумительно удачной: с испуганным ревом зверь повернул и удрал. Я преследовал его некоторое время, выкрикивая глупые угрозы, а затем величественно направился к мосту.
— На этот раз не было и намека на сопротивление. С тихим, благоговейным топотом люди отступили, когда я поднялся на платформу. Часовой упал на колени. Я уверен, что дикари приняли меня за какое-то божество. Со снисходительным жестом положил я руку на опущенную голову часового. Тот вздрогнул, и через секунду на меня яростно напали… блохи! Да, на этом субъекте была целая колония их, и часть их, почуя свежую жертву, сейчас же принялась за меня. Ах, проклятие!., я принес одну с собою!
Тут последовал антракт, в течение которого мистер Фипкинс с помощью Генри преследовал и поймал великолепный экземпляр…
— И — странная вещь, — при виде его я почувствовал внезапный страх: если блоха, то отчего же не один из тигров? И как мог бы констэбль, вооруженный одной палочкой, справиться с таким зверем. Уверяю вас, я облегченно вздохнул, когда вспомнил об оружейном магазине неподалеку от нас, в котором, наверное, нашлось бы оружие для борьбы с подобным нашествием.
Дело было сделано. Генри с благоговением положил изуродованный труп блохи в конверт и спрятал его в свой письменный стол. Повидимому, он хотел сохранить ее как драгоценность, как и подобает для блохи, которой по меньшей мере пять тысяч лет. Фипкинс продолжал, задумчиво почесываясь:
— В деревне стояла невообразимая вонь. Думаю, что люди питались преимущественно рыбой, и остатки тут же бросались и гнили. Я чувствовал, что долго оставаться там мне не подсилу, да и кроме того у меня было маленькое дело, с которым я желал поскорее покончить. Впрочем, об этом после.
— Первой моей заботой было объяснить как нибудь этим дикарям, что мне нужен конвой. Они окружали меня, указывая на различные части моей одежды, и шептались между собой. Особенное внимание привлек мой зонт: стоило мне только встряхнуть им, как они задрожали.
— Так мы стояли несколько минут, затем из хижины, стоявшей в центре, вышел старик и приблизился к нам. Это был субъект весьма гнусного вида, разукрашенный перьями и с ожерельем из костей вокруг шеи. Все почтительно отстранились, уступая ему дорогу; я догадался, что это их жрец.
Подойдя к нам, он потребовал, повидимому, объяснения, которое немедленно последовало, сопровождаемое обильной жестикуляцией. Выслушав их, он знаком пригласил меня последовать за ним.
Хижина, в которую он меня ввел, была вся обвешана шкурами. В углу стоял бесформенный чурбан, покрытый вот этой самой шкурой, что сейчас на мне. По одну сторону его стояло копье, по другую — эта каменная дубина; вокруг него висела цепь из костей. По тому благоговению, с которым жрец относился к чурбану, я догадался, что это изображение божества. При моем приближении к чурбану жрец резко отдернул меня, объясняя жестами, что никто кроме него не смеет дотрагиваться до него. Я кивнул головою. У меня не было ни малейшего желания прикасаться к чурбану, мне хотелось только поскорее убраться отсюда.
Я попытался объяснить ему это: помахивая руками, указывал на дорогу, по которой пришел, указывал на оружие в углу, подражал рычанию тигра, — все напрасно; его это только напугало.
Он попятился к двери, и, когда я последовал за ним, захлопнул ее перед моим носом и запер снаружи.
Вернувшись к своему народу, он начал какую то пламенную речь, и так как он говорил руками не меньше, чем языком, я понял ее содержание.
Он убеждал их, что я чужеземец и опасный человек, и потому следует как можно скорее убрать меня.
Речь возымела свое действие, и они с криком ринулись к хижине. Дело было плохо. С минуту я стоял в нерешимости, не зная, что предпринять, но меня осенила мысль: чурбан священен; должно быть, предметы, лежащие на нем также священны. Бросившись к чурбану, я сорвал с него шкуру и ожерелье, надел их на себя, взял копье и дубину и обернулся. Дверь распахнулась и на пороге показался жрец в сопровождении толпы мужчин.
При виде меня, раздался вопль возмущения, но никто не приблизился, и ни одно оружие не поднялось. Мой расчет оказался, очевидно, правильным: присвоив себе священные предметы, я сам сделался священным. Полагаю, что воспользуйся я только моментом, я бы мог наладить какое-нибудь примирение, но тогда я и не подумал об этом. Надо вам сказать, что в порыве самосохранения я пришел в такое исступление, что готов был сразиться с целым полчищем дикарей. Издав свирепый крик, я бросился вперед, они же пустились в бегство, падая и кувыркаясь.
Я сделался священным… Ни одно оружие не поднялось против меня.
В мгновение ока я очутился на мостике. За мною по пятам, размахивая руками и крича, бежал жрец; остальные также неистово вопя, стали преследовать меня, но держались на почтительном расстоянии. Все они были вооружены стрелами, но ни одна стрела не была пущена: думаю, они боялись попасть в священную шкуру. Насколько я мог судить, единственным человеком, способным сразиться со мною, был жрец; несмотря на свой почтенный возраст, он выказывал удивительную ловкость и силу.
Если бы кто-нибудь сказал мне раньше, что я могу мчаться с такой быстротою, я бы не поверил, а между тем я довольно продолжительное время держался впереди этого старого негодяя. Но с каждым шагом я чувствовал, как силы покидают меня. Отсутствие тренировки сказалось. Задыхаясь, страшным усилием воли я сделал огромный скачек вперед, обернулся как вихрь и ринулся на старого мошенника. Он поднял копье, чтобы вонзить его в меня, но я отклонил острие рукояткой этого топора и, раскачав его, со всего размаха ударил им по голове жреца. Послышался глухой треск и жрец свалился замертво. В эту минуту остальные преследователи настигли меня. Я сорвал с себя священное ожерелье и бросил его в толпу. Оно ударило одного прямо в грудь. Он взвыл от страха, повернулся и стал удирать со всех ног, повидимому, опасаясь гнева собратьев за прикосновение к священному предмету. Но последние стояли в полном замешательстве. Вождь их был убит и хотя они и жаждали моей крови, но боялись совершить святотатство, дотронувшись до меня, пока я в священной волчьей шкуре. Думаю, немалую роль в их решении сыграло также проворство, выказанное мною при употреблении священной дубины…
Как бы то ни было, я был уже далеко, когда они снова пустились в погоню за мною. Кажется, им скорее хотелось узнать куда я иду, чтобы иметь возможность в ближайшем будущем осчастливить меня своим вниманием, — чем тут-же меня поймать. Я легко удержался впереди них и скоро добежал до дерева, служившего исходным пунктом моего вступления в старый мир.
Прямо передо мною, точно сквозь матовое стекло, обрисовалась человеческая голова. Я сделал скачек по направлению к ней, почувствовал под рукою что-то компактное……и очутился во дворе, около вас.
Я обернулся и передо мною в последний раз промелькнул тот мир, в котором только-что мне пришлось быть таким неожиданным гостем. Представьте мое изумление: — моему взору представилось все в наклонном положении, точно за то время, что я там провел, та плоскость и эта перестали совпадать. Повезло же мне: — останься я там еще немного, я провалился-бы сквозь трещину во вселенной, чтобы очутиться — нигде…
А теперь позвольте послать вашего мальчика к моему приказчику. Он очень милый парень, но подумает чорт знает что обо мне, если я покажусь ему в таком виде. Если-бы я мог получить другой костюм и шляпу…
Искатель приключений в исчезнувших мирах с отвращением сбросил с себя волчью шкуру, с нежностью посмотрел на дубину, на которой я только теперь заметил зловещее темное пятно, и смущенно обернулся ко мне.
— Генри — олицетворение скромности и будет держать язык за зубами, — сказал я, многозначительно взглянув на Генри.
— Дайте ему записку к вашим домашним и он принесет вам другой костюм. А пока побудьте здесь.
— Прекрасно, — воскликнул он с облегчением и потянулся за бумагой и пером…
…………………..
Вот вам голая, неприкрашенная история приключений Фипкинса в далеком прошлом. Я не пытаюсь объяснить ее, я даже не прошу вас поверить ей. В его собственной попытке найти объяснение путем аналогии с пулей, очевидно, кроется какая-то ошибка, хоть мне и не добраться до нее. Откровенно говоря, у меня кружится голова при мысли о плоскостях с четвертым и пятым измерениями, лежащих рядом с нашим миром, не соприкасаясь с ним. Иногда все это кажется мне абсолютным вздором, но временами вещественные доказательства в виде дубины и грубо выделанной волчьей шкуры, наряду с моим собственным мимолетным видением иного мира, убеждают меня в том, что есть много такого на свете, чего мы не можем еще постигнуть.
Право-же, Фипкинс умнее. Когда все его невероятные усилия разрешить проблему оказались тщетными, он махнул на все рукою и упоминает об инциденте только как о сновидении.
Пусть будет так!
ЖИЗНЬ ИЛИ СМЕРТЬ
Восточная сказка В. Розеншильд-Паулина
Окончив свой обычный доклад, великий визирь Мустафа спросил хана: на какой день он повелит назначить казнь Ахмета.
Предлагая этот вопрос, Мустафа заранее радовался при мысли, что, наконец-то, скоро избавится от своего заклятого врага.
Ахмет был беден и незнатного происхождения, но, благодаря своей смелости и прямоте характера, постоянно разоблачал Мустафу в его мошеннических проделках, за что и был любим народом, и Мустафа опасался, что эти разоблачения могут дойти до хана, которого до сих пор ему удавалось обманывать. Оттого-то он так и возненавидел Ахмета и решился погубить его.
Наконец, при помощи подкупленных лжесвидетелей ему удалось очернить своего врага в глазах хана настолько, что казнь Ахмета казалась неизбежной. Но не даром Абдурахман-хан слыл не только за мудрого, но и за справедливого правителя, и поэтому ответ его был совсем не тот, которого ожидал Мустафа.
— Я долго думал о деле Ахмета, — сказал хан, — улики против него очень серьезны, но твердой уверенности в его вине у меня нет. Поэтому, обдумав это дело, я решил предоставить его на волю Аллаха. Слушай теперь, что я тебе прикажу. Видишь вот эту урну? Завтра, в моем присутствии, ты положишь в нее два свернутых билетика. На одном будет написано: «смерть», на другом — «жизнь».
Затем ты прикажешь привести сюда Ахмета, покроешь урну черным платком, и пусть он вытащит один из этих свернутых билетиков.
На следующий день ты сделаешь то же самое и на третий день то же.
Если он вытащит все три раза, или хотя бы только два раза бумажку с надписью «жизнь», — он будет свободен. Но, если, наоборот, все три, или даже два раза ему попадется «смерть», придется его казнить. Такова значит воля Аллаха!
…Если ему два раза попадется «смерть», придется его казнить.
— О, славный повелитель, — сказал Мустафа, — мудрость твоя светит ярче, чем солнце, а сердце твое чище горного потока, но превыше всего твое милосердие. По бесконечной доброте твоей ты рад был бы изливать свои милости не только, на правых, но и на виновных. Но дозволь мне. несчастному, пресмыкающемуся червяку, сказать, что Ахмет — опасный злодей, и не будет ли благоразумнее, вместо того, чтобы предоставлять дело случаю, прямо казнить его!
— Не рассуждай! — гневно закричал хан, — и делай, что тебе приказано!
Мустафа не смел больше возражать и, скрестив на груди руки, пятясь, вышел вон.
На следующий день, поутру, все было сделано, как приказал хан. В зале собрались все придворные, у дверей стояла стража, а перед креслом, где должен был восседать Абдурахман, была поставлена большая урна, прикрытая черным платком; в урну были положены две свернутых бумажки. На одной было написано «жизнь», а на другой — «смерть». Когда из внутренних покоев вышел хан и занял место на кресле, Мустафа приказал привести Ахмета. Ахмет, несмотря на пребывание в тюрьме, имел бодрый вид и вошел, в сопровождении четырех вооруженных аскеров, уверенным шагом, с высоко поднятой головой.
Мустафа объявил ему решение хана.
Ни один мускул не дрогнул на мужественном лице Ахмета. Он опустил руку под черное покрывало, вынул бумажку и громко прочел: «смерть», потом передал ее Мустафе, который, в свою очередь, отдал бумажку хану. Церемония была окончена, и Ахмета снова увели в темницу.
На следующий день, утром, все повторилось, как и накануне; также стояла урна под черным покрывалом, и также толпились у стен придворные, но чувствовалось более напряженное настроение. В сущности, этот день мог быть решающим: ведь, если бы Ахмет вынул опять «смерть», то это означало бы, что казнь неминуема. Значение этого дня понимал, конечно, и сам Ахмет, но, подобно вчерашнему, он так же смело подошел к урне и так же решительно вынул бумажку. В зале царила мертвая тишина; все затаили дыхание и ждали, что скажет сегодня судьба. Ахмет, вынув билетик, на мгновенье приостановился, но потом развернул его и, прежде чем он успел прочитать содержание, все знали уже, что вышло не «смерть», так невольно просияло его лицо и засверкали его черные глаза. Да, это была «жизнь»!
Но жизнь только сегодня, только до завтрашнего утра, когда в последний раз судьба скажет свое окончательное слово. Насколько были довольны друзья Ахмета, настолько же вытянулись лица у первого министра и его сторонников.
Через час после этого Мустафа сидел уже вместе со своим другом, главным муллой, и, затягиваясь душистым дымом кальяна, говорил об интересовавшем их деле.
— Да, — сказал Мустафа, — этому собаке Ахметке помогает сам шайтан! Сегодня он вытянул «жизнь», но если и завтра ему также повезет, то, ведь, хан его помилует, и мы так и не избавимся от этой собаки!
Мулла только промычал что-то в ответ и сложил руки на своем толстом животе.
— И хуже всего то, — продолжал Мустафа, — что если он не будет казнен, то уже, конечно, не забудет того удовольствия, которое мы ему устроили. Пожалуй, нам и не сдобровать тогда! Нет, так этого оставить нельзя, надо что-нибудь придумать, чтобы отправить его к шайтану!
— Надо, — односложно промычал мулла.
— Конечно, надо, — сказал Мустафа, — но вопрос в том, что сделать? Ведь, хан, ты знаешь, слова своего не изменит и, если проклятый Ахметка вытащит «жизнь», он его помилует.
— Нужно на обеих бумажках написать «смерть» и обе опустить в урну; билетика «жизнь» совсем не надо, — невозмутимо произнес мулла.
— Я и сам об этом думал, и это совсем нетрудно сделать, — сказал Мустафа. — Записки ведь кладу я, и хан ни разу не смотрел, что там написано; ему и в голову не придет проверять билетики! Так, значит, и устроим. Ну, брат, Ахметка, теперь тебе и шайтан не поможет! Можешь распроститься со своей прекрасной головой! Ха, ха. ха! — и все его жирное тело так и заколыхалось от смеха.
В это время вошел слуга и поставил перед собеседниками золоченое блюдо с душистой дыней. Перед тем как войти, услышав, что речь об Ахмете, он притаился за широким ковром, заменявшим дверь, и подслушал весь разговор двух приятелей.
Слуга притаился за широким ковром…
Тотчас же побежал он к своему другу Гассану, брату невесты Ахмета — Фатьмы, и рассказал ему о готовящемся предательстве.
Гассан давно уже делал попытки спасти Ахмета, но они ни к чему не привели, и ему удалось лишь узнать, в какой темнице заключен Ахмет. Это было четвертое окно тюрьмы, считая от угла стены. Поразмыслив немного, он решил, что самое лучшее как-нибудь предупредить Ахмета о готовящемся обмане, а Ахмет, зная эту тайну, уже наверно что-нибудь придумает для своего спасения; если же самому действовать, то, пожалуй, вместо пользы, выйдет один вред, да и самому можно попасться. Но как известить Ахмета? Окно темницы, где он сидит, высоко, небольшого размера, с решеткой; однако, можно попытаться написать сообщение на бумажке, обернуть ею камень и бросить его в окно.
И не откладывая исполнения своего решения, Гассан тотчас же написал на клочке бумажки про готовящееся предательство, обернул этой бумажкой небольшой камень и побежал к тюрьме. Перед тюремной стеной, сверкавшей ослепительно белым светом от лучей полуденного солнца, ходил часовой, задерживаясь в том месте, где здание загибалось и где росло несколько чахлых деревьев, дававших небольшую тень. Гассан выждал, когда часовой подошел к этим деревьям, подбежал к стене, прищурил глаз, изловчился и швырнул камень прямо в четвертое с края окно, затем повернулся и с равнодушным видом, не торопясь, пошел по улице.
— Нельзя здесь ходить! Убирайся прочь! — закричал увидевший его часовой. Гассан объяснил, что не знал об этом и быстро удалился.
Ахмет лежал на соломе в своей камере и машинально глядел на полосу яркого света, проникавшую через маленькое окно, в которой дрожали золотистые пылинки.
Он думал о том, что хорошо бы вытащить завтра «жизнь», выйти из этой душной темницы, жениться на Фатьме и открыть торговлю, для чего у него уже было скоплено немного денег. Он представлял уже себя сидящим в лавке и предлагающим товары покупателям, как вдруг прямо на грудь к нему упал точно с неба свалившийся камешек. Ахмет приподнялся со своего ложа и стал рассматривать камешек и заметил, что он был обернут в бумагу.
Через минуту он уже знал содержание написанного и от радости стал приплясывать на грязном каменном полу тюрьмы.
Ахмет радостно читал записку…
Дело повертывалось хорошо — завтра он заявит хану об обмане, билетики проверят, мошенничество будет обнаружено, и… тут он задумался. А дальше что? Да ровно ничего! В лучшем случае пострадает Мустафа, да вернее всего он сумеет вывернуться, но, как бы ни было, ему-то, Ахмету, от всего этого ничуть не будет легче. Хан велит положить два новых, на этот раз правильно написанных, билетика, и заставит его снова испытывать судьбу; короче говоря, положение ничуть не изменится, и все попрежнему решит судьба!
И Ахметом овладело уныние. Теперь уже ему казалось, что он наверно вытянет «смерть»; он представлял себе, как его поведут на казнь, как он положит голову на плаху, сверкнет острый топор и…
Прощай Фатьма, прощай мечты о счастье, прощай молодость, солнце, зеленые рощи и поля, горы и ручьи, прощай все, что мило и дорого сердцу, что любишь и чем живешь! Все исчезнет вмиг! А дальше что?..
И Ахмет в тяжком раздумьи опустился на пол и в первый раз после заточения горькие слезы потекли из его глаз.
Немного успокоившись, он с унынием оглядел свою темницу. Солнце почти зашло за угол стены, и лишь тоненький луч играл на полу. В свете этого луча он увидел брошенный ему камень и развернутую бумажку.
«А ведь бумажку-то надо уничтожить», подумал он. «А то заметит тюремщик, прочтет написанное, узнает об этом Мустафа и придумает другой подвох; что дальше будет — неизвестно, но уж хорошо и то, что он, Ахмет, знает об обмане, может быть, Аллах и поможет ему что-нибудь придумать. А как же уничтожить бумажку? Да самое лучшее разжевать ее во рту и проглотить, ведь она такая маленькая. И, не долго думая, он скомкал бумажку и проглотил ее. «Что. же, — подумал он, — пожалуй это немногим хуже той пищи, которую нам дают в тюрьме».
Затем он снова уселся на пол, но вдруг через несколько минут вскочил точно ужаленный; лицо его внезапно озарилось радостью, и он пустился в пляс, напевая какую-то веселую песню. Казалось, что проглоченная бумажка повлияла на него, подобно какому-нибудь чудесному лекарству.
На шум прибежал тюремщик и, увидев танцующего и поющего Ахмета, подумал, что заключенный сошел с ума. Но Ахмет успокоил его, объяснив, что просто хотел размять затекшие члены.
Приказав не шуметь, тюремщик ушел и сказал своим товарищам: — Ну, и молодец же этот Ахметка: завтра, может быть, его казнят, а он пляшет и поет!
Наступил, наконец, третий и последний день испытания, в который должна была решиться судьба Ахмета. Зала была переполнена народом: пришли все, кто только имел доступ во дворец. Мустафа не мог скрыть довольной улыбки, сиявшей на его лице.
Как и раньше, Ахмет спокойно подошел к урне, сунул руку под черное покрывало и вытянул билетик. Несколько мгновений он поглядел на него, потом развернул, прочел про себя написанное, и вдруг, неожиданно, не передавая бумажки Мустафе, скомкал ее, положил в рот и быстро начал жевать. Присутствовавшие не сразу сообразили в чем дело. Первым спохватился Мустафа. Он подскочил к Ахмету и закричал:
— Злодей! Что ты сделал! Отдавай сейчас билетик!
— Уж поздно, — отвечал Ахмет, — я проглотил его.
Тогда Мустафа обратился к хану и сказал:
— Великий повелитель! Ты видишь, что этот человек надсмехается над твоей справедливостью и милосердием. Это — самый величайший злодей, которого когда-либо видел мир! Прикажи немедленно отрубить ему голову!
Но Абдурахман жестом остановил его и, подозвав к себе Ахмета, обратился к нему:
— Скажи мне, зачем ты проглотил бумажку?
— Зачем ты проглотил жребий? — спросил хан.
Ахмет упал в ноги к хану.
— Милосердный хан, — сказал он, — да будет прославлено имя твое во-веки, прикажи, как хочешь, наказать меня за мою смелость, но не вели меня казнить. Я знаю, что справедливость твоя сияет ярче, чем солнце над равнинами Туркестана, а слово твое тверже, чем скалы Алай-Дага. Ты сказал, что помилуешь меня, если я не менее двух раз вытащу «жизнь». Вчера Аллах помог мне, но и сегодня он не оставил меня. Сегодня я также вытащил «жизнь»!
— Хорошо, — возразил Абдурахман, — ты говоришь, что вытащил «жизнь», но чем ты можешь доказать это? По необъяснимой причине ты проглотил бумажку, не показав ее никому и теперь мы лишены возможности узнать, что на ней было написано и проверить тебя..
— Великий хан, — сказал Ахмет, — да сохранит Аллах жизнь твою на долгие годы. Не правда-ли, в урну были положены два билетика. На одном было написано «смерть», на другом — «жизнь»?..
— Понимаю! — прервал его хан. — Сейчас мы посмотрим, какой билетик остался в урне; если на нем написано «смерть», то, значит, на том, который ты сегодня вытащил, не могло быть ничего другого, как «жизнь», — лучшего доказательства и не надо.
И с этими словами он сам отдернул черное покрывало, вынул из урны билетик, развернул его и прочел громким и внятным голосом: «смерть», после чего передал бумажку присутствующим, чтобы они могли ознакомиться с ее содержанием. Бумажка стала переходить из рук в руки, и все читали ее, покачивая головами, удивляясь находчивости Ахмета и восхваляя мудрость хана.
Мустафа хотел что-то сказать хану, но тот поглядел на него таким грозным взглядом, что он счел за лучшее скрыться в задних рядах придворных.
— Ты свободен, — сказал Абдурахман Ахмету, — можешь идти. Впрочем, погоди…
— Абдулла! — обратился он к хранителю государственной казны, — выдай ему сто червонцев, они ему пригодятся для поправки его дел, которые, верно, пришли в расстройство за время его заключения. А ты, Ахмет, приходи ко мне завтра утром, я прикажу, чтобы тебя пропустили, мне хочется побеседовать с тобой.
Нужно-ли рассказывать про радость Фатьмы и Гассана, когда они увидели освобожденного Ахмета и узнали о милостях, которыми его осыпал, хан.
Но этим дело не кончилось. После беседы с Ахметом, Абдурахман приблизил его к себе и назначил начальником дворцовой стражи. Ахмет женился на Фатьме и поселился с нею в дворцовых покоях. Гассан также получил должность конюшего, так как очень любил лошадей и знал в них толк. Что же касается Мустафы, то после этого случая он впал в немилость. Вскоре же обнаружилась какая-то его новая проделка, но хан, по своему милосердию, не предал его казни, а только отстранил от должности и сослал в отдаленную область своего государства, где он, впрочем, продолжал заниматься разными темными делами. Старый же мулла, наевшись как-то раз слитком много жирного пилава с бараниной, внезапно умер. Между тем, хан так полюбил Ахмета, что сделал его первым министром, после чего слава Абдурахмана, как мудрого и справедливого правителя, не только укрепилась среди его подданных, но и распространилась далеко за пределы его царства.
КОТОРЫЙ ИЗ ДВУХ? [4])
Р. S. Надеюсь, ты умеешь отличать литературные измышления от действительности и в данном письме разберешься — где измышление и где правда. Все-таки, чтобы ты не в впал в ошибку, укажу, что вымысел здесь вот в чем. Все то, что написано о двойниках — плод так называемого «творческою воображения». На фотографии я снят один, но в двух разных позах. Если тебя заинтересует, то могу впоследствии сообщить, как это делается.
ОТРАЖЕННЫЙ СВЕТ
Рассказ Вас. Левашева
Иллюстрации А. Михайлова
«… солнце!.. Источник всего живого!.. Материальный бог материального мира. И из всех религий дикарей я уважаю солнцепоклонников, по край ней мере их религия логична…
— Кто же тебе мешает? Организуй у нас в Питере культ солнцепоклонников и прими звание верховного жреца.
Оба рассмеялись.
Они сидели в маленькой комнатке, выходящий в переулок. Фасад дома находился не на солнечной стороне и поэтому в комнате было прохладно и полутемно. А стену противоположного дома солнце заливало горячим светом и даже на расстоянии чувствовался зной раскаленного кирпича.
— Все солнце напротив — жаловался хозяин. — И утром и вечером…
— Переезжай напротив.
— Легко сказать. Я привык к своей комнате, да напротив все полно.
— Тогда пусть солнце переезжает к тебе — рассмеялся гость.
Его собеседник остался серьезным. Он помолчал и начал медленно:
— Ты невольно повторил мою мысль. Ты прав: солнце может переехать ко мне.
— Рефлектор?
— Да… Но подвижный, все время подставляющий солнцу свое блестящее лицо. Если ты имеешь минутку времени и терпения, я кое-что тебе покажу. Я и так хотел с тобой поделиться…
Он вынул из стола папку с бумагами и развернул ее.
— Слушай, смотри и… не смейся. Схема такова: три точки: солнце, отражающая поверхность (рефлектор) и твое окно. Из этих трех точек неподвижна одна — мое окно, а солнце и рефлектор подвижны. Какие же движения нужно придать рефлектору? Очевидно движения, соответствующие движению солнца (будем для упрощения говорить о солнце, как о движущейся точке. Значит нужно устроить так, чтобы рефлектор всегда стоял по отношению к моему окну под углом, равным углу падения солнечного луча, в центре рефлектора в данный момент (по закону: угол падения равен углу отражения). Он продолжал и говорил медленно: как бы что-то доказывая: Сколько же движений должен иметь рефлектор? Я думаю, что столько, сколько имеет солнце, а оно имеет одно движение, слагающееся из двух, как и всякая кривая: вверх и в сторону. Кроме того, ежедневно изменяется эта кривая (третье движение). Я ставлю на противоположной стороне слегка вогнутый рефлектор, соразмеряя вогнутость таким образом, чтобы фокус пришелся на полпути, между рефлектором и моим окном. Необходимые движения легко достигаются часовым механизмом. Точности тем легче достигнуть, что солнце величина точная в движении.
— Но тогда ты не можешь смотреть в окно…
— А!., пучек света?.. Я это предвидел. Вот смотри — они подошли к окну. Свет будет падать в особые створки у окна, а оттуда в зеркало на потолке комнаты.
— Но позволь. Это целая уйма зеркал: рефлектор — раз; створки там какие то — два; зеркало на потолке — три. Что это за зеркальный дворец?
— Видишь-ли, друг. Ты, отчасти, прав. Створки и зеркало на потолке — это уже роскошь, но мне хочется достичь чудесного рассеянного света, знаешь, — как жидкое золото. О, я вообще не остановлюсь на этом, мне хочется изобрести такие рефлекторы, чтобы они по желанию освещали самые недостижимые для солнца уголки. Нет больше темных помещений! Значит нет болезней, нет источников заразы, сырости. Везде солнце… побеждающее, великий источник жизни. Ведь это… он вдруг остановился с поднятой рукой и сконфуженно отошел от окна: в пылу разговора он только сейчас заметил, что в окне напротив появилась хорошенькая женская головка, с удивлением рассматривавшая человека, стоящего у окна и усиленно жестикулирующего.
— Пожалуй за сумасшедшего примет.
— Ничего… ничего… каждый изобретатель немного сумасшедший… А она прехорошенькая. Смотри: волосы, как жидкое золото, о котором ты мечтаешь. Ну, а скажи: все эти зеркала ведь дорого стоят?
— Ничего подобного. Я установлю составное зеркало из мелких зеркал, почти осколков, а они стоят гроши. Часть я уже купил.
— А часовой механизм?
— Уже есть. За пять рублей на толчке купил. Механизм, что надо.
— Когда же открытие этого девятого чуда света?
— Я думаю скоро. Ведь ты еще зайдешь. В газетах во всяком случае объявлено не будет: я человек скромный.
— Ну, желаю успеха… Как-нибудь зайду.
— А соседка все смотрит. — … и волосы как расплавленное золото — медленно проговорил хозяин.
Проводив приятеля, он подошел к окну.
Напротив в окне стояла залитая солнцем молодая девушка. Волосы были, действительно, прекрасного золотистого света и коротко острижены. Она перегнулась за окно и они закрыли ей лоб и щеки: она. привычным движением головы откинула их и Блажин (фамилия хозяина) невольно зажмурился — они сверкнули на солнце, как горсть брошенных золотых. Девушка взглянула в окно напротив, улыбнулась и пошла в комнату. Окно чернело в солнечной раме и Блажину показалось, что в глубине комнаты сверкают золотистые волосы.
_____
Блажин был человек увлекающийся, и этим, а также полным отсутствием правильного воспитания, можно объяснить то, что к 32 годам он был настоящим пролетарием, городским интеллигентным пролетарием. В минуты относительного материального благосостояния он жил «под все», а потом бегал, искал заработка и, найдя его, ухитрялся проживать заработок ранее его получения. Благодаря большим знакомствам и покладистому характеру, он без. особого труда находил заработок, но нуждался он всегда, так как, будучи увлекающимся человеком, он, не задумываясь, бросал любое дело, если в эту минуту подвертывалось какое-либо увлечение — будь то азарт, новый человек в его жизни, или какая нибудь идея, почему то показавшаяся ему новой и увлекательной.
Но солнце, музыку и человеческую мысль он любил всегда неизменно.
Мысль о рефлекторе для освещения его маленькой темной комнаты была его очередным увлечением и он решил ее осуществить. Кстати подвернулся заработок и он накупил массу разных зеркал и больших, и маленьких, и осколков. На толкучке он раздобыл старый большой часовой механизм, который привел в порядок, отдав знакомому механику, и после недельной работы разработал конструкцию вращающегося рефлектора, который по его убеждению, вполне достигал цели.
Сильно смущало его то обстоятельство, что постановка рефлектора должна была происходить на улице, так сказать публично. Он предвидел любопытные расспросы, насмешки зевак и стыд неудачи (а это он не исключал) и пр. и пр., но он пересилил себя и, набравшись духу, направился в жилтоварищество напротив. Улучив минуту, когда управдом был с кем то на дворе, он обратился к нему.
— Видите ли, я занимаюсь физическими опытами и мне нужно было бы на вашем доме, на высоте третьего, этажа, поставить такой, знаете, солнечный отражатель.
— Какой это отражатель?
Блажин постарался кратко объяснить суть дела.
— Гм… Значит вы нам стену будете портить?
— Совершенно незначительно…
— Так… Ну а сколько вы нам за это заплатите?
Блажин удивленно посмотрел на него: он никак не ожидал этого во проса.
— Ну да… что-ж тут странного. Нам, знаете, дом чинить надо, расходы, а вы, значит, будете, так сказать, эксплоатировать часть стены. Мы с вас возьмем — ну, скажем, по рублю с сажени.
— Да ведь я займу каких-нибудь сажень-полторы.
— Вот и прекрасно — обрадовался управдом — значит полтора рубля, а у нас есть целые квартиры по полтора рубля ходят. Нам нужно везде выколачивать, иначе развалимся. Вы уж, товарищ, не скупитесь, ведь — так сказать — через нас солнце получаете и берем мы недорого.
В хозяйственном азарте управдом уже соображал — нельзя ли, вообще, сдавать в аренду солнечный свет.
Блажину оставалось только согласиться.
Рефлектор, не весь в целом, а пока только отражающий диск, был готов. Он состоял из металлического щита, на котором были укреплены зеркала, образуя один сверкающий слегка вогнутый щит. Нужно было проверить достаточен ли он для освещения всей комнаты. Это можно было сделать легко: стоило в окне напротив укрепить рефлектор, наведя отражение на комнату, но для этого нужно было просить разрешения живущих напротив. Блажину вспомнилась женская фигура и он чувствовал странную робость.
Но нужно было пить чашу до конца и как-то Блажин, с тем же управдомом, стучался в квартиру напротив. Вышла старушка чистенькая, маленькая. Блажин долго объяснял ей сущность его просьбы, а управдом поддакивал и успокаивал старушку и эти успокоения ей, видимо, казались особенно подозрительными.
— Значит вы не надолго окно закроете этим самым зеркалом?
— На двадцать минут, не больше.
— А что такие штуки во всех квартирах будут ставить?
— Еще не скоро, а вообще будут, вероятно.
— Значит опять на квартиру набавят — прошептала старушка и грустно посмотрела на управдома.
Решили притти завтра в десять утра.
_____
Тот, кто ничего не изобретал, кто ничего страстно не желал и не добивался, тот не поймет радостного волнения, которое охватило Блажина в момент, когда, укрепив рефлектор на окне, он вдруг увидел свою комнату ярко освещенной: вот ключи, воткнутые в зеркальный шкаф, вот угол печки. Какое счастье! Он крепко привязал рефлектор и побежал к себе. В его комнате было светло и даже теплее, как он предполагал в изобретательском увлечении. Он лихорадочно начал укреплять боковые створки и, когда, придав соответственное положение им, он увидел отражение солнца на потолке, он чуть не свалился, с подоконника от восторга.
С механизмом вышла неприятность: он оказался слабым, пришлось искать другой, более сильный. И найдя его, Блажин должен был уже работать почти все время на улице, производя тысячу прикидок и примерок. Это был праздник для всех ребят переулка; задрав головы они на все лады обсуждали событие.
В один из ярких солнечных дней, Блажин, примостившись на лестнице, усердно вколачивал болты в стену. Было жарко и мелкая пыль от стены тонким слоем оседала на потном лице.
— А скоро ваш аппарат будет готов? — вдруг раздалось над ухом.
Он вздрогнул и чуть не выронил молоток из рук: перегнувшись из окна на него глядела его vis-a-vis, которую он не видел с первого ее появления в окне.
— Скоро? — переспросила она, видя что он не отвечает.
— Да. Здравствуйте. Я думаю, что я надоел вам стуком в стену.
— Нет… Нет. — Живо сказала она. — Ничего… Только я нетерпелива. Хочется увидеть эту штуку, это так интересно.
Он улыбнулся. Какая она милая! интересуется его изобретением. Он бросил работу и стал рассказывать ей, что он сам не дождется конца: то, чего он достиг — полууспех. Он не предвидел, что так затянется, но теперь он постарается скорей окончить.
— Я помню, как вы удивленно рассматривали меня…
— Аа… — перебила она — это было очень смешно: стоит человек и размахивает руками, а слов не слышно.
Он узнал, что она уезжала и теперь будет жить постоянно у матери. Зовут ее Евгения Николаевна, проще Женни. Она сидела на подоконнике, ни на минуту не смолкая, а он стучал и стучал в стену, боясь выдать радостное волнение, охватившее его.
Она вся была, как луч солнца, яркий, золотистый, непостоянный. И в глазах бегали золотые искорки.
Странное дело! Придя домой, он вдруг почувствовал усталость, апатию; посмотрел напротив — там укрепленный, но еще неподвижный сверкал серебряный щит рефлектора, отражая лучи куда то в соседние окна, а за окном — ее окном — мелькала женская фигура, как шаловливые солнечные зайчики.
Работа пошла медленнее. Целые дни, взгромоздившись на лестницу, Блажин болтал с Женни, для порядка что нибудь налаживая.
— Вы лучший отражатель солнца — как то сказал он.
— Ох, какой тяжеловесный комплимент.
— Зато искренний. Я не могу думать и говорить о вас иначе. Вы вся пронизаны солнцем, оно у вас и в волосах, и в глазах, и в смехе, во всем.
— Отраженный свет — кокетливо' промурлыкала она, глядя исподлобья.
— Да — радостно подтвердил он — вы верно поняли мою мысль.
Это случилось в одну из белых ночей. Блажин кончил работать, рефлектор был уже снабжен механизмом и получил первое основное движение. Весь вечер он пробродил по городу один и весь, как мыслью о солнце, он был наполнен мыслью об этой девушке. Он был влюблен, до болезненности сильна, она была материальным выражением, его солнечных идей, занимавших его воображение в настоящий момент, и он мучился этим сладким страданием.
Домой он вернулся, когда на улицах замирала жизнь и шаги по тротуару были четки и звучны. По привычке он подошел к окну и… замер: склонясь над его рефлектором и сильно высунувшись из окна, Женни что то объясняла молодому человеку в полувоенной форме, уверенно, но нежно державшему ее за талию. Блажин стоял неподвижно: сердце билось и ныло как от оскорбления. В эту минуту она подняла глаза и ласково ему кивнула, сказав что то своему соседу.
Блажин резко отошел от окна; не хватало того, чтобы его показывали каким то там кавалерам.
На другой день Блажин не хотел итти на свою работу, но подумал и пошел.
Женни немедленно появилась у окна.
— Что с вами!.. У вас нездоровый вид — и, не дав ему ответить, продолжала, — а у меня новость. Приехал мой друг… мой… жених — тише проговорила она. Молоток выпал из рук Блажина и застучал по перекладинам лестницы. Сам он едва усидел на лестнице.
— Поздравляю вас — тихо сказал он и посмотрел ей в глаза.
Она стояла перед ним, залитая солнцем и смеющимися, радостными глазами смотрела на него. И вдруг в этих глазах загорелась недоумение, которое появляется у женщин и детей в минуту неожиданного открытия. И в одну секунду она поняла все. Мягкая улыбка скользнула по ее лицу и она, дружески протянув руку, сказала просто:
— Пожелайте мне счастья.
Его руки были испачканы в известке и потому он тихо поцеловал ее руку.
_____
Поздно вечером его товарищ сидел опять в его комнате.
Напротив тускло сверкал рефлектор, а ветер колыхал белую занавеску, спущенную на окно Женни.
— Я сумел осветить комнату, но погрузил во мрак свою душу — принужденно смеясь, продекламировал Блажин.
— Золотые волосы?…
— Да…
— А сколько их было раньше!.. А сколько будет еще…
Блажин молчал, неподвижно устремив взгляд в окно. И вдруг он схватил за руку гостя:
— Смотри… прошептал он.
Напротив, на тонкой занавеске, освещенной светом, идущим изнутри, комнаты, обрисовались два силуэта, две головы, слившись в глубоком медленном поцелуе…
…напротив, на тонкой занавеске, обрисовались два силуэта.
— Чужое счастье… отраженный свет… горько сказал Блажин.
Гость с удивлением смотрел на него: лицо его было бледно и гримаса сильной боли кривила губы.
Блажин бросил работу и рефлектор стоял, привлекая праздное внимание прохожих.
В одну из ночей была гроза. Жильцы нижнего этажа дома, на стене которого был укреплен рефлектор, услыхали, вслед за грохотом грома, звон разбитого стекла.
Молния осветила переулок: внизу лежал согнутый жестяной щит в осколках мелких зеркал, а из окна напротив высунулась на улицу мужская, голова. Лицо было бледно и мокро от дождя. А может быть от слез…
_____
Если вы пойдете по одному из переулков вблизи Октябрьского вокзала, вы увидите на стене одного из высоких домов концы болтов и остатки механизма. Будто были часы, а циферблат сняли.
Рядом с ними окна с веселенькими цветами на подоконнике, а в противоположном доме окно, в котором никогда не бывает солнца…
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЛНЦА.
Рассказ «Отраженный свет» побуждает редакцию дать читателям в краткой и сжатой научной заметке ясное и исчерпывающее понятие об использовании на земле солнечной энергии и в частности о солнечных двигателях.
Однажды знаменитый изобретатель паровоза Георг Стефенсон и его приятель геолог Буклэнд, стояли на террасе одного из домов вблизи вокзала в Драйтоне и наблюдали за удаляющимся поездом, оставлявшим после себя длинную полосу белого пара.
— Можете ли вы мне объяснить, — спросил Стеффенсон Буклэнда, — какая сила движет этот поезд?
— Разумеется, — отвечал тот, — я думаю, что это одна из ваших громадных машин.
— А кто заставляет работать машину?
— О, весьма вероятно, какой-нибудь здоровенный машинист из Нью-кэстля!
— Ничто другое не приводит в движение машину, — возразил великий инженер, — к а к свет, который в течении десятков тысяч лет собирался в земле, свет, который всасывался растениями и был им необходим, чтобы во время роста переводить в твердое состояние углерод, и который теперь, пролежав тысячи лет погребенным в залежах каменного угля, был снова извлечен и освобожден, чтобы служить великим целям человечества, как здесь, в этой машине!
Знаменитый изобретатель на много десятилетий опередил своих современников. Его замечательный ответ Буклэнду вполне соответствует современным научным воззрениям.
Под влиянием солнечных лучей зеленые части растений выполняют чрезвычайно важную роль в жизни природы: они расщепляют находящийся в воздухе углекислый газ на составные части, т. е. кислород и углерод; кислород выделяется обратно в воздух, углерод же вступает в химическое соединение с другими веществами в растениях и образует сначала углеводы (крахмал), а затем белки, жиры и пр.
И когда в вашей печке весело потрескивают дрова, а приятная теплота расходится по комнате — знайте, что это дерево возвращает ту энергию, которую оно получило от Солнца. Углерод дерева соединяется при горении с кислородом воздуха, образует углекислый газ и выделяет тепловую энергию в количестве, равноценном лучистой энергии Солнца, полученной в свое время его зелеными частями.
Торф и каменный уголь представляют собою обугленные остатки растений, покрывавших в отдаленные времена поверхность земного шара.
Ныне, сжигая в топке паровой машины каменный уголь, мы получаем обратно ту солнечную энергию, которую собрали и сберегли растения в отдаленные времена более молодого возраста нашей планеты.
«Теплота, которою мы согреваем наши жилища, — говорит Либих, — есть солнечная теплота; свет, которым мы обращаем ночь в день — есть свет, заимствованный нами от Солнца».
Движущаяся и падающая вода рек и водопадов, энергия, которой обладает ветер — точно также являются преобразованной солнечной энергией.
В какой форме ни проявляется деятельность человека, она всегда заимствует от природы только те силы, которые дало последней солнце. Вся земля есть ничто иное, как дитя солнца. Поддерживаемая и направляемая в бесконечном пространстве таинственной силой солнечного притяжения, без его животворящих лучей она была бы мертвая пуста!». — восклицает талантливый Фламмарион.
В настоящее время достаточно точно подсчитано, какое количество лучистой энергии дает солнце в определенный промежуток времени на каждую единицу поверхности земли. Как оказывается, растения представляют из себя очень несовершенных преобразователей энергии — они используют не более 3/1000 всей получаемой ими солнечной энергии.
Теперь, когда запас каменного угля, нефти и других горючих быстро тает, когда приближается катастрофа отсутствия топлива, и во всех странах кипит энергичная работа по использованию силы движущейся воды, ветра и т. д., — невольно возникает вопрос о непосредственном использовании солнечной энергии.
Нельзя-ли обойтись без Лишних посредников (растений, тепловых машин и пр.), а использовать солнечную энергию, получая ее из первых рук?
Мысль о постройке солнечного двигателя не нова. Еще в конце прошлого столетия было сделано несколько подобных попыток.
На рисунке 1 изображен солнечный двигатель, построенный в 1898 году в Лос-Анжелосе (Калифорния), приводивший в движение водяной насос и развивавший мощность в десять лош. сил. Он представлял собою большое зеркало — рефлектор, отражавшее солнечные лучи, которые нагревали воду в особом цилиндре и обращали ее в пар. Из цилиндра пар поступал в. паровую машину, производившую работу. Рефлектор поворачивался по направлению к солнцу с помощью часового механизма.
Рис. 1. Солнечный двигатель, построенный в Калифорнии для нужд сельского хозяйства.
Француз Мушо несколько улучшил солнечный двигатель описанного-типа, окружив котел стеклянной оболочкой, препятствующей обратному выделению котлом лучистой теплоты… (См. рис. 2).
Рис. 2. Солнечный приемник Мушо.
Вместо нагревания воды в последнее-время стали пользоваться другими более летучими жидкостями, например, эфиром, аммиаком (прибор Телье), сернистой кислотой и т. д. Разумеется, отработанные пары этих жидкостей тщательно собираются в холодильнике и вновь поступают для нагревания и испарения в котел.
Другой метод использования лучистой теплоты — это установка особых поглотителей тепла, представляющих собою ряд ящиков, защищенных с боков и снизу непроводниками тепла и покрытых сверху двумя листами стекла с прослойкой воздуха между ними. Двойной слой стекла к прослойка воздуха препятствует потере тепла из поглотителя.
Вода впускается в поглотитель, нагревается там до сравнительно высокой температуры и выходит с другого конца в центральный резервуар, откуда поступает по ряду трубок в трубчатый котел, предназначенный для обращения в пар эфира или какой-нибудь иной летучей жидкости. Пары эфира приводят в движение паровую машину. Охлажденная вода опять идет в поглотитель для вторичного нагревания.
Как показали опыты, различные тепловые и механические потери столь велики для, солнечных двигателей, что коэффициент их полезного действия ничтожен. Для получения мощности в 1 лошад. силу требуется не менее 9 квадр. метров нагреваемой солнечными лучами поверхности, в большинстве же подобных установок нужно было даже 30–50 кв. метров (это вместо 0,4 кв. метра на 1 лош. силу в случае полного обращения всей тепловой энергии солнечных лучей в механическую работу).
Стоимость солнечных двигателей очень велика, она приблизительно в три раза более стоимости паровой машины' среднего качества, имеющей такую же мощность; расходы по содержанию и уходу также значительно больше, чем для паровых машин.
Однако, солнечные двигатели, появившиеся в самое последнее время, значительно более совершенны. Инженером Берландом составлен подробный проект очень экономичной установки, работающей солнечным теплом, и предназначенной для электрофикации Туггурского оазиса (Африка).
Исключительно быстрое развитие техники дает нам право расчитывать на значительный успех и в этой области. Последствия появления удачных конструкций солнечных двигателей будут чрезвычайно велики. Центры промышленности перенесутся ближе к экватору, туда, где ярче и сильнее светит солнце… И, быть может, через несколько столетий опустеют Ленинград, Париж, Лондон и Берлин, а новые гигантские города будут красоваться в искусственно орошаемой и покрытой зеленой растительностью когда-то пустынной Сахаре!
П. РымкевичПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧЕСТЬ
Рассказ Ф. Б. Бейли
С английского пер. Анны Б.
— Боюсь, что мне придется обратиться к доктору, — сказал я, с трудом поднимаясь после того, как меня сшиб с ног автомобиль.
Тень омрачила черты Вилльяма Джэбба, бывшего кочегара с корабля «Параматта».
— Ненавижу это слово, — почти прошипел он, — доктора… И он дал точное определение этого понятия.
— Кабы у вас нашлось немножко табачку, — сказал он, с сомнением поглядывая на меня, — я бы вам кое-что порассказал про докторов…
— Дело было, когда я в последний раз ходил на «Параматте» в Австралию, продолжал Вилльям, раскуривая трубку. — С нами был наш постоянный доктор и еще один, который ехал пассажиром. Они очень скоро подружились и вечно рассказывали друг другу всякие страсти про своих больных. Наш доктор был совсем молодой, — звали его Барнс, _— и только еще начинал заниматься своим делом, а другого звали, Эрмитэдж и был он немножко постарше.
— По пути в Австралию бедная старушка «Параматта» напоролась на рифы. Всех, кроме меня и наших докторов, спас «Каспиан», перехвативший нашу радиотелеграмму и поторопившийся к нам на помощь. Уж такое мое счастье! — добавил с горечью мистер Джэбб.
— Шестнадцать часов держался я на волнах на обломке корабля, — продолжал он, — и только на рассвете увидел, лодку с «Параматты» с двумя людьми. Оказалось, что это наши доктора и они подобрали меня.
— Случилось так, что мы приплыли к необитаемому острову и пристали к берегу в маленьком заливе. Мы забрали всю провизию, которая оказалась в лодке, компас, старую пилу и стамеску, забытые в лодке каким-нибудь разиней-плотником, и перенесли все это на берег. Потом втащили лодку и привязали ее к скале.
Первые недели три мы не так уже плохо прожили на островке. Но современем доктора стали мне надоедать. Они взяли в привычку как-то странно посматривать на меня.
— Вы чувствуете себя хорошо, Джэбб? — спросит бывало доктор Барнс с такой неприятной улыбкой. — У вас что-то около рта появились желтые пятна. Смотрите, как бы у вас не было цынги или желтухи. Ешьте больше фруктов. Вам необходимо противоцынготное.
— Ну-ка, покажите язык, Джэбб, — подхватывал доктор Эрмитэдж, точно ему обидно было, что доктор Барнс хочет меня лечить, — печень как-будто не совсем в порядке. Советую вам выпить пинту морской воды и перед завтраком обежать три раза вокруг острова.
— Не знаю, виноваты ли были фрукты, которые мне советовали есть, или морская вода и беготня вокруг острова, но раз как-то у меня сделались ужасные боли. Когда я сказал об этом доктору Барнс, он сразу стал серьезным.
— Мы сейчас же должны вас осмотреть, — говорит он и снимает пиджак. — Ложитесь тут в тени. Послушайте. Эрмитэдж, Джеббу плохо.
— Доктор Эрмитэдж сейчас же прибежал и они мяли меня добрый час и намучили больше, чем сама болезнь.
— Потом мои доктора отошли в сторону и оживленно разговаривали.
— Наконец они вернулись с торжественным и грустным видом, но я чувствовал, что на самом деле они очень довольны…
— Доктор Барнс посмотрел на доктора Эрмитэджа и поднял брови.
— Доктор Эрмитэдж кивнул головой.
— Джэбб, — говорит доктор Барнс, — у вас апендицит и дело ваше плохо. Нам придется теперь же вам сделать операцию.
— Да пропадите вы совсем, — сказал я им на это и поскорее убежал. Но они стрелой кинулись за мной и очень скоро так крепко связали меня, что я не мог пошевелиться.
— По моему, на этой гладкой скале будет очень удобно его резать, — сказал доктор Эрмитэдж и они дружно подняли меня и уложили. — Вам нечего бояться Джэбб, — конечно, у нас нет хлороформа, но доктор Барнс ударит вас по голове вот этим багром, обернутым в тряпку, так, чтобы произвести временный паралич мозговых центров., Где пила, Барнс, — добавил он.
— Я ее сейчас принесу и стамеску тоже, — говорит доктор Барнс, который уже кипятил свой перочинный ножь в котелке над костром.
— Будьте добры, Эрмитэдж, взгляните, в порядке ли у него сердце. Мне, ведь, придется хорошенько погладить его по голове, не то он слишком скоро очнется…
— Сердце великолепное, — говорит доктор Эрмитэдж, — не бойтесь, вы ому не повредите. Бодритесь, Джэбб, мы вас живо поставим на ноги. Какие-нибудь две недели и все будет в порядке. Я должен еще итти стерилизовать руки и инструменты.
Минут через пять они вернулись и принесли инструменты. Тут была пила, стамеска, два перочинных ножа, — один с пробочником для шампанского, — и пара клещей.
— Пора мне его ударить? — спросил доктор Барнс, стоя около меня с багром.
— Еще полминутки, — задумчиво ответил доктор Эрмитэдж. — Апендицит находится южнее пятого ребра не правда ли? — говоря это, он натачивал о свой сапог лезвие перочинного ножа.
— О, нет, — торопливо возразил доктор Барнс, — надо взять правый галс. Если мы проведем воображаемую линию от околосердечной сумки к диафрагме, а другую проведем из прямого угла к полученной точке, то она пройдет через апендицит.
— По Ван-Егерсдорфу, — обиделся доктор Эрмитэдж, — а он, кажется, всеми признанный авторитет, — апендицит находится в двух дюймах от пятого ребра. Исключения встречаются среди эскимосов и у суданских племен, где он находится в полутора, а иногда в трех дюймах от этого ребра.
— Для меня не имеет значения, что говорит ваш ученый, — язвительно сказал доктор Барнс. — Мы в госпитале всегда делали так, как я говорю, и у нас был только один неудачный случай.
Доктор Эрмитэдж выпрямился.
— Вы забываетесь, доктор Барнс, — проговорил он внушительно. — Ваше поведение неприлично для врача. Ваше дело исцелять больных, а не хвастаться. Пока вы болтаете чепуху, этот бедняга лежит и страдает.
— Так, ведь, он же мой пациент, — говорит доктор Барнс, — вы только приглашены на консультацию. Я не позволю его зарезать. Не будете ли вы так добры, передавать мне нужные инструменты. Я попрошу у вас стамеску!
— Но вы еще не привели его в бесчувственное состояние, — злобно заметил ему доктор Эрмитэдж.
Доктор Барнс пристально смотрел на меня и ничего не отвечал. Потом он повернулся и крепко пожал руку доктору Эрмитэджу.
— Дорогой мой Эрмитэдж — говорит он, — простите меня. Не желая этого, я был очень несправедлив к вам. То, что вы сказали, совершенно правильно. На самом деле, мы оба правы. Если вы вспомните мое определение и то, что говорит ваш ученый, вы найдете, что это одно и то же.
— Чорт возьми! — воскликнул доктор Эрмитэдж, — это так и есть. Мой дорогой Барнс, я в восторге. Теперь все понятно. Я готов, если вы желаете. Будете вы… гм… усыплять больного или я?
— Не надо-ли нам поднять флаг, доктор? — спросил я, когда доктор Барнс уже занес надо мной багор. — Я спокойнее умру, если у нас все будет в порядке.
— Отлично, Джэбб, — весело ответил доктор Барнс и побежал на гору, где мы поставили мачту с флагом. Не успел он добежать, как мы услышали его крик.
— У нашего острова стоит крейсер и к нам едет лодка. Мы теперь можем взять пациента на борт и сделать ему операцию там.
— Что вы говорите! — разсердился доктор Эрмитэдж, когда Барнс прибежал обратно. Подумайте, какая честь сделать операцию в таких условиях, имея в руках вот эту стамеску и перо чинный нож. Возьмемся поскорее за него и дело с концом.
— Вы правы, — согласился доктор Варне и опять взялся за багор.
— Минутку, господа, — перебил я их. Я надеялся выиграть время, пока команда с корабля явится мне на помощь. — Я хотел бы сделать завещание, пока вы еще не начали меня кромсать.
— Теперь уже некогда, — возразил доктор Эрмитэдж, — да вы и слишком плохи для этого, нельзя рисковать.
— Но у меня есть часы-кукушка и два кролика, которых я хотел бы оставить моей тетушке Джэн, — говорю я. — Если я не сделаю завещания, мой брат, ужасный бездельник, заберет себе все мое добро.
Как раз в эту минуту лодка пристала к берегу. От радости сердце мое так и запрыгало.
— Помогите! Убивают! Режут! — завыл я. — Спасите меня… спасите!
Жизнь на острове не красила нас. Оба доктора больше были похожи на дикарей, чем на почтенных врачей. И когда я поднял крик, лейтенант, подъехавший на лодке, не стал терять времени. Он увидел, как доктор Эрмитэдж стоял надо мной с пилой и этого было довольно.
— Кровожадные дикари убивают белого человека, — закричал он. — Это человеческая жертва!
Все моряки, как один человек, бросились к нам. Через две секунды полдюжины ружей были направлены на докторов, а я стоял снова свободный и лейтенант поглаживал меня по голове.
— Как раз во время, — радостно улыбался он, — чувствуете себя лучше?
Доктора хотели объясниться, но лейтенант не пожелал даже слушать.
— Чем-то вы тут нехорошим занимались, — сказал он им строго. — Следовало бы вас сразу пристрелить. Капитан, вероятно, выкупает вас с райны под киль или выстрелит вами из двенадцатидюймовой пушки. Не хотел бы я быть на вашем месте.
— И вот, — закончил мистер Джэбб, выколачивая пепел из трубки, — нас всех забрали на корабль. Я пожаловался капитану, как доктора хотели меня зарезать. Он позвал корабельного врача, чтобы тот узнал, действительно ли они доктора и показал ему меня.
— Ну, что же — спросил я, — поплатились доктор Барнс и доктор Эрмитэдж за свои проделки?
— Нет, — с сердцем возразил мистер Джэбб, — корабельный доктор нашел, что у меня, действительно, апендицит, но сказал, что с операцией можно подождать, пока мы будем в Сиднее. Только и было мне утешения, что корабельный врач не дал этим двум докторам своих инструментов и не позволил им резать меня на корабле.
ОТКРОВЕНИЯ НАУКИ И ЧУДЕСА ТЕХНИКИ
Работы академика И. П. Павлова
75 лет от роду — заслуженный возраст для пенсии, спокойного отдыха и оглядки на прошлое, а гордость русской науки— академик И. П. Павлов, уклонившийся, в Сентябре от чествования по случаю знаменательной для него годовщины, полон энергии, сил, отличается изумительной работоспособностью и влюблен в свое дело. Влюблен так, что нет сил оторвать И. П. от его знаменитой лаборатории в Ленинграде. На сообщения о своих достижениях И. П. скуп. Он не стремится популяризовать их в газетах, не ищет славы и похвал, и не один журналист не может похвалиться, что ушел от акад. Павлова вполне довольный полученными сведениями.
Между тем весь ученый мир не только России, но и Европы и Америки, где внимательно следят за работами И. П. Павлова, знает, что он накануне великих открытий в избранной им теперь области объективного изучения рефлекса головного мозга. Этому вопросу И. П. отдал последние 20 лет своей жизни и по его почину создались в Европе и Америке институты, где выдающиеся ученые специально изучают теперь психические акты, т. е. разрабатывают науку о деятельности головного мозга.
Это — не «сухая ученость», мимо которой большинство проходит не замечая ее, чуждаясь ее. Разрабатывая физиологию головного мозга, академик Павлов изучает высшую нервную деятельность животных, чтобы вывести законы, управляющие организмом, а в конечном результате,—г. о определению самого ученого, направить человека к «истинному, полному и прочному человеческому счастью».
Непосвященные, по нескольким примерам из жизни и по опытам ак. Павлова могут себе составить некоторое понятие о механизме работы в той таинственной области, где зарождается человеческая деятельность.
Мать спит около своего ребенка и, утомленная, не слышит шума и стука вокруг. Но едва ребенок слабо подаст голос, — мать мгновенно просыпается. Мозг ее ответил только на одно определенное раздражение. Так же спокойно спит человек под работу машин, к ритмическому шуму которых он привык, но достаточно малейшего нарушения ритма или динамического изменения шума и с человека сон «как рукой сняло». Каждый, вероятно, наблюдал и в своей жизни такие случаи. Объясняется это явление деятельностью клеток серого вещества головного мозга: клеток возбуждения и клеток торможения. Они чередуются между собою. Во время сна — как бы дежурят особые сторожа, некоторые клетки возбуждения, остальные — заторможены и отдыхают. Здесь сущность сна.
Академик И. П. Павлов со своими сотрудниками изучает взаимодействие этих клеток возбуждения и торможения, работающих постоянно, как во сне, так и во время бодрствования. Этим процессом столкновения возбуждения и торможения объясняется и множество явлений обыденной жизни от лая и гнева собаки, до разразившегося припадка вспыльчивости человека.
Опытами над собаками акад. Павлова приходят к интересным выводам о деятельности старческого мозга человека. Ослабление торможения в старческом, одряхлевшем организме дает результатом слабоумие («впал в детство»), болтливость и проч.
Мыши приучаются по звонку идти за едой и через известное число поколений безошибочно расчитывают время до звонка, когда закрывается вход в их жилище, и спешат наесться в положенные минуты, великолепно обходясь без необходимых человеку часов. У мышей обнаруживается новый инстинкт, которого не было в природе их.
У собаки, как и у человека, когда он голоден, вид известной пищи вызывает рефлекс — выделение слюны («слюнки потекли»). Это естественная реакция организма на внешнее раздражение. Но собак приучают испускать слюну не при виде пищи, а при звонке, который предшествует кормлению, знаменует близкое наступление его. Другими словами: подставляют на место безусловного рефлекса— условный, оказывающий такое же могущественное влияние.
Роль условного рефлекса и его значение в жизни выявляются еще больше в следующем опыте. Собака стоит в станке. К ноге прикреплен электрический аппарат. Пропускается ток. Животное сердится и пытается вырваться. Его кормят после причиненной боли… И собака приучается к мысли, что необходима сначала боль, что она — преддверие вкусной еды. И она перестает чувствовать боль, даже очень сильную, и спокойно ест, когда ей палят ногу.
ТРОПИЧЕСКИЙ ГОРОД НА СЕВЕРЕ
Увлечение «городами-садами» еще не прошло, как американские инженеры детально разработали новый грандиозный проект. Его достоинство в том, что не нужно перебираться на новое место и можно не считаться с климатом, который в городах-садах остается тем, каким ему и полагается быть в избранной местности..
Американское общество инженеров и архитекторов мечтает перенести тропики в… Нью-Йорк и даже еще севернее. В официальном органе общества опубликован этот план, наглядную часть которого мыздесь воспроизводим.
Каждая половина квадратной мили города будет поставлена как бы в изолированный стеклянный колпак. Это громаднейшее пространство будут нагревать, вентилировать и даже под колпаком-крышей производить искусственный дождь. Погода будет всегда хорошей в этом сверх-городе. Освещение проектировано так, что все городские жители, в течении целого дня будут пользоваться или настоящим, или искусственным солнечным светом, так как в хорошую погоду стекляные крыши легко раскрываются.
На крышах многоэтажных зданий находятся искусственные озера, поддерживающие ровную температуру. Все передвижение будет производиться по подземным туннелям и по новым дорогам, проходящим по крышам домов. Нынешние, улицы будут превращены в парки и сады.
Благодаря ровной температуре и «прекрасному климату новые тропики на каждом клочке земли, отведенном под огороды, будут давать две, три жатвы в год. Любопытно отметить, что в этом проекте есть и новая для Америки социальная идея. Дома будут приспособлены так, чтобы давать только кров для частной жизни каждого гражданина. Большие помещения предназначены для общественного пользования.
Стоимость каждой полумили такого города исчислена приблизительно в 16.500.000 долларов, т. е. на русские деньги около 33.000.000 рублей.
МЕТЕОРИТ В 1.000.000 ТОНН
Метеориты или аэролиты известны с глубокой древности и указания на них восходят до VII ст. до Р. X. Конечно, эти камни служили предметом обожания и поклонения, считались святынями. С этой точки зрения среди метеоритов наиболее знаменит черный камень Каабы в Мекке — главная святыня мусульман, имеющий 2 метра вышины. На этом камне, как верят мусульмане, отпечаталась стопа самого Аллаха.
Между тем метеориты, несомненно, космического происхождения. Способ образования их точно не установлен, но его обычно приводят в связь с падающими звездами и кометами.
Отметим, что толчок и материал для определения происхождения метеоритов дал камень, хранящийся теперь в Российской Академии Наук и известный под именем «Палласова железа». Он привезен был в Петербург известным ученым Палласом из Красноярска в 1772 г.
Иногда метеориты падают отдельными камнями, иногда даже в количестве нескольких тысяч камней, величиной от ореха до человеческой головы.
Такой каменный дождь пролился над нашим городом Пултуском в 1868 г.
Попадаются на земле и очень большие метеориты.
В Америке в штате Аризона, в Диаболо Кэнион (Ущелье Дьявола) упал колоссальный метеорит, которому вымирающие индейцы стали покланяться, как слетевшему с неба божеству. Практичные американцы исследовали, что эта громадная масса, упавшая из заоблачных высей, содержит 90 % чистого железа, 8 % никеля и 2 % драгоценной платины, и вычислили, что весь метеорит стоит на наши деньги 30.000.000 руб. Уже приступлено к работам по извлечению этого неожиданного дара нашей солнечной системы.
Громадная масса этого монолита силой своего падения образовала показанный на рисунке кратер, диаметром в 4/5 мили и глубиной приблизительно в 1.150 футов. Сам же метеорит скрылся под землей на глубине 1.400 футов. Таким образом, чтобы добраться до него, нужно прорыть 250 фут.
Человеческое воображение вряд ли может представить себе и величие, и ужас падения этой раскаленной массы, к счастью, направившейся в пустынную местность Аризоны, а не на населенный город.
РАДИЙ И ЕГО НОВЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Нет страны в мире, где так энергично разработывали бы применение радия, как Америка. Но за последнее время с ней начинает конкуррировать и Франция.
Французские радио-инженеры, — правда, пока еще на моделях — сделали любопытный опыт использовать силу радия для передвижения. Подземная станция (см. рис.№ 4) по подземному проводнику, проложенному под улицей или дорогой на глубине 3 или 4 дюймов, передает ток непосредственно экипажу. Двигаться, наступать ногой на землю, в которой вложен проводник, можно безопасно, так как автомобиль или мотоциклет (см. рис. 1, 1а, 2) получают способность движения и следовательно воспринимают энергию от подземного проводника, благодаря особым спиралям из проволоки, находящимся под кузовом. Эта энергия, беспрерывно возобновляющаяся, передается электрическим моторам, двигающим колеса. Поезд (см. рис. 3) питается энергией от проволоки, подвешенной над вагонами и передающей силу радия другой проволоке, прикрепленной над крышами вагонов, т. е. земляная прослойка для малых двигателей, как автомобиль, заменяется здесь небольшим воздушным пространством.
Американцы доходят до курьезов в желании возможно шире использовать радио, Мы помещаем 2 фотографии с натуры, свидетельствующие о степени увлечения великим открытием новой силы. Вот американская гражданка охотится на белок. Выжидать пушистого зверька приходится долго. Чтобы сократить тоскливые часы, амери-
[…пропуск в тексте…]
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК
Почтов. адрес: ЛЕНИНГРАД, Стремянная, 8
Телефон № 58–02.
Телегр. адрес: ЛЕНИНГРАД Издатсойкин
А. С. (Здесь). — Кому нужна теперь довольно нелепая страсть гвардейского офицера к заурядной, пустой девице? И форма неудачна. Читатель с первых же страниц понимает суть «драмы», хотя автор раскрывает ее только в последних строках. Есть существенные технические ошибки в описании гвардейского быта.
Г. Ю. Т. (Москва). К сожалению, «Несправедливый приговор» не подходит нам. Просим прислать еще что-нибудь из восточной жизни, но в рассказе должно быть преобладание местного колорита и много движения. Ваш рассказ в сущности — бойкий газетный фельетон о ловком комсомольце, а не художественное произведение.
П. И. П. (Москва). — Голубые сигаретки жителей Марса лишают человека фантазии. Так уверяете Вы в рассказе «Голубое сияние». Зачем Вы сами накурились этих сигареток?… Первая экспедиция на Марс, и — ничего, кроме сигареток.
П. Ж. (Мирополь). — «Рябая» никуда не годится. Вашу просьбу — вернуть рассказ в исправленном виде — исполнить не можем. Для этого нет времени. Мы исправляем только те вещи, которые могут пойти в журнал.
И. Н. Л. (Ташкент). — «Записки ветерана электрификационной эпохи» — неудачная по форме и мало продуманная вещь. Для «Мира исканий» у автора не хватило фантазии и технических знаний. Если желаете, попробуйте прислать еще какой нибудь из перечисленных в Вашем письме рассказов.
Ц. П. Ч. (Свердловск). — Стихов мы не печатаем вообще, значит и поэмой Вашей воспользоваться не можем.
B. А С. (Вышний-Волочек). — «Клад Розенкрейцеров» — устарелая романтика, наивная для нашего времени и для нашей страны. И сделано слабо.
C. В. С. (С. Кудиново). — «Хитрость Шмуля» — мало литературная по форме, и скучная и нудная по содержанию вещь. Странная фамилия у Вашего латыша! «Трясина» — «охотничий рассказ» — скопление всяких ужасов и кинематографических трюков. «Врет, как охотник», — сказать можно и про Вашего охотника…. Пишете Вы грамотно.
И. П. Ч. (Череповец). — «Тайна дома» сделана очень искусственно, напряженно и скучно. Попробуйте прислать еще.
Б. А. Р (Рогачев). — Ну, и нагородили, да еще полили политическим соусом Вашу «неудавшуюся месть»!
Б. Л. Гуляеву (Феодосия). — Никогда не следует подписывать свою фамилию под переводными рассказами. Нужно прежде всего обозначать имя автора. «Пьеса без конца» — вещь не оригинальная, не новая и уже не впервые ее переводят….
Н. К. Р — «Остров сокровищ» — очень наивен, хотя мысль о могуществе труда и правильна.
Н. О. — «Новелла» чрезвычайно искусственна. Кстати: почему Вы назвали эту вещицу новеллой?
Е. Шергину? (В. Устюг). — Около Вашей фамилии поставлен знак вопроса, потому что мы не уверены, так ли разобрали Вашу подпись. Рукопись не читали, и ни одна редакция не примет ее к рассмотрению. Невозможно читать: неразборчиво и выцветшие чернила. Пощадите наши глаза!
…………………..
Я. И. Перельман.
Загадки и диковинки
В МИРЕ ЧИСЕЛ
Изд. 2-ое, дополнен. 148 стран.
Цена 1 р. 25 к.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
I. Старое и новое о цыфрах и нумерации. II. Камни преткновения Пифагоровой таблицы. III. Потомок древнего абака. IV. Немного истории. V. Не-десятичные системы счисления. VI. Галлерея числовых диковинок. VII. Фокусы без обмана: Искусство индусского царя. — Не вскрывая конвертов, угадать кисло спячек в коробке. — Чтение мыслей по спичкам. — Идеальный разновес. — Предсказать сумму ненаписанных чисел. — Предугадать результат ряда действий. — Мгновенное деление. — Еще отгадывание. — Любимая цифра, — Угадать день рождения. — Одно из «утешных действ» Магницкого. VIII. Быстрый счет и вечный календарь. IX. Числовые исполины. X. Числовые лилипуты. XI. Арифметические путешествия. Вне глав. Арифметические курьезы.
_____
Выписывающие из Центрального Книжного Склада при Изд-ве «П. П. Сойкин», Ленинград, Стремянная, 8, за пересылку не платят.
Примечания
1
В скобках приведены данные с задней обложки.
(обратно)2
«Бой» — мальчик, малый, малец, — обычное название слуг низшей квалификации.
(обратно)3
Нечто убийственное. Чистый спирт, настоенный на кайенском перце, с небольшим количеством меда. А. Г.
(обратно)4
См. № 3 «Мир Приключений» — 1924 г., рассказ-загадка А. И. Горш — «Который из двух?».
(обратно)





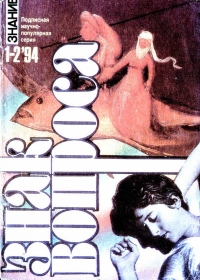





Комментарии к книге «Мир приключений, 1925 № 01», Д. Коллинз
Всего 0 комментариев