№ 04 2005
ПРОЗА
Евгений Шишкин ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЛЮБВИ (роман)
Часть первая
1
Ночью город Никольск пронизывал шквальный ветер. Это был южный муссон, теплый и влажный, и потому диковинный для конца марта в здешних, почти приполярных, северных широтах. Ветер еще с вечера принимался за город: порывами ударял в лицо идущим встречь прохожим, заставляя их на миг задохнуться; с дребезжанием гнал наперегонки пустые пивные банки по парковой аллее; трепыхал и норовил отодрать афишу с театральной тумбы; сквозняками, как метлой, поднимал колкую пыль с обтаявшего асфальта на центральной площади и осыпал ею чугунное изваяние Маркса на облезлом каменном постаменте.
За полночь ветер навалился на город упружисто — тугим, почти беспрерывным потоком. Он уже не заигрывал и не шалил — безжалостно обламывал хилые ветки деревьев, а некоторые старые одряхлые дерева и вовсе повалил наземь; громыхал карнизами и кое-где сдирал с кровель плохо пришпиленные листовое железо и шифер; отчаянно кидался в лабиринты со скопищами типовых пятиэтажек, свистел, выл и даже пробирался в единственный в городе подземный переход — словно повсюду искал себе жертву.
Под крышей одного из домов не сдержала натиска ветра водосточная труба, резко завалилась набок и ударила в раму ближнего застекленного балкона. Стекло громко лопнуло — шумно, хрустко обвалилось вниз. Этот грохот, будто встряской, пробудил Марину. Она подняла голову. В тусклой синеве за окном, примаскированном шторами и тюлем, что-то ухало и гудело. Эти уханье и гуд отдались внутри Марины пугающим эхом. Она взглянула на Сергея — он спал на боку, отворотясь к стене, его лица не было видно.
Марина попыталась вспомнить, что ей снилось до этого внезапного пробуждения. Сразу ничего не вспомнилось, а тут ветер опять чем-то прогрохотал за окном и опять, словно вдогонку, послышался бой стекла. Марина вся съежилась, затем вскочила с постели. Скорее в комнату к Ленке, вдруг у нее открыта форточка и ветер напугает или застудит дочку.
В детской, окно которой выходило на другую сторону дома, во двор, ветер казался смирнее, шум его был отдален, безобиден, хотя на стене и на потолке в бледном отсвете уличного фонаря плескались тени от веток дворового тополя. У Марины появилось редкое для нее желание — перекреститься самой и перекрестить дочку, которая спала, по-видимому, крепко: посапывая и не сбив с себя одеяло. Но на Марине не было нательного креста, не примостилось нигде в уголке комнаты и никакой иконки. «Надо бы повесить. Ленка крещеная. Иконка и крестик где-то лежат. Найти надо. Теперь у всех висят, опять все стали верить», — мимоходом подумала она и вышла из комнаты.
Вернувшись в свою постель, Марина зажмурилась, взывая к себе сон, однако невольно, чутко вслушивалась в заоконные посвисты и скрежет и не могла отогнать разбуженную тревогу. «Удар по стеклу? Откуда это? Ах да! Ласточка! Она тоже ударилась в стекло. Тогда тоже была весна…».
Ласточка, гонимая то ли поиском пищи, то ли неведомой силой познания, черной молнией влетела в горницу через распахнутую створку окошка. Вскрикнув от неожиданности и, наверное, напугав птицу, Марина — девчушка-пятиклассница, бывшая дома одна, — и сама прижалась от страха к печке.
Ласточка, суетливо облетев помещение, видать, поняла, что очутилась взаперти. Кинулась стремительно на свет, к окошку. Да не к тому окошку, в которое влетела, — к закрытому. «Туда лети, туда, рядышком», — нашептывала Марина, робко указывая птице рукой. Но ласточка, встретив на пути к воле прозрачную преграду, засуматошилась еще сильнее, рванула в глубь горницы и оттуда, набрав разгон, со всего лёту шибанулась в стекло, пробивая себе свободу…
Марина даже услышала хруст костей птицы. Ласточка поверженно упала на подоконник, разбросала надломленные крылья. Она еще некоторое время трепыхалась, щетинилась хохолком и часто-часто дышала. Глаза ее были блескучи сумасшедшей чернотой, крылья судорожно подрагивали. Вскоре она умерла. Даже в доме стало особенно тихо. Марина испытывала вину за ее нелепую гибель и долго боялась приблизиться к птице.
Суеверного толкования, что птица влетает в дом к беде, Марина, по тогдашнему малолетству, еще не знала. Но примета сбылась. Через несколько недель умерла мать, нежданно, от простой, казалось бы, инфекции, от гриппа, которому сперва и значенья-то не придала. Только много позже Марина связала самоубиенную птицу, которая заблудилась в их доме и не нашла обратного пути к воле, с предвестием своего сиротства.
«Господи, как жутко гудит ветер! Беду как будто кличет…» — Она снова быстро открыла глаза. Кругом потемки и гомон ветра.
— Сережа! Сергей! — тихо позвала она мужа. Но он не проснулся от ее тихого зова. Он не проснулся даже тогда, когда она обняла его сзади и уткнулась щекой ему в спину.
Ночной ветер не просто нахулиганил в городе, он принес чрезвычайщину: понагнал огромные, набрякшие влагой в южных краях тучи, и поутру эти тучи обрушились на землю небывалым ливнем. Так началось трехдневное светопреставление. Никольск погряз в различных авариях: рваные обесточенные нити электролиний, захлебнувшиеся колодцы с телефонными кабелями, размыв и сбой отопительных систем. Вместе с дождевыми и талыми потоками город наводнили досужие рассуждения и трагические сводки:
«В результате ураганного ветра и проливных дождей пострадало более ста жилых домов…».
— Во как! Это напоминанье о библейском потопе. Людям во грехе Боженька знак подает.
— Парниковый эффект. Никуды от него не денешься. Еще годов двести — и наш Север для всего мира спасеньем будет.
— Дождь почти весь снег растопил. В старом городе пол-улицы смыло. Под уклон как хлынуло к реке — так и смыло.
— Бабка из крайнего дома, говорят, на своей кровати утопла. Ишь, как вода-то взметнулась!
— По радио про без вести пропавших говорили. Троих недосчитываются. Все из старого города.
Никольск незамысловато делился на старый город и новый. Делила его река Улуза. На одном берегу, пологом, располагались дома почти сплошь одноэтажные, деревянные, с печными трубами над крышами, с примыкавшими дровяниками, сараями и даже хлевами, — отсюда и «старый». На другом берегу, на яру, дома выстраивались многоэтажные, из камня, из бетона; здесь, в новом городе — основное народонаселение Никольска, властная и индустриально-культурная сердцевина.
Старому городу водяная стихия нанесла немало урона. Циклон еще не иссяк, еще сыпались на землю капли остатнего дождя, а в квартиру к Кондратовым пришла оттуда, из заречья, с изможденным и серым лицом Валентина — старшая Маринина сестра. Заговорила убитым голосом:
— Нас ведь, считай, чуть не смыло. В избе воды по щиколотку налило. Ветер шифер содрал с крыши, а потом — как из ведра. Шифоньер с одёжей замок… Из дома воду токо что откачали. А погреб еще полный. Боимся: фундамент бы не разрушило. Дом-то, считай, нашим дедом строен.
Марина слушала сестру, открыв рот. Испуганно и беззвучно повторяла вслед за ней некоторые слова и дивилась, что рассказ идет об отчем доме, рубленом пятистенке, который еще с детства казался необъятным и прочным.
— Но я к тебе по другому делу пришла, — сказала Валентина, улыбнулась, положила руку сестре на плечо. — Пришла тебе путевку отдать. Южную, на море. Сейчас там, правда, не покупаешься. Но минеральные ванны, грязь лечебная. Мне эта путевка по соцстраху досталась. Я уж тебе говорила, что мне давно обещали. Теперь ты поезжай. Я на работе начальству всё объяснила. Они не против. Путевка-то уж выкуплена. Ты в стройуправлении на железной дороге работаешь, у тебя и билет бесплатный.
Марина опять слушала с изумлением. Про родительский дом говорилось что-то невообразимое, а уж про море и того чудней.
— Куда я сорвусь, Валь? О таких поездках люди загодя думают.
— Поезжай! Когда еще такой случай подвернется по теперешней-то жизни? Ты все про море мечтала. Вот, считай, и сбудется.
— Нет, Валь, я не могу. А Ленка? У нее за четверть кой-как «двойку» исправили. А Сергей? У них на заводе повальные увольнения. Заработанные деньги который месяц не платят. Да и мое начальство может заерепениться, — отвечала встречными доводами на сестрину доброту Марина. Но ее голос уже выдавал просветные колебания. Зерно соблазна пустило скорый росток.
На другой день, вернее — в следующую ночь, Марина страстно, с горячей нежностью отдавалась мужу. Она целовала его неистово, жадно — хотела впрок насытить своими ласками и сама насытиться надольше. Ночь вышла бурная, будто молодожёнская, упоительная, до четвертого часу… Только где-то в глубине, на самом донышке души, Марину холодила досада: получалось не всё как бы по любви, было кое-что и по расчету: чувствуя себя виноватой перед Сергеем, она любвеобилием заглаживала эту вину за свой нечаянно-счастливый отъезд. К морю.
2
На Кавказ до черноморской здравницы пришлось добираться на перекладных — через Москву.
Столица затянула Марину в многоликую и бесцветную людскую сутолоку, поразила потоками машин, забрызганных грязной весенней сырью, опахнула чужестью своего мироустройства. «Тут тебе не Никольск! Растопчут и не заметят…» — с опаской вертела по сторонам головой Марина. Блескучесть новых, «буржуинских» фасадов: «У них банки, что ль, на каждом углу?», озверелая пестрота щитовых реклам, зловонная стайка бомжей на Ярославском вокзале — мужиков и баб неопределенных лет, в отрепьях и с синяками на лицах, и у подземного перехода пацаненок-попрошайка, нерусский, смуглолицый, наглый, хватающий за полу плаща и протягивающий свою чумазую ладошку: «Дай на хлеб! Дай на хлеб!»; бледные лица пассажиров в метро: «Почти все люди неприбранные какие-то. Будто у всех волосы немыты»; митинг бутылок на витринах, тряпье, еда повсюду — миражи изобилия и благополучия, гарь и толчея на дорогах… Марина собралась на Красную площадь, где когда-то школьницей фотографировалась на фоне вычурных и благолепных стен и куполов Василия Блаженного. Но на площадь не пускали. Сумной охранник в черном комбинезоне буркнул, глядя в сторону: «Закрыто сегодня!» Марина без почтения посмотрела на Спасскую башню, над которой кружили вороны, и пошла в ГУМ. Иностранное захватничество в торговых секциях и неподступная дороговизна ошеломили ее, словно нечаянно вторглась на территорию чужого пресыщенного государства… Под нескончаемый гул машин она прошлась по Театральной площади, возле заколоченного фанерой фонтана у Большого театра съела мороженое — шоколадный шарик в вафельном стакане. В Третьяковку не поехала, хотя прежде и намечала. Несколько часов она промытарилась на Курском вокзале и с радостью забралась в поезд, лишь тот выкатили под посадку.
Дорожные соседи по купе оставили Марину в Ростове-на-Дону в одиночестве. Да и во всем вагоне попутчиков набиралось наперечет. Один из них был живописно бросок. Немалого росту, пузанистый, с большой лысой головой и с неясного цвета, какой-то серо-коричневой бородой, широкой, но редкой, как драная метелка. Он частенько оглаживал свою голову, проводил рукой ото лба к загривку, приминая попутно хилые пряди волос, висевшие на висках и на затылке, а после вел ладонь от усов вниз, оправляя бороду, которая тут же начинала по-прежнему топорщиться во все стороны. В картинном облике, в крупном лице его угадывалось что-то львиное, породистое: мясистый, чуть приплюснутый нос, большие глаза — нараспашку — и клоунские улыбчивые губы. В пути Марина много раз встречалась с ним в вагонном коридоре, но их первый разговор случился только после станции Туапсе.
— Море! — воскликнула Марина, когда состав, забирая влево, к побережью, выходил на окраину портового города, открывал взгляду синий простор. — Море! — уже скромнее повторила она и стеснительно обернулась на лысо-бородатого «льва», который тоже стоял в коридоре.
Он улыбнулся ей, подошел, спросил покровительственным тоном:
— Никак впервые, дитя мое?
Марина возразительно хмыкнула: «Ишь ты, „дитя мое?“», хотела сказать, что у нее уже дочка — школьница. Но подошедший «дядька» выглядел очень приветливо и встречать его в штыки было неуместно.
— Раньше только в кино видела. Еще на картинках. И сама на картинках рисовала. Я когда-то в художественную студию ходила.
Море и впрямь оказалось чарующим и необозримым. Белоснежная курчавина пены играла на гребнях небольших волн, тающих на берегу в прибрежной гальке. Волны так же пенно задирались и разбивались о глыбы волнорезов и бун, о сваи пирсов. Крупные чайки кружили над прибрежьем. Казалось, сколько ни гляди вдаль — не набьет взгляд оскомину от трепещущей синевы.
Колоритного бородача и звали незаурядно; басовито и кругло звучало его имя — Прокоп. Прокоп Иванович Лущин. Оказалось, едут они с Мариной до одной станции; оказалось, Прокопа Ивановича пригласил «молодой начальник из новых русских», у которого дом на побережье, отдохнуть у моря и «покумекать» над новым издательским проектом; оказалось, что у Прокопа Ивановича повсюду «творческие связи».
— В свое время, дитя мое, — с ностальгической нотой рассказывал попутчик, — я работал в крупнейшем советском издательстве. Возглавлял отдел научно-популярной литературы. О! Знали бы вы, какие коньяки мне привозили авторы с Кавказа! А какие бурдюки из Средней Азии! А кумыс, а кальвадос из Молдавии, а рижский бальзам… Но теперь не пью, — он указал рукой на правый бок, в подбрюшье, имея в виду, должно быть, печень, а потом гулко щелкнул под бородой по горлу: — Посадил… Пришлось завязать.
Марина усмехнулась:
— Больше не хочется? — Она попробовала повторить жест попутчика, но звонкого щелчка не получилось.
— Дитя мое, что значит не хочется? Еще как хочется! Да нельзя. Подпал под уговоры своего начальника и принял лечение нарколога. Обильная выпивка, естественно, худо. Но и без вина жизнь уж совсем пресная. «Саперави», «Киндзмараули», «Цинандали». Одни названия таят вдохновение… Живу пока в состоянии стресса. Как осужденный!.. О-о! Уже на сорок минут запаздываем, — взглянул он на часы. — Начальник-то мой не уехал бы. Богатые бедных ждать не любят.
С платформы Марина и ее случайный попутчик вышли на небольшую пристанционную площадь с фонтаном: два изваяния дельфинов купались в струях искрящейся на солнце воды. Марина огляделась и обомлела. От теплоты, от лоснящейся листвы магнолий, от душистых и разлапистых крон каштанов, от толстенных могучих стволов пальм. От гор, которые тянулись ворсисто-зелеными грядами за курортным городком и сливались с синим небом. От чистоты молодой весенней травы на газонах и от свежести пурпурных маргариток в круглых каменных клумбах возле скамеек.
Поблизости, под полосатым солнцезащитным зонтом, устроился шляпный лоток. Марине тут же захотелось купить себе светлую шляпку, легкую, из соломки, у нее никогда такой не было. Она подошла к лотку, стала приглядываться к товару, прицениваться. Упустила на время из поля зрения попутчика.
— Поедемте с нами, дитя мое! — окликнул Прокоп Иванович. — Подбросим. — Он стоял в нескольких метрах от Марины, у раскрытой дверцы такси. Рядом с ним стоял он… тот «новый русский», «начальник». — Прошу любить и жаловать: Роман Васильевич Каретников, — с напыщенной веселостью представил его Прокоп Иванович.
Марине сразу захотелось одернуть на себе плащ, помятый от ремня наплечной сумки, оправить прическу и сделать так, чтобы он не заметил, что туфли у нее старенькие. И сделать еще на себе что-то такое, чтобы выглядеть получше, покраше.
— Давайте вашу сумку, — предложил Каретников.
— Нет, что вы, не надо. Она легкая. Я сама… — Марина не хотела, чтобы он брал сумку в руки: ремни сумки — как засаленные жгуты, сумка повидала виды: и потерта, и в пятнах, которые уже никогда не отмыть.
Забравшись на заднее сиденье, Марина притаилась возле Прокопа Ивановича как мышка, хотя ей очень хотелось, чтобы пассажир на переднем сиденье обернулся к ней и заговорил, перебил многословного редактора.
— Вот ваш санаторий, — остановил машину таксист.
— Уже? — удивилась Марина: езды случилось всего минут на пять.
Она попрощалась с Прокопом Ивановичем и Каретниковым, поблагодарила их и выбралась из машины.
— Все-таки я донесу вашу упрямую сумку, — сказал Каретников, выйдя из машины вслед за ней.
— Все-таки не надо, — улыбнулась Марина, но по велению какой-то силы, которая обещала ей продлить знакомство, занятное знакомство с этим человеком, она передала свою дорожную поклажу в мужские руки.
До санаторного корпуса, белостенного высотного здания с голубыми лоджиями, на которых были видны полосатые шезлонги, вела короткая аллея; они прошли этот путь почти в молчании: две-три дежурных фразы («Как доехали?» — «Нормально». — «Народу много?» — «Только до Ростова» — «Понятно, не сезон…»), но у Марины что-то защебетало в груди.
У стойки администратора она сказала:
— Спасибо вам. Вы… вы настоящий рыцарь.
— Какой же я рыцарь? Всего лишь сумку донес… Увидимся. — Прощальный кивок головы. Прощальный взмах руки. Каретников уходит…
«Увидимся», — мысленно повторила Марина, и что-то забродило внутри, словно бы отведала впервые настоящего грузинского «Саперави», и первый легкий хмель колыхнул на приятной теплой волне разум.
Лифт поднял Марину на восьмой этаж. Она вошла в просторный холл, с зеркальной стеной и угловыми диванами; под огромным окном, в керамических напольных кашпо, грядою клубилась зелень. Она загляделась на растения, а потом увидела себя в зеркале и внутренне поежилась. Кургузенький серый плащ, вылинявший, с разбитыми петлями, еще с невестинских лет служивший и как пальто — с байковой пристежкой, черная, устарелой длины юбка, прямая, без разреза, монашеская, и туфли, в которых на публике стыдно показаться. Хорошо хоть перед отъездом успела в парикмахерскую сходить. Сделала себе любимое каре и покрасила волосы в любимый, подходящий к своим русым, светло-ореховый цвет.
Казалось, из отражения в зеркале накатила в душу нежданная сумятица. Зачем поехала, зачем согласилась? Тут же вспомнился обиженный, плаксивый голос Ленки: «Да, мамочка, уезжаешь, а меня не берешь. Сама-то у моря будешь греться, а мы тут мерзни… Ну и поезжай! Мне с папкой еще и лучше!» Сергей при провожанках был какой-то потерянный: не то чтобы недовольный, а молчаливый, рассеянно улыбающийся или сосредоточенный: как будто что-то хотел наказать, но не решался, медлил.
Марина подошла к окну; отсюда просматривалась аллея, по которой они шли с Каретниковым. Конечно, он уже давным-давно ушел и давно уехала их машина. «Увидимся… Еще бы ответил: зачем?» — игриво щекотнула себя Марина.
Дальше, там, за аллеей, магнитило взгляд долгожданное море.
* * *
Еще в короткой дороге, в такси, — дом Каретниковых находился от санатория поблизости — Прокоп Иванович с легкой скабрезностью намекнул Роману:
— Очень любопытная провинциальная штучка. Не так ли, друг мой?
— Хотите поухлестывать? — парировал Роман.
— Куда мне! Седьмой десяток. И не забудьте, дружище, каково количество декалитров золотой влаги пропущено через мой организм… Все-таки в провинции женщины не утратили своей непосредственности. Деревенские девки и раньше головы господам кружили. Готов поспорить — она вам понравилась.
— Может быть.
— Завтра мы собирались в Грузию. Так что? Грузинский вояж погодит? Или, возможно, отменяется? — лукаво закинул удочку Прокоп Иванович.
— Нет. Всё пойдет по плану. Сперва — Абхазия, потом переезд в Аджарию, в Батуми, — ответил Роман, но в голосе его улавливалось некое сожаление по поводу собственных слов.
3
Полнотелая, но очень проворная, бойкая бабенка Любаша с порога взяла новоприбывшую в оборот.
— Я уж тут который день одна тоскую. Не зря у меня нос чесался — к выпивке… Ну чё стоишь, как школьница? Располагайся! С приездом!
Не первый раз уже в здешнем санатории, бывалая Любаша с ходу просвещала Марину о порядках: какие процедуры «выпросить» у врача, кому из персонала «сунуть» шоколадку, на какие часы записаться на минеральные ванны.
— С мужиками тут, соседка, не разбежишься. Они тут при женах. Или уж взять с них нечего, кроме анализу… Тут все хохму рассказывают: одна женщина звонит по телефону подруге и говорит: «Маша, можешь сюда не приезжать. Мужчин здесь нет. Поэтому многие женщины уезжают отсюда, так и не отдохнув…» — Любаша засмеялась, и под ее крикливого леопардового раскраса кофтой, как студень при тряске, заходили, заколыхались большие, дынистые груди.
Ввечеру Марина и компанейская Любаша сидели в номере у накрытого стола — с бутылкой «Совиньона», фруктами и коробкой конфет.
— Я в зверохозяйстве работаю бухгалтером. Витяня, муженек мой, там же — завгаром. Деньги вроде позволяют — вот и езжу, лечусь. Я ведь двоих парней через живот родила. Оба раза кесарево делали… Старший-то, оболтус, уж по цельному портфелю колов носит. А младший пока сопли на рукав наматывает. Девку я мечтала родить, помощницу. Но не дал Бог. Пускай — парни. Лишь бы не пили… Мужики-то у нас уж больно хлипкие. Слабже баб. Чуть чего-то в жизни не заладилось, он и за стакан. А русским людям пить нельзя. Я по телевизору слышала: мы народ северный, у нас расщепленье водки в организме плохое. Вон тутошние кавказцы хлебают свою чачу — и ни одного алкаша… Я своего Витяню, бывало, на плече из гостей приносила. Но чтобы на работе — ни-ни!.. Твой-то, Марин, пьет?
— Как все, — машинально откликнулась Марина. — Ни «да» ни «нет» не скажу. Бывает. — На минутку задумалась, погрустнела.
…И одного того эпизода хватит, чтоб никогда не ответить «нет». Сергей пришел тогда домой сильно пьяным, угрюмым; Марина опрометчиво, сгоряча возьми да упрекни его: дескать, денег и так нет, а ты на водку; он вскинул голову, глаза красные, налитые злостью и — хлесь кулаком по стеклу серванта — загремело, зазвенело всё; Ленка выскочила из своей комнаты: увидав, побелела как лист, забилась в уголок: «Мам, я боюсь»; пришлось ее к соседям на ночь отправить, от греха подальше; Сергей потом тут и уснул, на полу, возле осколков, зажав голову окровавленной рукой; поутру казнился, на коленях перед Мариной ползал: мол, прости за свинство и за дебош, мол, начальство на заводе «вывело», несправедливо премиальных лишило, а тут еще дома укор про деньги… Она тогда нахлебалась собственных слез.
— Подымай-ка стакан-то! За нас! Не всё мужикам пировать! — приободрила Любаша. Хлопнула полстакана вина, поморщилась, целиком запихала в рот конфету. Еще не прожевав ее, заговорила: — У меня сегодня по гороскопу: застолье и песнопение. Может, споем, Марин, что ли? Эту, как ее: «Расцветет калина, если ты мужчина». Или эту вот… — Не дожидаясь согласия соседки, Любаша затянула песню на известный саратовский мотив с обновленным текстом:
Теперь поют без лишних слов Девчонки из Саратова: Уж лучше пять холостяков, Чем одного женатого…Марина отхлебывала из стакана кисловатый «Совиньон», глядела в окно на море. Солнце уже утонуло. Алый, разбросанный по воде след зари тоже потухал, сползая к горизонту. Все вокруг забирали под себя светлые сумерки. Эти сумерки были скоротечны: зыбкий вечерний свет в южных горных краях быстро насыщается теменью ранней ночи.
Любаша стала приготовляться ко сну. Массажной щеткой принялась шумно драть шапку осветленных волос — прическа-то налачена. Долго смывала косметику. Потом оболоклась в просторную белую ночную рубаху и села на постели — дородная матрона с круглым лицом, пышной грудью и полными руками, усыпанными мелкой рыжатинкой. Сидела неподвижна, задумчива. Но задумчива без печали, без усталости и напряжения в лице и осанке, — задумчива в какой-то веселой заторможенности. Вдруг Любаша задрала босую ногу, громко почесала широкую желтую пятку.
— Чё ни говори, а тот молоденький мужикашка, который в столовой напротив тебя сидит, мне поглянулся. — Она расхохоталась, обнажая зубы и какие-то мечтательные плотские замашки. Груди под тонкой ночнушкой у нее ходили ходуном. — С таким бы мужикашкой можно побалакать! Н-да-а, можно бы. — Она живо нырнула под одеяло, укуталась со всех сторон, подоткнув концы одеяла под себя, и затихла.
Марина погасила в комнате свет. За окном прояснилась в густых синих тонах южная ночь. Темным заостренным частоколом казалась вереница кипарисов, тянувшихся вдоль набережной. Над глухими тропическими кущами поднимала большую растрепанную голову высокая пальма. На вышке канатной дороги горели мелкие красные светляки. Над морем уже взошла луна — по затихлой ночной воде полосой струился матово-серебряный свет.
Под тревожной и зудливой ноткой разлуки с домом, со всем привычным в Марине пробуждалась радостная мелодия сбывшейся мечты. «Ликуй! Ты же у моря! — мысленно обратилась она к себе. — Здесь же как в сказке…».
Перед сном, немного стыдясь самой себя, стыдясь, потому что здраво призывала не думать, не вспоминать о нечаянном знакомстве с Романом Каретниковым, она все же с удовольствием припоминала детали этого знакомства, прокручивала короткие фразы подкупающего разговора. Эх, вздыхала Марина, Сергей у нее такой раздрызганный, неаккуратный: отпадет пуговица у пиджака, так и будет ходить, пока пропажу она или Ленка не заметит, не пришьет; а у этого Каретникова всё с иголочки, стильно — воротничок рубашки, обшлага куртки, светлые брюки — нигде лишней мятинки, пятнышка; даже небрежность в одежде, и та стильная; конечно, это деньги, но разве только деньги? Да, пожалуй, с таким можно было бы побалакать! Губы Марины лукаво покривились.
4
Так случалось с ней и прежде, особенно в девичестве, когда была студенткой. Ненароком какой-нибудь симпатяга парень на минуту-другую коснется ее судьбы, а Марине уже млится их счастливая совместная будущность. Она уже боготворит его, он уже безумно ее любит и готов подарить ей полмира — ведь остались на свете рыцари… Этакий эфемерный любовный платонический ветерок дурманил девичьи мозги. Да разве исключительно ей! Умом-то она понимала: приятное наваждение, сладкий призрак, а сердце стремилось остаться в иллюзиях.
«Где же он, этот гладко выбритый и модно одетый господин Каретников? С большими деньгами!» — шутливо обращалась Марина в мыслях то к себе, то к пузатому Прокопу Ивановичу, который и подсудобил волнующее знакомство.
Курортные дни, расчерченные режимом, текли весьма скоро, и сулёное «увидимся» превращалось в обман. Марина укоряла себя за сентиментальность: зачем она какому-то богачу из Москвы? Вон сколько девчонок, молоденьких, смазливеньких, свободных… Всё глупости, блажь! Но и сегодня вечером, когда собиралась в центр курортного городка на телеграф, чтобы позвонить домой, где-то по закоулкам желаний трепетал огонек обещанной встречи.
По санаторной аллее Марина всякий раз шла, как по райскому саду — очарованная. Словно огромный куст алоэ или гигантский моллюск, раскидисто вздымала над цветником толстые щупальца агава; будто фонтан из ярко-зеленых овальных листьев, рвалось к солнцу банановое дерево; низкорослый и корявый, торчал по краю клумбы твердый самшит, с мелкими, хитином покрытыми листьями; огромные кудлатые шапки пахучего, ядовитого своими плодами олеандра, с еще не распустившимися бутонами цветов, но уже пугающего густым ароматом; тюльпановое дерево, секвойя, дикий лимонник, рододендрон… «Какой благодатный край!» — улыбалась Марина окружающей ее зелени и глубоко вдыхала чуть-чуть йодистый от морской воды, насыщенно-свежий, с привкусом горной кавказской липы воздух.
Поверх кустов вечнозеленой туи, ограничивающих русло аллеи, в прогалах меж стволов высоких сосен, Марина опять фрагментами заметила странный дом. Она свернула с аллеи на тропинку, чтобы подойти ближе и разглядеть. Это был заброшенный соседний санаторий. Четыре этажа разграбленного дома с выбитыми стеклами, кое-где даже без рам, с проплешинами из серого камня — где осыпалась штукатурка, с темными пустотами вместо дверей. Среди курортного благоденствия дом выглядел устрашающе — как урод…
Марина уже слышала от всеведущей Любаши про этот злополучный санаторий:
«Недвижимость поделить не могут. Местная мафия на себя одеяло тянет. Московские жулики — на себя. Санаторий-то раньше какому-то заводу из Сибири принадлежал. Завод разорился, перешел в руки московских хапуг. Они сюда было рыпнулись, да здесь своего жулья хватает. На нашей, мол, земле санаторий. Вот и довели до ручки… Чё удивляться! По России-то теперь такого — сколь хошь…».
Марина с опасением и жалостью смотрела на этот дом. Она, казалось, уже видела его на хроникальных кадрах из военных съемок; будто не налеты современных варваров, не убыль жизни от жестокости реформаторства в стране, а война обобрала этот дом мирных людей. А ведь кто-то и сейчас живет при войне. Кому-то всё неймется. Чего делят? В Чечне, в Абхазии? В Осетии какие-то конфликты… В Приднестровье не уляжется. По всей России беженцы, вынужденные переселенцы. Даже в Никольске. Кого из Казахстана, кого из Туркмении судьба пригнала…
Тропинка, которая уводила Марину от мрачного дома и бессветных мыслей, лежала мимо неприметной, зелено окрашенной будки. «Наверно, старика садовника», — догадалась Марина. Каждое утро невысокий сутулый старик в темной куртке и черной каракулевой шапке — на любую погоду, с грабельками и ящиком для рассады появлялся у здешних клумб. Повстречав его однажды, забыть уже было нельзя. Слишком выразительное было у него лицо — не безобразное, но памятное, — в которое случайный прохожий мог посмотреть и, точно на портрете, увидеть усугубленный образный лик старости. Смуглое лицо садовника было безжалостно иссечено морщинами: глубокими бороздами и мелкими трещинами, вдоль и поперек. Садовник обитал тут замкнуто, ни с кем из отдыхающих не говорил. Если кто-то о чем-то у него справлялся, он отвечал кратко или указывал куда-то грабельками.
Пройдя еще немного по тропинке, Марина нежданно увидала старика. Невольно притаилась. Он стоял на коленях на маленьком ковре, расстеленном на земле, опустив голову, занятый мусульманской молитвой. Время от времени он поднимал кверху ладони, потом омывал ими свое лицо и седую редкую бороду и отбивал земные поклоны.
— Э-э, красавица! Подглядывать никрасиво! — огорошил Марину голос сзади, голос вкрадчивый и веселый, с южным акцентом.
Невдалеке стоял молодой человек в светлой фетровой шляпе и темной кожаной куртке, с ровно остриженной смоляной бородой и усами, с насмешливо-игривым блеском в черных-черных глазах, — какой-то броской кавказской породы, в которых Марина не разбиралась.
— Я не подглядываю. Я мимо шла.
— Разве ты, красавица, шутку ни понимаешь? — Он подошел к Марине ближе, заговорил еще тише и сразу по-свойски: — Это дедушка Ахмед. Мы с братом у него сичас остановились. Уважаемый дедушка. Трушеник… Ни надо мешать ему. Пойдем, красавица. Я тибя провожу. Меня Русланом звать.
Его незамедлительное «ты» не резало Марине слух и не ущемляло. Будто заговорил с ней простодушный подросток, которому такая фамильярность простительна. Голос у него был вежлив и добр по окрасу. Говор по-русски почти чистый, лишь иногда проскочит что-то смягченное, кавказское: «ш» вместо «ж», или «и» вместо «е». «Пускай проводит, так даже интересней. На бандита не смахивает. Дорогим одеколоном пахнет. Шляпа солидная. И борода вон как острижена — волосок к волоску…» — мимоходом отметила Марина.
Телефонный узел на почтамте нынче не работал: «Закрыто по техническим причинам». Марина расстроилась: она обещала Ленке и Сергею позвонить именно сегодня.
— Ты не знаешь, — она уже говорила с Русланом по-компанейски, — где здесь еще междугородный телефон?
— Конешно, знаю, красавица. Рядом. Только за угол поверни.
— Шутишь?
— Честное слово горца, — рассмеялся Руслан.
— А ты откуда сюда приехал? — поинтересовалась Марина.
— Из Краснодара. Я сын Кавказа, красавица… Э-э, обишаешь, красавица… Я тибе чесно говорю — за углом.
За углом оказалось летнее кафе со стойкой бара и белой пластиковой мебелью под клеенчатыми пестрыми «грибками». Марина хотела возмутиться и тут же уйти, но радушный сын Кавказа упредил:
— Садись и звони куда хочишь, красавица. — Он достал из кармана своей темной кожаной куртки сотовый телефон.
— Я… я по такому не умею, — осторожно вертела в руках Марина миниатюрную трубку. — Это, наверно, дорого?
— Обишаешь, красавица. Называй цифру… Кушать что-нибудь хочишь?
От еды Марина отказалась. Но вина — сухого красного грузинского «Саперави» — немного выпила: испробовала настоящего, ведь в Никольск под такой маркой наверняка привозили суррогат. Да и поддержала компанию доброму горцу, который услужил: она дозвонилась до Ленки. Сергея дома не оказалось, видать, с работы еще не пришел.
— Красиво здесь, — сказала Марина, глядя на море. Над морем плазма солнца под белесым дымком облаков уже стала малиновой. Тихо вечерело.
— Не-е, красавица. Здесь ищё ни красиво, — возразил Руслан и указал рукой на горы. — Красиво там. По канатной дороге. У водопада. Там озеро. Всё очинь лучше видно… Пойдем, красавица. Я тибе покажу. Ехать десят минут. Экскурсия. — Руслан поправил на голове свою шляпу, обретя что-то ковбойское: — Ни о чем ни беспокойся, пожалуста. Там настоящий пизаж, красавица.
Марина снисходительно улыбнулась на «пизаж», отпила немного вина из стакана, поймала взглядом кабину, ползущую по толстому тросу к верхней нагорной вышке. Хоть разок прокатиться по «канатке» — она давно загадывала…
С высоты, когда кабина канатной дороги, точно птица, плыла над склоном горы, над разверзнутой пропастью с отвесными скалами, у Марины радостно кружилась голова. Совсем не было страшно. Просто дух захватывала необычность: горы — в коврах вспыхнувшей по весне зелени, чаша моря, облитая золотом нисходящего солнца. И легкий сладкий хмель от грузинского вина.
Поблизости от вершинного колеса канатной трассы, в изысканном местечке, меж двух склонов на небольшом плато, примостился ресторан-шашлычная. С севера, там, где начинались горные отроги, серебрился живой струящейся водой двухступенчатый водопад, который растворялся в небольшом озере с берегами в нагромождении каменных глыб. С юга — во всю ширь, во весь возможный простор, на весь размах рук и души — открывался окрыляющий вид на море.
Открытый ресторан был увешан декоративными рыболовными сетями. Для декора и диковинки служило и искусственное озерцо, в котором ходила форель. Озерцо подсвечивали фонари, и плавники у рыб казались розовыми, похожими на розовые воздушные воланы юбок… Но главная достопримечательность — смотровая площадка, вынесенная чуть вперед, над ущельем. Там в зрителе появлялась жажда полета: море притягивало, заманивало в синюю необъятность — и воды, и неба над водой.
— Здесь вкусный шашлык. Весь натуральный. Хороший шашлык только из хорошей баранины, — сказал Руслан, махнув рукой парню-шашлычнику, который стоял у мангала; оттуда щедро распространялся запах жареного мяса и каких-то пряностей.
— Мне только кусочек! Один кусочек! Слышишь! — предупредила Марина.
— Опять обишаешь, красавица, — развел руками Руслан. Девчонке официантке он негромко бросил: — Коньяку принеси.
— Коньяку? Ты с ума сошел! После вина? — запротестовала Марина.
— Э-э, красавица. Градус на повышение — это ни вредно. Я учился в пищевом институте в Краснодаре. Специалист. По двацать грамм — кровь лучше ходит, — рассмеялся Руслан.
Такого шашлыка Марина прежде не пробовала. Сочные куски баранины, обжаренные на открытом огне, прокопченные дымком, с кольцами лука и помидоров, перехватывающая горло аджика, зелень: петрушка, укроп, кинза… Ко всему — тост Руслана: «За твою красоту, красавица!» — и дурманный своей крепостью и ароматом коньяк. Тепло и легко внутри!
В кармане куртки Руслана затирликал мобильный телефон. Руслан заговорил на каком-то своем, кавказском языке. Марина, дабы не подслушивать пусть и непонятного, но чужого разговора, поднялась из-за стола и вышла на смотровую площадку. Вновь, как несколько минут назад, когда впервые взглянула отсюда, ее опахнул и подхватил морской простор. За спиной у нее возвышались горы и слышался отдаленный бесконечный говор водопада. Впереди, в расстилающемся золоте заката, к берегу, будто к ней навстречу, двигалось судно. Разглядеть его поточнее было невозможно — далеко. Вероятно, прогулочный катамаран возвращался к причалу. Но Марина романтично примерила к себе желания гриновской мечтательницы Ассоль: будто в море фрегат, над которым способны взметнуться алые паруса неизвестного Грея…
Сзади к Марине подошел Руслан, протянул ей бинокль.
— Здесь всё налажино, красавица, — ответил он на ее удивленный взгляд и рассмеялся: — Теперь ты, красавица, — капитан на корабле!
Марина стала искать в окуляры судно и в то же время почувствовала, что Руслан осторожно приобнял ее за талию.
Стемнело очень скоро. Канатная трасса закрылась. С экзотических шашлыков пришлось возвращаться по узкому серпантину. Когда на горной дороге нанятая Русланом машина виляла из стороны в сторону, а свет фар метался по придорожным скалам и кустам, Марине становилось дурно, ее мутило, не хватало воздуху.
Руслан сидел рядом, на заднем сиденье, веселый, с блестящими глазами, неизменно широко улыбался и обнимал Марину за плечи. Время от времени она пыталась высвободиться из его рук, но то ли не хватало сил, то ли Руслан был настойчив…
— Зачем мы здесь? Мне же в санаторий! — испугалась Марина, когда водитель причалил свой автомобиль в полутемной улице к какому-то забору с калиткой.
— Сичас, красавица, пересядем в другую машину.
Возможно, Марина взбунтовалась бы, начала скандалить, не вышла б из машины или стала просить защиты у водителя, но в эти минуты ей было плохо. От непривычной острой пищи, от вина, от коньяка внутри копилась тошнотворная тяжесть, в голове шел хмельной гул, все тело было ватным, чужим. Она неловко, принужденно выбралась из машины, которая тут же тронулась прочь — по глухой улице, с редким светом в окнах низких домов, едва сочившимся сквозь садовые заросли. Руслан подхватил Марину за локоть и засмеялся:
— Мой дом — твой дом! — Он открыл калитку, и Марина в полутьме увидела низкий одноэтажный дом, сложенный из разных необтесанных камней, с узкими окнами. В одном из окон брезжил свет. — Воды стакан выпьем, красавица, и поедем…
У стены дома, на столбе, Марина разглядела рукомойник. Казалось, здравая мысль толкнула вперед: надо умыться, освежить хотя бы лицо. Она вошла в калитку. Повесила свою сумочку на гвоздь на столб, но еще до того, как поднять носик рукомойника, почувствовала сильные властные руки Руслана. Он обнял ее сзади, крепко, уцеписто, с животной страстью. Марина тут с ужасом поняла, что не сможет сопротивляться, что у нее не хватит сил отбиться от него, что звать на помощь некого, да и кричать, визжать — для этого тоже нужен запал.
Чуть позже в доме, куда затащил ее Руслан, в какой-то темной комнате, где пахло табачным дымом, Марина вздрагивала и охала от насильных действий. Руслан торопливо и безжалостно сдирал с нее колготки, распаленно шептал с угрозой:
— Платье сама снимай, красавица! Вдруг парву…
Потом он завалил Марину на какую-то твердую постель, будто на кушетку. И дальше — тяжесть его тела, горький запах его пота, частое свирепое дыхание и колючие волосы бороды. Всё это длилось долго, больно. Марине хотелось провалиться в хмельное затменье, в беспамятство. Или истошно взвыть и молить неведомо кого о пощаде.
Потом она сидела на постели, съежившись и дрожа, прикрываясь своим платьем. Руслан сидел рядом, размягченно отдышивался. И казалось, посмеивался в темноту. Вдруг в комнате, в потемках угла, раздался щелчок зажигалки. Желтое вытянутое пламя высветило бородатое лицо наголо обритого человека. Он сидел на стуле в полосатом халате, в распах виднелась его черно обволосевшая грудь.
— Это мой старший брат Фазил, — весело сказал Руслан. — Э-э, красавица, не спеши! Еще не всё. Я всегда делюсь со своим братом… Шуметь не надо… Вкусный шашлык кушала? Кушала… Вино пила? Пила…
Марина рванулась с кушетки, но ее остановили сразу четыре руки.
5
Огромный заводской цех с высокими клетчатыми окнами в давнем и загустелом слое пыли покинуто безмолствовал. Ряды токарных и фрезерных станков уже позабыли рабочую сноровку и уход — тоже подернулись клейкой пылью. В станочных шеренгах кое-где зияли пустоты: некоторые станки находили себе новых, нездешних хозяев; иные были сорваны, сдвинуты с мест — ждали, когда их обколотят деревянными щитами и свезут отсюда.
Посреди цеха, на главном проходе, лежал на боку, видать, нарочито опрокинутый и уж точно обматеренный электрокар с черными задранными колесами, иссеченными металлической стружкой. Словно ребенок-переросток швырнул эту гигантскую опостылевшую игрушку… Возле станков валялся никчемный инструмент: стертые напильники, сломанные сверла, тупые щербатые фрезы, тут же — рваная промасленная спецовка, защитные пластмассовые очки, ботинок из толстой грубой кирзы.
Гулкое пространство цеха подхватывало шаги Сергея Кондратова и вторило им где-то под высокими сводами негромким эхом. Сергей взглянул вверх: прежде, когда тут работали люди, на сквозных бетонных матицах сидели дикие голуби, они не боялись станочного шума. Теперь насесты пустовали, очевидно, и птицы отступились от этого обанкротившегося хозяйства.
— Нечего жалеть, Кондратов! Сдохло производство, ну и хрен с ним! Вон, погляди американские боевики. Где все бандиты устраивают разборки? Вспомнил? Да? — Начальник цеха Окунев, крепенький и кругленький, как гриб-боровичок, с залысинами и шустрыми серыми глазами, был сейчас особенно говорлив; он как будто оправдывался, что остался и при должности, и при службе, несмотря на повальное цеховое безработье. — Там у них, в Штатах, целые комплексы брошены. Склады, порты, ангары разные. И ничего! Одно дело рухнуло — другое начинают. А мы вечно сопли жуем!
— Я американские боевики не смотрю, — негромко сказал Сергей. — Почему расчет не дают? Уже которую неделю тянут.
— Завтра приедет новый директор, у него и спрашивайте. А я что? Я как все. Я тут вроде сторожа оставлен. Сам без денег сижу. Начальником цеха только считаюсь, прав никаких. В Штатах контракт с менеджером заключают, там всё прописано… — Окунев опять зачастил словами, ввертывая забугорные примеры.
Сергей потупился: он ведь, по правде-то сказать, шел к Окуневу одолжить денег. Вышли они с ним из одной альма-матер — сокурсники в политехническом институте, немало лет проработали здесь, под общей цеховой крышей; как-то раз даже семьями ездили на турбазу. Но нынче Окунев для Сергея неподступен. Вьется, юлит, такого не ухватишь, по-дружески по плечу не похлопаешь.
— Станки, оборудование — куда? Уже продали? — спросил Сергей.
— По дешевке какие-то поляки выторговали. Скорее всего, перекупщики, спекулянты. Они это умеют. Не то что мы, сопли жуем.
— Неужели тебе ничего не обломилось?
Окунев раздраженно скривился, нервно махнул короткой толстой рукой; перешел в тихое наступление:
— Ты чего пришел-то?
— В свою лабораторию. У меня там… — Сергей замялся. — Вещи кой-какие, книжки. Оборудование из лаборатории тоже продано?
— Пока нет. Да и кому оно нужно? Так всё растащат. Одно старьё — взять не хрен.
— У кого ключ?
— У меня? Зачем тебе?
— Сказал же: личные вещи забрать.
Окунев неохотно достал из письменного стола ключ, протянул Сергею, спросил смягченным до приятельского тона голосом:
— У Маринки-то в управлении как? Не сокращают?
— Вроде нет.
— Попробуй к ним устроиться. У них управление от железной дороги. Там все ж понадежней. Не разбазарили пока.
— Попробую. Вот приедет и попробую.
— Где она?
— На Черном море, в санатории.
Окунев с фальшивой радостью подхватил:
— Вот видишь, Кондратов, не все так плохо. У наших безработных жены по югам катаются! А я вот и забыл, когда к морю-то ездил.
— Маринка тоже не заездилась. Первый раз выпало, — тихо бросил Сергей и вышел от Окунева.
Запустение — как незримая инфекция… Сергей стоял посреди лаборатории измерительных приборов, куда приходил добрый десяток лет, стоял, озирался и подмечал необратимые преобразования. Как в старом доме, из которого навсегда расселили жильцов, а дом обрекли на снос, не потому что слишком ветхий, а потому что мешал кому-то; жильцы побросали здесь вещи, им уже ненужные, но еще годные по существу. Осциллограф без кожуха, с внутренностями, кишащими проводами, раскуроченный тестер с расколотым стеклом, паяльник, уткнутый черным жалом в баночку с канифолью, кривое кольцо скрученного электропровода, полбанки засахарившегося смородинового варенья, покрытого белой плесенью, коричневая пыль на столах, на полках, на подоконниках. Горшок с мумией цветка и воткнутым в землю окурком. По полу рассыпаны канцелярские скрепки.
Над рабочим столом Сергея размещался испытательный стенд, утыканный приборами, кнопками, клеммами. Этот стенд он монтировал несколько месяцев, почти год… Сергей даже до конца не формулировал эти мысли — рождавшиеся мысли будто кружили в спертом воздухе, валялись на полу, вязли в густой пыли — обрывочные, размытые, горькие… На окошке кассы в заводской бухгалтерии надпись: «Денег нет. Просим не стучать»; оборудование распродано; завод по воле министерских деляг принадлежит теперь каким-то новым хозяевам, может, через подставных лиц — иностранцам, которые вряд ли вернут к станкам рабочих. Стенд? Кому он нужен? Продадут за несколько центов или на свалку. Растащат какие-нибудь ханыги на цветмет… Сергей взял из слесарного ящика монтажку, подошел к стенду и со всего маху вдарил по нему. Вдарил раз, второй, третий — по самому центру, по густоте приборов, по дисплею. Полетели стекла, пружинки, стрелки приборов, громко лопнула какая-то лампочка. Поочередно, зацепив монтажкой углы стенда, Сергей выдрал свое «рационализаторство» с мясом из кирпичной стены. Снова что-то стало рассыпаться, разваливаться, что-то непоправимо лопнуло. Сергей положил на место монтажку и, злобно удовлетворенный тем, что стенд опрокинуто пал «лицом вниз» и «восстановленью не подлежит», вышел из лаборатории.
Ничего не жаль: ни труда, ни времени, ни мозгов! Только — притупленное неизбежностью разочарование. Будто готовился к важному экзамену: читал, штудировал, запоминал. А после взяли да экзамен отменили. Эти знания, мол, теперь ни к чему. Но и затраченной энергии не восстановишь.
— Там, в лаборатории, стенд отвалился. Крепеж, видать, ослаб. Ты скажи уборщице, чтобы подмела, — угрюмо произнес Сергей, передавая ключ Окуневу.
— Ни хрена не врублюсь. Какой стенд? — недоумевал поначалу Окунев. Но вскоре, видать, доперло: залысины налились красниной: — Ты чего, Кондратов, неприятностей хочешь? Статью захотел? Да?
— Супруге своей привет передавай, — перебил его Сергей и вышел из кабинета.
* * *
Еще поутру, накануне, до бесплодного похода на завод, Сергей заглянул в овощной ларь, что стоял в коридоре. Картошки там почти не осталось — несколько маленьких, одрябло-сморщенных, с белыми ростками. Потому и захватил авоську, чтобы зайти к Сан Санычу и Валентине — в погреб, за картошкой. Шалая вода недавнего весеннего проливня уже ушла из подвалов и овощных ям и хотя картошку у родственников значительно подпортила, но вконец не сгубила.
До старого города неблизко. Надо бы добираться на автобусе. Но Сергей решил пешедралом, хотел сэкономить, выгадать на пачку сигарет с фильтром: от дешевой «Примы» нападал кашель, хрипело в легких. «Опять, гады, не рассчитались! Придется в долги лезть». Завод, опустелый и тоже будто обманутый, остался за спиной. На стекле заводской проходной была прилеплена листовка, зазывающая рабочих на протестный сбор.
Пройдя несколько коротких никольских кварталов, Сергей вышел на набережную, направился в сторону моста через реку. После теплых ливней берега Улузы обнажились, белизна снега сменилась скучной тканью — блекло-зеленая трава и серовато-ржавый палый прошлогодний лист; кое-где тускло краснели мокрой глиной крутые овражистые склоны. Лед с реки уходил, по обыкновению, в середине, а то и в конце апреля. Нынче же казалось, что бесснежный, омытый циклоном панцирь на Улузе уже очень тонок и вот-вот хрустнет, уползет прежде срока.
Ни одного рыбака на реке. Даже в затоне, вкруг которого подковой щетинился бордовый тальник и где до самого ледохода сидели нахохленно над лунками мужики, нынче — ни единой души: то ли опасно хрупок лед, то ли спит рыба, не дается. Значит, и Сергею нечего помышлять о подледной.
Вдоль набережной тянулся неширокий парк с чередой тополей, берез, кленов, с редкими, раскорячившими черные ветки дубами. Нечаянно, однако цепко, словно искал и подгадывал такую находку, Сергей заметил близ скамейки пустую бутылку. Из темного стекла. Такая рубль стоит, светлые вдвое дешевле… Нет, этого еще не хватало: пустые бутылки собирать! Переживем как-нибудь. К приезду Маринки что-нибудь да проклюнется. Сергей не сказал ей, не признался, что перед самым ее отъездом с заводом у него кончено — кранты! — и возврата туда нет; теперь уж точно нет, после встречи с Окуневым. Да катись всё к чертям собачьим! Перетерпим! Ему хотелось забыться, помечтать, отвлечься чем-то светлым, хотя бы воспоминаниями из детства, когда на тот же улузовский затон ходили ватагой пацанов купаться и по вечерам подглядывать из кустов, как взрослые целуются… Но хватало таких воспоминаний на несколько шагов. Безденежье гнётно возвращало в сиюминутность, скребло, будто какая-то главная железа внутри организма воспалилась.
Полог неба был пасмурен, туманен, лишь с малыми клочками синевы. Солнце поживело, но еще не раскочегарило весну, таилось в основном за тучами. Ветер с реки, с заречных полей был прохладен и будто бы сер по цвету. Здесь, на малолюдной, почти пустынной набережной положение какой-то потерянности и безнадежности становилось еще ощутимее. Казалось бы, Сергею Кондратову в таком положении надо как волку рысачить по конторам, выгадывать себе новое место, но он зашел в одну фирму, стыдливо помялся перед худосочной соплюхой с напудренным носом, которая представилась: «директор по персоналу», и, не дослушав ее урок о составлении резюме, ушел как побитый; правда, наведался еще на биржу труда, то бишь никольскую службу занятости, посидел напротив очкастого беспомощного инспектора — мужичка пенсионных годов в пиджачке с залоснившимися лацканами («пока инженерных вакансий нету»), потыкался в доску с объявлениями и как будто перестал верить… Махнул рукой. Куда кривая вывезет!
Вдруг Сергей оглянулся: позади — никого. Впереди тоже ни одного близкого встречного. Резко повернул к березе. Две пустые бутылки лежали горло к горлу, плечо к плечу, как двое друзей, которые, может быть, недавно и похмелились тут, под белостволой. Озираясь, Сергей быстро сунул бутылки в авоську и быстро стал возвращаться назад, чтобы забрать и ту порожнюю посудину, которой прежде побрезговал. «Уж до кучи! Раз пошла такая пьянка!» — кому-то стыдливо и самоиронично признался он.
Когда Сергей ступил в улицы старого города, в авоське у него тихо позвякивало пять пустых бутылок. Невдали от продмага, у перекрестка, где полюдней, громоздились стопкой пустые ящики, рядом с ними — приемщица стеклотары, баба в толстом пальто, в полушалке, в валенках с калошами. Наряд для такой работы подходящий: не гляди, что весна, поторчи-ка целый день-то!
— Посуду-то принимаете? Почем? Темная у меня!
Баба в толстом пальто живо оглянулась на приветливый голос. Она сидела на ящике и, пристроив на коленях газету, зажав в грязной белой перчатке карандаш, разгадывала кроссворд.
— По рублю, Сережа, как у всех.
— Танюха?!
— Она, как видишь.
Откуда-то с небес, с планеты юности, свалилась одноклассница Татьяна. Они не видались с ней почти со школьной скамьи.
«Таня, Танечка, Танюша…» — то ли песенка такая была, то ли присказка, то ли зачин стишка, так славно подходившего к Таньке. В ту пору у девчонок в моде были мини-юбки, стрижки «под Гаврош», а любимая дворовая игра — бадминтон. Сергей с Танькой этой игре столько времени отдали! Даже не общий школьный класс и бывалое соседство по парте, а легкий воланчик, что порхал от ракетки к ракетке, прочертил траекторию доверия, сдружил их.
…«Какой она телочкой стала! Я целячок ей попорчу. Таньку обую!» — при свидетелях порешил вор по кличке Кича. Он только что отмотал пару лет сроку, вышел с зоны и, увидев уже повзрослелую Таньку — подкрашенную, в короткой юбчонке, — запал на нее с алчным похотливым прицелом. У никольской шпаны Кича был в фаворе: за плечами геройская биография — посидел и на малолетке, и на взросляке, фирменные тюремные татуировки на теле, а в кармане всегда — финка. Сергей с хулиганской братией компанию не водил, но про аппетиты Кичи был наслышан: слухи доходили от ровесников, и сама Танька горестно намекала: охотится, мол, за ней… Заступников у Таньки не находилось: ни старших братьев, ни влиятельной родни; отец-инвалид, полусвихнутый пьяница, и мать — уборщица из заводской столовки. «Я Таньку все равно обую!» — щурил злые масленые глаза Кича. Он не только посягательством, но уже одним своим бандюжеским видом — коротко стриженный, с «блатным» пробором посередке, бровью, пересеченной шрамом, татуированными кольцами на пальцах — наводил на окрестных парней и девок страху. «Не обуешь, гад!» — решил для себя Сергей. Решил после того, как Танька призналась ему: «Он вчера меня в сарай затащил. Руки полотенцем хотел связать, чтоб следов не было. Стал издеваться. Приставал. Говорит, давай по-хорошему… Еле вырвалась. А в милицию потом не пойдешь. Ведь потом все пальцем тыкать станут…» — «Ты не реви, Танюха. Я чего-нибудь придумаю». — «Чего ты придумаешь?» — «Чего-нибудь».
Придумал. Подстерег Кичу и не грубо, но твердо сказал: «Ты Таньку не трогай. Я парень ее…» — «Чего? Откуда ты выполз, шнурок?» — «Ты Таньку не трогай! Я… я жениться на ней буду… Она невеста моя. Не трогай». Сам Кича возиться с Сергеем не стал: шестерки из местной шпаны по наущению Кичи выбили Сергею зуб, а уж синяков на теле у него оставили не счесть. Но разговор подействовал: Кича не наглел, Таньку пожирал глазами, над «женихом» глумился, но рук к чужой невесте больше не тянул. А Сергей с тех пор усердно играл роль жениха, всегда провожал Таньку по темной поре и после танцев до дому, до самой квартиры. И ни разу не поцеловал.
Зато в июньскую вдохновенную ночь школьного выпускного вечера Танька зазовет Сергея в дом своей бабушки, где бабушка-то как раз и не находилась, обовьет его шею руками, прижмется всем телом к нему, неумело-страстно, по-девичьи, зашепчет горячим шепотом: «Слышь, Сереженька, полюби меня. Я тебе по праву досталась. Если б не ты, Кича бы не отстал… Ты меня спас. Парня любимого у меня все равно нету, а ты друг. Навсегда мой друг. Будь моим первым…».
Голос Таньки дрожал, и оттого еще соблазнительней были ее неловкие объятия. Сергей раскраснелся, чувствовал, как кровь ударила в виски, пульсирует, отдается во всем теле. Но нахлынувший плотский жар оборол. Стеснительно отодвинул от себя Таньку: «Неправильно как-то. Любимого парня, говоришь, у тебя нет… Меня отдаривать не надо. Я тебе от чистого сердца хотел помочь. Не надо платы… А любимого парня ты еще встретишь. Обязательно встретишь». Так они и расстались, в чем-то друг друга не поняв. Сперва на несколько дней. А спустя полгода — почти на два десятка лет.
Любимый парень для Татьяны ждать себя не заставил. В военную комендатуру Никольска приезжал молодой лейтенант на стажировку, он и стал любимым. Скоро Татьяна махала косынкой с подножки поезда остающемуся Никольску: женой офицера отправлялась в дальневосточный приморский гарнизон.
— …Так и мотались по воинским частям. Приморье, Средняя Азия, Кольский полуостров… Потом армию стали душить. Кругом бедность, разор. Муж уволился, подался на свою родину, в Рязань. А я — сюда, на свою малую родину. Разошлись мы с ним. Закладывать он стал сильно, руки распускать… Дочка выросла, в Питер уехала, в колледж поступила. А я здесь. Домушку вон на окраине купила. Там и живу. Специальности у меня — никакой. Вот бутылки принимаю, да и то иной раз просчитываюсь… Я уж видела тебя, Сережа, однажды. Ты с женой и дочкой недалеко отсюда проходил. Я не окликнула, постеснялась… Жизнь-то меня не шибко украсила. — Татьяна усмехнулась, развела руки: дескать, вот погляди-полюбуйся: какова «клуша накутанная». Поправила на руке порванную перчатку, из которой высовывался средний палец с розово накрашенным коротким ногтем.
— Все такая же, — приободрил Сергей. Но вслед комплименту подумал в противовес: «Видать, помотало тебя в жизни, Таня, Танечка, Танюша». Стало почему-то очень жаль ее, потолстевшую, подурневшую, однокашницу и партнершу по бадминтону, названную невестой. Жаль — словно опять посягал на нее циничный блатарь Кича.
— Давай, Сережа, бутылки-то. — Татьяна расставила в ящике посуду, отсчитала деньги.
— Ураган был, как ты? Дом не нарушило? — спросил Сергей, уводя разговор от посуды.
— Ветрище дул, думала — снесет, — рассмеялась Татьяна. — Полечу, как та девочка из сказки…
— Элли из Изумрудного города.
— Ты все помнишь. Недаром хорошистом в школе-то числился.
— Я недавно эту сказку дочери читал. Она любит сказки слушать.
Неловкая пауза в таком общении была запланирована. Казалось, можно было говорить и говорить, рассказывать да вспоминать, но что-то говорило за них помимо слов; взгляд, наитие без объяснений открывали подноготную давно не видевшихся людей и встретившихся нежданно у пустых ящиков под посуду. Сергей кивнул головой, простился. Татьяна помахала ему рукой вослед и опять села на ящик, склонилась над газетой с кроссвордами. Но карандаш брать не спешила.
6
«У кого про что, у вшивого всё про баню. Опять они про масонов…» — догадливо усмехнулся Сергей, издали разглядев дружескую пару.
Для Сан Саныча и Лёвы Черных, словно утешливая погремушка для младенца, словно сортовой табачок для заядлого курильщика, был любимым и неотвязно прилипчивым спор о евреях. С полуоборота, с полунамека, даже с полуискры — по веянию каких-то трудно уловимых ассоциаций возгоралась эта неисчерпаемая «русская тема».
Нынче спор обуял их перед домом Сан Саныча, на лавке, у палисадника. Они сидели после восстановительных работ: только что устлали новым рубероидом сарай, кровлю которого истрепали недавние ливни.
— Крути не крути, факт неоспоримый: евреи самый умный народ. В них генетика живучести, сионская солидарность. Только такая сильная нация, не находясь на вершине политической власти, смогла взять в свои руки капиталы Америки. — Слова Сан Саныча звучали убедительно, плотно и, казалось, малой щелочки не оставляли для возражений. — Про наши деньги и говорить не приходится. Обставили нас в два счета.
— А вот не хренчики ли им! — сложив из веснушчатых пальцев кукиш, язвительно и весело сказал Лёва. Маленького роста, конопатый, с отчаянно рыжими курчавыми волосами, остроязыкий визави Сан Саныча никогда не уступал. — Они в революцию семнадцатого года тоже думали: уж всё! Всё в их власти! Губёшки-то раскатили. Да ведь перышки-то Сталин пообщипал! — Лёва расхохотался. — Чем больше сегодня нагрешат, тем больше завтра и спросится.
— Всё мы какими-то глупыми мечтами тешимся. Всё о небесном возмездии мечтаем. Не для себя — для соседа! А достойная жизнь мимо нас проходит, — пессимистично возразил Сан Саныч. — Даже свой талант приспособить во благо не можем. Вот поэтому старые гнутые гвозди правим, чтоб крышу ремонтировать… А в них — вековая культура, народ Книги. Талантливы как черти, трудолюбивы как муравьи. И пить умеют.
— Тут угодил ты в самую суть! — обрадовался Лёва. — Закусывать они могут умеючи. А про таланты я не согласен с тобой, Саныч. Талант таланту рознь. В них талант узенький. Широты в них нету, удали. У нас гений кто? — Лёва, вытянув рыжий ёрнический нос, заглядывал в глаза Сан Санычу. — У нас гений Федор Иванович Шаляпин! А у них — Аркадий Райкин. Певец и паяц. Чуешь разницу? Или художники. У нас Васнецов с «Тремя богатырями». У них Шагал — с синим петухом, похожим на осла. — Лёва рассмеялся, устрашительно потряс указательным пальцем: — А финансовая власть для них — способ выживанья. Защитная реакция организма! Как панцирь для черепахи… Кровь из носу — стань богатым! Чтоб оградиться от мира. Чтоб спастись. Всеми щупальцами к деньгам! Евреев-то без денег давно бы смяли. Как эскимосов каких-нибудь. Или индейцев. Загнали бы куда-нибудь в резервации, подальше. В Биробиджан… А много ли их там, в Биробиджане-то? Знаешь?
Взбалмошный Лёва наседал коршуном, не скупился на восклицания, смачно сдабривал речь издевочным хохотом.
— Вот ты нам скажи, Серёга, — издали обратился Лёва к идущему к ним Кондратову, — у вас на погранзаставе, когда служил в Забайкалье, евреев много было?
— Да я уж тебе не один раз говорил, — усмехнулся Сергей, протягивая руку раззадорившемуся Лёве и распалившему его Сан Санычу. Сел с ними на лавку, закурил.
— Вот и в Афгане наших семитов я не очень разглядел, — продолжал Лёва. — Журналюга один из Москвы прилетал, помню. Всё у бэтээра фотографировался. А среди солдат — не встречал. Потому, Сан Саныч, нету никакого природного антисемитизма. Антисемитами не рождаются!
— Завтра на завод новый директор приезжает, — вступил не по теме в разговор Сергей, обращаясь к Лёве. До недавнего дня Лёва Черных тоже работал на заводе снабженцем-экспедитором, покуда и его непоседливая деятельность оказалась не востребована. — Мужики у проходной собраться хотят. Вроде пикета. Потолковать с новым начальством. Придешь?
— Чего с ним толковать? Какой-нибудь еврейский олигарх завод давно уже прицапал. Свою марионетку сюда шлет, — живо отозвался Лёва. — Завод уж мертв. Пустят здесь линию по производству водочки. Пущай русский мужик поскорей спивается да подыхает. Современные шинкари, христопродавцы… — Лёва еще туже завязывал русско-еврейский узел. На любое объективное или адвокатское по отношению к евреям возражение Сан Саныча наскакивал огненно-рыжим ястребом, одетым в солдатский камуфляжный бушлат.
Сергей слушал Лёву вполуха: слыхивал он от приятеля уже много юдофобских рассуждений. Только проку-то! Собственную дурость на другого не перевесишь. От хулы в кармане не прибавится.
— Олигархи не на пустом месте рождаются. Горбачев, Ельцин, Черномырдин, — подбрасывал угольку в прожорливую топку неиссякаемой темы Сан Саныч, — по национальности — русские. У них в руках все бразды. Во всех губерниях, во всех почти городах — губернаторы и мэры тоже русские. Русские в России правят, так почему…
Лёва не давал досказать, злоехидно подхватывал:
— Русские правят, да не русские заправляют! Все еще по ленинскому принципу живут. Демократы, а расклад — большевицкий! Коль начальник русский, заместитель должен быть еврей! А если главный — жид, в замы ему — славянина сунуть!
— Ты больно-то не шуми, — приосадил Сан Саныч, оглянувшись по сторонам.
Лёва от смеха затряс курчавой головой:
— Вот оно как! Матерись из души в душеньку — никто тебя не остановит. А скажи слово «жид» — как шилом в задницу!.. А в книгах почитай. Такое понапишут — сблюешь. Матюгов — хоть лопатой греби. Но попадись «жид» — тут сразу вся интеллигенция на дыбы. — Лёва не усидел на лавке, вскочил, язвительно метал копья в Сан Саныча: — У тебя в школе детки матюжок из трех букв нацарапают на стене — ты завхозу скажешь: стереть, закрасить. А ежели вот «жид» напишут — целое, поди, расследованье устроишь. Кто написал? Да еще дойдет до прессы. Набегут дураки из газет. С ними какой-нибудь подлец с телевидения… Ладно, некогда мне лясы точить. К Борьке Вайсману обещался, — сказал Лёва, запахиваясь армейским бушлатом. — У него ураганом антенну-тарелку сорвало. Надо помочь.
— Ну вот, — без укоризны укорил Сан Саныч. — Тоже мне антисемит. Чуть что — еврею плечо подставлять.
— Русские антисемиты — самые добрые антисемиты в мире. Да и что с еврея взять? Он ведь в России без русского как дитя. В шахту не полезет. Лес валить не станет. В армии служить не захочет. Землю пахать не сможет. Водопроводный кран и тот не починит. Только на скрипках играть, рожи в телевизоре корчить да пером по бумаге скрябать, вроде того же Борьки Вайсмана. Правда, зубы еще рвать умеют. Не отымешь. — Лёва рассмеялся и рыжим крапчатым кулаком потер свой нос.
Когда Лёва ушел, на лавке, у серого, так еще и не просохлого штакетника, под голыми ветками старой высокой рябины, где остались свояки Сан Саныч и Сергей, стало как-то пустовато, невесело; шумный хохотливый Лёва в их компании стоил троих.
Деревянный рубленый дом с мезонином, обшитый доской, смотрел в улицу тремя тускло отсвечивающими свет неба окнами. Окна — в резных наличниках, расщепившихся, обветшалых, потерявших кое-где свои пиленые загогулины. После ливней и свирепых ветров дом, казалось, насквозь промок: и по фасаду, и по бокам темнели сырые разводы. Шиферная кровля все еще оставалась намокшая, серая, лишь новые листы белели квадратными заплатами. Выделялись на сарае и свежие белые рейки, прихваченные к крыше поверх нового, стеклисто отблескивающего рубероида.
— Деньжонок одолжи, Сан Саныч, — виновато произнес Сергей. — На заводе обещали, да вот опять не выплатили. Я в общем-то знал, что не выплатят. Но Маринку перед отъездом расстраивать не стал. Думаю, перебьемся тут с Ленкой. А то и, глядишь, работу какую-нибудь присмотрю… Мне немного. На хлеб.
— О чем речь. Только у самих денег-то — шиш с маком. В школе зарплату задерживают. Непогода вон еще на ремонт отняла… Спасибо Валентине — кой-как управляемся. У них на молочном комбинате простоев не бывает. Люди работать перестанут, а есть не перестанут. Из ее заначки выужу… Смотрю, авоська у тебя из кармана торчит. Картошки набрать?
— Набрать, Сан Саныч.
— Моркови, свеклы тоже положить?
— Положи, если уцелела после потопа.
— Уцелела. Пойдем в дом. По стопке самогоночки дерябнем. Я вчера свеженькую нагнал, с рябиной. Что-то промерз на ветру, — сказал Сан Саныч, поднимаясь с лавки.
— Не откажусь.
Идя ко крыльцу, Сергей подумал с какой-то особенной, опасливой грустью: «Надо же — Сан Саныч самогонку стал гнать. Учитель — и самогонка… Что-то и впрямь в России сдвинулось. Будто туча над всеми зависла. Заводы закрываются. В Чечне работорговля. В Кремле — то пьянка, то болезнь…».
Невеселые раздумья Сергея словно бы услыхал и перебил их бодрительным словом Сан Саныч:
— Ничего, Сергей, наши предки не из таких ям выбирались, — он по-братски положил ему на плечо руку. — Спасенье русскому человеку не в деньгах искать надо. Денег у нас всегда не хватало и не будет хватать. Спасенье в чем-то другом. В духовной открытости, может… Весна вон на дворе. А мы ей порадоваться забываем.
Между туч пробивалось солнце. Косые столпы желтого солнечного света обрушились сейчас и на старый город.
— Весну никто не отменит. Это правда, — улыбнулся Сергей.
Предчувствие близкой выпивки и грядущего вместе с нею благостного тепла тоже скрашивали уныние. Выпьешь рюмку-другую — и, глядишь, распрямится душа!
* * *
Вечером, по ходу обыденных хлопот и семейных разговоров, Сан Саныч насторожил жену вопросом:
— Валюша, ты верно ли сделала: путевку-то Марине навязала? Может, самой надо было поехать? Я говорил…
— Куда бы я поехала, когда дом залило? У детей сухого нечего было надеть. Половицы хлюпали. Полкрыши снесло. А я бы поехала… — с нотками возмущения откликнулась Валентина. — Пусть хоть Маринка отдохнет, полечится.
— Разве ж я против? Просто к слову пришлось… Сергей сегодня приходил. Смурён больно. На работе у него нелады, а тут еще и она уехала. Даже в фигуре у него что-то сутулое появилось. Как побитый ходит.
— Ничего, перебьется. И Ленка, считай, не малявка, — живо откликнулась Валентина. — Пусть Маринка на море посмотрит, а то всё среди кривых заборов…
На этот короткий непритязательный разговор вскоре наложились другие, праздные и не очень праздные, но мысли о младшей сестре застряли у Валентины в мозгу где-то особняком. Она то и дело вспоминала Марину.
В годы сиротства, после ранней кончины отца, а потом и безвременного ухода матери, Валентине часто становилось жаль, очень жаль, до боли в сердце жаль младшую сестру. Себя она не жалела, выросла, считай, уже, на работу определилась, а вот Маринка — ведь девчушка еще, ей-то без отца-матери каково? — да и рассеянная она к тому же; печь, бывало, затопит, а вьюшку открыть забудет; дым в горнице — закашляется, глаза от слез блестят, трет их кулачками… Или, бывало, Валентина с получки купит ей альбом для рисования и акварельные краски, а Маринка в тот же день, за один вечер, изрисует весь альбом от корки до корки — морями и парусниками разными, звездами и планетами необычными; Валентине немного жалко денег, отданных за альбом, альбом-то уж и кончился… но сестру она никогда не упрекала за такое искусство, да и запах акварельных красок ей самой очень нравился. На похоронах матери она дала себе слово: ни у кого не прося подмоги, поднимет сестренку, оденет-обует не хуже других и даст ей образование. Высшее — не получилось, но строительный техникум Маринка окончила под опекунством Валентины. А как ликовала сестренка, когда Валентине удалось взять ее с собой в неожиданно подвернувшуюся турпоездку на теплоходе до Волгограда! Даже ночью, казалось, Маринка любовалась на реку, не смыкала глаз и не отрывалась от иллюминатора (ехали в третьем классе, в трюме, там не окна — иллюминаторы). На теплоходе Маринка признакомилась и подружилась с каким-то черноголовым мальчишкой — оказалось, цыганенок, едет с табором куда-то под Астрахань; Валентина глаз с сестры не спускала, боялась: вдруг цыгане заманят, околдуют доверчивую девчушку, украдкой увезут с собой…
Весь нынешний вечер Валентина, нечаянно растревоженная мужем словами о Марине, цеплялась умом за дни сестринского взросления.
А замуж за Сергея Кондратова отдавала? Считай, ревела взахлеб. Будто мать отпускает на далекую чужую сторону единственную кровинушку дочку.
7
У заводской проходной с пустыми кабинками вахтерш и запертыми вертушками толпился народ. Преимущественно — мужики. Женщин немного. Да и они, неброско одетые, почти не выделялись из мужиковской массы, серовато обряженной в темные — синие, черные, коричневые — куртки, темные кепки, спортивные вязаные темные шапочки на один фасон. Народу, вероятно, собралось бы и поболее, но некстати прыснул дождь. Дождь совсем слабенький, морось, но и от него всё вокруг — волглое, отяжелевшее. А укрыться негде. Проходная за спиной людей была заперта: малый, оставшийся заводской персонал попадал на производственную территорию через соседствующий административный корпус. Сюда и должно было подкатить новое начальство.
Сборище у завода, кое-где прикрытое пестрячими женскими зонтами, было полустихийное, единой организующей силы за народом не стояло, но тем не менее к заводским воротам клейкой лентой были прилеплены два бумажных плаката: «Отдайте наши деньги!» и «Ваш капитализм — дерьмо!» Плакаты были написаны корявенько, возможно, ученической рукой, красной гуашью, которая уже кое-где размокла и потекла красной слезой. Кто-то написал от руки, наскоро, и текст петиции к местным властям. Это ходатайство передавали друг другу, подписывали, хотя в большинстве своем люди понимали тщету данной бумаги.
В действенность митингования мало кто верил: митинги и даже забастовки на заводе уже случались, только не давали рабочему люду желанного результата. Теперь люди шли в пикетчики так, для собственного успокоения совести или по любопытству.
Сергей Кондратов тоже очутился здесь почти без толики надежды. Трезво он уже расценил: былому производству — хана. И прежде-то оборудование нуждалось в замене, модернизации, а теперь, в бездействии, всё старилось троекратно быстрей, всё ценное разворовывалось, снималось, отвинчивалось… Сергей даже не судил себя за учиненный вандализм в измерительной лаборатории.
— Вишь, взялись Россию бизнесом проучить. Везде только и слышишь: бизнес, бизнес, бизнес…
— Прихвостни американские! Всю страну хотят в мешочников превратить.
— Лысый перестройщик заварил. Теперь весь простой народ на воров работает.
— Этой власти русский народ не нужен. Чем больше помрет, тем больше им нефти достанется.
— Молодежь наркотой травят. Девки проституткам завидуют. Разве такие к станку пойдут?
— Беспризорников стало — как в гражданскую.
— Сейчас и так гражданская. На одного новорожденного двое мертвецов.
— Верно. Бабы рожать не хотят.
— Чем детей-то кормить?
Разговоры средь людей вспыхивали короткие, обозленные. Ядовитые возгласы сыпались адресно во власть или безадресно, на любого. Однако почти без матюгов, редко где-то сорвется… Мужики помнили о женщинах.
Одну из женщин, в синем берете и темно-зеленом дешевом пуховике, которыми на никольской барахолке торговали вьетнамцы, Сергей хорошо знал по работе в цехе. Фрезеровщица Лиза. Он очень редко разговаривал с ней, только здоровался. Говорить с ней было трудно: она заикалась, тянула слоги, подолгу одолевая некоторые буквы. На станке она выполняла однообразную и монотонную работу: брала заготовку — маленький металлический стержень, крепила в приспособлении, фрезой протачивала канавку… И так много-много-много раз в смену. И так изо дня в день. Как автомат.
Рядом с Лизой вертелся Юрка, сын, мальчишка лет двенадцати. Почему-то он был здесь, а не в школе. Правда, все знали, что мальчонка этот сорвиголова, школу недолюбливает и на взрослой стачке ему, видать, интереснее.
— Гляди-ка ты! Лёва Черных с флагом чешет!
По толпе прокатилось оживление. К заводу приближался Лёва, высоко подняв на тонком древке красный стяг. Простоволосый, со встрепанной рыжей шевелюрой, в расстегнутом пятнистом бушлате, он вышагивал решительно, широко, театрально. Рядом с ним, поспевая, посмеиваясь, поблескивая золоченой оправой очков с притемненными стеклами, двигался корреспондент местной «Никольской правды» Борис Вайсман — в черном кожаном пальто, в клетчатом кепи, с кейсом на наплечном ремне.
— Товахрищи! Только новая пхролетахрская хреволюция освободит храбочий класс от ненавистного капитала! — картавя, подделываясь под Ленина, митингово проголосил Лёва. — Товахрищи! Наша судьба в наших хруках! — И он высоко загундосил пролетарский гимн «Интернационал», тверже обхватив руками древко пролетарского стяга:
Вставай, проклятьем заклейменный Весь мир голодных и рабов…На его игру кто-то ответил смехом, кто-то потешливыми улыбками, а кто-то в толпе крепче обозлился.
— А вот ты скажи, братец журналист, ты должен знать, в газете работаешь, — басовито заговорил невысокий круглолицый толстяк по прозвищу Кладовщик, в телогрейке и в маленькой замызганной шляпе, обращаясь к Вайсману. — У нас в стране сейчас революция — не революция, война — не война. Бардак, одним словом. А в других странах? А? У нас же продукцию двадцать стран закупало. А? В ихних-то государствах тоже чубайсы до власти дорвались? А? Пошто вдруг ничего нашенского не нужно стало? А?
Борис ничего не отвечал, усмехался, посверкивал златом очков: не понять, что там у него в глазах, под затемненными стеклами. На вопрос Кладовщика откликались другие. По толпе опять шла волна отрывистых реплик.
В одном из окон заводоуправления, на третьем этаже, Сергей заметил Окунева. Тот сверху наблюдал за бывшими заводчанами и, похоже, таился: вплотную к окну не подходил. «Я ему в институте диплом помогал писать, хмырю. Теперь вот по разные стороны баррикады…» — мимоходом подумал Сергей.
Тут люди загомонили:
— Едет!
— Точно — едет!
— Вон она! Черная «Волга» поворачивает.
— Из Москвы, говорят, прибыл.
— Уж лучше б кого-то из своих выбрали.
— Верно. Московские-то говнисты.
— Немца бы нам из Германии выписать…
В сером туманце мелкого дождя по дороге, ведущей к заводу, катила черная машина. Чем ближе была ее блестящая никелем «морда», тем меньше в толпе оставалось слов. Наконец люди и вовсе смолкли и слегка расступились, чтобы уже заплакавшие красные лозунги на воротах были видны подъезжающему начальству.
Черная «Волга» остановилась перед собравшимися, не стала пробиваться к парадному входу администрации. Директор, вероятно, избегать народа не хотел. Но сперва из машины вышел коренастый белобрысый парень, по всему видать, охранник; быстрым прожорливым взглядом окинул толпу; обернулся, что-то сказал шоферу и лишь тогда открыл заднюю дверцу машины. Спокойно и чинно, будто толпа ждала его для приветствий, из машины выбрался немолодой, пегий от седин в волосах, но еще пружинно ступающий на землю человек. Одет он был с лоском: в черный костюм с мелкой серой строчкой, в крахмально-белую рубашку и красный шелковый галстук с золотистыми ромбами. Охранник шел рядом, чуть впереди директора.
— Чего бунтуете, мужики? Здравствуйте! — просто, без казенщины и заигрываний обратился он. Доброжелательным трезвым тоном сразу поколебал настроение толпы, поумерил негодования.
Чувствовалось, что человек этот тёрт, в нем нет амбиций и резонерства молодых экономистов, которые мусолились в телевизоре. Но и чиновную сытость он с лица припрятать тоже не мог.
— Работы хотим! Мы не бездельники — рабочий класс!
— Почему старого директора убрали?
— Зачем производство остановили? Полгорода на заводе держалось!
Выкрики раздались с разных концов толпы. Люди невольно приближались к директору. Он и сам сделал шаг навстречу.
— Насчет работы… Так я и приехал, чтобы заново организовать рабочие места… Прежнее руководство освобождено не мной. По решению собрания акционеров, куда входят и ваши представители… А продукцию — сами знаете! — повысил он голос, — завод выпускать дальше не может. Такое качество рынок не примет. Конкуренция…
— По кой хрен он сдался, этот рынок! Все от него страдают!
— Раньше тоже конкуренция была. Мы на Запад работали!
— Зачем завод рушить? Ваш капитализм — людям смерть!
Директора перебили. Но он ничуть не смутился, спокойно выслушал поперечников, приспустил на толстой шее галстук, усмехнулся с хитрецой. Ответил резонно и вопросительно:
— Разве не мы с вами выбрали этот строй? Мы все! Не по одиночке… Я коммунист. Я не жёг партбилета. Я всегда голосовал за коммунистов. Поэтому капитализм не мой. Наш! Общий! И если мы в нем оказались по собственной воле, то надо спокойно преодолевать кризис. Во-первых, надо…
Директор, загибая пальцы, начал перечислять безотлагательные дела, которыми намерен заняться, «опираясь на коллектив». Толпа притихше слушала его дельную речь. Казалось, конфликт плавно перейдет в увещевание и каждый из собравшихся найдет в этом свою кроху надежды. Люди еще плотнее стали вокруг директора кольцом. Топчась, переместились к нему еще ближе. Охранник заметно нервничал и оттеснял самых первых.
Сергей рассеянно прислушивался к начальственной речи, непроизвольно наблюдал за фрезеровщицей Лизой. Она стояла самая ближняя к директору (охранник ее не отодвигал, он теснил только мужиков) и, казалось, доверчиво, как ребенок, ловила все слова и даже дыхание. Она смотрела на него широко открытыми глазами, иногда подавалась чуть вперед, как будто хотела что-то уяснить, узнать о чем-то пытливее. Но заикание онемляло ее. «Эх, фрезеровщица Лиза!» — попечалился Сергей. Со слов знакомых и он заглянул за ситцевую занавеску, где пряталась бабья доля…
Муж Лизы, водила-дальнобойщик, закемарил за рулем в ночном рейсе, мотанулся на «камазовской» фуре на встречную полосу и подмял неувильнувший «БМВ», летевший на пределе скорости. Из груды импортного металла спасатели вырезали автогеном два трупа. Долгие выселки дальнобойщику были по суду обеспечены. Но друзья несчастливцев из крутой «БМВ» вынесли вдобавок свой приговор: дом, в котором жила семья виновного шофера, обратили в собственность местных торговых азербайджанцев, а Лизу и Юрку-сына измудрились переселить, якобы временно, в комнату пустующего заводского барака, который давно определили под снос и уже оставили без воды и без газа — одно электричество. Нынче Лизу грозились оставить и вовсе без света. Дом стал «ничей», завод отрекся от старой рухляди, снял со всех обслуживаний и списал со всех балансов. К тому же Лиза недавно овдовела. Муж умер от туберкулеза. Лиза честно билась за мужнину жизнь, возила на выселки кое-какие харчи и доступное лекарство, но заводской кормилец станок смолк, безработица вылилась изнурительным безденежьем, а безденежье для больного ссыльного мужа стало скорым плотником по изготовке деревянного бушлата.
Сергей с грустью поглядывал на бывшую заводскую фрезеровщицу в синем берете, когда поблизости раздался веселый голос Лёвы:
— Слышь, Серёга, как мужик лепит. Будто Мишка Горбатый в свое время. Пятно бы ему еще на плешину…
— Я тоже из рабочего класса… — доносился голос директора.
— Что-то не похоже. А, братцы? — прогудел где-то в толпе Кладовщик. До директора его слова не дошли, но окружающие бас бывшего работяги из заводской литейки разобрали. — Такую холеную рожу у мартена не встретишь. Даже слесарей таких не бывает. А?
Мужики поблизости — одни рассмеялись, другие сильнее насупились. По толпе опять прокатился беспокойный ропот. Люди стали перешептываться. Речь директора тускнела. Первоначальный запас доверия к нему усыхал.
— Я всегда оставался на стороне рабочего класса…
— Эй, коммунист! Деньги нам на зарплату привез? — выкрикнул Лёва.
— Всем сейчас нелегко! — твердо, с грозной ноткой ответил директор на выпад.
— Кому это всем? — Лёва тоже в карман за словом не лазил. — Ты свою рожу в зеркале видел? Она у тебя шире, чем у премьер-министра!
— Вас про деньги спросили! — выкрикнул Сергей, серьезно и строго, чтобы не превращать рабочий сбор в фарс. — Деньги привезли для расчетов? Заработанное людям отдать?
— Я уже ответил. Всем сейчас нелегко… Деньги мы должны с вами заработать!
Тут случилось то, о чем никто не мог и подумать. Лиза, стоявшая рядом с директором, видать, яснее осознав его слова про деньги, вся побелела, губы у нее задрожали, глаза сверкнули безумным блеском. Она резко, неожиданно — пантерой — кинулась к директору и вцепилась в его горло руками. Всё произошло так внезапно, что белобрысый охранник, опасавшийся ближних мужиков, Лизу проворонил. Люди в первых рядах непроизвольно колебнулись за ней и оттеснили охранника от его шефа.
Кто-то пронзительно свистнул. Толпа заколыхалась, заулюлюкала, враз налилась исступленным негодованием. Навалившись скопом, мужики и вовсе оттерли охранника от директора, а директора взяли в тесный кольцевой полон.
Кто-то пнул его, кто-то потащил за рукав. Другие пробовали остановить драку, тянули руки до Лизы, разнять… Зажатый со всех сторон, с ужасом в глазах, бледный, задыхающийся, директор хватал ртом воздух и пытался оторвать от своей шеи цепкие пальцы неистовой фрезеровщицы. Берет с головы Лизы сбился, упал, лицо уже играло малиновыми пятнами напряжения, из уголка рта сочилась слюна; не крик, не стон, не слова, а какое-то шипение вырывалось из ее груди. На шее директора виднелись алые метины — свежие бороздки царапин, сочащихся кровью.
— Суки! Предатели!
— Коммуняки продажные!
— У этих жирных быков всегда народ виноват…
— Бей новых буржуев, ребята! — задорный Лёвин голос озлобленно взбудораживал толпу.
Что-то азартное, веселящее было в этой потасовке. Словно в детской игре «куча мала — не надо ли меня?». Но вместе с тем — отчаянность и беспросветье, словно и малый огонек надежды на работу, на заводской прибыток угас. У Лизы в приступе плача дергались плечи. Люди гудели как улей, облепив директора и что-то выкрикивая ему в лицо.
Вдруг громыхнул выстрел! Охранник, который метался посреди серой мужиковской плечистой толпы, не в силах пробиться к начальнику, выхватил из кобуры под пиджаком пистолет и пальнул упредительно в небо. Все на миг ошалели, замерли.
— Расступись! Прочь! Отойдите! — прорычал охранник и ринулся напролом к своему подопечному.
— Пушкой людей пугать? Холуй! — выкрикнул возмущенно Лёва, сунул в чьи-то руки свой красный стяг и смело двинулся наперехват рассвирепелому охраннику.
Люди опять гомонили от возмущения и азарта. Лёва ловко пробрался к охраннику сзади, умело — не зря занимался единоборствами — врезал ему коротким ударом в бок, в печень, и заломил руку с оружием. Пистолет упал в лужу. Чтоб уж верняком обезоружить охранника, Лёва всадил ему ребром ладони по шее.
— Мужики, я его сделал! Я сделал этого козлика! — заорал он с победительным куражом.
Охранник после ударов Лёвы на землю не упал — всё ж молод и крепок, — но еле стоял на ногах, шатался, руками ощупывал воздух, глаза — пустые, водянисто-серые, взгляда в них нет…
К директору на подмогу бросился шофер из черной «Волги». Но только он зарылся в толпе, раздался новый грохот. Юрка, сын Лизы, большим обломком кирпича саданул в заднее стекло оставленной начальственной машины. Водитель растерялся: куда? чего? за гаденышем-пацаненком бежать или к шефу на выручку? Или назад к машине, черный блестящий багажник которой посеребрило россыпью мелких осколков?
Вой милицейской сирены был истошным, обжигающим, продирал до костей. Быстро поспели. Словно наготове где-то прятались за углом. Милицейский «уазик» с мигалками и автобус ОМОНа.
Люди, кое-кто, кинулись врассыпную, от директора и охранника отступились, оставляя их потрепанно-побитыми посередке призаводской площади. Кое-кто предпочел тут же и смыться — вдоль заводского забора. Но основной костяк плотной массой ополчился на растравленные сиренами и мигалками машины.
Милиция свою службу знала. Толпа не успела опамятоваться, как оказалась рассеченной, расколотой, парализованной напрочь. И уже не толпой, а жалкими горстками, на которые свирепо налетели омоновцы в черной униформе с черными же дубинками, взвивающимися над головами.
— Расходитесь! Назад! Всем назад!
В ответ — крики, женский визг, брань.
— Собаки! Сволота!
— На кого работаете? А?
— У-у, гады!
ОМОН с бунтарями чикаться не стал: кто угодил под горячую руку, того и попотчевали резиновой палкой. Тех, кто посмел сопротивляться, отпинываться, вырываться или вздумал орать, как Лёва Черных: «Родной народ дубинами учить? Менты поганые!», — тех прибрали для каталажки.
Лёву арестовали не без потехи. Он кричал, бузотёрил, но когда его окружили трое омоновцев, вдруг заулыбался и поднял руки вверх: «Всё, мусора, сдаюсь! Забирайте!».
Ошалелый омоновец в каске накинулся и на Сергея Кондратова, толкнул локтем в грудь и при этом тупо орал: «Разойдись! Разойдись!!» Сергей не столько со злобы, сколько по инстинкту самозащиты, пропустил омоновца мимо себя вперед, а затем, схватив его за рукав, сделал подсечку. Но потом всё вдруг скомкалось. Искры из глаз! Удар резиновой дубинки вдоль спины, так что концом прицепило и шею, обезмыслил, ослепил Сергея. Тут же ему заломили руки и потащили к автобусу. Всё мельтешило перед глазами. Над головой какие-то крики. Краем глаза он заметил главную бунтовщицу Лизу, она сидела у забора на корточках, косматая, закрыв голову обеими руками. Еще в какой-то момент он увидел Окунева, который вился вокруг директора.
Скоро площадь перед заводской проходной, перед запертыми воротами и административным корпусом опустела. Плакаты на воротах еще сильнее расплылись и обвисли. Окурки, разбитое стекло, красный грязный стяг и синий берет, истоптанный, потерянный Лизой… Слабенький дождик, который был едва заметен на лужах, полегоньку зашлифовывал следы бесплодного противостояния.
8
Задержанные пикетчики томились в отделении милиции, в обезьяннике — в камерах с дверями из металлических решеток. К следователю для дознания и составления протокола вызывали по одному. По одному, с интервалами, отпускали и на волю, чтобы не провоцировать новое мужиковское скопище и возможную коллективную выпивку.
— Составишь, Костя, на меня эту бумагу, и чего дальше? — спросил Сергей, сидя в кабинете напротив следователя Шубина, старшего лейтенанта с аккуратными черными усишками и веселыми глазами. Шубин жил с Кондратовым на одной улице, с ним они водили давнее знакомство.
— Штрафу вам дадут, гаврикам, за нарушение общественного порядка, и всех делов.
— Где бы еще денег на штрафы-то взять?
— Подшабашить! — тут же ответил Шубин. — Я вот сейчас разберусь с вами, гавриками, бумаги допишу и пойду вагоны разгружать. У меня на станции вроде подряда, бригада грузчиков. — Он оторвался от протокола, который писал почти машинально, усмехнулся с хитрецой, так что один ус поднялся выше другого: — Я ведь недавно женился, Сергей. Еще года нет. Надо молодую красивую жену красиво содержать. Приодеть, мебелишки подкупить. И то хочется, и это надобно… Взятки я брать не умею, поэтому приходится пуп надрывать.
Сергей знал о том, что Шубин женился. Знал, что жена нездешних мест, из Самары, что нашел ее веселый старлей, будучи на курсах в ментовской школе. Жена у него — тут Шубин без приукраски говорил — молодая, видная: вишневые губы, глаза большие, черные, грудь пышная, бедрами заманчиво повиливает… Сергей ее несколько раз видел. Проходя мимо — невольно глаз косил, обегал фигуру снизу вверх. Бывало, и оглядывался с мыслью: «Ай да Костя, какую кралю отхватил!».
— Если хочешь, могу с собой взять, — сказал Шубин. — У меня новая бригада наклевывается. Штраф за пару вечеров отработаешь.
— Я бы рад, да твои костоломы дубиной меня огрели. Шея не поворачивается и руку поднимать больно.
— Что ж поделаешь — служба. Они бы с удовольствием дубинами других проучили. Но — увы, приказа нет… Кстати, там двое братовьев было. Один — с завода, другой — из ОМОНа… Я вот тоже на работяг, на нищету, протоколы сочиняю. А ведь с вашего завода двести тонн титанового сплава за границу как металлолом продали. Мы ничего сделать не можем. Частная собственность выше государственных интересов! А проще сказать: шкурный интерес больше в чести. Распишись здесь. — Шубин пододвинул протокол на край стола.
— Трусливые мы, что ли, Костя? — склоняясь над листом, пробухтел Сергей. — Брат брата лупит. Титан вагонами грабят. Ты грузчиком халтуришь. Я инженер — в грош не ценен. Будто квартиранты в родной стране. А главное, не понять: за кем сила? за кем правда?.. ГКЧП был — пьяные да непутевые. В девяносто третьем — новая грызня. Против Ельцина — те, кто с ним раньше в обнимку шел… Ваучеры, инфляции, дефолт. В телевизор посмотришь — сплюнуть хочется. А мы всё в стороне! Молчим. Боимся, выходит?
— Не забивай, Сергей, голову. Жизнь сама всё устаканит, — усмехнулся Шубин.
— Может, и устаканит. Только на нашем ли веку?
— На нашем! Конечно, на нашем! Целая жизнь впереди! — ответил безунывный следователь.
В кабинет порывисто, без стука, заглянул милицейский сержант с красным бугристым лицом:
— Тарищ старш летенант, юного мстителя поймали. Куды его?
— Какого еще мстителя?
— Хлопец. Стекло в «Волге» кирпичом хряпнул.
«Юрка!» — с какой-то горькой радостью догадался Сергей, вспомнив сына несчастной бунтарки Лизы.
— Прошу тебя, Костя, отпусти мальчугана, — заговорщицки обратился Сергей к Шубину. — Мы за себя постоять не можем, так за нас дети стихийно бунтуют… Отпусти без последствий. Матери его сейчас очень худо.
* * *
Мужики проявляли солидарность: дождались, чтобы из отделения выпустили всех заводчан, чтоб не оставили кого-то ночевать в кэпэзэшных покоях. Милиционеры тоже хотели поскорее избавиться от трудового класса, сочувствуя народному гневу под стенами одураченного завода.
Когда на свободу выпустили всех задержанных, в воздухе зависло решение: минувшее событие обмозговать и обмыть. Не всей бунтарской стаей, а разбившись на дружеские компании. Сергей Кондратов и Лёва Черных были званы Кладовщиком в гости. В сарай. Там у него было припрятано полчетверти калиновой настойки.
— Не хуже «брынцаловки»! — уверял Кладовщик, хотя никто таких уверений не требовал. Всем известно, что калиновую настойку Кладовщик делает на отличном муравьином спирту, который покупает в аптеке у родной сестры, фармацевта. — Запомните, братцы, похмелье не зависит от количества выпитого и от качества напитка. Если пьешь с порядочными людьми, то и похмелье не в тягость. А если с человеком дурным, то хоть ихнюю мартину дуй, утром всё нутро извернет. Верно я говорю, братцы? А?
По дороге в сарай в компанию влился Борис Вайсман. Во время беспорядков и омоновского наезда он растворился, исчез, занырнул куда-то в тину, как пескарь. Сейчас вынырнул. Как огурчик… Ни укоризны, ни обиды на Бориса, улизнувшего от омоновских клешней, мужики не испытывали. Беззлобно подтрунивали.
— Зря ты свинтил, Борька, — сетовал Лёва. — Ментам сунул бы в нос удостоверение «Пресса», они б и с нами поласковей обошлись. А тебя б никто и пальцем не тронул. На тебе, вишь, кожанка, очёчки золотые, кепочка клетчатая. Интеллигент!
— Ихнего брата только тронь, — весело басил Кладовщик, поправляя на своей голове побитую молью шляпу. — Как в дерьмо ступишь. Такую свободу прессе устроят. Все б и позабыли, зачем у завода-то собрались. А?
— Я из редакции, отписался. Про завод уже завтра в номере будет, — отрапортовал Борис.
— Всё по-честному написал? — спросил Сергей.
— Я лажу не гоню!
В словоохотливой четверке, идущей распивать калиновое зелье, Борис Вайсман лишним никому не казался. «Боренька, сыночек, ты на них не равняйся. Они мужики, русские. У них спиваться принято, а тебе так неприлично… — не раз, не два говаривала Борису мать, Полина Янкелевна, когда поутру сын отдирал от подушки чугунную с похмелья голову и нащупывал на тумбочке очки, чтоб нацепить на опухший нос. — Равняйся на папу. Он и повеселиться умеет, и выпить, но чтоб по стенке ползти…» Семью Вайсманов занесло в Никольск по хотенью судьбы, которой распорядился НКВД. В послевоенном сорок девятом рентгенолога Давида Вайсмана из Витебска объявили врагом народа. В послесталинском пятьдесят шестом он освободился из северных лагерей, выписал из Витебска свою невесту Полину и, ограниченный в желаниях по выбору места жительства, обосновался в ближнем Никольске, в старом городе. Здесь и родились дети. Младший из них — Боренька. Было время, когда семья Вайсманов, как все старогорожане, вела земельное хозяйство. Картошка, лук, чеснок, огурцы попадали на стол с собственных угодий. Борька и в юности, а позднее уж и тем паче, не терпел крестьянского труда. Лопаты чурался, окучник презирал, борозды с картошкой ненавидел. Но пить с соседскими парнями пивал иной раз до одурения, похлеще, чем исконные русские. Впрочем, мало кто из молодых собутыльников заострял его национальную особость. Все считали Вайсманов вполне обрусевшими. Разве что Лёва Черных мог вставить приятелю шпильку еврейским анекдотом. Но тот же Лёва выступал верным защитником и помощником Борису, ежели в том наспичивали обстоятельства.
…В сарае у Кладовщика мужики расселись кружком: на пустых деревянных ящиках, на перевернутом вверх дном ведре, на березовой чурке. Посредине на кирпичах — фанерина, на которой из мутно-зеленого стекла четверть с чайного цвета настойкой; граненые пожелтелые стаканы, буханка хлеба, банка с солеными помидорами и железная миска с мочеными яблоками. В сарае было сумрачно. Пахло дровами, старой овчинной шубой и сопревшей периной. Еще примешивался запах брошенной обуви и той металлической заржавелой рухляди, которую любят всякие сараи и чердаки.
Моросящий нудный дождь перестал. В квадратном оконце с полувыбитым стеклом виднелась поднявшаяся из-за реки оранжевая, с прозрачными материками, луна. Выяснело и похолодало. Хотя стоял апрель, но к ночи весеннее тепло вымораживалось, и порой лужи стеклились пузырястым ледком.
Холод не мешал: спирт с духом ягод калины действовал неотразимо, горячил кровь. Для освещения сарая Кладовщик зажег допотопную керосиновую лампу. Говорили многословно, с хмельным мажором, жестикулируя, дымя табаком. Малосильный свет керосинки метался из стороны в сторону между теней. Из стороны в сторону шатался и разговор.
— Директор этот — пешка. Чего он тут один переворотит? Всю страну надо поднимать, — говорил Сергей. — Лиза рожу ему поцарапала — это и нам в науку. Прорвало бабу. Всех бы нас прорвало — так бы не жили.
— Вот скажи, Серёга, ежли б тебе выпал случай расстрелять кого-нибудь из высшего руководства последних времен, — подкидывал задачку Лёва, — ты б кого кокнул? Я бы — жирного Гайдара! А ты б кого?
Сергей усмехнулся кровожадным фантазиям друга, но ответил всерьез:
— Я бы Горбачева расстрелял.
— На словах-то мы все храбрые, — заметил Борис.
— Точно бы расстрелял? А? — захотел увериться Кладовщик.
— Кого-то другого — не знаю. Но этого бы — точно. Прочитал бы ему собственный приговор — и все тридцать пуль из «акаэма» одной очередью.
Кондратов был неколебимо, как-то гранитно уверен, что разврат в стране зачал последний советский генсек, помеченный пятном на голове, будто дьявольским знаком. Он так же истово был уверен в том, что если б ему дали автомат, родной «калашников», с которым он не расставался, служа два года на границе, и вправду предоставили случай судить по указу собственной совести бывшего рокового правителя, он бестрепетно бы нажал на курок, стиснув зубы: «Это тебе, иуда, за разрушенную страну, за разграбленный завод, за пустые бутылки…».
— Пока америкашки нам дают кредиты и кормят своей гнилой курятиной, — хватал новую тему Лёва, — добра не будет. Они всем странам помогают: на гривенник добреца да на двугривенный говнеца.
— На Америку нечего пенять. Запад нас воровать у самих себя не учит, — говорил Борис. Дужки очков у него красновато блестели от огонька керосинки, по стеклам шамански струился свет; от этого скользящего света казалось, что Борис пьянее, чем на самом деле. — У нас порядка нет… А весь прогресс в России так или иначе связан с иностранцами. Рюрики — чужеземцы. Екатерина Вторая — арийка. Петр Первый — весь онемеченный был…
— Ты еще хана Батыя назови! Борька, брось свою антирусскую пропаганду! — сжав кулак, устрашил Лёва. — Твои ушлые соплеменники тоже жить нас учили. В революцию всю Россию кровью залили. Не один ты грамотный. Мы тоже солженицыных и шафаревичей проходили.
— Господь все равно на нашей стороне, — раздавался бас Кладовщика. — Я вот читал, братцы, от тепла скоро льды потают и земная ось под другим углом пойдет. И чего, думаете, будет? А? Будет потоп всей бесовской Америке. Это им Господь насылает за Россию мщение.
В дверь сарая кто-то негромко постучал. Разговор смолк.
— Кто там? А? — выкрикнул Кладовщик, насупя брови.
В синем проеме, образованном приоткрытой в улицу дверью, белело женское лицо. Пришла жена Кладовщика Зинаида.
— Что ж вы, ребята? — закачала головой. — Шли бы в дом, посидели как люди, закусили бы по-человечески. Ведь не бродяги, в сарае-то?
Приглашение было единодушно отвергнуто: «Нам и здесь в кайф. Никому не мешаемся». Зинаида ушла. И зачем Кладовщик припрятывал от нее — простой, неругастой бабы — самопальное зелье? Об этом мужики тоже поговорили, шутейно. Пришли к выводу, что толковая баба никогда не будет собачить мужа за выпивку — за выпивку, но не за пьянку. После еще разок хватанули по полстакашка калиновки, и застолье плавно стало утухать.
Первым сорвался Борис. Он поднялся с ящика, застегнул пуговицы на своей кожанке, обаккуратил положение клетчатого кепи на голове и буркнул:
— Всё, мужики! Пока! — Вышел из сарая.
В небе светила луна. Небольшая, серебряная, яркая. Прозрачных материков на ней уже почти не было видно, лишь едва различимые, бледноватые архипелаги в серебряном круглом море…
Пройдя несколько метров и немного освоившись с потемками, Борис завернул за угол ближайшей кирпичной пятиэтажки. Остановился, чтобы справить малую нужду. Лунный свет бил сверху в спину, и тень Бориса, ломаясь, лежала на земле и на кирпичной кладке стены. Борис, хотя и был поднагружен сивухой, но вполне соображал и слегка сместился вбок, чтобы не мочиться на свою тень. «Кретины! — выругался он и, передразнивая Лёву, подумал: — Русские люди, русские люди… По золоту ходят. Нефть, газ, алмазы, никель, алюминий. А во всем городе ни одного приличного нужника! Как жили тысячу лет скотами, так и остались. Мечтают о потопе в Америке. Страна дураков!».
Луна невольно и равнодушно подглядывала за Борисом: как он чертит струей по кирпичной стене, оберегая при этом свою тень.
В то время, когда Борис Вайсман добирался до дому по никольским темным улицам, в газетном цехе местной типографии на барабане печатной машины тиражировался его свежий репортаж с комментариями, подписанный псевдонимом Борис Бритвин.
«…Нет, революцию в России сделали не герцены и не марксисты, не народовольцы и не жидомасоны, как любят твердить твердолобые черносотенцы, и даже не большевики. Революцию в России сделали обездоленные бабы! Никто не может впасть в большее отчаяние, чем женщина, видя своих голодных детей. Именно они, отчаявшиеся, руками своих мужей-рабочих были движущей силой в революционном перевороте 17-го года.
Женское начало должно наполнить и новую русскую революцию против ненавистного жульнического капитала. Подождем. Отольются и нынешним угнетателям горькие бабьи слезы!»
Далее в «Никольской правде», которая позволяла своему лучшему обозревателю Борису Бритвину и либеральные вольности, и прокоммунистический ракурс, шел абзац о хулиганской выходке Юрки. «Это не просто озорство — это защита интересов родителей. Эти дети рано или поздно потребуют у власть предержащих ответа за обнищание своих отцов и матерей. И непременно отомстят воровскому капиталу. Они из глотки вырвут причитающиеся по ваучерам, по сберкнижкам деньги родителей. Напрасно думают сегодняшние богатеи, что всё сойдет им с рук. Поколение мстителей по праву спустит с них шкуру за разграбление России, за уничтожение великой державы».
В сарае почти совсем истаяли голоса. Поуныл и огонек в керосинке. Пусто зеленела стеклом допитая четверть. Кладовщик угрюмо забурел, огруз, сидел недвижим, как толстый статуй. Только время от времени поднимал руки и однообразно поправлял шляпу. Шляпа на голове у него держалась плохо, он старался натянуть ее поглубже, но шляпа была стара, села — и от времени, и от перенесенной непогоды — и не хотела сидеть крепко на пьяной голове хозяина. Опять появилась Зинаида. Почти без слов увела Кладовщика домой. Он шел покорно, шел, уцепясь рукой за руку жены.
У сарая без лишних слов расстались Лёва и Сергей.
Лёве путь держать в старый город. Добираясь туда, он на ночном холоде значительно отрезвел и думал о насущном. О том, что уже давненько без работы. О том, что фактически живет на пенсию матери. О том, что пора ему опять подаваться в Сибирь на заработки.
Не доходя до своего дома, Лёва свернул в калитку дома соседского. Затарабанил кулаком в дверь. Бревенчатый дом будто весь загудел, затрясся от его внезапного ночного стука. Вскоре в окнах испуганно вспыхнул огонь. В сенях послышались шаркающие торопливые шаги.
— Ваня, это я. Твой корефан Черных. Отпирай. Позарез нужно, — нарочито сиплым, надсадным голосом заговорил Лёва.
Дверь открылась. Взлохмаченный спросонья, в накинутой на плечи шубейке, в кальсонах, перед Лёвой стоял Иван Киляков. По жизни — бобыль, жадноватый, всегда имеющий непустую кубышку, промышлявший на рынке сбытом сантехнической мелочевки.
— Банка мёду нужна. Срочно. На леченье горла… Слышь, Вань, как горло-то у меня осипло? А мне завтра на митинге выступать. Гони медку немножко!
— Дак ведь кабы был, — пожимаясь то ли от холода, то ли от скупости, ответил Киляков. Браниться по поводу некместной пробудки не стал, видя, что непрошеный гость со странной просьбой нетрезв. — Может, вина не хватило? Так ты к Сан Санычу сходи. Он тебе самогонки плеснет. Он гонит. Я знаю.
— Меду надо. Меду! Как ты не поймешь! Безголосый на митинге, какой я оратор? Не мерзни, Ваня, и не мурыжь. Давай медку. Нечего жаться.
Махонькую баночку меду после пререканий и киляковских отговорок на отсутствие такового Лёва таки выцедил. Сладкую баночку сунул за пазуху, ткнул пальцем Ивану в грудь, сказал без всякой осиплости:
— Есть в тебе, Ваня, душа! Не всё из тебя выжег капиталистический рынок. Богом зачтется твое пожертвованье. На Страшном суде я защитником выступлю. — Он перевел палец на небо.
— Тьфу! Клоун ты… — Иван загнул матюг и разобиженно захлопнул дверь перед Лёвиным рыжим носом.
Зачем потребовался Лёве мед, ночью, хмельному? Не для себя — для матери. Она еще не была старой, не очень давно на пенсию вышла, но он ее баловал как старушку — гостинцами. Каждый вечер норовил что-нибудь принести ей. Хоть дешевую карамельку, хоть яблочко, хоть лимон к чаю; хоть просушенную березовую чурку с соседской поленницы. «На-ко, мама! Лучина из нее — чудо! Аж затрещит в печи-то! Как порох!» Мать и такой просушенной чурке была рада.
Сергей возвращался домой, склоня голову, поеживаясь. Звездное небо и ядовитая синь луны будто бы повернули весну вспять — к зимним заморозкам. Но не только из-за ночной застуделости горбатился, вжимал голову в плечи Сергей: у него ныла спина, болела шея. Стоило чуток оступиться или споткнуться где-то — боль отдавалась в ошпаренных резиновой дубиной мышцах.
В душе не было все же темноты уныния от заводского раздрая и невеселого путешествия в ментовку — в душе звучала грустная, томительная мелодия от разлуки. Хотелось говорить с Мариной.
Он тихо бормотал, словно посылал звуковое письмо:
«Извини, Марин. Выпил немного с мужиками. Отгуляли вольную. Нынче для нас Юрьев день… Отметелили палками трудовой народ… И вправду, неужель никто никого не покарает за такую разруху в России? — Сергей остановился, взглянул в небо, в звездную даль. Зашептал нежным тоном: — Соскучился я по тебе, Марин. Сильно соскучился. С вечера долго один уснуть не могу. А утром проснусь и пугаюсь: Маринка-то у меня где? Где она? Почему она уехала так надолго? Так надалёко?» — Он усмехнулся. От хмеля и наплыва сентиментальных мыслей перехватило слезой горло. Он тосковал по Марине остро. Он физически тяжело переносил ее отсутствие. За десяток с лишним прожитых совместно лет их никогда не делили такие расстояния и отмеренный путевкой и дорогой почти месячный срок разлуки. «Лечись там. На море наглядись. Черное море, говорят, красивое. Приедешь — нам с Ленкой расскажешь… Всё сладится. С работой. С деньгами. Приезжай только быстрей».
Дома Сергея встретила разобиженная дочка, быстро заговорила:
— Пап, ты где был? Я жду тебя, жду! Мама звонила, спрашивала тебя…
— Когда она приедет? — встрепенулся Сергей.
— Ты чего? Еще долго, — удивилась Ленка. — Она только неделю назад уехала.
9
В открытую фрамугу окна доносился шум моря, мерный, ухающий, чуть шелестящий.
Штормило.
Замутнелые в бурлящем движении серые водяные валы с гривами белой пены падали на берег, выхлестывали, поднимали в пляс мелкую гальку. Затем неохотно, цепляясь за крупные голыши, волны откатывались назад, навстречу другим вздыбленным волнам. От этих встреч еще сильнее кипела, ярилась, разливалась по берегу серо-зеленая вода с утухающей пеной.
В какой-то момент тяжелые волны толкнулись своим шумом в спящее сознание Марины, и она пробудилась. Отдаленный рёв моря наполнял предрассветный покой комнаты. Сердце часто колотилось. Во сне за Мариной кто-то гнался. Она не знала, кто это был, боялась обернуться назад, но чувствовала погоню. Она неслась от преследователей со всех ног, и шум встречного ветра полонил уши, забивал все другие звуки. Теперь тоже в ушах стоял шум, шум моря.
Чувство погони, вернее — чувство страха от погони, Марина унаследовала в сон с прошедшего вечера. Из дома садовника, от его постояльцев, она выскочила ошалелая, кое-как надернув на себя платье и схватив плащ. Она бежала в потемках по какой-то улице под уклон — на прибрежные огни, где маячил сквозь деревья зажженными окнами спасительный санаторий.
По дороге она упала, разбила колено, плакала. В какую-то минуту у нее всё внутри перевернулось, и ее стошнило. Она стонала от горечи, от боли, от страха. Ей постоянно чудилось за спиной дыхание погони. Вот-вот, в какой-то миг, ее схватит за плечо Руслан: «Э-э, красавица, ни спеши…». Еще нестерпимее, еще большая жуть, если схватит его брат Фазил, это животное…
Даже оказавшись на аллее санатория, освещенной фонарями и, кажется, безопасной, Марина сжималась не столько от стыда за свой вид, сколько от невидимых преследователей. Она поднимала воротник плаща, прятала от встречных прохожих лицо, натертое бородами… Изможденная, словно побитая со всех сторон палками, она шла быстро, замкнуто, но неуверенно, иногда сбивалась с ноги, покачиваясь от выпитого, косилась на свою взлохмаченную шатучую тень.
Добравшись до своей комнаты, Марина плюхнулась на кровать, разрыдалась. Призналась обескураженной соседке:
— Меня, Люб, чеченцы изнасиловали.
Любаша всплеснула руками, всколыхнула свои большие груди:
— Чё ж ты так! Вся эта чернота русских баб шлюхами считает. К ним приближаться-то опасно, не только говорить!.. А уж тем более чеченцы. Может, это боевики какие. Людей воруют. Или наркокурьеры. Тут у них ничё не поймешь. Могут поулыбаться и тут же нож под ребро сунуть! — Выплеснув первые горькие изумления, чуть поостыв, Любаша села рядом с Мариной, приобняла утешительно: — Уж лучше б ты грешным делом с каким-нибудь азиатом, с «урюком» спуталась, чем с этим зверьем.
— Может, мне в милицию заявить? — хныча спросила Марина.
— Да ты чё! Это ж Кавказ! Ворон ворону глаз не выклюет. Русских здесь не любят. Русским везде сейчас ходу нет. Из Казахстана прут, из Прибалтики. Даже Крым и тот хохлы оттяпали. А здесь, на Кавказе, и при советской-то власти порядка не найдешь, а теперь… Обо всем помалкивай! Я где-то прочитала: по статистике, каждая четвертая баба была или изнасилована, или без согласья взята… Отоспись. Я тебе сейчас микстурки успокоительной плесну. Утро вечера мудреней.
…Но утро показалось горше вечера. Похмельная гудливая боль в голове, саднит разбитое колено, синяки проявились, засинели на локтях, и внутри тошнотворная горь. Не видеть бы весь мир, не открывать глаза — затмить бессолнечный белесый рассвет. Погрузиться не в сон, где погоня, но во тьму, где нет ничего. Не верить, не признавать того, что случилось в доме садовника.
«Уеду! Сегодня же уеду!» — выпалила Марина про себя и быстро поднялась с постели.
Под утро Любаша всегда спала зыбко, воспитанная сельским распорядком. От порывистых движений Марины проснулась. Тут же принялась протирать кулаками глаза, почесываться, шумно зевать.
— Видеть не хочу! — горестно вырвалось из груди Марины, когда стояла у окна, глядя на море, на берег. — Уеду. Прямо сейчас уеду!
— Чё ты выдумываешь? Куда ты поедешь! — в пику бросила Любаша. — У тебя ж на лице всё написано. Прикатишь в таком-то состоянии к мужу: «Принимай, дорогой…». Лучше уж здесь пересиди. Уляжется. Из-за каких-то орангутангов леченьем жертвовать.
Марина швыркнула носом, но слезы в себе задавила. Только внутри — гуще обида, и грязные штормовые волны плескались куда-то в душу, бередили вчерашнюю рану.
Волны нарастали будто бы из глубин моря, из его самого центра, прикрытого утренней дымкой. Они вырастали, косматые, неловкие, внахлёст друг за другом, ползли на берег, чтобы там разбить взлохмаченный пеной гребень.
Вдруг в дверь комнаты кто-то постучал. В тишине раннего утра стук показался недобрым, настойчивым. Кольнул Марине сердце. Глаза у нее вспыхнули испугом, мысли вихрем закружились вокруг вчерашнего.
— Любушка, спаси меня! Это опять они! — полоумно и панически прошептала она, схватила покрывало, быстро покуталась в него и забилась в угол.
Любаша без суеты надела халат, прошла в узкую прихожую и твердо, громко спросила:
— Кто там?
— Я принес сумку, — глухой голос раздался за дверью. — Здесь Кондратова шивет?
Вскоре в комнату вошел старик садовник. В руках он держал пластиковый пакет: не понес найденную вещицу в открытую, при людском обзоре. Садовник был, как всегда, облачен в темную куртку и в черную каракулевую шапку. Старое, в темных бороздах, лицо, казалось, ничего не выражало.
— Вот, — сказал старик равнодушно. — Ты забыла. Она на гвозде висела. Там книшка. Я посмотрел… — Он хотел передать сумку в руки хозяйки; он, очевидно, сразу определил, что хозяйка — это она, Марина, та, которая стоит в углу, укутавшись в покрывало.
Но Марина не шевелилась, не могла, не хотела высвобождать из-под покрывала руку навстречу старому садовнику. Он молча положил пакет на стул, повернулся, чтобы идти назад.
Весь его вид, старческий, заскорузлый, удивлявший прежде Марину редкостными по своей глубине морщинами, которые проступали даже сквозь седую бороду, теперь вызвал в ней враждебный едучий заряд. Словно бы и этот старый чеченец тоже поизмывался над ней — унизил, принеся сумку: на вот, уличная девка, не теряй больше! У Марины задрожали губы. Ее лицо окатила нервная бледность, и она выбросила переполнявшую горечь со взбешенной отвагой:
— Скоты! Чтоб вы все сдохли! Только людей грабить и насиловать! Звери! Пропадите вы все пропадом!
Старик замер. Будто слова своим ядом вогнали его в оторопь. Он стоял и, казалось, ждал еще, еще новых оскорбительных стрел. Но Марина молчала. Только частое дыхание яростно рвалось из груди.
Старик медленно повернулся к ней, посмотрел в лицо. Его черные южные глаза под желто-седым мхом бровей не выглядели злыми. Взгляд казался разочарованным, даже беспомощным. Старик недолго смотрел в лицо Марины, потупился. Он как будто рассуждал: стоит ли чего-то говорить этой взбешенной женщине? Потом он поднял голову и протянул Марине руки:
— Посмотри, женщина, на мои руки. — Руки старика с желтоватыми толстыми ногтями были смуглы, морщинисты, с узлами выпуклых вен. Руки были большими и казались неуклюжими, громоздкими по сравнению с поджарым сутулым телом старика. — Я всю шизнь, — чуть хриповатым, притушенным голосом говорил он, — работал этими руками в поле. Мне никто не шелал смерти. Я тоше никому не шелал смерти. Твои братья пришли на мою землю. Они разрушили мой дом. Я приехал сюда. Теперь много моих братьев тоше вынушдено скитаться…
— Ладно, ладно, ладно! — вступила Любаша. Она стояла настороже, ждала своей минуты, чтобы приблизить развязку. — А сколько вы русских скитальцами сделали! Ты, старый, нам демагогию тут не разводи! Ладно, ладно, ладно! Знаю я вас. Не переработались. Один с сошкой — семеро с ложкой. У нас к тебе претензий нету. Ступай. За сумку — спасибочки.
Старик опять понурил голову, отвернулся и, пришаркивая ногами, пошагал к двери.
Марину от своей истеричной выходки еще сильнее стиснула тоска. Радости обретения потерянной сумки, в которой лежала санаторная книжка и немного денег, не случилось.
— Шторм на море. Пойдем поглядим. Интересно, — призывала жизнестойкая Любаша.
— Уеду, — невпопад отвечала Марина. — Уеду! Не хочу!
— Никуда не поедешь. Не пущу!
В этот день Марина не выходила из номера. Любаша приносила для нее из столовой еду.
* * *
На следующий день шторм не утих, усилился. Мятежное очарование, сокрытое в рокоте движущихся водяных глыб, притягивало к себе отдыхающих. Марина тоже соблазнилась поглядеть на стихию.
Волны бухались с бессмысленной яростью на берег, на бетонные сваи солярия, на глыбы береговых укреплений и на выщербленные волнорезы и буны.
Выбрав себе закуток на склоне над пустующим диким пляжем, в безлюдье, на скамейке под пятнистым платаном, Марина покусывала губы… Иногда ее лицо подолгу было покойно, даже отчужденно и невозмутимо. Но вдруг оно менялось. Красные пятна беспокойства выступали на щеках, губы бледнели. Взгляд терял из обзора море, утыкался в потемки внутри себя.
Грузинское вино «Саперави» — ей хотелось попробовать его. Этот попутчик из Москвы, Прокоп Иванович, нахваливал… Канатная дорога — она же всегда мечтала прокатиться над горами. Тысячи людей катаются. Чего ж тут такого? Садовник, этот старик Ахмед, — сразу видно, что он трудяга. А Руслан его знает. Примазался… Руслан — предатель, гад, мерзавец! Он влез в доверие. Добреньким прикинулся, телефон предложил. Угощал. И вдруг стал как зверь! Потом еще его брат… Чудовище! Ненавижу!
Слезы опять перехватывали горло. Хотелось разреветься, обхватив голову. Но Марина сопротивлялась. Нынешнюю ночь она и так провела в слезах, всё лицо опухло. Теперь старалась держаться — не плакала, твердила Любашины слова как заклинание: «Не трави себя! Ничё не изменишь!».
Гигантская волна со всего маху ударилась в ближний волнорез, разбилась. Мелкие дребезги-капли подхватил ветер, окропил солеными брызгами лицо Марины. Ветер… Тогда ночью ее тоже пробудил ветер. Ураганный ветер принес в Никольск ливень. Принес несчастье сестре Валентине и в конце концов погнал Марину сюда, в санаторий.
Ветер разорвал облака в небе, солнце яркой лавиной провалилось вниз, морская даль заиграла зеленым взбудораженным цветом. Уходить от моря, из одиночества, к отдыхающим в санаторий, не хотелось. Даже появление людей вблизи укромной скамейки под платаном Марину раздражало. Она приподнимала воротник плаща: дескать, ступайте мимо, видите: женщина сидит уединенно, ей сейчас ни до чего.
Марина стребовала с Любаши клятвенное обещание никому не пересказывать о том, в чем призналась. Но Марине и без сплетен и пересудов казалось, что на ней какая-то печать, злая мета, которая видна и понятна всем.
Вдруг опять, словно волна, накатывалось очередное воспоминание. Когда она расставалась с Сергеем на никольском вокзале, наказывала: «Ленку береги!» Он кивнул головой, напутно ответил: «Себя береги». — «Себя береги»? Что это? Как будто предупреждал. Как будто знал, догадывался, что она может вляпаться…
Так не хотелось подниматься со скамейки и идти в лечебницу на какие-то процедуры, на которых надо было обязательно быть!
Марину окликнули, когда она шла мимо теннисного корта, невдалеке от санатория. Мужской голос с площадки — сквозь высокую проволочную сетку ограждения.
— Разве вы меня не узнали? Я очень рад вас видеть… Как вы устроились? Как отдыхается? — Роман Каретников в белом спортивном костюме, в белых кроссовках, в белой бейсболке, с теннисной ракеткой в руках и лимонно-желтыми мячами вокруг ног. Весь такой по-прежнему элегантный, свежий, улыбчивый.
— А-а, это вы… Здрасьте. Всё нормально.
Марине не захотелось, как при первой встрече, охорашиваться. Ей не хотелось и говорить с ним.
«Только его мне еще не хватало. Уж теперь-то с ним — никаких „ля-ля“!» — ожесточаясь на насильников, на себя, на самого Каретникова, который безнадежно запоздал со свиданием, подумала Марина. Приказала себе идти скорее и даже ладони сжала в карманах плаща в остренькие кулачки, чтобы быть тверже в своем намерении — уйти не оглядываясь. И ей абсолютно перед ним не стыдно, что у нее распухшие от слез щеки и нос!
— Куда же вы? Погодите! — Каретников всполошился, вплотную подошел к ограждению.
Но чтобы добраться до Марины, нужно было выбраться с площадки, сделать крюк, потратить время.
Она не откликнулась, не обернулась. Роман Каретников недоуменно замер перед оградительной сеткой.
10
Издательский дом Каретниковых, совладельцем и директором которого был Роман, преуспевал за счет огромных государственных заказов. Правда, подвернись жирный кус от частной компании — не брезговали. Однако коммерческую деятельность предприятия Роман контролировал относительно, для этого имелись спецы из холдинга Каретникова-старшего. Роман же большей частью наращивал просветительскую ветвь издательского бизнеса.
— Зря мы поехали в Грузию. Не вовремя, — сказал Роман.
Его слова упали на взрыхленную почву.
— Что я вам говорил, батенька! — тут же подхватил Прокоп Иванович. — Никому сейчас такие затеи не нужны. Вы сами видели обнищавший Батуми. А истрепанная войной Абхазия? Кто сможет сегодня рассказать правду об этой войне? В ней поучаствовали не только абхазы и грузины, но и чеченцы, и даже новоявленные донские казаки… Между тем среди абхазов немало магометан, а грузины — сплошь христиане. Но абхазы ближе России, чем Грузии. Нет, Роман Василич, не трогайте историю кавказских народов! — Прокоп Иванович мягко провел мягкой же своей, канцелярской, толстоватой рукой по голове, потом взял ладонью в узду свою бороду. — Сама по себе историческая наука — дама очень горделивая. Она в зачет берет только победы. Поражения ей в любовники не годятся! Стало быть, история всей правды о народе не скажет. А уж тем более — Кавказ! Тут кланы, тейпы, роды… Нам бы с русской-то историей разобраться.
Азарт к разговору вспыхнул в Прокопе Ивановиче, когда Роман косвенно намекнул о своем проекте, помянув поездку в Грузию. Каретников пестовал идею создать серию книг «История наций». Абхазы и аджарцы угодили в самую голову проекта по формальным признакам: «А-б», «А-д» — верх алфавита. Энциклопедический уровень замышлявшегося издания требовал именно такого подхода. К тому же на Черноморском побережье располагалась дача Каретниковых, и Роман мог не умозрительно прикоснуться к историческим камням горцев, а зазванный для консультаций Прокоп Иванович недурно знал здешние места еще по советским командировкам и еще не растерял дружбы с аборигенами из научных кругов.
Задумка о создании такой энциклопедии пришла Роману в голову несколько лет назад. Живя и работая за границей, он наблюдал, как западный мир кренится к опрощению и унификации, как глобализация, этот невидимый, неосязаемый монстр, внедряет североамериканский фасон и стандарт, и Старый Свет не в силах устоять перед этим. Теперь же и Россия, будто опоздавший школьник, стремилась поскорее попасть на урок цивилизации… «Меняются эпохи, и многое безвозвратно растворяется во времени. История не повторяется! — рассуждал Каретников. — Хотя бы на сломе веков надо уловить и зафиксировать состояние нации: духовный уклад, мудрость, традиции. Хотя бы историю народов, близких России».
Прокоп Иванович тем временем настаивал на своем:
— Взгляните на судьбу Отечества нашего. Сколько постыдных страниц. Междоусобная война русских князей, порой братьев. Церковный раскол. Трудно и представить большую пагубу для русского общества! Жестокость Грозного, а потом и Петра Первого. За время правления Петра население России убавилось на треть! Дичь крепостничества, заговор декабристов и расправа над ними. Изуверство комиссаров, гражданская бойня, террор Сталина, безумные жертвы войны. Идиотизм перестройки. Один тезис: «Каждой семье к двухтысячному году отдельную квартиру или дом» чего стоит! Потом — развал Союза, либеральные аферисты и проходимцы… А в исторической науке всё равно бродит великоросская гордость! Москва — Третий Рим! Чем люди скорее отрекутся от своей истории, чем меньше будут спекулировать ею, тем легче станет жить. Беда России в том, что она из своей мессианской борозды выбраться никак не может! — Тут он широко улыбнулся. Пар полемиста из него, видать, вышел, и он примирительно досказал: — Заниматься сейчас Кавказом, конечно, не время. Чтобы исследовать вулкан, надо подождать, когда он погаснет.
— Вы мне целую лекцию прочитали. Но под словом «не вовремя» я подразумевал совсем другое, — грустно уточнил Роман. — Я… — Он замешкался. — Я видел эту женщину.
— Марину? — с лёту угадал Прокоп Иванович, словно это имя носилось где-то в воздухе.
— Да… Она не захотела разговаривать со мной. Можно сказать, убежала от меня. — Роман помолчал. — Пока мы с вами путешествовали, с ней что-то произошло. Мне почему-то неловко перед ней… Откуда, вы говорите, она приехала? Из Никольска? Это где-то на Севере? Или на Урале?.. А фамилия? Фамилию вы ее не знаете? — оживился Роман. — Она не сказала вам случайно?.. Ну, может быть, вы в железнодорожном билете видели?
Мясистое лицо Прокопа Ивановича осветилось насмешливо-доброй улыбкой.
— Роман Василич, батенька, это уже больше, чем любопытство.
Они сидели в плетеных креслах на открытой веранде просторной двухэтажной каретниковской дачи. Отсюда, с веранды, за решетом из ветвей, облепленных недавно проклюнувшейся зеленью, проступало дальним синим клочком море, слева по огибу морского берега в сизую дымку уходила гряда гор; справа, на пологом прибрежном пространстве курортного городка, заметно высилось белостенное здание санатория.
— …Любовь к провинциальной барышне намного глубже, чем к столичной дамочке, — рассуждал всеядный Прокоп Иванович. — Провинциалка видит в мужчине просто мужчину, а московская особа видит в первую очередь себя возле мужчины, у которого складывается карьера. В Москве у всех носы повернуты к власти, к финансовому успеху. Даже неологизм появился «успешный мужчина». В провинции, чтобы тебя любили, можно оставаться просто мужиком. А в Москве надо непременно стать успешным! — витийствовал Прокоп Иванович. — В Москве мало любви. Карьера, деньги, политика — они подменяют личную жизнь. Поэтому в столице люди рано становятся одинокими. Одинокими даже не по судьбе, а по чувствам. В провинции главный враг любви… — Прокоп Иванович звонко щелкнул по своему луженому горлу, — водка!
Роман усмехнулся, покосившись на манящее белое здание здравницы.
— Очень жаль, что вы не знаете фамилии Марины. Я бы попробовал разыскать ее в санатории.
Вскоре Прокоп Иванович остался на веранде один.
* * *
Солнце шло к закату. Гул штормового моря стал глуше. Должно быть, волны истощились и помельчали. Истратился, ослаб и где-то затаился ветер.
Нацепив на толстый нос очки, Прокоп Иванович погрузился в чтение рукописи, которую нечаянно привез с собой из Москвы.
«Само существование человека — физическое и духовное — сомнению не подвергается ни материалистами, ни идеалистами. Есть человек — как материя. Есть его духовная жизнь — как совокупность его чувств, которые имеют характерные признаки. Среди этих чувств самое яркое и загадочное — любовь. Если это чувство способно доводить человека и до исступленной радости, и до суицида, тогда не предположить ли, что это чувство не просто нечто идеальное, но и нечто материальное? Состоящее из неведомого ныне вещества, ткани, клеток, каких-то неомолекул? Тогда будет правомерен поиск закона сохранения человеческих чувств, аналогично закономерностям физики, механики, математики. Ибо материя, вещество, равно как и энергия, импульс и т. п., не могут произойти из ничего и стать ничем. Целая группа законов сохранения гласит об этом. Причем помимо так называемых строгих законов сохранения существуют приближенные законы сохранения, которые справедливы лишь для определенного круга процессов. Закон сохранения любви вряд ли примкнет к группе строгих законов сохранения. Скорее всего — это закон с большими приближенностями».
Текст, набитый на старенькой пишущей машинке с истрепанной печатной лентой, располагался на листах, на которые уже легла желтоватая поволока лет. На эту рукопись Прокоп Иванович наткнулся совсем случайно, она оказалась у него в кармане дорожного чемодана и пролежала там немало времени. В чемодан же она попала из редакционных архивов, в которых Прокоп Иванович рылся еще несколько лет назад, перед тем как архивы должны были сжечь или пустить в макулатурные контейнеры. Советская книжная жизнь кончилась, родное издательство сворачивалось, освобождая особняк в центре Москвы под нужды новой богатой жизни. Тысячи страниц издательских рукописей в эту новую жизнь не умещались.
Утраты уже успели коснуться и рукописи, которую спас Прокоп Иванович. Она была с изъянами: в ней отсутствовал титульный лист, сохранился лишь заголовок «Закон сохранения любви». Нигде не значилось имя автора: первая страница тоже была утрачена. Странным образом рукопись и заканчивалась. Вернее, она казалась просто оборванной. Очевидно, не хватало нескольких заключительных страниц, которые могли обронить, когда рукописи бросали в архивный подвал.
«Мужчина и женщина. Женщина и мужчина. Как ни переставь слова, а сокрытое под соединительным союзом „и“ противоречие, или даже противостояние, сохраняется. Разумеется, это противоречие мелкого масштаба и не есть прямой итог кровопролития войн, истребительного сумасшествия революций, перекройки государственных границ, перетасовки принципов и нравов.
Однако вся история сплетается из действий личности, а на личность противоречие „мужчина и женщина“ оказывает первостепенное воздействие. Не случайно высказался Блез Паскаль: „Нос Клеопатры: будь он чуть покороче — облик земли стал бы иным“».
Рукопись состояла из небольших глав. Автор словно бы собирал из них, как из разноцветных кусочков, мозаику, но всю композицию этой мозаики открыть не торопился. Или весь итоговый рисунок прятался в утерянных страницах.
Сумеречного вечернего света уже не хватало, чтобы без усилий читать полинявший от времени текст. Прокоп Иванович отложил рукопись, снял очки. Закон, регулирующий сохранение человеческой любви? Что это? Заумь? Чудачество? Или уловка для читателей: под любовным соусом автор хочет протолкнуть совсем другое? А всё же жаль, что нет окончания у рукописи!
По привычке огладив плешь и бороду, Прокоп Иванович умиротворенно сложил руки на своем толстом животе, дремотно прикрыл веки. Но не уснул. Любовь, ревность, верность своему избраннику — это ущемление собственного «я». Как пишет тот имярек: любовь — признанная над собой несвобода. Нравственные устои общества, религия не способны так ограничить человека, как любовь. Когда Наполеон узнал, что ему изменила его жена Жозефина, с ним сделался припадок. Дело дошло даже до конвульсий. После такого известия Наполеон не смог продолжать свой военный поход в Индию. В боях французский император терял десятки тысяч людей, видел десятки тысяч смертей, — с ним не случалось подобных приступов; ничто не могло сравниться с трагедией любовной измены.
Вдруг до Прокопа Ивановича донесся шелест. Он сперва насторожился: что это? откуда? Шум исходил сверху. И тут увидел небольшой косяк бело-розовых птиц. Чайки, озаренные снизу заходящим солнцем, шли колеблющимся углом в сторону гор. Это от них исходил шелест: они били сильными крыльями по упругому воздуху.
Птицы. Удивительные создания! Недаром человек мечтает хоть ненадолго стать птицей. Вот она, естественность! Птицам не нужны ни история, ни религия, ни конституция. Птица хочет есть — ищет пропитание, хочет пить — ищет влагу, хочет петь — поет. Не жадна, не завистлива. У птиц нет государственной машины, которая начинает войны… А человек? Человек ломает себя учениями, теориями, предается суевериям. Создает богов и божков. И постоянно ищет себе несвободу. Зависимость от вещей, от диеты, от нового автомобиля, от партийного списка… От «Закона сохранения любви».
Прокоп Иванович вздохнул: а ему уж нечего искать… Через несколько дней ему исполнялось шестьдесят пять лет. Вот оно, неминуемое дыхание старости. И спрос: так ли делал, зачем делал, ради чего делал? Так поверни и так поверни — всё можно было бы сделать как-то по-иному, распорядиться собой иначе — умом, здоровьем, чувствами. Но ничего уже не перевернешь. Всё время казалось, что мудрость изложена в книгах. Да только там ли она? И в чем мудрость?
Он посмотрел еще раз в небо. Улетели бело-розовые птицы.
Прокоп Иванович накрылся пледом и опять по-стариковски, не спеша, думал. Он вспоминал свою первую жену, — да ведь второй-то жены у него и не появилось. Он вспоминал, что на каждый день рождения она вытаскивала его в ресторан, потому что любила показаться на людях и потанцевать.
11
Смотровую башню на горе Ахун, невдалеке от Сочи, построили по указке Иосифа Сталина. Или по ретивой услужливости его партийной челяди, которая сразу уловила, что нагорное место пришлось Хозяину по душе. Здесь и возвели в тяжеловесном готическом стиле из больших ноздрястых камней архитектурную достопримечательность. Трудные горные километры извилистого серпантина с равнинного Черноморского побережья до вершины Ахуна строили всего четыре месяца…
— Участок объездной дороги в районе Мацесты, протяженностью примерно такой же, как дорога на Ахун, уже в наше время строили почти десять лет, — с иронией, не скрывая по ходу экскурсии верноподданнического уважения к былому правителю, рассказывала гид, немолодая, бровастая, с широким носом и бородавкой на подбородке армянка.
Марина и Роман стояли на верхнем смотровом ярусе башни среди пестрой по одеждам и по возрасту толпы экскурсантов.
День выдался ясный, безоблачный, кристальный. Взгляд пронизывал даль до какой-то фантастической бесконечности. С севера простирались по-весеннему озеленелые, светлые предгорья, на которых мелкими коробушками выглядели дома дальних селений. Еще дальше — Кавказский хребет: нагромождения горных гряд, белеющие снежные неподступные вершины. С другой стороны, с юга, полукружьем, залитое солнечным светом — море. И синяя сфера неба, и горные цепи, и морское безбрежье — всё это философское пространство здесь, на верху высокой башни, казалось, давило на человека — уменьшало его, превращало его существование в мире в суетный и пустой миг.
Марине становилось грустно и муторно. Она с тоской вспоминала о доме, думала о Ленке. Ей очень хотелось, чтобы Ленка прожила свою жизнь как-то иначе, не так, как она…
— В ясную ночь, — с веселыми нотками в голосе рассказывала экскурсоводша, — некоторые подвыпившие посетители башни утверждают, что видят из бинокля огни на побережье Турции. Сталин знал, где выбрать место… А внизу, в долине, у подножья горы, мы видим с вами одну из кавказских дач Иосифа Виссарионовича, — указывала гид на заповедные места всемогущего деятеля. — Раньше дача была закрыта для посетителей. Теперь это коммерческое предприятие. Ее можно снять на некоторое время. Можно заказать банкет в ресторане. Или провести ночь в спальне Иосифа Виссарионовича, — с южным акцентом и с хитрецой на ярко накрашенных морщинистых губах добавила она.
— Скоро из московского Кремля коммерческое предприятие сделают.
— Уже сделали!
Смех в толпе.
— Сталин бы такого разгула не допустил.
В группе экскурсантов, к которой Марина и Роман присоединились по случайности, прокатился ропот не молодых, но и не старческих голосов:
— Сталин — созидатель. От сохи до космического корабля — всё Сталин.
— Дорогу в горы за четыре месяца! Ишь!
— При социализме стоко сделали, что демократы десять лет воруют и разокрасть не могут.
— Ненадолго бы хоть Сталина-то поднять!
Экскурсоводше, которой в основном и направлялись эти высказывания, ворчливые слова были симпатичны. Она согласно кивала, улыбалась расшевеленным в эмоциях подопечным.
— Как парадоксально устроены люди, — негромко проговорил Роман, принаклонясь к Марине. — Человек, насаждавший рабский труд, причастный к истреблению сотен тысяч невинных, вызывает пиетет и кажется идеалом политического деятеля. И это явление не только русское…
Марина оглянулась на Романа. Но его слова ее нисколько не заинтересовали.
«Все мужики любят говорить о политике», — уныло подумала она и опять осталась наедине с морем, с небом, с далекими вершинами гор. Ей хотелось расплакаться от своего одиночества, от тоски. Зачем она здесь? Здесь так одиноко, на этой вершине!
…Роман выследил Марину на аллее санатория, подгадал неслучайный случай новой встречи с Мариной. Не криводушничая, признался ей в первую же минуту:
— На аллее очень удобные скамейки. Час пролетел совсем незаметно. Я знал, что вы выберетесь когда-нибудь из своей кельи.
Марина посмотрела ему в глаза. Потом окинула взглядом его всего. Потупилась, негромко сказала:
— Где ж вы раньше-то были, рыцарь?
— Рыцарь только в книжках везде успевает. Но ведь и принцесса всегда запаздывает со встречей. У вас что-то стряслось?
— Не расспрашивайте, пожалуйста, меня ни о чем.
На другой день он пригласил Марину сюда, на экскурсию.
— А сколько стоит билет? Прошу вас: не надо за меня платить. Я сама куплю себе… Завтра в одиннадцать? Хотя нет, утром у меня процедуры. Давайте лучше после обеда.
Вот она, эта гора Ахун. Высоко, страшновато, и на душе неспокойно. Но Роман-то ведь тут ни при чем! Ни в чем, ни в чем не виноват! Роман же никакого отношения не имеет к этим зверям!
— …Во Франции, — слышала она за спиной его голос, — по сей день полно бонапартистов. Даже в Германии, где я жил три с лишним года, встречались образованные люди, которые искренне возносят Гитлера и надеются на реванш… Мой отец, которого в тридцать седьмом точно бы поставили к стенке, тоже приводит Сталина в пример… Человеческая память не боится чужой пролитой крови. В людях очень силен животный инстинкт «само»… Самосохранения, самоспасения. Чужое ничему не учит. — Роман заглянул Марине в глаза. Но, вероятно, его что-то напугало в ее глазах. Он поспешно спросил: — С вами всё в порядке?
— Пойдемте отсюда. У меня кружится голова, — ответила Марина, убегая от его взгляда.
Лестница на башню в некоторых пролетах — очень узкая и крутая. Роман шел впереди, но постоянно оборачивался к Марине и подавал руку, чтобы легче сойти на площадку. Она протягивала ему свою руку. Но на последнем лестничном пролете он не нашел ее ладони. Марина отстала, отошла от лестницы, привалилась плечом к стене.
— Что с вами? Вам плохо?
— Да, — сквозь слезы отозвалась она. — Мне плохо. От высоты… Сейчас пройдет.
Она не смогла придушить в себе досаду. Губы дрожали. Горьким спазмом перехватило горло. Слезы обратили всё перед глазами в муть…
Роман боязливо приобнял Марину, заслоняя ее от идущих следом экскурсантов. Она плакала всё сильнее, слёзнее.
— Всё образуется. Не нужно плакать, — успокаивал он.
— Я знаю… Я знаю. Я всё сама знаю. Не нужно. — Она плакала, что-то ответно бормотала на его утешительные слова и почти ничего перед собой не различала. — Сейчас пройдет. Это от высоты, — бормотала она, не отстраняясь от плеча Романа. — Это от высоты.
* * *
Следующая курортная неделя пролетела стремительно. Марина опамятоваться не могла, дважды в день бегая на свидания к Роману Каретникову.
Она не спрашивала себя: зачем? для чего? надо ли это? Она просто не могла сказать ему «нет». Он приглашал ее в дендрарий. И что? Она должна ответить ему отказом? Он купил два билета на кинокомедию. Почему она должна, как бука, фыркнуть и уйти прочь? Он устроил пешую экскурсию к источнику минеральной воды в горное ущелье. Там было очень красиво. Отказаться? Или дневная прогулка на катамаране в море; оттуда открывался такой вид на горы! А над палубой кружили чайки, которым туристы бросали печенье. Ведь без всяких глупостей, даже в кафе не заходили…
Так получалось, что каждое свободное окно в санаторном распорядке Марина отдавала ему, Роману Каретникову. Но всякий раз она уходила со свиданий, не рассусоливая и не оглядываясь. Подчеркивала свою независимость.
«Уходи. Уходи и не оглядывайся! — приказывала она себе. — Не надо давать ему малейшего повода… Ну почему я заупрямилась? Сама заплатила за какое-то дурацкое мороженое? Денег и так нет…».
Всякий раз, идя на очередное свидание, она умышленно опаздывала на десять-пятнадцать минут. Начхать ей, что ее дожидается столичный богач! И наклеивала на лицо маску чрезмерного хладнокровия.
— Любаш, Люб, как ты думаешь: идти мне с ними в ресторан? У Прокопа Ивановича день рождения. Меня официально пригласили… А знаешь, чего ему Роман приготовил? Безалкогольного французского вина. Где-то раздобыл, в каком-то отеле. Наверно, дорогущее.
Марина ответа от соседки подозрительно не услышала.
— Любаш, ты чего молчишь? Обиделась на что-то?
Любаша опять отмолчалась, насупив брови.
— Ты чего? Чего нафыпилась-то? Люб, ну чего ты? — масляно приставала Марина. Она даже намеревалась молчунью пощекотать.
— Чё да чего! Завидую тебе! Вон к тебе как мужики-то льнут! У меня опять отпуск впустую проходит. А ведь надо бы, очень бы надо своему Витяне рога наставить. Ну пусть бы не оленьи, но маленькие, козлиные, надо бы! Чтоб к своей диспетчерше не клеился… Каждому мужику — надо бы! — Любаша резво захохотала. Комната и, казалось, весь санаторий наполнились веселым задором. — И неча тебе выпендриваться! — выпалила Любаша в ответ на колебания Марины. — Пойдешь! Само собой пойдешь, голубушка, на день рождения. Как миленькая! От такого мероприятья отказаться — надо совсем чокнутой быть. Они с такими-то деньжищами тебя не в закусочную-автомат ведут — в лучший тутошний ресторан. Со стриптизом!
— На афише написано: эротический балет.
— Это значит еще круче. Вроде групповухи! — рассмеялась Любаша.
— Ну тебя! — оскорбилась Марина. — Я еще не решила: пойду или нет. Правда, не решила.
— Верю! Верю, голубушка. Вижу! Сама всё вижу, как у тебя с этим богачом-то закружилось. Такие отношения в самую трясину тянут. Вплоть до развода. По знаку Зодиака ты влюбчивая, открытая. Сама понять не можешь, за кем бежать. В том-то и опасность.
— Любаша, перестань! У меня с ним ничего не было. Я побожиться могу. Он мне только руку подает, чтобы с лестницы сойти. Да один раз мои плечи своей курткой прикрыл.
— В том-то и беда. Если б он тебя сразу охомутал, — Любаша хватанула в охапку воздух, — тогда б и разговору не было. А этот, вишь, с подходом, с романтизмом. Для замужней бабы — самый липучий вариант.
— Никакой это не вариант! — еще сильнее взъершилась Марина. — У него есть жена. И сыну столько же, сколько моей Ленке.
— Где у него эти жена и сын? — язвительно приступила Любаша. — В Германии? А он в России с подушкой обнимается?
— Хватит, Люб! Всё! Не пойду я ни в какой ресторан! — отмахнулась Марина, отвернулась от соседки, в дополнительный противовес прибавила, уже подавленно, уныло: — Мне и надеть нечего. Одно платье выходное, да и то… Не хочу в нем.
— Ты, Марин, давай-ка мою кофточку примерь. Она из стрейча. Тебе в обтяжечку ляжет любо-дорого. — Любаша полезла в одежный шкаф. Марина недоверчиво оглянулась на нее. Кофточка и впрямь оказалась впору и очень хороша: подчеркнула стройность Марины. И очень к лицу, с коричневыми разводами — к ее темным глазам и к ореховому цвету волос подходит.
— Как для тебя шитая! — подбадривала Любаша. — Теперь на-ка вот. Примерь-ка туфли. Я их почти не нашивала. Каблуки высокие. Куда я, корова этакая, на таких каблучищах? Купила, а не ношу. Для форсу больше. А тебе самое то будет… Чё, не хлябают?
— Любаш, ты вправду и туфли мне даешь?
— Можешь еще и серёжки мои примерить!
«Ну и пусть! Ну и что! — кому-то мысленно твердила Марина. Она как будто оправдывалась за что-то, когда суетливо и немного стыдясь своего нарядного отражения в зеркале крутилась перед этим же зеркалом. — Ну и что! Могу я хоть здесь побыть женщиной?!».
12
В школе Рому Каретникова, отличника учебы, среди избранных торжественно принимали в пионеры на Красной площади, под стенами могучего ленинского надгробия — трибунного мавзолея. Отутюженный алый галстук, звенящий голос пионервожатой, хором — текст клятвы юного ленинца, лес детских рук, вскинутых под углом на головой, как знак преданности делу вождя… После церемонии — бесплатные сладкие пирожные и чай в антракте концерта в Большом Кремлевском дворце.
Пару дней спустя Рому после уроков подкараулила и пригласила в учительскую Эмилия Аркадьевна, седовласая старушенция завуч, державшая всю школу в кулаке. Глядя на Рому сверлящими глазами, увеличенными толстыми линзами очков, она спросила с предварительной накруткой:
— Роман, ты у нас гордость школы. Теперь ты пионер, давший клятву у мавзолея. Пионер не имеет права говорить неправду! Кто из вашего класса вчера на уроке физкультуры в раздевалке для мальчиков вырезал на панели нехорошее слово?
— Я не… не знаю… Я не видел… — заикаясь и чувствуя, что сердце стучит где-то в горле, произнес Рома.
— Ну что ж, допустим, ты не видел… — рассуждала Эмилия Аркадьевна. — Кто из ребят приходит в школу с перочинными ножами или другими режущими предметами?
— Я не знаю…
— Роман, ты не умеешь врать! Не должен врать! Ты пионер! Это сделал Зарубин? — насела на него неумолимая завуч.
Рома не только боялся выдавать Зарубина, второгодника, задиру, предводителя мелкой школьной шпаны, но и произносить его имя без крайней нужды остерегался.
— Не бойся, Роман, о том, что ты мне скажешь, никто не узнает. Это был Зарубин?
— Нет, это был Смирнов, — ответил Рома с пересохшим горлом.
— Не может быть! — вскрикнула Эмилия Аркадьевна. — Смирнов очень приличный мальчик!
— Зарубин дал ему нож и… заставил вырезать…
— Ах, вот как? Ну, это еще и лучше! — чему-то обрадовалась Эмилия Аркадьевна.
На следующий день после занятий за школьными мастерскими, у забора, Зарубин бил Смирнова на глазах у одноклассников, в том числе и Ромы Каретникова. В проучку.
— Наябедничал, козел? Заложил? — Зарубин держал одной рукой несчастного, безвинного хлюпика Смирнова за шкварник, а другой наносил с короткого размаха несильные, но унизительные удары сбоку в челюсть. Челюсть у Смирнова болталась, как на шарнирах, рот был непроизвольно открыт, и с губ текли слюни. Время от времени Смирнов отрывисто и слезно выхныкивал своему палачу:
— Я никому не говорил! Никому…
Рома Каретников за Смирнова не вступился. Первая свинцовая туча собственного угрызения легла на его душу. Идя домой, он, раздухарившись от стыда предательства, стащил с шеи красный галстук: «Не надо мне такого пионерства!» Придя домой, отказался обедать и расплакался в голос у себя в комнате.
— Отлично! — воскликнул отец Василь Палыч, который по красным глазам сына почуял неполадки. — Чем раньше обожжешься, тем лучше! Рассказывай!
Рома признался ему во всем, без утайки, кончив свою покаянную речь заверением:
— Папа, я никогда больше так не сделаю. Никогда!
— Ваша завуч — хитрая старая лошадь! — злобно восхитился Василь Палыч. — Видать, на НКВД работала. Я с ней поговорю, чтобы она тебя больше не подставляла.
…Когда Роман учился в десятом выпускном классе, в пору сдачи последних школьных экзаменов, в министерство, в главк, которым управлял Василь Палыч, позвонили из Сокольнического медвытрезвителя.
— Капитан Садаков, — представились. — Товарищ Каретников, тут ваш сын, мы его в парке Сокольники подобрали…
— Отлично! — ухмыльнулся Василь Палыч, приехав в вытрезвитель и увидев на железной койке на клеёнчатой простыне голого, вдрызг пьяного, бесчувственного сына. — Надеюсь, никаких протоколов не составляли? — спросил он у милицейского капитана и тут же, не дожидаясь от него отчета, всучил капитану сумму денег, от которой капитан слегка опешил и не знал, что выговорить, как поступить; наконец быстренько утопил деньги в боковом кармане кителя.
Дома Роман долго-долго блевал, стонал, извивался на полу в ванной комнате и сквозь стон, боль, горечь уверял отца, который время от времени наблюдал за ним:
— Я больше не буду… Никогда.
Оказалось, после экзамена они выпили с друзьями пива и поехали погулять в Сокольники. Здесь познакомились с какими-то парнями из Люберец, которые на спор решили выпить по стакану водки. Роман, охмелевший уже от пива, тоже ввязался.
— Пусть-пусть тебя пополощет! Водка-то наверняка из подвала… Такая здорово берет, — без осуждения, но и без жалости говорил Василь Палыч, наблюдая за корчами сына. Когда Роман протрезвел, отец ему заметил:
— Полный стакан водки может поднести только враг.
— Я больше никогда не буду пить водку. Обещаю, папа, никогда!
…Студентом третьего курса исторического факультета МГУ Роман приехал в загородный дом к отцу. (В ту пору Василь Палыч жил уже холостяком.) Роман приехал понурый, повинно утыкая взгляд в землю.
— Папа, дай мне, пожалуйста, денег… На свадьбу. Мне придется жениться. Она беременна… Я потом заработаю, верну тебе… Мы вместе с Гулиёй заработаем…
— Отлично! — традиционно воскликнул Василь Палыч. — То, что ей нужна московская прописка и жилье, я понял сразу. Но она еще какая-то нерусь! Кто она?
— Из Алма-Аты… Продавец в кафе у заправочной. На Каширке…
На другой день на Каширском шоссе против дверей маленькой забегаловки возле одной из заправочных станций остановилась черная «Волга» с правительственными номерами и милицейский «уазик». Из «Волги» выбрались Каретников-старший и громоздкий, тучный полковник милиции Михалыч. Из «уазика» — двое рослых милиционеров с автоматами в руках.
— Где у вас тут главный? — громогласно спросил Василь Палыч, став посреди небольшого кафешного зала и оборотясь в сторону кухни.
Из боковой дверки возле стойки бара выскочил парень казахского кроя, испуганно воззрился на полковника, на автоматы в руках милиционеров, на человека, который требовал начальство.
— Я… Я директор.
— Как тебя звать, директор? — спросил Василь Палыч.
— Азамат.
— Где у вас Гулия?
— Вон. У стойки.
— Это вон та — узкоглазая?
— Да.
— Ты спал с ней? — Василь Палыч взыскующе, без дурковатости, глядел в черные глаза Азамата.
— Тебя русским языком спрашивают: ты спал с ней? — вступил в разговор полковник Михалыч; двое милиционеров с оружием, которые теснее взяли Азамата в кольцо, как будто молча, угрозливо повторили вопрос.
— Да… Зачем вам?
— Михалыч, ты разберись с директором. Чем он здесь промышляет? Не коноплей ли? — обратился к полковнику Василь Палыч, а сам пошагал к указанной девушке азиатского замеса, стройной и по-восточному, вероятно, миленькой: губастенькой, с гладкими смуглокожими щечками, со смоляными крупными волнистыми волосами, уложенными в толстую косу на затылке.
— Я отец Романа. Отойдем-ка сюда, — сказал Василь Палыч и кивнул в сторону помещения, видать, подсобки, где вдоль стен громоздились картонные ящики.
Как только они вошли в закуток, Василь Палыч схватил Гулию за волосы, за толстую сплетенную косу, рванул вниз, чтобы задрать лицо девушки.
— Не смей орать, сука! От кого ты беременна?
— Не знаю. От Ромы, от него…
— На котором месяце?
— Не знаю. На третьем. Может, меньше…
Она шипела; сдавленные звуки хрипло вырывались из согнутого горла. Наконец Василь Палыч отпустил ее косу, выкрикнул в зал:
— Михалыч, приведи сюда директора!
— Так вот, Азамат, сегодня же отвезешь свою шалаву на аборт! Через неделю чтобы духу ее в Москве не было! Ясно?
— Ясно.
— Через неделю мы с Михалычем проверим…
Вечером того же дня Василь Палыч позвонил сыну:
— Завтра ты вылетаешь в Болгарию. В международный студенческий лагерь. В университете я обо всем договорился… Триппер там не подхвати!
— Что? — выкрикнул Роман в трубку.
— Да, да! То, что слышал! Эх, Ромка, счастливый ты и несчастный. С твоим добрым характером и с твоим видом будут к тебе бабы льнуть, как осы к меду… Всех сразу предупреждай, что живешь в общежитии, что отец у тебя слесарь тульского колхоза «Заветы Ильича», мать — учетчица свинофермы. В Москве жилья нет и не предвидится…
— Папа, это случайность.
— Запомни, сынок. Не дерьмо льнет к ботинкам, а человек ступает ботинком в дерьмо!
* * *
Эти три урока из своей биографии среди прочих краеугольных уроков Роман Каретников запомнил больше всего. Про школьный случай с «энкавэдэшницей» Эмилией Аркадьевной и бедолагой Смирновым он никому не рассказывал, знал, что пожизненно будет стыдиться, и стыдную правду переживал в одиночку. Помалкивал Роман и про третий урок, про невесту Гулию, которая пленила его однажды на дискотеке экзотикой и восточным шармом толстогубого лица, а потом и гладкими, манкими бедрами… Чего об этом распространяться? Каждому через что-то такое пришлось перешагнуть. Не невидаль!
Вот про «пьяный» урок он вспоминал без горчины, не стесняясь, даже наоборот — с веселостью.
Роман сейчас и поведал историю со злополучным стаканом водки, выпитым на спор в Сокольническом парке, — шутливо, в красноречивых деталях. Поведал Марине и Прокопу Ивановичу. Они сидели в ресторане…
В таком ресторане Марина очутилась впервые. Черная бабочка метрдотеля, серебро ножей и вилок, снежная накрахмаленность салфеток из набивного льна, зеркальные пирамидки подвесных потолков — весь антураж говорил о значимой категории данного заведения.
Марина растерялась и поначалу даже не поняла, что от нее хотят, когда официант, длинный тощий парень с тонким горбатым носом и мелкими черными усами, учтиво склонился к ней и протянул пухлую папку с золотыми вензелями. Оказалось — меню, многостраничное, с непонятными блюдами, напитками, десертами, на двух языках — русском и английском, с дикими расценками. В первые минуты Марине и вовсе было очень беспокойно, она как будто очутилась на сцене. В кофточке Любаши, плотной, в обтяжку, казалось, живот слишком сильно выступает; туфли тоже Любашины, чуть великоваты: на таком высоком каблуке — как бы не грохнуться; еще вилку и нож надо правильно держать, не ошибиться, что для чего, а то как манюня деревенская… Да еще эти кавказцы, в каждом черном бородаче мнятся те сволочи; благо столики в ресторане имели некую автономность: каждую компанию разделяла полупрозрачная перегородка из рифленого стекла.
Только спустя не менее часа, когда на эстраду с цветной рампой вышли музыканты и зал ненавязчиво наполнился ровной джазовой музыкой, когда напыщенность сервировки слегка поубавилась от притронутости к столу, когда первые тосты в честь именинника были сказаны и легкий хмель от шампанского приобмягчил все окружающее, от Марины ушло сосредоточение на самой себе, она не приклеенно, от души улыбалась; двое образованных, воспитанных мужчин окружали ее вниманием, хотели услужить ей во всем, галантно шутили; ей было с ними приятно и безоглядно легко: «Могу я хоть здесь побыть женщиной?!».
…— Да, вот такое однажды случилось. Но с тех пор я ни разу водку не пил. Собственноручно наложил на себя епитимью. Столько лет прошло! Ни разу больше не пробовал, где бы ни находился, — не без гордости досказал Роман свою водочную историю. Взялся за бутылку с шампанским, чтобы подновить вино в бокале Марины.
— А если бы я сейчас попросила вас выпить водки? — вдруг подкинула Марина, затаив в прищуре хитроватый взгляд на Романа.
— Слабо, батенька? — подпел Прокоп Иванович, от удовольствия хватая лохмы своей бороды.
«А если бы я сейчас попросила вас выпить водки?» Эти слова будто бы эхом отдались в фужерах на столе. Повисла игривая и в то же время решительная пауза. «А если бы я сейчас попросила вас выпить водки?» — Марина ведь произнесла это почти в шутку, после рассказа Романа о сокольническом споре. Теперь, в расщелине застольной тишины, Марина испугалась: вдруг он сейчас и в самом деле вздумает пить водку? Но и на попятную сразу идти не хотелось: надо подождать.
Роман сидел неподвижно, на лице у него застыла улыбка удивления. Наверное, он что-то взвешивал, выбирал… Он поднял глаза на Марину, потом посмотрел на Прокопа Ивановича, который, зажав в кулаке свою бороду, с нетерпением ждал разрешения нового спора. Потом Роман снова перевел глаза на Марину, которая от волнения сдерживала дыхание.
— Конечно. Я даже и раздумывать не хочу. Если вы хотите. Сам зарок дал, сам и отменю…
Марина уже потом, как-то запоздало, почувствовала, что он положил руку на ее руку и повторил серьезно, без колебаний:
— Конечно! Я это непременно сделаю… Официант! — Роман обернулся в зал.
— Нет, умоляю вас, не надо! Если вы так сделаете, я уйду! — Ее голос задрожал. — Я пошутила. Я виновата. Роман, не надо водки! — Она даже вскочила со стула. Что-то приказное, словно обращенное к близкому человеку, которого смела одергивать, звучало в ее голосе. В голосе вместе с тем умоляющем, покаянном.
Официант поспевал к столу. Обстановку разрядил Прокоп Иванович.
— Попозже, дружочек, — кивнул он горбоносому официанту, сбив его с темпа, и тут же возликовал над столом: — Браво! — Он захлопал в ладоши. — Браво! И подвиг, и преступление начинаются с женского каприза. Вот она, материальная субстанция чувства! — То ли умышленно, дабы отвести Романа от губительного соблазна и заговорить, замести своей говорильней Маринино подстрекательство, то ли вправду допуская, что чувства могут нести какую-то материю, Прокоп Иванович взял инициативу застолья на себя, начал рассказывать о рукописи «Закона сохранения любви».
Прокоп Иванович говорил в общем-то сам для себя. Марина и не понимала его, и не слушала. Ей казалось, что и Роман не слушает юбиляра; ей даже показалось, что они с Романом сейчас за столом вдвоем. И он, и она только что пережили что-то такое, от чего и страшно, и сладко. Что никогда не забудется.
Она посмотрела ему в глаза и хотела попросить прощения за сумасбродство. Но тут во всем зале одномоментно погас свет. Марина от неожиданности негромко вскрикнула. Шелест ахов прокатился по ресторану. А через две-три секунды свет хлынул из фонарей рампы и с потолка над эстрадой. Загремела ритмичная музыка. На середину зала, разряженная под бледнолицых папуасок, выбежала стайка полуголых длинноногих танцовщиц варьете с фонарями размалеванных глаз и улыбками до ушей. Суматоха обнаженных, высоко задираемых ног, вскидываемых рук, пестрых нарядов, электрических радуг подсветки, — говорить под такую феерию было бессмысленно. Ресторанный зал на время стал зрительным. Марина с опаской поглядывала на Романа, ей все еще хотелось ему что-то объяснить, повиниться, но громобойная музыка не давала ей слова…
Танец папуасок кончился, раздались разрозненные аплодисменты. И в зале опять наступила ночь — свет повсюду потух. Очередное ослепление темнотой было прелюдией к новому действу.
Марина почувствовала, что вот сейчас и будет эротический балет. Раздевание стриптизерш — скабрезное и мужское зрелище. Но стриптиз не пугал ее. Ей сейчас сделалось страшно от того, что уже произошло, — произошло то, чего она боялась, чему сопротивлялась, о чем не хотела всерьез думать. Она поняла, что препятствовать себе самой теперь будет трудно, невыполнимо… Ей хотелось притронуться, прижаться к Роману. Хотя бы найти в темноте его руку.
Яркий столп голубого света внезапно ударил на сцену с потолка из театральной пушки, очертив посредине лунный остров. Свет насыщенного сапфирного луча, расщепленный зеркальным потолком, разлетелся отсветами на серебряную фольгу бутылок шампанского, на золоченые ободки бокалов, на блескучую бижутерию женщин, на темное влажное зеркало глаз, готовых увидеть что-то необычайное.
Длинноволосый парень с тесьмой на голове — под индейца, — весь раздетый, только в набедренном лоскуте, как из первобытности, вынес на поднятых мускулистых руках на сцену нагую девушку и положил под фонарь на свет, на всеобщее обозрение. Темные соски на небольшой груди, чуть впалый живот и черный угольник волос внизу живота, длинные стройные ноги. Худая, гибкая, она начала двигаться на зов музыки; что-то знакомое-знакомое из мировой классики. Танцор играл лишь второстепенную роль. Весь зал был прикован только к ней, к ее страданиям, к ее радости, к ее любви, которые она выражала в движениях танца, то грациозно поднимаясь во весь рост, то плавно и пластично опускаясь и распластываясь по сцене. Она трепетно тянула к своему партнеру руки и, достигнув его, коснувшись его груди, шеи, будто бы обжигалась, взвинченно и судорожно отпрянывала; затем опять вымаливала у него ласку и безнадежно тянулась к нему. В этом бесстыжем балете был сокрыт символ женской любви и вечное желание этой любви. Эта бесстыжесть не вызывала чувства отторжения и неловкости.
…Когда-то, в школьные годы, Марина ходила в студию бальных танцев никольского Дворца культуры. Ей тоже хотелось постичь пластику танца, в порывистых па лететь по паркету в вихре латиноамериканской музыки.
Щемящая волна унесла Марину в трогательное прошлое. Она вспомнила учителя танцев Александра Юрьевича — Сашу. Свою первую любовь. Своего первого мужчину. Может быть, ради него она и записалась в студию бальных танцев. Ведь она тогда ходила во Дворец культуры в художественную студию. Но однажды увидела в зеркальном фойе, как занимается студия бальников. Увидела Александра Юрьевича.
Она, девятиклассница, сгорала от стыда на медосмотрах, когда приходилось признаваться врачу, что уже не девственница, но втайне перед сверстницами была горда за свою взрослость, за раннюю любовь. Марина так же — так же красиво, как эта нагая девушка-танцовщица — таяла в объятиях искушенного красотой движений Александра Юрьевича, там у него, в комнате общежития, в углу на пятом этаже.
Он числился молодым специалистом, окончил в подмосковных Химках институт культуры, безумно кичился этим и презирал Никольск, «эту дыру», куда угодил по распределению «тупицы декана». Оказавшись на первом занятии бальной студии, Марина во все глаза смотрела на Александра Юрьевича, за каждым движением следила въедливо и восхищенно, и не только как за учителем — как за ослепительным мужчиной, высоким, стройным, синеглазым, со светлыми вьющимися длинными волосами, которые он стягивал резинкой в забавную косичку.
И вот счастье! На занятии Марине не хватило мальчика. Сам учитель стал ей временным партнером. Она чувствовала его отточенные властные движения, его крепкие и вместе с тем нежные руки. Даже позднее, когда у Марины появился закрепленный партнер, очкастенький мальчик с прыщиками на подбородке и бесцветной юношеской порослью под носом, Александр Юрьевич, чтобы что-то продемонстрировать группе, выбирал Марину. Она чувствовала, что нравится ему. И сама сгорала от влечения к нему.
Как же она оказалась у него в комнате в общежитии? Он заманил ее? Пожалуй, нет. Он сказал ей, что может дать для ознакомления книгу по истории танцев. «Она у меня в общежитии, можем зайти после занятий». Ура! Она вспыхнула от радостного волнения: нынче вечером она хоть ненадолго заглянет в загадочный мир настоящего артиста. Правда, ничего особенного в этом мире Марина не встретила; две примечательности: янтарного цвета лампочка в ночнике и сферические колонки импортного магнитофона. Под лиричную музыку оркестра Поля Мориа, стереозвуком заполонившим комнату, в свете ночника с необычным оранжевым излучением он, Александр Юрьевич — «Марина, зови меня просто Сашей. Мы ж не на занятиях», — он, Саша, целовал ее и расстегивал трясущимися спешными пальцами пуговки на ее школьном платье (в студию Марина шла сразу после уроков). Боль, неловкое положение на узкой кровати, шумное Сашино дыхание и его слова: «Не бойся… никто не узнает… не бойся… ты красивая девочка… надо просто расслабиться…»; затем разочарование от близости и странный новый прилив нежности к учителю танцев, которого могла наедине называть Сашей.
У них было несколько трогательных встреч в этой комнате общежития. Но вскоре всё оборвалось. Александр Юрьевич сам нарывался на скандал с директором Дворца культуры, чтобы смотаться из Никольска. Нарвался, схлопотал выговор, был уволен и укатил из «дыры», даже не простившись с Мариной. Узнав об этом отъезде, она всю ночь проплакала; плакала в подушку, втихомолку, чтобы не услышала сестра Валентина и не выпытала всей правды. Студия бальных танцев распалась. Художественную студию Марина тоже забросила.
Через год с лишним она поступила в строительный техникум. Школьная жизнь кончилась, вместе с ней уплыли томные чувства первой любви, остыли воспоминания об Александре Юрьевиче. Дальше всё пошло-покатилось, как у всех: какие-то недолгие увлечения, встреча с Сергеем, любовь, свадьба, семья, роды, обыденщина. Всё привычно, накатанно, скучно… Почему же скучно? — опротестовала себя Марина. Вовсе не скучно, если она в дорогом ресторане хлопает в ладоши нагой балерине, а рядом с ней, за богатым столом, сидит человек, такой же милый, как Саша из ранней юности.
В зале еще не зажгли полный свет, а Марина весело предложила:
— Давайте выпьем! Я хочу выпить за Прокопа Ивановича. Прокоп Иванович, я так вам благодарна! Вы очень добрый человек. Живите сто лет!
— Дитя мое, после таких слов я даже безалкогольного вина выпью в вашем присутствии стоя. — Прокоп Иванович поднялся со стула и тут же склонился, чтобы поцеловать Марине руку.
«Ах! Кто и когда мне в последний раз целовал руки?» — думала Марина, щекотно испытывая на руке колючесть бороды Прокопа Ивановича.
— Я буду ревновать, — по секрету шепнул Марине на ухо Роман и тоже поднялся, чтобы выпить шампанского стоя.
«Ну и пусть! Пусть вьются! Могу я хоть здесь побыть женщиной?!»
* * *
Ночь стояла теплая, мягкая — Марина даже не надевала плащ, несла его на руке. И такая — тихая, уютная после ресторанной музыки, блеска, суеты. На вопрос Романа: не устала ли она? — Марина ответила:
— Усталость проходит, а впечатления остаются. Здесь будто на другой планете…
Они шли по набережной.
Башня далекого маяка на горе почти не видна в полуночной мгле. Огни маяка точно красные звезды на низком небосклоне. Черными остриями, будто гигантские древние клинки, упираются в небо высокие кипарисы. Пятнисто белеют, словно в заплатках, толстые стволы платанов, у которых есть и другое название: бесстыдница — потому что постоянно скидывают кору со ствола и постоянно стоят голыми… Вблизи пляжа слышится безмолвное дыхание моря, слышится не органами слуха, а каким-то восприимчивым к любым живым материям внутренним осязанием. Воздух вблизи моря солоновато-свеж, густ.
Марина и Роман говорили вполголоса.
— Мне так не хочется отпускать тебя в санаторий. Я иду и боюсь твоих слов: мне пора.
— Мне уже давно пора. Охрана и дежурная в холле будут ругаться. Нарушение режима… Любаше я тоже обещалась вернуться вовремя. Но мне и самой не хочется уходить отсюда. От тебя…
— Не волнуйся. Охрану мы подкупим. Для дежурной — коробка конфет, для охранника — бутылка водки… Давай возьмем шампанского и пойдем на берег, на дальний солярий… Ну, ответь же мне «да». — Роман мягко обнял Марину, наклонился к ее лицу и поцеловал в губы.
У Марины сбилось дыхание от его поцелуя, слегка закружилась голова, и ответ «да» она прошептала почти бессознательно, по подсказке самого Романа, словно эхо.
— Пляж, наверно, уже закрыт, — сказала она позже, через несколько шагов. — Там высокий забор.
— У нас в России любят заборы. Но, по-моему, еще больше любят бреши в заборах. Я знаю такое место.
На набережной, где бродили немногочисленные отдыхающие и где еще работали кафе и магазинчики, Роман купил бутылку шампанского, шоколаду, апельсинов. Вскоре они с Мариной протиснулись сквозь пролом в ограде и оказались на пустующем пляже. Только где-то в потемках у лодочной станции слышались молодые голоса, смех, мелькали огоньки сигарет. Марина и Роман ушли на дальний солярий, на самые дальние лежаки, на край, над морем.
— Купил шампанского, а стаканы забыл, — подосадовал Роман. — С тобой я такой рассеянный!
— А прямо из бутылки не получится? — усмехнулась Марина.
— Не сомневаюсь, что получится…
Пробка из бутылки вылетела вертикально, высоко, и упала, к счастью, не в море, а на солярий. Где-то глухо попрыгала по бетону и затаилась. Не испортила водный глянец.
Море было редкостно тихим. У самого берега был еще еле-еле слышен шепот воды и береговой гальки, но дальше неподвижность моря давала поверхности зеркальную гладь. В этом зеркале отражались даже звезды. Луна стелила серебряный шлях.
— Рома, это шампанское вкусней, чем в ресторане.
— Намного вкусней. Особенно когда пьешь из горлышка из одной бутылки с тобой…
— Какая луна! Почти полнолуние. Здесь очень красиво. Так бы и обняла весь мир!.. Прости, я облила тебя вином. Нечаянно.
— Ты сегодня такая необыкновенная!
— Просто мне очень хорошо с тобой…
Они произносили пустые, легковесные, двусмысленные, важные и не очень важные слова. Все эти слова, казалось, уже не имели смысловой плоти, ибо два потока уже устремились навстречу друг другу и неминуемо размывали между собой все преграды.
Они целовались долго, страстно, захлебываясь, до самозабвения. Марине хотелось ласки Романа. Ей и самой хотелось быть с ним ласковой, неотразимой, умелой. Она чувствовала его растущее горячее желание, она не сдерживала этого желания и сама, подчиняясь ему, шла навстречу.
— Люби меня, Рома, — вырвалось у нее, такое страстное, покорное, свойское.
Сейчас никто, никто в мире, кроме луны и звезд, не мог подсмотреть за ней. Никто не мог воспрепятствовать ее желанию и отнять у нее радость этой свободы и головокружительной влюбленности.
Они уходили с берега, оба опьяненные, взбудораженные. Они даже шли неровно, будто и впрямь переборщили с выпивкой. Но у вина тут роль невелика. Они оба об этом знали.
— А-а! — вскрикнула Марина и чуть не упала.
— Что с тобой? — Роман едва успел придержать ее.
— Наступила на что-то… Ногу подвернула. Больно… Дура. Каблук сломала. Туфли-то не мои, Любашины.
— Не расстраивайся. Я куплю тебе туфли… Давай я поглажу твою бедную ножку.
К дороге, где остановили такси, Роман нес Марину на руках.
13
Весь нынешний вечер Ленка показушно проявляла усердие в домашних делах: со взрослым тщанием мыла тарелки, чашки, драила с содой большую кастрюлю и чайник; все комнатные цветы не только полила, но и взрыхлила ножиком землю и обтерла от пыли горшки; шумно возюкалась в ванне в тазу — что-то стирала. Сергей приметил нерядовое домохозяйское рвение дочери, но повода к этому не разгадал. Отгадка оказалась простецкой:
— Пап, ты в школе как учился? Всегда на «четверки» и «пятерки»? — спросила его Ленка, взглядывая стыдливо и робко.
— Не всегда, — ответил Сергей, не придавая значения вопросу.
— Пап, тебя в школу вызывают, — убитым голосом созналась Ленка, залилась краской.
— Натворила чего-то?
— Я учусь плохо. Учительница сказала, чтобы родители пришли.
Школьные дочерины промашки и казусы, по обыкновению, улаживала Марина. Она же с нею корпела над домашними заданиями, занималась рисованием. Но Ленке нынче деваться некуда: мама далеко, а учительница Раиса Георгиевна строга, никаких поблажек. Пришлось открыться отцу.
— Совсем плохо? — Сергей испытующе посмотрел на дочь.
Ленка пожала плечами, виновато повесив голову. Подавленно молчала.
— По всем предметам? — прервал он молчанку.
— По русскому… Еще по математике «двойка». Я задачу не поняла на контрольной. Учительница накричала… Пап, ты не будешь меня бить?
— Не буду, — насупился Сергей. — Иди спать. Завтра я зайду в школу.
Ленка кротко взглянула на него и тихонечко ушла. Сергей еще сильнее насупился. Не дочерина «двойка» по математике обременила его раздумной тяготой, оценка — ерунда, — дочь спросила его: «Пап, ты не будешь меня бить?» Да разве ж он ее бил? Вроде бы и не вспомнить такого. Но довольно и одного рукоприкладства, чтобы ребенку внушить страх. Вот и Ленка будет считать, что ее в детстве били. Били! Если хоть один раз врезали — значит били…
Теперь уже самому Сергею хотелось навязаться на глаза к дочери, утешить, ободрить, загладить вину перед ней. Ведь и верно, случалось — шлепал ее по заднице; пару-тройку раз, доходило, поучал и ремнем. Потом, правда, на душе становилось мрачно, сам себе не рад; Ленка ревела, Марина вставала на дочерину защиту, укоряла Сергея и сама, бывало, плакала в унисон с дочерью; Сергею тогда уж до того делалось не по себе, что хоть на колени становись перед дочерью и женой. Тем паче, что ни отец, ни мать поучительской оплеухой или ременной ошлеиной Сергея никогда не воспитывали. Ни разу не приложил к нему рук в проучку и отчим Григорий Степанович.
Об отце у Сергея осталось воспоминаний немного — картинки, озаренные теплым светом. Последним осевшим в памяти с малолетства дорогим эпизодом стала отцова покупка Сергею к первому классу школьного ранца. Ранец был песочного окраса, толстокожий, просторный, с крепкими сыромятными ремнями, с серебряными собачками и приятным, волнующим, первозданным запахом. Подарок отец преподнес задолго до сентября — еще в зиму. При отце походить с этим ранцем в школу Сергей так и не успел: отца той же зимой не стало, его подло и безрассудно убил местный бандюга: решил ограбить заводского шофера, ударил ножом сзади под лопатку, снял сурковую шапку-ушанку трехлетней носки и забрал кошелек с девятью рублями и мелочью.
Отчим появился через два с лишним года. Сергею всегда казалось, что он сам виноват, что появился отчим, что он сам вынудил мать пойти замуж — по расчету, за нелюбимого человека. Почему, по каким приметам он твердо уверовал, что мать не любит отчима, объяснять Сергей даже себе не хотел, принял однажды раз и навсегда, как принимают математическую аксиому. Отчим был из служивых украинцев, прапорщик из тыловой части, в полку, который квартировал в Никольске. Толчком материному замужеству, казалось, послужил лакомый торт.
Как-то раз мать взяла Сергея в магазин, в главный большой магазин, что находился в самом центре города, поблизости от памятника Марксу. Магазин занимал старинный купеческий дом с высокими расписными потолками и с люстрой в тысячу граненых переливающихся стекляшек. «Наш Елисеевский» — называли его в Никольске, тем самым подчеркивали родственный дух со столичной торговой знаменитостью. В этом магазине Сергей очутился впервые: жили-то они с матерью в комнатушке заводского барака, на окраине; в магазин ходили ближний, вроде как сельский: там на одном прилавке и кирзовые сапоги, и пачка соли, и женские комбинации поблизости от мешка с кусковым сахаром. Здесь, в «Елисеевском», Сергей обомлел в кондитерском отделе. Мать ушла по своим надобностям к другим прилавкам, а он, как увидел, так и прирос к стеклу витрины. Вазы с карамелью и печеньем, чудные кренделя, посыпанные сахарной пудрой и дробленым орехом, домик, выложенный из маленьких шоколадок — всё в диковинку. Но ярче, бросче, незабывнее всего — торт. В форме большой подковы, которую обрамляли разного окраса цветы из крема и кремовые змейки-окантовки; посередине, по шоколадной поверхности подковы, — искрящейся белой пастой надпись «С днем рождения!» Рядом с тортом из золотистой коробочки выглядывали тонкие белые свечки, те самые, огоньки которых должен задуть счастливец именинник. Глаз не оторвешь от яства!
Мать подошла сзади и тоже загляделась на торт.
— Дорогой? — спросил Сергей, когда она положила ему на плечо руку.
Он еще не понимал в ценах: цифры знал, складывать, вычитать и помножить умел, а дорого-дешево — расценить не мог. Знал только, что к дорогим вещам нечего и приглядываться, это запретное, будто яблоня, вся в яблоках, но в чужом саду за высоким забором.
— Дорогой… Для торта уж больно дорогой, — ответила мать. Потом прижала Сергея к себе и запальчиво пообещала: — Ничего, терпимо. Вот будет у тебя день рождения — разорюсь! Куплю на твое десятилетие обязательно!
День рождения у Сергея был не близок, через пару месяцев с хвостиком, но такое материно обещание временем не выветривается. Он ждал терпеливо, бессловесно, тайно. Иногда в одиночестве, играя сам с собой, надувал щеки и со всей силой дул на воображаемые огоньки над праздничными свечками. Враз, одной волной, одним выдохом задувал десяток огоньков. Только однажды Сергей не утерпел: когда осталось до дня рождения чуть больше недели, в темноте, перед сном, когда мать тоже улеглась на кровать за невысокую двустворчатую ширму, тихо окликнул:
— Мам, ты взаправду торт купишь?
— Куплю. Спи.
Накануне предстоящего события Сергей сманил в укромный уголок в коридоре барака своего приятеля и соседа Кольку, рассказал:
— День рождения у меня сегодня. Мамка торт обещала купить. Как подкова, большой. И свечки. Ну, знаешь, на которые дуть надо. Приходи, приглашаю.
И вот близок долгожданный час. Сергею не дают покоя внутренние пружины, он резвится в комнате, скачет с места на место, безумолчно тараторит что-то Кольке, который ради торжества принарядился в чистые шаровары и принес в подарок новенькую авторучку с толстым, «долгоиграющим» стержнем.
Вдруг из коридора донесся голос матери, которую остановила соседка теть Фая, видать, что-то спросить или сказать. Сергей кинулся к своему стулу и с замиранием сердца стал ждать, не смея выглянуть в коридор.
Еще рано утром он сквозь сон почувствовал, что мать его поцеловала и что-то прошептала поздравительное. Позднее он обнаружил на стуле новую беленькую рубашонку, — но разве это подарок! Главный, настоящий подарок должен был появиться сейчас, через минуту, через несколько секунд, когда болтливая теть Фая отвяжется от матери.
Наконец дверь дрогнула, в Сергее всё замерло. Мать неторопливо вошла в комнату, поставила у порога сумку. Коробки, в которой должен был быть упакован заветный торт, при ней не было. Сергей боялся взглянуть в глаза матери.
— Прости, Сережа, — тихо проговорила она. — Не купила я обещанного (слово «торт» она, видать, и произнести не осмелилась). Денег не хватило, прости. — Мать нагнулась к сумке, достала оттуда несколько больших красных яблок, три песочных пирожных и бутылку ситро. — Вот. Ешьте, ребятишки. — И ушла за маленькую ширму, где стояла ее кровать.
Сергей тупо уставился на пирожные. Ему казалось, что появление матери померещилось. Надо еще потерпеть, подождать — торт, возможно, еще будет. Но потом он быстро взял пирожное и жадно принялся его есть, осыпая на стол и на колени крошки. Он ел будто бы назло… Колька тихо, вопросительно, и немного зацеписто шепнул:
— Говорил, торт будет подковой.
— Не хочешь — не ешь! И вообще уматывай отсюда. Ручку свою забери. Она мне не нужна! — вскипел Сергей. Он был готов ударить Кольку, выместить на нем всю обиду.
Колька обиженно надулся, но прекословить или завязывать потасовку не отважился. Слез со стула и ушел из комнаты. Сергею стало еще хуже: обругал, выгнал приятеля, а ведь сам его обманул. А-а, ладно! Торт этот проклятый! Не видеть бы его никогда. И Кольку с его ручкой!
Сергей еще раз откусил совсем невкусного пирожного. Потом налил в стакан ситро, не попробовал — стал наблюдать, как лопаются на поверхности напитка оторвавшиеся от стенок стакана мелкие пузырьки.
— Мам, — наконец негромко позвал он. — Посиди со мной. Чего я тут один? День рождения у меня сегодня. Колька ушел, Любки тоже нету. (Младшая сестренка Любка гостила в то время у бабушки в деревне.)
Скрипнула материна кровать. Сквозь матерчатую ширму Сергей заметил, как мать одернула на себе платье, пригладила рукой волосы. Она вышла из своего укрытия, и он увидел в ее глазах слезы.
— Не реви, мам, не надо. Чего ты?
— Ты ведь торт хотел. Я всё понимаю, Сережа. Обидно тебе… Ты обожди. Я с тобой после рассчитаюсь, куплю… Денег сейчас в обрез. А занимать не хочу, не по душе. Да и неловко, ведь не на кусок хлеба… Займешь — все равно отдавать. А у тебя уж пальто никуда не гоже и ботинки совсем изорвались. Любке тоже шубейку бы к зиме надо… — Мать чего-то еще говорила, объясняла. В ответ Сергей яростно доказывал ей, что не надо ему «нового пальта» и «ботинки еще ничевохоньки», пробегает…
— Ты только не реви, мам.
В тот же вечер к ним заглянула по-соседски теть Фая. Сергей нечаянно, а может, и совсем не нечаянно, кое-что почерпнул из их разговора с матерью.
— …Выходи за него. Мужа из могилы не подымешь. Где ж на кажду бабу любви-то наберешься? Смиряйся. Чего есть, то есть. А он хохол, прапорщик. Они, знаешь, какие ухватистые! Военного без куска хлеба не оставят, жилья дадут… А так будешь биться как рыба об лед. Двое-то ребятенков — шутка ли сказать, в одиночку. Без рук к старости останешься.
Мать работала на заводе в прачечной, где стирали спецодежду и белье для заводского общежития. От мыльной воды, от водяного пара руки у нее — худые, белые, с прозрачными ноготками — сохли и шелушились. Она часто втирала в них серо-зеленую, пахнущую болотным илом мазь.
Вскоре и появился — в открытую, не тая намерений — Григорий Степанович, новый отец Сергею и младшей Любе. Ни папой, ни отцом Сергей его ни разу не назвал, благо принуждения к этому не было, хотя разговор об этом не раз затевался той же неугомонной теть Фаей.
Выйдя вторично замуж, мать «вздохнула»: появилась квартира, обстановка, кой-какая завидная для соседей нарядка; из прачечной она перебралась в контору, на непыльную службу с бумагами. Сергей взрослел и еще тверже убедил себя в том, что матерью двигал во втором замужестве расчет, ведь Григорий Степанович был ей чуть выше плеча ростом, смешной нос картошкой, уши торчком, а уж храпел так, что казалось, покачиваются висюльки в хрустальной люстре. Позднее мать с отчимом, как только он выслужил свой воинский четвертак, уехали из Никольска на Украину.
Уезжать на чужую сторону матери было не по душе.
— А ты и не езди, мам! Любка тоже не больно хочет, — с усмешкой, но по-серьезному посоветовал Сергей. Он тогда уже отслужил срочную, был студентом, но не изжил еще юношеского максимализма (сам-то уезжать из Никольска наотрез отказался).
— Что ты, Сереженька! Как так можно? Он муж мне. Он нас с вами столько лет… Ах, как ты так можешь говорить!
…Сергей сейчас сидел в кухне, курил, думал про мать, которая ради него и сестренки пошла за этого маленького, цепкого, оборотистого прапорщика. Она ведь тогда очень красивой была. Все так считали. Длинные волосы распустит, подопрет ладонью лицо и сидит, слушает пластинки на радиоле…
Он подошел к комнате дочери, заглянул в щель, в светлую полосу не до конца притворенной двери. Ленка сидела за столом, чего-то писала в тетради. Сбоку было видно, как она закусила от напряжения нижнюю губу, старалась.
На следующий день Сергей сидел напротив учительницы Раисы Георгиевны, которая тыкала пальцем то в классный журнал, то в тетрадки Ленки. Прихныкивающая Ленка, с красными слезными глазами, стояла тут же, переминалась с ноги на ногу, куксилась от позора.
— Вы только полюбуйтесь, как она пишет! — листала тетрадку учительница. — Одни каракули! Хуже первоклассницы!.. А на этой странице? А здесь? Это домашняя работа! Как курица лапой. Теперь — математика. Разве можно так выполнять задания? Всё исчеркано, поля не соблюдаются… Вы должны строже контролировать свою дочь. Ну а это? Никуда не годится! — Она пилила и пилила.
— Извините, Раиса Георгиевна, — прервал ее Сергей и сказал дочери: — Лена, выйди. Подожди в коридоре.
Раиса Георгиевна недоуменно взглянула на него, но промолчала. Когда они остались в классе вдвоем, Сергей широко, добродушно улыбнулся учительнице:
— Она выучится, Раиса Георгиевна. Она будет правильно писать и считать. Стоит ли так тратить эмоции и доводить ребенка до слез?
— Как это выучится? Как это эмоции? — растерянно и неудовольственно спросила Раиса Георгиевна.
— Выучится. Вы и научите ее правильно писать и считать, — словно бы издевочно, наступательно, с той же широкой улыбкой повторил Сергей. — Я не знаю ни одного взрослого человека, который бы не умел писать и считать. Все научились, и она будет уметь… А в отношении «строже» вы, по-моему, зря. Она моя единственная дочь. Я всегда, в любом случае и в любом положении, буду на ее стороне. Всегда… Учитель должен учить, а родитель должен любить. Это наши с вами святые обязанности, Раиса Георгиевна.
Из школы они возвращались с дочерью вместе, она держала Сергея за руку. Долго помалкивали. Первой не утерпела виноватая Ленка. По-хитрому уводя разговор от школьных закавык, спросила:
— Пап, а правда, что люди от обезьян произошли?
— Я в это никогда не верил. Даже с учительницей биологии часто ругался. Донимал ее, — усмехнулся Сергей, невольно возвращаясь на школьные рельсы. — Она нам про теорию Дарвина рассказывала, был такой ученый в Англии. Он хотел священником стать, но потом труды написал, что человек от обезьяны вышел. Бес, видать, его попутал… Я нашей биологичке так и сказал: «Вы не очень красивая, а на обезьяну все-таки не похожи…». Она из класса меня как-то раз выгнала. А я ее в лаборантской запер. Шуму на всю школу было. Она меня тоже не любила, как тебя Раиса Георгиевна.
— А Бог есть? — негромко и опасливо спросила Ленка.
— Должен быть. Люди построили дома, проложили дороги, придумали телевизор, — объяснял Сергей дочери, но отчасти объяснял это и самому себе, убеждал себя: — Но ведь кто-то создал горы, моря, реки, солнце… Кто-то создал. Значит, создатель всему этому Бог и есть. Он и в человека душу вдыхает.
— Как это вдыхает?
— Вот растет дерево, оно живое, но души в нем нету. Сердца у дерева нет. А у человека сердце есть. Бог вдыхает ему душу с первым ударом сердца… Сердце стучит, греет, хранит человека до последнего мгновения. Остановится сердце, и душа из человека вон.
— Пап, — негромко остерегла Ленка, — ты с нашей учительницей не спорь больше. Она потом мне же хуже сделает. Двойки я исправлю. Мама приедет — мы с ней позанимаемся. Она уже скоро приедет. Ладно, пап? Не ходи больше к нашей Раисе…
— Будь по-твоему, — кивнул дочери Сергей. Про себя и с унынием, и с ожесточением подумал: «Может, все беды наши от этого: с детства мы, русские люди, какие-то запуганные. Ни потребовать, ни защитить… Вечно боимся врачей, учителей, милицию, какую-нибудь паршивенькую чиновницу из жэка. Вот и во власть у нас лезут разные твари. В девяносто третьем в Москве заваруха случилась, простые люди полегли, а через пару лет тот же Руцкой выбился в губернаторы, деньжищ нахапал и с Ельциным опять на дружеской ноге… Всё для простого человека боком выходит. Где ж правда-то в России? Церкви пооткрывали, а духовности больше не сделалось. Духовность — это человеколюбие, когда простого человека ценят. А в России простого русского человека не ценят! Духовность-то всё какая-то вывернутая получается… Вот я учителку хотел приструнить, ее обязанность — научить ребенка цифры складывать, а вышла Ленке медвежья услуга».
В почтовом ящике Сергей нашел казенную бумагу: постановление, выносящее штраф за общественные беспорядки. Всем заводским учинителям этих беспорядков, оказавшимся в милицейском отделении, разослали такие. «Оплатить в течение…».
Сергей погладил свою руку, предплечье. Боли, причиненные милицейской дубинкой, прошли; незаметно рассосалась, ушла боль из шеи.
«Все же сломали советского инженера! — самонасмешливо подчинился он. — Пора к Косте Шубину в гаврики записываться. Принимай, Костя, в свою бригаду на разгрузочные работы! Надо еще Лёву Черных сагитировать. Да Кладовщика. Веселее».
14
Пришедшую из милиции бумаженцию Лёва Черных ультимативно изорвал в мелкие клочья. «Штрафов захотели? А хренчиков — не надобно?» Вместе с милицейским постановлением в почтовом ящике лежала бесплатная предвыборная газетенка и странный конверт, адресованный матери Екатерине Алексеевне. Странность значилась в имени отправителя. На письме в уголке синел штампик — «Областная еврейская община». Озадачливым холодком пахнуло от этой надписи: на кой бы ляд коренной русской женщине послания из еврейской общины? Дома на этот час Екатерины Алексеевны не было: она хоть и пенсионерка, но устроилась на подработку, санитаркой в поликлинику. Распечатать конверт, приподнять завесу умолчания Лёва не отваживался. Вдруг невзначай обидит мать. Мать — святое. Вскрывать не надо.
Он подозрительно покрутил конверт, положил на самый вид: прислонил к зеркалу на комоде. После поразглядывал предвыборную газетную агитку с фотографией уже всем надоевшего в Никольске кандидата в депутаты каких-то собраний, наткнулся на авторское псевдонимное клише «Борис Бритвин», рассмеялся, тут же и порешил через приятеля-журналиста, окольным ходом, добраться до послания на материно имя. «Борька о евреях знает всё. Ему и по службе, и по крови положено». Тряхнув веселой рыжей курчавой головой, Лёва нацелился было в редакцию «Никольской правды», решил примарафетиться, надеть светлую рубаху.
Судьба Лёвы Черных вязалась так же петлисто, как его шероховатый, взвинченный и вместе с тем легкий, отходчивый нрав. Смолоду азартный, допытливый, он прочитал огромное количество книг. Учителя и мать даже побаивались: нет ли тут перебора? — он читал взахлеб, иногда по ночам, поражал школьную библиотекаршу частотой посещений. Остроязыкий, начитанный, заводной, Лёва после школы поступил на физический факультет Уральского университета. Поступил с твердым намерением создать вечный двигатель. Но мир таких изобретателей познал уже предостаточно, и Лёва скоро разочаровался в науках. Уже на втором курсе он не явился в летнюю сессию на экзамены и вольно-невольно навострил лыжи на армейскую службу. Бесстрашие и природная тяга к крайностям еще до изгона из студенчества привели его в спортивный клуб восточных единоборств, которые сторожко входили в тогдашнюю молодежную моду. Так что в войсках ему выпала прямая дорога в десант. С десантной частью он и оказался в знойном азиатском Кандагаре с интернациональной миссией. Ангел-хранитель догляд вел примерный, и Лёва вернулся из афганской кампании без царапины. После службы он несколько лет шмонался по северу Сибири в поисках денег и удачи: калымил со строительными бригадами, охотился на лис и соболей, выходил на большие реки с рыболовецкими артелями, даже пробовал себя на золотоискательской ниве. Но неуживчивый с начальством, непоседливый, везде прогорал. На любовной ниве тоже не преуспел. Несколько раз сходился с женщинами, но ненадолго, бессемейно.
Обычно, покуролесив пару лет в разъездах, он возвращался в родные палестины, под материн кров. Но и в Никольске подолгу не засиживался: год-полтора — и вновь зудливое чувство искателя перемен влекло его на российские просторы.
…Светлую рубаху Лёва надеть не успел — добираться в редакцию газеты не пришлось. Борис Вайсман и сам тут как тут — подкатил к дому Черных на своем скромном трехдверном поизношенном «опеле». Но все же — «опеле»!
— Поехали! Я за тобой! Сейчас акция начинается. Выступишь перед пенсионерами — тебе забашляют. Так же без работы болтаешься, — словно с цепи сорвавшись, затараторил Борис, суетливо сверкая дужками очков.
— Охлынь, Борька! На-ка вон квасу попей! — ответно грубо прокричал ему Лёва. — Чего загоношился-то?
— Ты предвыборную газету видел?
— Ну… Даже твою залепуху прочитал.
— Там кандидат. Сейчас встреча с ветеранскими организациями. Ты выступишь от «афганцев». В Афгане воевал? Воевал! Вот и толканешь речь. Кандидатуру поддерживаем. То, сё. Бойцы «горячих точек» за кандидата…
— Но он же мерин и поц!
— Они все такие. Главное — этот не жлоб. Прилично забашляет.
— Не-е, Борька. Полный дебилизм получится. Мне потом перед мужиками западло будет. Этот твой кандидат в армии не служил, а грязью армию поливает. Тут я еще со своим рылом вылезу…
— Да это же политика! В ней принципов не бывает. Сегодня грязью поливает, завтра аллилуйю будет гнать. Лучше нести ахинею, чем бревно!
— Не-е, Борька! Я так не могу. Это тебе по фигу. Ты все равно отсюда в Израиль свинтишь. А мне… Мне тут жить.
— Как знаешь. Некогда.
— Стой!
— Чего?
— Ладно, поезжай! Потом спрошу…
Не повернулся язык спросить у Бориса о еврейской общине. Чего-то поостерегся Лёва.
Конверт на имя матери покоя не давал. Лёва пытался забыть о нем, утопить неотвязную мыслишку в делах — затеял просмолку лодки: до рыбачьих вылазок рукой подать, лед на Улузе уже пошел. Имелась у него старенькая деревянная плоскодонка, которая худо-бедно бороздила воды под слабосильным мотором «Ветерок».
Лёва приготовил плотницкий инструмент, прочистил паяльную лампу, разыскал в сарае черные куски вара. Посидел на опрокинутой вверх дном лодке, у раскрытых ворот сарая, посмолил спервоначалу табаку. «Даже самая маленькая работа должна начинаться с большого перекура»… Но после курева вернулся в дом, в горницу.
Стеснительно взглянув на себя в зеркало, к которому пристроил послание от евреев, Лёва взял конверт, помусолил в руках, пошел к чайнику — отпаривать склейку над кипятком, попробовать вскрыть конверт без порывов. Воровски заглянуть в письмо да придать ему прежнюю цельность.
— Не может быть! — вслух вырвалось у Лёвы. — Не может такого быть!
Он опять вернулся на зады дома, к сараю, к лодке. Сел на нее, закурил.
Лёва не захватил письмо с собой, но и с одного прочтения запомнил его почти досконально. Еврейская община сообщала Екатерине Алексеевне о том, что собирается выпустить сборник воспоминаний о своих наиболее известных соплеменниках, в разные годы по принуждению повязавших жизнь со здешним краем. «Будем признательны, если Вы пришлете нам свои воспоминания о репрессированном в 1939 году уроженце г. Ленинграда, талантливом исследователе-химике Бельском Иосифе Семеновиче, с которым Вы вместе работали на никольской фабрике „Химфарм“ в начале шестидесятых…».
Никольск — город северный, от столиц достаточно удаленный. Местность поблизости от таких городов во все российские времена была облюбована острогами, зонами, невольничьими поселениями, лесоповалами для заключенных. Во времена сталинских «чисток» поблизости от Никольска зоны кишмя кишели народом. В войну и после войны народу значительно поубыло. Но некоторые нары для политических не пустовали аж до конца пятидесятых. Хрущевский антисталинский почин был как манна небесная, но оказался для некоторых невинно пострадавших половинчатым. Многим из прежних политзэков запрещалось поселяться в столицах, в родных крупных городах. Тут и оказывался под боком заштатный, но не малый, с привлекательным местоположением у красивой реки, промышленный, районный Никольск. Из деревень простой люд тоже шел сюда непрерывным потоком — на заработки, на учебу, на обустроенную городом жизнь.
«Схожее звучанье. Совпадение. Простое совпадение! Она бы мне раньше сказала. Он же на зоне не сидел!» — думал, кому-то и чему-то сопротивлялся Лёва, все еще не готовый взяться за промазку лодочного днища. Темное пятно в семейной биографии опять повеяло таинственно-каверзной правдой.
В каждой судьбе, в каждой семье есть такая страница, которая писана на особый манер. Напоказ такую страницу лучше не выставлять: людская молва ласковой не бывает.
…Молодой деревенской девушкой Екатерина Черных приехала в Никольск — деревня чахла, надо было починать городской устрой, — сняла угол, нанялась лаборанткой на химфабрику, мыть пробирки и колбы, намешивать нехитрые растворы.
Материну историю Лёва, в общем-то, знал. Где, кем, когда работала. Пусть обрывочно, но сведения имелись. Вот с отцом выходила неувязка. «Ни одной фотографии. Никаких следов… Ну и пусть, что прижила! Но ведь первая любовь. Такую не забывают… Не может такого быть! Зачем бы она меня обманывала?» — Лёва кипятился, тыкаясь в неизвестное.
Всё было как-то недосуг расспросить мать, выпытать, кто был его отец, чем знаменит… Иной раз Лёва пробовал разговорить Екатерину Алексеевну. Она и не уклонялась от вопросов, только ответы давала короткие и простые: «Молодая была, глупая. Приехала из деревни. Уши развесила. Поверила парню молодому, военному. Он жениться обещал, а потом взял да укатил с концами».
Вот и весь сказ. Поди, выпытывай. Что-то в этой истории глубоко утаивалось. Лёва это чувствовал, время от времени улавливая какие-то намеки, поводы для расспросов, но настырно в душу матери лезть не смел.
Теперь он как лунатик бродил вокруг лодки. Хватался за топор, за рубанок, за долото, разжигал паяльную лампу и гасил ее. Всё складывалось покуда не в толк. Не клеилось дело, не сдвигалось с места. Не было покоя и мозгам.
Работу, так и не начатую, прервал машинный сигнал. Под окнами дома, у палисада, стоял другой железный гость — старенький бежевый «жигуленок-копейка». Из машины вывалилась компания: милицейский старлей Костя Шубин, Сергей Кондратов и Кладовщик в своей задрипанной верной шляпе.
— Поехали! — загудели вперебивку они. — На станции вагоны разгружать. Деньги — сразу на руки. Давай поскорей! Похуже оденься. Там спецодежду не выдают.
Мужики приехали оживленные, многословные, хохочущие, будто собрались не на работу горбатить, а на праздник — отлично выпить да славно закусить.
Лёву Черных ни упрашивать, ни долго ждать не пришлось. Скоро его поматывало рядом с Кладовщиком на заднем сиденье шубинского «жигуленка», который вилял меж выбоин и луж по разбитым дорогам старого города. Обстановку Лёва сменил, мышцы обременил работой, но голова осталась на месте. Мысли все вертелись об одном и том же. Как будто сам Лёва на охоте поставил капкан. И сам в него нежданно-негаданно угодил.
Таская мешки с цементом и алебастром из вагона в крытую фуру машины, Лёва косился на Кладовщика. Это он, Кладовщик, как-то раз, когда Лёва завелся уж совсем ядучим, нестерпимым антисемитством, посоветовал ему: «Ты на свою-то рожу в зеркале погляди. А? В тебе, может, ихняя кровь и бурлит?» Лёва бросился тогда на Кладовщика с кулаками. Хорошо, мужики подоспели, разняли бузотеров. Или Сергей Кондратов, который сейчас тоже спину гнет под мешками, — это ведь он однажды высказался: «Самые свирепые юдофобы не среди русских. Хохлы, поляки, прибалты… Русские люди простаки. В нас последовательности нету… Среди самих евреев тоже антисемиты водятся. Особенно среди „полтинников“. Я вот в институте учился — у нас парень был, выдавал себя за кубанского казака, а на самом деле — злющий полукровка…».
«Не может такого быть! Не может такого быть!» — как заклинание твердил Лёва и торопился, торопился поскорее сделать с мужиками работу, таскал мешки яро, без передыху, обливаясь потом, — торопился поскорее увидеть мать; нынче-то уж он не отступится, нароет правду.
* * *
— Лёвушка, это ты пришел? Кушать будешь? — окликнула из-за перегородки, из кухни, Екатерина Алексеевна.
— Буду, — отозвался Лёва. Сел на лавку у порога, стал разуваться. — Мама, ты письмо видела?
— Видела. Они уж второй раз присылают.
— Я прочитал письмо, — вдруг выдал себя Лёва. — Будешь писать им?
— Нет. Зачем старое ворошить.
Лёва устало склонил голову: наломался с непривычки на грузчицкой работе. Пожалел о том, что не купил чекушку водки: с устатку бы пришлось в самую пору. И разговор бы с матерью, может, легче пошел.
— Этот мужик… Этот Бельский… Он и есть Белов Иван Семенович? Мой отец?
Екатерина Алексеевна на кухне постукивала посудой, шуршала фартуком; под ножом хрумкала капуста… А тут враз — тихо-тихо. Словно и печь, и стены, и потолок вошли в какое-то натяжение, остановили на минуту ход всего и всему.
Тихие шаги попутали тишь дома. Екатерина Алексеевна тихо подошла к Лёве, тихо опустилась рядышком с ним на низкую лавку. Положила руки в подол.
— Я знала, что ты сам всё узнаешь. И не объяснить, почему так надумала.
— Чего сама не рассказала?
Екатерина Алексеевна глубже утопила в подол руки:
— Это сейчас языки-то пораспускали. Раньше такого не было… Иосиф Семенович пятнадцать лет отсидел. Хоть и отпущенный. А все равно враг народа. Он любое слово с оглядкой говорил… Я тоже боялась. Я тебе навредить боялась. Вдруг старое кем-то вспомянется, худое за родителей зачтется…
— Он бросил тебя?
— Нет. Он в Ленинград поехал, на родину. Книги нужные сюда привезти. С родней повидаться. Семья хоть и отказалась от него, но он не винил. Время, говорил, такое было. Их тоже могли посадить. Сказал, что приедет и свататься будет… — Екатерина Алексеевна улыбнулась той далекой невестинской поре. — Потом из Ленинграда известие пришло, что он очень болен. У него внутреннее кровотечение в дороге открылось. Надорвал здоровье по тюрьмам. Он меня к себе звал, писал. А куда я брошусь-поеду, молодая непутевая деревенская девка! Там он и помер. Я поревела, поревела — утерлась. А когда про свою беременность узнала, подумывала, грешным делом, отравиться. Стыд-то какой — с немолодым да еще с судимым спуталась. Без свадьбы спать легла. Он еще чужой породы, веры не нашей. В деревню носу не покажи… А тут военные поблизости стояли. Им как раз время уезжать подходило. Я и высмотрела себе одного, признакомилась. Он в увольнительные ходил. Просила, чтоб он меня с вечерки провожал. Чтоб подружки видели… Звали его Иваном. А фамилию я уж не помню. Белов Иван Семенович с Иосифом Семеновичем близко. Говорила одно имя, думала про другое… Иван-солдат и не знает, что наследника нагулял.
— Значит, точно? Бельский? Этот еврей? — Лёва зажмурился, весь сжался.
— Мне всегда казалось: вот мой Лёвушка таким умницей растет, потому что в нем еврейская кровь есть. Читать любил, слух у тебя музыкальный. Веселость тоже от евреев перешла. Они народ шебутной. — Она погладила сына по курчавой рыжей голове, улыбнулась.
— Мама! Да о чем ты говоришь! — Лёва вскочил. Глаза вытаращены. Рыжий нос заострился. Руками не знает, что схватить, ногами не знает, на какую половицу кинуться. — Как мне теперь! Я же евреев…
— А ты язык-то прикуси, — хладнокровно присоветовала Екатерина Алексеевна. — Не маленький уже языком-то направо-налево шлепать… Сколько раз я тебе говорила: Лёвушка, не болтай худого про евреев. Разве может тополь поучать, как надо расти ясеню? Всяк на свой лад живет. У нас в деревне еще, бывало, говаривали: курице — куричье, а корове — коровье…
— Но я ж православный! Крещеный! — будто кому-то в отпор почти вскричал Лёва. — Русский православный!
— И это правда, Лёвушка! Как родился, вскорости тебя и крестили тайком в сельской церкви. Я в комсомолки хотела. Узнали б, что сына крестила, не приняли б.
Лёва потоптался, потоптался — опять сел на лавку рядом с матерью.
— Лучше б мне ничего этого не знать, — проговорил тихо, убито. Заугрюмился. Но скоро вспыхнул интересом: — Почему ты мне такое имя дала? По святцам?
— Нет, — улыбнулась Екатерина Алексеевна. — У Иосифа Семеновича любимый писатель был. Лев Толстой. Он все его книги читал. Я так и назвала. Память какая-то. Молодая была, глупая. — Она помолчала, видать, вернувшись мыслями в «глупую» молодость. Вздохнула. — Ты своим отцом гордиться можешь. Он человек был уважаемый… Но в общину я писать ничего не буду. Не хочу старое перетряхивать. Было, прожито — Господь рассудит.
Лёва Черных почти всю нынешнюю ночь не спал, ворочался, наминал бока, елозил щекой по горячей подушке. То зажмуривался, то резко открывал глаза, как испуганный.
Ближе к утру, когда потемки вытеснил рассветный туман, Лёва встал попить воды и покурить. У комода, на котором стояло зеркало, он задержался. Сквозь сумерки поглядел на себя в зеркало. Рыжие кудри взлохмаченно торчали во все стороны, нос в веснушках — будто оспой пощипан, взгляд глаз недовольный, искренний до цинизма.
«Ну и рожа… Вот кто батенька-то мой оказался! Уж лучше б татарин, чучмек какой-нибудь или вотяк. А то еврей! А если узнают, что я полужидок? Это после моих-то речей!».
Еще несколько дней Лёва Черных с подозрением, придирчиво и стыдливо, поглядывал на свое отражение в зеркале. А матери чурался, избегал с ней разговоров. Вечерами возвращался домой поздно, ужинать старался в одиночку.
15
«Не бойся! Ничего не бойся!» — говорила она себе. Но боялась. Чувствовала себя зыбко, нетвердо. Подгибала коленки, словно пропасть переходила по длинному узкому дощатому трапу… Один неверный шаг, неосторожное движение — свалишься, разобьешься. А назад уже не воротишься. Казалось бы, что такое физическая близость? Всего лишь несколько страстных минут. Но какая могучая власть у этих минут! Нет, на попятную уже поздно. Стало быть, вперед! Рядом с ним, с этим человеком из чужой богатой московской жизни, — рядом с ним, покуда есть шанс. Ведь она мечтала об этом. Пусть не впрямую, не очевидно, не в открытую. Затаенно, в глубине души, мечтала об этом. Каждая женщина грезит о влюбленности, пасет в сердце тайную надежду. Каждая женщина хочет быть любимой, желанной. И чтоб это было красиво, не обыденно…
Мысли Марины — как узоры калейдоскопа: многоцветные, неожиданные. Только иной раз в пестроте мыслей промелькнет темным цветом думка об измене Сергею. Думка, которую гнала от себя прочь. Не надо, незачем вспоминать об этом! Хоть и непонятно, как возвращаться в прежнюю жизнь, но загадывать на будущее не стоит. Не бойся! Будь счастливой сегодня! А завтра будет завтра.
— Тебе хорошо со мной?
— Да… Очень. Ты такой нежный, Рома… У меня голова идет кругом и всё внутри дрожит.
— Со мной тоже никогда такого не было… Хочешь холодного соку?
— Нет… Лучше обними меня крепко-крепко. И поцелуй еще… Мы с тобой всю простыню скомкали. Одеяло на пол сползло.
В телесной ласке, в доверительном шепоте в полутемной спальне с затянутыми жалюзи на окнах несколько часов пролетали для Марины и Романа незаметно. На землю опускались сумерки, в столовой остывал ужин, приготовленный «прислугой», местной женщиной, которая прибирала и готовила в каретниковской даче, но никто и ничто не могло ограничить их свободу, леность, счастливые и изнурительные постельные часы.
Только телефонные звонки врывались в их мир из какого-то другого — проблемного, озабоченного, торопливого мира. Роман разговаривал по телефону в присутствии Марины, не уходил в соседствующий со спальней кабинет. Он говорил о финансовых расчетах со своим коммерческим заместителем Марком. По-русски, но с вкраплением немецких слов разговаривал с сыном Илюшей. Ровно, доброжелательно и заинтересованно — с женой Соней; в эти минуты Марина непроизвольно напрягалась, не шевелилась, боялась выдать себя. Отшучивался и хотел поскорее отвязаться от какой-то беззастенчивой Жанны:
— Брось болтать! Причина совсем другая. Прокоп Иванович уехал и оставил мне здесь уйму работы… Да, да, я тоже тебя обнимаю.
Порой звонки наскучивали, и Роман отключал сотовый телефон, дачный — переводил на автоответчик.
— Женщины — удивительные создания. Жанна, ни о чем не зная, уверена, что я остался здесь из-за женщины.
— Это мужчины всю жизнь могут не догадываться о соперниках. Женщины соперницу чувствуют за тысячи верст… Жанна — это твоя секретарша?
— Нет, мою секретаршу зовут Ириной. Жанна служит в ведомстве моего отца, его помощницей.
Тут наступала минута тишины. Марина в молчании должна была пережить ревность, которая уже вспыхнула к неведомым Жанне и Ирине, двум обольстительницам Романа из столичной богемной жизни.
— Не могу себе представить: ведь если бы не встретил тебя, был бы уже в Москве, занимался на работе всякой ерундой. Я ведь бизнесмен поневоле, — сказал Роман. — Человек, по-моему, должен сделать что-то грандиозное, но не в денежном выражении. Эйфелеву башню построить, сочинить симфонию, наплодить детей, обогнуть на паруснике земной шар; в конце концов, гоняться за каким-то призрачным законом сохранения любви… Я так рад, что мы с тобой встретились! Когда тебе нужно быть в твоем Никольске? Я хочу заказать два билета до Москвы на самолет.
Марина никогда не летала на самолете. Ей очень хотелось это испробовать, подняться на лайнере, посмотреть вниз на землю, увидеть вблизи облака. Но сейчас она не возрадовалась предложению Романа — насторожилась.
— Завтра мы поедем с тобой по канатной дороге на Красную поляну, — продолжал он. — Там горнолыжный курорт и замечательные виды. — Еще я хочу экскурсию в самшитовую рощу…
Каприз, недовольство копились у Марины от его слов. О, как ловко он распоряжается ее временем! Она будто кукла для развлечений этому самоуверенному богачу, способному оплатить самолет, ресторан, путешествие. Неужели они все так живут, эта каста особых, новых русских? Всё и всех покупают? Деньги, деньги. Всюду деньги…
Ну какая же она ему кукла, если — Боже! какой он смешной, голый, в халате запутался, и такой ласковый, — если он стоит сейчас перед ней на коленях и целует ее колени, и ей с ним так хорошо. При чем тут деньги! Не может быть, чтобы в этом был обман, игра… Сумасшедший… Почти нет сил, чтобы уйти от него. Уже ведь поздно. Уже пора.
Ночевать на даче Каретникова она не соглашалась. Дала себе зарок. Не хотела, чтобы он приручил ее, хотела умышленно соскучиться по нему, устроить разлуку — хотя бы на время ночного сна, на время лечебных процедур.
* * *
Время бежало, как песок в песочных часах. Такие часы стояли в кабинках водолечебницы возле ванн с минеральной водой. Песочные часы все же можно было перевернуть, и неутомимый песок просачивался в обратную сторону. Время бежало при этом в единственную сторону. К дому.
Сегодня с курорта уезжала Любаша.
— Адресочек мне свой запиши. Письмишко отправлю. Или по дороге придется — заскочу в ваш Никольск. Больно уж мне не терпится узнать, чего у вас с этим Романом вылупится. По статистике-то, Марин, пишут: только два процента курортных шашней имеют продолжение. Ты, может, как раз в этих процентах ходишь.
— Тьфу на тебя! Никакие у нас не шашни. При шашнях так не относятся. Знала бы ты, Люб, какой он со мной заботливый бывает. Какие у него руки нежные…
— Чё им нежными-то не быть? Он чего, где-то изработался? Лес валил? Кирпичи клал? В шахте киркой долбил? Наверно, тяжельше своего хрена в жизни не подымывал. Да и деньжищи… Богатые нынче за своим здоровьем знаешь как следят! Модно. Видала, по телевизору показывают. Всё жулье в теннис играет. Ракетками машутся.
Они сидели в пляжном солярии в шезлонгах, загорали под полуденным солнцем.
Апрель настолько забаловал курортников лучистым теплом, что многие из них шоколадно загорели. Любаша даже переусердствовала — спалила нос. Теперь нос у нее пятнисто-ярко и весело краснел на ее круглом лице. Марина тоже прихватила первого загара — загара особенного, южного, светло-бронзового, такого в северной российской полосе не прихватишь. «Золотистая Мариша, сладкая, как вино…» — шептал ей вчера Роман, целуя ее в плечо, в живот…
— Эх, Любаша! Всё у тебя как-то приземленно, — растягивая слова, сказала Марина. И дальше — быстро, скороговоркой: — А вдруг любовь? Настоящая любовь?
— Настоящая любовь? — встрепенулась Любаша, холмы грудей под купальником колыхнулись, облупившийся розовый нос въедливо заострился: — Про настоящую любовь я тебе вот чё скажу. Настоящая любовь — это когда тебя замуж хотят взять. Вот ежли твой богач скажет тебе: на-ка ты мою руку и сердце — тогда любовь. Всё остальное, попросту говоря, называется другим словом. На «б» начинается, на «о» кончается. Там еще буква «лэ» есть, а за ней — «я». Вроде как в телевизоре в «Поле чудес». Там этот, с широкой мордой, у барабана орет: «Есть такая буква в этом слове!» — Любаша рассмеялась.
— Совсем не смешно, — отмахнулась от нее Марина.
— Нет уж! Родной-то муженек — что родной дом. Пусть худ, небогат, зато свой. Не какой-нибудь потаскун или прощелыга… Да я не про твоего Романа. Не морщись! Вижу, как ты об нем томишься. Как школьница. — Любаша резво указала пальцем, враз переместила разговор: — Глянь, чё мужик вытворяет! В такой ледяной воде все свое мужиковское хозяйство отморозит. Очумел совсем.
Внизу с одного из волнорезов в море нырнул высокий молодой парень атлетического сложения, с проступающими повсюду на теле буграми мышц, подстриженный по-спортивному и по-модному — «под ноль». Он проделывал такое моржевание каждый день. Многие, кто наблюдал за ним, ознобно поеживались: холодная морская вода обжигает соленым огнем много крепче пресной. Но парень мужественно шел раздетый и босой к торцу волнореза, поднимал руки, отталкивался ногами и, извернувшись в воздухе мускулистым телом, головой вниз входил в воду. Затем он проплывал расстояние между буями и возвращался к берегу, не спеша, без суетности и без той околелости, которую хотели в нем увидеть злопыхательные зеваки. Выйдя из воды, он основательно растирался полотенцем. Накачанные мышцы его рук и ног, покрасневшие от контраста холода и тепла, играли на солнце здоровьем. Лицо оставалось невозмутимым, как у индийского йога. Его здесь так и прозвали — Йогом.
— Я всегда завидовала таким людям, — сказала Марина, наблюдая за купальным обрядом Йога. — В таких людях — целеустремленность, воля. В здоровом теле — здоровый дух. Меня вот вечно заносит. А они всегда по прямой идут.
— Чё завидовать-то? Вон поди да спрыгни в воду. Вся зависть пройдет, — насмешливо сказала Любаша. Она достала из кошелька несколько монет, швырнула их с солярия в море. — Поехала я, подруга. Тю-тю!
* * *
Отъезд Любаши острее напомнил, что курортный песок в часах безвозвратно утекает. Из двадцати четырех дней путевки песчинок набиралось только на три дня. На три последних, прощальных, с чемоданным настроем дня.
В комнате без Любаши — пусто, тоска забирает, но и другой постоялицы не хочется. Хоть бы никого больше не подселили. Уж лучше одной, чем новые знакомства, разговоры. Марина с грустью смотрела на заправленную наново кровать, где посиживала, полеживала, похохатывала Любаша. Теперь Любаша под стук колес катит домой. Домой. Домой… Марина вспомнила вчерашний звонок в Никольск. Она чувствовала себя какой-то чужой, подмененной в этом разговоре. Не знала, что сказать, о чем спросить человека, с которым прожила больше десяти лет под одной крышей, от кого родила дочь. В конце разговора она произнесла обыкновенные: «обнимаю, целую», — но не могла представить, как обнимет и поцелует мужа — после Романа.
Марина почувствовала, что ей тягостно теперешнее сиюминутное одиночество. Как же она будет жить там, дома, если уже сейчас, поблизости от Романа, она так скучает по нему! До условленного свидания оставался еще час. Не сидеть же здесь и смотреть на пустую кровать! Не придумав места, где истратит этот час, позабыв свою прежнюю гордость и запоздания на встречи, она пошла к Роману. Она хочет его видеть. Сейчас! Очень хочет!
Дачный дом Каретниковых, каменный, капитальный, с просторной верандой, окруженный фруктовым садом и отделенный от улицы высоким забором, увитым плющом и диким виноградом, пробуждал в Марине противоречивые чувства. Там, за стенами этого дома, скрывался блаженный мир. Там она была счастлива с Романом. Там была желанная свобода и — никаких посторонних, как ей казалось, докучливых и осуждающих глаз. Но вместе с тем дачный дом Каретниковых внушал ей страх. Дом будто бы сам имел глаза и уши, имел строптивый нрав и безмолвно говорил ей, что она здесь временная, случайная. Чтобы стать здесь неслучайной, надо что-то посметь, возжелать, через что-то переступить. Надо отречься от какого-то прошлого, топнуть ногой и заявить этим стенам: «Теперь и я здесь хозяйка!».
Калитку открыла «прислуга», скупая на слова и улыбку женщина, немолодая, смуглолицая, повязанная темным платком. Марина встречала ее несколько раз и всегда внутренне ежилась: «прислуга» тоже олицетворяла привередливый характер каретниковского дома. Но «прислуга» вела себя нейтрально и вежливо. Сейчас она негромко поздоровалась и проводила Марину до крыльца.
— Ау! Ты где, Рома? — выкрикнула Марина в передней.
Открылась дверь ванной комнаты, оттуда высунулся Роман с намыленными ярко-белой пеной щеками.
— Я очень рад, что ты пришла! Я скоро! Посиди в гостиной, там — конфеты и фрукты.
Марина вошла в гостиную и непроизвольно огляделась. Камин с изразцами и беломраморной плитой, на которой стояли массивные, с бронзовыми кентаврами часы, велюровый диван с пухлыми подушками, пианино с золотой гравировкой немецкой фирмы; посредине, на круглом ковре, два широких низких кресла и стеклянный столик, на нем — конфетница с горкой грильяжа и плетеная ваза с бананами, грушами, виноградом.
Сказочный сон продолжается… Марина может сейчас воспользоваться этой неброской, но безусловной роскошью. Может поваляться на диване, потыкать клавиши дорогого инструмента, погладить гриву бронзового кентавра, отведать большую желтую грушу и съесть столько, сколько захочет, конфет со светским названием «грильяж». Но сердце стучало настороженно: не хотелось ни фруктов, ни конфет. Здесь было одиноко, пусто, как-то незащищенно. Хотелось к Роману, под его покровительство.
Она на цыпочках прокралась к ванной, откуда доносился шум льющейся воды. Осторожно приоткрыла дверь, заглянула. Роман стоял перед большим зеркалом по пояс раздетый, в шортах и шлепанцах. Задрав подбородок, он вел по шее снизу вверх серебристым станком. После прохода лезвия на шее среди пены оставалась чистая борозда. Вдруг на чистой коже появилось алое пятнышко, которое стало растекаться.
— Порезался, бедненький! — не вытерпела Марина.
— Подглядываешь? — оторвался от бритья Роман, отворил дверь шире. — Заходи. Мне без тебя скучно.
— Ты не обижаешься? Ведь я пришла сюда не по времени и без спросу?
— Ты умница. Ты услышала мое желание. Я очень хотел, чтобы ты пришла. — Он обнял Марину, прижался к ее лицу теплой, лоснящейся, только что выбритой щекой.
— Какой ты гладкий! — воскликнула Марина, чмокнула его в щеку, чуть испачкалась в пене для бритья, оставшейся на его подбородке. Мимолетом, без всякого укора подумала: какая жуткая старая электрическая бритва у Сергея, никогда он толком не пробреется.
Из крана в раковину лилась горячая вода. От нее серовато клубился пар. Никелированные вентили и зеркало снизу мелко покрыла испарина.
— Здесь жарко, — сказала Марина.
— Можешь раздеться.
— Да?
— Да.
Их объединяла тайна близости и той интимной взаимности, которая позволяет заигрывать друг с другом, подтекстом простых слов распалять себя.
— Ой, Рома, у тебя волос седой!
— Где? Не может быть.
— Вот здесь, над виском. Давай я тебе его вырву.
— А-а!
— Эх, соскользнуло. Потерпи! Еще разочек.
— Ба-а!!
— Ты что, Рома? — испытующе взглянула на него Марина. — Ты ругаешься матом?
— Да нет же! С чего ты взяла? Тебе показалось. Я никогда не ругаюсь матом… От сквернословия меня отучил отец. Он ругается всегда и везде. Ребенок, старуха, девушка или какой-нибудь важный чиновник — он ни перед кем себя не сдерживает. Мне с детства хотелось воспротивиться этому. Он и привил мне таким образом аллергию.
— Прости, мне действительно показалось… Давай я все-таки вырву этот седой волос. Да не дергайся ты! Хоть ты богатый и важный, я тебя не боюсь… Ура! Получилось! Теперь будешь красивый, молодой, без седин. Будешь еще больше нравиться своим Иринам и Жаннам.
— Да?
— Да.
— А тебе?
— Мне уже поздно. Уже понравился. В первую же минуту.
Он целовал ее опять, безудержно, безумно, до боли, до потемнения в глазах, до сладострастной одури. В какой-то момент Марина взглянула в зеркало и увидела там себя — незнакомую себе, раскрасневшуюся, возбужденную, с обнаженными плечами, на которые сползли бретельки лифчика. Видеть себя в таком положении, полураздетую, забурлённую любострастием, видеть, как Роман целует ее грудь, было и стеснительно, и желанно. «Да… да… да…». Хотелось потерять голову, ведь скоро — край, скоро ничего этого не будет. «Ну, целуй же! Целуй меня еще, Рома!..».
День пока не истратил себя, но клонившееся к горизонту солнце загасили пепельно-сиреневые тучи. Вечерние полутона светлым сумраком наполнили гостиную дачного дома. С этим сумраком сюда влилась тишина. Было совсем-совсем тихо. Будто весь заоконный мир исчез или отдалился на недостижимое расстояние.
Марина сидела на диване. Роман лежал рядом, устроив свою голову у нее на коленях. Глаза у него были закрыты.
— Останься сегодня у меня, — сказал он.
— Нет. Я немного побаиваюсь этого дома. Твоей домохозяйки. Твоих телефонных звонков… Я останусь здесь в нашу последнюю ночь.
— Обещаешь?
— Обещаю… Мы сперва сходим на море. Потом придем сюда. Ты будешь играть на пианино и петь мне песни.
— Я петь не умею, а сыграть могу и сейчас.
— Нет. Сейчас не надо. Сейчас и так хорошо.
В полумраке гостиной, в тишине помимо сказанных слов витали невысказанные мысли о неминуемой скорой разлуке, а главное — о новой неминуемой встрече, которая произойдет где-то впереди, за этой разлукой. Но вслух такое не обсуждалось, будто бы на то существовал обоюдный запрет.
16
Эти шаги в коридоре, почти бесшумные на ковровой дорожке, Марина уловила каким-то особым интуитивным слухом. Когда Роман подошел к двери ее номера, она уже не спала, она уже откликнулась пробуждением на его появление. Короткий глуховатый стук в дверь подтвердил чуткость наития. Марина вскочила с кровати и в ночной рубашке кинулась к двери. Потом вернулась назад, за халатом. Опять — к двери. В суматохе зацепила ногой стул, уронила его с грохотом и только тогда окончательно проснулась. Осмысленно различила тусклый свет раннего утра, включила огонь в прихожей. Тут же услышала голос Романа: «Марина, это я…».
— Отец в реанимации. Мне позвонили ночью. Положение очень серьезное. Скверное положение! Я только что говорил по телефону с врачом. Я срочно улетаю в Москву. Мне нужно успеть на утренний рейс. Через пару дней я тебя встречу в Домодедове. Позвони… Я должен идти. Здесь моя визитка, вот деньги… Не смей отказываться! Это тебе на билет и на туфли — я же обещал. — Он сунул ей в карман халата какие-то бумажки, как-то неловко, сквозь напряжение в лице улыбнулся, пожал плечами: — Извини, мне надо успеть на этот рейс. — Роман притянул к себе Марину, обнял ее, поцеловал в безответные, растерянно-расслабленные губы. Порывисто повернулся и всё такой же встрепанный, как будто кипящий внутри, вышел в дверь номера, оглянулся: — Мне надо успеть. Мы встретимся с тобой в Москве.
— Да, встретимся, — машинально ответила Марина.
Дверь за ним затворилась. Марина осталась одна. В голове почти никаких связных мыслей — мельтешенье обрывков фраз, слов: «реанимация, Домодедово, туфли…».
Когда через минуту Роман вернулся, она всё еще стояла там же, напротив двери, бескрасочно разглядывала бумажки, которые он сунул ей в карман. Но увидев Романа, она вспыхнула, преобразилась, в глазах блеснули слезы. Он бросился ей навстречу. Она кинулась ему на шею. Наступил момент, когда Марина почти поверила: он вернулся за ней! Зачем же еще-то? Конечно, за ней! Он вернулся, чтобы украсть ее. Увезти навсегда. Навеки соединить их судьбы! Это чувство в Марине было настолько лихим, сладким, обворожительным, что она успела за несколько секунд пережить будущий излом своей жизни: успела представить, как разведется с Сергеем, как заберет из Никольска Ленку, как простится с сестрой Валей… Пусть планета летит с орбиты! Пусть всё перевернется вверх тормашками! Позови он сейчас ее с собой — она ответит неумолимое «да!» Трижды «да!».
Она осыпала Романа поцелуями, тыкалась губами в его губы, щеки, в брови, в виски.
— Как-то очень быстро мы расстались. Извини… Мне будет очень не хватать тебя, — шептал он. — Я буду ждать. Мы увидимся через пару дней. Я встречу в аэропорту… Я люблю тебя.
Опять шаги в коридоре, еле слышимые на ворсистом покрытии, удаляющиеся. В горле что-то першит, слезы застят глаза, в груди — то ли стон, то ли крик счастья.
* * *
На пляже Марина разделась не в солярии, а внизу, у берега. В купальнике, босиком, она вышла на буну, в то место, с которого обычно прыгал в море Йог. «Ну! Нельзя долго раздумывать. Прыгай! Прыгай же! Если будешь тонуть, вытащат. Тут не очень глубоко…». Марина негромко вскрикнула, хлебнула побольше воздуха и провалилась — «солдатиком» вошла в темно-синюю пучину. Плавать она умела: студенткой техникума даже выиграла первенство на своем курсе на соревнованиях в никольском бассейне. Но здесь был не бассейн.
Позднее, уже на берегу, спустя несколько минут, она перенесла ужас своей взбалмошной отваги. В воде у нее даже помутилось сознание. Море сцапало ее, ошпарило соленым холодом, затянуло на груди невидимый пояс озноба — ни вздохнуть, ни выдохнуть. Она инстинктивно забарахталась в воде, заболтала ногами, стала выбрасывать вперед руки, поволокла свое парализованное от холода туловище к берегу. Только у самого берега, уже задевая руками гальку, она перемогла судорогу, встала, выпрямилась, стиснула зубы и пошла — не побежала — к своему лежаку за полотенцем.
— Зачем вы рискуете? Вода еще очень холодная!
— Вы смелая женщина. Не подумать с виду — хрупкая, миленькая.
— В такой проруби воспаление легких недолго заработать. Здешний-то Йог не первый год моржует…
— Глотните коньяку из фляжки. Быстро согреетесь.
Она слышала эти слова от сочувствующих людей из санатория. Но этих людей почти не различала; пронизываемая лихорадкой, куталась в полотенце, прикрывая трясущиеся губы, отвечала:
— Со мной всё нормально. Сегодня вечером я уезжаю. Я должна была искупаться.
Вчера отсюда уехал Роман Каретников. По планам, она должна была полететь вслед за ним, в Москву, завтра. Но все переменилось враз, неожиданно, без видимых причин и побуждений. Она едет домой сегодня. Непременно — сегодня. И никаким не самолетом — обыкновенным поездом. И не через Москву — через Екатеринбург, через Урал — в родной Никольск.
Часть вторая
1
Василь Палыча Каретникова, прозванного Барином, хоронили на Ваганьковском кладбище с нарочитым шиком: в немецком лаковом гробу вишневого цвета с серебряными ручками, с военным многоголосым оркестром, хотя покойник к военной службе никакого касательства не имел, с помпезными венками и резким золотом надписей на траурных лентах; с надгробием из толстой черной мраморной плиты с выдолбленным барельефом, на котором покойник был приукрашен и на себя прижизненного не совсем походил, и надписью: «Ты навсегда останешься в наших сердцах». Всё было устроено пристойно, богато, чтобы родственников и организаторов похорон не жгла совесть: мол, без должных почестей проводили; чтобы и сам покойник, который жил на широкую ногу и любил повторять: «Для меня рубль начинается с червонца!» — остался церемонией доволен…
Жанна поглядывала на толпу, тесным полукружьем охватывающую гроб у свежевырытой могилы. Слетелись… Родственнички разных мастей. Депутаты, менты, воры. Гниды чиновничьи. Плечом к плечу. Из одного корытца кушали. Барин всех потчевал, не скупился. Смеялся, говорил: «Волосатая рука дающего да не оскудеет! Мохнатая лапа берущего да не устанет».
Оркестр высоко загудел на трагических нотах. Зазывной плач меди скребся в душу, старался разбередить человека хотя бы на безадресную скорбь, выдавить слезу. Людская опояска вкруг гроба была плотной, но все же наметанный глаз Жанны четко разделял всех на группы, на слои. Ближе всех ко гробу — сыновья, единокровные братья Вадим и Роман, и их жены. Глядя на жену Романа, очень миленькую брюнеточку Соню с полными, чувственными губами, с большими черными глазами, яркими и истинно красивыми — без подводок и макияжных ухищрений, Жанна в мыслях язвительно укорила: «Что ж ты, цыпочка, своего Илюшу не захватила из Германии? Травмировать душу мальчику, видите ли, не захотела… Мог бы, щенок, и проводить дедушку. В прошлом году дедушка-то ему сто тысяч долларов подарил на десятилетие. Можно бы и расплакаться за такие-то деньги».
За спиной Сони и Романа стоял чернявый человек в умных толстых очках — Марк, главный финансист издательского дома Каретниковых. Он был не только «правой рукой» Романа, но и родным Сониным братом, что и определило его привилегированное местоположение. Но теперь карта по-другому ляжет. Марка от кормушки попрут. Эти ребятки своего не упустят… Жанна наблюдательно щурилась на Вадима Каретникова и его ближнее окружение, на группку мужчин из чиновно-властных и коммерческих структур. Она въедливо вглядывалась то в одно лицо, то в другое без опасения: на ней были темные очки, и никто не мог доподлинно угадать пристрастия в ее взоре. Все эти люди близ Вадима были еще молоды, и солидны, и холёны, с небольшими умными залысинами и первой благородной сединой на висках — все в костюмах и галстуках. «Безродные коршуны! — крестил их Барин. — Старая номенклатура деньги за кордон так не перекачивала».
Ко гробу жались несколько милицейских чинов, среди них — генерал Михалыч, с золоченой вышитой звездой на погоне. Другим полукольцом шли люди менее приметные: клерки из министерств, из промышленных корпораций — и действующие, и списанные на пенсию. Еще один, разрыхленный в толпе слой — крепкие, рослые парни из службы безопасности каретниковского холдинга и из других контор. Экие милые мордовороты! Жанна безошибочно угадывала среди собравшихся, кто есть охранник — зырят поверх голов, носом водят. От охраны мало чем отличались несколько бандитов — такие же, «в коже», коротко стриженные, в темных очках, озираются.
Недалеко от Жанны стояла приятельница Ирина, секретарша Романа Каретникова, рядом с ней оглаживал обнаженную плешивую голову краснобай, знаток всего и вся Прокоп Иванович Лущин. «Башковит. А всё — вроде клоуна. Потому что в карманах-то ветер», — Василь Палыч вешал свой ярлык таким людям.
На виду у всех, но как бы и в сторонке, стояли две женщины — Василь Палыча вдовы. «У вдов-то в глазах ни единой слезинки», — отметила для себя Жанна, глядя на них, оказавшихся подле гроба и подле друг друга; обе сухонькие, субтильные, еще не старые, но какие-то поношенные — обе с седовато-желтыми прядями из-под черных косынок. Чего им реветь? Они уж давно ему не вдовы. Если и было чего-то — отревелись сполна. Барин им спуску не давал. Он с бабами никогда не цацкался.
Вдруг горечь прихлынула к горлу Жанны, щекотно стало в носу, слезы навернулись на глаза. Так же, как горький ком слез тяжелил горло, так и ком обиды болезненно отягчил душу. Ведь она, Жанна, в глазах окружающих тоже почти вдова… Сколько лет отдала Барину! Считалась для окружающих его помощницей, референтом, побегушкой, а была и наложницей, и служанкой, и его личной шпионкой. И дворовой девкой! От ярости и обиды даже прошла дрожь. Жанна подняла голову, чтобы отвлечься, перебороть внезапную горь чувств и нечаянных слез.
Стояли последние дни апреля. Небо было ясным, глубоким и синим. Редкие облака клубились в нем пышной белизной, и кладбище было пронизано солнечным светом. Первые травы зелено проклюнулись на обогретых могилах, а ваганьковские клены наливались соком, испускали тонкий, едва уловимый аромат пока еще склеенных почек; липкими листьями только едва опушились молодые тополя. На солнце приятно припекало, и казалось, никто никуда с кладбища не торопится, словно все выбрались за город, на природу.
Начался траурный митинг, надгробные речи. Стали торжественным тоном рассказывать о доброте усопшего, о том, как он много сделал для всех, о широкой русской душе…
Первым выступал генерал Михалыч. Барин его называл «друг по расчету». Михалыч сам взятки и подношения не берет. Для этого у него есть слишком прожорливые дети. Дочке откуда-то с неба свалилась трехкомнатная квартира на Ленинском проспекте. Сынок, сопляк-студент, на «лендкрузере» ездит. Откуда такой навар? Недаром Барин подшучивал: «Михалыч — благородный отец. Сам в старой шинели, зато дети — в брильянтах!».
За Михалычем к изножью гроба стал Маслов, ядреный мужик, в котором кроме наплыва живота под пиджаком проглядывалась начальственная спесь. Маслов работал директором бумажного завода, которым владел Василь Палыч. Жанна помнила науку, которую преподал Барин несколько лет назад этому, тогда еще не заматерелому, подтянутому управленцу. «Учти, Маслов, человек директором становится только тогда, когда начинает вести прием по личным вопросам. Только тогда начнешь понимать, как от тебя зависят люди… Самодурства своего не бойся! Истерику закати какому-нибудь начальнику цеха, „съешь“ кого-нибудь из специалистов, зама со скандалом выгони, даже уволь какого-нибудь дельного работника. Запомни, Маслов, на производстве у того дело прет, кто кнут в руке держит. Пряниками дважды в год покормишь — нашему работяге и хватит. Еще и отцом родным будут считать».
Одного оратора сменял другой. Появился и трибунный профессионал — «депутат Петруха». Это ему Барин втолковывал: «Народ — это ослы и бараны! От них ничего не зависит. Один процент политиков, военных, бизнесменов определяют жизнь. Один процент волков! Если хочешь стать депутатом, иди к вожаку… Так, мол, и так, хочу в депутаты». — «Так что же мне, в мэрию, к „самому“ идти?» — «Да! Если он одобрит, денег для избрания мы тебе дадим. Настоящие деньги дают только под лидера».
Надгробная митинговость затягивалась. Люди в толпе уже перестали слушать речи, переговаривались меж собой. Обычно на похоронах измусоливают тему последних часов покойного, но тут — ни слова, ни полслова, будто наложено табу. Василь Палыч скончался в реанимации. Несколько суток его выхаживали. Пробиваясь сквозь кому, впрыскивали через шприцы вместе с лекарством последние капли жизни. В сознание он так и не пришел. Но фактическая кончина настигла его в бане: «прихватило» после парилки — подкосило ударом. Ничего тут сверхизумительного не было; баню покойник любил, часто говаривал: «Лучше пять раз потом покрыться, чем один раз инеем». В ней он излечивался от простуд, от похмелья, от дурного настроения, в ней решал множество деловых и кадровых вопросов своей конторы. В роковое посещение оказался там с молоденькой буфетчицей из своего холдинга, которая не прочь была подзаработать элитной проституцией. Штука для Барина тоже обыденная, но то, что вынесли его оттуда на носилках, обыденностью не стало.
«Василь Палыч, побереги себя, — советовал какой-нибудь доброхот. — С похмелья с бабами в баню… Немолод уже». — «Гнилой и так подохнет! Мне в аду бани-то не видать. Лучше уж я здесь, как в раю, поживу…».
Жанна слышала подобные речи от Барина много раз. Он действительно будто всю свою жизнь пропускал через баню. Он и новых людей вокруг себя проверял в горячем пару, узнавал характер, прощупывал ум, наблюдал, как едят, много ли пьют, насколько падки до халявных бабёшек…
Жанна познакомилась с ним тоже там. В сауне.
Она пришла к нему девчушкой, смешная, как цыпленок, волосы крашенные в бело-желтый цвет, короткие, налаченные сосульками, казалось, что так ей идет; ей только исполнилось восемнадцать, только приехала в Москву. Она вошла в сауну и увидела его впервые. Он сидел на диване в небольшом холле перед низким накрытым столом с кружкой пива в руке, раскрасневшийся, и потный, и мокрый, видать, уже после парилки, раздетый и полузакутанный в простыню. Жанне почему-то сразу бросились в глаза его голые ноги, короткие волосатые бутылочки икр, маленькие стопы и удивительно толстые, горбатые ногти на пальцах. Позднее она разглядит и его руки. Но сейчас она боялась смотреть на него, опускала глаза, внутренне сжималась от предчувствия чего-то унизительного. Она умоляла себя, чтобы не убежать отсюда. «Ведь всего несколько секунд. Всего несколько черных секунд!» — твердила она про себя как заклинание.
— Чего стоишь? Раздевайся! Здесь баня — тепло.
Жанна взглянула на него и увидела его руки, обнявшие запотелую высокую пивную кружку. Эти руки могли бы принадлежать пахарю или лесорубу, но для министерского начальника, который возится с бумагами, они казались диковатыми, чужими. Короткопалые, с толстыми ногтями; все пальцы один на один похожие, одной длины, одной толщины.
— Чего мнешься? Целка, что ли?
— Нет, — шепнула Жанна и огляделась, выбирая место, где бы раздеться.
Поблизости стояла рогатая вешалка, но раздеться здесь было как-то чересчур непотребно. Чуть дальше в приоткрытую дверь одной из комнат Жанна увидела бильярдный стол с треугольником из желтых шаров на ярко-зеленой прямоугольной поляне, в другой комнате были видны спортивные тренажеры, чуть дальше начинались синие кафельные стены, и там поблескивал водой бассейн.
— Здесь раздевайся! Простыня — вон.
Сложенная квадратом свежая простыня лежала рядом с ним, на диване, как некая приманка: дескать, сперва разденься, потом возьмешь.
На стол, за которым сидел этот человек, Жанна тоже не хотела смотреть. Но не могла удержаться от соблазна. Здесь стояли не только бутылки с пивом, но и пузатая бутылка с коньяком, штоф с водкой, а еще на тарелках — ноздрястый сыр, копченая колбаса, сушеная рыба и красная икра в выпеченных розетках. Икру Жанна видала и раньше, у себя в поселке, но пробовать не пробовала. Она ее не очень и хотела: ее больше манили колбаса и сыр. А главное — ей хотелось пить. На столе стояла «фанта». Лакомая, манящая. Казалось, Жанна выпила бы зараз целую литровку этого апельсинового напитка.
Она стала раздеваться. Сперва стянула с плеч жакетик, потом стала дергать на боку молнию юбки. Не спеша. Она всё еще надеялась, что он пожалеет ее и даст ей возможность уйти в отдельную комнату или хотя бы бросит ей простыню. Василь Палыч этого делать не торопился: наблюдая за ней, криво улыбался, отхлебывал из кружки пиво, утирал рукой пену с губ. Покашиваясь на него, Жанна приметила: у него были толстые, тесно прижатые к голове мясистые уши и отяжелелый двойной подбородок. Ей казалось, что люди с двойным подбородком — добрые, мягкотелые, но его суровые крупные уши сбивали такой домысел.
Осталось снять только трусики. Она всё еще надеялась, что он отвернется, но Василь Палыч, похоже, ждал именно этого момента, как самого затейного. Когда Жанна осталась совсем голой, он встал, сбросил с себя простыню и подошел ближе. Она с ужасом смотрела на его малорослое обрюзгшее тело с выпирающим волосатым брюхом. Василь Палыч заметил этот испуганный взгляд Жанны на свой живот, усмехнулся: «Лучше большой живот, чем маленький горб». Ради потехи и испытания он взял руку Жанны, худую, узкую ручонку с красненько накрашенными ноготками, и положил себе на живот, засмеялся.
«Только секунды. Всего несколько черных секунд!» — мысленно умоляла себя Жанна.
Чуть позже, в близости с ним на массажной кушетке, теряя разум, даже не сознавая: от боли с ней такое или от какого-то животного наслаждения, Жанна крепко стиснула в объятиях Василь Палыча, поцарапала ему спину, застонала с криком, с надрывом, потом еще долго дышала шумно, часто, приходя в себя. Он был тоже, видать, ошеломлен ею и, потряхивая головой от пережитого неистового удовольствия, вдруг сказал ей деспотичным голосом, глядя в глаза:
— Ты очень хороша. Теперь ты моя б..! Можешь выходить замуж, можешь заводить любовников, но помни: теперь ты моя! О деньгах не беспокойся…
Этот день знакомства в бане, казалось, всё и определил в их отношениях на будущие годы.
Когда Жанна сидела на диване перед накрытым столом и, уже не пряча своего голода, ела колбасу, сыр и запивала долгожданной «фантой», Василь Палыч с добродушной усмешкой поглядывал на нее. Она тоже, только искоса, не впрямую, оценивающе поглядывала на своего властелина. Он этот оценивающий взгляд в какой-то момент поймал, и как будто внутри у него что-то пошатнулось, заколебалось, какой-то внутренний маятник сбился с ритма. Они слов не произнесли, но Жанна будто бы ему угрозливо предъявила: что ж, если так, то смотри — я с тебя за б… стребую сполна. В его взгляде трепыхнулось опасение: и впрямь, уж не пожадничал ли на старости лет — как будто бы где-то в гостях, в хлебосольном застолье, попросил кусок пышного, масляного торта, но кусок-то отрезали очень велик — и тут закралось сомнение: смогу ли одолеть?
Однако отступать ни тому ни другому уже не хотелось. Оба упрямы, целенаправленны: она — по молодости, он — из принципа. Подпоясались одним кушаком.
…Жанна опять подняла голову кверху.
Черные высокие ветки кленов слегка покачивались от ветра. А может быть, не от ветра? От громовой трубной музыки? Оркестр опять грянул скорбящими нотами, сдавил душу. Не снимая очков, Жанна стерла платком со щеки соскользнувшую с века слезу, — слезу от щемящей жалости к себе самой. Она еще раз посмотрела на голые космы старых ваганьковских кленов, повидавших разные знатные похороны, и вместо того чтобы идти к могиле, побросать на крышку опущенного в яму гроба обрядовые горсти земли, напротив, затесалась поглубже в толпу, подальше от покойника.
Скоро могильщики, опытные, расчетливые ребята, умело заровняли могилу и водрузили надгробный мрамор. Со всех сторон к мраморной плите и могильной грядке прижались пестрые, цветистые венки, образуя крикливый, неестественно праздничный курган.
Толпа потихоньку растекалась, тянулась к выходу.
— Не обижайся, я не поеду в ресторан, — сказала Жанна, подойдя к Роману Каретникову.
— Жаль. Ты была для отца… Прости его…
— У меня очень болит голова, — оборвала Жанна и пошла с кладбища.
— Разве ты не едешь на поминки? — окликнула ее Ирина.
— Пока! — быстро отозвалась Жанна. — Позвони завтра — расскажешь.
Минуя шеренгу дорогих припаркованных машин, среди которых лез на глаза черный «хаммер» Вадима Каретникова, Жанна добралась до белого «мерседеса» с темными тонированными стеклами.
— Ну что, дружок, можно ехать, — по привычке обратилась она к своей машине, усевшись за руль. — Его уже зарыли!
Машина понятливо вздрогнула, ответив плавным ходом на прикосновение Жанны к педали.
2
«Черные секунды» Жанна придумала еще школьницей. Чтобы чего-то добиться, надо пережить черные секунды. Вот делают тебе укол под лопатку, прививку от гриппа, — больно, страшно, мурашки бегут по телу, но от инфекции после укола тебя уже оградили. Всего-то перетерпеть несколько черных секунд боли — и спасена… Секунда ведь очень мала! Произнес: «Двадцать два» — она уж и пролетела. Так рассуждала Жанна еще пионеркой. Выпускницей свои наблюдения превратила в целую теорию «черных секунд». Любая цель вполне достижима. Чтобы ее добиться, не обязательно карабкаться в гору, срывая ногти и обдирая колени, или лбом прошибать кирпичную стену сопротивления, — иногда надо пережить черные секунды. Сломать себя на короткое время, подавить самолюбие, гордость, даже унизиться, пасть — всего на короткие секунды! — чтобы открыть себе дорогу к заветному, перешагнуть через препятствие. Теория не подводила ее ни в малом, ни в большом.
«Дяденька, дайте мне десять копеек. В автобусе кондукторша злая. Без билета не садит… Мне до дому доехать. Я деньги потратила. Думала, у меня на дорогу останется, но не осталось. Выручите меня, пожалуйста. Мне, честное слово, стыдно». — Она стояла перед незнакомым мужчиной в военной форме, покрасневшая, готовая расплакаться. Семиклассница, с пионерским галстуком на шее. Гривенник на дорогу военный дал сразу, без раздумий; стал насылаться другой помощью: может, голодна? может, проводить куда? Словом, всё уладилось. И на автобус не опоздала, и заколку для волос, которая приглянулась, купила, отдав за нее последние билетные деньги. А вот не сломай себя, не выпроси гривенник у случайного человека на автобусной станции, пошла бы до поселка пешком — топала бы шесть верст от райцентра. Пережила черные секунды, отпылала стыдом, зато добралась до поселка на автобусе, вертя в ладошках блескучую заколку.
Или с учительницей по английскому тоже был случай. Казалось, вредюга из вредюг эта «англичанка» Оксана Игоревна. И так, и этак Жанна к ней подбивалась: просила контрольную переписать, «темы» пересдать, переводы еще раз выполнить. Но учителка как ослица: «Произношения у тебя нет. В аттестат только „тройка“ пойдет». «Тройка»? «„Тройка“ мне не нужна», — твердо определилась Жанна, понимая, что с такой оценкой по английскому в аттестате из нее выйдет никудышная абитуриентка для столичного института и даже техникума. «Произношения нет — значит, другим надо взять!» Она пришла к Оксане Игоревне домой, подгадала момент — без посторонних глаз. Одно дело — учительница в школе: там ей форс держать надо — перед коллегами, перед воспитанниками. Другое дело — учительница дома: тут ей форситься не перед кем. «Оксана Игоревна, мне минимум „четверка“ в аттестат нужна, — сказала Жанна. — Мне она очень нужна. Помогите мне». — И тут Жанна отмочила номер: рухнула перед учительницей на колени. Бедную Оксану Игоревну чуть инфаркт не хватил. Она настолько перепугалась поведения своей ученицы, что с лица сошла. Вместе с Жанной расплакалась, стала виноватить себя: мало, очень мало уделяла ей времени, не позанималась как следует. В аттестате в Москву Жанна везла по английскому языку заслуженную «четверку». Сыграла теория, послужили черные секунды: подкосила собственные колени — сломала упрямую педагогичку.
— …Какая тебе Москва? Охренела? Никаких денег не дам! Мать, слышь, чего она удумала? В Москву учиться… — Отец кричал, матерился. Но Жанна не колебалась: без отцовой подмоги выберется из опостылого лесного поселка в город. И не просто в город — прямиком в Москву. Деньги? Ничего, она найдет деньги! По рублю, по трешке, по пятерке насшибает у друзей, подруг, назанимает у родственников, у знакомых, после сполна рассчитается, когда встанет на ноги.
«Выход» на Василь Палыча по доброте душевной дал Жанне местный директор лесхоза, узнав, что она намылилась в Москву. Правда, предупредил: «Человек этот очень влиятельный. Он поможет, точно поможет. Только ты, Жанка, к нему в крайнем случае обращайся. Он мужик самоуправный, его за глаза Барином кличут. Только в крайнем случае, поняла?».
Но Жанна, провалив в Москве первый же экзамен в институт, сразу вышла на Барина. Позвонила, сговорилась о встрече. «Переживу черные секунды. Дальше видно будет».
Растянулись секунды-то! Год за годом она крутилась возле Барина и себя уговаривала: ну что ж, если от жизни любовью не взяла, хотя бы деньгами возьмет.
…Жанна сидела на розовом пуфе перед туалетным столиком, держала в руках бокал с мартини. Это вино — как неизбежная поминальная чарка. И хотя скоро пришло опьянение, раздерганность от похорон Барина не угасла во хмелю. Даже вышел обратный эффект — в Жанне нарастала раздражительность — знакомая, знаковая раздражительность, которая могла и не иметь определенного источника, она могла прийти внезапно и беспричинно. Порой Жанне было душеприятно испытывать сумбур от своей, какой-то неясной капризности или всесветного недовольства, ибо она знала, чем всё закончится, где сладостное избавление.
Она достала из ящика туалетного столика деревянную шкатулку, где в одной стороне — пустые папиросы-заготовки, в другой — серо-зелено-желтоватая, мелко нарубленная трава. Аккуратно черпая гильзой папиросы траву, подправляя ее пальцем и утрамбовывая длинным ногтем мизинца, осторожно, чтобы не надорвать нежную папиросную бумагу, Жанна набивала «косячок».
Напряженность в ней еще не пропала, но предчувствие близкого наслаждения уже настропалило всё существо на радость — так же, как существо алкоголика, который еще с глубокого бодуна не опохмелился, но священный шкалик уже в кармане и до квартиры дойти два-три лестничных пролета…
Жанна чиркнула настольной зажигалкой на малахитовой подставке и сделала первую глубокую затяжку. Дым с привкусом сена поплыл по спальне.
Она сидела на пуфе, размеренно и поглощенно курила и щурилась на лампочку в настенном бра. Сквозь полусомкнутые ресницы бело-желтый электрический свет от нити накаливания расслаивался на цвета радуги, разбегался лучами. Ей становилось весело от игры такого многоцветья. Она наслаждалась этим светом. Всякие мысли мельчали, превращаясь в разноцветные конфетти, они кружились в светлых виденьях, в дурмане, в дыму марихуаны.
* * *
На другой день Жанну слегка «плющило». Она поругивала себя за то, что соединила травку и алкоголь, мучилась от двойного похмелья. Ей пришлось долго разгонять себя: принять анальгин, искупаться под контрастным душем, выпить кружку кофе.
Впечатления о вчерашнем дне стали туманны, размыты и удобны, чтобы навсегда позабыть. Но о событиях минувшего дня напомнила Ирина. Она рассказывала взахлеб, взволнованно по сотовому телефону откуда-то с улицы, под гул машин:
— …Уже на поминках началось. Пока Василь Палыча не схоронили, еще крепились. А после похорон всё в открытую поехало. Вадим со своей компашкой демонстративно с поминок ушел. Вместе с ним генерал Михалыч и депутат. Роман какие-то бумаги по наследству подписать отказался. Акции какие-то передать не хочет. Вадим белый от злости был… А Романа обрабатывал Марк. Всё ему чего-то наговаривал, на листке показывал… А сегодня, представляешь, мы пришли в издательство — все кабинеты опечатаны и охрана Вадима кругом. Романа в издательстве нет. Он свою Соню в аэропорт провожать уехал. Она к Илюше, в Германию… Вадим, говорят, Марка от работы отстранил. Всё взял под свой контроль. Хотя это незаконно, но в его руках все службы, все юристы. Ох, Жанка, как ты и предполагала, дележ начался крутой. Без драки тут не обойдется. Лишь бы до убийства не дошло.
На другой день Жанне снова позвонила взволнованная Ирина:
— Ты слышала? Романа арестовали! Опять по тому же делу — за особняк. Его в «Матросскую тишину» увезли. С Марка — подписку о невыезде. Всё уже наперед организовали. Вадим с Михалычем договорился. Ты представляешь?
— Не может быть! Это же ни в какие ворота не лезет!
— Где такие деньги, там всё полезет. Ты же сама так говорила…
3
Теплый приморский край с рододендронами и кипарисами остался далеко позади, за тысячи километров. В северной равнинной России кое-где в складках рельефа лежал снег. Солнце светило с высоких высот, но еще не разукрасило землю свежим зеленым цветом.
Голые плакучие ветки берез колыхались на ветру, в сквозящих кронах тополей пятнисто проглядывались грачиные гнезда. Сами птицы сидели на линии электропередач черной шеренгой. Они наблюдали, как на опушке леса колхозный тракторист чинит чумазый трактор, и дожидались, когда он выедет на вспашку поля, чтобы подобрать за ним червяков. Тракторист был в фуфайке, в больших сапогах, в шапке. Весна теплом не расщедрилась.
И Никольск встретил зябким, скучным, замусоренным видом. По мутной поднявшейся воде Улузы уходил последний тусклый лед. В одноэтажном пригороде вдоль железнодорожной ветки тянулись кривые погрызанные заборы. На обнаженной после снега земле выступил всякий сор — насвинячили за зиму и пока не убрали… Серое средоточие кирпично-панельных однотипных коробок нового города казалось придуманным людям не на радость, а в наказание.
Сойдя с поезда, держа в одной руке сумку, в другой — драгоценную горшечную орхидею, запечатанную в прозрачный целлофан, Марина обреченно вздохнула: из той жизни нужно было возвращаться в эту.
Вот и родная пятиэтажка: подъезд с разбитыми почтовыми ящиками и обшарпанными панелями, дверь квартиры, обитая коричневым дерматином.
Дома никого не было. Повезло. Нашлось время немного поосвоиться, вжиться. Час приезда Марина домашним не сообщила: дескать, ехать все равно с пересадками, приедет на том поезде, который быстрей подвернется; встречать на вокзале не надо: «не барыня, сама доберусь».
Она обошла свою квартиру. Всего-то две комнаты — спальня да детская, да кухонька-шестиметровка. Казалось, Марина не была здесь много лет. Она даже пока не чувствовала себя здесь хозяйкой и притрагивалась к некоторым вещам с гостевой осторожностью; поправила узорчатую вышитую салфетку на столе под вазой, призатворила створку шифоньера, отодвинула от опасного края на подоконнике горшок с бегонией. Цветы были политы. Пыль повсюду стерта. На кухне и в комнатах приглядно, прибрано. Значит, ее ждут. Конечно, ждут! Она и сама здорово соскучилась по дому.
Ленка, вернувшись из школы, бросилась к ней на шею.
— Мама-а!
Обнимая дочку, целуя, оглаживая, Марина приметно вглядывалась в нее, искала следы повзросления, как будто впрямь разлучалась с домом на долгие месяцы. Попутно она замечала в дочериной внешности черты Сергея. И русые волосы, и серые глаза, и движение улыбающихся губ — отцовы… Неспроста ее мысли стелились от дочки к мужу: она ждала и побаивалась встречи с Сергеем, точно что-то в ее внешности, облике могло предательски сообщить мужу о ее измене. Не раз она подходила к зеркалу, осматривала себя с придирчивостью. Ничего не заподозрив, успокаивала с хитроватой усмешкой: «Всё такая же. Всё обойдется… Правда, Рома?» Потаенно-беззвучно, нежно произносила она это имя — имя, чужеродное для этих стен, но способное укрепить духом.
Уезжая с юга, она позвонила Роману, чтобы сказать, что не прилетит в Москву. Он сразу всё понял, словно ее волнение, ее дыхание, ее перебивки в приготовленных и, казалось, заранее отточенных фразах объяснили всё лучше, чем сами эти фразы.
— Отец умер. Как только улажу дела, приеду к тебе в Никольск. Обязательно приеду… Не забывай меня. Я тебя люблю.
Он опять произнес этот одурманивающий трехсловный пароль — пароль к счастью. Марина растерялась, стала говорить что-то про деньги: зачем он столько оставил, не надо было… Потом перебила себя:
— Я буду очень-очень тебя ждать. Каждый день буду ждать. Каждый час…
Роман оставил ей тысячу долларов. Таких денег она не только никогда не имела, но и толстощекого американского президента на банкноте разглядела впервые. Деньги поначалу ее тяготили, но после разговора с Романом она примирилась с ними.
С покупкой туфель, которые он собирался ей подарить, она решила повременить. В подарок себе купила на Романовы деньги комнатную орхидею. Очень дорогую, красивую, рослую орхидею. Пусть цветок бережет вместе с нею южную сказку.
…Когда отворилась входная дверь и в прихожей раздался голос дочери: «Папка! Мама приехала!», Марина на мгновение обомлела. Панически почувствовала, что начинает краснеть. Поскорее отхлебнула из стакана воды, скинула с себя фартук и вышла из кухни навстречу мужу. Сергей стоял удивленный, но уже с радостной искристостью в прищуренных глазах.
— Ты откуда? Мы тебя завтра утром ждали. С московским поездом.
Марина подошла к нему и машинально — руки сами поползли на его шею — обняла его, поцеловала в щеку, прижалась.
— Почему раньше-то? — все еще недоумевая, с трогательной хрипотцой спросил Сергей.
— По вас соскучилась — вот и прибыла, — рассмеялась она.
В прихожей возле них вертелась Ленка. «Хорошо, что она здесь», — промелькнуло в мозгу у Марины. Не пришлось целоваться с Сергеем сразу крепко, в губы: при Ленке так целоваться неловко, нельзя. Ей казалось, что ее губы все еще послушны только Роману.
От Сергея пахло табаком, на его щеках чувствовалась деручая щетина. Прижимаясь к мужу, Марина невольно почувствовала их разницу с Романом. В комплекции Романа сохранилось что-то юношеское, хрупкое, но вместе с тем эта юношеская стройность таила темпераментную силу. Сергей был плотнее, медлительнее, «мужикастее». Сопоставление Романа и Сергея было бессмысленным и чем-то оскорбительным для них обоих, но Марина невольно выискивала отличия.
— Я там совсем разленилась. Ни стирать, ни стряпать. Жила как царица… Сейчас я вас накормлю, — улыбнулась она Сергею, ушла в кухню.
Ей хотелось приготовить сейчас обыкновенную жареную картошку и жареную треску, любимую Сергеем, как-то особенно, повкуснее, понаряднее, чтобы порадовать его, угодить. Она суетилась у плиты, Сергей и Ленка находились рядом, слушали ее беглые рассказы о море, о санатории, о диковинных деревьях. Но вдруг по радио передали сводку погоды: «В Москве завтра…» — и Марина с замиранием сердца вспомнила о Романе. Он там, в Москве, где-то в другом мире; сейчас у него скорбные заботы: смерть отца. «Рома, милый мой», — мысленно приласкалась она к нему. Но при этом ловчилась пообжаристее, поаппетитнее сделать рыбу к ужину и радовалась, что привезла с юга бутылку десертного вина — к нынешнему столу.
Вечером, перед сном, Марина долго сидела у Ленки на кровати, болтала с дочкой. К мужу в спальню не спешила. Даже выйдя из детской, к Сергею не пошла — закрылась в ванной. Скоро она окажется в объятиях мужа. Она не то чтобы не хотела этих объятий, но побаивалась их, вспоминала, как нужно себя вести с мужем: вдруг она целуется уже не так, вдруг еще что-то не то, к чему привыкла с Романом. Она сидела на краю ванны, смотрела на воду, льющуюся из крана. Вода монотонно журчала, дробилась о белую эмаль дна, собиралась в лужицу возле стока, завихрялась водоворотом и стекала в крестовину слива, поблескивая на свету. «Да чего это я? Он, может, здесь тоже зря времени не терял. Мужика одного только оставь!» — Она резко встала, приободрилась, с каким-то ожесточением намертво закрутила кран. Но из ванной вышла кротко, до комнаты пробиралась на цыпочках, надеясь на невероятное: вдруг Сергей уже спит. Он, разумеется, не спал, лежал на кровати, положив под голову руки.
Марина улыбнулась ему — получилось открыто, непритворно — и выключила свет, прежде чем снять халат. Теперь комнату тускло освещал уличный фонарь напротив окна, его свет просачивался через тюль, бликами застывал на полировке мебели, на чеканке с портретом Есенина, на стеклянных висюльках люстры. Марине показалась, что и этого скудного света чересчур много. Она не хотела, чтобы Сергей разглядывал ее обнаженное тело, которое недавно целовал Роман. Она задернула гардину на окне, скинула халат и легла к мужу. Прижалась, положила голову на его плечо.
— Ты загорела. Даже в темноте заметно. Видать, там тепло. Здесь весна совсем застопорилась. Лед еще на реке, а уж Первомай на носу… Чего там еще интересного, на море-то?
— Ничего особенного. Всё по распорядку, как в пионерлагере.
— Так уж ничего особенного? — со снисходительной усмешкой, за которой пряталась ревность, переспросил Сергей.
— Минеральные воды, в солярии грелись, по набережной гуляли с соседкой, вечером иногда — в кино.
— Танцев-то разве там нету? — допытывался Сергей.
— Есть. Но я туда не ходила.
— Что ж ты так? Кавалеры не нравились?
— Да какие там кавалеры? Старики одни.
— Уж так и старики? — солоно-лукаво спросил Сергей, приподнимаясь на локте и испытующе заглядывая в лицо Марины. (Благо в комнате лишь блики от прищемленного шторами света уличного фонаря — и не разглядеть на щеках румянца обмана.) — Я смотрю, ты совсем не соскучилась по мне, — в голосе Сергея ревность колыхнулась в сторону обиды.
Марина, как по команде, теснее прижалась с мужу, крепче обняла, ткнулась губами в его плечо.
— Соскучилась. Еще как соскучилась!
Нужно было быть сейчас с Сергеем пылкой, ласковой, стосковавшейся. Ей и хотелось быть с ним ласковой. Она себя не ломала ни в чем. Только иногда, в минуту невольных провалов в недалекое прошлое, в ней угасал пыл и притуплялось удовольствие от какой-то несбыточной мечты — остаться преданной Роману Каретникову.
Утром Марина испытывала странное чувство обиды на себя: слишком безболезненно она вернулась к мужу, примирилась и отдалась ему. Еще в дороге с курорта казалось, что будет невыносимо трудно с Сергеем, особенно в близости. Но вышло обратное. «Может, и двоих можно любить?» — спрашивала себя Марина.
* * *
В следующую ночь, и еще в другую ночь, и опять в последующую — Марина сгорала в объятиях мужа. И была счастлива. Ей казалось — греховно счастлива, дьявольски счастлива. Но, может быть, только так и возможно испытать полновесное, высшее наслаждение? Может быть, порочное счастье самое острое?
Даже деньги были. Для семейного бюджета — средства слегка сомнительные, но этих денег по непритязательным провинциальным меркам хватило бы для пропитания на полгода.
Горячую трепетную кровь, напитанную солнцем и еще чем-то, почувствовал в Марине и Сергей.
— Ты оттуда какая-то другая приехала.
— Какая еще другая? Отдохнула всего-навсего. Перемена мест и занятий, — по-простецки старалась она погасить интерес мужа, хотя ознобец страха щекотал нервы возможностью уличения.
— Помолодела будто лет на десять. Я тебя такой давненько не видел.
— Разве плохо?
— Наоборот, — смущенно прищуривался Сергей. — Налюбоваться на тебя не могу. — И он притягивал ее к себе, чтобы поцеловать.
Однажды ночью, в густых сумерках спальни с трогательными бледно-желтыми бликами уличного фонаря, Сергей признался Марине:
— Я тут о тебе целыми днями думал. Всё ругал себя: зачем отпустил? А с другой стороны, радовался: годы проходят, а все какое-то беспросветье у нас. В отпуск по-человечески съездить не можем. Ты хоть на море поглядишь…
Марина молчала, прижавшись к нему. Не смела спугнуть эту взволнованную искренность мужа. Он на признания был скуп, взаперти держал слова про чувства, лишь редкий раз приоткроет душу. Зато дорогого это и стоит.
— Мне тут тебя не хватало. Я ведь тебя как раньше люблю.
— Сереженька, родной мой, — шептала Марина. — Я твоя, любимый!
Время для них будто поворотило вспять — отнесло в радостный медовый месяц. Роман Каретников этому не помеха. Он даже будоражит Маринины чувства, обостряет их. Иногда в минуты близости с Сергеем Марина, закрыв в исступленном наслаждении глаза, представляла на его месте Романа. Она стыдилась этого, побаивалась открытых в себе темных желаний, находила в этом испорченность и даже извращенность от таких подмен, но не могла и не хотела отказываться от этого, испытывая самосожжение в страсти.
— Сережа, — ласково говорила она после пережитых минут наслаждения, — что если тебе бриться станком? Ты такой колючий после электробритвы. Все мне щеки ободрал. — Она пальцем вела по его подбородку: — Давай я тебе подарю этот, который рекламируют, «Жиллет».
— Он дорогой, к нему лезвий не укупишься.
— Ничего. Чтобы ты был гладкий, я денег найду. — Она целовала его в колючую щеку.
4
Из милиции Сергею Кондратову вторично прислали уведомляющую бумагу. На этот раз с курьером-разносчиком, под роспись. Ближе к двери оказалась Марина, она и приняла взыскную депешу. Сергей не успел перехватить, иначе не посвятил бы Марину в штрафные расходы, по-тихой погасил бы долг, когда получше разжился бы заработком. Постоянной службы он по-прежнему не нашел, покуда прихватывал денег на семейный хлеб калымной грузчицкой работенкой в бригаде старлея Кости Шубина.
— Я уж тебе рассказывал, — негромко оправдывался он перед Мариной. — Мы пробовали завод отстоять, повозмущались маленько. А постановление это — чушь. Можно не платить — не посадят. Ты не расстраивайся. Я временно пока вагоны поразгружаю. Там и Лёва Черных, Кладовщик, другие мужики с завода…
Марина, по обыкновению, на такие «штуки» реагировала переживательно. Желание нормального семейного бытоустройства требовало денег, но в последнее время редкий месяц удавалось дотянуть до получки, чтобы не влезть в кредит к соседям или родне. Иной раз Марина могла взвинтить себя из-за сущего растратного пустяка. Однажды Сергей пришел домой и застал ее всю в слезах: «Что стряслось?». Она сидит в кухне, плачет: «Купила на рынке колготки. Стала надевать, ногтем царапнула. Стрела… Теперь и не наденешь. И обратно не примут». — «И чего ты ревешь?» — «Денег жалко. Их и так нету…».
Сергей сейчас готовился услышать — нет, не упрек, не ругань — тяжелый вздох Марины. В этом вздохе и укора, кажется, нет, но до того он беспросветный — кошки на душе заскребут. Такой вздох хуже любого словесного тычка. Он даже в глаза побаивался заглянуть Марине, которая, казалось, всё еще изучала неурочную бумаженцию из милиции. Сидел на табуретке в кухне, вертел неприкуренную сигарету в руках. Вдруг Сергей почувствовал ласковое прикосновение к плечу. Поднял голову. Марина мягко обняла его за шею, пристроилась к нему на колени.
— Ничего, прорвемся! Ты, Сережа, не вешай нос! — слишком нежданно, оптимистично сказала она. — Заплати ты этот несчастный штраф, чтоб отвязались. Денег я тебе дам.
— Откуда они у тебя? — недоверчиво спросил он, глядя в глаза Марине снизу вверх. — Ты и для Ленки подарков привезла. Фикус там купила… В лотерею, что ль, выиграла?
Они уже много лет прожили вместе, и любое инородное появление в их семье обнаруживало себя какими-то настораживающими веяниями. Словно в доме появлялась какая-то вещь, случайная, нездешняя, за которую приходилось запинаться, спотыкаться об нее, постоянно напоминать себе о ее наличии.
«…В лотерею, что ль, выиграла?» Легкий холодок народился внутри: Марина осознала, что хватанула лишнего, потеряла бдительность. «Покусай-ка язык-то!» Надо было что-то ответить: отшутиться, наврать, но не отмалчиваться.
— Я перед поездкой у Валентины заняла. Там — на всем готовеньком. Сэкономила немного. И на работе перерасчет сделали. Мне отпускных доплатят, — голос звучал обыденно, ровно, никаких предательских сомнений, только чуть-чуть тональностью выше. Уже потом она поймала себя на мысли: «У вранья и голос тощее звучит…».
Сергей как-то неопределенно повел плечом, больше ни о чем не спрашивал. Но его руки у нее на талии слегка поослабли. Да и ее руки, охватывающие его шею, непроизвольно обвяли. Они оба на время задумались, точно разошлись по каким-то своим, сугубо личным углам. «Никому, ни под каким предлогом не рассказывать про Романа. Никому! — вдалбливала себе Марина в эту минуту отстраненности, сидя на коленях мужа. — Деньги припрятать так, чтоб с собаками никто не нашел. И тратить незаметно. Никаких подарков!» Но она не хотела, чтобы он поймал ее на задумчивости, что-то заподозрил в этом отчужденном молчании. Марина колыхнулась на коленях Сергея, притянула его голову к своему плечу, пустяшной просьбой оборвала минуту обоюдной немоты:
— Летом возьми меня с собой на рыбалку. Валентина тоже с Сан Санычем просится. Ленку в пионерский лагерь отправим. Они своих детей — в деревню. Все вместе и съездим.
— Отчего же не взять? Поехали, — без огонька согласился Сергей.
* * *
От Романа Каретникова не случилось в Никольск пока ни одного звонка. Где он? Всё ли с ним ладно? Может, потерял ее номер? Собравшись с духом, Марина зашла на телеграф позвонить в Москву (с домашнего телефона не смела, пришлют счет, а в нем столичный код 095, который требует объяснений). Она очень соскучилась по Роману. Ей не терпелось услышать его голос, увериться в том, что Роман в действительности есть — не призрак, не наваждение. Еще стоило предупредить его, чтобы он не вздумал звонить ей по домашнему телефону. Никаких зацепок для подозрения мужу!
Положив перед собой на столик визитку, озираясь из кабинки на людей на телеграфе, Марина с трепетом набирала длинный московский номер. Пошел зуммер. Вот, сейчас она услышит его голос. Больше по этому номеру никто не может ответить! Но с линии мобильного телефона ей ответили, будто с другой планеты, по-английски: «Сори…» Марина даже дыхание затаила. Потом расшифровали по-русски: «Абонент не отвечает. Телефон абонента выключен либо находится вне зоны досягаемости сигнала. Попробуйте позвонить позднее».
Марина рискнула набрать домашний номер телефона Романа. Если ответит не он, она тут же нажмет на рычаг, не произнося ни слова. Ее опять встретил автоответчик с женским голосом: механический английский с переводом на механический русский: «Оставьте, пожалуйста, свое сообщение после звукового сигнала».
На карточке значился еще один номер, «офис». Значит, не прямой, через секретаршу, заставят представиться. Ну и пусть! С другого конца провода и в самом деле раздался живой женский голос, приятный и приветливый:
— Издательский дом. Добрый день! Я слушаю вас… Романа Васильевича сейчас нет на месте. Простите, это случайно не из Никольска? Вас зовут Марина?.. Я секретарь Романа Васильевича. Он очень просил передать вам, что некоторое время не сможет позвонить. Его сейчас вообще нет в Москве. Нет в России. — Тут голос секретарши стал каким-то нетвердым: как будто она сама не знала, где находится ее шеф. — У него сейчас чрезвычайные обстоятельства. Он приедет и всё вам объяснит.
— Он болен? — робко спросила Марина.
— Нет, у него проблемы иного рода. Он вам всё объяснит позже. Не беспокойтесь, пожалуйста. Всего хорошего!
Марина была готова услышать в кабине телеграфа всё что угодно: объяснение Романа в любви, прощальное «прости», но только не пресыщенно-вежливую речь секретарши, которая предупреждена о ее звонке и, похоже, посвящена в их отношения с Романом.
Через несколько дней Марина повторила поход на телеграф, но в Москве и там, и там, и там словно заклинило.
— Роман Васильевич еще не вернулся? — спросила она секретаршу.
— К сожалению, не вернулся. Мы все его очень ждем…
От телеграфа она уходила скорым порывистым шагом. Больше она не будет звонить. Сам объявится, если захочет. Если не захочет, ну и пусть! «Плевать!» — разозлилась Марина, хотя подспудно догадывалась: ее гнев на Романа скоропалителен и несправедлив.
5
— За окном-то весна, май! Наверно, всё цветет, пышет жизнью, — приподнято произнес сокамерник Дмитрий Ильич, глядя на голубую даль в высоком окне.
— Не за окном — за решеткой, — уточнил Роман.
— Ваша правда, коллега. Рисунок слегка подпортили, — согласился Дмитрий Ильич и, устроившись у стола, принялся расставлять на картонной клетчатой доске маленькие шахматные фигуры.
Камеру для Романа Каретникова «пробили» элитную, на двоих, — генерал Михалыч подсуетился. Сосед Дмитрий Ильич, человек в годах, с глубокой вертикальной складкой на подбородке, седовласый, но еще бодрячок, с хитрыми острыми глазами и быстрой, отрывистой речью, совсем недавно занимал пост президента государственного фармацевтического концерна. На своих заводах он создал сеть подпольных цехов, но не поладил с министерскими чиновниками: они тайно потакали его «экспериментальному производству» и хотели более ретивых доходов. «Вы совсем оборзели, господа! — выступил им укоротчиком Дмитрий Ильич. — Я вам всегда исправно отстегивал, но вы берите хотя бы по чину. Не зажирайтесь!» Такой едучий наскок не простили — Дмитрий Ильич угодил в опалу. Избавиться от него решили в чистилище «Матросской тишины», осторожно «капнули» на него в «органы» — там уж и рады-радешеньки, что разрешили выловить крупного зверя…
Иногда, не вдаваясь в детали уголовного дела, Дмитрий Ильич косвенно приоткрывал Роману причину своего здешнего пребывания.
— Нынешний чиновник, — рассуждал он, — коварнее всяких цэрэушников. Даже исламские сепаратисты… Простите: вы, случайно, не мусульманин?.. Ну да, не похоже… Так вот, все эти экстремисты — лишь чирьи. Они — на поверхности. Настоящий туберкулез России — это чиновник! Это «кувшинное рыло» способно загубить целые отрасли в стране.
Торопиться в следственном изоляторе было некуда. Дмитрий Ильич мог прерваться на час, на два или даже через день вдруг опять озадачиться прежним предметом, словно не произошло никаких перебоек. Сейчас, выравнивая фигурки на шахматной доске, он продолжил разговор, начатый накануне:
— Вся беда в том, что в России нет единой политики. Суверенитеты республик, президентики — всё это дрисня. Разве позволительны сейчас нации такие безделушки! В каждом областном городишке по десятку министерств. Головотяпство!.. Нет и единой национальной идеи. С идеями у нас всегда был разброд. Как царь отпустил вожжи, так и пошел в извилинах кавардак… Причем у Москвы и у остальной России национальные идеи-то разные. Москва всегда надувала щеки: великая империя! Нищая провинция этому недовольничала. Русскому мужику, вятскому, архангельскому или саратовскому, не нужны туркестанские пустыни и кавказские хребты. Свое путём освоить сил недостает. Вот и получается, что русский мужик на своей земле стонал и загибался или подыхал на проклятой чужбине. Москве же требовались триумфы, международное величие! Вы помните возню вокруг Кубы? Ну конечно нет, не помните… Так вот, была такая песня: «Куба, любовь моя…» А в народе ее пели по-другому: «Куба, отдай наш хлеб! Куба, возьми свой сахар! На хрен нам нужен дядька Фидель…» и так далее… А Вьетнам? А Камбоджа? А Ангола? В итоге русский мужик оказался прав: нет проку ни от Кубы, ни от африканских товарищей — миллиардные долги этих стран никогда не вернутся. Да и от братского Кавказа и дружественной Средней Азии для России только головная боль. Власть не чувствовала забот русского мужика, губила провинцию, в итоге просрала страну! Простите, вы откуда родом?.. Коренной москвич. Ну, тогда вам понять сложнее. Вы, должно быть, совсем не раскусили провинцию. Я родился и вырос в нищей Тамбовской области. — Дмитрий Ильич прервался, перевернул шахматную доску черными рядами к себе, опять стал поправлять фигуры. И тут же продолжал с увлечением: — Столица и провинция живут в параллельных мирах. Девяносто первый год! Девяносто третий год! Россия фактически брезгливо отстранилась от Москвы. Все столичные затеи для провинции — что капризы избалованного ребенка. Убыль и нервотрепка!
Поглядывая на фаталиста-собеседника, который помимо своей высокой должности имел еще степень доктора экономических наук, Роман поражался: в России, куда ни кинь, даже в тюрьме, люди всё толковые, просвещенные. Всё понимающие люди в России! Способные блистать талантом, способные на созидательное служение Отечеству, — и эти люди с неимоверной легкостью оборачиваются ворами и прохиндеями. Ведь перед ним сейчас — мошенник, который даже здесь, в камере, сидит в фирменном спортивном костюме «Найк», в велюровых домашних туфлях, превосходно надушен, сыт, свеж и при этом печется о невзгодах простого русского мужика.
Ведь и он сам, Роман Каретников, вляпался в криминальную историю с «подложными документами и дачей взятки должностному лицу». Он прекрасно знал, что подписывает липовые акты и что особняк в Замоскворечье для своего издательства покупает за условные деньги. Основные деньги ушли «в отмазку» и легли в карман «человеков из мэрии», с которыми дружил отец. Скандал и тогда уже вспыхнул, на Романа завели уголовное дело, но еще на стадии следствия отец всё уладил, утряс, откупился. Теперь отца нет. Но преступление осталось! Какое постыдное, унизительное положение проходимца, которого к тому же предал брат! Роман хлопал себя ладонями по коленям, поднимался с койки и, заложив руки за спину, ходил туда-сюда, топтался в тесной хороме с мрачно-синими крашеными стенами, с решеткой на приплюснутом высоком окне.
— Фигуры расставлены, коллега, — приглашал его к поединку Дмитрий Ильич. — На этот раз ваши белые, начинайте.
Внешний мир для Романа Каретникова, сжавшись в пространство каменного куба с решеткой на окне и тяжелой железной дверью, пугающе преобразился. Мир внутренний оставался, как никогда, светел и чист. У Романа могли отнять акции, обанкротить его издательство, пустить его с сумой по миру, даже засудить. Но никто не мог посягнуть на его любовь к Марине.
Каждый вечер в особенной, напитанной тяжелыми раздумьями тюремной тишине, когда сокамерник Дмитрий Ильич утихал на койке напротив, Роман подолгу про себя разговаривал с Мариной. Это были счастливейшие часы одиночества! Ничего подобного с ним не случалось: он не мог прийти, приехать, позвонить женщине, по которой безумно скучал; он не вправе был пригласить эту женщину на тюремное свидание, он даже не мог признаться ей в том, где и по какой причине сейчас находится, но он всем существом был с нею.
Он беззвучно шептал ее имя, он писал ей длинные мысленные письма, он слышал в шуме морского прибоя ее голос. Он улыбался чистой блаженной улыбкой, отрешенно глядя на кривую решетчатую тень, которая лежала на потолке камеры: снаружи свет прожектора бил откуда-то снизу.
Даже вкус ее губ, ее тела, ощущение ее прикосновений здесь, в неволе, были обостренно красочными, живыми, детальными. Не размытыми никем. Роману удалось избежать близости с Соней, которая приезжала на похороны отца. Ничего любовно-интимного не случилось и в отношениях с Жанной, которая встретила его после юга. Только Марина — единственно она — трогала его чувственное воображение, только ей он оставался предан.
Следственная тягомотина и бездеятельное лежанье на койке в казенном доме отдаляли обещание Романа приехать в мае в Никольск.
* * *
Ежеутренне и ежевечерне Дмитрий Ильич становился перед иконой — небольшой ламинированной картонкой с ликом великомученика Пантелеймона и молился, нашептывая неразборчивые слова. Роман старался ему не мешать, обычно сидел в такие минуты на своей койке без движения, изредка взглядывая на молельную церемонию, задаваясь вопросом: что же потянуло этого человека к Богу? — он сам признавался, что в свое время работал в экономическом отделе одного из райкомов партии, даже кандидатская диссертация у него — что-то о несостоятельности буржуазных экономических теорий в борьбе с марксизмом-ленинизмом…
Новым христианином из прежней партийной номенклатуры с ее воинствующим атеизмом был и отец Романа. В последнее время Василь Палыч неизменно носил на шее нательный золотой крест, в рабочем кабинете в красном углу держал икону Богородицы, делал пожертвования на восстановление московских храмов, побывал в Троице-Сергиевой лавре у старца, приятельствовал с одним из священнослужителей, который был ему вроде духовника и который захаживал к нему в гости. Однажды в присутствии Романа Василь Палыч высказал священнику со свойственной прямотой: «Вы соберитесь, святые отцы, да обсудите строительство церкви для богатых прихожан. Уж коли мы под ваши хоругви пришли, вы нам обеспечьте сервис. Богатый человек иной раз и зашел бы в церковь, но не хочет молиться среди дряхлых бабок, нищенок, попрошаек да прочих всяких сопливых дурачков. И детишек своих туда не ведет. Надо особую церковь — для состоятельного круга… Да бросьте-ка, батюшка, о равенстве всех смертных! Родильни для богатых — отдельные! Места на кладбищах — тоже отдельные! Надо и о церквях подумать, и службы особенные ввести. А уж пожертвования там будут не такие, что везде…».
Отец о вере всегда рассуждал прямолинейно, в лоб: «Храм для верующего — это химчистка души. Тупоголовые идеологи в КПСС этого допендрить не могли. Сейчас сами пролетарские лбы крестят. Да уж поздно — свергли власть. Не сообразили, что социализм и православие из одной купели. „Кодекс строителя коммунизма“ с Библии списали, но признать этого не смогли!».
— Вульгаризировал ваш папенька, — высказывался Дмитрий Ильич, узнав от Романа вероисповеднические воззрения Василь Палыча. — Православие и коммунизм — два медведя, которые в одну берлогу не влезут. Схожесть уставов неизбежна. Нет ни одной религии, где было бы записано: «убей!», «укради!» Точно так же нет ни одной конституции государства, где бы призывали убивать и красть. Это уловка для лохов: дескать, социализм и православие — близнецы. Одно не терпит другого. И уж никак не Мишка Горбачев дал волю верующим! Он предал социализм. И соответственно — атеизм. А капитализм призвал назад к себе в подручные религию. Богачи из морской пучины и с небес привлекут христов, магометов, будд, лишь бы держать бедняков в повиновении. Коммунизм с проповедью равенства исключал религию. В принципе исключал! Как инструмент оболванивания масс.
Роман не оспаривал и не соглашался с Дмитрием Ильичом. Он считал, что религия — сфера изысканная, тончайшая; вера призывает к себе зовом необыкновенным, обращается к чувствам в человеке потаённым, неизъяснимым, которые ему, Роману, пока неведомы, но которые, казалось, повально раскапывали в себе бывшие коммунисты.
— Плебейство! — объяснял по-своему появление партийных неофитов Дмитрий Ильич. — Ватага морщинистых комсомольцев и комсомолок бежит к попам, потому что никогда не была самостоятельной. Им всегда требовался над головой правитель. Сталин в свое время настолько сдвинул мозги, что даже Хрущеву и Брежневу по инерции кое-что перепало от его тирании. Когда в России накрылась власть: Горбачев — размазня, Ельцин — забулдыга, тогда тем, кто привык быть под властелином, потребовались новые управдомы. Иисус Христос — лучший покровитель для России. Все патриотические партийцы тут же вспомнили историю до семнадцатого года и кинулись к иконам. Христос со своим мироустройством стал более авторитетен, чем Маркс и Ленин, мечтавшие о коммунистической глобализации, которая с треском провалилась. Но при этом бывшие партийцы верят по удобству. До тех пределов, пока им комфортно и выгодно. Поститься-то коммунисты так и не научились! — Дмитрий Ильич посмеивался. — Вы что окончили? МГУ? Так я и думал. Исторический? Тем лучше. Религия, как вам известно, — мифология, возведенная в абсолют. И совершенно ясно, что никакой поп Россию не спасал и не спасет. Мало того, усиление религиозности в обществе сейчас может впоследствии привести к новой волне атеизма. Так что нынешний кураж новообращенных — дело небезобидное… Россию вытянет из болота только стремление к прогрессу волевых образованных людей! А люди образованные вряд ли всерьез могут поверить в чертей из ада, в райские яблоки, в ангелов с крылышками или начнут праздновать «обрезанье Господне»…
— Но вы? Вы-то же стоите перед иконой и что-то шепчете! — резко спросил Роман. — Вам-то в таком случае для чего это фарисейство?
— Видите ли, коллега, — улыбнулся Дмитрий Ильич, — в Бога верили мои бабушка и мать. В нашу сельскую церковь ходили все мои старшие родственники, там они меня крестили… Я поклоняюсь не просто иконам, они для меня — ниточка со всеми моими родственниками, живущими и умершими. Если хотите, я поклоняюсь вере верующих. Я всего лишь крохотная песчинка всеобщего христианского сопричастия. Мне больше важен ритуал этого сопричастия, чем вера. Чертей из ада и райские кущи пусть малюют фанатики. Для меня вера — это космос мыслей близких мне людей. Они были православными, я и стою перед православной святыней. Был бы в России вознесен бог Ра, я бы перед ним шею гнул…
Иногда под впечатлением от долгих разговоров с Дмитрием Ильичом о таинствах веры Роман в бессонные ночные часы оказывался в плену блаженных видений. Их с Мариной сочетают браком в церкви. «Венчается раб Божий Роман с рабой Божией Мариной…» — слова мечтаемого священнодействия окрыляли его, возносили и воссоединяли с любимой женщиной в каком-то непознанном измерении, в новой ипостаси. Видение настолько захватывало Романа, что он мог досконально описать подвенечное платье Марины, мелкие шелковые цветы на фате, тонкие сетчатые белые перчатки по локоть… Он мог дать точный портрет и священнослужителя, у которого большие томные глаза и редкие седые крупные волосы в бороде, сквозь которую льется вкрадчивый и пронзительный голос. «Господи! — мысленно обращался Роман к тому, в чье существование не верил. — Неужели такое когда-то возможно? Марина, Марина, милая моя Марина! Когда же мы увидимся?» Этот вопрос застывал где-то в душных потемках камеры.
Кончился май, началась летняя жара. Встречи со следователем, с адвокатом, который твердил одно и то же, как попугай: «Ни в чем не признавайтесь!», не вносили ясности в судьбу.
6
Жанна и Ирина сидели в кофейне огромного, только что открытого пассажа. Они заехали сюда, утоляя страсть к моде и призывы оголтелых рекламщиков. Прошлись по бутикам, разглядывая и щупая стильные вещички, прицениваясь и что-то примеряя. Наконец забрели в кофейню — на чашку каппуччино.
— Когда Роман выберется из тюрьмы, в издательстве останется один сломанный стул. И тот будет в залоге, — с горькой усмешкой говорила Ирина. — У Вадима хватка бульдожья. Марк носа в издательство не кажет. Прокопа Ивановича уже рассчитали. Мне тоже придется скоро сваливать. Уеду я, наверно, Жанка… Меня опять бельгиец донимал. Представляешь, замуж предлагает.
— Замуж — дело заманчивое, — отозвалась Жанна. — Мне вот пока никто не предлагал…
— С языками у меня туго. Так только: вери матч да мерси. Зато он богатенький, свою фирму имеет. Правда, чуть староват для меня и… — Ирина поморщилась: — И любви у меня к нему нет. Совсем без любви как-то не по-человечески выйдет.
— Чего ты, подруга моя, несешь? Любовь? — оживилась Жанна. — Ты мужчин оскорбительно как называешь?
— Козлы, уроды. Зачем тебе?
— Еще!
— Скоты, остолопы, жлобы… пидоры, — Ирина рассмеялась.
— Матерными словами ругаешься?
— Иногда ругаюсь, сама знаешь.
— Так вот, — словно диагноз поставила Жанна, — настоящая любовь тебе уже не грозит. Поезжай в Бельгию к своему богачу и наслаждайся жизнью.
— Почему же мне не грозит?
— Если ты так называешь мужчин, то в тебе уже нет к ним почитания. Ты их насквозь видишь. Любви без почитания и без тайны не бывает. А сквернословие к тому же вытравляет в женщине гормоны любви, — как учительница, подчеркнула Жанна.
— Откуда ты знаешь?
— Книжек начиталась и на своей шкуре проверила, — ответила она. — Выходи, подруга, замуж за бельгийца и вали за границу. Как женщина ты уже состоялась. У тебя двое детей от первого брака. Они получат там европейское образование, ты — достаток. Чего еще женщине надо!
Они помолчали. Вероятно, каждая в эту минуту препиралась о чем-то сама с собой.
— Мне опять из Никольска эта дамочка звонила, — сказала Ирина.
— С которой Роман на юге кувыркался?
— Ну да. Он наказал, чтобы я с ней была «предельно вежлива». Про тюрьму — ни гу-гу. Похоже, у него с ней серьезные шуры-муры, влюбился.
— Ему можно. Он женский пол матюгами не кроет. К нему прислониться любой бабе захочется.
В лице Жанны появилась мрачная сосредоточенность. За стеклами кофейни сверкали вывески престижных марок, брендов, повсюду в витринах позировали модницы и модники-манекены, толстые гирлянды из воздушных шаров, словно пестрые гигантские удавы, обвивали арочные своды торгового комплекса.
— Романа я так просто не отдам. Никому не отдам! Ни Соне, ни этой провинциалке, — твердо сказала Жанна. — Он в моей жизни — светлое пятно. Неспроста я его к себе приваживала. Если его в Сибирь сошлют, я за ним, как декабристка, пойду… Мне сейчас Вадима сломать надо, в пасть ему чего-нибудь сунуть.
— Ох, Жанка, не связывалась бы ты!
— Тебе легко говорить. У тебя дети есть, иностранец замуж зовет. Мне тоже хочется счастья, живого, человеческого. Не в этих же шмотках вся радость и весь смысл! — Она кивнула на расфуфыренные ряды презентованного пассажа.
* * *
— Всяк человек относится к своей когорте, — рассуждал однажды Василь Палыч за выпивкой с друзьями. — Больше всего на земле фантазеров. Таких, как мой Роман. Они всё мечтают, прожекты строят. Ничего у них не выходит — и они начинают искать виноватых. Власть, законы, климат, народ, гороскоп, жена. Но это тоже фантазии. Другая масть людей — ловкачи. Это вроде меня. Таких на земле намного меньше, чем фантазеров. Ловкач может далеко пойти, если ему подфартит. Если фарта не будет, может и башку сломать на ровном месте. А самая крепкая порода — это Вадим. Он хищник. — Тут Василь Палыч слегка отуманился задумчивостью. Расшифровки этой породе он не дал, но и в незнании слушателей не оставил, откупился метафорическим примером. — Вот сидит на углу нищий, перед ним шапка для подаяний. Фантазер пройдет: если заметит нищего, бросит в шапку монетку. Ловкач пройдет: бросит в шапку не монетку, а бумажку. Да еще подумает: как бы самому не оказаться на месте этого нищего. Зато уж хищник пройдет — в шапку-то нищего ничего не бросит, но туда заглянет да тут же прикинет: деньги-то зря пропадают, на них разжиться можно, нищий-то и так подохнет, проку нет. К тому же и нищий-то — дубина: на том углу бы сидел, ему бы больше сыпали. — Василь Палыч зло засмеялся.
С Жанной встретиться Вадим не захотел. Она несколько раз звонила его помощнику, просила, чтобы тот «соединил, передал, перезвонил», но всё понапрасну. После смерти отца Вадим, казалось, убрал Жанну из своего сознания.
«Ничего, я все равно тебя достану, — мстительно целилась она, глядя из машины на зеркальную дверь особняка, из которой должен появиться Вадим. — Все равно залезу к тебе в душу. Пусть ты хоть трижды будешь хищником! Я сама из такого же теста!».
Она припарковала свой «мерседес» у чугунной ограды, на тротуаре, поближе к черному, сияющему на солнце «хаммеру» Вадима. Расчет был прост. Обслуга Вадима не подпустит Жанну «к шефу» в его конторе. Ну и пусть! Она поймает его здесь, на выходе. Он невольно пойдет мимо ее машины к своему джипу. Надо вовремя засечь его, выскочить из машины и крикнуть: «Вадим Васильевич! У меня письмо вашего отца!» Охранник, в сопровождении которого пойдет Вадим, вряд ли начнет препятствовать. Жанна и в самом деле приготовила давнюю записку Василь Палыча. Записка совсем пустяковая, там пара слов о Романе и Вадиме. Но все же крючочек! А если он ответит: «Оставьте моему помощнику» — и был таков? Нет, этого допустить нельзя. Главное — задержать его внимание, насесть, чтобы не улизнул.
Уже больше часа она играла шпионскую роль. Понимала, что ее расчет глуповат: деловые люди серьезные вопросы на ходу не обсуждают. Но иногда: чем глупее — тем вернее.
Солнце уже сошло с полуденной высоты. На асфальт перед машиной Жанны постепенно приползла тень липы. Это было единственное дерево поблизости, которое еще отвоевывало свои квадратные полметра на краю тротуара. Здесь, в районе улицы Мясницкой, земля золотая, подумала Жанна. Где она теперь в Москве не золотая? Но размышлять по этому поводу было лень. Положив руки и подбородок на руль, Жанна безмысленно наблюдала, как тень липовых листьев замирает на асфальте, будто плотный косяк рыб, выбравшихся на мелководье погреться на солнце. Вдруг — ветер. Тень срывалась с места, исчезали напуганные рыбы. Ветер гас. Снова картина восстанавливалась: косяк грелся на июньском солнце. В игре тени и света на асфальте было что-то усыпительное.
— Послушайте, сударыня, не надо меня преследовать и донимать телефонными звонками! — Вадим Каретников стоял напротив раскрытой дверцы Жанниного «мерседеса».
Она чуть не проспала его. Он объявился сам, опознал ее машину. Проходя мимо, дернул ручку двери.
За спиной Вадима высился плечистый, с каменным, непроницаемым лицом и толстой шеей охранник. Первое, что встрепенуло сознание Жанны — изумление: где он нашел себе в охрану такого амбала? Но посторонняя блажь в мыслях мгновенно улетучилась, Вадим быстро отчеканил:
— Никаких денег я вам не дам, даже если у вас есть письменные гарантии моего отца. Просьба о вашем трудоустройстве тоже вряд ли будет выполнена. У меня нет для вас вакансий.
— Мне для себя ничего не надо. У меня письмо Василь Палыча. Я должна рассказать о Романе. Он же ваш брат! — Она с каждым словом говорила азартнее. Сама себя пихала в бок: «Цепляй его! Бери за жабры! Другого случая не будет».
— Я еду сейчас на аэродром, — проговорил Вадим.
Больше ему не нужно было произносить слов.
— Отдайте мне время в дороге. Обратно я доберусь на такси, — выпалила Жанна.
Вскоре она погрузилась в уютный, мягкий, чистый салон огромного джипа, устроилась возле Вадима на просторном заднем сиденье. Впереди — два крепких затылка — шофера и охранника с квадратными плечами. Ни шума за окном, ни суеты машин, ни скорости, ни даже дороги под колесами этого автобыка не чувствовалось. Словно все машины кругом были маломощны, ниже ростом и расступались при виде оскалившегося передка американского чуда.
В начале дороги Жанна говорила не прерываясь. Она сорила словами, повторялась, кружила вокруг одного и того же. Дескать, Василь Палыч неспроста утверждал, что каждый человек живет по своей философии, что Романом никогда не двигала нажива, что он по любому раскладу не заслужил тюремных нар, что…
— Достаточно. Не надо делать из Романа мученика, из меня — злодея, — наконец отозвался Вадим. — Да, покойный батюшка любил повторять, что каждый живет по своей «философьи». Только одному эту «философью» выбирают, другой сам ее выбирает.
Жанна притихла. Искоса, с некоторым опасением, поглядывала на Вадима. На шее у него вместо галстука повязан черный шнурок с серебряной бляшкой, пиджак тоже наособинку — как китель с расстегнутым воротом; возможно, от каких-нибудь версачей или русских зайцевых. На правой руке, на мизинце, поблескивал перстень из платины. Обручального кольца не носил — хотя женат. В невестах жена работала в кондитерской, обыкновенной продавщицей. Теперь домохозяйка, воспитывает двух дочек. В Англии. Вадим, говорят, до сих пор обожает пирожные. Пьет только виски. Занимается экстремальным спортом. В школе учился на «тройки», но уже тогда брезговал ездить в метро… Непростую наследственность передал Барин. Сам был оригинал и подлец и сыновей наплодил с наворотами.
— Мне было семь лет, когда отец бросил нас. Он оставил нам пачку денег. Мать в истерике изорвала эти деньги. Потом сильно плакала, и мне пришлось успокаивать ее. Тогда я и решил, что вырасту и буду иметь денег больше, чем отец. Уже в восьмом классе я заработал первую тысячу рублей. Вся квартира была уставлена аквариумами, я разводил рыбок и по воскресеньям продавал их. Иногда в день у меня выходило по четвертаку… В десятом классе я заработал свою первую тысячу долларов. У одного японца я купил аппаратуру, сговорил приятелей, и мы круглые сутки гнали товар, аудиокассеты с записями. Чтобы сэкономить время, я ездил в школу и по делам на постоянном такси… Деньги от кассет получались неплохие. Но уже тогда я понял: большие деньги нельзя сделать руками. Свой первый миллион долларов я заработал на перепродаже дома.
Жанна слушала завороженно. Она даже на время забыла, зачем ей понадобилась встреча с Вадимом.
— В начале девяностых в Москве открылся австрийский банк. Крупная контора с привлеченным западным капиталом. Дела у банка в России не пошли. Менеджеры оказались слабыми, бизнес завалили, погрязли в махинациях. Австрийцы решили избавиться от банка, а купленную недвижимость, огромный особняк, недалеко от Павелецкого вокзала, продать. Я нашел им покупателя. Но нам, русским, они не совсем доверяли. Думали, обманут при оценке недвижимости. Настаивали, чтобы консалтинговая фирма была европейской: немцы, англичане, датчане — кто угодно, только не наши. Выгодно это или невыгодно — их не интересовало. Они готовы были продать недвижимость за любые деньги, лишь бы по честной оценке. Серьезная компания в Европе за оценку недвижимости берет до десяти процентов от суммы этой недвижимости. Наши оценочные фирмы согласны были оценить за один-два процента. Сломать австрийцев, чтобы оценщики были наши, не удалось. Тогда я нанял лучшую консалтинговую компанию в России, оценил эту недвижимость за два процента. А известной немецкой консалтинговой фирме предложил сделать оценку российской оценки. Это было намного дешевле, чем оценивать саму недвижимость. На это австрийцы согласились. Потому что всё было чисто, без всяких занижений. В итоге я сэкономил для покупателя этой недвижимости два миллиона долларов и честно получил с этой суммы свою половину. Здесь и зарыта «философья»! Когда я зарабатывал первую тысячу рублей, Ромочка, в желтеньких шортиках и беленькой панамке, ходил со скрипочкой в Гнесинку получать частные уроки. Когда я не спал ночами и зарабатывал первые баксы, Ромочка сидел в Больших и Малых театрах. Когда я делал настоящие бабки, Ромочка штудировал какого-нибудь Гегеля в Германии и сочинял научные статейки.
— Даже если Роман полный профан в коммерции, тюремных нар он все равно не заслужил, — воспротивилась Жанна презрению Вадима.
— Заслужил! — тут же возразил он. — В последнее время отец был беспомощен в бизнесе. Он держался только за счет старых связей. Но эти старые партийные носороги уже развращены ленью и самодурством. Все крупные проекты холдинга, все серьезные деньги приносил я. Роман со своими книжками был вроде показушной витрины… Тюрьма пойдет на пользу его же здоровью. Это в кино — хитрые заказные убийства, эффектные сцены с благородным киллером. В жизни всё гораздо примитивнее и грубее. Приходит ко мне какой-нибудь делаш из отцовских дружков и говорит: отдай деньги, твой батяня мертв, я забираю свою долю. У меня этой доли нет. Она у Романа в конторе зарыта. Но Роман со своим родственничком Марком этого понимать не хотят. Тогда делаш предлагает: для начала давай-ка мы Романа башкой в унитаз. Если и дальше не поймет, тогда — «пух-пух!». Недорого обойдется. Есть люди, которые с радостью убрали бы Романа. Пусть уж лучше посидит, книжки почитает, в шахматы поиграет. Условия у него комфортные. Все акции холдинга мы обесценим, проведем реорганизацию. Тогда и его выпустим. Голяком он так и так не останется. Ценных бумаг я, конечно, не дам, но недвижимость — как полагается. Ему отойдут загородный дом отца в Барвихе и дача на Черном море. Издательство тоже останется. Только с нулями. Пущай повертится, отличничек, без «левой» бумаги и госзаказов.
Вадим замолчал. Не только нравоучительную ярость: поди-ка, мол, сам, без отца и брата, понаживи капиталов, — но и какое-то глубокое злорадство, словно бы результат давней потаенной зависти к Роману, уловила Жанна в услышанной речи.
«Он ненавидит его смолоду, — подумала она. — Он ему мстит. Он с радостью наставит ему рога даже через любовницу. Посмотрим…» — Она осторожно и незаметно для Вадима, чуть-чуть, на несколько сантиметров, сползла по сиденью ниже, так, чтобы юбка на ее коленях поднялась повыше. Ноги, обтянутые шелковисто блестящими, телесного цвета колготками, стали более обнажены.
«Переступим и через это. Вадим меня не выдаст. Всего один раз. Черные секунды…» — промелькнуло в ее мозгу. Она всегда испытывала внутреннюю лихорадку, когда приближались «черные секунды», — как вор, нацелившийся что-то стырить, испытывает веселящий страх. Мягко, ласково, по-кошачьи Жанна положила свою руку на колено Вадима.
— Тебе — одно, ему — другое. Все люди разные. Я прошу тебя, Вадим, — заговорила вкрадчиво, на «ты», по-свойски: чего, дескать, друг перед другом манерничать, — отпусти Ромку. Я уговорю его, чтобы подписал нужные бумаги и не высовывался. Отпусти… Я хочу с ним побыть сейчас, когда ему тяжело, когда с ним нет рядом близкого человека. Ты же всё понимаешь, оплачиваю я.
Все чувства Жанны в эти секунды сплелись в тугой клубок. Вадим мог с небрежительной легкостью оттолкнуть ее. Набрал бы еще очков в свою пользу. Пока же он, казалось, и не почувствовал руку Жанны на своем колене.
Широкая трасса кончилась. Джип свернул на двухполоску, пересек рощицу и вырвался на простор. Повсюду — поле, лишь на горизонте кудрявился зеленью лес. Легкие спортивные самолеты, задрав носы с пропеллерами, мелькнули в окошке джипа; ангары, небольшое здание с навигационными антеннами…
— Где мы? Что это за место? — удивленно спросила Жанна.
— Здесь аэроклуб. Я занимаюсь парашютным спортом, — сказал Вадим.
— Это же опасно!
— В бане с проститутками тоже небезопасно, — усмехнулся Вадим, снял руку Жанны со своего колена.
Жанна почувствовала, как начинает задыхаться от ненависти к Вадиму. В сознании уже били ключом ругательства: «чурбан! жлоб! импотент!».
— Хотите попробовать, сударыня? — оборвал ее оскорбительные мысли Вадим.
— Чего попробовать?
— Прыгнуть с парашютом. В паре с инструктором, так надежнее. Всего несколько секунд свободного полета.
«Черных секунд!» — подумала Жанна. Вслух сказала:
— Отпустишь завтра Ромку — прыгну хоть с луны!
— Только месяца через полтора.
— Через неделю! — резко выдвинула условие Жанна.
— Через двадцать суток! Больше торга не будет! — отрезал Вадим.
Джип остановился напротив здания спортивного парашютного центра.
— Хищник! — буркнула Жанна в спину выбирающемуся из машины Вадиму. Но она еще не подозревала каверзы, на которую только что подписалась.
* * *
Старый драндулет «Ан», кукурузник, дрожал, как молотилка, и натужно гудел мотором, набирая высоту.
— «Боинг»? — кричала Жанна инструктору, испытав болтанку и провалы в воздушые ямы.
— Лучше, чем «Боинг»! — отзывался инструктор, сухощавый мужичонка с загорелым, обветренным лицом.
— Парашют раскроется? Точно? — в десятый раз спрашивала Жанна и оглядывала поклажу инструктора: парашюты — основной и запасный, подцепные ремни.
Инструктор покровительственно улыбался и кивал головой. Жанна тоже строила ему улыбки, но при этом неусыпно слушала гуд мотора. Казалось, мотор работает с перебоями, временами захлебывается, почихивает. Вдруг один такой чих — и затем станет тихо?
Вадима в самолете не было. Он занимался на других высотах, с профессиональной командой. На этой тарахтелке поднимались в небо чаще всего группы «чайников».
Самолет забрался на нужную тысячу метров. Дверку салона открыли. Снаружи в салон ударил ветер и свист ветра. К зеву в пустоту выстроилась короткая очередь прыгунов.
— Пошел! — кричал инструктор. — Пшёл!
Один за другим бледные как смерть дебютанты сгинули в пропасти. Жанна осталась одна. Она швыркнула носом, поправила на голове шлем, который ей был великоват по размеру, опустила со шлема на глаза большие очки. Всё это должно было упрочить безопасность предстоящего прыжка.
Наконец инструктор подошел к ней, повернул ее к себе спиной, обнял, подцепляя ременный крепеж.
— Ну как? — громко спросила Жанна, перекрикивая шум мотора и шум ветра за открытой дверью. — Крепко приармянился? Я не отпаду?
— Крепко! — он сделал утвердительный жест рукой.
Слепившись, шагая в ногу, они подобрались ближе к раскрытой двери. Вдруг пустота дохнула в лицо Жанны, и всё враз кончилось. Все чувства и мысли оборвались, уступая место ужасу инстинкта.
— Не-е-ет! — завизжала она. — Не-е! Не хочу! На хер нужно!
Она отпрянула от дверей, чуть не повалила с ног инструктора. Успела вспомнить, как грохнулась с высоких веревочных качелей, когда была маленькой…
Но инструктор повидал всяких сцен. Проорал в ухо:
— Ладно! Успокойся! Нечего метаться! В другой раз прыгнешь!
В душе Жанны отлегло. Все мышцы ослабли. В сердце толкнулась радость спасения.
В эту секунду сильные, хваткие руки инструктора и его твердое мускулистое тело сбросило их связку в бездну.
— А-а-а!!! — отчаянный крик понесся стремительно вниз.
Скоро истошный вопль на одной надрывной ноте задохнулся от ветра, от страсти свободного полета. Любой крик был слишком тих и ничтожен по сравнению с ветром, летящим навстречу, по сравнению с безмерным пространством неба и огромной земли.
Что-то взорвалось над головой — хлопнул, расправляясь, купол парашюта. Жанну встряхнуло, дернуло вверх. Вскоре она уже парила под белым куполом, чувствуя опеку хитромудрого инструктора. Уже не орала, с любопытством глядела на землю, простиравшуюся внизу. Зелень леса, синий овал озера и почти черная извилистая речушка, а за желтоватым цветочным полем — светло-серая лента взлетной полосы и маленькие самолетики на обочине.
После приземления Жанна взахлеб рассказывала по телефону Ирине:
— Он не хищник. Он настоящий дьявол! Мы с ним торговались из-за Романа. На меня как на женщину он даже не поглядел. Пришлось прыгнуть с парашютом… Да, с парашютом! Но это намного круче, чем оргазм. Да, хриплю. Глотку сорвала, от кайфа визжала. Вот тебе и ха-ха!
7
В рукописи «Закон сохранения любви» Прокоп Иванович встречал некоторые положения, которым сопротивлялся. Спотыкаясь о такие положения, он вдруг начинал говорить вслух, оспаривая безвестного автора.
Автор предлагал:
«Понаблюдайте за животными. Им свойственна игра — как процесс творчества. Котенок самозабвенно гоняется за пушинкой. Пушинка мертва, несъедобна, но котенок может часами играть с нею, обращая ее в своем творчестве, скорее всего, птицей.
Даже нечеловеку свойственно создавать образы и неосязаемые миры. Искусство есть неотделимый элемент природы.
Тот, кто создавал религию, оформляя ее обряды, еще в далекую дохристианскую языческую пору, возможно, и не подозревал, какими плодами прорастет это создание культа. Возможно, изначально религия задумывалась, чтобы держать в повиновении бедных и давать им моральный шанс на счастливое будущее „потом“, после смерти. Однако плодами религии стало и творчество, человеческая тяга к искусству.
Религия удовлетворила потребность человека в образном мышлении. Удовлетворила творческий талант человека. Загробный мир, небесное царство, Создатель и Спаситель, ангелы и падшие ангелы… — без творческого подхода об этом просто невозможно помыслить.
Религия дала волю талантам, простор для фантазии. Живопись, архитектура, музыка, литература — религия всем видам искусства преподнесла пищу. Пищу благородную, ибо религия предназначена для поиска человеком гармонии со своей душой, гармонии с Творцом, гармонии с обществом.
Религия — высшее искусство!
Художник чаще всего уходит из светского искусства, отдает себя служению Всевышнему, если познает истинную веру. Так как религия поднимает его на высшую ступень…».
Прокоп Иванович сдернул со своего толстого носа очки. Погладил себя по лысине и бороде, лукаво прищурился и заговорил тоном мэтра:
— Нет-нет, батенька, искусство способно подняться выше веры! И наука способна подняться выше веры! Вспомните-ка Галилея: «А все ж таки она вертится!» Искусство — дело светское. Представьте-ка, что со сцены театра будут читать проповеди. Это будет уже не театр! А ежели на страницах книг будут описаны действия только богоугодные? Это будет уже жизнеописание святых! Художник всегда идет выше и дальше религиозного канона! Вот почему именно среди художнической братии было больше всего богоотступников, изгнанников, отлученных.
Безымянный невидимка автор мог возразить Прокопу Ивановичу только тем, что уже имелось на листах, чуть пожелтевших от времени. Но прежде чем надеть очки и продолжить чтение, Прокоп Иванович успел поспорить и с самим собой, с тем, что высказал отсутствующему оппоненту:
«Если, разумеется, признать под искусством только то, что служит гармонии человека, тогда правда на его стороне. — Он ткнул пальцем в открытую страницу рукописи. — Религия, бесспорно, самое гармоничное и последовательное искусство. Какой-нибудь богохульник, модернист, может плюнуть на веру, может эпатажно перевернуть понятия, но это не даст обществу гармонии и порядка». Прокоп Иванович почесал в затылке.
Автор рукописи тоже не стремился к безапелляционным выводам, в подтексте слышалось: мне хочется только сказать, но не судить и навязывать.
«…Пока в жизни человека будет присутствовать тайна — тайна рождения, тайна смерти, тайна времени, тайна безмерности вселенной, — будет существовать и Божественное начало.
Пока на земле будет существовать жизнь, неизбежно будут проявляться и творческие устремления. Будет существовать искусство как потребность живой природы.
…Любовь тоже дает человеку простор для творчества. Вера дает возможность человеку быть счастливым в своих иллюзиях. Так же и любовь — позволяет человеку стать самымсчастливым на земле. А иногда самым несчастным… Любовь позволяет человеку реализовать свои фантазии, свои мечты, эмоциональные переживания. Любовь — тоже специфическое искусство, требующее наличия таланта.
У искусства — свои законы. Голодный и больной котенок не захочет и не сможет играть с пушинкой. У любви — свои законы. Мужчина, который лезет в петлю из-за женщины, полностью подчинен своей фантазии, своим иллюзиям. Ему говорят: „Что, тебе женщин не хватает? Вон — сколько хочешь!“ Но элемент творчества подчиняет его исключительно одной изменнице…».
Прокоп Иванович прочитал еще несколько абзацев и опять прервался, снял очки. Стало быть, автор на первое место выдвинул творческие потребности любой живой твари, имеющей мозг и нервные клетки. Так называемая тяга к игре, к творчеству. К тому, что называется искусством. За этим следует религия — как высшая ступень искусства. И наконец — любовь. Выходит, у религии есть свои законы. Верующий, который одной рукой крестится, а другой — тащит из кармана соседа последний грош, никогда не достигнет Царствия Божия. У искусства — свои законы. Художник не сможет выразить радость, если будет пользоваться только фиолетовой краской… Любовь никогда не будет долговечной, если нарушается закон…
Прокоп Иванович заглянул в конец рукописи и опять наткнулся на неоконченность. Текст обрывался. Не на полуслове — на рассуждениях, но самый главный итог, формулировка или формула закона сохранения любви, отсутствовал.
Телефонный звонок оторвал Прокопа Ивановича от страниц.
— Ирина? Сегодня выпускают Романа Василича? Я тоже готов его встретить! Уже надеваю ботинки. Буду ждать вашу машину на углу.
Положив рукопись на подоконник в кухне, где часто оставлял что-то недочитанное, Прокоп Иванович подался в тесный коридор. Тесен коридор был от книг, которые полонили длинные стеллажи под самый потолок.
8
Вечером пошел дождь. Мелкий, обложной.
Звук дождя сам по себе был приятен в знойные июльские московские дни. Жанна с радостью смотрела из раскрытого окна своей квартиры, с восемнадцатого этажа, на арбатскую магистраль, влажно и свежо отблескивающую потемнелым асфальтом. Водители включили «ближний свет» фар; с придорожных столбов разливали свет лампы на гнутых шеях; насыщались густым цветом вывески казино, ресторанов, безотказных в любой час магазинов и кафе. Вся арбатская иллюминация во всеоружии встречала сумерки.
На улицу Жанна поглядывала неспроста: она дожидалась Романа. Хотя вычислить с такой высоты его машину было невозможно, приближающееся свидание тянуло ее к окну.
Она уже виделась сегодня с Романом, встречала его у «Матросской тишины». Она первая обняла его на свободе и стребовала с него обещание, что он приедет к ней на ужин. «Рома, этот вечер — мой! Не зря же я с парашютом прыгала!» Он не понял, при чем тут парашют, его освобождение и ужин, но дал слово: «Буду».
Жанна опять выглянула в окно, высунула руку.
— Давай, дождик, пуще! — по-детски призвала она.
В Москве дождь — не просто вода с небес. Всеобщее очищение! Дождь в Москве смывает не только пыль с раскаленных улиц и разогретых крыш, не только загазованный зной и исчадные кулинарные и мусорные запахи, он очищает изможденную от миллионной толпы атмосферу мыслей, всеобщий дух города. Капли дождя цепляют на себя дурные помыслы, страхи, обиды людей, роняют на землю, навсегда хоронят в почве или уносят в потоке Москвы-реки. Из реки — дальше, в моря, в океаны, растворяют безвозвратно. «Как интересно!» — удивилась Жанна своим же размышлениям о московском дожде.
Ведь она впервые шла по Москве тоже в дождь. Приехала покорять столицу! Правда, не так наивно, как едут сюда провинциальные глупыхи, которые хотят стать актрисами, певичками, теледивами, танцовщицами и бродят вблизи тусовок знаменитостей или возле киношных студий, чтоб их заметил какой-нибудь режиссер и пригласил стать звездой; лезут на все конкурсы и кастинги или во все глаза глядят в метро на встречный поток пассажиров в надежде, что какой-нибудь добрячок с телевидения их заметит, ухватится и сделает из Золушки принцессу. Ха-ха! У нее не было таких утопических заскоков; она хотела поступить в институт; если не в институт — в техникум; если не в техникум — в ПТУ; если и туда не получится — идти работать: хоть кем, хоть посудомойкой поначалу.
В первый день появления в Москве, в первый московский дождь она, как цыпленок, желтоволосая, крашеная, в желтенькой куртяшке из болоньи, которая стала под дождем липкой и волглой, в джинсах, уже основательно потертых, с цветастеньким дешевым зонтом в руках шла по Воздвиженке со стороны Красной площади на Новый Арбат — поглазеть на высотные дома, которые часто показывали по телевизору. Она шла мимо знаменитого военторга, мимо Дома дружбы, построенного в восточном стиле с мозаичными панно, мимо маленькой, словно игрушечной, церквушки, белокаменной, со многими мелкими зелеными куполами. Эта церковь Симеона Столпника казалась такой низкорослой еще и потому, что сразу за ней возвышались многоэтажные арбатские «свечки». Шел дождь, и она шла, выглядывая из-под зонта на эти бетонно-стеклянные громадины, какие-то чужеватые для остальной Москвы, но олицетворяющие достаток и избранность… Они казались такими недостижимыми, эти дома!
Она шла по Новому Арбату и стыдилась перед встречными прохожими за свою желтенькую куртяшку, за свои промокающие туфельки и за свой зонт, у которого была сломана пара спиц и крылья зонта повисли, как крылья у подбитой птицы. У одной из многоэтажек, у популярного на всю страну магазина «Мелодия», к ней подошел длинноволосый парень, фарцовщик. Она отшатнулась от него, потому что даже не поняла, что он предлагал ей купить.
Теперь она жила в этом доме, где «Мелодия».
— Ромка! — Жанна даже взвизгнула от радости. Побежала на звонок открывать дверь.
Ужин получился поистине праздничным и немного семейным… Жанна приготовила жаркое с картофелем в глиняных горшочках. На столе были сыр, фрукты, красное испанское вино; лучшая посуда; высокие свечи в медных сановитых подсвечниках. Ради случая — ради такого случая! — Жанна надела любимое светлое платье из тонкого дорогого шелка. Они с Романом даже немного потанцевали — тоже знак исключительности вечера.
И все же она не упустила из виду: Роман был как-то слишком рассеян, радостно задумчив, чем-то поглощен. Когда она отлучалась на кухню, он несколько раз куда-то звонил, несколько раз он как будто куда-то спешил, но потом, опомнившись, извинительно улыбался, хвалил Жанну за угощение.
— Разве ты у меня не останешься? — спросила она, поймав в его движениях припрятанный повод откланяться.
— Завтра утром я уезжаю, надо собраться, — ускользая взглядом, ответил Роман.
— Улетаешь в Германию к жене и сыну? — спросила Жанна.
Пока шло следствие, Роман запрещал приезжать в Москву Соне, даже на свидания, чтобы в Германии ни у кого не возникло подозрений, что у него неприятности, чтобы эти неприятности не сказались на репутации сына Илюши.
— Нет, я уеду в Никольск. Есть такой небольшой город. Сутки езды на поезде. Самолеты туда не летают.
— Ты уверен, что тебя там ждут? — спросила Жанна.
— Я уверен в том, что поеду туда завтра в любом случае. Если меня даже там не ждут. Я уже купил билет на поезд и даже смог заказать номер в тамошней гостинице, — улыбнулся Роман.
— Тогда я предлагаю выпить за удачу твоей поездки! — ответно улыбнулась Жанна. В мыслях, однако, себя кольнула: «Ох и дуры же мы, бабы!» Сегодня поутру она с трудом отбила Романа у Марка, у его матери, у всяких разных дел, которые у него накопились за время отсидки. Но, оказывается, все неотложные встречи, водоворот ждущих дел и сама Жанна — для него пустяки по сравнению с какой-то Мариной из какого-то Никольска. Вот и прыгай с парашютом. Своей обиды она все же не выказала. Наизнанку душу выворачивать не стала. И к Роману в душу не полезла. Не растравливала в себе ревность. Придет срок — сам во всем расколется, он врать не умеет. Тогда что-нибудь и придумаем…
«Так просто я тебя, Ромочка, не отпущу, — сказала себе Жанна, разливая из турки в чашки дымящийся пахучий кофе. — Я тоже живая, как твоя дамочка из Никольска! Тоже — женщина!».
Когда на дне маленьких кофейных чашек осталась только гуща, Жанна опять захотела потанцевать.
В танце она прижалась к Роману любовно и откровенно. Обвив его шею руками, дала почувствовать ему свое желание. Он поначалу будто бы сопротивлялся, но сопротивлялся как-то уступчиво. Жанна знала, как его расшевелить, недели изоляции в тюрьме без женского участия — тоже ей в подмогу. Она прижималась к нему еще смелее. Его руки теперь могли очевидно чувствовать, что на ней, под ее шелковым платьем, уже нет белья. В полумраке комнаты по стенам и потолку под музыку плыла, колеблясь, большая слившаяся тень двух целующихся людей.
Огоньки свеч встрепенулись, когда Роман снимал с Жанны через голову ее светлое тонкое платье.
По-прежнему моросил дождь. Огни за окном во влажных потемках казались пронзительными и взволнованными. Бесконечный поток машин по блестящему, омытому Новому Арбату нес на себе красных и белых жуков габаритных огней, иногда среди них пугливо вспыхивал желтый огонек поворотников; искрилась радужным бисером дорогая «Метелица», казиношный вертеп для тусовочной столичной элиты; несколько ресторанов пыжились перехлестнуть зазывными огнями своих конкурентов; фешенебельный магазин терзал светом витрины с манекенами — с гордыми чучелами в нарядном тряпье; вереница огней арбатского моста тянулась через невидимую, провалившуюся во мглу Москву-реку, и дальше — опять вспышки реклам с чужестранными названиями фирм, товаров, каких-нибудь косметических безделушек. Огни, снова огни сталинской высотки со шпилем — гостиницы «Украина»… Ах, Москва! Сколько огней, блеска! Сколько обмана и неукладицы! Сколько одиночества! Беспросветного, холодного, которого и в глухой провинции не встретишь. Ведь и она, Жанна, в сущности — часть этого всеобщего одиночества. От одиночества бежала, к одиночеству причалила.
Роман уехал. Москва за окном умывалась ночным дождем. В полутьме комнаты плавились от огней длинные свечи на праздничном ужинном столе. Жанна сидела на розовом пуфе и прикуривала папиросу с марихуаной. Сделав затяжку, она долго не выдыхала дым и прислушивалась к себе. С первой затяжки она еще не чувствовала дурманного действия наркотика, но уже услышала в себе волнение: в груди, в висках — усилился стук сердца.
Спустя некоторое время Жанна со смехом гасила свечи. Дула на пламя и промахивалась. Огонек полоскался, и Жанне становилось смешно-смешно.
Наконец она справилась со свечками и легла в постель. Одна. На свою широкую кровать. Что-то стала бормотать, долго не могла уснуть, радостно хмыкала и гулила, как младенец.
9
Костер на берегу Улузы, под сенью замолкшего сумеречного леса, затухал. Прогоревшие сосновые хворостины покрылись слоем рыхлого пепла. Под пеплом кое-где еще живет, дышит жаром ядовито-красный уголь. Огня уже мало, только там, где еще плоть древесины не выжгло до конца, взмётываются языки пламени: на острие — алые, в основании — сине-фиолетовые, прозрачные. Этот нестойкий огонь сопротивляется ниспадающей на реку, на прибрежный лес мглистой пелене летней ночи. Этот огонь призрачной краской падает на лица сидящих у костра.
По одну сторону на плащ-палатке сидят Сан Саныч и Валентина, по другую на березовом бревне — Марина и Сергей. Меж двух супружеских пар, сложив под себя ноги, — Лёва Черных. Время сейчас самое отдохновенное: только что отужинали свежей ушицей, выпили, как полагается «под уху», по чарке самогонки «Сан Саныч» — фирменная: Сан Саныч нагнал — и вели непритязательные речи.
— У нас комары здесь — тощенькие, мелкота. В Сибири во какие… — Лёва сжал ладонь, выдвинул руку напоказ. — Возьмешь его в кулак: с одной стороны башка комарья торчит, а отсюда — лапы. А уж паутов в иной год бывает… Оставь собаку на улице на ночь — съедят. Шкуру-то не прокусят, но морду всю изопьют. До смерти замучают.
— Разве ночью пауты летают? Они ж токо — днем, — усмешливо сказала Валентина.
— Там летом ночей не бывает! — живо откликнулся Лёва. — Полярный день настает. В некоторые дни солнце почти за сопки не уходит. Круглые сутки светло… А бывало, пауты лосей съедали. Облепят беднягу так, что он не знает, куда деться. Ревет милый, мечется. В конце концов залезет в воду, куда-нибудь в озеро, и стоит сутками. Даже морду от этой твари в воде прячет. Вздохнет и прячет. Постоит так недельку в воде, голодный, отощает до предела, потом выберется на сушу и помрет. Тут уж мухи налетят.
— А люди как же? — спросила Марина. — Как там они выживают?
— Туземцы — народ привыкший. У них в крови даже противоядие к такому гнусу выработалось. Остальной народ — людишки промысловые, каленые. Они за деньги хошь чего стерпят. Других там нету. — Лёва замолчал.
Повсюду вокруг костра тоже стало как будто тише, задумчивее. Глубже становилась ночь. Лес по округе стоял в безмолвии. Птицы отщебетали, оттрещали сверчки. Ветер потерялся в дебрях, видать, заплутал в потемках и смирился — уснул до рассвета. Река, чуть белесо светившаяся своей гладью, косвенно отражая последний затухающий свет розовато размазанной по горизонту зари, тоже текла дремотно, движения воды почти не заметить.
— Я как-то раз, — встрепенулся Лёва, — с егерями на вертолете поблизости от Туруханска местность облетал. В сталинскую пору там столько лагерей было! Больше, чем у нас, близ Никольска. Туда на баржах везли и везли. — Лёва с веселым вызовом бросил в сторону Сан Саныча: — А ты теперь представь, Саныч, из теплых-то московских квартир да из теплых чиновных кабинетов — на край земли, в верховья Енисея. Зимой мороз — сорок, а летом… Там в паутиный период по большой нужде сходить — горе. — Лёва коротко рассмеялся: — Нет, никогда интеллигенция не простит за такое Сталина! Они и его победу в войне признать не хотят.
— Репрессии не исключительно против интеллигенции были. Военные, крестьянство, неблагонадежные служащие… — отозвался на излюбленный «исторический вопрос» Сан Саныч. — Сталин был узурпатор по природе. Тиран по самой сути своей. Для таких даже вера и национальность роли не играют. Окажись он правителем в Китае или в Индии, так же бы гноил людей в лагерях, невзирая на расу.
— Социализм рухнул, так про Маркса сразу все забыли. Отбродил призрак по Европе, — усмехнулся Лёва. — Про Ленина — еще десяток годков, и тоже все перезабудут. Экий мечтатель: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Сейчас, прибежим… А вот Сталин — деятель гениальный, практический! За ним — мировая держава! За ним — победа! — Лёва говорил увесистыми, расчлененными восклицаниями.
— Стравливать своих врагов мастерски умел. В этом ему не откажешь, — кивнул Сан Саныч.
Сергей, как правило, сторонкой обходивший их витиеватые споры, сейчас ввязался:
— Мужики, вы чего? Сталин да Сталин… Мне, по правде сказать, стыдно за нас, русских, когда мы этого грузина возвышаем! Вроде мы неполноценные какие-то. — Сергей стал прикуривать сигарету от головешки. Все следили за ним, наблюдали, как вполупотьмах разгораются, набухают красные крохи табака. Покуда молчали: ясно, что Сергей мысли своей не закончил: — Нынешние кремлевские пройдохи графу «национальность» в паспорте отменили. Но по жизни-то национальность отменить нельзя! Грузин по трупам дошел до власти в России. Возомнил себя отцом народов. Захотел слепить новый строй. Что ему русские люди при этом? Лейся, кровушка! Беломорканалы, коллективизация, храмы, разрушенные по всей стране… А начало войны? Когда немцы десятками дивизий нашу границу пересекли, Сталин что, войсками руководил, оборону налаживал? Он спал! Как в армии говорят: харю мочил…
— Так он же в договор с Германией верил, — заступился за вождя Лёва.
— Верил? — ухватился за слово Сергей. — Сам любого сдаст, любому пулю в затылок пустит, а такой бестии, как Гитлер, верил? Всю страну подставил, черножопый… Помню, отчим Григорий Степанович рассказывал, он подростком войну на Украине встретил. Отец у него летчиком был. Так их воинскую часть, их аэродром, десятки самолетов, склады — немец в первый же день в прах обратил. Миллионы людей полегли в первые недели наступления немцев, еще миллионы в плен попали. Заводы, города — всё в руинах! Война на четыре года растянулась. Куда глядел верховный? Вся его гениальность в том, что без сердца и без жалости правил. А войну заканчивал? Опять миллионами жертвовал. Лишь бы скорей — победителя не судят! Жег русского человека сколько хотел. А мы ему осанну поем. Эх, до чего ж мы простодыры! Перед инородцем, перед тираном с Кавказа колени преклоняем. Сами из себя стадо делаем. Как будто только и ждем, когда какой-нибудь ирод на нас хомут наденет… Конечно, из истории и этого зверя не вычеркнешь. Но в пример приводить — себя позорить. Чурка для русской жизни — зло! Хуже любого славянского дуболома.
— Надо ж, как ты разошелся, — удивился Сан Саныч.
— Ты, Серёга, похлеще евреев Сталина-то костеришь! — засмеялся Лёва. Удержаться от возражений он не мог, вытянул ближе к костру веселый рыжий нос: — Сталин не только среди русских порядок держал. Он и на родном Кавказе быстренько всех — к ногтю. С той же Чечней влёт разобрался. А мы теперь в чеченском дерьме который год купаемся.
Марину, сидевшую рядом с Сергеем, бесконечный мужиковский разговор «про политику» почти не трогал, но упоминание про чеченцев аукнулось раздражением.
Много раз она требовала от себя забыть Руслана, его ненавистный голос «э-э, красавица…», его мерзкого брата Фазила, забыть страшные морщины старика Ахмеда. Но гадкий вкус угощенческого коньяка Руслана, огонек зажигалки в руках Фазила, собственная пьяная тень на курортной аллее не хотели отступать, не вытравились даже радостью встреч с Романом. Если ей случалось теперь на улицах Никольска встретить бородатого кавказца, то опять прожигали воспоминания. Она коробилась, презрительно отворачивалась от встречного, словно они, все эти «черные», ухмылисто и злорадно глядели на нее и знали, кем и как она попятнана.
Она сейчас чувствовала, как пылают у нее от досады, от ярости щеки; благо в потемках с отсветами костра этого никому не различить.
— Хватит вам! — вспылила Марина. — Все уши прожужжали про эту Чечню. Телевизор, радио, газеты — только об одном. Отделили бы ее от нас или сбросили бы ядерную бомбу!
Она поднялась с бревна и пошла в сторону реки. К тому месту, где воткнулась носом в песчаную косу берега Лёвина лодка, простенькая, деревянная плоскодонка. Сергей направился следом за Мариной.
Разговор у костра стал разваливаться.
— Давайте-ка спать. Вам с утра — ни свет ни заря, — ворчливо заговорила Валентина. — Выдумали тоже рыбачить сетями. Вот поймает рыбнадзор. Счас люди злы стали. Большого-то браконьера никогда не посадят, а к пустяку-то и присунутся.
— На всё Божья воля, — безунывно изрек Лёва.
— Божья-то Божья, да, видать, не на всё, — с иронией заметил Сан Саныч. — Мне батюшка Александр на днях рассказывал: «Прихожу, — говорит, — в церковь рано, задолго до службы, до прихожан. А церковный сторож спит, храпака дает в две ноздри. Что ж, говорю, ты, братец, спишь? А ежели воры?» — «На все воля Божия, батюшка, — отвечает. — Ежели суждено храму быть ограбленному или спаленному, так и будет. Я не спасу. Меня оглушат или хуже того — убьют. А ежели…» — «Да, брат, на всё воля Божия», — согласился отец Александр. А сторожа-то в тот же день и уволил.
Голоса возле утухающего костра смолкли. Темные силуэты исчезли. Лёва забрался в маленький рукодельный шалаш. Сан Саныч и Валентина — в невысокую, избелевшую от времени палатку. Еще одна палатка дожидалась Марину и Сергея. Они покуда сидели в лодке. В тишине.
Заря уже окончательно померкла, и звезды в небе высыпали кучнее, загорелись ярче. Луна тоже налилась светящейся густой синевой, и Улуза серебряно отблескивала. От ближних к реке вётел на гладь воды падали кустистые тени. На другом берегу, в туманной дымке, будто шатры кочевников, проступали стога сена. А дальше, за пустотой луга, на возвышенности, прорывали тьму редкие огонёчки. Там, на угоре, лежала деревня, там еще кто-то не спал.
Было очень тихо. Улуза катилась смиренно, будто бы прикрывшись идеально разглаженной пленкой, матово-стальной от лунного света. Лишь иногда поверхность реки рябилась — тогда и замечалось течение воды. Проснувшаяся рыбина взбрыкивала хвостом у поверхности или высовывала морду, чтобы глотнуть кислорода, — и по реке стлались утекающие круги. Они скоро разглаживались, и вода опять зеркалилась безмятежно.
Марина подняла голову кверху, посмотрела в самую середину неба, где гуще всего звезд. Как много их! Какие крупные, яркие! Там — там, над морем, — тоже горели яркие, крупные звезды. Господи! как она ждала в первые дни после разлуки звонка от Романа Каретникова! Это были счастливейшие, томительные дни. Дома ожидание было особенное, опасливое: лишь бы Роман не позвонил при Сергее. Она, конечно, не выдаст себя словами, но вдруг выдаст волнением в голосе, краской на щеках. На работе — проще. Возвратившись после отпуска в контору строительного треста, Марина поначалу вздрагивала от телефонных звонков. А уж если телефон трезвонил чуть глуше и продолжительней — звонок междугородный, — у нее всё внутри подымалось на дыбы, она кидалась к аппарату на соседнем столе, на ходу уверяя сослуживцев: «Это, наверно, меня! Я сама возьму!» Сладкое истязание «ждать» имело свой срок. «Ждать» становилось бременем, которое вдохновляло все меньше и меньше, только тянуло и выматывало душу.
Свою тайну Марина между тем держала при себе. Чесался язык, очень чесался — поделиться с подружками или с Валентиной о встречах с московским богачом, в которого влюбилась, с которым готова была сойти с ума и убежать на край света. Но помалкивала. Да и рано ставить точку. Должно ж всему этому быть какое-то продолжение. Должно ж чем-то развязаться. Где-то же есть на земле Роман Каретников, нормальный, здравомыслящий человек, совсем не похожий на подлеца, на подонка, на шизофреника! Пусть он хотя бы в Африке, даже в Антарктиде. Он должен рано или поздно что-то объяснить, сказать хотя бы последнее «прощай».
— Ты чего? О чем так задумалась? — вдруг застал ее врасплох, за мыслями о Романе, Сергей.
— Так. Ни о чем. Про Ленку вспомнила. В первый раз ее в лагерь отправили. Скучает, поди, без нас, — ответила Марина. Немного помолчала. — Не ездите завтра на эту рыбалку. Сердце у меня не на месте. Сетями… Валентина права: вдруг на рыбохрану наткнетесь. Лёва еще зачем-то ружье с собой берет. Говорят, сезон охотничий не открыт. Зачем?
— Не бойся, мы на старицу едем. Сетки у нас так себе, бреднем пройдемся. Здесь совсем клева нету… А ружьё Лёва для форсу берет. У него разрешение есть. И лесничий здешний у него земляк. Из той же деревни, где его мать родилась… Пойдем спать.
Они выбрались из лодки на берег, пошли возле костровища к своей палатке. Сергей обнял Марину. Она покорно прижала голову к его плечу. От его одежды вкусно пахло дымом костра. Может, лучше бы вообще не встречать ей Романа, не знать и не подозревать, что он есть на земле? Может, проще и легче бы жить?
Костер совсем увял. В черной плоти углей еще кое-где шевелились красные червячки. Но ни тепла, ни света от них уже не исходило.
10
Еще до восхода солнца Марина просыпалась и засыпала несколько раз. Сперва ее без умысла разбудил Лёва, пришедший к их палатке поднимать Сергея на рыбалку.
— Не уходи, Сережа, — просительно забормотала она, когда муж стал выбираться из двухместного спальника.
— Не беспокойся, рыбы наловим. Я тебе белых кувшинок привезу, — тихо ответил он и поцеловал ее в лоб.
— Ну не уходи, — пыталась клянчить она и вялыми спросонья руками пробовала задержать Сергея.
Позднее рев лодочного мотора вспугнул сон Марины на несколько секунд. Зачем они туда собираются? Ведь опасно! Однако тырканье движка стало ровным и затухающим; моторка отчалила. Основательно разбудил Марину нудный комар. В то время уже выгоревший желтоватый брезент палатки пронизывало высокое солнце, и было светло и душно. Приставучий комар зудел поблизости. Марина поймала его и тщательно растерла в ладони: «Такой маленький, а уже гад!».
Она раздернула шлицы палатки, выглянула, щурясь от солнца.
— Каша уж готова, — приветно крикнула ей от раскочегаренного костра Валентина. — Иди сперва искупнись. Вода теплая.
Вдоль речного русла золотились блики. Солнце уже нагрело прибрежный песок, и ступать на него босыми ногами было приятно. Марина в купальнике вошла по колено в воду, мягкую, со свежей прохладцей, наклонилась, плеснула из пригоршней на плечи, на спину. В это время послышался негромкий рокот: вдали, на стремнине, замаячило пятно. Лодка.
— Может, наши едут? — крикнула Марина сестре, которая ниже по течению драила с песком эмалированные миски и кружки.
Валентина оторвалась от дел, приложила ко лбу ладонь козырьком.
— Нет. Не они, — сказала уверенно.
— Пора бы им приехать.
— Давно бы пора, — согласилась Валентина, принимаясь опять за мытье посуды.
Тут Марина вспомнила странную, неизвестно откуда навеянную вчерашнюю тревогу по поводу нынешней рыбалки, вспомнила, что поутру ей хотелось удержать Сергея. «Зачем мы их отпустили? Глупые бабы! — самоуничижительно подумала Марина, укорила и Лёву: — Вечно этот шелопут смузыкает на приключения. Ему что, он бессемейный. Броди где попало». Купаться расхотелось: Улуза показалась недружелюбной, затаившей угрозу.
Прошел час.
Затем в бесплодном ожидании истлели еще два часа. И еще два. Солнце миновало зенит, покатилось к западному причалу.
— Если мотор поломался, то на буксир бы напросились. Или на веслах бы уж дошли, — раздумчиво взвешивала Валентина.
— Вдруг с ружьем в лес поперлись? Заблудились? — выдвигала свою версию Марина.
— Да, считай, блудиться-то здесь негде. Таежных лесов поблизости от старицы нету. Что-то стряслось. Не рыба же к ним косяком прет. Неужель где-то загудели в дороге?
— Твой Сан Саныч человек взвешенный, серьезный. Такой загула не позволит.
— Он в одиночку серьезный. В стае мужики — тот же детсад, токо в штанах у них подлиньше…
Марина хмыкнула, рассмеяться не хватило настроения.
В наступившей тишине, по которой временами строчили из травы кузнечики, еще больше скапливалось тревоги. Солнце клонилось к горизонту, и отблески на воде стали красноватыми. Иногда солнце пряталось в толстых облаках, и Улуза тускнела, замирала в предчувствии то ли грозы, то ли бури. Марина лежала на траве ничком, упершись подбородком в сложенные перед собой руки. Смотрела на реку отстраненно, не вглядываясь вдаль. Какая-то беда, казалось, уже непоправимо свершилась, только весть о ней где-то застряла и пока не дошла. Пожалуй, Марина даже бы не поверила, если б ей кто-то сказал, что несчастье миновало Сергея, что он сейчас цел и невредим. Ее болезненные представления о примнившейся беде отрывали от действительности — отрывали настолько, что она уже с тайным и жутким удовольствием представляла себя вдовой… Мысли в диком искусе забегали настолько далеко, что она видела себя в черном платке, в трауре, у гроба мужа, рядом с ней Ленка, которая трет кулачками свои слезные глаза. В душу приходило раскаяние за вину перед Сергеем, хотелось вдоволь исказнить себя, настрадаться, выплакаться. Зато потом, искренно отмучившись, пройдя чистосердечные страдания, обрести независимость от мужа; как положено, год честно повдовствовать и наконец связать судьбу с Романом, никого не предавая…
— Есть будешь? Целый день без обеда сидим, — спросила ее Валентина.
— Не хочу, — слегка осипшим, скорбным вдовьим голосом ответила Марина.
— Давай хоть чаю попьем. Чего из-за них голодать! — Валентина повесила на треногу над костром походный котелок, бросила на головешки сушняку. — Если живы — никуда не денутся, приедут. Если не живы — знать, тому и быть, воля Божья! — сказала она громко, уверенно. И тут же осеклась: — Через час не появятся — пойдем до ближайшей деревни, попросим мужиков на лодке до старицы съездить.
Марина не откликнулась, по-прежнему лежала, упершись подбородком на руки и глядела на белый песчаный мысок, который омывали мелкие речные волны. Валентина подула на тлеющие головешки — сосновые сухие ветки вспыхнули. Запахло смолистым дымом. Длинная рыжая хвоя быстро занялась летучим пламенем, затрещала. Сквозь этот треск и просочился гул с реки — дробно-частый, оборотистый шум двигателя.
— Едут! — тихо воскликнула Валентина.
Марина стремительно поднялась с земли, но тут же замерла. Она не могла поверить в долгожданный нарастающий шум над рекой.
— Они едут! — убежденно повторила Валентина и широко пошагала к берегу.
Ни радости, ни облегчения в душу не пришло — Марина застывше стояла на месте. Она не могла поверить, что все ее страдания так бесполезно кончились. Значит, всё впустую? Всё благополучно? Значит, нет никакого смысла в том, что изводила себя в ожидании? И конец всем горьким и сладким расчетам на будущее?
Моторка приближалась, отчетливо стала видна троица мужиков. Наконец, лодка круто забрала к берегу и с заглушенным мотором направилась к песчаной косе. Шурша днищем по песку, вползла по инерции носом на берег. Марина еще не разглядела Сергея, но вдруг с ужасом догадалась: он пьян! Еще не различив его лица, она живо увидела присущую хмельному мужу краснину лица, осовелость глаз, полуоткрытый рот, неловкие движения рук — как грабли…
Лёва, вероятно, для самообороны, остался в лодке, склонил курчавую голову к мотору, стал над ним копошиться. Сан Саныч и Сергей неуклюже выбрались на берег. Валентина громко, на высокой ругливой бабьей ноте стала отчитывать мужа:
— Вы чего обещали? Когда собирались приехать? Вечер уже! Скоро солнце зайдет. Бросили нас, двух баб… А вдруг приехал бы кто? Пристал бы к нам? Шпана бы какая… Нализался, как свинья! Глаза твои бесстыжие!
— Ну чего ты, Валь, завелась? Задержались маленько. Родню у Лёвы встретили, — замедленно-пьяным голосом оправдательно лепетал Сан Саныч.
— Родню? А я тебе не родня? Чужая? Сволочь ты хорошая! А еще учитель! — чихвостила Валентина.
Марина, не сходя с прежнего места, глядела в костер. Но костра она не разбирала. Каждая клетка в ней дрожала от брезгливости — к ней, шлепая высокими голенищами болотных сапог, с елейно-виноватой улыбкой на пьяном небритом лице, которое она видела не видя, приближался Сергей. «Я-то… переживала… Из-за кого? Боже, из-за кого! Белых кувшинок он привезет. Предаст, бросит. На стакан вина променяет!» — лихорадили ее горькие чувства.
— Ты не сердись, Марин. Вышло так, — разводя руками и растягивая слова, заговорил Сергей. — Нас там, понимаешь…
— Я всё понимаю! — Она дерзко и презрительно взглянула ему в лицо и еще больше ужаснулась: «Из-за кого?» — стучало в ее висках. Он показался ей отвратен: лицо обрюзглое, небритое, веки красные, набухшие, голос хрипучий, прокуренный.
— Да чего ты, не сердись, — снова замямлил Сергей, подшагнул к Марине, протянул руки. — Грех невелик.
— Уйди! — Она вся задрожала, губы запрыгали. Она еще острее, глубже увидела сейчас мужа, пьяного, с грязными руками, с чумным взглядом… «Да! Да! Да! — мысленно кидала она ему в лицо. — Я любила Романа! По-настоящему любила Романа! Я и теперь его люблю! И буду любить! А тебя…» До нее дошел запах сивушного перегара, запах горького табака, и тут что-то внутри совсем сорвалось с катушек, сошло с рельсов, полетело в тартарары. — Я ненавижу тебя! Ненавижу! — Со всего размаху она врезала ему пощечину, сильно, так что он пошатнулся и чуть не свалился с пьяных, ослаблых ног. — Уйди! Уйди-и! Уй-ди-ии! — уже не говорила — почти шипела в истерике Марина. Но вопреки своему «уйди!» бросилась прочь сама. От костра, от палаток, от лодки, от людей. Бежала вдоль берега неизвестно куда, что-то шептала трясущимися губами.
* * *
Причина, по которой мужики заторчали на рыбалке, оказалась проще пареной репы. На старице поставили в нескольких заводях небольшие сетки, прошлись с бреднем, впоперек перегораживая неширокое обмелелое русло. Поймали двух подлещиков и одного окунька. Бросили зазря мочить ноги, стали складываться в обратный путь. Тут подвернись пара мужиков, шагают с удочками, тоже уже отрыбачились: улову — три ерша. В одном из мужиков Лёва и признал родственника, однофамильца, двоюродного брата матери. Он жил по-прежнему в родной деревне, поблизости. С ним оказался его сын, военный, подполковник, приехавший погостить. Лёва и того и другого не видал «годов сто»… Сперва выпили бутылку самогона, которую прихватил с собой Сан Саныч. Потом съездили за литрой водки в деревню, что была ближе всех, порешили из совместного улова сварганить уху на берегу. Снова сгоняли в деревню в магазин: денег у отпускника военного пока хватало. Выпили, испробовали ухи из скудного улова, пора и восвояси. Да случись незадача: мотор на лодке забарахлил. Пока искали инструмент, пока продували карбюратор, пока спорили спьяну, в чем поломка, — время шло. Под конец захотели взять еще бутылку: на самый последний посошок. Время опять шло. Благо ружье, которое захватил Лёва, не расчехляли и по пустой посуде дробью не шпарили. А что бабы будут ворчать и ругаться… Так им разве когда угодишь? Они волю мужикам всегда норовят срезать!
Мужикова неурочная пьянка и ответная выходка Марины все планы расклеили. Молча, без обсуждений, порешили собираться домой, хотя прежде задумывали переночевать на Улузе еще ночь. Становище покидали бессловесно. Даже говорун и шутейник Лёва не раскрывал рта, неся на себе вину закоперщика пьянки.
До города добирались по реке — все на той же лодке. Марина сидела бледная, глядела на померклую к вечеру, струившуюся за кормой воду. После пощечины мужу она сбежала в лес, проревелась. Теперь, со слезами выплеснув из себя горечь, сидела присмирелая, поглядывала на Сергея с опасением. Угрюмый, смурной — ни пьян, ни с похмелья, — он сидел с остановившимся взглядом, словно осужденный после приговора жестокого суда. Марине казалось, что он что-то заподозрил, о чем-то догадался после ее «Ненавижу!» и удара наотмашь. Она впервые всадила ему пощечину.
До дому, с берега Улузы, Марина и Сергей тоже добирались в непробиваемом, тягостном отчуждении. Только они переступили порог — в прихожей зазвенел телефон. Сигналы необычные, растянутые — межгород. Сергей оказался ближе к аппарату, снял трубку.
— Не ошиблись… Добрый вечер… Сейчас. — Он пожал плечами, молча протянул трубку Марине.
Лицо у нее вспыхнуло. В горле запершило от какого-то странного чувства обиды, несправедливости, жалости к себе. Всё выходило вкривь, вкось, не так, не по-людски… Ведь это Роман. Роман, конечно же! Она это сразу поняла. Марина дважды перевернула телефонную трубку, чтобы расправить провод и помедлить. Наконец осторожно приложила ее к уху. Никаких слов произносить в присутствии Сергея не хотелось. К счастью, он ушел из прихожей — быть может, почувствовал свою лишность при этом разговоре. Марина робко промолвила:
— Слушаю.
Чуть позже она торопливо придумывала себе алиби: кто бы ей мог звонить из другого города. Одноклассник Миша Столяров. Он живет в областном центре. Она видела его недавно. Миша Столяров хотел узнать адрес одноклассницы Оксанки — это подойдет! Но придуманного алиби не потребовалось. Они с Сергеем по-прежнему не обмолвились словом. Спать легли врозь, в разные комнаты. Как-то само собой получилось, Марина пришла в детскую, села на пустующую дочкину кровать, тут и осталась на ночь. Всё было исключительным, надломным в этот черный день, даже звонок Романа. Перед сном Марина со страхом, будто все еще кто-то мог подслушать, вспоминала короткий разговор с ним. «Марина, я только сейчас имею возможность позвонить тебе… Послезавтра буду в Никольске. Гостиница „Центральная“. Буду ждать тебя там, в холле, в двенадцать. Тебе это удобно?»
Через день он будет здесь. Господи! Объявился. Не запылился.
(Окончание романа читайте в бумажной версии журнала «Наш современник»)
ДНЕВНИК СОВРЕМЕННИКА
Александр Казинцев МЕНЕДЖЕР ДИКОГО ПОЛЯ
Часть II КИЕВ СДАЛИ. НА ОЧЕРЕДИ МОСКВА?
«Новые люди»
Как и всякая революция, «оранжевая» вдохновлялась мифами. Наиболее привлекательный звучал кратко и энергично: н о в ы е л ю д и — н о в а я в л а с т ь.
К концу правления Кучма исчерпал кредит доверия, его рейтинг не превышал того, что был у Ельцина в 95-м. Янукович, назначенный премьером и официальным преемником, многими воспринимался как соответчик непопулярного президента. Показательно, что добиться публичного успеха (по мнению аналитиков, Янукович выиграл первые теледебаты у Ющенко) он смог только тогда, когда дистанцировался от своего шефа.
На первый взгляд общественное недовольство на Украине представляется иррациональным. В 2004 году экономика росла стремительно. 13 процентов — рекорд в Европе, если не в мире. И это не только данные официальной статистики (которая на постсоветском пространстве слишком часто обслуживает власти), они подтверждены международными экспертами.
Более того, правительству Януковича удалось если не решить, то хотя бы смягчить наиболее острые социальные проблемы. В 2004-м выплатили долги по зарплате (до этого они были хроническими). Пенсию повысили вдвое — сейчас она самая высокая в СНГ.
С другой стороны, рост потому и казался значительным, что начинался с едва ли не минусовых отметок. С 1990 по 1998 год объем промышленного производства сократился в два раза («Феномен Украины: реформы 1991–2004 гг.» под ред. академика А. Ткаченко, Киев, 2004). За годы кризиса было потеряно 12 миллионов рабочих мест. И это при том, что все население Украины — 48 миллионов. 7 миллионов человек вынуждены были искать работу за рубежом («Русский мир», № 2, 2004).
Отчуждению между властью и обществом способствовала и клановая система, сложившаяся на Украине. Чтобы понять ситуацию в соседней республике, русскому читателю достаточно вспомнить, что творилось в России 5–10 лет назад, когда экономику (а отчасти и саму страну) делили на сферы влияния Березовский, Абрамович, Гусинский, Мамут. Точно так же Украина оказалась поделенной между донецким кланом (Р. Ахметов, В. Янукович), киевским (Г. Суркис, В. Медведчук) и днепропетровским (его возглавляет зять Кучмы Виктор Пинчук).
Аппетиты кланов росли, а количество неприватизированной собственности сокращалось. «Львиная доля имущества раздана, — констатировала киевская пресса, — и ключевым вопросом украинской приватизации в настоящий момент является следующий: „Кого и как будем раздевать?“» («Зеркало недели», 27.11.2004).
Классикой жанра стала продажа крупнейшего металлургического комбината Украины «Криворожсталь». Первоначально его стоимость оценивалась в 8 миллиардов гривен. Однако продали его всего за 4 миллиарда, после того как от конкурса была отстранена российская «Северсталь». Комбинат достался консорциуму, представляющему интересы Р. Ахметова и В. Пинчука. Причем, по утверждению того же «Зеркала недели», Ахметову пришлось выплатить всю сумму, а вклад Пинчука состоял в том, что он добился двукратного снижения цены.
Приватизационные скандалы, разворачивавшиеся на глазах всего общества, основательно подорвали престиж власти.
Снять напряжение путем смены элит — полной или частичной — позволяют демократические институты. Для того они и были придуманы и успешно используются на Западе несколько сотен лет. Однако на постсоветском пространстве н е п о м е р н ы е а м б и ц и и и с а м о у б и й с т в е н н а я ж а д н о с т ь победившей элиты заблокировали механизм сменяемости власти. Выборы проводятся регулярно, однако не дают результата, на который рассчитывает народ.
На парламентских выборах 2002 года большинство получила «Наша Украина». Ее успех ничем не угрожал режиму Кучмы — полномочия Верховной Рады до политреформы декабря 2004 года ненамного превышали полномочия российской Госдумы. Но разве может байская по своей сути власть позволить, чтобы оппозиция получила хоть какие-то полномочия? Кучма попросту перекупил депутатов и таким образом обеспечил себе большинство. А заодно заложил в повестку на среднесрочную перспективу сценарий, осуществившийся в конце 2004-го.
Новых людей и новую власть многие ждали. Но н а с к о л ь к о н о в ы м и являются те, кого «Наша Украина» выдвинула на смену режима Кучмы?
Ответ на ключевой вопрос мы найдем в книге известного украинского политолога К. Бондаренко «Система БЮТ, або блок Ющенко — Тимошенко» (Киев, 2004).
Из тройки лидеров один (Ющенко) был назначен Кучмой на должность премьера. Другой (Мороз) возглавлял Верховную Раду. Третья (Тимошенко) активно поддерживала Леонида Даниловича на выборах 1999 года и за свои заслуги получила пост вице-премьера. Ближайший сподвижник Ющенко Анатолий Кинах в свое время занимал кресло премьера, а доверенный советник лидера революции Роман Бессмертный был представителем Кучмы в Верховной Раде.
Особо следует сказать об Александре Зинченко и Петре Порошенко, занявших ключевые посты в недавно сформированной администрации Ющенко. Их извилистая политическая карьера позволяет судить о степени твердости принципов и прочих моральных качествах людей новой власти.
Зинченко был вторым лицом в СДПУ(о) — партии Виктора Медведчука, руководителя администрации Кучмы и по совместительству главы киевского клана. «Помаранчевые» изображают Медведчука злым гением Леонида Даниловича и грозят упрятать в тюрьму за многочисленные прегрешения. Надо полагать, Зинченко полностью одобряет это намерение. А еще в 2001-м он придерживался иного мнения: «Мы идем на президентские выборы 2004 года со своим кандидатом, и этот кандидат — Виктор Meдведчук». Скажут, три года — срок хотя и небольшой, но достаточный, чтобы пересмотреть взгляды. Но в том-то и дело, что Зинченко расстался с Медведчуком и СДПУ в 2003-м — накануне «оранжевой революции»!
В той же СДПУ начинал партийную карьеру Петр Порошенко. Это было в 1998-м. Через два года он создает собственную партию «Солидарность», влившуюся в «Трудовую солидарность Украины». После чего, в 2001-м, вместе с «Солидарностью» вступил в ющенковский блок «Наша Украина»…
В народе о таких говорят: перевертыши. И еще много нелестных, а иной раз и непечатных слов. Кстати, и сам Ющенко в пору своего премьерства не был эталоном верности и принципиальности. Получив в замы Юлию Тимошенко, он переложил на неё руководство экономическим блоком, а когда Кучма отправил её сначала в отставку, а затем и в тюрьму, пан премьер ничего не сделал, чтобы облегчить её положение.
В свою очередь и Юлия Володимировна подобным же образом обошлась со своим благодетелем Павлом Лазаренко. В бытность его премьером она воспользовалась протекцией земляка (оба из Днепропетровска), но когда Лазаренко отставили и подвели под статью, Тимошенко вовремя отстранилась и даже вышла из партии «Громада», которую возглавлял премьер.
Политические метаморфозы Ющенко и его соратников способны поразить даже россиян. А уж мы-то, казалось, видали виды! Во всяком случае, в будущем от победившей команды можно ждать каких угодно превращений…
Для полноты картины добавлю: большинство лидеров «оранжевой революции» успели «засветиться» на руководящих должностях ещё в советскую эпоху, которую они сегодня так яростно обличают. Правда, попасть в партийные функционеры они не успели по возрасту, но в комсомоле, этой кузнице партийных кадров, занимали ключевые посты.
Александр Зинченко работал вторым секретарём ЦК ВЛКСМ — должность союзного значения. Анатолий Матвиенко «кировал» украинским комсомолом. Николай Мартиненко был секретарём Киевского, а Игорь Гринив — Львовского горкома.
Видимо, в комсомоле будущие оранжисты получили не только партийную закалку, но и прошли школу бизнеса. На исходе перестройки многие комсомольские вожаки стали лихорадочно создавать кооперативы, из коих впоследствии вылупились банки и корпорации, включая небезызвестный «Менатеп».
Киевские товарищи не отставали от Москвы. Зинченко ещё в Белокаменной стал одним из руководителей банка «Балчуг». Заручившись поддержкой Михаила Горбачева и Александра Яковлева, он перебрался в Киев, где организовал Фонд имени Пушкина. Затем создал телеканал «Интер».
Анатолий Матвиенко, возглавив в «незалежной» Винницкую обладминистрацию, установил — цитирую К. Бондаренко — «контроль над пограничной территорией, десятком сахарных заводов и спиртовой промышленностью в регионе».
Николай Мартиненко в 91-м стал во главе товарищества «Торговый дом», а с 97-го руководил ЗАТ «Интерпорт Ковель».
Говоря о новых людях и новой власти, сторонники «помаранчевых» противопоставляют свою команду вороватому окружению Кучмы. Поддерживая эту иллюзию, Ющенко, еще будучи кандидатом, подписал «президентский указ» по борьбе с «коррупцией высших лиц Украины». Если бы он предусмотрительно не ограничился в ы с ш и м слоем, ему пришлось бы начать со своего окружения. В том числе с ближайших родственников.
Вновь обратимся к работе К. Бондаренко. Одна из главок посвящена старшему брату Виктора Ющенко — Петру. Упоминается о «причастности Ющенко-старшего к ряду финансовых акций сомнительного характера». В 2002 году его обвинили в том, что, возглавляя фирму «Слобода», он «был причастен к разворовыванию вкладов банка „Украина“».
Не единожды вызывала вопросы деятельность Давида Жвании. Не только ее политическая составляющая (о ней мы говорили в предыдущей главе), но и финансовая. В 1995 году Жвания появился в Киеве как гражданин Кипра, руководитель компании «Brinkford Cons Ltd». На следующий год «Бринкфорд» — уже украинский — прорвался на энергетический (самый богатый!) рынок. А еще несколько лет спустя тогдашний секретарь Совета национальной безопасности Е. Марчук вынужден был инициировать расследование деятельности «Бринкфорда»…
Выразительный список приобретений Жвании помещен в газете «Голос Донбасса» (12.11.2004). Среди них Керченский судоремонтный завод «Залив», Николаевский судостроительный завод «Океан», Запорожский абразивный комбинат и единственный на Украине патронный завод — Луганский. Предприятия приобретены удачливым финансистом за мизерные суммы. К примеру, за «Океан» он заплатил 1,5 миллиона долларов…
Но все это мелочи по сравнению с коммерческой деятельностью Юлии Тимошенко. В 1989 году 29-летняя Юля решает попробовать себя в бизнесе. Трогательная подробность: она одолжила деньги у родителей. Скорее всего, ее авансировал свекор, возглавлявший Кировский райисполком Днепропетровска. В начале 90-х семья Тимошенко создает корпорацию «Украинский бензин» (КУБ). А уже в 94-м КУБ разрастается в энергетическую империю «Единые энергетические системы Украины».
Тимошенко иной раз именуют украинским Чубайсом. Сравнение обидное для Юлии Владимировны. Чубайс пришел на готовое, оседлав государственную корпорацию. Тимошенко своими руками создала энергетический монстр. Другое дело, к а к и м о б р а з о м скромная ссуда свекра всего через п я т ь л е т обернулась сказочным богатством: в середине 90-х под контролем ЕЭСУ «оказалась четверть всей экономики Украины» («Независимая газета», 25.04.2001).
Личных дарований, даже выдающихся, здесь явно недостаточно. Волшебная палочка, превратившая днепропетровскую Золушку в киевскую принцессу, именуется неблагозвучно — административный ресурс.
В начале 90-х КУБ становится м о н о п о л и с т о м по обеспечению АПК Днепропетровской области нефтепродуктами. В середине десятилетия ЕЭСУ получает покровительство земляка Юлии Владимировны — тогдашнего премьера Украины — П. Лазаренко. Когда не помогали личные связи в Днепропетровске и Киеве, Тимошенко смело шла на штурм самых высоких кабинетов зарубежных и даже заокеанских столиц. Не найдя взаимопонимания с главой российского «Газпрома» Р. Вяхиревым, она обратилась с письмом к Б. Клинтону. И дамский угодник т у т ж е включил вопрос о поставках газа на Украину в повестку встречи с Борисом Ельциным («Независимая газета», 25.04.2001).
Высокопоставленные покровители и напор позволяли Тимошенко осуществлять сделки на грани, а зачастую и за гранью закона. Сошлюсь на публикацию в «Голосе Донбасса»: «ЕЭСУ в 1996–1997 годах успешно использовала схемы беспроцентного кредитования концерна госпредприятиями и занималась несанкционированным реэкспортом российского газа… ЕЭСУ в 1995–1997 годах незаконно вывезла из Украины капиталов на 1,1 миллиарда долларов» («Голос Донбасса», 12.11.2004).
С тех пор за украинской пассионарией тянется шлейф судебных разбирательств, дважды приводивших Юлию Тимошенко в тюремную камеру. Что не помешало ей в конце 2004-го стать лидером «оранжевой революции», а в начале 2005-го занять пост премьер-министра.
Принято считать, что уж сам-то В. Ющенко в финансовых махинациях не замечен. Даже его противники в Киеве уверяли меня, что для этого он слишком безалаберен и ленив. Будучи хорошо знакомыми с Виктором Андреевичем, они характеризовали его как лишенного практической жилки сибарита.
Но чтобы вести «жизнь званскую», нужно немало денег. Откуда они?
В донецкой газете «Рикошет» (16.10.2004) я обнаружил рецензию на книгу А. Ланя «Ющенко: история болезни», которая, возможно, подсказывает ответ. Редакция предуведомляет: «Автор книги бывший сотрудник налоговой милиции». Поскольку сам я Ланя не читал (сейчас проще достать американское издание, чем работу, опубликованную на Украине), а пересказывать пересказ — дело неблагодарное, ограничусь выпиской из рецензии: «Автор книги, опираясь на факты, приходит к заключению, что ключевым моментом в формировании и возвышении клана Ющенко стал захват финансового рынка страны. А произошло это всего лишь через полгода после назначения Ющенко председателем правления НБУ, когда он подписал постановление „Об Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ)“. Суть постановления — валютная биржа при Национальном банке, укомплектованная опытными профессионалами и приносящая прибыль государству, в мгновение ока была передана в частные руки. Сразу же после незаконной приватизации валютной биржи Ющенко состряпал несколько документов, обязывающих продавать валюту только на УМВБ. Попросту говоря, он создал монстра, который стал хозяином на валютном рынке. И потек доход биржи в карманы ющенского клана».
Автор рецензии говорит о клане Ющенко. Не преувеличивает ли он? Знакомство со структурой «оранжевой» команды убеждает: это не преувеличение.
В «системе БЮТ» четыре уровня. Политолог Кость Бондаренко так характеризует их: первую группу составляют «родня и доверенные особы. В их функции входит обеспечение особых неформальных контактов с представителями других держав (международный пиар) и получение финансирования из международных фондов». Другая группа — лица, «занимавшие в прошлом государственные посты. В их функцию входит поддержка неформальных контактов со своими бывшими коллегами во власти и лоббирование текущих бизнес-интересов людей, входящих во фракцию „Наша Украина“». Третья группа — финансисты, поддерживающие фракцию. И, наконец, четвертая — пропагандисты, в основном с коммунистическим прошлым, отказавшиеся от своих прежних убеждений и «проповедующие новые, капиталистические ценности с такой же настойчивостью, как раньше — социалистические».
Типичная клановая структура!
Революция, в которую оказались вовлечены сотни тысяч людей, ради которой ее сторонники приносили жертвы, революция, разрушившая институты власти и общественный порядок, поставившая Украину на грань раскола, с т а л а п р и к р ы т и е м для нового клана, стремившегося прорваться к рычагам политической и финансовой власти.
Новые люди? Полноте! Разве что новые претенденты на место у государственной кормушки.
* * *
Политологи уверяют, что сегодня чуть ли не половина государств на постсоветском пространстве стоит в очереди на революции — «хлопковые», «тюльпановые», «сарафановые». Вполне возможно. Co своей стороны, посоветовал бы томящимся в ожидании поинтересоваться — чтобы не терять времени даром — толщиной чековых книжек очередных «народных заступников». А заодно и происхождением накоплений.
Чужая игра
Сразу после поражения «российского» кандидата в Москве пошли разговоры о том, с кем следовало дружить, а с кем нет. Причем выходило, что с Януковичем дела иметь не стоило, а вот с Ющенко, как минимум, следовало поддерживать контакты. Дескать, не такой уж он проамериканский, можно было бы договориться.
Праздные разговоры. Хотя бы потому, что сегодня цена контактов с победителями будет заведомо иной. Но главное даже не в этом, а в том, что подобные толковища свидетельствуют: российская политическая элита так и не поняла, что же случилось с нами на Украине. И почему случилось.
Пересматривать персоналии, или, говоря старинным слогом, перебирать людишек — занятие малопродуктивное. Российскую реакцию на основных игроков предвыборного действа в целом можно признать адекватной. В самом деле, как было идти на контакт с Ющенко, когда его окружают такие люди, как депутаты Тягныбок, призывавший бороться с «москалями и прочей нечистью», и Омельченко, требовавший дать приказ на уничтожение «российского спецназа». И неважно, что спецназа в Киеве не было, важно, что желание пострелять, напиться русской кровушки у г-на Омельченко было.
Да и самого Ющенко Америка не для того двигала во власть, чтобы он разводил политесы с Москвой. Ему, понятно, это было бы небезвыгодно, но кто же в Вашингтоне станет считаться с личными чувствами и политическими расчетами назначенца в диком скифском краю? Ющенко выдвинули для того, чтобы отношения с Москвой осложнять, продвигать НАТО в глубь Евразии, а если получится, то и «оранжевую революцию» в глубь России.
Вспомним операцию по возвышению Саакашвили. Позволю себе процитировать свой материал «Путь Филиппа»: «Самым опасным для России вариантом стало бы использование Грузии для экспорта „революции роз“… Если планы осуществятся, американский ставленник подарит Кремлю такой букет проблем, в сравнении с которым Чечня покажется скромным полевым цветочком» («Наш современник», 2004, N 7).
Саакашвили с поставленной задачей справился. Эстафету передали в Киев.
В этой ситуации убеждать себя: ничего страшного не произошло, Ющенко — неплохой парень, почему бы с ним не договориться — позиция еще более глупая, чем та, что Кремль занял во время украинских выборов.
Если вдуматься, не столь уж алогичной была поддержка Януковича. После неудачного для него третьего тура российские политологи, в том числе известный С. Белковский, утверждали, что другие претенденты могли выступить куда успешней. «Еще в январе 2004 года аналитическими структурами, близкими к Кремлю, был подготовлен список потенциальных кандидатов, которые могли бы успешно сразиться с лидером „Нашей Украины“, — писал С. Белковский. — В списке было 6 человек, среди них: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Радченко, шеф Национального банка Сергей Тигипко, губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий. По совокупности политических достоинств и мифогенных свойств все эти политики могли составить Ющенко достойную конкуренцию, больше того — победа любого из них, в отличие от формально зафиксированного успеха Януковича, была бы воспринята народом Украины как должное и не привела к революционному взрыву» («Независимая газета», 29.11.2004).
Гладко было на бумаге! Но, во-первых, наиболее очевидного кандидата — С. Гриневецкого еще в 2002-м напрочь отвергли представители трех основных кланов — днепропетровского, киевского и донецкого. К слову, я слышал выступление одесского губернатора на Всеукраинском съезде депутатов всех уровней в Харькове 4 декабря 2004 года и помню, как реагировал на него зал — весьма прохладно (Кушнарева, Дейча, донецких делегатов встречали куда горячее).
Во-вторых, Янукович был выдвиженцем самого мощного клана. С этим тоже приходилось считаться.
В-третьих, по мнению социологов, Янукович был «единственным из украинских политиков, чью популярность можно сопоставить с рейтингом Ющенко. По данным социологических опросов, в феврале-марте (2004. — А. К.) Януковича поддерживали от 9 до 14,5 процента граждан Украины, Ющенко — от 22 до 24 процентов. Остальные кандидаты набирают 3–9 процентов» («Независимая газета», 16.04.2004).
Правда, против Януковича действовал «киевский фактор». В сущности, победу Ющенко обеспечило сложение голосов Западной Украины (их недостаточно, чтобы выиграть выборы) с голосами столичного региона. Казалось бы, вот он — просчет партии власти, выдвинувшей Януковича: человек с его обликом, а тем более с его прошлым, не мог понравиться рафинированной киевской интеллигенции. Однако, если поднять историю вопроса, другие претенденты так же не могли рассчитывать на ее симпатии. Киев отдал свою любовь Ющенко с того самого момента, когда тот появился на политической сцене. Еще в 2001-м 63 процента жителей украинской столицы поддерживали премьера Ющенко, при том, что в среднем по стране ему симпатизировало только 43 процента («Независимая газета», 25.04.2001).
Ничего не поделаешь: эффект столицы! На территории бывшего соцлагеря столичные города наиболее вестернизированы. Они ориентируются не столько на интересы собственной страны, сколько на интересы Запада, с коим связаны многочисленными политическими, экономическими, культурными и прочими контактами. Белград, предавший Милошевича, София, Бухарест, Киев, Москва, где на последних президентских выборах немало избирателей поддержало И. Хакамаду, — всюду одна тенденция. Так что дело не в Януковиче. Ющенко олицетворял западный выбор, а «мать городов российских» с жадной надеждой взирает на Запад.
Как видим, в п р е д л а г а е м ы х о б с т о я т е л ь с т в а х у Кремля не было большого выбора. И спорить следует не о том, как он распорядился своими возможностями, а о том, почему мы п о з в о л и л и н а в я з а т ь нам эти самые предлагаемые обстоятельства.
Россия потерпела поражение не тогда, когда ее кандидат уступил американскому ставленнику, а тогда, когда мы отдали Америке и н и ц и а т и в у. Позволили ей выбирать для нас и врагов, и друзей. Причем если первое можно как-то понять (враги, как правило, не результат свободного выбора, а печальная данность), то с друзьями мы, казалось бы, могли определиться сами. Не сделав этого, Россия дала вовлечь себя в ч у ж у ю и г р у. Выиграть в которой по определению невозможно.
Нашим главным союзником в Киеве, лоббистом интересов российского бизнеса и самого Кремля был объявлен Леонид Кучма. Не счесть визитов, которыми за последние два года обменялись главы России и Украины. Кучма в Питере в гостях у Путина, Кучма принимает Путина в Крыму, Кучма презентует в Москве свою книгу, Кучма и Путин принимают парад по поводу 60-летия освобождения Киева. Все эти помпезные мероприятия сопровождались коммюнике, заявлениями, договорами, шумными кампаниями в прессе и на телевидении. Казалось, еще немного — и две славянских страны, возглавляемые побратавшимися лидерами, соединятся в вечном союзе.
Отсвет этой «дружбы навек» озарял преемника — Януковича. Что, без сомнения, повлияло на окончательный выбор Кремля, в середине 2004-го решившего не только недвусмысленно поддержать премьера, но и подкрепить его всей мощью своего державного ресурса, а заодно и авторитетом российского президента, в то время чрезвычайно высоким на Украине.
Но прежде чем говорить о Януковиче, вернемся к Кучме. Тем более что до конца декабря именно он, а не его «наследник», играл заглавную роль в украинской политике.
Был ли Леонид Данилович тем, кем изображал себя последние два года, а именно верным другом Путина и сторонником сближения России и Украины? Теперь, когда звезда Кучмы бесславно закатилась, а сама идея сближения двух крупнейших держав славянского мира похоронена едва ли не окончательно, многие не раздумывая ответят утвердительно. Победители-ющенковцы готовы рассматривать его чуть ли не как наместника Москвы, предателя национальных интересов. А наиболее горячие головы на пике «помаранчевых» страстей и вовсе предлагали отсчитывать историю «незалежной» с декабря 2004-го, очевидно, считая независимость, обретенную в 1991-м, неполной и неподлинной.
Но если взглянуть на историю беспристрастно, то обнаружится: основные идеи, провозглашаемые сегодня Ющенко, были сформулированы Кучмой. И даже более резко и концептуально.
Курс на интеграцию в Европу? Вскоре после избрания на второй срок Кучма выступил в Верховной Раде с посланием, озаглавленным «Европейский выбор. Концептуальные основы стратегии экономического и социального развития Украины на 2002–2011 годы». Привилегированными партнерами были объявлены Польша и Литва. «Речь идет о создании нового экономического пространства — от Черного моря до Балтики, и это открывает перед нами огромные перспективы», — цитировали газеты приближенного к Кучме чиновника («Киевские ведомости», 23.05.2001).
Стремясь в Европу, украинский президент не забывал и об Америке: «Мы с благодарностью принимаем помощь из США, так же как приняли ее из Польши. Должен сказать больше: именно в треугольнике Украина — США — Польша наше государство может быстрее и успешнее решать ряд своих проблем, в частности, связанных с реализацией своих интеграционных намерений» (цит. по: «Континент», № 36. 2001).
Другой ориентир ющенковской Украины — вступление в НАТО — также намечен Кучмой. В мае 2002-го Совет национальной безопасности и обороны под его председательством принял решение о начале процесса вступления Украины в НАТО. Правда, после этого последовал период метаний и маневров, столь характерных для осторожного Кучмы, в результате Киев так и не подал официальной заявки в Брюссель.
Зато в марте 2004-го Верховная Рада ратифицировала Меморандум о взаимопонимании между правительством Украины и штабом верховных главнокомандующих объединенных вооруженных сил НАТО в Атлантике и Европе, в котором оговаривалось право так называемого быстрого доступа войск НАТО на территорию страны. Украина обязывалась предоставлять альянсу для проведения учений, военных и миротворческих операций всю необходимую техническою, информационную, медицинскую и другую помощь («Независимая газета», 19.03.2004). Войска НАТО фактически получили доступ к границе с Россией.
Любопытно, что ратификация Меморандума состоялась в тот самый день, когда Кучма отбыл с очередным визитом в Москву, где его принимали как верного союзника России…
Украина стала одним из организаторов объединения ГУУАМ, созданного на постсоветском пространстве в противовес СНГ. В то же время Кучма согласился возглавить СНГ, заняв символический, но престижный пост.
Однако было бы ошибкой думать, будто хитроумный киевский лидер с одинаковым пиететом относился к Западу и России. Перед Западом Кучма расшаркивался с подчеркнутой вежливостью, нередко граничившей с угодливостью. В отношении России он позволял себе действовать без церемоний.
Всем памятна демонстративно резкая реакция Киева на возведение защитной дамбы в Керченском проливе. Кучма незамедлительно выдвинул армейские части навстречу российским грузовикам, подсыпавшим грунт на косе Тузла. Не раз украинский президент выступал с едкой критикой «имперской» политики Москвы.
Что касается имущественных отношений, то здесь киевские власти не брезговали шантажом, а иной раз едва ли не разбоем. Сегодня уже подзабылась грязная склока вокруг активов бывшего СССР, затеянная украинскими «союзниками». Как известно, в 1991 году Россия предложила «нулевой вариант» раздела советского наследия: она принимала на себя внешний долг СССР и оставляла за собой его активы, включая собственность за рубежом. Бывшие союзные республики согласились. Однако в 1997 году Верховная Рада заявила претензии на часть зарубежной собственности и золотого запаса. Украина подала иск в английский суд с требованием передать ей здание бывшего советского торгпредства в Лондоне. В то же время киевские друзья с трогательной забывчивостью игнорировали проблему советского внешнего долга, действуя по принципу: собственность СССР — нам, а его долги — России…
О воровстве нефти и газа, прокачиваемых по территории Украины, написано предостаточно. Его можно было бы назвать банальным, если бы не колоссальные масштабы: 40 процентов хищений российской нефти совершается на территории «незалежной» («Независимая газета», 14.08.2002). Вопрос не раз выносили на обсуждение глав правительств. Что не мешало воровать по-старому.
Украинские власти всеми правдами и неправдами оттесняли российские компании от участия в приватизации. Тендер по продаже «Криворожстали» стал классическим примером вытеснения «москалей». В то же время предприятия, перешедшие в российскую собственность, попадали под жесткий административный надзор Киева. Так, накануне выборов в правительстве собрали директоров нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих московским фирмам, и пригрозили санкциями, если они не заморозят цены на бензин. Кстати, на Украине и сегодня бензин, выработанный из сибирской нефти, стоит дешевле, чем в России («МК», 14.01.2005)!
Между прочим, администрированием в данном случае занимался не кто иной, как Виктор Янукович. Его же персональными усилиями российская «Северсталь» была оттеснена от конкурса в Кривом Роге. В этом смысле Виктор Федорович может считаться истинным наследником Кучмы — так же, как президент, он проводил антироссийскую политику под флагом «вечной дружбы» с Россией.
Славу «пророссийского» кандидата Януковичу принесли его выступления в защиту русского языка. Однако за два года премьерства он (как и Кучма) не сделал ничего, чтобы придать русскому языку статус второго государственного.
Столь же конъюнктурными были его возражения против вступления Украины в НАТО. После того как «пророссийская» риторика не обеспечила Януковичу победу, он — устами начальника своего избирательного штаба Тараса Чорновила — заявил, что хотел бы видеть Украину в альянсе.
Что касается евроинтеграции, то и она не вызывала возражений Виктора Федоровича. В пору его губернаторства в Донецке представители Донбасса сформировали в Верховной Раде две фракции. Одна из них именовалась «Европейский выбор» («Независимая газета», 18.06.2004).
Каким же образом Кучма, а за ним Янукович оказались в числе союзников России? На каком основании пользовались поддержкой Москвы — экономической и политической? Это особая история. Демонстрирующая, помимо прочего, сколь непродуманна, случайна политика Кремля на постсоветском пространстве. Насколько она зависит от внешних факторов и, соответственно, открыта для манипуляций извне.
История эта, больше смахивающая на спецоперацию западных разведок, началась в 1999 году. Тогда произошло три знаковых события. Был ратифицирован Большой российско-украинский договор, по которому Москва признавала территориальную целостность Украины, окончательно закрепляя за ней Крым, Новороссию, Донбасс и другие территории, исторически тяготевшие к Москве и заселенные в основном выходцами из России. На президентских выборах победу одержал Леонид Кучма. Правительство возглавил молодой финансист Виктор Ющенко.
Некоторые эксперты считают эти события взаимосвязанными. Отсылаю любознательных читателей к «круглому столу» «Какая Украина нужна России» («Независимая газета», 25.04.2001). Пожалуй, это было единственное серьезное обсуждение важнейшей для наших стран проблемы. Тем интереснее мнения участников.
Известный политик и эксперт по Украине Константин Затулин высказал небесспорную, но психологически достоверную догадку, что Кучма был необходим Западу для того, чтобы решить территориальные проблемы с Россией. «Я считаю, — заявил Затулин, — что одно из главных его дел — то, что был подписан и ратифицирован известный договор. Отношения с Россией на том этапе должен был налаживать человек, который по ментальности своей, по происхождению близок к России. С тех пор Западу Кучма не нужен в принципе, он избрался в 1999 году по инерции».
Отдавая должное психологическому чутью эксперта, все же замечу — последнее его утверждение вряд ли справедливо. В 1999 году американский кандидат Ющенко еще не мог рассчитывать на широкую поддержку избирателей. Директор банка, пусть и Национального, — должность не публичная. Ющенко попросту не знали. Его следовало «раскрутить», а для этого назначить на второй по значению пост в государстве. Вспомним и то, что в 1999-м Кучме противостоял коммунист Симоненко. Поэтому ставка Запада на Кучму была единственно возможной.
Запад поддержал действующего президента, но с условием — Ющенко станет премьером. Об этом на «круглом столе» открыто говорили украинские политологи. И Кучма, на дух не переносивший Ющенко, его утвердил. Тем самым открыв Западу возможность для циничного, но, казалось, вполне осуществимого маневра: на следующий год после выборов Кучму планировали отправить в отставку, а Ющенко сделать президентом.
Понятно, Леонид Данилович с подобным развитием событий согласен не был. Но повторю: американцы действовали — и действуют! — на Украине без всяких церемоний, как и следует, по их мнению, вести себя в диком скифском краю.
Когда президент стал упираться, возникло «дело Гонгадзе». Лидер соцпартии А. Мороз с трибуны Верховной Рады заявил, что Кучма причастен к гибели оппозиционного журналиста. Любопытно, что наш «друг», пытаясь оправдаться, хотел направить следствие по «русскому следу» — дескать, Гонгадзе взял билет до Смоленска, там его и следует искать («Известия», 4.03.2005). Так бы и повесили это грязное дело на Россию, но грянул «кассетный скандал». Майор президентской охраны Н. Мельниченко опубликовал записи разговоров в кабинете Кучмы, из которых явствовало, что президент просил подчиненных приструнить журналиста. К тому времени Мельниченко уже бежал на Запад, откуда, судя по всему, и была инициирована кампания.
В феврале 2001 года в Киев приезжает делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, члены которой делают вывод о «недемократическом пути развития Украины». Обсуждается вопрос о приостановке ее членства в Совете Европы. Журналисты из авторитетной организации «Репортеры без границ» выступают за исключение Киева из всех европейских структур.
Как видим, тактика, принесшая успех в 2004-м, была опробована тремя годами ранее. Как и в минувшем году, демарши строгих европейцев сопровождались «народными выступлениями». Поводом стало возложение Кучмой венка к памятнику Тарасу Шевченко. Т. Чорновил (да-да, тот самый будущий сподвижник Януковича!) сорвал ленту с венка, а его друзья топтали цветы, принесенные президентом, крича, что тот не имеет права примазываться к славе украинского национального гения. Началась потасовка, едва не закончившаяся штурмом Администрации президента. Нa Крещатике и у Верховной Рады впервые появились палатки «страйкуючих».
Позицию Запада взялся озвучить небезызвестный Джордж Сорос. Он прямо заявил: Кучма должен уйти в отставку, а полномочия передать Ющенко.
Однако в 2001-м оппозиция была разрозненной, опыта уличных выступлений не имела. Кучма предпринял ряд хитроумных маневров, чередуя уступки с угрозами. Организатор уличных столкновений глава УНА-УНСО Шкиль был арестован, в Верховной Раде президентское большинство развернуло атаку против Ющенко; с другой стороны, со своих постов были смещены силовые министры, а Юлия Тимошенко, два месяца проведшая в тюрьме по обвинению в коррупции, вышла на свободу.
Тогда же, в попытке вернуть милость Запада, Кучма заговорил о евроинтеграции и занялся выстраиванием треугольника Украина — Польша — США.
Но американцы отказались сменить гнев на милость. В 2002 году они обвинили украинского президента в тайных поставках оружия Саддаму Хусейну. Обвинение звучало ужасно и могло стать для Кучмы началом конца. Он решил пойти ва-банк и заявил о готовности вступить в НАТО, но вместо горячего приема столкнулся с холодным равнодушием американцев и бурным возмущением Кремля.
Тогда-то и наметился крутой разворот на Восток. 12 февраля 2002 года Кучма встретился с Путиным в Днепропетровске, и речь впервые зашла о стратегическом союзе. Какое-то время украинский лидер еще пытался маневрировать — в мае он уравновесил днепропетровский саммит встречей с Квасьневским и Адамкусом, а затем, махнув рукой на «многовекторность», стал все более явно склоняться на сторону Москвы.
И то — стремительно приближались президентские выборы, на которых Кучма должен был решить вопрос не только о преемственности власти, но и обеспечить себе и своему клану сохранение экономического и политического влияния. 2004 год был отмечен его лихорадочными усилиями добиться от Москвы одобрения своего преемника.
А что же Москва? Вот мы и добрались до сердцевины проблемы. В условиях, когда Запад фактически вытолкнул украинского лидера из сплоченного круга мировой элиты, от Москвы зависела и судьба Кучмы, и судьба его наследника, и судьба Украины. И, конечно же, судьба самой России, для которой стратегическое партнерство с Киевом имеет жизненно важное значение.
Как же Путин распорядился неожиданно открывшимися возможностями? А никак! До середины 2004-го Кремль делал вид (или, что еще хуже, и вправду считал), что для нас проблемы украинских выборов не существует. Это, мол, внутреннее дело Украины.
Еще на «круглом столе» в «Независимой газете» участники с тревогой говорили, что «американский посол ежедневно встречается с основными политическими игроками, отрабатывая свои жесткие американские интересы», а российские контакты в Киеве эпизодичны и случайны. «У вас отсутствует вовлеченность в сегодняшний момент, который в значительной мере может определить, как будет дальше развиваться ситуация на Украине», — утверждал киевский политолог М. Погребинский. С ним соглашался К. Затулин: «Самая главная проблема, которую я вижу перед Россией, — это то, что нет своего кандидата, он не выращен».
Добавлю, московские визитеры посещали исключительно президентскую администрацию. Похоже, в Кремле и мысли не допускали, что пресловутый административный ресурс может дать сбой и на выборах 2004 года победит кандидат от оппозиции.
Позволю себе краткое отступление. Весной 2001 года, в пору уличных волнений в Киеве, я побывал на Украине. И помню, с каким жадным интересом на меня накинулся лидер украинских коммунистов П. Симоненко. Интерес заключался в том, чтобы, воспользовавшись беседой с московским журналистом, донести до российских властей готовность сотрудничать, невзирая на различие идеологических позиций. По сути, глава КПУ предлагал себя Кремлю в качестве партнера.
Это можно было бы счесть его личной проблемой, но в то время за коммунистов готовы были проголосовать 19 процентов избирателей — в два с половиной раза больше, чем за партию Ю. Тимошенко, и в четыре раза больше, чем за партию В. Ющенко (киевская газета «Сегодня», 23.05.2001). Если бы Россия поддержала тогда Симоненко, КПУ могла выиграть выборы в Верховную Раду в 2002-м и стать основной силой на президентских выборах-2004.
Особо подчеркну — нужна была д о л г о в р е м е н н а я работа с привлечением серьезных политических, финансовых, информационных ресурсов. А не «ударные усилия» по раскрутке кандидата в течение нескольких месяцев. Для сравнения: грамотно работающие американцы начали продвигать Ющенко з а п я т ь л е т до выборов.
Как бы то ни было, свою функцию я выполнил: опубликовал беседу с П. Симоненко в статье, озаглавленной «Как слышите, Владимир Владимирович?» («Наш современник», 2001, № 7). Владимир Владимирович не услышал…
Разумеется, публикация в не самом тиражном издании могла пройти мимо внимания его референтов. Дело не в этом, а в том, что в е д у щ и м у к р а и н с к и м п о л и т и к а м приходилось прибегать к помощи случайных собеседников в попытке хоть как-то докричаться до Москвы.
Ни в 2002-м (год выборов в Верховную Раду), ни в 2003-м Кремль так и не сделал ставок. И лишь летом 2004-го Путин после долгих колебаний согласился поддержать Виктора Януковича.
В принципе, колебания эти вполне объяснимы. Мы говорили о «плюсах» премьера. Но были и «минусы». Янукович не проявил себя как яркий политик. Он — типичный хозяйственник, «завхоз», а для того чтобы «разрулить» непростую ситуацию на Украине, требовалась политическая хватка. Премьер не продемонстрировал желания идти навстречу российскому бизнесу. Он жестко лоббировал интересы донецкого клана, а надо сказать, что русскоязычный, эмоционально тяготеющий к России Донбасс в плане экономическом является соперником Москвы. Наконец, политически двусмысленными были фигуры из ближайшего окружения премьера — недавний союзник Тимошенко и Ющенко западенец Тарас Чорновил и пресс-секретарь Анна Герман-Стецив, подсаженная Януковичу прямо из офиса радиостанции «Свобода» (чье вещание в начале 2004 года на территории Украины было приостановлено Кучмой).
И все же к президентским выборам сомнения были преодолены, и Москва начала «вкладываться» в Януковича с удвоенной силой, видимо, желая наверстать упущенное время. Как уже отмечали политологи, эта навязчивость повредила «пророссийскому» кандидату — избиратель не любит, когда на него откровенно давят.
Но главная беда даже не в этом. Янукович не был с а м о с т о я т е л ь н ы м выбором России. Кучма подсунул его Москве так же, как двумя годами ранее Запад толкнул в наши объятия самого Кучму. Строить на такой непрочной основе долговременные союзы по крайней мере опрометчиво.
Тем более что вскоре выяснилось — Кучма уходить на покой не собирался! После второго тура он повел собственную игру — столь безответственную, что здесь уместнее говорить не о политических расчетах, а скорее о психических отклонениях.
Отказавшись от собственного всесторонне обдуманного выбора, позволив навязывать нам союзников со стороны, мы оказались з а л о ж н и к а м и амбиций украинских кланов — провинциальных, недальновидных, несговорчивых — и фантастических планов полубезумного властолюбца.
Кучма предал и погубил Януковича. Когда после объявления результатов второго тура «помаранчевые» вышли на улицу, президент — и только президент! — мог принять трудное, но е д и н с т в е н н о л е г и т и м н о е в данной ситуации решение. Поручив Верховному суду без промедления разобраться со случаями фальсификаций, он был обязан пресечь уличные протесты. Особенно после того, как оппозиция начала изгонять губернаторов и назначать на их место своих ставленников. Опыт усмирения уличных волнений у киевских силовиков имелся: достаточно было задержать вожаков, после чего вытеснить толпу с Майдана было делом техники. Не требовалось даже прибегать к чрезмерному насилию (что впоследствии могло привести к международному уголовному разбирательству), вполне хватило бы средств, используемых в подобных случаях в любой западной столице.
Но Кучма держал паузу. Анализируя его поведение, политологи предположили, что он сознательно подрывал позиции своего ставленника. Чорновил с горечью заявил: «Расчет был сделан на то, чтобы, противопоставив Януковича Ющенко, спровоцировать раскол страны, противостояние, массовые беспорядки. После чего должен был появиться „весь в белом“ Кучма-миротворец. Планировалось, что в искусственно созданной кризисной ситуации и собственный народ, и Россия, и Запад попросили бы Кучму остаться у власти» («Независимая газета», 8.12.2004).
Если такой сценарий действительно имел место, то он свидетельствует о вопиющей безответственности бывшего украинского президента. И недальновидности, что для политика едва ли не хуже, чем безответственность. Оппозиция воздержалась от авантюр, которые могли бы спровоцировать массовые беспорядки (Тимошенко, призывавшая к блокаде железных дорог, аэропортов и автомагистралей, оказалась в одиночестве). Янукович и донецкий клан, заподозрившие «двойную игру», отозвали своих сторонников из Киева. Создать взрывоопасную ситуацию не получилось.
Запад наотрез отказался иметь дело с Кучмой, что почему-то явилось для него сюрпризом. «НГ» поместила выразительную зарисовку совещания в резиденции президента: «…За время его проведения президент несколько раз, извинившись, выбегал к телефону. Сидевший рядом Янукович провожал его расстроенным взглядом. С каждым разом Кучма становился все мрачнее, а тон его заявлений — все спокойнее и лояльнее по отношению к оппозиции… Неизвестный собеседник Кучмы, позволяющий себе отвлекать президента в любое время, звонил и во время заседания Совета национальной безопасности и обороны. Интересно, что после общения с ним в понедельник президент не обнародовал подготовленное решение о введении в стране чрезвычайного положения. Вместо этого неожиданно прозвучал призыв к миру, согласию и уступкам» («Независимая газета», 30.11.2004).
Кто был этим могущественным собеседником, журналистам выяснить не удалось. Зато в прессу просочились сведения, что к уступкам Запад побудил Кучму проверенным способом: «Как только… возникла угроза потери зятем президента всех капиталов и счетов в зарубежных банках, окружение Кучмы стало открыто подыгрывать Ющенко» («Независимая газета», 8.12.2004).
Но и поверженный, Кучма все еще цеплялся за власть. У него в запасе имелся второй сценарий. О нем поведал российский политолог С. Белковский: «Выдвигая Януковича в качестве фальшь-панели кандидата в президенты, он сподвиг оппозицию на конституционную реформу — в обмен на сдачу Януковича и отказ от дальнейшей борьбы с Ющенко» («Независимая газета», 9.12.2004).
Действительно, уже в последние дни своего правления Кучма сумел провести в Верховной Раде политреформу, перераспределяющую власть от президента к премьеру. Формально он достиг того, о чем мечтал: глава кабинета получал полномочия, сопоставимые с президентскими. Кучма сам собирался ими воспользоваться, пересев в премьерское кресло. Однако как раз этой мечте не суждено было осуществиться. По иронии судьбы хитроумная интрига упрочила положение злейшего врага Леонида Даниловича — Юлии Тимошенко.
Другое дело, что усиление ее позиций не обещает спокойной жизни Украине и в будущем. Победившая элита уже успела доказать, что она столь же амбициозна и безответственна, как и проигравшая. Премьерский пост Ющенко пообещал сразу четверым: Морозу, Порошенко, Кинаху и Тимошенко. Удовлетворив Юлию Владимировну, он обманул остальных претендентов.
В свою очередь, Тимошенко в последнее время уже не скрывает самых смелых амбиций, так что скорее всего она столкнется с Ющенко в борьбе за руководство Украиной.
Кто знает, быть может, изумленному миру еще предстоит увидеть «римейк» грузинских событий, где противостояние лидеров «революции роз» Саакашвили и Жвании окончилось странной смертью премьера. Или же в Киеве уйти придется президенту? Не случайно газета «Франс-суар» со ссылкой на более чем солидный источник — МИД Франции — утверждала, что таинственным отравителем, несколько месяцев подкармливавшим диоксинами лидера «помаранчевых», была обольстительная пани Юля (цит. по: «МК», 26.01.2005)…
Перманентная неустойчивость ситуации на Украине — прямое следствие «недоразвитости» местной элиты. Киевский политолог В. Малинкович на «круглом столе» «Какая Украина нужна России» открыто признавал: «Украинская элита не обладает еще долгосрочным видением, не способна к планированию собственного развития на перспективу». Именно поэтому она не в состоянии договориться — в отличие от российской, также не блещущей интеллектом и не отличающейся ответственностью, но по крайней мере понимающей, что для обеспечения спокойной и сытой жизни лучше договариваться, чем участвовать в перманентной войне всех против всех.
Тем более, зная о специфике украинской элиты, Кремлю не следовало полагаться на киевских коллег. Российское руководство должно было само определить своего кандидата. Причем не обязательно из команды действующего президента. Ведь, как показали выборы, связь с Кучмой воспринималась как о т я г ч а ю щ е е обстоятельство, а оппозиционность автоматически прибавляла голоса кандидату.
Приходится признать, что единственно вменяемую политику на Украине проводил Запад. С самого начала он жестко преследовал собственные цели, безо всяких сантиментов отказываясь от поддержки фигур, отыгравших роль, и делая ставку на тех, кто подходил для решения новых задач.
Некоторая двусмысленность была свойственна и западной позиции. Она касалась перспективы вступления Украины в Европейский Союз. Запад поддерживал эту иллюзию в период выборов, и «евроинтеграция» стала козырной картой оппозиции. Однако сразу после победы Ющенко ему объяснили: ни на что, кроме присоединения к так называемой «Программе добрососедства», Украина в ближайшие годы рассчитывать не может. «Украина, — уточняет „Файненшл таймс“, — станет всего лишь второй (после Молдовы) европейской страной, охваченной рамками программы. Остальные ее участники — Марокко, Тунис, Иордания, Израиль и Палестинская автономия» (ВВСRussiаn.com).
Наши соседи, засобиравшиеся было в Европу, вернулись к тому, с чего начинали, когда Романо Проди в бытность председателем Еврокомиссии заявил: «То, что украинцы чувствуют себя европейцами — это проблема их собственной самоидентификации» («Пять с плюсом», № 1, 2002).
Это даже не проявление «культурного расизма» — традиционной подозрительности и враждебности, с которой Запад воспринимает православных славян. Отторжение и впрямь существует: до сих пор н и о д н а православная страна не принята в ЕС. Однако в данном случае следует говорить о препятствии иного рода: в ближайшее время должны начаться давно запланированные переговоры о вступлении в Евросоюз Турции. Это столь же крупная и, увы, столь же экономически отсталая страна, как и Украина. Благополучная Европа просто не может позволить себе открыть границы с р а з у д в у м а у т с а й д е р а м, членство которых грозит резко ухудшить общую экономическую ситуацию.
Украине придется ждать своей очереди десятилетиями. Собственно, об этом могли бы догадаться люди, мыслящие чуть более трезво, чем «возбужденные» на Майдане. И разумеется, об этом д о л ж н ы б ы л и з н а т ь профессиональные политики. Они и знали — но молчали! И только теперь Ющенко начинает готовить почву для отступления: «Мы нуждаемся во всем этом (рыночных реформах. — А. К.) независимо от того, вступим мы в ЕС или нет» (InoPressa.ru). Во время «оранжевой революции» он таких оговорок не делал.
Приманивая доверчивых славян несбыточной мечтой о вступлении в Европу, Запад если кого и дурачил, то других — не себя. В отличие от украинцев, которые и сами обманывались, и другим позволяли себя обманывать. В свою очередь дурача и «разводя» Россию.
В результате в выигрыше оказался Запад. Проиграли Украина (и поделом!) и Россия — для нее это поистине «в чужом пиру похмелье»!
Потери России
«Украинский кризис может быть последней решающей битвой между Россией и Западом».
«Вашингтон таймс»Наконец-то вернулись к России! Далековато мы зашли в украинских штудиях. Но если в предыдущих главах столь много говорилось о событиях в Киеве, то лишь потому, что они имели ключевое значение и для нашей страны. От исхода противостояния на Майдане зависел ответ на вопрос о влиянии России, границах этого влияния, о ее способности экономически интегрировать и политически возродить пространство бывшего Союза.
Не слишком преувеличивая, можно сказать, что рубеж обороны Москвы в декабре проходил по берегу Днепра. Теперь эта линия прорвана…
В «помаранчевые» дни в киевской прессе появился примечательный анекдот. «После того как Верховная Рада признала недействительными результаты президентских выборов в Украине, бундестаг признал недействительной победу над Германией в 1945 году. „В ходе боевых действий имели место многочисленные нарушения“, — аргументировали свое решение депутаты. Представители ЕС согласились с решением бундестага, признав, что лучшим выходом было бы проведение Второй мировой войны повторно до конца этого года» («Сегодня», 2.12.2005).
В преддверии 60-летнего юбилея Победы война действительно переиграна. Россия вытеснена из Европы, отсечена от континентальных коммуникаций, изолирована в степях и дебрях Евразии.
Фактически мы вернулись к ситуации начала 1943 года, когда советские войска вторично оставили Украину. Возможно, нас отбросили еще дальше во времени — в эпоху Северной войны начала ХVIII века, когда лучший полководец Европы Карл ХII теснил русских к Брянску и Смоленску. Тогда ему противостоял Петр — и это спасло положение. Теперь на месте российского самодержца оказался наемный чиновник, менеджер, так и не решившийся дать бой на роковом рубеже.
Вот с этого л и ч н о с т н о г о аспекта мы и начнем анализ потерь России.
Утрата Украины стала крупнейшим поражением Путина. Некоторые западные издания (к примеру, «Ньюсуик») выражаются еще резче, характеризуя произошедшее как «унижение» российского президента.
Падение Киева — наиболее значительная из череды его внешнеполитических неудач. Революция в Грузии, сразу же обратившаяся против России, потеря Аджарии, провал «кремлевского» кандидата на выборах в Абхазии, беспрецедентный в дипломатической практике срыв миротворческих усилий России в Молдавии, разорительное для Москвы списание долгов Ирака (по принуждению ведущих западных держав) — вот вехи, которые предшествовали украинской катастрофе. И, как теперь становится ясным, приближали ее. Уступчивость Путина была истолкована его западными партнерами как проявление слабости.
В результате произошло то, что на Востоке называют «потерей лица». Еще совсем недавно на Украине Путин пользовался влиянием более значительным, чем ее лидеры. Сейчас от этого бесценного политического капитала не осталось и следа. Изменилась и ситуация в России. Пресловутый рейтинг Путина покатился вниз — с баснословных 70 до 42 % («Независимая газета», 31.01.2005). Президента спасает лишь то, что показатели его оппонентов не поднимаются даже до этого скромного уровня.
Однако «накачать» рейтинг — задача техническая, вспомним метаморфозу, случившуюся с самим Владимиром Владимировичем пять лет назад. Если Запад решит выбрать президенту «сменщика» и по максимуму «вложится» в него, с рейтингом проблем не будет. Между прочим, не в чаянии ли грядущих кадровых перемен в феврале за океан отправился экс-премьер М. Касьянов («Постскриптум». ТВЦ, 19.02.2005.)?
Позиция Запада (увы, не мнение собственного народа!) имеет для российского президента решающее значение. Но именно за рубежом его акции упали наиболее резко.
В декабре-январе в западной прессе развернулась антипутинская кампания — столь масштабная, что здесь не может быть и речи о спонтанных проявлениях «общественного мнения».
Застрельщиком выступил ветеран американской журналистики Уильям Сафайр. В статье, опубликованной в «Нью-Йорк таймс», Путин поименован «диктатором», «выходцем из КГБ», «человеком, который боится силы народа» (здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, ссылки на зарубежные издания даны по материалам сайта InoPressa.ru). Стандартный набор обвинений, обычно предшествующий акциям устрашения и другим формам силового давления.
Сафайр разухабисто озаглавил публикацию «Путинский „цыпленок по-киевски“». Видимо, старый советолог хотел похвастать знанием местных реалий. И оконфузился: фирменное блюдо украинских кулинаров — котлета по-киевски, цыпленок табака — гордость закавказской кухни. Такие-то «знатоки» берутся судить о том, как нам следует жить, с кем и как дружить!
Но если кулинарные познания Сафайра сомнительны, то в политической кухне он разбирается великолепно! Его статья стала своего рода сигнальной ракетой, предваряющей журналистскую атаку.
Американский журнал «Ньюсуик» поспешил откликнуться опусом Майкла Хирша и Фрэнка Брауна «Путин споткнулся». Процитирую ударный абзац: «Путин считает, что он заключил „джентльменское соглашение“ с Бушем: мы будем участвовать в войне с терроризмом, а вы не будете вмешиваться в наши дела в соседних с Россией регионах. Это особенно относится к Украине, когда-то житнице России и бастиону ее былого могущества. Путин ошибается: на самом деле никакого соглашения между ним и Бушем не существует… События прошедшей недели унизили Путина, как никогда за его почти пять лет пребывания на посту президента России».
Посыл заокеанских изданий в Европе подхватила «Зюддойче цайтунг». Особенность нынешней кампании в том, что она скоординированно разворачивается по обе стороны океана в американской и немецкой прессе. Обстоятельство, не предвещающее Путину нечего хорошего: Америка — наиболее влиятельная держава современного мира, Германия — крупнейший экономический партнер Москвы. «Зюддойче цайтунг» не преминула подчеркнуть: «Российский президент из-за своей причастности к выборным манипуляциям в Киеве превратился в изгоя».
И — как прорвало! О характере посыпавшихся публикаций можно судить по заголовкам: «Путин говорит одно, а делает совершенно другое» (немецкая «Хандельсблатт»), «Паранойя Владимира Путина изолирует Россию» (американская «Геральд трибьюн»), «Конституционный переворот Путина?» («Вашингтон таймс»), «Загадка Путина» («Уолл-стрит джорнал»).
Последняя статья особенно интересна. «Разгадка», предложенная автором органа нью-йоркских финансистов, способна потрясти слабонервных. Путин, по мнению журналиста, это Саддам Хусейн сегодня: «…Между Путиным и Хусейном много схожего». Звучит как приговор. Тем более что автор тут же обращается к могущественной аудитории газеты: «Не заблуждаются ли западные лидеры и инвесторы сегодня в отношении Путина так же, как они заблуждались в отношении Саддама?».
В те дни российского президента сравнивали не только с арестованным иракским диктатором. Его именовали «фашистом» («Нью-Йорк таймс»). Поставив роковое клеймо, автор оговаривался: «Россия фашистская лучше, чем Россия коммунистическая». (Любопытный кульбит сознания, лучше любых деклараций характеризующий умонастроения нынешних наследников антигитлеровской коалиции.)
После таких обвинений самое время делать оргвыводы. Эту работу взял на себя журнал «Стандарт» — орган влиятельнейшей группы неоконсерваторов, подтолкнувших Буша к нападению на Ирак, а теперь пытающихся втянуть Соединенные Штаты в войну против Ирана. Видимо, еще одна цель на карте не кажется им перебором. Москве их рекомендации ничего хорошего не сулят. Суть «кадровых решений» выражает убойное уподобление: «Как Михаил Горбачёв в 1989 году, Путин уже исчерпал все ресурсы, которые он имел во властных структурах». Если прибавить, что журнал параллельно сравнивает российского президента с оскандалившимся экс-руководителем Перу А. Фухимори и бывшим аргентинским лидером К. Менемом (оба утратили власть, не дотянув до окончания второго срока), то судьба, которую прочат Путину ближайшие сподвижники Буша, очевидна. Чтобы ни у кого не осталось на сей счет никаких сомнений, журнал т р и ж д ы повторяет: «Этот режим довольно скоро прекратит свое существование».
И ладно бы только неоконсерваторы предрекали Путину «дальнюю дорогу»! Как ни велико их влияние, но и Россию совсем уж со счета списывать рано. Беда в том, что к политикам присоединились финансисты (что для тароватой Америки особенно серьезно). Байрон Вин, аналитик одного из крупнейших инвестиционных банков мира Morgan Stanley, предсказал: «Выявление случаев массовой коррупции в довершение к полемике вокруг выборов на Украине форсирует вторую российскую революцию, и Путин уйдет в отставку» («Независимая газета», 12.01.2005).
Вин слывет «Нострадамусом Уолл-стрита». Большинство его пророчеств, сколь бы эксцентрично они ни звучали, сбываются. Полагаю, дело не в провидческом даре, а в знании политической и экономической конъюнктуры. О том, какие идеи популярны сегодня в среде американской элиты, можно судить по требованию Ричарда Холбрука (бывшего заместителя госсекретаря), высказанному в «Вашингтон пост»: «Администрация должна пересмотреть свои отношения с Россией». Этот звучащий довольно общо призыв конкретизировал неугомонный Джордж Сорос: «Россию надо выгнать из „Большой восьмерки“» («МК», 15.02.2005).
Для того чтобы поднять эти требования на официальный уровень, в Комитете по международным делам сената США в середине февраля были проведены слушания о внутриполитической ситуации в России. Инициатором выступил председатель комитета Ричард Лугар, а главным докладчиком был директор программ России и Евразии Фонда Карнеги Андерс Аслунд. Не напоминают ли эти фамилии о событиях в сопредельной державе? Лугар, Аслунд, Сорос приняли самое активное участие в организации «оранжевой революции» на Украине…
В пиковой ситуации российскому президенту не оставалось ничего другого, как маневрировать, или, говоря языком менее дипломатичным, сдавать одну позицию за другой. Во-первых, он окончательно отказался от поддержки Януковича. Кампанию противодействия оранжистам, едва развернутую сторонниками экс-премьера (палаточные городки в Донецке и Симферополе, попытка организовать контрдемонстрацию во время инаугурации Ющенко, планы по проведению референдума об автономии Донбасса), свернули, едва начав. Разумеется, во многом это объясняется нерешительностью, а зачастую и прямым предательством региональных властей Юго-Восточной Украины. (Я встречался с руководителями Донецкой области в декабре и уже тогда понял: эти конформисты не сделают ни одного решительного шага.)
Все так, но мощная поддержка с Востока — сторонники Януковича рассчитывали на нее, особенно после приезда мэра Москвы Ю. Лужкова на их съезд в Северодонецке, — могла решительно изменить ситуацию. Этого не случилось. Более того, Путин несомненно посоветовал Януковичу избегать резких шагов. Иначе хорохорившийся донецкий лидер не залег бы на дно.
Во-вторых, Путин поддержал США, настаивавшие на проведении выборов в Ираке, несмотря на то, что частота терактов достигала нескольких десятков в день. Еще в декабре в Лиссабоне и Брюсселе Путин с сарказмом говорил о грядущем волеизъявлении под дулами как американских, так и партизанских автоматов. И вдруг в январе он изрек: «Выборы в Ираке — позитивное событие и шаг в правильном направлении» (NEWSru.com).
В-третьих, президент продемонстрировал лояльность по отношению к Североатлантическому альянсу, заявив, что «Россия готова выходить на новый уровень взаимодействия с НАТО и углублять сотрудничество в военно-технической области» (BBC Russiаn.com).
И наконец, во время торжеств по поводу 60-летия освобождения Освенцима Путин совершил ритуальный жест — принес извинения за «антисемитизм» в современной России. Шаг, который мог показаться хитроумным только поверхностному политику!
Путин правильно понял, о т к у д а воздвигается на него гонение. «Стандарт», «Нью-Йорк таймс», «Уолл-стрит джорнал» — все это рупоры влиятельного еврейского лобби. А Morgan Stanley, как и другие крупнейшие банки, — оплот еврейского влияния. Оказавшись под ударом, российский президент решил задобрить задир, а заодно продемонстрировать политкорректность, столь высоко ценимую на Западе.
Однако задобрить еврейское лобби не так-то просто. Его лидеры (в частности, «главный раввин» Бен Лазар) потребовали конкретных действий — исключения депутатов Госдумы, заподозренных в антисемитизме, из фракций, а фактически — из политической жизни. На такую крайнюю меру президент не решился.
К слову, еврейское лобби затерроризировало европейских политиков требованиями извинений буквально за каждый чих в сторону соплеменников. Показательна история с мэром Лондона Кеном Ливингстоном, которого угораздило резко ответить папарацци. На беду, журналист оказался евреем. Что тут началось! Процитирую Би-би-си: «…Слова мэра были расценены многими как выпад против еврейской общины. Председатель Совета депутатов британских евреев (оказывается, есть и такой орган! — А. К.) Генри Грюнвальд указал на отягчающие обстоятельства». Наиболее выразительно высказался председатель Лондонской ассамблеи Брайан Коулман: «Я не обвиняю мэра в антисемитизме, я просто говорю, что в прошлом он не всегда с энтузиазмом поддерживал еврейскую общину Лондона» (BBC Russian.com).
Чураться антисемитизма, оказывается, уже недостаточно! Следует всячески поддерживать начинания иудеев. И не просто, а «выпрыгивая из штанов» — публично демонстрируя энтузиазм.
Полноте, Владимир Владимирович, разве такой прихотливой компании угодишь…
Заявление Путина явилось ошибкой и потому, что его сопроводительные слова о решающей роли России в разгроме фашизма не были — и не могли быть — восприняты западными лидерами, съехавшимися в Освенцим. Их отношение к России хорошо известно: похвалы они пропустили мимо ушей, но бережно зафиксировали признание русского лидера в наличии антисемитизма. Его еще не раз припомнят, дабы обвинить русских, да и самого незадачливого хозяина Кремля.
Не говорю уж о том, что президентские обобщения оскорбительны для нашего народа. Слушая Путина, я вспоминал высказывание московского философа Владимира Эрна об отечественных либералах начала XX века: у них, «как у Януса, два лика. К Западу они повернуты Маниловыми, к России — бесцеремонными Собакевичами» (Эрн В. Ф. Сочинения. М., 1991). Прошло сто лет, либералы всё те же…
И все же следует отдать должное Путину: иные из его начинаний не в пример удачнее перечисленных. Убежден — они пойдут на пользу России.
Во-первых, решение о поставках зенитных комплексов Сирии, принятое несмотря на отчаянное давление Израиля. Правда, это ракеты ближнего радиуса действия, а не знаменитые C-400, которые способны были бы изменить соотношение сил в регионе. И все-таки проявленная самостоятельность дорогого стоит. Перспективно и само по себе возобновление военных контактов с нашим давним союзником, что усиливает позицию России на Ближнем Востоке, в арабском мире, а в перспективе может привести и к подвижкам в Чечне (дружественные Москве арабские режимы могли бы поумерить пыл исламских фундаменталистов, спонсирующих боевиков).
Во-вторых, Путин не пошел на поводу у США, требовавших прекращения российского сотрудничества с Ираном в сфере ядерной энергетики. Заявив о продолжении строительства АЭС в Бушере и о готовности нанести визит в Тегеран, российский президент продемонстрировал, что он еще способен проводить политику, отвечающую национальным интересам.
Но вернемся к списку потерь. Киевская неудача серьёзно подорвала позиции Москвы в странах СНГ. Постсоветские режимы, особенно столкнувшиеся с необходимостью передачи власти, лелеяли надежду на то, что Кремлевская стена прикроет их от чересчур пристального внимания Запада и, предоставленные самим себе, они смогут осуществить самые фантастические комбинации: бессрочное продление полномочий (по примеру Ниязова), династическую передачу власти (по модели Г. Алиев — И. Алиев).
Понятно, все это далеко от демократии. Но я говорю не о моральной стороне, а о практической. «Проблемные» режимы, получив поддержку России, оставались в ее орбите. К тому же я не вижу, чем это тбилисский демократ, организовавший революцию на американские деньги, лучше бакинского наследника, занявшего отцовский трон с санкции Кремля (и, кстати, тех же Соединенных Штатов).
К ужасу чадолюбивых властителей, которые вознамерились повторить азербайджанскую операцию, обнаружилось: США изменили правила легитимации. А Россия в одиночку (тем более в противоборстве с Америкой) не в состоянии обеспечить их режимам не то что стабильность — элементарное выживание.
«Украинское фиаско Кремля сильно разочаровало тех, кто видел в России возможный противовес американской стратегии смены элит», — отмечает «Независимая газета» (24.01.2005). В другом номере это хорошо информированное издание уточняет: «После всего случившегося правящие элиты Казахстана и Киргизии обеспокоены ошибками Москвы, не сумевшей утвердить у власти своих ставленников в Киеве, и не уверены, что при обострении ситуации в Центральной Азии помощь Москвы может оказаться полезной» («Независимая газета», 20.12.2004).
Последнее особенно опасно. Не случайно «потерять лицо» на Востоке считается самой большой бедой. Страна, с которой случилось подобное, утрачивает не просто ч а с т ь своей привлекательности или влияния. Она т е р я е т в с ё. Больше того, из ж е л а н н о г о с о ю з н и к а превращается в о п а с н о г о с о с е д а!
Среднеазиатские столицы уже не взирают на Москву со смесью надежды и подобострастия. Да и сама Москва, кажется, окончательно утратила веру в свои силы. Едва оправившись после развала Союза, сделав первые шаги на пути возрождения, она, получив удар на Майдане, впала в ступор. «Главная ошибка России на минувших выборах заключается не в том, что она поддержала не того человека, а в том, что она кого-то поддержала вообще, и более того — предприняла активные действия в его пользу», — такова точка зрения, высказанная «Известиями» (30.11.2004). Разумеется, это крайность, но многие российские отклики на украинский конфуз сводятся по сути к тому же: не надо было высовываться…
Сегодня подобная позиция доминирует! Не кто-нибудь — министр иностранных дел С. Лавров объявляет: «Россия не делает ставок в ходе избирательных кампаний в странах на пространстве СНГ» («Независимая газета», 15.02.2005). Добро бы то была демагогическая декларация. А то ведь действительно — «не делает»! 27 февраля парламентские выборы в Киргизии. Как отмечает пресса, Москва «издали наблюдает за ходом предвыборной кампании» (там же). 6 марта парламентские выборы в Молдавии. Кремль, обманутый Ворониным, не поддерживает ни одну партию.
Похвальное самоограничение? Ну а потом-то что делать? Когда новоизбранные окончательно повернут на Запад и будут досаждать России выходками, столь же глупыми, сколь оскорбительными? Пример Грузии, фактически сорвавшей визит С. Лаврова, более чем красноречив. Министр недавно еще великой державы вынужден был сносить в Тбилиси бесконечные унижения. Вот к чему приводит нежелание вовремя делать ставки. Так не разумнее ли пытаться оказывать влияние на ход выборов и помогать тем, кто лоялен к России?
Нет, убеждают пораженцы. Если мы и можем позволить себе инициативу, то лишь в предугадывании желаний Большого босса из Вашингтона. Представьте, подобный вариант н а п о л н о м с е р ь е з е предлагает все та же хорошо информированная «НГ». Ее обозревательница утверждает: «Россия, проявив инициативу, может предложить США совместные обоюдовыгодные проекты на постсоветском пространстве в размах стратегического партнерства» («Независимая газета», 16.02.2005).
Какие же? В. Панфилова предельно откровенна: «Первым в списке подобных проектов может стать наиболее одиозный режим на постсоветском пространстве, который не может вызывать каких-либо положительных ассоциаций как в Москве, так и в Вашингтоне, — средневековый абсолютизм Туркменбаши». Если эту неряшливую фразу перевести на нормальный русский язык, обнаружится, что обозревательница предлагает свергнуть правительство Туркмении в надежде на благодарность Соединенных Штатов.
Сомневаюсь, что мы бы ее получили. Вашингтон предпочитает, чтобы исполняли е г о директивы, хотя не прочь осуществлять их чужими руками. Но главное даже не это. Что в ы и г р а е т Россия? Что мы п о т е р я е м, догадаться несложно: миллиарды кубометров газа, который Туркмения поставляет Газпрому по заниженной цене. Миллиарды долларов, недополученных за газ. И много чего другого — не хочу гадать, всерьез рассматривая бредовое предложение.
Однако оно прозвучало, причем отнюдь не как политическая экзотика. И хотя в столь заостренной форме позиция не нашла поддержки, идея «подстроиться к партнеру» многим пришлась по сердцу.
Казалось бы, уж на что серьезный автор С. Рогов, директор Института США и Канады, ведущего мозгового центра, где разрабатывают «наш ответ Америке», а посмотрите, что он предлагает: «…Заставить нас самих задуматься: „А чего мы хотим? Стать равным по силе соперником США, каким был СССР, — стать младшим партнером антиамериканской державы — или стать партнером наиболее сильной страны?“. Конечно, Америка пытается доминировать. Но кто получает большую выгоду от японо-американского союза? Япония получает по крайней мере не меньшую выгоду. Возьмем такие несопоставимые с точки зрения экономики страны, как Израиль и США. Израиль получает намного больше выгоды от партнерства с США, чем Америка от партнерства с Израилем» («МК», 18.02.2005).
О’кей! Вариант соблазнительный. Да только почему Америка методично устраняет лидеров, представляющих хоть какую-то опасность для Израиля — Хусейна в Ираке, Эрбакана в Турции, смиряет Каддафи в Ливии, а России, несмотря на всё наше «партнерство», подсовывает Саакашвили, Ющенко, Адамкуса?
Спорить бессмысленно. Дело не в аргументах «за» и «против». Когда Россия после 2000-го стала набирать силу, предложения, подобные тем, что выдвигают Панфилова и Рогов, исчезли сами собой, с л и н я л и с политического поля. Они вернулись вместе с нашей слабостью…
Геополитический аспект украинских событий. Тут достаточно раскрыть книгу Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска» (пер. с англ. М., 2003), где польский перебежчик, поднявшийся на вершину американской политики, не удержался от того, чтобы предъявить «фамильный» счет за Украину, отбитую Россией у Польши в ходе по крайней мере полудюжины войн. Вот кто лучше всех понимает геополитическое значение края.
И читателям объясняет с убедительной наглядностью: «Россия не может быть в Европе без Украины»; «без Украины реставрация империи, будь то на основе СНГ или на базе евразийства, стала бы нежизнеспособным делом. Империя без Украины будет в конечном счете означать, что Россия станет более „азиатским“ и далеким от Европы государством».
В этих безукоризненных, на первый взгляд, констатациях имеется лишь одна натяжка. Или, точнее, умолчание. Довольно крупное, если учесть, что площадь этого «умолчания» ни много ни мало 207,6 тысячи квадратных километров. Его имя — Белоруссия.
Минск предоставляет России такой же выход в Европу, как и Киев. Бжезинский умалчивает об этом «запасном» варианте именно потому, что боится российско-белорусского союза. Понятно, речь о союзе подлинном — равноправном, искреннем, действенном, что исключает ситуации, когда один «союзник» пытается задушить другого экономической блокадой или враждебной пропагандой…
Показательно, что вслед за Бжезинским российские политики и политологи стараются не упоминать о Белоруссии в связи с украинской катастрофой. А если и говорят о ней, то с мстительной радостью: теперь и «батьке» не поздоровится.
Однако беспокоиться за Лукашенко (а тем паче пророчить ему беду) не стоит. По одной простой причине: он не разворовывает национальное богатство. Его родственники не приватизируют за бесценок крупнейшие объекты республики (как это делал зять Кучмы В. Пинчук). В Минске нет той пропасти между народом и властью, которая существовала, да и сейчас существует на Украине.
Российским политикам не следовало бы злословить в адрес Лукашенко и по другой причине: после отпадения Украины Белоруссия для нас — е д и н с т в е н н о е окно в Европу. Захлопнется — мы окажемся отрезанными от Старого Света.
Сделав необходимую поправку к концепции Бжезинского, дальнейшие его рассуждения я готов принять целиком. С очевидным не поспоришь. А Бжезинский оперирует очевидными факторами. П о л и т и ч е с к и м: Украина не просто крупнейшая после России республика СНГ — ее политика является к а т а л и з а т о р о м происходивших в Сообществе процессов. Э к о н о м и ч е с к и м: без индустриального и сельскохозяйственного потенциала республики быстрое возрождение «империи» невозможно. Д е м о г р а ф и ч е с к и м. Этот фактор особенно важен. «…Без Украины с ее 52-миллионным (Бжезинский пользуется данными советских времен, за время „незалежности“ население сократилось на 4 миллиона! — А. К.) славянским населением любая попытка Москвы воссоздать евразийскую империю способствовала бы, по всей видимости, тому, что в гордом одиночестве Россия оказывалась запутавшейся в затяжных конфликтах с поднявшимися на защиту своиx национальных и религиозных интересов неславянскими народами… Более того, принимая во внимание снижение уровня рождаемости в России и буквально взрыв рождаемости в республиках Средней Азии, любое новое евразийское государство, базирующееся исключительно на власти России, без Украины неизбежно с каждым годом будет становиться все менее европейским и более азиатским».
Признавая эти «железные» аргументы, все же не удержусь, чтобы не заметить: как можно по-разному интерпретировать одни и те же факты. О демографическом кризисе в России пишет другой видный американский политик, Патрик Бьюкенен, в замечательной книге «Смерть Запада» (пер. с англ. М, 2003). Однако у Бьюкенена, в отличие от Бжезинского, наш упадок вызывает не радость — глубокую печаль. Глядя на происходящее в мире с позиций более широких, чем автор «Шахматной доски», Бьюкенен понимает: близящийся крах России — это лишь один из этапов глобального краха белой расы.
Хотя нам-то в конечном счете не так уж и важно: прольют ли заокеанские наблюдатели слезу над Россией или возрадуются ее погибели. Куда важнее то, что, по-разному относясь к нашей стране, и Бьюкенен, и Бжезинский сходятся в одном: Россия переживает глубочайший кризис.
Окончательная утрата Украины оказывается препятствием не только к возрождению «империи». Выложив экономические и демографические аргументы, Бжезинский снова возвращается к геополитике. И как дважды два доказывает: без массового притока славянского населения невозможно удержать Сибирь, обезлюдевшие земли которой, по выражению автора, «почти призывают китайское освоение». Столь же невелики наши шансы выстоять в потенциальном конфликте с исламом на южных рубежах России.
Уже не имперское, а само национальное существование России после потери Украины становится проблематичным.
Огорчу и тех, кто ни о геополитике, ни о судьбе России не задумывается — было бы «бабок» побольше, остальное, мол, ерунда. Как известно, основа «россиянского» благополучия — экспорт сырья, прежде всего нефти и газа. Однако прямого выхода на зарубежного потребителя Россия лишена. Надо «протащить» к нему нефть по трубопроводам, а они проходят по территории Украины. Как отнесется новое правительство к нуждам российских экспортеров — вопрос.
Затруднения и возможные потери такого рода учитываются по разряду геоэкономики. Для нас это покамест область неведомая. Но изучать ее придется. Вот наглядный урок геоэкономики. На Украине построен нефтепровод Одесса — Броды. Его первоначальное назначение — перегонять каспийскую нефть (Азербайджан, Казахстан) в сторону Польши и далее в Западную Европу, где она должна была конкурировать с нефтью российской. Буквально накануне выборов Москве удалось уговорить Кучму запустить трубу в реверсном режиме: качать нефть из российской системы к черноморским терминалам, что позволит облегчить ее транзит в Южную Европу, а заодно закрыть доступ каспийской нефти в Европу Западную. А теперь задачка на усвояемость: чью нефть — и в каком направлении — будут прокачивать после победы Ющенко?
Еще одна задачка, вызывающая легкую панику в среде московских инвесторов: сколько предприятий, принадлежащих российским собственникам, включены в список Тимошенко? Для несведущих поясню: едва придя к власти, «помаранчевые» бросились составлять списки объектов, подлежащих реприватизации. То есть возвращению в собственность государства с последующей перепродажей. А как же вы думали — зачем оппозиция так рвалась во власть? Аппетиты Ющенко ограничились 30 предприятиями, Тимошенко намеревается перепродать 3 тысячи! Среди них наверняка немало заводов, приобретенных питерскими и московскими.
Ну и, конечно, скорее всего придется забыть о глобальном проекте Единого экономического пространства. В Киеве уже создана комиссия для оценки целесообразности участия Украины в ЕЭП. Если проект будет окончательно похоронен, на экономической, а соответственно и политической интеграции можно будет поставить крест.
Напомню и о геостратегических потерях. В случае вступления Украины в НАТО (а оно куда реальнее, чем членство в ЕС), Черноморский флот оказывается отрезанным от России. Так же, к слову сказать, как Балтийский, зажатый в Калининградском анклаве после вступления в альянс Литвы.
Такие города, как Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Смоленск, могут быть в течение нескольких минут поражены авиацией и ракетами противника. А в Белгород и Брянск моторизованная пехота НАТО сможет вступить через час после пересечения границы.
Наши политики и военные любят повторять: при современной технике неважно, с какого расстояния будет нанесен удар. События в Беслане показали, как это далеко от реальности. Террористы приехали из соседней республики, и за те несколько десятков минут, что они находились в пути, н и к т о не успел не то что среагировать — засечь их…
Но и в мирное время российской армии уготованы потери. Она лишится современных вооружений, которые еще с советских времен изготовлялась на украинских и российских предприятиях. Зенитные комплексы С-300 наполовину сделаны на Украине: КРАЗы — из Кременчуга, 70 % электроники — из Львова. Боевые железнодорожные ракетные комплексы — грозное супероружие Советов — изготовлялись в Павлограде. В Днепропетровске делали знаменитую тяжелую ракету СС-20. Основу парка военно-транспортной авиации составляет семейство «Ан», разработанных в киевском КБ им. Антонова («MК», 03.02.2005).
Российское оружие без украинских комплектующих не произведешь. Но сохранится ли кооперация, когда Киев станет членом враждебного Москве альянса?
Еще одна потеря, не менее, если даже не более существенная, — человеческая. «Оранжевая революция» сопровождалась масштабной антирусской кампанией. Нападкам подвергались все. И «настоятель» (так у автора) Украинской православной церкви Московского патриархата: «Чий же ви посланець на УкраЇнськой землi — Бога чи диявола? Я заклинаю вас: покайтися перед УкраЇною публiчно» («Сельские вести», 30.11.2004). И политики, не выучившие украинского языка. А заодно и все «русскоязычные», требующие «особого отношения к языку и культуре определенных этнических групп в других странах» («Зеркало недели», 27.11.2004). При этом русский язык на Украине ненавязчиво приравнивался к английской речи заокеанских туристов во Франции: дескать, в Париже им послаблений не делают, и вы в Киеве их не получите.
А чтобы у русскоговорящих не оставалось никаких сомнений, им прямо указывают дорогу: «Лучше бы вы, руководствуясь свoeй нездоровой любовью к России, попросили у Януковича денег на авиабилет в Москву» (из материалов Интернета, опубликованных в газете «Голос Донбасса», 19.11.2004).
Россию обвиняют во всевозможных преступлениях. Еще не совершенных: Москва готова «простимулировать и срежиссировать» «раскол страны» (там же). И совершённых десятилетия назад. По всем газетам прошли публикации к Дню памяти так называемого «голодомора». Для того чтобы искусственно актуализировать тему, некоторые журналисты кощунственно сдвигали даты, говоря — в 2004-м — о семидесятилетней годовщине голода 1932–1933 годов.
Газетчики подчеркивали — то был целенаправленный террор русской власти против украинского народа. «Цель была: стереть с карты мира Украину как землю, населенную отдельным народом с четким национальным сознанием» («День», 27.11.2004). Любопытно, что автор берет в свидетели ф а ш и с т а — консула итальянского посольства в Москве. Тот якобы писал в Рим в 1933 году: «Современное несчастье вызовет собой колонизацию, преимущественно русскую, Украины. Оно изменит ее этнографический характер. И, возможно, в очень близком будущем нельзя будет больше говорить об Украине, ни об украинском народе, ни тем самым об украинской проблеме, потому что Украина в действительности cтанет русским краем» (там же).
Солидаризируясь с посланцем Муссолини, автор забывает о том, что именно у фашистов были планы колонизации Украины. А в составе Союза Украинская ССР — худо ли, бедно — просуществовала до 1991 года, имея свое правительство, развивая экономику, культуру да еще получив в качестве подарка Крым.
В печати называли колоссальные цифры потерь как от «голодомора», так и вообще от русской власти. Первые оценивались в 10 млн, вторые — в 30: «За 70 рокiв в УкраЇнi було знищено 28–30 мiльйонiв чоловiк» («Сельские вести», 30.11.2004).
Не правда ли, кулаки сжимаются, когда узнаёшь, сколько народу извели «клятые москали»! 30 млн — более половины сегодняшнего населения «незалежной». Однако поступим с этими данными так же, как мы поступили с другими утверждениями, муссировавшимися в «оранжевой» прессе: проверим их.
Вычленим эпизод с «голодомором». Во-первых, потому, что именно на него делали особый упор авторы исторических публикаций. Во-вторых, потому, что утверждения, связанные с ним, не так сложно проверить: трагедия произошла между 1926 и 1939 годами, когда в СССР проводили переписи населения.
В 1926 году на Украине проживало 29 млн человек (здесь и далее сведения приведены по первому изданию Большой советской энциклопедии). Минусуем 10 млн жертв, остается 19 млн. Таким должно было быть население республики в 1939 году (плюс естественный прирост). Но перепись того года дает совсем другую цифру — 30 960 000. Подчеркну особо — население присоединенной в том же году Западной Украины не учитывалось.
Если взять за исходную точку 19 млн, прирост должен был составлять 35,5 %. Показатель фантастический! Разве что придется признать, что большевики создали на Украине поистине райские условия: живите и размножайтесь!
На самом деле средний прирост по Союзу равнялся 15 %. На Украине он был существенно ниже — 6,5 %. Почему он отставал от общесоюзного — другой вопрос. Скорее всего это результат наложения ряда факторов, где репрессии и голод занимали не последнее место.
Но и не первое — на те же годы приходится проведение ускоренной индустриализации; промышленность смещалась на Восток, а за ней устремлялось мобильное население. Голод на Украине, несомненно, способствовал этому. Из всех республик за Урал с 1926 по 1939 годы переселилось более 3 млн человек. Еще 5 млн оттянули на себя крупнейшие промышленные центры — Москва с областью, Ленинград, Горький.
Найдутся националисты, которые тут же переквалифицируют обвинение: Россия выкачивала из Украины людские ресурсы! Но «перемена мест» была, как правило, добровольной — переселенцы рассчитывали улучшить условия жизни. Причем этот процесс затрагивал не только Украину, но в первую очередь саму Россию. Население УССР по крайней мере р о с л о, хотя и медленнее, чем в целом по Союзу. А в Центральной России оно с о к р а щ а л о с ь: «Общее число жителей в Рязанской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Куйбышевской, Калининской, Смоленской, Ярославской и Вологодской областях и Мордовской АССР с 1926 по 1939 г. уменьшилось на 5,5 млн человек» (Большая советская энциклопедия, том «Союз Советских Социалистических Республик», М., 1947).
Не рискну и далее утомлять читателей статистикой. Полагаю, и приведенных данных достаточно, чтобы понять: украинские националисты чудовищно завышают потери, связанные с «голодомором». Разумеется, это ни в коем случае не уменьшает значимости трагедии. Но ставит под сомнение добросовестность тех, кто хотел в о с п о л ь з о в а т ь с я ею для разжигания розни между украинцами и русскими, а заодно и заставляет усомниться в их патриотизме: человек, любящий свой народ, не станет произвольно сокращать его численность даже на бумаге…
Впрочем, сколько р а ц и о н а л ь н ы х аргументов ни приводи, э м о ц и о н а л ь н ы й осадок от антирусской кампании останется. Души, зараженные ненавистью, еще долго будут нуждаться в исцелении.
Скажу и о потере, для меня особенно мучительной. Я бы назвал ее утратой исторических святынь.
Помню первое впечатление от Киева. Широко раскинувшаяся на приднепровских кручах Лавра, затаившийся под горой, сплошь заросшей сиренями, Выдубецкий монастырь, могучие стены Золотых ворот, царственная державность Святой Софии — все рождало р а д о с т ь у з н а в а н и я. Будто возвратился на давно оставленную родину, чьи смутные образы всегда хранил в душе.
Позднее я узнал, что схожие чувства испытывали многие русские люди при взгляде на Киев. Об этом еще в первой половине XIX столетия писал современник и друг Пушкина Андрей Муравьев: «…Что-то невыразимо близкое сердцу влекло меня к нему; ибо каждая из долин Киевских… запечатлена при своем устьи каким-либо воспоминанием; везде встречается он, наш славный Тибр (Днепр. — А. К.), как некий давний друг, или пестун первых дней юности» (М у р а в ь е в А. Н. Путешествие по святым местам русским. Репринтное воспроизведение издания 1846 года. М., 1990).
Иностранцы, вопящие о попытках Москвы включить Украину в сферу своего влияния, не понимают этих чувств, так как не знают нашей истории. Россия связана с Украиной не дружбой Путина с Кучмой или Януковичем, и даже не тремя с половиной веками, прошедшими со времен Переяславской Рады, а всем тысячелетием своего существования как государства, ибо не откуда-нибудь, а из Киева «пошла есть Земля Русская».
Память об этом истоке сохраняли переселенцы ХII и последующих веков, нарекавшие города и реки Северо-Востока дорогими их сердцу названиями Киевской Руси. Так, в междуречье Оки и Волги, ставшем второй колыбелью нашей государственности, появились Галич, Переяславль, Звенигород, заструилась по владимирским кручам речка с именем легендарной киевской княжны — Лыбядь. Даже в расположении городов Центральной России — обязательно на крутом берегу, с широким подолом, с храмом Успения (как в Печерской обители) — зримо присутствует тоска самой русской земли по киевскому первообразу.
С чем сравнить эти чувства, чтобы иноземный наблюдатель получил хотя бы приблизительное представление о них? С отношением американцев к бывшей метрополии? Между прочим, никто не оспаривает «особых отношений» Соединенных Штатов и Великобритании, официально провозглашенных в середине минувшего века. Они стали основой стабильности Западной Европы. Почему же нам не дают установить братский союз с Малой, то есть к о р е н н о й (по византийской терминологии) Россией? Чтобы не допустить стабильности Европы Восточной?
Впрочем, сопоставление с Америкой чересчур политизировано. Киев для Москвы не просто стратегический союзник. Наши чувства глубже, трепетнее. «Место сие должно быть священно для каждого Русского», — обобщил их А. Муравьев.
Наверное, в глубокой древности так же взирали на Иерусалим первые крестоносцы. Неужели в их стремлении к Святой земле следует видеть только политическую и финансовую корысть? Разве низменные чувства одушевляли Людовика Святого, Ричарда Львиное Сердце, Готфрида, смиренно отказавшегося от иерусалимской короны, но принявшего титул заступника Гроба Господня?
Изданная недавно под эгидой Евросоюза «История Европы» политкорректно отмежевывается от крестоносцев, но я убежден — современные европейцы, несмотря на предписанную толерантность, хранят в душе благоговейную память об этих героях и их благородном порыве. Так пусть же они сверятся с этой памятью, когда в очередной раз примутся рассуждать о «кознях Москвы».
А мы, если уж упомянули об Иерусалиме, вспомним о том, что предыдущее фронтальное столкновение России с Западом связано с этим городом. Крымской войне предшествовал спор о ключах от Иерусалимских святынь, инспирированный французскими католиками.
Как характерно, как знаменательно — Европа объединяется против России тогда, когда мы ищем пути к нашим древним святыням. И не пытайтесь убедить меня, что всё сводится к прагматике! Какая выгода побуждала Сардинию присоединиться в 1855 году к англо-французскому союзу? Какую практическую цель преследовала Голландия, возглавившая в 2004-м европейское противодействие России? Это межцивилизационная борьба в чистом виде — цивилизации воюют из-за святынь.
Недалеким материалистам в Кремле такая постановка проблемы наверняка покажется отвлеченной. Пусть прислушаются к тому, что говорит сам Запад. В частности, один из наиболее красноречивых его проповедников — немецкий политолог Александр Рap. «Запад требует от России принятия общеевропейской системы ценностей… Перед Россией стоит выбор — либо она действует по европейскому образцу — тогда она постепенно интегрируется в общеевропейский дом, либо она строит собственную цивилизацию… становясь при этом для ЕС чем-то вроде Китая» («Независимая газета», 25.01.2005).
Несчастна страна, потерпевшая поражение. Но вдвойне несчастна та, что не способна извлечь из него уроков. После Крымской войны Россия провела реформу армии, начала строить железные дороги и — что не менее важно — без сантиментов и самообмана определила свою позицию по отношению к Европе в гениальной работе Николая Данилевского. А какие меры приняты сегодня?
Руководители России, с которой Запад все чаще говорит языком ультиматумов, отчаянно пытаются делать вид, будто ничего плохого не происходит. Разве что политики второго ряда, например председатель Комитета Госдумы по международным делам К. Косачев, отваживаются признать, что украинский кризис столкнул Россию не с отдельными западными державами, а с совокупным Западом. «Коллективный Запад начинает извлекать немалые дивиденды из „плохой“ России, выступающей в роли „защитницы авторитарных и коррумпированных режимов“. По формуле: „Не получается демократизировать, будем демонизировать“. Плюсы от этой линии для ЕС и США очевидны: а) объединение обеспокоенного внутренними противоречиями Запада на почве „общего врага“; б) возможность активной игры на постсоветском пространстве уже без оглядки на Россию; в) подрыв всех интеграционных проектов на постсоветском пространстве, не получивших одобрения Запада; г) ренессанс „демократического“ миссионерства (а то и мессианства)» («Независимая газета», 28.12.2004).
Но что же предлагает российский политик? «…Нужно реальное сближение, причем инициатором должна выступать Россия». Опять идея «подстроиться под партнера». Но ведь не о танце же речь! Мы видели, ч т о требует Запад: ни много ни мало — отказаться от собственного проекта развития. От своей истории. От собственной души. Примечательно, что эти требования совпали с украинским кризисом. Отказ от Украины, в известном смысле, и означает отказ от русской истории, от нашей соборной славянской души.
Могут сказать: но конфронтация с объединенным Западом еще страшнее! Согласен — следует стараться избегать конфронтации. И хотя сейчас инициатива не в наших руках: навяжут борьбу — придется бороться, все усилия в этом направлении необходимо предпринимать. Но не отдавать душу, не отказываться от идентичности. Без души что человек, что государство — живой мертвец.
Но как совместить неуступчивость и миролюбие? Возможно ли? Отчего же нет? Рар опрометчиво ссылается на опыт Китая. Западному проповеднику не следовало напоминать о нем, а тем более пугать нас его примером. Китай — наиболее динамично развивающаяся держава мира. Кстати, куда более интегрированная в западную систему, чем Россия.
И в то же время Поднебесная в полной мере сохраняет свою идентичность. Более того, Пекин рассчитывает, что экономическое развитие позволит укрепить ее, превратить XXI век в «век Китая».
Почему бы России не последовать этому примеру? Скажу больше: верность своим ценностям и святыням сделала бы ее привлекательной для партнеров и в п р а к т и ч е с к о м плане. Для Украины прежде всего.
Известный политолог В. Никонов проницательно подметил: «…Сделала ли Украина геополитический выбор: Россия или Запад. На мой взгляд, ответ на этот вопрос просто невозможен. Потому что выбор не сделала еще сама Россия (здесь и далее выделено мною. — А. К.). Мы до сих пор еще как бы мечемся между тем, являемся ли мы особой цивилизацией, либо мы движемся в Европу, вливаемся в путь цивилизованных стран… Прежде чем мы не ответим сами на этот вопрос, нельзя требовать ответа от Украины» («Независимая газета», 25.04.2001).
Прошло более трех лет. И что же предлагают политтехнологи, посланные Кремлем на Украину, чтобы обеспечить выбор в пользу России? Даже после того как «оранжевая революция» победила, С. Марков в познеровских «Временах» твердил: «Выход — внутренняя европеизация» («Времена», ОРТ. 28.11.2004). Имелись в виду и Украина, и сама Россия. Учитывая то, что С. Марков фактически возглавлял команду кремлевских политтехнологов в Киеве, эта рекомендация может рассматриваться чуть ли не как официальная.
Раз уж м о с к о в с к и е аналитики предписывают Украине е в р о п е и з а ц и ю, то стоит ли удивляться, что страна сломя голову ринулась в Европу. И почему, спрашивается, она должна была дожидаться Россию?
Если бы мы в своей пропаганде (а главное — в реальной политике!) делали упор на с л а в я н с к о е б р а т с т в о — общую историю, общие святыни, общую экономику, — мы могли бы упрекнуть украинцев: что же вы братьев не подождали! А коль скоро обе страны всего лишь кандидаты на вступление в Европейский дом, вполне естественно, что одна из них попыталась воспользоваться преимуществами раннего старта…
Признаем: если мы не братья, то конкуренты. Те же самые факторы, которые могли бы работать на соединение, в этом случае начинают работать на разъединение. Общая экономика? Но это значит, что и структура экспорта у нас одна и та же — металлопрокат, минеральные удобрения. Следовательно, одна страна будет пытаться вытеснить другую с западных рынков. Общая история? Но если мы наперегонки устремились на Запад, то кто-то должен доказать, что он ближе, роднее Европе.
Могут спросить: а так ли уж много факторов нас объединяет? Может, мы и впрямь не столько братья, сколько конкуренты? Отвечу: сегодня мы действительно соперничаем. Но всего 60 лет назад наши народы совместно одержали победу в величайшей битве в истории человечества. Уже одна только память об этом триумфе могла бы стать мощнейшим фактором единства.
Но тут придется сказать о нашем отношении к собственному прошлому. «Демократическая» Россия объявила ему настоящую войну. Каждый день газеты и ТВ объясняют, что наша история (прежде всего советская, но и русская тоже) — это череда бессмысленного насилия и экономических катастроф. Именитые юбиляры, получившие известность в советскую эпоху, охотно повествуют о том, как их преследовали в СССР. Откуда же ордена, премии, звания «народных»?!
А вот и общая концепция (беру навскидку высказывание известного шоумена Д. Быкова — мы вместе отвечали на одну анкету, и наши высказывания оказались рядом): «Страна ходит по кругу седьмой век кряду, то есть столько, сколько существует. В процессе этого круговращения она центробежным образом теряет территории, людей, честь, совесть, самоидентификацию. На нынешнем этапе России предстоит либо быстро уничтожить свою нынешнюю государственность (путем революции и последующего неизбежного распада), либо медленно гнить с нею, пока окончательно не разложится все живое» (Zvezda.ru).
Не правда ли — какая привлекательная перспектива? Странно, что украинцев она почему-то не вдохновила…
Мы говорили о Великой Победе. А ведь не где-нибудь — в московской печати один из «демократов» первой волны Гавриил Попов опубликовал — к юбилею! — статью, где советская армия представлена сбродом мародеров и насильников. Самая многотиражная газета столицы поместила ее под претенциозной шапкой «1941–1945. Правду, только правду, всю правду» («МК», 07.02.2005).
К чести читателей, они откликнулись на эту гнусность шквалом гневных писем. И с проницательностью, не свойственной нашим политикам, связали подобные публикации с киевским поражением: «…Если мы будем так неосторожно ругать себя, то все кончится тем, что я прочел на „форуме“, посвященном недавним высказываниям Вайры Вике Фрейберги о российских ветеранах: „Храбрые балтийские братья! Гоните вон из вашей великой страны этих русских! Как мы их выгнали от нас с Украины“» («МК», 18.02.2005).
Пора опамятоваться!
Если мы станем гордиться своей историей, то и другие не посмеют отзываться о ней с презрением. Американцы заставили весь мир ставить знак равенства между Свободой и первой поправкой к Конституции Соединенных Штатов. А мы защищали свободу не канцелярскими поправками — оружием, освободив Европу от нашествия Наполеона и от диктата Гитлера.
Если мы будем с уважением относиться к своему государству, простершемуся от океана до океана, то и недруги поостерегутся задевать его.
Если мы будем любить свой народ, о котором даже недоброжелатели отзывались с восхищением, то и другие народы придут к нам за советом и помощью.
И, разумеется, ни на минуту не забывать о нынешнем дне, о благополучии сегодняшней России! Мудрено ожидать, что те же украинцы потянутся к нам, если пенсии у них больше, оплата ЖКХ — ниже, а льготы никто и не думает отменять. Теперь, глядя по телевизору, как мытарят стариков «москали», соседи, поди, крестятся, приговаривая: «Хорошо, что не пошли вместе с Россией, сейчас бы и у нас то же было».
Как можно рассчитывать привлечь дальних, унижая, отбирая последнее у ближних? Не сумев решить социальные проблемы, Путин отвратил от России сопредельные народы. А заодно столкнулся с серьезными проблемами внутри страны.
Об этом в следующей части.
Автор выражает признательность депутатам Верховной Рады В. Мироненко и П. Толочко, председателю Славянского комитета Украины Н. Лавриненко, народному депутату 2-го созыва П. Степанову, д. э. н. А. Радзиевскому, к. т. н. В. Илларионову, политологу В. Юлину, члену СП Украины Е. Лаврентьевой и всем украинским друзьям, оказавшим помощь в сборе материала.
(Продолжение следует)
ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА
Леонид Ивашов, генерал-полковник, вице-президент Академии геополитических проблем РОССИЯ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КООРДИНАТ
Нет необходимости кого-либо убеждать в том, что человечество в нынешний исторический момент переходит в новое качественное состояние. Каким будет это новое состояние, какова модель предстоящего мироустройства? Что за философия жизни будет господствовать в умах народов и наций, насколько изменится система взглядов на мировое развитие? Это вопросы, на которые ответ ещё предстоит найти.
Закон дуализма никто не отменял
Определения формирующейся новой ситуации многолики и разнообразны: «конец истории», «социальный постмодерн», «постиндустриальное сообщество», «война цивилизаций», «глобализация», «новый мировой порядок», «либеральная мировая диктатура» и т. д.
С некоторой долей определённости можно констатировать, что активно идёт процесс переоценки ситуации, сложившейся на планете к началу нового тысячелетия, установившихся концепций, прогнозов и предлагаемых ранее решений. Приведу высказывания достаточно известных миру людей.
Первое: «Государства западного мира изменили своим демократическим принципам и движутся к тоталитаризму, а демократия становится всего лишь мифом и прикрытием безнравственности».
Второе: «Бесконтрольный капитализм и распространение рыночных ценностей на все сферы жизни ставят под угрозу будущее нашего открытого и демократического общества. Сегодня главный враг открытого общества — уже не коммунистическая, но капиталистическая угроза».
И третье высказывание: «Формируется система глобального планирования и долгосрочного перераспределения ресурсов».
Первая фраза принадлежит папе римскому Иоанну Павлу II, в ней сквозит беспокойство тотальным разрушением устоявшейся системы нравственных норм и надвигающейся на мировое сообщество, по выражению понтифика, «культуры смерти».
Вторая цитата прозвучала из уст финансиста и филантропа Джорджа Сороса, и в ней слышны нотки разочарования либерально-рыночной моделью экономики.
А третья фраза — это творение незабвенного Збигнева Бжезинского, упорно выстраивающего концепцию управления планетой, управления со стороны понятно кого — мировой финансовой олигархии с использованием США в качестве главного тарана и мирового полицейского, охраняющего претензии на мировую власть и мировые ресурсы.
К оценке нынешней ситуации и тенденций её развития, видимо, более всего подходит фраза, брошенная ещё одним печально известным политиком — М. С. Горбачёвым: «Мы сегодня скорее понимаем, каким новый порядок не должен быть, чем знаем, каким он станет».
Попытаемся всё же если не прояснить ситуацию, то, по крайней мере, внести свою лепту в эту глобальную мировую путаницу и сомнения. Посмотрим на мир через призму законов и закономерностей геополитической науки. После Второй мировой войны, по сути дела, был классически реализован главный закон геополитики — закон дуализма, то есть разделения мира на морскую (талассократическую) и континентальную (теллурократическую) цивилизации. Во главе их встали государства с чётко выраженными цивилизационными признаками — США и СССР, образовавшие две мировые системы, явившие человечеству альтернативу в развитии. Соперничество между ними во многом способствовало техническому прогрессу, развитию демократических принципов, созданию системы справедливых международно-правовых норм и институтов, социальной защищённости людей.
Достижение паритета стратегических потенциалов делало мир более стабильным, и ни одна страна не ощущала себя одинокой, беззащитной, хотя и случались факты военного давления и вооружённой агрессии.
Попытки образовавшихся на развалинах СССР государств войти в систему ценностей морской цивилизации, таких, как либеральная демократия, либеральный рынок, успеха пока не имеют. И уж тем более не удаётся восстановить паритет сил и выстроить континентальную иерархию на основе несвойственных им ранее потребительских цивилизационных ценностей. Государства континентального типа всегда более консервативны в политике, экономике, военном деле, менее подвижны и тяготеют к усилению роли государства во всех сферах жизнедеятельности. Общественное доминирует над индивидуальным, духовно-нравственное над материально-потребительским.
Идущие же сейчас глобализационные процессы размывают государственные границы, снижают роль самого государства, одновременно усиливая роль финансовых структур, их зависимость от транснациональных финансовых олигархий. Но главная забота и цель таковых — прибыль любым способом, любым путём, в том числе и вхождением во власть, влиянием на власть, захватом власти или её покупкой. Вспомним формулу Билдербергского клуба: «Власть — это товар, пусть и самый дорогой. Поэтому владеть им должны самые богатые».
И сегодня можно говорить о формировании мировой финансовой системы власти, разворачивающей глобальные процессы в сторону новых прибылей. То есть на планете появился новый геополитический субъект — мировая финансовая олигархия, устанавливающая диктатуру денег, власть доллара. Этот геополитический феномен имеет преимущественно признаки агрессивной морской цивилизации, его штаб-квартира и финансовая основа дислоцируются на территории США, и поэтому его часто совмещают с государством по имени Соединённые Штаты Америки, в то время как он наднационален. И его появление — это тоже результат крушения биполярной системы мира.
Б. Клинтон в 1998 году с пафосом заявил: «Прогресс свободы сделал это столетие американским веком. С божьей помощью… мы сделаем XXI век новым американским веком». Мне кажется, что господин экс-президент США либо глубоко заблуждается, либо под Америкой он имел в виду не территорию и не население США. Другой известный американец Дж. Рифкин в своей книге «Конец работы» пишет нечто иное: «Растущий разрыв в зарплате и благах между ведущими руководителями и остальной американской рабочей силой создаёт глубоко поляризованную Америку — страну, населенную небольшой космополитической элитой живущих в изобилии американцев… с всё более нищающим населением, рабочими и безработными людьми». И далее интересный вывод: «К 2015 году США не смогут обеспечить себя импортируемой из всех стран мира нефтью. И либо придётся снижать потребление и урезать потребности, что американские корпорации и финансовые группы не любят и не умеют делать, либо будут захватывать новые и новые источники нефти и снижать для самих себя цены на нефть». Это, кстати, было написано до захвата Ирака.
Так что мы иногда, возможно, зря критикуем государство США за агрессивность, потому что простые американцы своей жизнью расплачиваются за богатства той самой космополитической элиты.
Сегодня кое-кто из российских политологов предлагает тезис: «Пусть лучше США обеспечивают порядок и управляют миром, чем вообще никто». Попытаться править миром из Вашингтона можно, но управлять мировыми процессами нельзя. Американская администрация не всегда справляется с процессами внутри страны. Это, во-первых, а во-вторых, ей придётся в таком случае поставить под контроль мировую финансовую олигархию. Но этого не произойдёт потому, что и в США власть — это тоже товар и он уже прикуплен внедрением в ряды администрации функционеров монополий, — среди них вице-президент, министр финансов, помощник президента по финансовым вопросам и пр. Значит, говоря об американской гегемонии, мы должны иметь в виду гегемонию мировой финансовой олигархии и прежде всего той самой американской, а точнее — транснациональной, космополитической элиты.
Но финансовая олигархия не способна управлять мировым развитием, в том числе мировым хозяйством, мировой наукой, культурой, образованием и т. д. Для этого у неё нет соответствующих институтов, да и нет намерения, поскольку такое управление не даёт быстро ощутимой прибыли. Проще развязать войну, захватить источники сырья, подавить конкурентов, скупить и положить под сукно конкурентоспособные научно-технические разработки. Она будет делать лишь то, что несёт быструю и ощутимую прибыль. Увеличивая свою прибыль, финансовая олигархия движется к банкротству мировой финансовой системы, о чём настойчиво предупреждает известный американский политик и экономист Л. Ларуш. Она разрушает международную систему безопасности, нравственность и духовность, обрекает на нищету миллиарды людей планеты.
Таким образом, можно сделать вывод, что один из главных претендентов на глобальную гегемонию — мировая финансовая олигархия — не обеспечивает устойчивое развитие человеческой цивилизации и, даже усиливая свою финансовую мощь и влияние в современных глобалистских процессах, подвигнет мир скорее к хаосу, нежели к стабильности.
Много говорится сегодня о роли США в становлении нового мирового порядка. Представляется, что и государство Америка не потянет управление мировым сообществом.
Во-первых, оно само находится в состоянии схватки с финансовой олигархией, претендующей на мировую власть, а союз между ними может носить лишь тактический характер (как в ситуации с Ираком);
во-вторых, действия США вызывают оппозицию иных государств и международных организаций и межгосударственных образований. В том числе со стороны союзников Вашингтона. Мы сегодня наблюдаем рост напряженности по оси Америка — Европа. Нельзя исключать перерастания напряженности в жесткое противостояние между США, с одной стороны, Германией и Францией, с другой;
в-третьих, Соединенным Штатам также не хватит — при всей их мощи — ресурса для установления и поддержания нового миропорядка, подчинённого диктату США. Уже сегодня повсеместный антиамериканизм конвертируется в акции протеста, рост недоверия к американской политике и доллару, в терроризм;
в-четвертых, внутри США возрастает нестабильность, противоборство политических сил, стагнация в экономике, деморализация общества.
Так что США не могут стать новым управляющим мира, а быть лидером — не способны в силу мировоззренческих установок на насильственное установление мирового господства. По сути дела, в США сформирована своеобразная идеология нацизма, объявляющая войну всем иным цивилизациям.
Много разговоров идет о международном терроризме как ещё об одном субъекте, претендующем на мировое доминирование. Но подобные суждения не выдерживают никакой критики. Говоря об этом феномене, подспудно имеют в виду исламский мир и стремление создать глобальный мусульманский халифат. Простой анализ состояния исламского мира показывает его серьёзную разобщённость в сфере идеологии, политики, экономики, культуры и даже теологии. И никто из серьёзных политиков от ислама об идее халифата не упоминает. Это — пропагандистское клише для оправдания агрессии против мусульманских стран.
В последние годы динамично возрастает геополитическая роль Китая. Прогнозируется, что к середине текущего века он станет державой № 1 в мировой табели о рангах. Но может ли он стать лидером мирового сообщества, а тем более определять миропорядок по-китайски? Есть ряд сомнений по этому поводу. И первое из них относится к возможности духовного лидерства. Вряд ли идеи конфуцианского социализма станут привлекательными для иных стран мира. Далее — развитие рыночных отношений всё более входит в противоречие с коммунистической идеологией. В-третьих, параллельно с Китаем наращивают мощь его соседи-соперники — Индия, Япония, Корея, Вьетнам, страны Юго-Восточной Азии, уравновешивая претензии Пекина на региональное лидерство. В перспективе просматривается возможность сближения КНР и США, особенно в период выравнивания потенциалов могущества двух стран. Но геополитический союз против остального мира не состоится в силу принадлежности к разным геополитическим мирам (морскому — США и континентальному — КНР) и присутствия элементов комплексного соперничества.
Объединённая Европа может стать сильным геополитическим игроком, но определять ход мировой истории она не в состоянии.
Итак, что мы имеем?
Императив создания комплексной системы глобального управления, ориентированной, по З. Бжезинскому, на «новый орган всемирно-политической власти», нереален. Либерально-рыночный императив глобализации не даёт стратегической перспективы человечеству и даже грозит глобальным финансово-экономическим кризисом и кардинальным изменением основ социального строя.
Контрнаступление административно-мобилизационных проектов может стать основой выхода из глобального кризиса. Но скорее это будет временной зигзаг в прошлое. Есть большая вероятность возникновения социального хаоса, мировой анархии, всеобщей гражданской войны, что будет накладываться на увеличение числа несостоявшихся государств, масштабный терроризм, массовый голод, вооружённую агрессию.
Что ждёт Россию
Влияния указанных процессов не избежать и России. Но уменьшить их влияние возможно. Каким конкретно образом? Мне кажется, что главная причина неудач российских реформ и метаний внешней и внутренней политики лежит не в плоскости плохого парламента, правительства или президента или несовершенства законодательства, а в отсутствии объективного анализа происходящих в современном мире процессов и определении тенденций мирового развития. Отсюда и прострация в выборе геополитического места и роли в системе мировых координат, неспособность разработать перспективную модель государства и общества и, как следствие, отсутствие стратегии развития государства Российского, глубокий системный кризис.
Никакая благоприятная конъюнктура, никакие, даже самые высокие, цены на нефть или социально-политическая стабилизация не будут способствовать процветанию страны при отсутствии стратегии. Напомню известный афоризм Сенеки: «Нет попутного ветра для того, кто не знает, куда плыть».
То, что мы делаем в реальной политике, это всего лишь жалкие попытки скопировать элементы того мирового хаоса, который наблюдается повсеместно в политике ведущих геополитических игроков. Посредством сравнения ВВП и других социально-экономических показателей мы унизили себя до роли третьесортного субъекта в мировой политике, совершенно отбросив огромный державный потенциал России.
Мы утрачиваем сознание того, что Российская Федерация обладает:
— объективными параметрами великой державы, имея обширную территорию с богатейшими природными ресурсами;
— населением с высоким интеллектом;
— геополитическими традициями державности и особым цивилизационным ресурсом;
— опытом социалистического проекта, альтернативного либерально-рыночному проекту;
— эксклюзивными знаниями по проектированию сверхсложных систем,
— основами фундаментальной науки;
— стратегическим военным потенциалом.
Занимая центральную часть Евразийского континента, Россия объективно выступает своего рода геополитическим «солнечным сплетением» и играет роль посредника между странами Европы и Азии. Ее одновременное присутствие в двух частях света влияет на содержание политических, экономических, культурных и военно-стратегических процессов, происходящих в них. Имея выход к морям и используя огромную территорию для международного транзита, обладая системой космической, воздушной и морской навигации, Россия располагает уникальными возможностями для эффективного участия в международной интеграции и влияния на глобальные мировые процессы.
И наконец, геоисторический и культурно-цивилизационный аспекты нашего потенциала, характеризующиеся преемственностью стереотипа геополитической активности страны вне зависимости от формы правления и характера политического режима, открытостью, приверженностью справедливым принципам отношений ко всем другим народам и странам. Россия практически всегда играла активную роль в мировых политических процессах, её политике свойственна мессианская роль.
Особый, преимущественно общинный тип хозяйства при традиционно многоукладной экономике, неповторимая культура, пронизанная настроениями соборности и высокой духовностью, братское единство восточнославянских народов и других коренных народов России, социальная солидарность, просвещённое светское общество при равноправных и равнодостойных взаимоотношениях мировоззрений, религий и вероисповеданий сформировали на наших пространствах особый цивилизационный тип россиянина. И это тоже наш общий потенциал. И союзников нам нужно искать в параметрах подобных ценностных систем, систем континентальной цивилизации.
То есть можно сделать вывод, что Россия потенциально способна стать лидером мира, альтернативного тому новому мировому порядку, который навязывают США и транснациональная мафия.
К сожалению, неореволюционный подход к преобразованиям в стране, отрицание исторических традиций, псевдонаучные методы реформ и игнорирование потенциальных возможностей развития страны привели (и не могли не привести) к тому, что мы имеем.
Наука, научное прогнозирование, научное планирование оказались отброшенными на обочину процесса, не востребованы государством, которое олицетворяют далеко не лучшие люди, и тем более не умы, Отечества. Научная мысль страны не сконцентрирована на разработке теории и стратегии строительства Российского государства и общества, не вовлечена в активный процесс поиска модельных вариантов нашего будущего. Поэтому многие институты и коллективы работают разобщённо, заняты проблемой физического выживания или трудятся за подачки на иностранные компании, научные центры, государства.
И если не наступит осознание, что антинаучный подход идёт вразрез с возрождением России, что он губителен для неё, если мы не сможем самоопределиться в этом мире, нас ожидает невесёлое будущее или его вовсе не будет.
Феномен международного терроризма
Международный терроризм как новое глобальное явление, возникшее в эпоху глобализации, оказывает серьёзное влияние на мировую политику, мировую экономику, систему международной безопасности. Под влиянием этого нового явления идёт перекройка геополитической карты мира, перераспределяются планетарные ресурсы, разрушается суверенитет и демонтируются границы государств, изменяется система международно-правовых принципов, сложившаяся в сообществе государств после Второй мировой войны.
Встаёт естественный вопрос: все эти изменения — результат действий террористов? Или терроризм — ответное следствие глобализации? Или терроризм — искусственно созданный инструмент глобализации? Без ответа на этот вопрос, без выявления глубинных причин, корней и целей международного терроризма, без вскрытия его сущности борьба с ним не имеет смысла, ибо это будет бой с тенью.
Даже поверхностный анализ цели, задач и сущности глобализационных процессов, а также политических и военных доктрин некоторых государств, интересов транснациональных корпораций и международной финансовой олигархии убеждает, что терроризм вольно или невольно способствует реализации целей, задач и интересов вышеперечисленных субъектов. А значит, он не самостоятельный субъект мировой политики, а всего лишь инструмент, средство для нового монополярного миропорядка с единым центром глобального управления, стиранием национально-государственных границ и установлением господства новой мировой элиты. Следовательно, именно она выступает главным субъектом международного террора, его идеологом, его «крёстным отцом».
Главным объектом новой мировой элиты является естественная, геополитическая традиционная и культурно-историческая реальность, сложившаяся система межгосударственных отношений, национально-государственное мироустройство человеческой цивилизации.
На наш взгляд, нынешний международный терроризм есть явление, состоящее в применении террора государственными и негосударственными политическими структурами как способа достижения политических целей.
С помощью этого определения мы можем идентифицировать — по целям и задачам — силы, относящиеся к международному терроризму, выявить заказчиков терактов, организации, способные их осуществить, и определить цели того или иного теракта.
Терроризм, согласно нашему определению, это инструмент войны иного, не традиционного типа. Если в традиционной войне главным считается уничтожение экономического и военного потенциала противника, то в новой войне терроризм решает следующие задачи: дестабилизация государственных устоев, дезорганизация управления, психологическое подавление объекта воздействия и принуждение его к политическому подчинению. Одновременно международный терроризм в союзе со СМИ выступает как своеобразная система управления глобальными процессами.
Естественно, не поняв сути этой новой войны, о которой не говорит сегодня только ленивый, мы не поймём и сущности одного из инструментов глобализации — терроризма.
Налицо стремление неких глобальных сил к установлению контроля над планетой и судьбами человечества и унификации (стандартизации) идеологии и образа жизни. То есть к подчинению всех народов одной стандартизированной схеме, определяемой хозяевами новой жизни.
После распада СССР и мировой социалистической системы казалось, что задача построения однополярного мира (мировой империи) практически решена. США получили безраздельный контроль над мировой кредитно-финансовой системой, статус доллара стал непререкаемым, во главу мировых процессов выдвинулась экономика, оттеснив политику, и опять же с лидирующим положением США. Да и в области военно-стратегической у Вашингтона не осталось конкурентов. Лишь в области стратегических ядерных вооружений могла конкурировать Россия, но и эту проблему надеялись решить экономическим путём (через кризис российской экономики, систему односторонних разоруженческих соглашений и выход из прежних равноправных договоров).
По истечении более десяти лет реализации программы глобального лидерства видно, что она затрещала по всем швам. Концепция высоких технологий провалена. Создана огромная пирамида ничем не обеспеченного доллара, угрожающая мировой экономике трудно предсказуемыми катаклизмами. Да и экономика США в конце 90-х годов покатилась по наклонной.
Европа, наращивающая интеграцию в рамках ЕС на основе единой валюты, постепенно вырастает в конкурента США — экономического и политического. На Востоке американцев беспокоят три момента: темпы развития КНР, неуклонно идущие интеграционные процессы и растущий (почти повсеместно) антиамериканизм. Плюс ко всему отчётливо проявилась тенденция к увеличению потребления углеводородного сырья в Европе и Азии на фоне выводов учёных о скором истощении нефтяных полей.
В складывающейся ситуации мировой элите во главе с США предстояло разрешить сложную дилемму:
— отказаться от имперских амбиций и приступить к структурной перестройке своей экономики и гармонизации мировой финансово-экономической системы, введению эквивалента доллару;
— внести серьёзные коррективы в стратегию глобального лидерства.
Первое грозило огромными потерями сверхбогатых, ряда транснациональных компаний, ВПК, финансовой олигархии, то есть било по карману мировой олигархии.
Поэтому был избран второй путь. В глобальную «холодную войну» были введены «горячие» элементы, и первый из них — война НАТО против Югославии. И хотя для США и мировой элиты всё обошлось благополучно, дурачить общественное мнение сказками о плохих народах (сербы — в подаче американцев), о диктаторах (С. Милошевич, С. Хуссейн) становилось всё более сложным. Да и союзники по НАТО уже не верили им.
И тогда из потайного кармана достали феномен международного терроризма. Причём это было сделано с дьявольской изощрённостью: главный удар нанесён по самой Америке. Два 100-этажных здания Международного торгового центра предотвратили (пока) обвал 450-триллионной долларовой пирамиды. Так что игра стоила свеч. И сегодня мировая «холодная война», где главными инструментами становились финансы и технологии, переросла в войну «тёплую» (по выражению известного русского учёного и писателя А. А. Зиновьева), где главным оружием стало информационно-психологическое, а сопутствующим — теракты. Но именно симбиоз СМИ и террора создает условия для поворотов в мировой политике и изменений существующей реальности.
Если в этом контексте рассматривать события 11 сентября 2001 года в США, можно сделать следующие выводы:
1. Заказчиком терактов выступали политические и деловые круги, заинтересованные в дестабилизации мировой обстановки и способные оплатить операцию. Политический замысел созрел там, где возникло напряжение в управлении финансовыми и ресурсными потоками. А причину нужно искать в столкновении интересов крупного капитала на глобальном транснациональном уровне, в кругах, не удовлетворённых темпами глобализационных процессов или их направленностью.
Именно в этих кругах мог возникнуть заговор узкой группы весьма влиятельных и состоятельных лиц. В отличие от традиционных войн, где замысел определяли политики и генералы, в данном случае инициаторами выступали финансовые воротилы и подчинённые им политики.
2. Операцию подобного масштаба способны спланировать, организовать и управлять ею только секретные службы в лице действующих должностных лиц или лиц, находящихся в отставке, но имеющих связи и влияние в государственных структурах. Только секретные службы создают, финансируют и держат под контролем организации экстремистского толка. Без их поддержки такие структуры долго существовать не могут, а тем более не могут осуществлять оперативное проникновение в систему особо охраняемых структур государства, планировать и осуществлять сверхсложную масштабную акцию.
3. Организацией — исполнителем операции не мог быть У. бен Ладен и его «Аль-Каида». Он не обладает для этого ни организационными, ни интеллектуальными, ни кадровыми ресурсами. Следовательно, была образована специальная команда профессионалов, а арабы-смертники выполняли роль демаскирующего признака ложной цели. Автомашина с «забытым» в ней Кораном и летными инструкциями, припаркованная в аэропорту, завещание, оставленное в камере хранения, и тому подобные вещи — не что иное, как увод на ложный след в расследовании теракта.
В выигрыше от операции 11 сентября 2001 года оказались:
— экономика США, получившая импульс для выхода из кризиса за счёт раскрутки военно-промышленных контрактов и нацеленности на иракскую нефть;
— политические американские и транснациональные круги, получившие возможность отвести общественное внимание от кризисной ситуации в США и в мировой экономике и сконцентрировать его на фантоме терроризма;
— администрация США, получившая козыри для освобождения от пут международного права и осуществления актов агрессии против любого государства по своему усмотрению.
Таким образом, операция 11 сентября направила ход мировых событий в русло, которое выгодно мировым олигархам и транснациональной мафии, стремящимся к контролю над планетарными природными ресурсами, глобальной информационной сетью и финансовыми потоками, а также национальной политической и деловой элите США, также стремящейся к мировому господству.
Введение в мировую политику феномена международного терроризма в качестве виртуального геополитического субъекта решает для транснациональной мировой олигархии и элиты США следующие задачи:
— сокрытие истинных целей сил, ведущих борьбу за мировое господство и глобальный контроль. Все якобы ведут борьбу с «мировым злом» — терроризмом, а значит, другое, истинное зло типа мирового сионизма и пр. уходит в тень;
— вовлечение больших масс населения в борьбу с неясными целями, с невидимым противником. Манипулирование общественным сознанием и дезинформация, нагнетание всеобщего страха, психологической дестабилизации;
— разрушение фундаментальных международно-правовых норм, искажение смысловых понятий агрессии, государственного террора, диктата, национально-освободительного движения и т. д.
— лишение народов права на вооружённое сопротивление агрессии и оккупации, на противодействие подрывной деятельности иностранных спецслужб, геноциду;
— изменение целевых установок в строительстве вооруженных сил в пользу борьбы с терроризмом (военно-полицейских функций), нарушение логики в формировании военных союзов в ущерб совместной обороне и в пользу так называемой антитеррористической коалиции;
— разрешение экономических проблем путем военно-силового принуждения под предлогом борьбы с терроризмом;
— воспрещение образования альтернативного геополитического центра силы.
Феномен международного терроризма объективно способствовал усилению роли идеологии и других форм духовной деятельности в жизни общества. В условиях, когда борьба за независимость, суверенитет, территориальную целостность военными средствами становится малоэффективной или бесперспективной, акцент в борьбе переходит в духовную сферу и может перерасти в битву за веру, за цивилизацию, за право быть русским или китайцем, православным или мусульманином и т. д.
То, что мы наблюдаем на Ближнем Востоке, не что иное, как битва ислама против иудаизма и его политического детища — мирового сионизма, против англосаксонского антидуховного образа жизни и несправедливой захватнической внешней политики.
Иерархическая структура терроризма всеохватна и всепроникающа. Практически в любой сфере человеческой жизнедеятельности имеют место факты открытого и латентного террора. На наш взгляд, наиболее известный и в наибольшей степени беспокоящий общество вид террора в форме боевых, диверсионных акций в иерархии терроризма занимает низшую ступень. Чуть выше стоит финансовый, экономический, политический террор. А высшую ступень занимает информационно-психологический терроризм как средство разрушения традиционных духовных, культурных ценностей, образа жизни, общественной морали, национального сознания, основ государственного строя, политической системы, принципов экономической деятельности и т. д. В союзе с диверсионно-боевым террором он превращается в грозное оружие массового уничтожения, пострашнее ядерного. И сегодня Россия в полной мере ощущает это на себе.
«Норд-ост», Беслан, взрывы самолетов и теракты в метро — это, безусловно, следствие близорукой политики российских властей в постсоветские годы, когда были созданы благоприятные условия для террора. Но заказчик терактов, их политическая крыша и финансовый спонсор — это та же мировая финансовая олигархия с её филиалами и подчинёнными структурами в России.
Конечно, было бы ошибочным приписывать использование террора и создание террористических структур только силам, стремящимся к мировому господству и глобальному контролю. Террор как тип войны широко используется и в защите цивилизационных и национальных интересов, когда иные способы борьбы невозможны или неэффективны (например, в силу явного превосходства противника). В этом случае террор носит характер диверсионных действий и выступает под лозунгом национального освобождения, борьбы за независимость, за сохранение своих традиций, духовных ценностей и т. д. (Ирак, Палестина). И это — следствие глобализации и результат противоборства материально-потребительских и духовных начал.
Вкрапление в борьбу подобного типа элементов религиозного фанатизма, жертвенности и нетерпимости делает её наиболее ожесточённой, бескомпромиссной и кровопролитной. В систему международного терроризма активно вплетаются создаваемые спецслужбами разных стран радикальные экстремистские организации для борьбы с государствами-конкурентами в регионе, вооружённые формирования (частные армии и спецслужбы) транснациональных корпораций, наркомафии и т. д.
Формированию террористических настроений, готовности к террористическим действиям способствуют социальная и политическая несправедливость, нищета, голод, безработица.
Терроризм в той или иной форме проявляется везде, где в какой-то момент происходит обострение противоречий в социально-политической сфере, начинается ломка общественного устройства, появляется нестабильность, падение нравов, торжество цинизма и преступности. То есть всё, что мы получили в России в результате реформ. Всё это накапливает в обществе агрессивный потенциал, который вырывается наружу бунтами, погромами или террористическими акциями. В такой среде легко найти и подготовить будущих террористов. И именно с этой средой работают спецслужбы США и их союзников, агентура транснациональных корпораций, подбрасывая в нее идеологию неоваххабизма (Чечня), борьбы за независимость (Косово) и солидные денежные вливания.
Характерным для терроризма глобального и регионального уровней является сетевая основа их создания и функционирования. По сути дела, это — масонская система. Небольшие группы (ядра), разбросанные по миру с высокой степенью автономии, без чётких иерархических построений. Мотивацией их деятельности является не приказ сверху, а некая идея. То есть центр управления такими людьми лежит в душе каждого из них, они заряжены на идею. Это зримо наблюдается в Чечне.
Особенностью действия членов такой сети является их рассредоточенность. Боевики обычно маскируются мирной деятельностью, принимают облик обычных граждан. Они собираются вместе только для выполнения теракта, после чего опять рассеиваются. Поэтому их трудно выявить и нейтрализовать, тем более что они имеют свою агентуру или «крышу» во всех ветвях коррупции и криминала, пронизывающих вертикаль власти.
Отсюда следует вывод: эффективной борьба может быть только тогда, когда изменится социальная и духовная среда, являющаяся благоприятной базой терроризма, когда главный удар будет наноситься не по ячейкам террористов, а по штабным структурам различного уровня, формирующим псевдоидею, когда общество объединится вокруг великой идеи добра и справедливости во имя будущего.
Что делать?
Это — главный вопрос в борьбе за сохранение российской государственности. Не вторгаясь в сферу деятельности правоохранительных органов, выделю следующие, на мой взгляд, неотложные меры.
1. Во внешней политике:
— определиться со своей геополитической моделью поведения, поставив во главу угла принципы справедливости, соблюдение норм международного права, противодействие агрессии во всех формах её проявления, поддержку суверенитета государств против иностранного вмешательства во внутренние дела;
— вступать в союзнические отношения на базе совпадающих долгосрочных стратегических интересов, а не по конъюнктурным соображениям властной элиты;
— всей мощью государства, потенциалом российского общества защищать своих граждан, где бы они ни находились (в Абхазии, Приднестровье, Южной Осетии или в Катаре), а также национальные интересы.
2. Во внутренней политике:
— развернуть её в сторону восстановления духовности, русской традиции, православия, традиционного ислама, русской культуры, державности. Осмыслить наконец слова великого историка В. О. Ключевского: «Конец русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда погаснут лампады над гробницей Сергия Преподобного и закроются врата его лавры»;
— сформировать новую элиту России, которая на деле может решить неотложные государственные задачи и для которой жизненное кредо составляет служение Отечеству, а критерием нравственности выступает святость;
— самым решительным образом очиститься от безнравственности во власти и её носителей, ибо безнравственная власть рождает безнравственную политику, безнравственную экономику, бескультурье, цинизм и террор. Метко сказал французский философ Ж. Бодрийяр: «Террористические акты дают увеличенное зеркальное отражение самой власти»;
— образовать центр стратегического анализа, в котором сосредоточить лучшие умы России (а не экспертов многочисленных зарубежных центров, фондов и т. д.) для объективного исследования мировой и внутрироссийской ситуации и разработки «Стратегии развития Российского государства».
В основу «Стратегии» целесообразно положить два начала:
а) духовно-нравственное — во имя чего, каких ценностей и целей будут развиваться государство и общество;
б) социально-политическое — какой социальный слой будет ведущим субъектом в определении моделей политики, экономики, образования, науки, культуры.
Решение этих задач важно как для сохранения Российского государства и его возрождения, так и для противодействия губительным глобализационным процессам. Значительная часть мирового сообщества смотрит на Россию не только с сожалением, но и с надеждой. И это тоже потенциал в пользу возрождения нашего Отечества.
Сергей Кара-Мурза ВОССТАНАВЛИВАЯ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ: КОРНИ СОВЕТСКОГО СТРОЯ
Россия переживает тяжелый кризис (ряд зарубежных ученых даже считает его самым длительным и самым глубоким в Новой истории). Этот кризис иногда называют системным. Это значит, что происходит распад или деформация всех главных систем жизнеустройства страны. Это — цивилизационный слом, когда массы людей ставят под сомнение все устои общества и принципы бытия, теряют систему координат для различения добра и зла, для осознания своих интересов, меру для оценки явлений и способность предвидеть будущее.
Те, кто обладают мужеством и силами для того, чтобы хладнокровно задуматься над состоянием дел, неизбежно обращаются за аналогиями и уроками к опыту предыдущего системного кризиса России подобного масштаба — катастрофе начала XX века. Тогда Россия, вынужденная одновременно «догонять капитализм и убегать от него», попала в историческую ловушку. Импорт западного капитализма втягивал Россию в периферию мировой капиталистической системы, финансы и промышленность попали под контроль иностранного капитала, анклавы которого были окружены морем нищающего крестьянства.
Составляя около 85 % населения, крестьянство стало внутренней колонией для обеспечения ресурсами этих анклавов, и произошел «секторный разрыв» — промышленность и сельское хозяйство не соединились в единое народное хозяйство. Промышленность не вбирала избыток сельского населения и в свою очередь не обеспечивала село машинами из-за крайней бедности крестьян. Возможность модернизации деревни была блокирована, земледелие не могло перейти от трехполья к более продуктивным многопольным севооборотам, а отсутствие удобрений и острая нехватка пастбищ и скота вели к снижению отдачи от трудовых усилий. Происходила архаизация и пауперизация хозяйственного уклада, в котором проживало большинство населения страны.
Когда наша интеллигенция сравнивает Россию с Западом, она чудесным образом забывает о том, что благодаря прекрасным почвенно-климатическим условиям, а затем наличию колоний и ранней индустриализации (разрешивших проблему «аграрного перенаселения») сельское хозяйство Запада накопило такие средства для модернизации, о которых и речи не могло идти в России — вплоть до середины 30-х годов XX века.
Урожаи зерновых с XIII-го по XIX век выросли в Западной Европе от сам-пять до сам-десять. Какие же урожаи были в России? На пороге XIX века средний урожай зерновых был сам-2,4! В четыре раза ниже, чем в Западной Европе. Надо вдуматься и понять, что эта разница, из которой и складывалось «собственное» богатство Запада (то есть полученное не в колониях, а на своей земле), накапливалась год за годом в течение тысячи лет. И даже больше. Величина этого преимущества с трудом поддается измерению.
Средства из крестьянства как «внутренней колонии» государство выжимало налогами и податями. Бывшие помещичьи крестьяне платили из своего дохода с сельского хозяйства в среднем 198,25 % (в Новгородской губернии 180 %). Таким образом, они отдавали правительству не только весь свой доход с земли, но почти столько же из заработков за другие работы. При малых наделах крестьяне, выкупившие свои наделы, платили 275 % дохода, полученного с земли!
Поскольку крестьяне составляли подавляющее большинство населения России, эти высокие налоги, дополняемые косвенными налогами на продажи предметов первой необходимости, даже при низкой доходности крестьянского хозяйства стали важнейшим источником средств для финансирования индустриализации, создания анклавов капиталистического хозяйства.
Надо подчеркнуть вещь, которая с трудом укладывается в наше «прогрессистское» сознание: такое важное, принесенное капитализмом техническое средство, как железные дороги, вело к разорению крестьянского хозяйства и к резкому ухудшению материального положения крестьян. Виднейший специалист в области хлебной торговли П. И. Лященко писал: «Железные дороги вместо того, чтобы служить клапаном, вывозящим избыток, стали постепенно служить способом для более легкого и полного выжимания из хозяйства последнего пуда хлеба, последней копейки».
Цена, которую платили крестьяне помещикам за аренду земли, была столь высока, что сегодня невозможно объяснить читателям (даже в личных разговорах), как же такое могло быть. По данным помещичьих местных комитетов, созданных С. Ю. Витте, перед 1905 г. крестьяне 49 европейских губерний ежегодно выплачивали помещикам за аренду 315 млн рублей, то есть в среднем по 25 руб. на двор (все годовое пропитание крестьянина обходилось примерно в 20 рублей). А. В. Чаянов в книге «Теория крестьянского хозяйства» (1923) пишет: «Многочисленные исследования русских аренд и цен на землю установили теоретически выясненный нами случай в огромном количестве районов и с несомненной ясностью показали, что русский крестьянин перенаселенных губерний платил до войны аренду выше всего чистого дохода земледельческого предприятия».
Расхождения между доходом от хозяйства и арендной платой у крестьян были очень велики. А. В. Чаянов приводит данные за 1904 г. по Воронежской губернии. В среднем по всей губернии арендная плата за десятину озимого клина составляла 16,8 руб., а чистая доходность одной десятины озимого при экономичном посеве была 5,3 руб. В некоторых уездах разница была еще больше. Так, в Коротоякском уезде средняя арендная плата была 19,4 руб., а чистая доходность десятины 2,7 руб. Разница колоссальна — 16,6 руб. с десятины, в семь (!) раз больше чистого дохода.
Понятно, что в этих условиях ни о каком капитализме речи и быть не могло. Организация хозяйства могла быть только крепостной, общинной, а затем колхозно-совхозной. Реформа Столыпина была обречена на неудачу по причине непреодолимых объективных ограничений. Как, впрочем, и нынешняя попытка «фермеризации».
Попытка модернизации села через разрушение общины при сохранении помещичьего землевладения («реформа Столыпина») лишь углубила секторный разрыв. При этом положение большинства крестьян ухудшилось. В результате расширения экспорта зерна сократилось животноводство и повысились цены на мясо. В статье «Обзор мясного рынка» («Промышленность и торговля», 1910, № 2) сказано: «Все увеличивающаяся дороговизна мяса сделала этот предмет первой необходимости почти предметом роскоши, недоступной не только бедному человеку, но даже и среднему классу городского населения».
А крестьяне ели мяса намного меньше, чем в городе. Именно из-за недостаточного потребления белковых продуктов и особенно мяса жители Центральной России стали в начале XX века такими низкорослыми. В Клинском уезде Московской губернии в 1909 г. мужчины к окончанию периода роста — 21 году — имели в среднем рост 160,5 см, а женщины 147 см. Более старшее поколение было крупнее. Мужчины 50–59 лет в среднем имели рост 163,8 см, а женщины 154,5 см.
Чтобы хоть приблизительно представить себе, как питались в предреволюционные (довоенные) годы рабочие и крестьяне России, можно сравнить их рацион с тем, который мы еще приблизительно помним и который, кстати, под воздействием антисоветской пропаганды многие считали скудным, — с рационом 1986 г. Если вчитаться в следующую ниже таблицу, то видно, что разница колоссальная. Не чуть-чуть меньше мяса, молока и сахара, а меньше во много раз, чем то, что мы считаем нормальным (и даже недостаточным) для человека. Тем более для человека, занятого тяжелым физическим трудом1.
Потребление продуктов питания в семьях рабочих и крестьян в дореволюционный период и в 1986 г. (по материалам обследования семейных бюджетов; на душу населения в год, кг)
\ Рабочие Крестьяне (колхозники) до революции 1986 до революции 1986 Мясо и мясопродукты 22,5 82,2 14,9 58,7 Молоко и молочные продукты 87,0 340,9 107,0 350,7 Яйца, шт. 53 277 33 294 Рыба и рыбопродукты 14,5 21,2 5,5 14,8 Сахар 9,4 35,3 3,0 41,3 Картофель 90,2 92,1 77,7 142,9 Овощи и бахчевые 41,0 82,5 25,5 96,1 Хлебные продукты 174,3 87,2 256,0 150,1Примечание. Сравниваются семейные бюджеты семей рабочих городов Петербурга (Ленинграда), Ногинска и Фурманова, крестьян (колхозников) Вологодской, Кировской, Воронежской и Харьковской областей2.
Тяжелое материальное положение крестьян в начале XX века породило острую духовную проблему. Толстой не раз писал, что к этому времени произошло знаменательное и для правящих кругов неожиданное повышение нравственных запросов крестьянства. Он обращал внимание на то, что крестьяне вдруг перестали выносить телесные наказания, это стало для них нестерпимой нравственной пыткой, так что стали нередки случаи самоубийства из-за этих наказаний. Наказы и приговоры крестьян 1905–1907 гг., затрагивающие темы человеческого достоинства, поражают своим глубоким эпическим смыслом — сегодня, в нашем нынешнем моральном релятивизме, даже не верится, что неграмотные сельские труженики на своих сходах могли так поставить и сформулировать вопрос.
Революция 1917 г. и Советы
В начале XX века, когда государство с помощью налогообложения стало разрушать натуральное хозяйство крестьян без модернизации — просто заставляя крестьян выносить продукт на рынок, терпение крестьян лопнуло. Они пришли к убеждению, что правительство — их враг, что разговаривать с ним можно только на языке силы. Началась русская революция, которая была продолжена в других крестьянских странах и стала мировой — но не по Марксу.
Крестьяне с. Никольского Орловского уезда и губернии в своем наказе в I Госдуму (июнь 1906 г.) предупреждали: «Если депутаты не истребуют от правительства исполнения народной воли, то народ сам найдет средства и силы завоевать свое счастье, но тогда вина, что родина временно впадет в пучину бедствий, ляжет не на народ, а на само слепое правительство и на бессильную Думу, взявшую на свою совесть и страх действовать от имени народа» (наказы и приговоры крестьян цитируются по книге Л. Т. Сенчаковой «Приговоры и наказы российского крестьянства. 1905–1907». Т. 1, 2. М.: Ин-т российской истории РАН. 1994).
В приговоре крестьян дер. Стопино Владимирской губернии во II Госдуму в июне 1907 г. сказана вещь, которая к этому времени стала совершенно очевидной практически для всего крестьянства, и оно не нуждалось для ее понимания ни в какой политической агитации: «Горький опыт жизни убеждал нас, что правительство, века угнетавшее народ, правительство, видевшее и желавшее видеть в нас послушную платежную скотину, ничего для нас сделать не может… Правительство, состоящее из дворян чиновников, не знавшее нужд народа, не может вывести измученную родину на путь права и законности» (там же, т. 2, с. 239).
Выходом из этого тупика стала революция 1917 г. Уже в феврале в России возникло два типа государства, каждый из которых представлял особый цивилизационный путь — буржуазно-либеральное Временное правительство и «самодержавно-народные» Советы. Поначалу они сотрудничали, хотя столкновения начались быстро. И кадеты, и правые либералы были едины в своей ориентации на Запад и, следовательно, в намерении продолжать войну. В апреле военный министр А. И. Гучков заявил на большом совместном заседании правительства, Временного комитета Госдумы и Исполкома Петроградского Совета: «Мы должны все объединиться на одном — на продолжении войны, чтобы стать равноправными членами международной семьи».
Февральская революция сокрушила одно из главных оснований российской цивилизации — ее государственность, сложившуюся в специфических природных, исторических и культурных условиях России. Тот факт, что Временное правительство, ориентируясь на западную модель либерально-буржуазного государства, разрушало структуры традиционной государственности России, был очевиден и самим пришедшим к власти либералам. Французский историк Ферро, ссылаясь на признания Керенского, отмечает это уничтожение российской государственности как одно из важнейших явлений февральской революции.
Напротив, рабочие организации, тесно связанные с Советами, стремились укрепить государственные начала в общественной жизни в самых разных их проявлениях. Меньшевик И. Г. Церетели писал тогда об особом «государственном инстинкте» русских рабочих и их «тяге к организации». При этом организационная деятельность рабочих комитетов и Советов определенно создавала модель государственности, альтернативную той, что пыталось строить Временное правительство.
Историк Д. О. Чураков пишет в книге «Русская революция и рабочее самоуправление» (М: Аиро-ХХ, 1998): «Революция 1917 г., таким образом, носила не только социальный, но и специфический национальный характер. Но это национальное содержание революции 1917 г. резко контрастировало с приходом на первые роли в обществе либералов-западников. Что это могло означать для страны, в которой национальная специфика имела столь глубокие и прочные корни? Это означало только одно — рождение одного из самых глубоких социальных конфликтов за всю историю России. И не случайно эта новая власть встречала тем большее сопротивление, чем активнее она пыталась перелицевать „под себя“ традиционное российское общество».
Историки (например, В. О. Ключевский) еще с 1905 г. предупреждали, что попытки перейти от монархии к «партийно-политическому делению общества при народном представительстве» будут обречены на провал. В августе 1917 г. М. В. Родзянко говорил: «За истекший период революции государственная власть опиралась исключительно на одни только классовые организации… В этом едва ли не единственная крупная ошибка и слабость правительства и причина всех невзгод, которые постигли нас». Иными словами, буржуазная государственная надстройка, будь она принята обществом, стала бы его раскалывать по классовому принципу, как это и следует из теории гражданского общества.
В отличие от этой буржуазно-либеральной установки, Советы (рабочих, солдатских и крестьянских депутатов) формировались как органы не классово-партийные, а общинно-сословные, в которых многопартийность постепенно вообще исчезла. На уровне государства Советы были, конечно, новым типом, но на уровне самоуправления это был именно традиционный тип, характерный для аграрной цивилизации — тип военной, ремесленной и крестьянской демократии доиндустриального общества. М. М. Пришвин записал в дневнике 29 апреля 1918 г.: «Новое революции, я думаю, состоит только в том, что она, отметая старое, этим снимает заслон от вечного, древнего».
Та сила, которая стала складываться после Февраля сначала в согласии с Временным правительством, а потом и в противовес ему и которую впоследствии возглавили большевики, была выражением массового стихийного движения. Идейной основой его был не марксизм и вообще не идеология как форма сознания, а народная философия более фундаментального уровня. Сила эта по своему типу не была и «партийной». Иными словами, способ ее организации был совсем иным, нежели в западном гражданском обществе.
В этом и заключается кардинальная разница между большевиками, которые были частью глубинного народного движения, помогая строить его культурную матрицу, и их противниками и оппонентами, в том числе в марксизме, которые воспринимали это глубинное движение как своего врага, как бунт, как отрицание революции — как контрреволюцию. Поэтому ортодоксальные марксисты (меньшевики) оказались в антисоветском лагере.
В своем «Политическом завещании» (сентябрь 1920 г.) лидер меньшевиков Аксельрод пишет о большевиках: «…И все это проделывалось под флагом марксизма, которому они уже до революции изменяли на каждом шагу. Самой главной для всего интернационального пролетариата изменой их собственному знамени является сама большевистская диктатура для водворения коммунизма в экономически отсталой России в то время, когда в экономически наиболее развитых странах еще царит капитализм. Вам мне незачем напоминать, что с первого дня своего появления на русской почве марксизм начал борьбу со всеми русскими разновидностями утопического социализма, провозглашавшими Россию страной, исторически призванной перескочить от крепостничества и полупримитивного капитализма прямо в царство социализма. И в этой борьбе Ленин и его литературные сподвижники активно участвовали. Совершая октябрьский переворот, они поэтому совершили принципиальную измену…
Большевизм зачат в преступлении, и весь его рост отмечен преступлениями против социал-демократии… А мы противники большевиков именно потому, что всецело преданы интересам пролетариата, отстаиваем его и честь его международного знамени против азиатчины, прикрывающейся этим знаменем… В борьбе с этой властью мы имеем право прибегать к таким же средствам, какие мы считали целесообразными в борьбе с царским режимом».
Оправдывая выбор меньшевиков в Гражданской войне против советского государства, Аксельрод декларирует «необходимость войны против него не на жизнь, а на смерть, — ради жизненных интересов не только русского народа, но международного социализма и международного пролетариата, а быть может, даже всемирной цивилизации… Где же выход из тупика? Ответом на этот вопрос и явилась мысль об организации интернациональной социалистической интервенции против большевистской политики… и в пользу восстановления политических завоеваний февральско-мартовской революции».
Таким образом, Октябрь открыл путь стихийному процессу продолжения Российской государственности от самодержавной монархии к советскому строю, минуя государство либерально-буржуазного типа. М. М. Пришвин записал в дневнике 30 октября 1917 г.: «Просто сказать, что попали из огня да в полымя, от царско-церковного кулака к социалистическому, минуя свободу личности».
Год спустя сам М. М. Пришвин признает, что образ создаваемого Советского государства зарождался в самых глубинных слоях сознания и был новым воплощением традиционного представления о самодержавной власти. М. М. Пришвин записал в дневнике 14 декабря 1918 г.: «Это небывалое обнажение дна социального моря. Сердце болит о царе, а глотка орет за комиссара».
Истоки советского проекта — крестьянская община
Было бы неверно сказать, что крестьяне в 1917 г. приняли советскую власть. Напротив, сама эта власть возникла как выражение того проекта, который уже сложился и в значительной мере оформился в среде русского общинного крестьянства. И хотя в условиях революционной смуты и разрухи у каждой отдельной личности не могло не быть обид на любую власть — озлобленную, без ресурсов и без возможности воздействовать на общество посредством устоявшегося права, — в крестьянской среде возникло общее чувство, что именно советская власть выражает их чаяния.
М. М. Пришвин записал в дневнике 28 декабря 1918 г.: «Иван Афанасьевич сказал мне в ответ на мысль мою о невидимой России: „Это далеко — я не знаю, а село свое насквозь вижу, и не найдется в нем ни одного человека, кто бы против коммунистов говорил без чего-нибудь своего, личного“».
Говоря о роли крестьянства в революции, обычно делают акцент на земельном вопросе, а в нем уделяют главное внимание экономической стороне дела. Недооценка и даже, скорее, непонимание сущности вопроса о земле в крестьянской России и консерваторами, и либералами, и социалистами-западниками стало нашей национальной бедой. Вопрос о земле был не только экономическим, и его невозможно было разрешить исходя из рационального расчета — речь шла о мировоззрении и представлении о желаемом жизнеустройстве в целом, в том числе и о путях развития, модернизации России. М. М. Пришвин записал в дневнике 27 декабря 1918 г.: «Что же такое это земля, которой домогались столько времени? Земля — уклад. „Земля, земля!“ — это вопль о старом, на смену которого не шло новое. Коммунисты — это единственные люди из всех, кто поняли крик „земля!“ в полном объеме».
И тогда, и сейчас городской обыватель считает, что крестьяне России желали «отнять землю у помещиков». Это совершенно ошибочный стереотип. С момента реформы 1861 г. крестьяне вовсе не требовали и не желали экспроприации земли у помещиков, они понимали национализацию как средство справедливо разделить землю согласно трудовому принципу — чтобы и помещикам оставить, но столько, сколько он может возделать своим трудом.
А. Н. Энгельгардт писал в «Письмах из деревни» в 1881 г.: «Газетные корреспонденты ошибочно передавали, что в народе ходят слухи, будто с предстоящей ревизией земли от помещиков отберут и передадут крестьянам. Толковали не о том, что у одних отберут и отдадут другим, а о том, что будут равнять землю. И заметьте, что во всех этих толках дело шло только о земле и никогда не говорилось о равнении капиталов или другого какого имущества…
Именно толковали о том, что будут равнять землю и каждому отрежут столько, сколько кто может обработать. Никто не будет обойден. Царь никого не выкинет и каждому даст соответствующую долю в общей земле. По понятиям мужика, каждый человек думает за себя, о своей личной пользе, каждый человек эгоист, только мир да царь думают обо всех, только мир да царь не эгоисты. Царь хочет, чтобы всем было равно, потому что всех он одинаково любит, всех ему одинаково жалко. Функция царя — всех равнять…
Крестьяне, купившие землю в собственность или, как они говорят, в вечность, точно так же толковали об этом, как и все другие крестьяне, и нисколько не сомневались, что эти „законным порядком за ними укрепленные земли“ могут быть у „законных владельцев“ взяты и отданы другим. Да и как же мужик может в этом сомневаться, когда, по его понятиям, вся земля принадлежит царю и царь властен, если ему известное распределение земли невыгодно, распределить иначе, поравнять. И как стать на точку закона права собственности, когда население не имеет понятия о праве собственности на землю?»
Представление о земле, одинаковое для крестьянства на всей территории России, было развитым и развернутым. Оно было связано со всеми другими срезами жизнеустройства. В 1905 г. на съездах Всероссийского Крестьянского Союза были определены враждебные крестьянам силы, и в этом было достигнуто убедительное согласие. «Враги» были означены в таком порядке: чиновники («народу вредные»), помещики, кулаки и местные черносотенцы. А главное, полный антагонизм с помещиками выражался во всеобщем крестьянском требовании национализации земли и непрерывно повторяемом утверждении, что «земля — Божья». Выборы в I и II Думы рассеяли всякие сомнения — крестьяне не желали иметь помещиков своими представителями.
Собрание крестьян четырех волостей Волоколамского уезда Московской губернии в наказе, посланном в Трудовую группу I Госдумы в мае 1906 г., так обобщило представление о положении крестьянства в связи с земельным вопросом: «Земля вся нами окуплена потом и кровью в течение нескольких столетий. Ее обрабатывали мы в эпоху крепостного права и за работу получали побои и ссылки и тем обогащали помещиков. Если предъявить теперь им иск по 5 коп. на день за человека за все крепостное время, то у них не хватит расплатиться с народом всех земель и лесов и всего их имущества. Кроме того, в течение сорока лет уплачиваем мы баснословную аренду за землю от 20 до 60 руб. за десятину в лето, благодаря ложному закону 61-го года, по которому мы получили свободу с малым наделом земли, почему все трудовое крестьянство и осталось разоренным, полуголодным народом, а у тунеядцев помещиков образовались колоссальные богатства» (Л. Т. Сенчакова. Т. 1, с. 111, 112).
В приговорах и наказах 1905–1907 гг. крестьяне отвергали реформу Столыпина принципиально и непримиримо. Л. Т. Сенчакова подчеркивает, что в приговорах и наказах нет ни одного, в котором выражалась бы поддержка этой реформы. В начале приговорной кампании местные власти пытались организовать (как правило, через священников) составление верноподданнических писем. Эта попытка потерпела неудачу, так как после появления такого письма сразу собирался сход, который требовал от покрививших душой отправителей письма указать фамилии тех, кто якобы одобряет политику властей и на кого они ссылались. Если таковых не было, сход требовал от авторов письма гласно в печати от него отказаться, в противном случае ставился вопрос об их исключении «из общества».
Крестьяне признавали многообразие форм землепользования (общинное, индивидуальное, артельное), но категорически требовали ликвидации помещичьего землевладения без выкупа. Общим было отрицание программы приватизации общинной земли с правом ее купли-продажи. Крестьяне Костромского уезда и губернии писали в марте 1907 г. во II Госдуму об указе, вводящем в действие реформу Столыпина: «Закон 9 ноября 1906 г. должен быть уничтожен окончательно. Права на земельную частную собственность не должно быть» (Л. Т. Сенчакова, т. 1, с. 141).
А в обобщенном приговоре крестьян всей Костромской губернии, отправленном в Госдуму в те же дни, говорилось: «Требовать отмены закона 9 ноября 1906 г., разрешающего выход из общины и продажу надельной земли, так как закон этот через 10–15 лет может обезземелить большую часть населения и надельная земля очутится в руках купцов и состоятельных крестьян-кулаков, а вследствие этого кулацкая кабала с нас не свалится никогда» (там же)1.
Именно так, как предполагали костромские крестьяне, и пошел процесс скупки земли в ходе реформы. В своих объяснениях неприятия программы Столыпина крестьяне продемонстрировали удивительные по нынешним временам дальновидность и здравый смысл. Вот как обосновал свое несогласие с указом волостной сход Рыбацкой волости Петербургского уезда:
«По мнению крестьян, этот закон Государственной думой одобрен не будет, так как он клонится во вред неимущих и малоимущих крестьян. Мы видим, что всякий домохозяин может выделиться из общины и получить в свою собственность землю; мы же чувствуем, что таким образом обездоливается вся молодежь и все потомство теперешнего населения. Ведь земля принадлежит всей общине в ее целом не только теперешнему составу, но и детям и внукам.
Всей землей правила вся община и за таковую землю вся община платила подати, несла разного рода повинности и распоряжалась землею, убавляя от многоземельных и прибавляя малоземельным, и потому никто не может требовать себе выдела земли в частную собственность, и потому наша волость этого допустить не может. Она не может допустить и мысли, чтобы малосемейные, но многоземельные крестьяне обогащались за счет многосемейных, но малоземельных крестьян… Государственная дума, мы думаем, не отменит общинного владения землей» (ук. соч., т. 1, с. 141, 142).
Этот довод против приватизации земли, согласно которому земля есть достояние всего народа и ее купля-продажа нарушает права будущих поколений, в разных вариациях звучит во множестве наказов и приговоров. Заметим, что в приговорах 1906–1907 гг. речь идет об указе, всего лишь разрешавшем выход из общины и приватизацию надельной земли. А 14 июня 1910 г. вышел жесткий антиобщинный закон, обязывающий разверстать на индивидуальные участки земли общин, в которых с 1861 г. не производились переделы земли. Таких земель, по оценкам историков, было по России примерно 40 %. То есть насильно ликвидировалась почти половина общин.
В разных выражениях крестьяне требуют национализации земли (чаще всего говорится о необходимости создания Государственного фонда). Приговор волостного схода Муравьевской волости Ярославской губернии в I Госдуму (июнь 1906 г.) гласил: «Мы признаем землю Божьей, которой должен пользоваться тот, кто ее работает; оградите переход земли в одни руки, ибо будет то же, что и теперь — ловкие люди будут скупать для притеснения трудового крестьянства: по нашему убеждению, частной собственности на землю допустить невозможно» (ук. соч., т. 1, с. 137).
В июне 1906 г. в I Госдуму был направлен и приговор с. Старой Михайловки Саранского уезда Пензенской губернии: «Мы желаем, чтобы зло земельной частной собственности покончить в один раз и навсегда, как это нам показала история, что вознаграждение ведет к величайшему обнищанию страны и к непосильному гнету для нас, крестьян. У нас у всех в памяти кутузки, продажа скота, заушение со стороны властей, слезы жен и детей, которые оплакивали трудами откормленную скотину и продавали с торгов кулаку за недоимки; мы знаем, что землей владеют только тысячи людей, а безземельных миллионы, а поэтому право и желание должно быть по закону на стороне большинства» (там же).
Таково было тогда всеобщее представление крестьян о правильном и справедливом способе владения и пользования землей. В преддверии новой попытки приватизации и продажи земли, уже в конце XX века, была предпринята крупная идеологическая кампания по созданию «мифа Столыпина». Тот, чье имя сочеталось со словом «реакция», стал кумиром демократической публики! В среде интеллигенции Столыпин стал самым уважаемым деятелем во всей истории России — в начале 90-х годов 41 % опрошенных интеллигентов ставили его на первое место. Выше Александра Невского, Петра Великого или Жукова!
В связи с земельным вопросом крестьяне определяли свое отношение к власти и праву. В очень большом числе наказов крестьяне подчеркивали, что свобода (или воля) для них важна в той же степени, что и земля: «без воли мы не сможем удержать за собой и землю». В наказе Иванцевского сельского общества Лукояновской волости Нижегородской губернии во II Госдуму (апрель 1907 г.) говорилось:
«Мы прекрасно знаем, что даже если мы добьемся земли, подоходного налога, всеобщего обязательного дарового обучения и замены постоянного войска народным ополчением, все-таки толку будет мало, потому что правительство может все это от нас снова забрать. Поэтому нам необходима широкая возможность защищать наши права и интересы. Для этого нам надо, чтобы была предоставлена полная свобода говорить и писать в защиту своих интересов и в обличение всякой неправды властей и мошенничеств богатеев, свободно устраивать собрания для обсуждения наших нужд, составлять союзы для защиты наших прав. Требуя полной воли, мы желаем, чтобы никто в государстве не мог быть посажен в тюрьму по усмотрению властей, не мог быть подвергнут обыску без дозволения суда — словом, чтобы была полная неприкосновенность личности и жилища всех граждан. А чтобы судьи были справедливы, не потакали властям и в угоду им не притесняли граждан обысками и арестами, мы требуем, чтобы они не были подвластны начальству: пусть их выбирает весь народ и пусть за неправые дела их можно привлекать по суду» (ук. соч., с. 256).
Таким образом, в отличие от того, что приходилось слышать во время перестройки от наших либеральных идеологов (например, А. Н. Яковлева), понимание воли у крестьян вовсе не было архаичным. В нем, конечно, отвергалась идея разделения человечества на «атомы» (индивиды), представление о человеке было общинным, но это представление вполне вмещало в себя гражданскую концепцию прав и свобод. В рамках мироощущения традиционного общества крестьяне России в начале XX века имели развитые и одинаково понимаемые в пределах России представления о гражданских свободах.
Вот что сказано в принятом 31 июля 1905 г. приговоре Прямухинского волостного схода Новоторжского уезда Тверской губернии: «Крестьяне давно бы высказали свои нужды. Но правительство полицейскими средствами, как железными клещами, сдавило свободу слова русских людей. Мы лишены права открыто говорить о своих нуждах, мы не можем читать правдивое слово о нуждах народа. Не желая дольше быть безгласными рабами, мы требуем свободы слова, печати, собраний» (там же).
Крестьяне России переросли сословное устройство общества, они обрели именно гражданское чувство. Судя по многим признакам, оно им было присуще даже в гораздо большей степени, нежели привилегированным сословиям. 12 июля 1905 г. крестьяне с. Ратислова Владимирской губернии составили приговор, в котором содержался такой пункт:
«Третья наша теснота — наше особое, крестьянское положение. До сих пор смотрят на нас, как на ребят, приставляют к нам нянек, и законы-то для нас особые; а ведь все мы члены одного и того же государства, как и другие сословия, к чему же для нас особое положение? Было бы гораздо справедливее, если бы законы были одинаковы как для купцов, дворян, так и для крестьян, равным образом и суд был бы одинаков для всех» (ук. соч., т. 2, с. 25).
Как известно, правящая верхушка в то время категорически отвергла требование введения бессословности. Было вполне правильно понято, что это изменение «сознательно или бессознательно» повело бы Россию к ликвидации монархии и установлению республиканского строя, ибо именно сословность являлась одной из важнейших опор монархии. Падение монархии в феврале 1917 г. во многом и было предопределено тем, что крестьяне необратимо отвергли сословное разделение (но в равной мере и классовое, что и предопределило сдвиг от Февраля к Октябрю).
Когда читаешь эти приговоры и наказы в совокупности, то видишь, что революция означала для крестьян переход в качественно иное духовное состояние. Их уже нельзя было удовлетворить какими-то льготами и «смягчениями» — требование свободы и гражданских прав приобрело экзистенциальный, духовный характер, речь велась о проблеме бытия, имевшей даже религиозное измерение. «Желаем, чтобы все перед законом были равны и назывались бы одним именем — русские граждане».
Приговор схода крестьян дер. Пертово Владимирской губернии, направленный во Всероссийский крестьянский союз (5 декабря 1905 г.), гласил: «Мы хотим и прав равных с богатыми и знатными. Мы все дети одного Бога, и сословных различий никаких не должно быть. Место каждого из нас в ряду всех, и голос беднейшего из нас должен иметь такое же значение, как голос самого богатого и знатного» (там же).
В своих наказах и приговорах крестьяне разумно не упоминали самого царя, однако их отношение к монархическому бюрократическому строю выражалось вполне определенно. Вот, например, приговор крестьян дер. Назаровка и Ильинская Юрьевецкого уезда Костромской губернии, направленный в Госдуму в июне 1906 г. В нем сказано о царской бюрократии так: «Эта сытая, разжиревшая на чужой счет часть общества в безумстве своем роет сама себе яму, в которую скоро и впадет. Она, эта ненасытная бюрократия, как все равно утопающий, хочет спастись, хватавшись за соломинку, несмотря на верную свою гибель» (ук. соч., т. 2, с. 236).
А вот наказ крестьян и мещан Новооскольского уезда Курской губернии в Трудовую группу I Госдумы (июнь 1906 г.): «Само правительство хочет поморить крестьян голодной смертью. Просим Государственную думу постараться уничтожить трутней, которые даром едят мед. Это министры и Государственный совет запутали весь русский народ, как паук мух в свою паутину; мухи кричат и жужжат, но пока ничего с пауком поделать нельзя» (там же).
Основу государственности крестьяне видели в самоуправлении, которое требовали освободить от диктата бюрократической надстройки. В наказе во II Госдуму крестьян с. Дианова Макарьевского уезда Нижегородской губернии сказано: «Упразднить такие ненужные учреждения, как земские начальники, производящие суд и расправу яко в крепости и в своих имениях и по своему усмотрению. Уничтожить совсем целые полки полицейских стражников, урядников, жандармов и приставов, и тогда сами собой уменьшатся земские расходы, выдаваемые этим дармоедам, и тогда прекратятся налоги, собираемые с труженика крестьянина» (ук. соч., т. 1, с. 194).
Вот приговор волостного схода крестьян Плещеевской волости Тверской губернии во II Госдуму (13 марта 1907 г.): «Убрать стражников и ненужную всю полицейскую свору, которая составляет громадные расходы, но не приносящую никакой пользы, кроме сильнейшего зла» (там же).
Особой причиной для назревания ненависти крестьян (как и рабочих) была образовательная политика государства. В целом, под давлением наступающего на Россию капитализма западного типа, правящая верхушка в начале XX века взяла курс на создание школы «двух коридоров» по западному образцу. Иными словами, на превращение школы, выполняющей роль «культурного генетического аппарата» общества и имеющей целью воспроизводство народа, в школу, «производящую» классы1. В своих заметках «Мысли, подлежащие обсуждению в Государственном совете» Николай II пишет: «Средняя школа получит двоякое назначение: меньшая часть сохранит значение приготовительной школы для университетов, большая часть получит значение школ с законченным курсом образования для поступления на службу и на разные отрасли труда».
Царь к тому же был одержим идеей уменьшить число студентов и считал, что такая реформа школы сократит прием в университеты. Николай II требовал сокращения числа «классических» гимназий — как раз той школы, что давала образование «университетского типа». Он видел в этом средство «селекции» школьников, а потом и студентов, по сословному и материальному признакам — как залог политической благонадежности. Министр просвещения Г. Э. Зенгер в 1902 г. с большим трудом отговорил царя от приведения числа гимназий в соответствие с числом студентов в университетах, приведя как довод, что «недовольство достигло бы больших пределов».
Однако в отношении крестьян образовательная политика царского правительства поражает своим дискриминационным характером. Крестьян-общинников, которые получали образование, согласно законодательству, действовавшему до осени 1906 г., исключали из общины с изъятием у них надельной земли. Крестьянин реально не мог получить даже того образования, которое прямо было ему необходимо для улучшения собственного хозяйства — в земледельческом училище, школе садоводства и др., поскольку окончившим курс таких учебных заведений присваивалось звание личного почетного гражданства. Вследствие этого крестьянин формально переходил в другое сословие и утрачивал право пользования надельной землей. Лишались такие крестьяне и права избирать и быть избранными от крестьянства. Как пишет Л. Т. Сенчакова, «понятие образованные крестьяне выглядело логическим абсурдом: одно из двух — или образованные, или крестьяне» (ук. соч., т. 1, с. 180).
Содержание сельских школ (земских и церковно-приходских) почти целиком ложилось на плечи самих крестьян (помещение, отопление, квартиру учителю, сторож), а уровень обучения был очень низким. В приговоре в I Госдуму схода Спасо-Липецкого сельского общества (Смоленская губерния, 4 июня 1906 г.) говорилось: «Страдаем мы также от духовной темноты, от невежества. В селе у нас есть церковная школа, которая ничего населению не приносит. Обучение же в ней с платой (за каждого ученика вносится 1 р. денег и воз дров, а также натурой). Те скудные знания, которые дети получают в школе, скоро забываются. О библиотеках и читальнях и помину нет» (ук. соч., т. 1, с. 185).
Более того, в среде крестьян сложилось устойчивое убеждение, что правящие круги злонамеренно препятствуют развитию народного просвещения и образования. В приговоре в I Госдуму схода крестьян с. Воскресенского Пензенского уезда и губернии (июль 1906 г.) сказано: «Все начальники поставлены смотреть, как бы к мужикам не попала хорошая книга или газета, из которой они могут узнать, как избавиться от своих притеснителей и научиться, как лучше устраивать свою жизнь. Такие книги и газеты они отбирают, называют их вредными, и непокорным людям грозят казаками» (там же).
Вот еще маленький штрих: крестьяне стали глубоко переживать тот факт, что их детям приходилось в раннем возрасте выполнять тяжелую полевую работу. Так, в заявлении крестьян дер. Виткулово Горбатовского уезда Нижегородской губернии в Комитет по землеустроительным делам (8 января 1906 г.) сказано: «Наши дети в самом нежном возрасте 9–10 лет уже обречены на непосильный труд вместе с нами. У них нет времени быть детьми. Вечная каторжная работа из-за насущного хлеба отнимает у них возможность посещать школу даже в продолжение трех зим, а полученные в школе знания о боге и его мире забываются, благодаря той же нужде» (там же).
Те представления о благой жизни, которые легли в основание советского проекта, выросли из крестьянского мироощущения («архаического общинного коммунизма»). Они были «перекристаллизованы» в сознании крестьян и выражены в четких формулировках уже в 1905–1907 гг.
Рабочее самоуправление и черты нового жизнеустройства
Советы после февраля 1917 г. вырастали именно из крестьянских представлений об идеальной власти. Исследователь русского крестьянства А. В. Чаянов писал: «Развитие государственных форм идет не логическим, а историческим путем. Наш режим есть режим советский, режим крестьянских советов. В крестьянской среде режим этот в своей основе уже существовал задолго до октября 1917 года в системе управления кооперативными организациями».
Становление системы Советов было процессом «молекулярным», хотя имели место и локальные решения. Так произошло в Петрограде, где важную роль сыграли кооператоры. Еще до отречения царя, 25 февраля 1917 г., руководители Петроградского союза потребительских обществ провели совещание с членами социал-демократической фракции Государственной думы в помещении кооператоров на Невском проспекте и приняли совместное решение создать Совет рабочих депутатов — по типу Петербургского совета 1905 г. Выборы депутатов должны были организовать кооперативы и заводские кассы взаимопомощи1.
Говоря о становлении после февраля 1917 г. советской государственности, все внимание обычно сосредоточивают именно на Советах, даже больше того — на Советах рабочих и солдатских депутатов («совдепах»). Но верно понять природу Советов нельзя без рассмотрения их низовой основы, системы трудового самоуправления, которая сразу же стала складываться на промышленных предприятиях. Ее ячейкой был фабрично-заводской комитет (фабзавком). Развитию этой системы посвящена очень важная для нашей темы книга Д. О. Чуракова «Русская революция и рабочее самоуправление» (М., 1998).
В те годы фабзавкомы возникали и в промышленности западных стран, и очень поучителен тот факт, что там они вырастали из средневековых традиций цеховой организации ремесленников, как объединение индивидов в корпорации, вид ассоциаций гражданского общества. А в России фабзавкомы вырастали из традиций крестьянской общины. Из-за большой убыли рабочих во время Первой мировой войны на фабрики и заводы пришло пополнение из деревни, так что доля «полукрестьян» составляла до 60 % рабочей силы. Важно также, что из деревни на заводы теперь пришел середняк, составлявший костяк сельской общины. В 1916 г. 60 % рабочих-металлистов и 92 % строительных рабочих имели в деревне дом и землю. Эти люди обеспечили господство в среде городских рабочих общинного крестьянского мировоззрения и общинной самоорганизации и солидарности.
Фабзавкомы, в организации которых большую роль сыграли Советы, быстро сами стали опорой Советов. Прежде всего именно фабзавкомы финансировали деятельность Советов, перечисляя им специально выделенные с предприятий «штрафные деньги», а также 1 % дневного заработка рабочих. Но главное, фабзавкомы обеспечили Советам массовую и прекрасно организованную социальную базу, причем в среде рабочих, охваченных организацией фабзавкомов, Советы рассматривались как контролер. Установка на государственный капитализм не оставляла места для рабочего самоуправления. Ленин с большим трудом провел резолюцию в поддержку рабочих комитетов, но пересилить неприязни к ним влиятельной части верхушки партии не смог.
Д. О. Чураков пишет об этой «неосознанной борьбе с национальной спецификой революции»: «Свою роль в свертывании рабочего самоуправления сыграли и причины доктринального характера. Если проанализировать позицию, которую занимали Арский, Трахтенберг, Вейнберг, Зиновьев, Троцкий, Рязанов, Ципирович, Лозовский, Энгель, Ларин, Гастев, Гольцман, Вейцман, Гарви и многие другие, станет ясно, что многие деятели, самым непосредственным образом определявшие политику по отношению к рабочему самоуправлению, не понимали специфики фабзавкомов как организаций, выросших на российских традициях трудовой демократии, не разбирались, в чем именно эти традиции состоят».
Забвение корней русской революции и утрата нашей интеллигенцией исторической памяти привели к тому, что в конце XX века образованное городское население соблазнилось утопией «общества потребления». Была подорвана мировоззренческая основа того жизнеустройства, которое в труднейших условиях позволило России совершить замечательный рывок в развитии и отстоять свою независимость и целостность. И вот уже пятнадцать лет мы угасаем, шаг за шагом утрачивая и ресурсы развития, и независимость, и целостность. И это угасание продолжится, пока мы не восстановим историческую память и способность к холодному здравому мышлению.
Ирина Стрелкова КУДА ПОЙДЁТ УЧИТЬСЯ РОССИЯ?
Когда Ельцин стал президентом, Указ № 1 он посвятил задачам образования — как наиглавнейшим для России. Но тут же обнаружилось, что у правительства другие планы. С начала 90-х резко сократились расходы на образование, и Гайдар сказал тогдашнему министру образования Э. Д. Днепрову: «Нет денег? Сократи половину учителей». Уже не при Днепрове, а при министре В. Г. Кинелеве к 1997 году в правительстве разработали «Концепцию реформирования системы образования Российской Федерации», в которой школы и вузы были обвинены в «иждивенчестве». Все учебные заведения теперь были обязаны сдавать в аренду не менее 10 процентов своих классов и аудиторий, а на вырученные «живые деньги» оплачивать коммунальные услуги, ремонт и т. п. Намечались сокращение провинциальных вузов, отмена учительских надбавок к зарплате и многое другое. От этих разработок по части «организационно-экономического механизма» нашу систему образования спас дефолт 1998 года. Главу правительства Кириенко отправили в отставку, уже подписанное им позорное постановление № 600 отменили.
Путин в начале своего президентства заявил о безусловном приоритете расходов на образование в государственном бюджете. В 2000 году на Всероссийском совещании работников образования был принят проект Национальной доктрины образования как основы новой государственной политики в этой сфере. И там было записано, что вложения в образование должны к 2003 году достичь 6 процентов ВВП, а к 2025-му — 10 процентов. Но Доктрину не стали проводить через Федеральное собрание в качестве закона. При утверждении в правительстве её изрядно пощипали, и всё же оставалось, что назначение системы образования — «создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России». Однако в том же 2000 году в Центре стратегических разработок, руководимом Г. О. Грефом, были подготовлены «Основные направления социально-экономической политики». В числе основных оказались введение подушевого финансирования учебных заведений («деньги следуют за учеником»), реструктуризация (а фактически ликвидация) малокомплектных сельских школ, возможность родительского «софинансирования» в средней школе. Предлагалось вместо статуса государственных учреждений присвоить учебным заведениям статус образовательных организаций. Такая вот «маленькая хитрость». Учреждения приватизировать нельзя, а организации — пожалуйста. Но тут команду Грефа, что называется, поймали за руку. Запротестовала педагогическая общественность, запротестовали ректоры. От переименования пришлось отказаться.
Но уже в 2003 году, при Касьянове, в бюджет было заложено падение темпов роста расходов на образование. Это запланированное падение соответственно сказалось на возможностях обновления материально-технической базы учебных заведений, на заработной плате учителей и преподавателей вузов, принадлежащих в России к низшей касте бюджетников. Если в 2002 году средняя зарплата бюджетников составляла около 60 процентов средней в промышленности, то к концу 2003-го это были всего 40–45 процентов.
В декабре 2004 года правительство Фрадкова одобрило «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации». Безжалостно урезаны расходы на образование в бюджете на 2005 год. Заботы об учебных заведениях переданы с федерального уровня на региональный. А это зачем? И есть ещё вопрос. Почему в России не получается развалить образование так же быстро, как промышленность, сельское хозяйство, армию?
«Мы слишком образованная нация»
Про «слишком образованную нацию» с возмущением говорил на засе-дании Российского общественного совета развития образования (РОСРО) ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Я. И. Кузьминов, один из давних и главных разработчиков проводимой в России реформы образования, лукаво переименованной после дефолта в модернизацию, а теперь заявленной как стратегия государственной политики в сфере образования.
Напомню читателям «Нашего современника», что о деятельности РОСРО и ВШЭ уже шла речь в моих предыдущих статьях. РОСРО — детище фракции СПС в прошлом составе Думы, при ВШЭ специально создан Институт содержания образования, явно не соответствующий профилю этого учебного заведения, готовящего специалистов в области экономики. Однако именно здесь, а не в Российской академии образования (РАО) базировался «Временный научный коллектив», который и подготовил в 2002 году проект кардинального сокращения школьных программ по всем предметам. Но в 2002-м, когда послушные единороссы ещё не составляли большинства, проект «Федерального компонента государственного образовательного стандарта», по сути разрушающий фундаментальность нашей системы образования, был дружно отвергнут на парламентских слушаниях в Думе. Очевидно, поэтому стратегия политики в сфере образования в 2004-м готовилась в строжайшей тайне — никаких предварительных обсуждений. Правительство одобрило «Приоритетные направления…», и только тогда состоялись парламентские слушания, на которые новый министр А. А. Фурсенко, возглавивший образование и науку, просто не счёл нужным явиться. Надо полагать, догадывался, что никакой поддержки не получит. И действительно, состоялся бурный обмен мнениями. Думцы говорили о беспрецедентном экономическом давлении на сферу образования, о стремлении её урезать и удешевить.
Свободу слова на парламентских слушаниях о стратегии государственной политики в сфере образования никто не ограничивал. И потому ещё яснее становилось, что все эти разговоры велись впустую. Тем более что теперь все проекты, касающиеся «развития» образования, рождаются в экономическом блоке правительства, а не в министерстве Фурсенко. И даже не в РОСРО-ВШЭ. Там их только разрабатывают. Этим, собственно, и могут быть интересны соображения Кузьминова об излишней образованности, изложенные на заседании РОСРО. Нечистоплотность его разработок можно даже не комментировать.
Например, Кузьминов заявил в своём докладе, что в России средняя школа перегружена «академическими занятиями». Под словом «академические», очевидно, следует понимать всё ещё сохраняющуюся фундаментальность нашего образования. То, что не удалось протащить в 2002 году, мы видим сегодня в «Приоритетных направлениях…». Программы будут урезаны на 25 процентов.
В доказательство того, что мы всё ещё «слишком образованная нация», Кузьминов привёл цифры по «охвату населения от 15 лет и старше основными программами образования» у нас в России и во Франции. Так вот, по Кузьминову, в богатой Франции «охвачены» 88,9 процента, а в нищей России — 98,6. Ну и откуда он добыл эти 98,6? В России, даже по официальным данным, 10 процентов детей вовсе не ходят в школу. В 15 лет у нас кончают 9-й класс. Но все ли продолжают образование в 10-м и 11-м? В профессиональных училищах, техникумах? А сколько детей не доходит до 9-го? До 7-го? Даже до 5-го? И откуда берутся в России неграмотные новобранцы?
Интересные соображения высказал Кузьминов о дошкольном образовании: «Почему в детсадах родители не платят за кормежку?». По Конституции может быть бесплатным только образование, которое дают дошкольникам. А манная каша? За неё надо платить.
Перейдя от детских садов к сельским малокомплектным школам, ректор ВШЭ, специализирующейся на обучении отпрысков из богатых семей, возмутился тем, что в расчёте на ежемесячное содержание ученика некоторые сельские школы расходуют в несколько раз больше, чем городские. Поэтому с малокомплектными школами пора кончать. А разговоры, что «не будет школы — не будет жизни на селе», Кузьминов назвал чистой демагогией.
И расходы на ПТУ необходимо уменьшить. Пэтэушникам незачем получать общее среднее образование. Только обучение профессии. А за общим образованием пусть идут в вечерние школы. Питание и обмундирование пэтэушников — тут тоже надо сократиться в расходах.
Но главная разработка была у Кузьминова по высшему образованию. Так и сказал: «Наши потери огромны и в высшем образовании». И далее: «Более 50 процентов выпускников не используют в работе полученные в вузе профессиональные навыки… Тогда зачем им учиться все пять лет?.. Мы тратим деньги на подготовку специалистов с высшим образованием, совершенно ненужных стране. Потребности рынка гораздо меньше выпуска системы образования… И вообще у нас утвердилось неправильное отношение к высшему образованию… Высшее образование в России давно всего лишь необходимый элемент социализации для значительной группы населения. Стало быть, хватит и трёх лет обучения, как в Европе…».
Есть в докладе Кузьминова и такие слова, как «перепроизводство специалистов с высшим образованием». Это у него — из лексики советских времён планирования подготовки специалистов и их обязательного трудоустройства: государство вас учило, и вы обязаны трудиться там, куда вас направили. Но теперь-то считается, что человек учится для себя, в своих личных интересах, а получив образование, вправе заниматься тем, что ему нравится. Впрочем, к проблеме сегодняшних взаимоотношений между «рынком образовательных услуг» и «рынком труда» мы вернёмся в следующей главе «Кадры решают всё». А здесь полезно будет разобраться, почему разработчик дальнейшей либерализации и глобализации образования в России так возмущён поведением «значительной группы населения», использующей высшее образование лишь ради «социализации». Это почему же «социализация» представлена как зло? Действительно, у нас в России и сегодня положение человека в обществе, его внутреннее самоощущение связано с уровнем его образования. И, кстати сказать, во всём мире качество жизни в той или иной стране, её Индекс человеческого развития (ИЧР) определяется не только по продолжительности жизни, по валовому внутреннему продукту на душу населения, но и по уровню образования граждан. Так вот, по уровню образования Россия теперь уступает Франции, Великобритании, Германии и ещё целому ряду европейских государств, опережая лишь Турцию и Чехию. Разработчик Кузьминов не мог этого не знать. Но он знал, для кого и для чего делаются такие разработки.
А РОСРО это РОСРО, детище СПС. На заседании постановили направить «замечательный и содержательный» доклад Кузьминова президенту, Федеральному собранию и правительству — с рекомендацией использовать его положения при формировании государственной политики в области образования. И судя по всему, доклад произвёл впечатление. Кузьминов теперь введён в Совет по правам человека при президенте, очевидно, как специалист по праву на образование.
Весной 2004 года президент в своём ежегодном послании указал на излишества в сфере высшего образования: в 2003 году у нас ровно столько ребят смогли поступить в вузы, сколько закончили 11-й класс. «Кому это нужно?» — спросил президент. И был прав. По Конституции бесплатное высшее образование предоставляется не всем и каждому, а по конкурсу. России действительно нужен отбор и отсев при поступлении в вузы. Нужен конкурс знаний. Вузы, принимающие по правилу — лишь бы набрать нужное количество студентов, не могут дать полноценное высшее образование. В конкурсе абитуриентов заинтересованы и наши лучшие вузы. А чтобы исправить ситуацию, всего-то и надо, чтобы все дети ходили в школу, заканчивали 11-й класс. И чтобы в ПТУ ребята получали полное среднее образование. Больше выпускников — выше конкурс, выше уровень знаний студентов.
Но тут может снова возникнуть вопрос: кому это нужно? Ответ на него дало правительство Фрадкова — отменило статью 40 Федеральной программы развития образования, согласно которой у нас в России должно быть на 10 тысяч населения не менее 170 студентов, обучающихся за счёт государственного бюджета. Отмена даст возможность уменьшить в вузах количество «бесплатных» студентов и увеличить количество «коммерческих». Бюджету от этого двойная выгода, поскольку студенчества коснулась и замена социальных льгот денежной компенсацией. Московские студенты уже приходили к Дому правительства с требованием, чтобы их не лишали льготных проездных билетов на городском транспорте. А богатый студент не станет домогаться проездного, он будет ездить на своей машине или его подвезут на папиной. И на каникулы ему не понадобится компенсация на поездку домой и обратно.
По логике правящих верхов сегодня получается, что им просто невыгодно, да и незачем иметь юное поколение, жаждущее знаний. И обратите внимание, как дружно и слаженно действуют в этом же направлении российские СМИ — и проправительственные, и так называемые независимые, и ТВ, и гламурная пресса. Какая общность интересов!
В числе кардинальных «направлений развития», к осуществлению которых приступило правительство Фрадкова, — перенос забот о сфере образования с федерального уровня на региональный. И сделано это вопреки настойчивым пожеланиям педагогического сообщества, чтобы финансирование образования осуществлялось обязательно на федеральном уровне — в целях сохранения единого образовательного пространства и равных возможностей для всех детей, вне зависимости от того, где они живут. Кстати сказать, прежнее руководство Минобразования тоже было за федерализацию. Таков и мировой опыт. И даже в США, где по традиции у каждого штата были свои школьные программы, свои учебники, свои критерии при приёме в университеты, в последнее время занялись федерализацией системы образования — как крайне необходимой мерой для выхода из кризиса. Кто же в России лоббировал регионализацию? Очевидно, всё тот же экономический блок в правительстве. Ведь, перенеся заботы о сфере образования с общегосударственного бюджета на региональные, умудрились одновременно сократить долю региональных доходов, пообещав неопределённо, что будут спускать сверху в регионы дополнительные несколько миллиардов.
Таким образом, при новом порядке финансирования дети будут получать в одном регионе образование получше, в другом — похуже. Про обещание уравнять учительскую зарплату со средней в промышленности — забудьте. И в правительстве так торопились с переводом финансирования на региональный уровень, что впопыхах забыли про экспериментальные школы Российской академии образования, которые из РАО и финансировались. В Москве, в Нижнем Новгороде это были лучшие школы. С января 2005 года они остались без копейки.
А теперь вспомним соображения ректора ВШЭ о том, что не всем нужно учиться в вузе пять лет — хватит и трёх. Согласно принятым правительством Фрадкова «Приоритетным направлениям…» в России будет введено двухуровневое высшее образование. Далеко не каждый поступивший в институт или университет сможет там получить полноценное высшее образование, то есть диплом магистра. Большинству придётся довольствоваться дипломом бакалавра (срок обучения — 4 года). Обладателю такого диплома «в зарубежных лабораториях позволяют только пробирки мыть» (цитирую слова ректора МГУ В. А. Садовничего). А чтобы продолжить образование (ещё 1 или 2 года) и получить диплом магистра, бедному студенту придётся выдержать жесточайший конкурс на ограниченное количество бюджетных мест в магистратуре. Богатый просто заплатит.
Введением двухуровневого высшего образования власть маскирует фактическую отмену записанного в Конституции права на бесплатное высшее образование. А бакалавр — это даже не профессия. С таким дипломом — дорога в продавцы, в мелкие клерки. Возможности ниже, чем у выпускников прежних техникумов.
Но сегодняшней власти и не нужны высокообразованные специалисты. В феврале министр Фурсенко представил правительству новый проект. Выпуск магистров теперь решено сократить. С этой целью вузы предполагается поделить на три категории. В первую войдут немногие лучшие университеты России. Они будут готовить специалистов с настоящим университетским образованием, получат более высокое государственное обеспечение и право принимать студентов не по результатам ЕГЭ, а проводить свои экзамены. Примерно около ста вузов второй категории получат обеспечение похуже и будут давать дипломы двух уровней — и бакалавров, и магистров — по описанной выше схеме. Ну, а большинство российских вузов сможет готовить только бакалавров. В эту категорию, очевидно, попадут провинциальные вузы, даже если там сложились перспективные научные направления, есть сильные кафедры и факультеты.
И здесь нельзя не сказать о традиционном для русского интеллигента втором высшем образовании. В уникальный Литературный институт имени А. М. Горького всегда поступали люди с образованием, с опытом работы по той или иной профессии, с первым литературным опытом. На этом и строилась программа обучения в Литинституте. Но теперь и он подпал под запрет второго бесплатного высшего образования. Значит, должен будет набирать детей прямиком из школы? Какой в этом смысл?
И ещё об одном нововведении — о задуманном в правительстве способе оплаты образования, доступном бедняку — о студенческом кредите. Как в «цивилизованных странах». Но ведь в тех же США такой кредит даётся студенту под мизерные 2,5 процента. Причём там уверенность в себе при взятии кредита подкрепляется системой высоких доходов специалистов с высшим образованием. А у нас? Под какой процент дадут кредит? И как его выплатить при заработках учителей, врачей, инженеров? Впрочем, в тех же США при существующих льготных студенческих кредитах высшее образование на три четверти оплачивается либо из государственных фондов, либо из благотворительных.
В нашей системе образования издавна сложилось правило: все педагогические новшества поначалу испытывались в масштабах отдельной школы, одной области. Для того, кстати сказать, и были созданы экспериментальные школы РАО, про которые теперь впопыхах, как я уже говорила, просто позабыли. Впрочем, даже не так уж давно эксперимент с ЕГЭ, единым государственным экзаменом, вводили постепенно, начав с отдельных регионов.
В 2004 году правительство Фрадкова размахнулось со своими «Приоритетными направлениями…» сразу на всю страну, на всю «вертикаль власти». В каком состоянии находилось в 2004 году само правительство, дан анализ в статье Александра Казинцева «Менеджер Дикого поля», опубликованной в «Нашем современнике» (2004, № 12) с выразительным подзаголовком «Государство? Где вы видите государство?». Начиная с марта прошлого года, пишет Казинцев, «Россия прожила без федерального руководства». Происходила реформа самого правительства. Прежние министерства упразднили, формирование новых затягивалось. Огромная армия чиновников в течение долгого времени «не могла, не желала что-либо делать и ничего не делала». Новые назначения оказались весьма необычными: антимонопольную службу возглавил биолог по профессии, агентство по недропользованию — ветеринар, пост главного эколога получил инженер-железнодорожник… Не буду перечислять всех, названных в статье Казинцева, по фамилиям. А. А. Фурсенко там не был упомянут: глава нового Министерства образования и науки — доктор физико-математических наук. Так что, казалось бы…
Но вот какую оценку формированию нового министерства и назначению Фурсенко дал в одном из интервью Ж. И. Алфёров, академик, нобелевский лауреат. Не надо было соединять образование с наукой — задачи совершенно разные. Что же касается Фурсенко, то у него нет никакого опыта работы в сфере образования. И вряд ли он справится с управлением наукой, на таком посту может находиться только крупный учёный. Вообще министерство, объединяющее образование и науку, для Фурсенко «непосильный груз».
О том, какие полномочия может взять на себя министерство Фурсенко, стало известно осенью 2004 года, когда появилась «Концепция участия Российской Федерации в управлении государственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере науки». В тексте документа, попавшего в печать, так же витиевато излагались «основные направления трансформации» и «перспективный облик» государственного сектора науки, а также его «оптимизация» (любимое слово сочинителей таких проектов). Проще сказать, Министерство образования и науки наметило обвальное сокращение количества научных институтов на бюджетном финансировании, а значит, и обвальное сокращение научных кадров. В случае ликвидации государственного института разрешалась его приватизация. Так что обратите внимание на использование слова «организация» в министерской «Концепции…». О такой «маленькой хитрости» уже шла речь в начале статьи. Научное учреждение нельзя приватизировать, а организацию — почему бы и нет? Ведь какие прекрасные здания занимают академические институты!
Учёные, конечно, запротестовали, отправили на имя президента резолюцию, принятую на заседании учёных советов РАН и подписанную нобелевским лауреатом Ж. И. Алфёровым, в которой говорилось, что осуществление «Концепции…» — «приведёт к катастрофическим последствиям для отечественной науки и страны в целом». Теперь руководители министерства объясняются с учёными: произошло недоразумение, никто и не собирался уменьшить в пять раз количество научных институтов. И вообще само Министерство образования и науки тут не виновато. В уже цитированном выше интервью Алфёров рассказывал о своей беседе с заместителем министра А. Г. Свинаренко. Тот не постеснялся заявить: «Ничего не знаю, это всё Минфин». Удобная, конечно, позиция.
Кадры решают всё
По данным международных экспертов, сегодня в России только 5 процентов рабочих имеют высшую квалификацию. Для сравнения: в США — 43 процента, в ФРГ — 56. И ещё удручающая цифра, её назвали на заседании «Меркурий-клуба» под председательством Е. М. Примакова, президента Торгово-промышленной палаты: сегодня в России средний возраст квалифицированного рабочего — 55 лет. Эту верхушку составляют в основном выпускники советских ПТУ, ведущих свою историю от немудрящих РУ, ФЗУ и ФЗО, превратившихся затем (не все, конечно) в великолепно оснащённые учебные заведения, которые давали не только высочайшую рабочую квалификацию, но и обязательное среднее образование. То есть выпускники ПТУ могли поступать в вузы. И поступали. Именно этой возможности и предложил лишить пэтэушников ректор ВШЭ Кузьминов.
Но если 55 лет — средний возраст, то, следовательно, на квалифицированной работе сегодня занято немало людей пенсионного возраста. Последние выпуски ПТУ, получившие и специальности и образование, — это начало 90-х годов. Так что младший возраст качественных трудовых кадров — около 30 лет.
В 90-х ПТУ оказались в худшем положении, чем школы. Комитет профтехобразования был вообще ликвидирован, ПТУ передали Министерству образования, назвали по-новому ССУЗ (среднее специальное учебное заведение), но в обиходе осталось прежнее название. Материальная база профтехобразования последовательно разрушалась, вместе с лучшими заводами погибали лучшие ПТУ. В 2000 году тогдашний министр образования В. М. Филиппов мог только радоваться тому, что пэтэушникам наконец-то дали денег столько, что хватит на еду и на оплату коммунальных услуг. Из ПТУ ушли опытные мастера производственного обучения, получавшие гроши.
В России-СССР система среднего профессионального образования развивалась по нужным производству направлениям. Отраслевые министерства за счёт собственных предприятий содержали десятки техникумов, которые обеспечивали для них подготовку высококвалифицированных рабочих. Сегодня предприятиям стало не по средствам иметь свой техникум. Финансирование со стороны государства практически прекратилось. Об этом говорил в интервью для «ЛГ» (2004, № 51–52) директор Московского техникума имени Красина В. В. Соколов. Техникуму в 2005 году исполняется 75 лет.
Нет, правящие верхи не по неопытности новичков, как могло бы показаться, а вполне обдуманно проигнорировали самое очевидное: в условиях кризиса необходимо сохранить самые квалифицированные рабочие кадры и систему их подготовки — на перспективу, когда понадобится восстановить или строить заново. Мне рассказывал лет двадцать назад знаменитый слесарь Московского завода имени Владимира Ильича Герой Социалистического Труда Сергей Анатольевич Антонов, что в заграничной поездке на него произвело самое сильное впечатление, как капиталисты относятся к рабочим высокой квалификации. Закрыв предприятие, хозяин сохраняет и оплачивает нужное ему количество квалифицированных рабочих — они ему будут необходимы при создании нового производства. Не начинать же с нуля!
Ну, а в России отношение власти к системе профессионально-технического образования и вообще к образованию по сути с головой выдаёт сегодняшних хозяев жизни: они вовсе и не собираются выводить отечественную промышленность из кризиса, что-либо строить, реконструировать, воссоздавать, они рады бы вообще ликвидировать отечественное авиастроение, автомобильную промышленность, иные отрасли. В нашем царстве-государстве планы на будущее у правительства и у рядовых граждан ну никак не совпадают. Правительству действительно досталась слишком образованная нация! Рядовые граждане надеются на подъем экономики, на создание наукоёмкого производства, на оснащение сельского хозяйства новейшими технологиями. А правительство прокладывает курс к превращению России в сырьевой придаток мировой экономики. При таких планах на будущее, конечно, вовсе ни к чему слишком большое количество образованных людей, у которых и социальные запросы повыше. Вполне можно себе представить, что там, наверху, даже какой-то страх существует перед перспективой, что Россия выберется из разрухи, добьётся успехов в экономике, в образовании, в здравоохранении, науке, культуре… Они столько лет изводят эту слишком образованную нацию, а она всё держится — явно не хлебом единым.
В 90-е годы в результате «шоковой терапии» и организованного самой властью разрушения отечественной промышленности в России появились в большом количестве «трудоизбыточные предприятия». В массовом порядке шло сокращение трудовых коллективов и разворовывание всего, что оставалось в опустевших цехах. Год за годом рабочие высокой квалификации перемещались из перерабатывающих отраслей в добывающие. И некому было позаботиться, по примеру настоящих капиталистов, о котором рассказывал слесарь Антонов, о сбережении лучших кадров. Их выбрасывали на улицу, на выживание, на пресловутый «рынок труда», в ларьки, в «челноки»… То есть из людей, привыкших к почёту и уважению — в униженные и оскорблённые. В те годы одной из целей «шоковой терапии» была, конечно, психологическая обработка и массовое унижение тысяч и тысяч людей. Где сегодня в России трудовые коллективы, умеющие защищать свои права? Их нет — как нет и современного рабочего западного образца, твёрдо и квалифицированно отстаивающего свои интересы.
И при всём при том в России, по оценкам и обследованиям социологов, в 2004 году 66 процентов населения страны «довольны своей жизнью». Удивительно, но факт. Да, 66 процентов, всё правильно, всё согласно научным социологическим опросам. Другой вопрос — чем довольны? Какой жизнью?
Россия преодолела депрессию 90-х годов, научилась не теряться даже в самых невыносимых условиях. И человек вправе уважать самого себя за то, что не сдался, выстоял, научился зарабатывать, в состоянии кормить семью. И не нам его судить. Он будет работать в трёх местах, но вырастит и выучит своих детей. Да, та самая «значительная группа населения», про которую говорил Кузьминов на заседании РОСРО. Не хотят катиться вниз. Это против них было направлено правительственное разрешение на родительское «софинансирование» в государственных бесплатных школах. Таким образом, стараниями правительства в России появились «элитные» школы с запредельным количеством платных уроков. Государственные, но не для всех, а только для богатых. Ничего. «Значительная группа населения» извернулась — и находит деньги даже на «элитные» школы. Удивительная жизнестойкость проявляется у нас в России в семьях, принадлежащих по уровню доходов к тем слоям общества, которые в «цивилизованных странах» не считают необходимым и обязательным для своих детей высокий уровень образования. Но они ведь не жили при социализме, они знают, что и кому положено в «гражданском обществе».
Но, конечно, обидно, что именно эта упорная борьба русских семей за «социализацию», за то, чтобы дети и при капитализме получали хорошее образование, учились в музыкальных школах, занимались спортом, объективно потворствует всё более агрессивному курсу власти на введение в России платного образования. Узнав об очередном решении правительства, урезающем права детей на бесплатное образование, в России любящие родители, увы, не пойдут на митинги и демонстрации (всё равно толку не будет!), а займутся поисками приработка.
Но при таких общественных взглядах, при существующей у нас в России озабоченности своим социальным статусом чьи дети станут поступать в ПТУ, где им не дадут ни питания, ни обмундирования, ни среднего образования? А о том, что ПТУ должны стать именно такими, говорил министр образования и науки Фурсенко на пресс-конференции, устроенной в начале учебного года: «В частности, далеко не факт, что начальное профессиональное образование должно жёстким образом быть связано с обязательным средним образованием. Надо давать возможность людям получать начальное профессиональное образование, не требуя с них одновременного обязательного среднего». Тут у министра замечательно получилось «давать возможность» и «не требовать». Какая забота о детях бедняков — их не заставят учиться! Конституция министру не указ.
Ну а теперь посмотрим, как ставился вопрос о рабочих кадрах в «Меркурий-клубе». Оказывается, энтузиасты разрушения всей российской промышленности перестарались. Сегодня деловые люди озабочены… нехваткой рабочей силы. Ведь пришло время, когда только 12 процентов предприятий числятся в «трудоизбыточных», тогда как количество предприятий, испытывающих недостаток в квалифицированных кадрах, возросло до 25 процентов. Каждое четвёртое! Предприятиям и стройкам Москвы сегодня не хватает 100 тысяч профессионально подготовленных рабочих. Где их взять?
У правительства Фрадкова нашёлся рациональный выход. Уже принято решение и названы контрольные цифры, сколько можно будет завезти иностранных рабочих. В «Меркурий-клубе» деловые люди поставили вопрос о восстановлении собственной системы подготовки рабочих кадров. И сформулировали два пункта. Сумеет ли государство увязать потребности «рынка труда» с «рынком образовательных услуг»? Захочет ли бизнес принять участие в подготовке квалифицированных кадров?
Эти же вопросы были поставлены в правительстве Москвы при подготовке городской целевой программы «Развитие учреждений начального и среднего профессионального образования на 2005–2007 гг.». Москве, конечно, ни к чему правительственные квоты на завоз иностранцев. Как и другим крупным городам — Петербургу, Нижнему Новгороду, Екатеринбургу… О том, что с появлением чрезмерного количества гастарбайтеров связано обострение криминальной обстановки, очевидно, не знают только в правительстве.
В тех решениях Москвы, о которых здесь пойдёт речь, проявилось, конечно, и противопоставление столицы федеральным властям. Провели социологическое исследование и выяснили, что среди молодых людей 12 процентов хотели бы получить рабочую профессию, но ПТУ не обладают в их глазах привлекательностью. В последние годы туда отводит ребят главным образом милиция — и этот способ набора тоже сказывается на снижении качества подготовки кадров.
В Москве приняли решение учредить вместо ПТУ, техникумов, профессиональных лицеев единый тип профессионального учебного заведения — колледж, где можно будет получить начальное профессиональное образование, затем продолжить обучение на более высоком уровне, получить высшую квалификацию и одновременно полное среднее образование. Напомню, что таков был опыт подготовки рабочих кадров в СССР. Таков он и в сегодняшней Японии: для работы в промышленности высоких технологий нужна не только профессиональная выучка, но и достаточный уровень общего образования.
Теперь в Москве все профессиональные учебные заведения переданы в ведение Управления образования. По предварительным подсчётам, на создание современной производственной базы, на подготовку мастеров производственного обучения Москве понадобится 10 миллиардов рублей. Из них городской бюджет должен дать 8 миллиардов, а работодатели — 2. Однако предложенное соотношение 8 и 2 вызвало бурные возражения. Для кого готовим кадры? Для владельцев предприятий! Так с какой стати основное бремя расходов должен нести городской бюджет? А работодатели?
Действительно, с какой стати? Впрочем, московское правительство предложило такую пропорцию, потому что Москва богата. А что будет с подготовкой квалифицированных рабочих во всех других регионах? Там и работодатели помельче. К тому же теперь все расходы на образование переброшены с федерального уровня на региональный. Не будет хватать средств на обычные школы, на ПТУ без питания, обмундирования и образования. Какие уж тут новые колледжи с высокой профессиональной подготовкой и средним образованием!
В связи с этими возражениями полезно будет вспомнить, что ещё в 2002 году Комитет по образованию и науке Государственной Думы обратился в правительство с предложением стимулировать набор в ССУЗы высокими стипендиями и для этого дать налоговые послабления работодателям, которые помогают ССУЗам. Такими вопросами ведал тогда в правительстве Починок, он и выпроводил думцев: «Если мы внесём такое предложение, нас самих отсюда вынесут».
Теперь уточним: кто же в России попадает в предполагаемые работодатели? Абрамович? Дерипаска?
В России ещё живы крупные государственные предприятия. Рабочие высочайшей квалификации требуются военно-промышленному комплексу, почти не работающему на свою армию, но зато приносящему за счёт продажи своих изделий миллиардные доходы казне. Так, ВПК сегодня даёт отсрочку от военной службы выпускникам техникумов и потому не жалуется на нехватку квалифицированных рабочих. В то же время завлекаемые правительством иностранные инвесторы не вкладывают свои доллары и евро в технический прогресс на территории России. Сборка автомобилей — пожалуйста (при российской дешёвой рабочей силе). К тому же это проверенный способ захвата рынка. У России своей автомобильной промышленности быть не должно. И, как известно, иностранцы скупили у нас почти всю табачную промышленность. Но не потому, что Россия — родина табака, а исключительно по причине наплевательского отношения правящих верхов к здоровью нации. Кампаний против курения, как в США, в странах Европы, у нас не будет — во всяком случае, при этой власти. То же и с пивной промышленностью, заинтересовавшей инвесторов. Ничем не ограниченные возможности рекламы, продажа пива везде и всем, включая потребителей школьного возраста — пей-гуляй, Россия!
Но не перепутать бы здесь обсуждавшиеся в «Меркурий-клубе» возможности участия бизнеса в подготовке квалифицированных рабочих с благотворительностью в её самом широком значении, социальном и нравственном: ведь это не только помощь нуждающимся, но и вклад в развитие нации. В США ежегодный объём благотворительных пожертвований превышает 210 миллиардов долларов, 2 процента всего их ВВП, а в России сумма всех пожертвований — 0,2 процента ВВП, нашего…
Граф Сергей Григорьевич Строганов происходил, если пользоваться сегодняшним языком «рынка», из рода крупнейших работодателей. Граф основал в 1825 году в Москве «Школу рисования в отношении к искусствам и ремёслам», в которую принимались дети с 10 лет. В 1860 году эта школа стала государственной — Строгановское училище технического рисования. Менее известно о той благотворительной помощи Московскому университету, которую граф Строганов оказывал будучи попечителем Московского учебного округа — и при этом никогда не вмешивался в дела чисто учебные. Он вкладывал свои средства в русское образование, в народное просвещение, в будущее России. И не только он. В Москве многое было построено на частные средства — в том числе школы, гимназии, училища, народный университет Шанявского… Чехов построил школу возле своего Мелихова — не частную, а земскую.
В советские годы, наверное, один только Шолохов построил на свои деньги у себя на родине сельскую школу — государственную, в СССР вся система образования была государственной. И когда заводы шефствовали над школами, оснащали оборудованием ПТУ, расходы всё равно были теми же государственными. В СССР система образования получала заказ от государства-работодателя. В 30-х годах государство определило стратегию образования — создать армию инженерных работников. Этим и было обеспечено превращение России-СССР в индустриальную державу. При плановом хозяйстве потребность в кадрах можно было просчитывать с достаточной точностью, что и гарантировало по окончании вуза работу по специальности. Но ближе к нашему времени вся советская система планирования стала давать сбои — в системе образования тоже.
Однако сегодня принцип планирования развития экономики оказался востребованным. Нет, не в России. Востребован в европейском, в мировом масштабе. Глобализация — это, как оказалось, строжайшее планирование. В ЕС, принявшем в октябре 2004 года государствообразующую Конституцию, страны подотчётны в рамках бюджетов, обязаны соблюдать единый уровень субсидий фермерам и т. п. Вступление России в ВТО идёт по строгой процедуре, как в Госплане. И дело не только в том, что быть «слишком образованной нацией» нам больше не по карману, не по ранжиру. Снижение уровня образования — это сегодня общемировая тенденция. «Самая большая проблема: как создать единую мировую Систему Образования, соответствующую мировому устройству? Речь идёт именно об образовании, поскольку производная образования — наука — оказалась глобализированной одной из первых», — пишет известный математик И. Ф. Шарыгин («Образование и глобализация», «Новый мир», 2004, № 10). И дальше в этой статье: «Устройство мира отрегулировано под необразованное общество… Потребна не образованность, но обученность». И ещё цитата из статьи Шарыгина: «Сейчас, похоже, американцы всерьёз взялись за наше образование. Возможно, это последний рубеж обороны, за которым кончается Россия».
Ещё в сентябре 2003 года министр образования В. М. Филиппов (теперь бывший министр) и ректор МГУ, председатель Российского союза ректоров академик В. А. Садовничий подали в правительство протест против предъявленных России условий для вступления в ВТО. Ну и что? Документ, в котором они защищают всё лучшее, что было создано в русской системе образования и признано во всём мире, был передан в Министерство экономического развития, Грефу…
В своём выступлении на уже упомянутой выше пресс-конференции министр образования и науки А. А. Фурсенко был гибок. Не мог он не сказать, что фундаментальность нашего образования — конкурентное преимущество России. «И, конечно, потерять это очень страшно, очень страшно, — сокрушался министр. — Однако возникает очень сложный вопрос: как совместить это с тем, что человек, который получает образование, хочет быть успешным не в будущей жизни, а в этой, он хочет получать знания и умения, которые ему помогут быть достаточно успешным, в том числе в материальном плане, уже завтра».
Тут нетрудно догадаться, о какой «успешности», да ещё в «материальном плане» и «уже завтра», говорил Фурсенко. Он, конечно, имел в виду не столько образованность, сколько обученность.
Приведу ещё цитату, где мною подчёркнуты базовые слова: «Какие основные задачи мы ставим перед собой на следующий этап? Первое: мы должны чётко сформулировать задачу, заказ в системе образования. В последние годы система образования варилась в собственном соку. Я это уже говорил на разных встречах неоднократно и хочу ещё раз повторить перед вами: не может никакая система ставить сама себе задачу. Необходим внешний заказ. И тут нужны какие-то организационные решения. Мы сегодня обсуждали интеграционные решения с представителями „Деловой России“ утром на так называемом бизнес-педсовете. Это была не первая наша встреча. Я обсуждал этот вопрос и с другими представителями бизнес-сообщества, с представителями каких-то общественных организаций, и задача очень сложная, задача, требующая понимания того, какую экономику мы ожидаем, какая экономика будет в России, какая жизнь будет в России в ближайшие годы. Потому что без понимания этого вопроса ставить задачу перед системой образования будет весьма затруднительно, но это проблема номер один, и мы уклоняться от неё не должны. С точки зрения нормотворческой подготовлен законопроект, в котором законодательно прописано о правах работодателей в развитии требований к образованию, к формированию новых программ, к формированию новых стандартов».
До такого ещё никто не додумывался из прежних реформаторов, ни Днепров, ни Асмолов. «Бизнес-педсовет», «права работодателей» вносить свои поправки в школьные программы… Каково?!
Система образования ни в одной стране не может «вариться в собственном соку». Она всегда включена в течение жизни, спокойное или бурное. В политику тоже. В России система образования смогла устоять против многих наскоков. Например, против соросовской программы «обновления гуманитарного образования в России». Кажется, уже почти избавились от негативной трактовки всей русской истории в школьных учебниках. В России сложилось педагогическое сообщество, имеющее опыт сопротивления глобальному «рынку образовательных услуг».
Сохранится ли в России русская интеллигенция?
«Как бы то ни было, ясно одно — интеллигенция в её прежнем понимании приказала долго жить», — вывод критика Марии Розановой, сделанный на основе «образа интеллигента» в ряде произведений последних лет. «В своём нынешнем состоянии ей некого винить, кроме одной себя» — там же («Астенический синдром», «Октябрь», 2004, № 3). Можно привести немало подобных высказываний об интеллигенции, её изобличают не только критики на основе «образа», но и социологи, политологи, журналисты. Но что, собственно, значит «прежнее понимание»? Почему «некого винить, кроме одной себя»? И вообще, что им всем нужно сегодня от интеллигенции?
Начиная с ХIХ века «образ» был представлен нелицеприятно у Тургенева, Достоевского, Чехова, у Блока в известной статье об интеллигенции. В России её обвиняли в подстрекательстве к революции и клеймили с революционной позиции как гнилую и похлеще (Ленин). Потом стали называть народной и советской. Принято ли теперь в России говорить просто о русской интеллигенции?
Академик Н. Н. Моисеев, потомственный русский интеллигент, в одной из последних статей писал с удовлетворением, что старая интеллигенция сумела после революции передать эстафету (его слова) новой интеллигенции, благодаря политике советской власти в сфере образования. Какое «прежнее понимание» вкладывал в это слово академик Моисеев? Ведь не только массовое высшее образование. Но Россия-СССР действительно стала к 1941 году более образованной нацией, чем Германия, — это утверждает философ и писатель А. А. Зиновьев.
Сегодня ученики академика Моисеева принадлежат к старой советской интеллигенции, сохранявшей долгие годы качества, признанные во всём мире как особенность, свойственную только русским, советским. Интеллигент — человек другого разбора, чем интеллектуал. И в России интеллигенция, безусловно, вышла из русской системы образования как просвещения. Из азбуки Кирилла и Мефодия, из православных заповедей, из уроков русской литературы… Интеллигенция выросла на идеалах служения русскому народу. А влияние православной культуры сохранялось и в советской атеистической школе благодаря русской классике. Воспроизводству интеллигенции «в прежнем понимании» пока ещё способствует наша национальная система образования, у неё всё-таки был запас прочности.
В конце 70-х годов минувшего века мною был опубликован ряд статей о сельской интеллигенции. В Пошехонском районе Ярославской области я провела своё социологическое исследование, главным образом в учительской среде. Напомню, что сельское хозяйство исконного центра России находилось тогда в тяжелейшем положении. Бюджетные вложения годами уходили на целину, на стройки, на мелиорацию, но только не сюда, не в «бесперспективные деревни». В 1974 году вышло постановление о подъёме Нечерноземья, но попусту. В Пошехонье каждый год население района сокращалось на тысячу человек. Но были и крепкие колхозы. В «Новой Кештоме» ребят возили в школу три своих автобуса, колхоз оборудовал в школе не только кабинет механизации, но и кабинет английского языка, ученики и учителя получали бесплатное горячее питание, каждый год 10–12 колхозных стипендиатов уезжали учиться в Рыбинск и Ярославль, приобретали нужные колхозу специальности. В селе Владычном колхоз был послабее — так там, напротив, председатель ходил за подмогой в школу, где имелись свои трактора, а у старшеклассников — права механизаторов. И, кстати сказать, в Пошехонье ребята, закончившие среднюю школу и получившие вместе с аттестатами права механизаторов, в конце 70-х уже не торопились уезжать, оставались в своих колхозах — по району до 30 процентов выпускников, это немало.
В конце 70-х в Пошехонье все сельские учителя (и врачи тоже) были по происхождению из крестьян — интеллигенты в первом поколении. Выписывали литературные журналы, имели неплохие библиотеки. Преобладало убеждение, что сельскому интеллигенту не следует заводить корову, огород. Разве что пасеку, сад. Надо иметь время на подготовку к урокам, на самообразование, поехать самому и повезти ребят на каникулы в Москву, в Ленинград. Деревенские интеллигенты в первом поколении даже очень ревниво, подчёркнуто утверждали себя в классическом «прежнем понимании». В районе 82 процента учителей имели высшее образование, у остальных — неполное высшее и среднее.
С тех пор я уже многие годы переписываюсь с учительницей из села Кладово Зоей Павловной Горюновой. Минувшей осенью я получила от неё в письме страницу районной газеты «Сельская новь» с отчётом, как подготовилось Пошехонье к новому, 2004/2005 учебному году. Так вот, в районе всё ещё имеется 19 детских садов (было 22). Открыта дошкольная группа при школе № 1 города Пошехонье. Компьютерного оборудования в районе 100 комплектов, 9 школ подключены к Интернету. Имеется 12 школьных автобусов, перевозят 442 ученика из 12 школ. Учебного и спортивного оборудования закуплено на 1 миллион 42 тысячи рублей. Не хватает учителей английского языка и музыкальных руководителей. Из 177 выпускников 11-х классов прошлого года поступили в вузы 55 человек, одна треть. Остальные учатся в профессиональных училищах. Там же в отчёте сказано, что сегодня в Пошехонском районе 85 процентов учителей имеют высшее образование. Показатель лучше, чем в 70-х, но теперь учитель, чтобы прожить, держит корову и выращивает картошку. Я знаю об этом из писем Зои Павловны. Но ведь не бросили свои школы, не уехали! Итоги районного тестирования по русскому языку показали, что в 9 школах из 18 ученики четвёртых классов справились с заданием на 100 процентов. Эти лучшие школы в отчёте перечислены, для всеобщего сведения. На ЕГЭ по математике в школе № 1 показали знания хорошие и отличные 87,5 процента учеников, у остальных — «базовый уровень», тоже неплохо.
Я надеюсь, что читателям «Нашего современника», русским интеллигентам много скажут эти сведения из районной газеты. Да и сам факт публикации обстоятельного, на полосу, отчёта о районном педсовете! В российской глубинке местная власть из последних сил поддерживает образование. Потому что на самом деле, если не будет школы — не будет и деревни. Райцентры, малые города тоже рухнут. Это понимают и предприниматели районного масштаба, они в Пошехонье помогают школам, дают деньги на детские праздники, конкурсы и соревнования. Чему-то их все-таки научила старая советская интеллигенция.
В мае 1988 года празднование Тысячелетия крещения Руси, проходившее в Новгороде при огромном стечении народа, устроила не Русская Православная Церковь. Не имела тогда такого права. Это Академия наук СССР и Союз писателей России проводили в Новгороде в день Кирилла и Мефодия конференцию на тему «Методологические проблемы развития и исследования славянской культуры». А ради чего туда съехались тысячи народа, понимали и в обкоме. Мне посчастливилось быть в те дни в Новгороде, слышать речь члена-корреспондента АН СССР О. Н. Трубачёва и митрополита Питирима. Православная церковь тогда, в 80-х, получила открытую, хотя и не заявленную по форме, поддержку самой образованной части русского народа — русской интеллигенции. Дало о себе знать унаследованное — то, что всегда оставалось в образе мыслей русского интеллигента. Как известно, и Курчатов в пору напряжённых раздумий над тем, что же ему предстоит совершить на полигоне под Семипалатинском, счёл для себя необходимым помолиться накануне в церкви.
В начале 90-х новая власть узаконила «свободу совести» и в то же время переименовала Министерство просвещения в Министерство образования. Затем был издан по министерству приказ, запрещавший доступ в школы православным священникам — при полной свободе действий других конфессий и различных сект, поскольку они в приказе не значились. Именно тогда в школы России проникли не только иеговисты и последователи Муна, но и японская «Аум Синрикё». Это был, так сказать, передовой отряд глобализации.
Конечно, можно теперь всё списать на дикости времён Ельцина, всеобщую неразбериху. Но почему при Путине, о котором все знают, что у него даже есть свой духовник?.. Почему сегодня с новой яростью ведётся борьба против преподавания в школе такого предмета, как «православная культура»? Не Закон Божий, а основы православия, школьный курс, имеющий непо-средственное отношение к русской истории, русской культуре, к семейному укладу, к национальному характеру… Уроки нравственности, очень нужные детям сегодня…
Процитирую высказывание на эту тему министра образования и науки Фурсенко: «Мы должны всё-таки вести преподавание всех религий, которые известны в России, при этом не путём отмены или задавливания чего-то, а путём, наоборот, развития остальных вещей… Мы должны давать ребятам знания, задавать представление о том, что есть, оставляя за ними свободу выбора и ни в коем случае не пытаясь сдвинуть их в ту или иную сторону» (выделено мной. — И. С.).
Поясню. Министр поддержал противников преподавания в школе курса православной культуры, их требование ввести для детей изучение истории религий — всех. А это зачем? О существовании в мире разных народов и разных конфессий школьники узнают на уроках по всеобщей истории. К тому же в 90-х был введён в школах такой предмет, как «Мировая художественная культура», и его невозможно преподавать, игнорируя религиозные смыслы.
Изучение в школе «всех религий», чтобы ребенок имел «свободу выбора» (в какого бога верить) — одно из условий глобализации образования. При новом мировом порядке христианство со своими заповедями вообще становится обременительным для «цивилизованных стран». В Конституцию ЕС не было допущено даже упоминание, что Европа исповедует христианство. Если какая-нибудь кинозвезда решила перейти в буддизм, об этом извещают с восторгом. Менять веру теперь модно и престижно. И знаменитость чего не сделает ради рекламы. А как быть ребёнку из православной семьи, из русской семьи? Жестокое дело — говорить с ним о свободе выбора веры. Получается по Достоевскому: если Бога нет, то всё дозволено.
Мне приходилось слышать, что прежнее руководство Минобразования из-за того и сместили, что оно противилось глобализации. Например, не боролось против преподавания в школах основ православной культуры. Напротив, разрешили факультатив при условии, что этого хотят родители. И более того, в министерстве разработали программу, выпустили учебник. Словом, дали повод либеральным СМИ поднять шум. Хотя Минобразования, введя в качестве факультатива уроки православной культуры, просто обязано было предоставить программу, соответствующую детскому возрасту, и учебник, прошедший необходимую экспертизу. Консультировала светско-религиозная комиссия, созданная министерством совместно с Православной Церковью. А кто ещё мог бы консультировать? Представители других конфессий? Вопрос, к сожалению, не риторический. Именно с таких позиций ведутся сегодня активные действия против школьных уроков, формирующих национальное самосознание, воспитывающих лучшие нравственные качества русской интеллигенции, в числе которых и участие к человеку другой национальности, другой веры. Так Познер, затеяв дискуссию всё на ту же тему, что преподавать в школе — основы православной культуры или историю религий, — усадил за «круглым столом» двоих русских православных и четверых, включая его самого, инославных. Причём, даже обеспечив такое численное превосходство, позволял себе перебивать и обрывать дьякона Кураева — об этом с неудовольствием писали даже в дружественных телевидению СМИ.
Сегодня либеральная, прозападная (и в то же время придворная) «тусовка» так откровенно себя заявила, проявила такие деляческие свойства, что выпорхнула из интеллигенции сама (а не её «изгнали»). И ей, действительно, некого винить в утрате интеллигентских качеств, кроме одной себя. Как и в деградации, замеченной либералами в собственных рядах. У «тусовки» теперь свои заботы, у русской интеллигенции — свои.
Но общая деградация либерализма не могла не сказаться на сфере образования. По сути уже некому стало предложить что-либо новое — только урезать и удешевить. Государственная стратегия в сфере образования элементарно застопорилась. Поэтому России придётся какое-то время (будем надеяться, недолгое) пожить без Министерства образования. Созданное взамен министерство-монстр, которому поручены и дошколята и академики, не в состоянии быть жизнедеятельным. А что, если с такой целью его и учредили?
КРИТИКА
Николай Переяслов, Марина Переяслова НАД РАЗЛИВОМ «ВЕШНИХ ВОД» (Обзор книг писателей орловской земли)
Впечатление было просто ошеломляющим! Мы думали, что достаточно неплохо знаем литературу Орловского края последнего десятилетия, а потому чуть не захлебнулись, когда нас вдруг накрыло целой волной произведений, привезенных в Москву директором орловского издательства «Вешние воды» Александром Лысенко. Произошло в буквальном смысле то, о чём писал в своей поэтической книге «Голоса безмолвия» руководитель Орловской областной писательской организации поэт Геннадий Попов: «Весны ликующие звуки / Сошли на мокрые луга. / Разлив расширил берега, / Расширил русло, скрыл излуки…». Прочитанные нами тома прозы и сборники стихов сломали казавшуюся знакомой топографию орловского литературного ландшафта, и нам предстала незнакомая, таинственная и величественная страна, цивилизационный уровень которой поразил нас не меньше, чем государство инков шокировало когда-то собой конкистадоров.
Конечно, многие из книг орловских авторов и до этого попадали нам в руки (мы даже откликались как-то рецензиями на прозу Валентины Амиргуловой, стихи Геннадия Попова и книги других писателей-орловчан), но одно дело, когда издания прочитываются поштучно, через немалые промежутки времени, и совсем другое — когда они вдруг предстают перед тобой во всей их творчески-многоводной полноте и тематическом разнообразии. Успевшее сложиться в нашем сознании стереотипное представление об орловской литературе как комплексе вполне искренних, но тем не менее достаточно уже стандартизировавшихся художественных средств, образов и творческих методов было смыто этой волной, как прошлогодние стога сена с берегов реки в половодье. И в одночасье стало видно, что перед нами никакая не «местная», никакая не «областная», никакая не «провинциальная», а самая что ни на есть настоящая русская литература, ориентированная на широчайший (и в высшей степени требовательный) круг серьёзных российских читателей.
Первое, что бросается в глаза в творчестве орловских писателей — это их жанровая «многостаночность», стремление не замыкаться в рамках одной только поэзии или чистой прозы, но постоянное «забегание» на поле лирической миниатюры, эссе, очерка и других видовых форм литературного самовыражения. Из-за этого многие их книги носят, так сказать, «смешанный» характер, включая в себя одновременно прозу и публицистику, поэзию и эссеистику, рассказы и очерки, заметки и пьесы. При этом наряду с традиционными для провинциальной литературы описательными стихами и рассказами, живописующими красоты родной природы или картины исторического величия орловской земли, изданные «Вешними водами» книги вмещают в себя также произведения мистического характера, исследования о русском языке и русской идее, очерки о путях и судьбах России, а также глубокие размышления о природе такого понятия, как метафизика — метафизика жизни, истории, времени, Родины, веры… Всё это свидетельствует об осознании орловских писателей себя не просто сочинителями стихов и прозы областного масштаба, но органическими продолжателями и участниками единого всероссийского литературного процесса.
С этой точки зрения кажутся естественными для литературы областного центра такие книги, как сборник поэм Василия Катанова «Жар-птица», включающий в себя перевод знаменитой древнерусской поэмы «Слово о полку Игореве»; прозаические книги Валентины Амиргуловой «Легион чёрной змеи» и «Золотой жертвенник», раскрывающие почти мистическую основу русской революции; историко-биографическое повествование Алексея Кондратенко «Жизнь Ростопчина»; книга Александра Лысенко о 100-летии орловского трамвая «Неутомимый труженик» и целая вереница поэтических сборников — «На стеклянном ветру» и «Я сегодня опоздавший» Вадима Ерёмина; «Пучок калины» Ивана Александрова; «Шум реки» Ирины Семёновой, а также многие другие.
Вот некоторые из таких книг в более детальном приближении.
* * *
Юрий Оноприенко. Одинокая сорока: Рассказы, пьеса, повести. — Орёл: «Вешние воды», 2004. — 372 с.
Как правило, книги избранной прозы традиционно составляются у нас из произведений одного «формата» — романов, повестей или рассказов. А вот «Одинокая сорока» представляет собой этакую жанровую «солянку», куда вошло всё написанное автором за некий «отчётный» перед читателем период: тут и пьеса, и новеллы, и повесть, и поэма, и рассказы, и публицистика, и даже так называемый «досыл» (как назвал его сам автор) в виде очерка…
Плохо это или хорошо, когда книга являет собой такую эклектику? Да, наверное, нормально. Ведь это говорит только о том, что перед нами не «узкоцеховой» специалист по какому-то одному виду литературного творчества (скажем, исключительно по стихам или рассказам), но писатель, работающий в самых разнообразных направлениях, и как он посчитал нужным предстать перед читателем, так и сделал. Во-первых, он имеет на это полное право, а во-вторых, главное-то — чтобы книга получилась настоящая и была востребована читателем. Ведь Юрий Оноприенко человек в литературе не начинающий, он автор уже семи книг, лауреат Всероссийского литературного конкурса имени В. М. Шукшина и Всероссийской премии имени И. А. Бунина, и ему есть что сказать своему читателю.
К примеру, давшая название всей книге повесть «Одинокая сорока» с первых же строчек берёт читающего за самую душу, пробуждая в «забаррикадировавшемся» сегодняшнем человеке глубоко упрятанную тоску о самом «нерентабельном» чувстве нашей рыночной эпохи:
«„Ясная моя, как же я верил в любовь… Что же ты? Зачем повторяешь меня?“
Ночь была длинна, как исповедь, и рядом спала девушка, смертельно влюблённая в Седова. Она была вдвое моложе и стократ чище его, угрюмого мизантропа. И она не отпускала его уже третий год…».
Если браки, как гласит народная мудрость, совершаются на небесах, то и любовь — счастливая или мучительная, а то и вовсе безответная — тоже есть Божий промысел, посылающийся человеку для взросления его души, кому в юные годы, а кому так уже и в зрелом возрасте. «Любовь нас выбирает», — пелось в одной хорошей песне советской поры. Вот и герои «Одинокой сороки» Седов и Аня избывают свою любовь, как им Бог на душу положил:
«Седов смотрел на хрустальное лицо Ани, и древнее сердце его давало сбои. Нежность и тоска — чувства, одинаково пошло звучащие, когда их облекают в слово, — эти затерзанные говорливыми людьми нежность и тоска не давали Седову спать. Он с содроганием вспоминал время, когда ему тоже было двадцать и когда он влюблялся до обморока, до озноба в висках. Его любви пугались…».
История любви Седова и его юной подруги написана на обнажённом нерве, предельно открыто и честно, и в этом её главное достоинство и оправданность. Эта повесть — точно спасительная соломинка для тех, кого Господь наградил такими же трепетными и страстными сердцами, как у необыкновенных героев повести, и кто мучится своей непохожестью на большинство сограждан. Потому что ненормальны именно те, кто утратил в себе способность любить по-настоящему, а Бог как раз и создал человека для любви. И задача настоящей литературы, которую наследует Юрий Оноприенко, — возвратить человеку то, что ему было однажды даровано Самим Создателем.
* * *
Михаил Турбин. По знакомой дороге: Книга стихов. — Орёл: «Вешние воды», 2004. — 144 с.
Книга стихов Михаила Турбина имеет описательный характер и оттого напоминает собой альбом цветных фотографий с тщательно выбранной автором натурой, которая наиболее томительно близка его сердцу. Благодаря максимально красочным картинкам бытия читателю дано почти зримо ощутить то настроение, которое испытал однажды и сам поэт: «Пробило солнце в небе бреши — / Струится свет из облаков. / Лежат в лохмотьях почерневших / Тела растерзанных стогов… /…Прощальный взгляд зимы печален, / Ползёт от леса холодок. / Бежит по полю в дым проталин / Пичуга, вскинув хохолок».
Название книге дано неслучайное — «По знакомой дороге». Эта хорошо изученная «знакомость» много раз пройденной дороги чувствуется во всём её содержании: поэт знает всё, о чём он пишет в своих стихах: «Вот она, даль необъятно-зелёная! / Вот она, русская ширь! / В синем тумане река задымлённая, / Вздыбленный лес-богатырь…».
Стихи у М. Турбина в основном, что называется, душевные, ровные, и единственное, что немного снижает радость от встречи с книгой — это некоторые её однообразие и монотонность, которые напоминают собой долгий дождь (хотя сами стихи могут быть посвящены описанию и солнечного дня, и пробуждающейся весенней природы). Во всём видна рука наблюдательного и одарённого поэта, прошедшего хорошую поэтическую школу, но сборнику недостаёт стихов как раз выпадающих из общего ряда, удивляющих читателя. Таких, как, скажем, стихотворение, посвященное Алексею Перелыгину: «Взрыв жизни налицо — трещат на ветках почки. / Вбирает сок земли корнями ранний сад. / И кажется порой, краду чужие строчки: /Лишь рот открою — вот он, плагиат».
Подобное сомнение можно поставить автору только в заслугу: ведь настоящий поэт, даже если он написал уже несколько сборников, всегда находится в поиске единственного неслучайного слова: «Привычно в тетради нахмурился лист — / Черкаю слова, словно блажу. / Опять я веду себя, как эгоист, /Пока со строкою не слажу… / Растрачены силы, душевный порыв, / А время бежит бестолково… / До той долгожданной, счастливой поры, /Пока не отыщется слово».
Что ж, пусть время бежит — такова его природа. И пусть поэты никогда не устанут пробиваться к манящим их созвучиям — без этой работы никому не дано сказать миру новое слово.
* * *
Иван Рыжов. Встреча: Краткие рассказы, публицистика, заметки, зарубки на памяти. — Орёл: «Вешние воды», 2000. — 310 с.
Эпиграфом к новой книге прозы «Встреча» Иван Рыжов взял слова своего тёзки Ивана Бунина: «Россия. Кто сможет учить меня любви к ней!..». В последнее время становится всё более и более популярным жанр коротких заметок, беглых впечатлений, выдержек из дневников и записных книжек — то есть того, что легло когда-то в основу книги Юрия Олеши «Ни дня без строчки», дало солоухинские «Камешки на ладони», составилось у Юрия Бондарева в «Мгновения» и пришло к читателю в виде других аналогичных книжек. Вот и автор «Встречи» объясняется в любви России посредством мини-рассказов, зарубок на памяти, интервью, коротких эссе. Но в этих порою прямо-таки крохотных по объёму произведениях заключены сгустки вовсе не крохотных мыслей и чувств.
Рассказ «Ночь». Сердце героя полнится тоской, он одинок, как «осенний лёгкий лист, мотающийся по свету». И вдруг вспоминает свою старушку мать, безвыездно живущую в деревне с пятью сыновьями и тремя дочерьми. И уходит тоска, и едет сын к матери… Всё так просто и в то же время так сложно, как и вообще всё в этой жизни.
А вот рассказ «Шорох» (полностью): «Ветерок тихонько колышет листву деревьев и лёгкие платья женщин. Шёлковый шорох…». Или рассказ «Живой свет» (тоже полностью): «Глубокая ночь. Не спится. За широким окном ясная луна. Рассеянный неживой свет её наполняет комнату, давит, бередит душу. Ах, Господи, куда деться? Душно, тошно и печально. И молюсь, молюсь, чтобы дожить до утра. Там день, солнце, тёплые голоса птиц… Там живой свет…».
Запоминается и рассказик «Бог в помощь» — всего-то и дел, что встретившаяся писателю случайно на полевой дороге «старая, древняя баба со склизкой ореховой палкой в тёмной тонкой руке» пожелала ему Божьего заступничества, и тут же стала видна чья-то, будто скрывавшаяся ранее от его глаз, разлитая в мире «забота. Всё зеленело, цвело, сладко спела рожь…». Оказывается, человеку так мало нужно на самом деле для счастья! «Бог в помощь!» — и ты уже силён и радостен.
Но и для печали нужно не так уж много — достаточно вспомнить о том, что в мире есть старые, больные, одинокие… Им посвящены такие рассказы, как «Ласковый шёпот», «Обида», «Стыдно».
Исстрадалась душа Ивана Рыжова за свой нищий и горький народ, помочь которому он может только своим участливым словом. Но это немало в наше прагматичное и жёсткое время.
* * *
Виктор Дронников. На птичьих кругах: Стихи. — Орёл: «Вешние воды», 2001. — 212 с.
Автор многих поэтических сборников, выходивших с 1966 года, Виктор Дронников известен не только на своей родной Орловщине, но и за её пределами. Как сказано в аннотации к книге «На птичьих кругах», готовя её, «автор на этот раз не включил в книгу многие из своих напористых, бойцовских, жарких стихотворений», и оттого она получилась раздумчивой и философски-спокойной: «Человеку тягостна неволя. / Человек не создан для войны. /Гаснет лес, и отдыхает поле. / Столько в мире доброй тишины./ Тишина гнезда и краснотала, / Тишина покосная луны. / Человеку бы всего хватало, / Если бы хватало тишины».
Видимо, сам возраст зрелости и мудрости, в котором пребывает автор, приучает его довольствоваться малым и радоваться простым жизненным вещам: «Есть роща белая. Прохлада. / Родник, мне родственен душой. / Глоток воды — вот всё, что надо / Перед дорогою большой, / Чтоб в жажде губ не размыкая, /Я кожей чувствовал его. /Глоток воды родного края — /Всего лишь — больше ничего».
И ещё одна интонация — прощальная (хотя, хочется думать, и преждевременная) — слышится сквозь шелест многих стихотворений этого сборника: «..Увижу долгий взгляд, / Полуоткрытый рот, / Тебя, как белый сад, / Летящий на восход! / Прощай, прекрасный свет! /Я без тебя устал. / Последний мой привет, /Лети к твоим устам…».
Хочется всё-таки верить, что автор ещё долго будет радовать нас своими стихами и что прощальные строки будут являть собой только поэтическое чувство.
* * *
Леонард Золотарёв. Липа вековая: Книга рассказов. — Орёл: «Вешние воды», 2002. — 728 с.
Огромный том, состоящий из множества полулирических, полуфольклорных, полуисследовательских, полудневниковых рассказов и мини-рассказиков, разбитых на циклы: «Липа вековая», «Завтрак на траве», «Озарения», «Седмица» (повествование в рассказах, реальное — в мистическом освещении), а также на подциклы: «Под Богом пою!», «Есенинские очки», «Гранатовые истории» (рассказы дяди Симы), «Высверки истории» (из генотипа русского народа), «Меченые места» и другие.
Книга бурлит и переливается живой народной речью, подслушанными в глубинке неповторимо «неправильными» словечками и почти уже напрочь забытым нами живородным языком. Вот как, к примеру, говорится в рассказе «Ключ-колодец» про засушливое лето: «Вот сухмень окаянная. Соку не стало в земле. Пригнал новый председатель машину такую: скважины пробуривать для фермы. Весь Пролётный Верх исчесали, истыкали кротовыми норьями, чуть ли не на коленях исползали — были на Пролётном молодцы, да сплыли, не будет, нету сока в земле…». А вот строчки из рассказа «Перепелиное поле»: «Он идёт по просторному лугу, к речке. Вёснами вода из Непрядвы затопляет округу и держится почти до Троицы, оттого Жирный луг так и дышит под каждым шагом, вычвиркивает стоялой водой. Но нынче лето сухое до лютости: солнце выпило влагу, в проволоку выдубило траву, и дядька Михей унюхивает едкую пыль, поднимаемую ботинками… Он глядит на тот берег — там Перепелиное поле… Прёт и прёт Минькин трактор, скачет за ним стрекотливая жатка, а вбок так и валит яровое со слабою просинью…».
Чтение такой литературы доставляет удовольствие уже самим фактом прикосновения к звучанию родной речи — как будто ты побывал в родной деревне и повстречался с давно не виденными земляками…
* * *
Андрей Фролов. Над крышей снова аисты: Книга стихов. — Орёл: «Вешние воды», 2004. — 144 с.
Вторая книга стихов орловского поэта Андрея Фролова характеризуется многообразием тем и простотой подачи материала. Со страниц сборника к читателю сходит по-настоящему многоголосый мир, в котором есть место всему, включая детские голоса, хотя автор пишет, в общем-то, для взрослого читателя.
Вот довольно короткое стихотворение «Возвращение», в которое с виртуозным мастерством оказались втиснуты и целая пропасть, разделившая любящих людей, и одновременно бездна любви и прощения, которая помогла лирическому герою встретить вернувшуюся любимую так, будто и не было меж ними никакой разлуки: «Ушла, сказав: „Неинтересно /пропасть с тоски во цвете лет…“ / Остались стол, кровать, два кресла / и остывающий обед. /…Вернулась. Походя и мило / смахнула пыль минувших зим, / как будто просто выходила /минут на двадцать в магазин».
Такие же простые слова Андрей Фролов вкладывает и в уста ребёнка (или это и правда говорит с нами сидящий в нём самом вечный ребёнок?): «Вот это да! / Вот это да: / В ведре с водой / Дрожит звезда! / Беда! / Промокшая звезда / Сейчас погаснет навсегда! / А я спасти её могу / И в сад с ведром воды бегу — /Я воду выплесну под куст, / Звезда летит на небо пусть!».
Вот так бесхитростно — простыми словами — говорит с миром автор о глубоком и важном. И эта ясность его суждений о мире очень легко ложится на читательское сознание, вызывая в ответ такие же хорошие и бесхитростные чувства.
* * *
Алексей Перелыгин. Одолжение дождя: Стихи. — Орёл: «Вешние воды», 2004. — 232 с.
Уже по одному только портрету в новой книге Алексея Перелыгина ясно: перед нами правдолюбец и правдоборец, оттого с таким укором смотрят его пронзительные глаза и так сурово сдвинуты брови. Он и впрямь видит людей насквозь, вот для примера несколько портретов: «Готова тройка с бубенцами. / Наполнен водкой облучок. / Садится в сани с молодцами / Портретной должности сморчок. / …Сморчок собрал льстецов заране / И вскоре позовёт ещё. / Искусом сладкозвучной дани / Сморчок доволен и польщён».
Чем не портрет нувориша чиновничьего разлива? Или вот — новая порода русских женщин, появившаяся на свет в результате перестройки: «Не в захолустье тараканном / Она согласна отцветать. / Такую стать с пустым карманом / Не выйдет бескорыстно взять».
Перелыгин — поэт острой социальной направленности, и оттого его палитра необычайно многолика, на его холстах уживаются вместе и бывший председатель колхоза «Рассвет» Седой, и предприниматель Довгань, и зам. прокурора Майя Конюхова, и пенсионер дед Федот, и корова Глафира, и собака поэта Виктора Дронникова, и попугай Юрия Оноприенко. И всем своим героям — и тем, кого поэт презирает, и тем, кому сострадает, — он говорит: «Любовь своё ещё возьмёт / Назло и вымыслам, и вздору. / Листвы безропотный полёт /Душе попутен в эту пору. / Зря недоумки сеть плетут / И тщатся свет поймать небесный. / Не им достался тяжкий труд / Слагать божественные песни. // Наветы. Сплетни. Всё сгниёт. / Валите, мерзкие, до кучи! / Любовь чужого не возьмёт, /А своему добру научит».
Вот так и живёт веками наша праведная Русь — добротой да любовью. На чужое не зарится, ещё и своими духовными богатствами щедро делится. И в этом и есть её великий промысел.
* * *
Владимир Ермаков. Безвременник: Стихи. Эссе. — Орёл: «Вешние воды», 2001. — 340 с. илл.
Сильнее всего, пожалуй, выпадает из перечня выпущенных «Вешними водами» книг оригинально оформленный том стихов и эссе Владимира Ермакова «Безвременник», откровенно ориентирующийся не на традиционную «орловскую» поэтику, лучше всего явленную в стихах, скажем, Геннадия Попова, а скорее на формальные поиски и достижения современной московской литературы, что видно хотя бы по открывающему книгу стихотворению «Версификация», густо аллитерированному созвучием «п-р-с» — «п-р-с-п»: «Сухие корни слов составят перепись / созвучий, проступающих из фона: / персидская сирень… приспелостъ персика… / персты Персея… перси Персефоны… / Персеполь… перспектива… (Пресный перечень!) / дисперсия… персона… Пёрселл… перстень… / Всё, что на ощупь схвачено из вечности, / в расхожей речи поражает плесень…».
Нельзя не увидеть и определённой симпатии автора к такому «культовому» для сегодняшней молодёжи писателю, как Виктор Пелевин, воспеваемый которым образ ПУСТОТЫ то и дело залетает в стихи Владимира Ермакова: «Кто стоял на часах до меня, / охраняя в себе пустоту?»; «Всё, что пусто — голо»; «Из пустыни безводной, из формулы Н2О, / да из чего угодно; возможно — из ничего»; «Заполняет пустоты / в лейтмотиве столетья / посторонняя нота / на правах междометья» и так далее. Встречаются и более точные смысловые переклички. Вот Виктор Пелевин, роман «Священная книга оборотня», стр. 259: «Птичка вовсе не славит Господа, когда поёт, это попик думает, что она Его славит». А вот Владимир Ермаков, «Безвременник», стр. 27: «Ходят по лесу ветра напролёт. / Всё прозрачней дерева день за днём. / В горьких сумерках пичужка поёт, — / хвалит Господа, не зная о Нём». (Кто тут на кого повлиял, неважно, важно, что это влияние существует.)
Можно обнаружить в книге также определённое «эхо» поэтики Бродского, выражающееся, главным образом, через длинные синтаксические конструкции; есть даже большое двухчастное стихотворение «Поэт в деревне», написанное на размер известного стихотворения Бродского «В деревне Бог живёт не по углам» и рассказывающее о некоем вынужденном пребывании стихотворца в деревенской глуши, откровенно перекликающемся с фактом высылки Бродского в северную деревню: «…Как ни суди (!) и сколько ни крути, / здесь всё на месте — лишь поэт некстати. / Неспешная тропинка на закате — /метафора окольного пути… / Туда, откуда вышел поутру, / другой дорогой возвращаюсь вспять я, — / где пугало трепещет на ветру / нечаянной пародией распятья…».
Однако ограничить разговор о книге Ермакова лишь констатацией видимых и скрытых перекличек с его современниками — значит не увидеть в ней самого интересного: тех рассыпанных по её страницам (особенно по второй, эссеистической части) глубоких и афористичных мыслей, которыми щедро делится с нами автор. «Язык вне литературы дичает и вырождается в сленг», — уместно замечает он, к примеру, в эссе «Поэзия как необходимость». «Русь как страна возникла на пути из варяг в греки. Её изначальное геополитическое предназначение — посредничество между мирами. Но простой прагматической задачи воображению славян было маловато: хотелось не функции, а миссии…», — говорит он в главе «Путешествие из Китеж-града в Петушки», подбираясь к метафизическому пониманию судьбы России и человека. И под конец книги делает вывод, что «метафизика есть не что иное, как взгляд человека на самого себя с точки зрения вечности».
Но, по сути дела, поэзия тоже ведь, как и метафизика, смотрит на мир с точки зрения вечности, а значит, и вся книга Владимира Ермакова представляет собой попытку метафизического постижения пути России и той роли, которую играет в этом Поэзия.
* * *
Анатолий Загородний. Книга обольщений: Проза, эссе. — Орёл: «Вешние воды», 2002. — 540 с.
Ещё одна жанрово смешанная книга, составленная из произведений, написанных в жанре мистического романа и — историко-культурологического эссе. Роман «Сочинение о Божественной глине» словно бы иллюстрирует собой тот тезис о «посредничестве между мирами», о котором говорил выше Владимир Ермаков. При этом роман выступает посредником сразу между несколькими мирами: миром древнегреческих мифов, русских сказок — и современности, а также между миром живых — и миром мёртвых.
Но страшнее, чем роман о Хароне-Кощее, читать цифры, которые автор приводит в разделе «Эссе о России»: «…Под Челябинском есть деревни, где еженедельно мрут от радиации до двадцати человек. Два миллиона человек, по официальной статистике, принимают наркотики. В Калининграде и Новороссийске — эпидемия СПИДа. 100 000 человек в России ежегодно сгорает от водки. 100 000 человек кончает жизнь самоубийством. У нас полмиллиона слабоумных детей. В России за последние пять лет ушло из жизни три (три!) миллиона молодых мужчин! Только за первые три месяца 1997 года и только одна армия дала России 500 русских офицеров-самоубийц, добровольно покончивших с собственной жизнью, — это цвет русской нации…».
В каком романе выдумаешь такие апокалипсические картины? Да и кто в них поверит? Скажут: фантастика…
Но существуют ли пути спасения Отечества от практически для всех уже очевидной исторической гибели? И если да, то в чём они?
Анатолий Загородний называет в качестве спасительных рецептов для нас следующие:
«Историческая преемственность в границах всей тысячелетней культуры, приверженность и верность русской идее как охранительнице русской самобытной души, выковавшейся в огне и горниле русской державности, окроплённой в купели и просиявшей в свете русского православия…».
Учтём ли мы его выводы, сказать сейчас трудно, но сам факт наличия размышлений такого рода в сборнике прозы областного писателя вкупе со всеми упомянутыми выше книгами издательства «Вешние воды» красноречиво говорит о том, что орловская литература — явление далеко не провинциальное и что книги писателей глубинной России обладают ничуть не менее спасительным потенциалом, чем лучшие книги столичных авторов.
КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ
Россия и русская литературная классика в оценках советско-еврейского путейца
Владимир Опендик. Двести лет затяжного погрома. Т. I. Части первая, вторая и третья. Нью-Йорк, 2003
Книга эта издана на русском языке в двух отдельных книжках (всего 500 страниц), местом издания стал город с самым большим еврейским населением, чуть ли не половина которого говорит по-русски. Автор тоже из России, родился и учился в Ленинграде, закончил факультет «Мосты и тоннели», успешно трудился в этой важной хозяйственной области. Затем перебрался в США, здесь избрал поприщем литературно-исторические изыскания.
Объёмистое это сочинение посвящено разбору историографической книги А. И. Солженицына «Двести лет вместе». Оценки В. Опендика совершенно недвусмысленны. Вот первая фраза книги, набранная крупными буквами: «АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН КАК ЗЕРКАЛО РОССИЙСКОГО АНТИСЕМИТИЗМА». Коротко и ясно. Заметим, что еврейская публицистика имеет, по крайней мере, два отличительных свойства — зашоренность на вопросе пресловутого «антисемитизма», а также непременное пристрастие к пародии, пересказу, использованию уже бывших в употреблении образов. Своих-то нет, вот и приходится заимствовать чужие. В данном случае — известную статью Ленина о Льве Толстом.
Скажем сразу, что углубляться в оценку упомянутой книги А. Солженицына, а также всей его разнообразной литературной и гражданской деятельности мы не станем. Слишком большой вопрос, да и не раз уже приходилось нам о том высказываться. Оставим уж Владимира Опендика наедине со своим оппонентом, у последнего в достатке найдётся заступников самых разнообразных. Пусть разбираются без нас.
Отметим иное, гораздо более интересное для всего российского общества. Сочинение Опендика написано не только вне его бывшей родины, это не новость. Но хоть и вышло оно на русском языке, но очень откровенно, почти никаких осторожных оговорок или всевозможных словесных прокладок, столь характерных обычно для русскоязычных европейских авторов, тут нет. В этом — единственная ценность слабоватого в целом, сугубо дилетантского сочинения. Но, как говорится, спасибо за откровенность, не часто приходится ныне встречать такое. Отметим также, что наш автор избегает грубых суждений и тем паче ругательных слов. Ничего, что позволяли себе изрекать Новодворская или полунемец-полуеврей Кох, тут не сыскать, и это тоже говорит в пользу скромного автора. Вот почему стоит присмотреться к суждениям его, пусть и сугубо критическим. Мы объективно изложим суждения Опендика о России, русском народе и его культуре, тоже избегая всячески бранчливых суждений.
О русско-еврейских отношениях автор судит широко, не избегая давать самые обобщённые оценки. Вот одно из ключевых его суждений, которые в различных написаниях разбросаны по всей его работе:
«Прошло два столетия существования евреев в России, а психология враждебного восприятия другого народа в русском обществе почти не изменилась. Оказалось, что „тонкий слой русской интеллигенции“ так же легко покрывается толстым слоем коррозии антисемитизма, как и двести лет назад». По мнению автора, русская интеллигенция, о «прогрессивности которой так любили писать еврейские авторы», тоже оказалась не очень… Более того, «антисемитизм в России не зависит от общественного строя, а связан с особенностями национального самосознания и с вековыми традициями. При отсутствии морали и устойчивости эти традиции постоянно дают о себе знать независимо от образовательного уровня». Словом, и царская Россия плоха, и советская, и нынешняя страна звериного капитализма.
Даже русские революционеры, которые вкупе с революционерами еврейскими разрушали Россию, тоже, оказывается, не слишком хороши: «В качестве примера можно привести выступление декабристов на Сенатской площади 25 декабря 1825 года (тут у автора описка в дате. — С. С.), или организацию „Народной воли“, или участников массовых выступлений против самодержавия начиная с 1905 года. Однако большая часть из перечисленных участников борьбы против властей грешила антисемитизмом и нисколько от позиции царедворцев в отношении евреев не отличалась. Поэтому и они причастны к тем преступлениям против еврейского народа не меньше властей».
Во всех других странах люди как люди, революционеры как революционеры, а в России всё не как у людей… Несчастная судьба.
Естественно, что такая страна и такой народ не в состоянии создать никакой великой культуры. В частности, литературы. И тут наш бывший мостостроитель обрушивается на русскую литературную классику (как бывший российский министр Кох, тоже гуманитарного образования не получивший). Владимир Опендик набросал целую панораму с изображениями наших писателей-классиков. Панорама получилась широкой, высказываний на этот счёт можно набрать чуть ли не на полтома. Ограничимся, однако, лишь несколькими цитатами, типичными для автора и его сочинения.
«Поэт Г. Державин, склонный к лирическим пассажам, восхвалению красоты женщин, большой знаток и любитель вина, искренне верил, что среди евреев существуют секты ритуального употребления крови христианских младенцев. Н. Гоголь, воспевавший массовые убийства еврейского населения бандами Хмельницкого, считал, что его страна, словно птица-тройка, может осветить путь в будущее для европейских народов. Весьма своеобразное понимание будущего человечества, если сам не считал евреев за людей, достойных жалости и сочувствия».
Продолжим суждения Опендика, следуя за хронологией русской классической литературы. «Тот же Пушкин поддерживал политику захвата польских земель. Ф. Достоевский открыто призывал к походу на Турцию, настаивая в своих „Дневниках“ на том, что „Константинополь должен быть наш!“. Можно сказать, что русские литераторы с древнейших времён были заражены шовинизмом, великодержавностью и тому же учили свой тёмный народ.
Русские классики ХVIII и первой половины ХIХ веков высмеивали евреев, издевались над беспомощностью, не желая понять или узнать условия их жизни. При этом они пользовались слухами, анекдотами и мифами собственного сочинения, часто многократно их усиливая. Таковы евреи в сочинениях Пушкина, Гоголя, Тургенева, Чехова и других».
Список русских писателей-антисемитов выглядит у нашего автора несколько новаторски. Ну, Державин, Гоголь и Достоевский — это давние и привычные мишени для всего Сиона, дело знакомое. Но вот Иван Сергеевич Тургенев-то почему здесь? Да, написал рассказ под названием «Жид», но о ком? О мерзком типе, который торговал собственной дочерью, такого вроде бы защищать трудно и обижаться нечего. Или Пушкин. Не знаем почему, но в Израиле множество улиц в разных местах названы его именем, сочинения чрезвычайно популярны. Его-то за что? За Польшу? Но эта страна была, как некоторые полагают, одной из самых юдофобских в мире. Впрочем, смягчающим обстоятельством служит то, что Опендик не живёт в Израиле.
Но вот Чехов, почему в этом «чёрном списке» он оказался? Сегодня на Западе он один из популярнейших русских классиков, переведён на все языки, пьесы его ставятся во множестве театров от Португалии до Японии, включая обе Америки. Считается, и не зря, образцовым русским интеллигентом. Нет, Опендик предъявляет ему обвинения самые серьёзные, и не один даже раз. Цитируем наиболее серьёзный пункт из этого обвинительного заключения:
«Достаточно вспомнить рекомендацию русского интеллигента Чехова: „Надо всегда помнить про жида, что он жид“, чтобы усомниться в его интеллигентности и в способности адекватно воспринимать жизнь иных народов. Писатель Чехов, будучи по образованию доктором, не сделавший ничего путного в медицине (!), не стеснялся называть всемирно известного доктора Владимира Хавкина, открывшего вакцину против холеры и чумы и спасшего сотни тысяч людей от смерти, не иначе как „жидом“».
Великий писатель Чехов в защите от Опендика, конечно, не нуждается, но некоторые уточнения нам тут придётся сделать. Да, бактериолог Владимир Аронович Хавкин родился в России примерно в одно время с Чеховым, но уже в молодости уехал работать в Париж, затем в Индию, где и сделал свои важные открытия, потом опять вернулся во французскую столицу, где и скончался, на четверть века пережив чеховскую кончину. Заметим, хоть это и не главное, что основная деятельность Хавкина прошла вне своей родины. Важнее тут другое: выпускник медицинского факультета, Чехов имел совсем иную врачебную специальность, он был терапевтом и очень много в этой области трудился, бесплатно лечил окрестных крестьян и даже построил на свои средства несколько сельских больниц, что было редкостью среди докторов того времени. Сказать, что он «ничего путного в медицине» не сделал, можно только в сильном раздражении. Но самое главное, что слово «жид», оскорбительное в наше время, совсем иначе звучало в конце ХIХ столетия в тогдашних понятиях русского языка. Как ныне в Польше, например, вполне западной стране.
Итак, автор «Скрипки Ротшильда» объявлен антисемитом. Грустно читать такое. И невольно подумаешь, что «антисемитом» является не тот человек, который не любит евреев, а тот, кого сами евреи не любят. И по каким-то причинам гласно объявляют об этом.
Из всех русских писателей положительной оценки Опендика удостоился только Максим Горький. Одну фразу писателя он даже вынес в качестве эпиграфа: «И сейчас снова в душе русского человека назревает гнойный нарыв зависти и ненависти бездельников и лентяев к евреям — народу живому, деятельному, который потому и обгоняет тяжёлого русского человека на всех путях жизни, что умеет и любит работать». Опендик с этой оценкой не спорит, хотя она была высказана ещё в 1919 году. Примечательная дата! Евреи тогда действительно «обгоняли» все другие народы России, «работая» в Коминтерне и ВЧК. Горький и в самом деле всю свою жизнь ценил евреев и поругивал русских, но хронология цитаты отличается некоторой односторонностью и Горького, и Опендика.
Можно было бы привести примеры иных явных несообразностей нашего бывшего земляка, но и сказанного довольно. Конечно, он сам отвечает за себя, однако же кто-то эту объёмистую книгу издал, устроил её распространение, оплатил всё это. Значит, Владимир Опендик отразил не только свои личные взгляды.
* * *
Приходится отметить, что в последние годы еврейские деятели стали часто обращаться к русской литературной классике. О высказываниях Коха на этот счёт мы напомнили, суждения Опендика привели, но вот уже на исходе 2004 года высказался сам Чубайс — «великий и ужасный». Оценки русскому писателю-классику он дал в беседе с московским журналистом из британской «Файнэншл таймс». Беседа случилась в «эксклюзивном» (то есть очень богатом) ресторане. Платил за угощение журналист, зато чубайсовский охранник тщательно осмотрел помещение (хозяин очень боится покушений). А теперь к делу, цитируем высказывания владельца тепла и света Всея Руси:
«— Знаете, за последние три месяца я перечитал всего Достоевского, и теперь к этому человеку я не чувствую ничего, кроме физической ненависти. Он несомненно гений, но когда в книгах я вижу его мысли о том, что русский народ — народ особый, богоизбранный, когда я читаю о страданиях, которые он возводит в ранг культа, и о том, что он предлагает человеку выбор между неправильным и кажущимся, мне хочется порвать его в куски».
Каков наш энергетический Кирджали! По-русски Чубайс выражается неважно («вижу мысли», «ранг культа»), но злоба, злоба-то какова! Да перенеси его в XIX век, он тут же бы отключил в петербургской квартире Достоевского свет и тепло. Что ж, гражданам России полезно узнать, о чём думает в свободное время единственный от России член Бейдельбергского клуба.
В заключение опубликованного материала корреспондент кратко сообщил о своём собеседнике: «Он уехал на чёрном бронированном „БМВ“ с мигалкой в сопровождении машины с охраной».
Интересно, кого он тут так опасается?
Сергей СемановОб Александре Иванове с любовью
Лев Анисов. Александр Иванов. ЖЗЛ, М., Молодая гвардия, 2004
Мне нравятся книги Льва Анисова о русских художниках. Прекрасно изучив все имеющиеся архивные материалы, воспоминания современников, критические статьи и фундаментальные исследования, автор словно переживает заново жизнь своих героев и рассказывает нам о человеческой судьбе, творческих планах и нелёгких художнических путях и поисках представляемого мастера. Рассказ ведётся на добротном русском языке с основательностью подлинного знатока, не позволяющего и подумать себе о какой-либо вымышленной интриге или ради красного словца вставленном в повествование сомнительном эпизоде. Когда я читал книгу Л. Анисова о великом певце русского пейзажа Иване Шишкине, временами казалось, что у меня в руках автобиография, прекрасно изложенная самим большим мастером. Книгу о Шишкине хочется перечитывать, равно как и замечательную анисовскую повесть о Павле Третьякове — крупнейшем собирателе русского искусства. Ведя рассказ о прославленном москвиче, подарившем родному городу уникальную галерею, автор с таким теплом и увлечением рисует образы и характеры художников, у которых Павел Михайлович приобретал произведения для своего любимого детища, что невольно испытываешь чувство белой зависти к героям книги — такой чистотой и возвышенностью веет от их жизненных и творческих поступков. А учитывая, что постоянными участниками событий, происходивших в доме Третьяковых, были Толстой, Достоевский, Суриков, Перов, Крамской и иже с ними, понимаешь, какую Россию мы потеряли, не за понюшку табака отдав всё ценное на поругание и забвение «весь мир насилья разрушающим».
Закрываешь последнюю страницу книги «Третьяков», и долго ещё помнятся тихие беседы в доме в Лаврушинском переулке, споры об искусстве, никогда не переходящие в свержение основ добра и красоты. Каким тираном предстаёт донельзя скромный и одновременно стойкий в отстаивании справедливости и добра Павел Третьяков, сумевший объединить вокруг себя всю художественную Россию, тех, кому дорога была держава и народ русский. Сколько бы ни пытались воинствующие революционеры от искусства осквернить идеалы лучших наших просветителей и подвижников, ни к чему это, кроме нездорового эпатажа, эпигонства и пустоты, не привело. Счастлив лишь тот творец, кто идеалы предшественников своих могучих держит в своём сердце, учится у них любить свой труд и дорожить духовными православными заповедями, открывающими дороги к подлинному совершенству. Вот о таком столпе русской культуры, блистательном мастере живописи, неистовом труженике и тончайшем профессионале — новая книга Л. Анисова «Александр Иванов», увидевшая недавно свет в прославленной серии «Жизнь замечательных людей», выпускаемой издательством «Молодая гвардия».
В сравнительно небольшом по размеру труде Лев Анисов смог рассказать об одарённом живописце исчерпывающе, с вызывающим восхищение знанием фактического материала, проследив судьбу художника на фоне важнейших событий, происходивших в России и на чужбине в первой половине ХIХ столетия. Александр Иванов, как и многие его собратья по ремеслу, а также выдающиеся творцы отечественной литературы и культуры, был вовлечён в сложные коллизии повседневья, политические и религиозные споры-диспуты, которыми отличалось то судьбоносное для России время. Сколько величайших умов творило рядом с Александром Ивановым! Пушкин и Лермонтов, Гоголь и Достоевский, Тютчев и Брюллов. Список этот можно долго продолжать, но важно не количество талантов и истинных патриотов русского просвещения, а желание каждого из них быть полезными своему народу, постоянно искать лучшие пути для процветания и совершенствования русского человека.
Я много проштудировал в своей жизни искусствоведческой, исторической и мемуарной литературы, тем или иным образом связанной с пушкинской и гоголевской эпохой, временем Достоевского и Некрасова. Но отдаю должное Льву Анисову, сумевшему на основе этого богатейшего материала чётким языком литературного повествования рассказать о наиболее важных вехах подвижнического творческого пути Александра Иванова. Читатель, ведомый автором, погружается в реальный мир и повседневную обстановку Императорской Академии художеств. С какой теплотой, наблюдательностью, а подчас и искренней симпатией описаны учителя молодого художника, среди которых и его заботливый отец, одарённый мастер и чуткий педагог. Невольно позавидуешь тогдашним студентам, когда сравнишь их профессоров с нынешними нуворишами, захватившими самопроизвольно власть в опущенной донельзя Академии и творящими всё что угодно. Да только не пекутся они о подлинном искусстве. А ведь студенты и нынче приходят в академию ищущие, не без Божьего дара, требующего заботливой огранки. Только где же те профессиональные наставники, которыми были Мартос, Фёдор Толстой и Андрей Иванов? Не гнались они за лишними заказами, хотя могли иметь их предостаточно. Вдумчивость, такт и строгое следование законам художественного цеха помогали им и самим создавать бессмертные произведения, поныне радующие человеческий взор, и ученикам отдавать большую толику своих знаний и окружать их поистине отеческой заботой.
Зоркий глаз исследователя, прекрасное литературное воспитание и умение разбираться в сложнейших аспектах общественно-философской мысли прошлых времён помогли Льву Анисову написать об Александре Иванове непредвзято, прочувствовав глубоко смысл его поисков, сомнений, совершения ошибок и исправления их. Обычно принято считать Александра Иванова автором одной лишь картины «Явление Мессии», а некоторые специалисты и просто любители прекрасного даже обвиняют его в медлительности, неуверенности в себе, напрасном растрачивании таланта и отказе от более полнокровной и насыщенной художественной жизни. Русский художник, получивший образование в России, любящий преданно и непоказно свою Родину, обрёк себя на добровольное пожизненное почти изгнание. Лукавые и изощрённые ценители искусства цинично улыбнутся: «Хорошо изгнание в Вечный город Рим да под голубые небеса Италии». Но почитайте помесячную хронику этой заграничной командировки, растянувшейся на годы, скрупулёзно прослеженную автором новой книги, и поймёте, какой титанический труд, и умственный и физический, пришёлся на долю Александра Иванова в этой солнечной Италии. Не было ни одной религиозной книги, я не говорю уже о Библии и Евангелии, которую не проштудировал бы досконально пытливый создатель. Сколько философских трудов и мировоззренческих точек зрения, сколько непростых диспутов и откровенных бесед сопутствовало написанию «Явления Мессии»! Иванов знал историю христианского искусства не хуже, чем любой тогдашний самый сведущий профессор Вены, Сорбонны или Оксфорда. Ему казалось, что с каждой вновь прочитанной страницей он только отдаляется от сути евангельского события, которое он рискнул увековечить своей «немощной» кистью. Если бы не его истинно православное мироощущение, не постоянная поддержка русских литераторов и мыслителей, среди которых особое место занимают совместные духовные поиски писателя Гоголя и художника Иванова, не поднять бы ему этот цветущий Крест и не прославить русское искусство рукотворным сим шедевром. Одна картина, великий результат, радость свершения! А сколько этюдов, эскизов, набросков, вариантов, каждый из которых по праву является самостоятельным, законченным произведением. Не знаю, как для других, а для меня ивановские «Ветка», «Аппиева дорога», головы и фигуры персонажей будущей картины, не говоря уже о неповторимых по красоте и духовности «Библейских акварелях», столь же значительны, как пейзажи Шишкина и Васильева, холсты Саврасова и Серова.
Поэт пушкинского круга Пётр Вяземский за два дня до кончины Александра Иванова написал о его великом холсте проникновенные строки:
Я видел древний Иордан, Святой любви и страха полный, В его евангельские волны, Купель крещенья христиан, Я погружался троекратно, Молясь, чтоб и душа моя От язв и пятен бытия Волной омылась благодатной…Всякий прочитавший книгу Л. Анисова «Александр Иванов» переживёт состояние, охватившее поэта при рассматривании драгоценного холста, привезённого из Рима в Петербург. Переживёт потому, что автор сумел переосмыслить во время работы над первоклассным трудом своим чувства, которые посещали Александра Иванова — христианского художника, православного человека, верного сына многострадальной России.
Савва Ямщиков
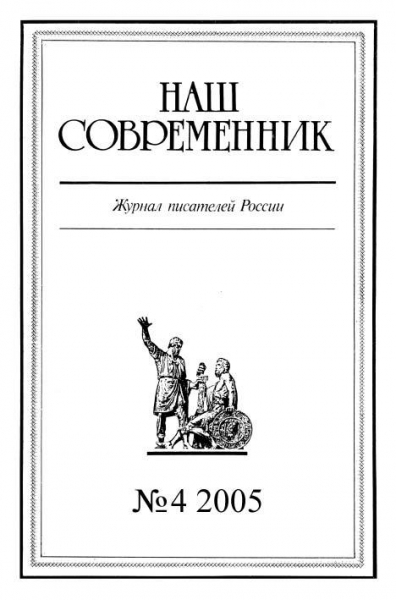








Комментарии к книге «Наш Современник, 2005 № 04», Сергей Георгиевич Кара-Мурза
Всего 0 комментариев