№ 03 2005
ПРОЗА
Обновление имён
В литературе с периодичностью примерно в 20–30 лет происходит обновление имён. Не замена одних имён другими, а именно обновление. Если же этого нет, то на смену старым мастерам приходят бойкие на перо дельцы, и литература становится просто частью развлекательного бизнеса. Мы видим это на примере американской литературы, ещё полвека назад весьма могучей, да и французской, немецкой, английской, когда-то слывших великими…
Окончательному превращению писателей в ремесленников обычно мешает национальная литературная традиция — даже если нет новых ярких имён. Та же Германия могла бы оставаться великой литературной державой исключительно за счёт традиции, как это делает её знаменитая футбольная сборная, никогда, при самых неблагоприятных обстоятельствах, не бывающая слабой, но, в отличие от земляков-футболистов, писатели и издатели свою традицию не сохранили. Оттого и немцы, «мужики торговые», имеют только одного приличного писателя — Патрика Зюскинда, да и тому уже скоро шестьдесят…
А вот самобытная русская литература, несмотря на свалившиеся на неё в последние годы беды, по-прежнему существует. Она сохранила свою национальную традицию, и в немалой степени — благодаря журналу «Наш современник». Об этом говорит и число наших подписчиков, и число тех, кто хотел бы напечататься у нас. Наши эстетические и творческие воззрения не претерпели значительных изменений по сравнению с «Современником» пушкинским. И что же — превратились мы от этого в литературный реликт? Ни в коем случае — как не стали реликтами принципы древнегреческого зодчества и скульптуры. Их можно только развивать, а отменить нельзя.
Те, кто ругает традицию, никогда не задумывались: а в какую, собственно, сторону она развивается? В прошлое?
Традиция развивается только в одну сторону — в будущее.
А вот новаторство в отрыве от традиции очень часто развивается только в прошлое. Почему? Да потому что до возникновения реализма все так называемые нетрадиционные, «передовые» жанры в том или ином виде уже существовали в литературе. Писать прозу в «постреалистическую» эпоху так же, как писали, скажем, немецкие мистические романтики или Лоренс Стерн, — это всё равно как писать стихи в духе Тредиаковского, забыв о реформе стихосложения Ломоносова.
Писателю, независимо от выбранного им литературного направления, необходимо владеть основными реалистическими принципами в той же степени, в какой архитекторы владеют классическими принципами древнегреческого зодчества. Иначе он попросту недоучка, халтурщик.
Журнал «Наш современник» не испытывает недостатка в творческих предложениях. Нам присылают свои произведения даже члены «демократического» писательского союза — и не рядовые, а руководители, возглавляющие собственные журналы. Отлично зная наше направление, в наши двери стучатся всякие фантасты, постмодернисты, сюрреалисты, абсурдисты и даже «паскудисты». И если они получают отказ, то не потому что они «исты», а потому что примеряют на себя трусики «жанров», не владея в целом искусством прозы. Ну что такое, скажем, «ненаучная фантастика» как особый жанр? В большинстве случаев — последнее прибежище графоманов.
Мы ждём писателей с необычной творческой манерой, подразумевая, что их неординарность — это не склонность к халтуре, не желание выдать бросовый товар за ходовой с помощью импортного баллончика с краской. И не просто ждём — мы их ищем. «Наш современник» принял активное участие в состоявшемся в конце февраля 2004 года Всероссийском семинаре молодых прозаиков, организованном издательством «Андреевский флаг». Его открыл главный редактор журнала Станислав Куняев, а одну из двух групп возглавил заведующий отделом прозы «Нашего современника» Андрей Воронцов. Сложную предварительную работу по отбору участников провел автор журнала, прозаик Евгений Шишкин. В финал «пробилось» не так много авторов — 12 (из ста), но они были действительно лучшими и представляли 10 регионов нашей огромной страны (москвичей, кстати, не было).
В группе А. Воронцова, Т. Набатниковой и В. Катаева настоящим открытием стал роман воронежца Виктора Никитина «Исчезнут, как птицы» («Случайное время для чтения») — совершенно загадочное, необычное, ни на что не похожее произведение. Это роман-миф, или, как ещё говорят, роман в романе. Формально действие его происходит с осени 1982 года по январь 1984-го — но это лишь один временной пласт книги. Совершенно непринуждённо рядом с ним существует другой, захватывающий 90-е годы прошлого века, причём в повествовательной ткани оба происходят одновременно. И, наконец, третий пласт — «время для чтения»: обладающий несомненными мистическими свойствами роман вымышленного автором колумбийского писателя Августино Гильермо Рохаса «Девонширская изменница», который читают все герои романа. Фабула его является неким ключом к роману самого Никитина. Что же это за замысел? Если коротко, то речь идёт о неком «вечном заговоре» — мёртвой материи против живой, посредственности против творцов, эгоистов против альтруистов, жующих против думающих. В эту мистическую формулу вписано не только печатное превращение симпатичного, живого героя романа в «балалайку», но и крушение всего советского общества.
«Исчезнут, как птицы» Виктор Никитин писал около семи лет. Автор далеко отошёл от традиционных форм создания романа, но он владеет ими, а самое главное — обладает тем, что многими современными романистами совершенно утеряно — романным мышлением. Ведь роман — это не просто крупное литературное произведение, это часть жизни читателя — от нескольких дней до нескольких недель, — которую он проживает вместе с автором и его героями. Так вошли в наше сознание романы Дюма или Конан-Дойля. Никитин возвёл принцип жизни читателя в романе в абсолют: ведь и его герой живёт так, читая «Девонширскую изменницу».
«Исчезнут, как птицы» примут не все, но с уверенностью можно сказать, что перед нами значительное явление современной русской литературы. Роман был рекомендован двумя руководителями семинара к изданию в «Андреевском флаге», но, к сожалению, нет никакой возможности напечатать его в «Нашем современнике» (с чем был согласен и сам автор): это произведение в 800 страниц принципиально написано как книга и не подлежит переработке в журнальный вариант. Но, мы надеемся, частичное представление об интересной и загадочной творческой манере Никитина даст публикуемый ниже его рассказ «Человек у телескопа».
Виктор Дрожников из Самары пишет главным образом о наркоманах. Он обладает несомненным изобразительным талантом, умеет использовать в художественных целях язык молодёжной среды, но, похоже, не имеет (или не имел — до семинара) никакого представления о нравственных границах, которые существуют даже для обличительной литературы. Героям его неплохо написанного романа «Падение в рай» невозможно сочувствовать и даже просто сопереживать, потому что они были мерзавцами ещё до того, как стали наркоманами. Но приятно удивило в Дрожникове то, что он, бывший тинэйджер, оказался вполне способным воспринимать критические советы руководителей группы (видимо, раньше просто некому было их давать, так как система литературного воспитания разрушена). Впрочем, он и сам уже интуитивно нащупывает правильный путь в творчестве. Рассказ Дрожникова «Нет спасения» свидетельствует о том, что он может показывать пагубу наркомании с той позиции, с какой сами наркоманы критикуют «обычных» людей: без наркотиков вы, мол, никогда не станете полностью свободными, никогда не «улетите к звёздам» и т. п. Но сокровенное желание наркомана из рассказа Дрожникова — именно свобода: «Свобода от ежедневного диктата опиума. Освобождение от измочалившего нервы страха. Очищение от въедливой гнили притонов. Избавление от непременного созерцания уродливых лиц, уже не человеков — низких тварей в людском обличии. Свобода от рабства…». Но не для того людей делают рабами, чтобы они так просто, за здорово живёшь, освободились…
В другой группе семинара (Е. Шишкин, Ю. Козлов и В. Широков) заметным явлением стали рассказы пермского прозаика Александра Фуфлыгина. Он работает в фантастической манере, но это не та фантастика, с помощью которой многие авторы просто драпируют свою творческую немощь. Фуфлыгин в набоковской «остранённой» манере переносит пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке» в недалёкое будущее. Научная мысль уже «скакнула» так мощно, что исполнение желаний стало явью. Хочешь — стой месяц в очереди в государственную контору исполнения желаний, а хочешь — купи золотую рыбку («Made in China») в любое время на «чёрном рынке». Но точно так же, как многие несчастные старики у нас прощаются с жизнью, завещав свои квартиры неведомым благодетелям, так и герой рассказа «Когда исполняются желания» следующим же утром получает предписание о выселении из старого дома. А новая «квартира улучшенной планировки», которую он испросил у пластиковой рыбки, — это всего лишь виртуальная галлюцинация. Раскосая девушка, говорящая: «Мой твоя навечно», — дешёвая электронная кукла… Старик вспомнил про своё третье желание — миллион. Целый миллион! До смерти должно хватить. И тут он понимает, что только смерть на этот миллион он и может купить: «последнее пристанище для вымотанной, исстрадавшейся души». Воистину — формула счастья в том рыночном раю, который нам с конца 80-х годов прошлого века обещают…
В этом же духе — рассказ «Акционерное общество „Золотой ангел“» Галины Полынской из Подмосковья, которая не была участником Переделкинского совещания.
И, наконец, самая значительная — и по объёму, и, думаю, по содержанию — публикация нашей «молодёжной подборки» — повесть 26-летнего питерского прозаика Евгения Чепкасова. Его успех знаменателен ещё и потому, что Чепкасов — самый молодой из авторов рубрики «Дебют». Перед нами действительно «петербургская повесть» — мистическая, глубокая, написанная «кровью души», с сильным влиянием образов Достоевского, но совсем не эпигонская, а напротив, творчески развивающая идеи великих писателей «петербургского периода» нашей литературы. А мы, если говорить честно, уже соскучились по значительным произведениям, созданным в Петербурге.
Проза Полынской, Дрожникова, Никитина, Фуфлыгина да и отчасти Чепкасова — нетипична для нашего журнала. Но она и не противоречит тем ценностям, за которые мы боремся. А мы, в частности, утверждаем, что новаторство само по себе не есть какая-то космополитическая, антинациональная категория. Всё дело в мировоззрении новаторов. Наши творческие и политические оппоненты умеют переманивать их к себе, переиначивать на собственный лад. Мы же, не желая в принципе никого переманивать и переиначивать, хотим понять их взгляды и пристрастия. Надеемся, что они, в свою очередь, поймут наши.
Разумеется, наш нынешний выбор авторов вовсе не означает, что среди участников Всероссийского семинара в Переделкине не было талантливых представителей традиционной русской прозы. Конечно, были: Светлана Макарова из Краснодара, Дмитрий Ермаков из «второй литературной столицы» России — Вологды… Их произведения уже опубликованы на страницах нашего журнала.
Андрей ВоронцовДебют
Евгений Чепкасов ХРОМАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК (Петербургская повесть)
I. КРУЖЕНИЕ
В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке.
Притчи Соломоновы 7, 9Круг первый. Сумерки
Вообще-то сумерки страшны: они полупрозрачные, студенистые, вязкие — как дохлая медуза. Падая на город, медуза вытесняет воздух, и людям поневоле приходится дышать ее клейстерным телом. В пряные летние сумерки некоторые умирают от удушья. Лица таких умерших искорежены ужасом…
Но описываемый сумеречный момент случился зимой, и было морозно. К тому же дядя Паша не боялся медузы: однажды летом, оголодав, он принялся жадно хапать ртом медузий студень, и голод отступил. А зимой медуза колкая и невкусная — зимой медузой не поужинаешь.
Дядя Паша озирал людей на троллейбусной остановке, и ему представлялось, что вот сейчас смерзнется медуза, и все они застынут, словно прошлогодняя жухлая трава во льду. Однако это не пугало, а веселило дядю Пашу, и он беззаботно бил оземь мягкой пятой серого валенка.
Людно на остановке, но около дяди Паши будто магический круг очерчен — пусто. Какой-то малыш сквозь варежку тычет пальчиком в центр загадочного круга, а мама зажимает пальчик в шерстяной кулак и что-то шепчет на ушко. Шепчет она долго и вдохновенно, сочиняя, вероятно, сказочку про то, почему никто не подходит к тому человеку, почему он постоянно морщит лоб и бьет ногой о снег и почему один глаз его скошен к носу. Оробевший малыш спрятал лицо в лисьем меху маминой шубы, и женщина улыбнулась: есть теперь кем пугать непослушного.
Пока мама шептала что-то успокоительное и ободряющее, дядя Паша бочком, бочком, вывертывая одну ногу, подошел к некоему пареньку и, чуть нарочито пуская слюни, попросил оставить докурить. Паренек неторопливо сделал две затяжки и отдал сигарету, брезгливо глядя на слюну, застывшую на щетине подбородка просителя.
Как только дядя Паша докурил бычок до фильтра и поперхнулся едким дымом тлеющей ваты, подполз долгожданный троллейбус. Ехать дядя Паша никуда не собирался, а погреться бы не мешало — вот он и полез в троллейбус, набычившись и тяжко, надсадно мыча. Кучка народа у дверей мигом раздалась, внутри машины гадливо потеснились, и дядя Паша, перестав мычать, свободно поместился. «Идёт коза рогатая… Му!» — что-то в этом роде подумал дядя Паша и тоненько захихикал, когда двери с лязгом съехались.
Оттотулив губы, дядя Паша жарко дышал на овальное стекло двери, отодвигался посмотреть, как волнисто плавится лед, и снова дышал. А в его голове на разные лады пели козлы.
* * *
Окна троллейбуса были плотно обиты белыми ветвями папоротника — совсем как крышка гроба. Кто-то процарапывал глазки в ледяной флоре и получал возможность судить о внешнем мире, но таких любопытных было немного. Троллейбус, обычно весьма прозрачный и бесхитростный, нынче решил поскрытничать и мягко плыл по сумеречному городу, везя в себе неизвестный мир.
Над головой дяди Паши зашипело, затрещало, и ржавый голос проскрежетал: «Роддом». Отверзшаяся дверь легонько пнула дядю Пашу, произошла обычная людская перетасовка, и он, проворно поднырнув под поручень, оказался в лучшем местечке троллейбуса (местечко с трех сторон ограничено задним окном, стенкой и поручнем; это тишайший затон при любом многолюдстве). Как не позавидовать дяде Паше?.. Сам он был совершенно счастлив.
Кстати говоря, не он один пребывал в веселейшем расположении духа: неподалеку кучковались четверо пареньков и уж так смеялись… Они казались ровесниками — шестнадцатилетними или около того; чтобы засмеяться, им было достаточно взглянуть друг на друга, а уж когда рядом возник дядя Паша… Впрочем, они очень старались сдерживаться, один даже зажимал нос, и оттого его прорывающийся смех был похож на чиханье, а другой всё приговаривал: «Тихо, парни: палимся!».
— Доброго здоровья, дядя Паша!
Дядя Паша вздрогнул, поскольку голос раздался у самого уха. «Опять встретились! — подумалось ему. — Часто…».
— Вот и опять встретились! — жизнерадостно воскликнул человек в дубленке, незаметно протиснувшийся к дяде Паше сквозь людскую гущу, и сжал его правое предплечье в том месте, где фуфаечный рукав продран и видна вата (дядя Паша гордился этим рукавом, особенно когда тянул руку за милостыней: тянет руку, а рукав продран и вата видна).
— Часто… — сказал дядя Паша, чуть погрустнев, наморщил лоб еще сильнее и пнул фанерную стенку троллейбуса.
— Не рад, что ли? — недоверчиво полюбопытствовал человек в дубленке.
— Сам знаешь. — Дядя Паша хапнул побольше воздуха и стал медленно выдыхать в стекло, едва не касаясь его губами.
— Рад, рад… — поспешно заключил человек в дубленке. — Хоть ты и злой стал с тех пор, а вижу — рад!
Дядя Паша негромко, страдальчески замычал.
— Ведь тебе как этим паренькам тогда было, столько же? Ладно, прости, не буду напоминать, прости…
Лед под дыханием дяди Паши плавился.
— А ведь мне сейчас любопытная мысль в голову пришла. Лет шестнадцать назад ты бы заревел от восторга, ты любил такие мысли, философствовал всё… Короче, слушай. В троллейбусе люди говорят так же свободно, как наедине. Других они считают чем-то вроде мебели. Ведь любопытно же! Здесь можно подслушать гораздо больше, чем, к примеру… я уж не знаю где. И открыто, без ухищрений! Как тебе, дядя Паша?
Дядя Паша сосредоточенно дышал в стекло. Человек в дубленке резко припал к его уху и быстро зашептал:
— Почему ты на меня злишься? Я же тебя растормошить хочу, а ты злишься… Ведь я интересные вещи говорю, а ты не дурак, ты ведь отличником был — зачем злишься? Посмотри на тех пареньков: они же не просто так хохочут. Нарки, накурились травки и ну ржать! Послушай, у них сейчас разговор любопытнейший… Слушай!
— Ну прям, любопытнейший! — скептически произнес один из смехачей.
— Это ты к чему? — поинтересовался второй.
— Да вот, сказал кто-то, что у нас разговор любопытнейший.
— Ты гонишь! — убежденно заключил второй. — Докажь ведь, Леш. Ну вот… Так что ты, милок, совсем. Тебя глючит уже. Кто мог сказать — этот бомж, что ли? — И паренек заразительно расхохотался.
Остальные зараженно заржали следом, но третий (Леша, которого просили доказать, что никто ничего не говорил) вдруг замолк и прошептал страшным шепотом:
— Тихо, парни: палимся!
— Палимся! — передразнил четвертый. — А кто всех зазвал в троллейбусе покататься? Палимся, ха-ха-ха!
Пугливый хохот вновь чертиком проскакал по головам парнишек и притаился. Они продолжили переговариваться:
— А знаете, парни, где сегодня самая крутая тусовка?
— Где всегда…
— Нет, сегодня в церкви.
— В церкви. Ха-ха-ха.
— В натуре: сегодня в полночь там все наши соберутся.
— Прикиньте, парни, дискотеки позакрывают, тусоваться разрешат только в церкви. Прикиньте, колокольный звон такой, диджей Поп и все пляшут, отрываются…
— Не хрена гнать: Бог накажет.
— Вообще-то правильно. Не зря же в фильмах показывают монстров всяких из ада или там как душа убитого ходит и всех мочит. По ходу, есть Бог.
— Ну вот и не хрена гнать.
— Не, я понять хочу, как меня Бог наказать может. Демоны, что ли, сюда припрутся и сожрут? А?
— Ну охота вам базарить о таком бреде?
— Не, я понять хочу.
— А что, пойдем сегодня в церковь!
— Пошли. Там все наши и диджей Поп — прикольнемся.
— Ты, Леш, с нами?
— Нельзя мне, я некрещеный.
— По хрену, я тоже некрещеный. А кто здесь крещеный? Парни, кто крещеный? По ходу, никого… Серый, фиг ли ты тогда: «Бог накажет…»? Пошли-пошли, подзарядимся божественной энергией…
— Подзарядимся… Ха-ха!
— Ха-ха-ха!
— Тише, парни: палимся!
Пареньки ненадолго примолкли.
— Вот такие дела, дядя Паша… — прошептал человек в дубленке. — Страшно это, страшно…
— У них бесенок по макушкам скачет, — заинтересованно заметил дядя Паша. — Как обезьянка — и мордастенький такой…
— Это бывает, дядя Паша. Это ничего…
— Он их съесть хочет… Пускай, нечего смеяться… Хвостатенький…
Внезапно салон троллейбуса пропитался мутным унылым светом; желтоватенький свет чем-то напоминал дешевые столовские щи. Кое-где в продолговатых светильниках, грязных изнутри, не хватало лампочек, и такие их участки были омертвело-темными. Светильники эти всегда казались дяде Паше живыми — кем-то вроде светляков, которыми унизаны травинки в болотистой местности. Вообще дядя Паша мало кого жалел, а вот троллейбусных светляков с омертвелыми темными телами ему было жаль — хоть плачь. Он был уверен, что их придавили.
Дядя Паша порывисто обернулся. В одном из светильников, видных ему, не хватало лампочки, и дядя Паша, болезненно скривившись, уткнулся в слепое окно.
— Светляков жалко? — участливо поинтересовался человек в дубленке.
— Подранок есть, — сказал дядя Паша. — А остальных не тронули. Может, оклемается…
— Не понимаю я тебя: светляков тебе жаль, а к людям равнодушен. Их вот, к примеру, бесенок собирается сожрать, а тебе всё равно.
— Они пусть сами думают… Им весело, а подранку больно… — И тут он вдруг насмешливо глянул в лицо собеседнику, будто разгадал какую-то каверзу. — Зачем ты?… Ведь людей здесь не-эт!..
— Странный ты, дядя Паша, — задумчиво молвил человек в дубленке. — Но я тебя люблю.
После этого он надолго замолк.
— Задняя площадка, оплачиваем свой проезд! Проездные предъявляем! Вижу… Студенческий с собой? Вижу… Я вас немножечко потесню… Хорошо. У вас что? Два? Вот сдача. Вижу…
Кондуктор продвигалась неторопливо, энергично и неумолимо — как ледокол. Приходилось только удивляться, каким образом ее массивное полногрудое тело проникает сквозь людские дебри. Словно космическая ракета, кондуктор разогрелась от трения: ее мясистое лицо взмокло, и она, приостановившись на мгновение, отлепила ото лба прядь русых волос и упрятала под шарообразную шерстяную шапку.
— У вас что? — обратилась она к четверке смешливых пареньков. — Предъявляем, не ждем.
Смехачи переглянулись, будто не понимая, чего от них хотят, и внимательно посмотрели на кондуктора.
— А что она такая потная? — поинтересовался один и тотчас же зажал нос пальцами, запирая подкатившее хихиканье.
— Из бани, — предположил другой и расхохотался.
— С легким паром! — поздравил третий сдавленным голосом и заржал.
Четвертый ничего не смог вымолвить, он лишь уперся лбом в заиндевелое стекло и затрясся, как от рыданий. Его лицо перехватило судорогой, точно невидимой повязкой, которую всё затягивали и затягивали.
На счастье пареньков, троллейбус остановился, двери разъехались, и они, не сговариваясь, сиганули вон и уже на остановке корчились от хохота, будто их кто под дых ударил.
— Вот ведь хулиганье! — возмущенно воскликнула кондуктор и, погладив хвост талонной ленты, спросила убыстрившимся и погрубевшим голосом: — У вас что?
Дядя Паша с важностью достал из кармана фуфайки проездной и предъявил.
— Школьный?! — прошипела кондуктор, пятнисто краснея и утирая пот. — Сколько тебе лет-то, школьничек?
— Шестнадцать, — спокойно ответил дядя Паша и убрал проездной.
— Не, вы гляньте! — чуть ли не завопила она. — Шестнадцать лет ему! Бесстыжий! Да тебе два раза по шестнадцать, ты мне ровесник!
И тут странное выражение появилось на гневном, разгоряченном лице женщины. Она замолчала, чуть ухмыльнулась, и дяде Паше показалось, что, прежде чем уйти, она подмигнула ему. У человека в дубленке кондуктор проездного не спросила.
— Действительно странно… — задумчиво пробормотал человек в дубленке. — Зима, а она потеет… Почему ты, кстати, сказал, что тебе шестнадцать? — спросил он, точно спохватившись.
— Не знаешь как будто! — проворчал дядя Паша, болезненно скривившись. — В шестнадцать я умер. Жил-жил и умер. А то, что взрослый теперь, — это мне наказание.
— Извини, дядя Паша, я запамятовал, — с серьезным сожалением молвил человек в дубленке.
А дядя Паша, оттотулив губы, жарко дышал в стекло, отодвигался посмотреть, как волнисто плавится лед, и снова дышал. Он почти улыбался, мысленно перебирая цветные лоскутки воспоминаний о детстве.
* * *
— За тетю Ма-ашу… Молодец! За дядю Сере-ожу… Умничка! За бабу Ка… Не хочешь за бабу Катю? Как не стыдно — она тебя пирожком угощала… Давай-ка, родной! За бабу Ка-атю… Вот так. А последнюю ложечку за мамочку, за ма-амочку… Вот и покушали, а говорил — не съешь. Утри ротик!
Мамочка счастливо улыбалась и, откинувшись на спинку стула, наблюдала, как Пашенька утирает ротик белой матерчатой салфеткой и обеими ручками отодвигает тарелку с крупинчатыми мазками манной каши на бледно-голубом орнаменте. Иной раз, глядя на сытого сынулю, мама плакала спокойными, привычными слезами — не задыхалась, не била себя в грудь, не всхлипывала даже, а лишь плакала и улыбалась. Мама никогда не предлагала Пашеньке ложки за папочку, а тетя Маша, и дядя Сережа, и баба Катя были всего лишь соседями по коммуналке — хорошими, правда, соседями. Они жалели мамочку, предлагали что-то непонятное Пашеньке — познакомить ее с кем-то, но она отказывалась и только плакала, глядя на сытого сынулю.
Этот лоскуток воспоминаний о детстве был белым — цвета манной каши и салфетки.
Прикрывая ладошками клетчатые листки бумаги, дети слюнявили цветные карандаши и напряженно рисовали что-то скрытое ото всех. Закончив, они судорожно прижимали рисунок к груди и бежали к воспитательнице — главному цензору и искусствоведу. А та хвалила — почти всегда хвалила, разве что могла обмолвиться иной раз, что трехногих собак не бывает. И вдруг она вскочила со стула с каким-то рисунком в руках и гневно воскликнула:
— Смотрите, дети!
Пашенька, как и остальные детсадовцы, посмотрел: оказалось, что один мальчик черным карандашом начертил большую загогулистую свастику.
— Смотрите, дети! — гневно повторила воспитательница и разорвала рисунок. Позже Пашенька думал: не договорилась ли воспитательница с тем мальчиком: ну кому захочется по собственной воле изображать свастику?
Сам Пашенька рисовал хорошо. Особенно ему удавались богатыри: на коне, с мечом-кладенцом или копьем, они кололи драконов в брюхо или рубили им головы. Воспитательница не раз поручала Пашеньке копировать простенькие рисунки из какой-то заветной книжечки, что было очень почетно. Один из них хорошо запомнился: воздушный бой, фашистский самолет, разорванный взрывом надвое, словно он был бумажным, и наш самолет-победитель. Пашенька скопировал всё очень похоже и тщательно закрасил клетчатое небо голубым карандашом, хотя этого и не требовалось.
Когда детсадовцев выводили на прогулку, Пашенька часто смотрел в небо каким-то вопрошающим взглядом. Затем его забирала мама. Она уже не плакала непонятно о чем, а подолгу молилась.
— Эх, ушла бы я в монастырь, да на кого я тебя, родимого, оставлю? — иногда тихо говорила она, поднимаясь с колен. — Мой грех в монастыре отмаливать надо!
Этот лоскуток воспоминаний о детстве был голубым — цвета неба, нарисованного и настоящего.
А небо было всё тем же — голубым и нестерпимо ясным. Голые деревья, росшие вдоль дороги, окунали в него ветви и походили на дворницкие мётлы. Деревья орали по-грачиному. Паша семенил ножками, держась за мамину руку, задирал голову и слушал грачей. Дорога вела в церковь.
Наконец на ликующем небесном фоне прорезался тусклый позолоченный купол, и он показался Паше каким-то несчастным, обездоленным. Внутри храм был того же цвета, что и купол — золоченым, но словно вылинявшим, а бледновато-желтые священнические ризы выглядели довольно поношенными.
Но началась служба, и всё для Паши преобразилось: слова молитв, как сказочные заклинания, превратили унылую церковь в чудесный дворец, окружающее стало величественным и чарующим. «Так вот куда меня мама привела! — восхищенно подумал Паша. — Здесь хорошо и весело, это всё равно что смотреть на небо…».
Служба закончилась, прихожане поцеловали крест и тихо разошлись. Неумело крестясь и кланяясь храму, Паша заметил, что купол с восьмиконечным православным крестом сияет ярко-ярко в лучах солнышка. Мальчик улыбнулся понимающе-хитровато и пошел восвояси вслед за мамой.
— Ма, а церковь грустная, ненарядная такая — это ведь для маскировки? Ну, как на войне, чтобы враги не заметили? — всё приставал он дорогой, и мама, улыбнувшись, согласилась.
Раньше мама лишь крестила Пашу на ночь, а в тот день он прочитал «Отче наш» и «Богородицу», повторяя вслед за ней. Лежа в постели, мальчик сквозь ресницы смотрел на коленопреклоненную маму и думал, что вот сейчас она поднимется и вновь прошепчет про свой грех и про монастырь. Но она поднялась молча, со следами от слез и потушила настольную лампу.
«Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама!» — подумал вдруг Паша и тихо заплакал.
Этот лоскуток воспоминаний о детстве был желтым — цвета церковного купола и солнышка.
— Я, пионер Советского Союза… — начала вожатая громко и сурово.
— Я, пионер Советского Союза… — хором повторили дети, выстроенные на мощенной булыжником площади. Было что-то жутковатое в этом хоровом «я».
— …перед лицом своих товарищей торжественно обещаю… — продолжила вожатая еще суровее.
Дети послушно повторяли, а памятник кому-то бородатому, возвышавшийся за ее спиной, смотрел на посвящающихся каменным взглядом. Он казался именитым гостем, специально приглашенным по такому случаю.
Паша, слегка утомленный строевым походом к площади, облизанный шаловливым весенним солнышком, разморенный, машинально повторял вызубренную клятву и улыбался. Когда дети закончили клясться, Паше показалось, что памятник чуть кивнул головой.
И тут к посвященным по команде бросились, кинулись, ринулись старшие пионеры и с ловкостью профессиональных душителей накинули на их шеи треугольные алые галстуки и стянули узлом. Так Паша стал пионером.
Он вернулся домой усталым и радостным, хотя после посвящения был задумчив и чуть ли не хмур. Он чувствовал себя не вполне достойным пионерского галстука, но смолчал, когда накануне учительница спрашивала об этом у класса. «Ничего, я заслужу!» — решил Паша и вспомнил слова клятвы об уважении к старшим. «Ничего, я заслужу!» — весело повторил Паша мысленно и припомнил, что на исповеди священник говорил ему о почитании родителей.
— Заслужу, заслужу! — пел он, взлетая по лестнице на четвертый этаж…
Паша вернулся домой усталым и радостным. Из общей кухни умопомрачительно пахло пирогами с вареньем — расстаралась мамочка. Он нежно улыбнулся, скинул ботинки и тихо вошел в комнату. Мама, отдыхая после готовки, сидела за столом и читала Евангелие. Мальчик показал галстук, порадовался маминой радостью, сходил выпить кипяченой воды и возвратился серьезным и торжественным.
Мама выжидательно смотрела на него.
— Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама! — тихо и твердо вымолвил Паша давно продуманное.
Мама посмотрела на него каким-то переливчатым взглядом: сперва недоверчиво, потом радостно, затем испуганно; она смотрела долго-долго и наконец заплакала.
Этот лоскуток воспоминаний о детстве был алым — цвета пионерского галстука.
Дядя Паша почти улыбался, мысленно перебирая цветные лоскутки воспоминаний о детстве: вот лоскуток белый, вот голубой, вот желтый, вот алый… Дальше он вспоминать не хотел.
— Послушай-ка, дядя Паша, — внезапно обратился к нему человек в дубленке. — А ты никогда не задумывался, отчего священники в соборе такие нарядные? Они то в белых ризах служат, то в голубых, то в желтых, то в алых… А монахи всё время в черных, черноризники! Отчего так?
— Думать, что ли, больше не о чем?.. — пробормотал дядя Паша.
— А может, и не о чем, — произнес человек в дубленке загадочным тоном. — Я, может, в этом году в монастырь ухожу.
— Ты?! — завопил дядя Паша так, что пассажиры оглянулись на него.
— Я! — самодовольно подтвердил человек в дубленке. — Говори, пожалуйста, потише.
Вдруг где-то поблизости зашипело, затрещало, и громкий ржавый голос проскрежетал: «Роддом». Троллейбус замкнул круг.
Круг второй. Вечер дня
Троллейбус замкнул круг, остановился и неловко, жалко открыл дверные створки, словно ушибленные лапки поджал. Дядя Паша обернулся, отступил на шаг в сторону и вгляделся в прямоугольник внешнего мира. А вовне из тончайших, чуть заметных сумеречных волокон уже соткался добротный пуховый платок вечера. Небо, еще чуть освещенное откуда-то снизу, было густо-фиолетовым и почти беззвездным.
Люди вышли, люди вошли, двери схлопнулись, троллейбус мягко поплыл по вечернему городу, и в салоне вновь возникла иллюзия самодостаточности. На самом же деле неизменными, выдержавшими полный троллейбусный круг, были лишь дядя Паша и человек в дубленке, а также кондуктор, прикованная к троллейбусу, как гребец к галере. Всё остальное стало иным.
Час «пик» миновал, и давки уже не было. Большинство пассажиров сидели, а остальные вольготно стояли, держась за поручень. Дядя Паша, ошарашенный новостью о монастыре, тупо смотрел на продышанный глазок, подернувшийся тончайшей нежной наледью. Человек в дубленке стоял рядом и молчал с видом непрофессионального актера, произнесшего реплику и томящегося в ожидании следующей.
А неподалеку расположилась парочка. Такие парочки всегда размещаются около заднего окна, вдоль низкого поручня, иногда их число достигает двух или трех одновременно, и тогда поручень напоминает кукан с рыбой. Конструкция данной парочки была классична: девушка — спиной опирается на поручень, который пролег чуть ниже лопаток (обломков крылышек), ножки вместе, головка слегка приподнята; парень — держится за поручень обеими руками, окружив подругу своеобразным полуобъятием, ноги на ширине плеч, голова принагнута.
Дядя Паша покосился в сторону парочки, и человек в дубленке отодвинулся, чтобы не загораживать.
Румяные лица, свербящий запашок молодости и перегара, короткая поношенная кожанка и лохматая шуба из шкуры неизвестного науке зверя — это почти всё, что одномоментно воспринял дядя Паша. Со второго взгляда можно было заметить, к примеру, проплешину на шубе, кое-как прикрытую шерсткой (явно поработали расческой, даже бороздки от зубчиков видны). Подобная жалкая попытка молодиться роднила шубу с лысеющим мужчиной. Но носители ветхих одежд были молоды. Они спокойно смотрели то в лицо друг другу, то мимо, изредка официально улыбались и молчали.
— Сегодня у тебя? — спросила наконец девушка.
— Да. Тетка уехала, — ответил парень.
И вновь почти унылое молчание.
— Тебе какую шоколадку? — спросил парень.
— С орехами, — ответила девушка и улыбнулась более естественно.
Он чуть склонился и наискось мотнул головой (не поймешь, куда пришелся поцелуй — на ноздрю, щеку или скулу). Улыбка девушки одеревенела, парень распрямился и безразлично уставился на изузоренное морозом стекло.
Человек в дубленке вновь прислонился к продольному поручню и скрыл парочку от взгляда дяди Паши. Занавес.
— А ты знаешь, — мечтательно произнес человек в дубленке, — я ведь давно думал в монастырь уйти, да всё как-то…
Лицо дяди Паши внезапно преобразилось: он резко расправил складки на лбу, и тот оказался не таким уж и низким, а просто усталым, просто измученным, с тремя продольными морщинами. Одновременно дядя Паша стиснул челюсти, так что зубы скрежетнули и взбугрились щетинистые желваки.
— И ведь буквально с детства мечтал… — простодушнейшим образом продолжал человек в дубленке.
Дядя Паша с хрипом выдохнул в стекло, прерывисто, судорожно вздохнул и, успокаиваясь, выпустил воздух тонюсенькой струйкой. Ледяная поверхность стекла проплавилась, и дядя Паша, приникнув глазом к миниатюрному оконцу, увидел крупную, нежную, чуть грустную звезду.
— Ты, кстати, в церковь сегодня пойдешь? — поинтересовался человек в дубленке. — В полночь там…
— Куда ты едешь? — перебил дядя Паша.
В ответ тот слегка снисходительно, почти удивленно, жалеючи глянул на спросившего и смолчал, словно думая: «Ну и глупый же вопрос!» Затем молчание стало нейтральным и прочным.
— А ну-ка, кто еще хочет приобрести билеты? Спасибо, красавица! Вижу, родимый. Задняя площадочка… Не надо пенсионного, я верю. Вот вам билетик, барыня-сударыня! Проездные? Верю, верю, совет вам да любовь!
Парочка улыбнулась словам кондуктора, как улыбались все пассажиры, а та, разгоряченная и веселая, похожая на базарную торговку пирожками, задержалась возле дяди Паши, словно чего-то ожидая.
— Что с тобой? — изумленно спросил тот (он уже с полминуты как обернулся и наблюдал за кондуктором). — Ты была другая…
— А мне скучно быть одинаковой, — озорно ответила она. — Ты погоди, погоди, дядя Паша, я еще покажу, какая я могу быть.
Кондуктор явственно подмигнула.
— Ты меня знаешь… — сказал дядя Паша, но не удивленно, а как-то грустно. — Все меня знают…
— Будет следующий круг, — проговорила она тихо, с почти яростной интонацией, — и будет ночь, и мало народа будет в троллейбусе, и я покажу…
Не договорив, женщина резко развернулась и ушла. Дядя Паша ошеломленно посмотрел на ее удаляющуюся тучную фигуру и наморщил лоб.
Внезапно девушка, притиснутая парнем к поручню, громко засмеялась — то ли разговор кондуктора с оборванцем показался ей смешным, то ли еще что. А дядя Паша вдруг скукожился, стиснул уши ладонями с оттопыренными, дрожащими пальцами и заскулил — заскулил тихо и жалобно, по-щенячьи.
* * *
Смех, нутряной и какой-то икающий женский смех, уже давно стал страшнейшим из наваждений дяди Паши. Вслед за смехом всегда вспоминалась пульсирующая подвижная темнота плотно сомкнутых век. Темнота плыла и кружилась, словно водоворотистый омут, и Пашу (в то время ему было шестнадцать) сильно тошнило. Вскоре на мутном фоне тошноты проступали другие ощущения, появлялось осязание, и Паша начинал чувствовать свое тело.
Он лежал на узкой кровати, ничком и косо, так что левая нога его свешивалась. Между ним и кроватью присутствовала какая-то прослойка, теплая и влажная, и он не вдруг понимал, что это женщина. Он лежал и ощущал, как крупный сосок упирается в его душку — нежное, сокровенное место под кадыком, обрамленное двумя трепетными жилками. Женщина под Пашей дышала, и сосок давил то сильнее, то слабее, то сильнее, то слабее, и не было возможности пошевелиться.
Невыносимое омерзение, тошнота, вращающаяся темнота сомкнутых век и плаха женского тела — таков был неизбывный кошмар дяди Паши.
Но дядя Паша лишь смутно помнил то, что случилось после, — хоть в этом ему посчастливилось. А случилось следующее: женское тело приподнялось, и Паша, соскользнув с него и с кровати, гулко ударился бедром о дощатый пол. Грянул смех, несколько иной, чем раньше, Паша распахнул глаза, и ему почудилось, что с кровати свесился некто трехголовый. Две колышущиеся головы оказались грудями, а третья, просмеявшись, игриво спросила:
— Ты счастлив, Пашенька?
Паша вскочил и, зажав рот рукой, кинулся к двери (не та!), к другой, попал наконец в ванную… Там его продолжительно и неудержимо рвало над раковиной. Потом он рыдал, умывался и полоскал рот холодной водой, мутной от хлорки.
— В ванной чисто? — беспокойно и грубо поинтересовалась голая бесстыдница, когда Паша вышел.
Он кивнул и увидел, что ногти у нее на ногах крашены красным лаком; вновь резко затошнило. Паша внезапно понял, что наг, и устыдился, но прикрыться рукой показалось ему слишком пошлым, и он повернулся боком к женщине, своей ровеснице.
— Ты вроде и пил-то мало… — произнесла та почти задумчиво и, хмыкнув, шлепнула его по заднице. — Ладно, для первого раза ничего!
И, на мгновение обняв трясущегося Пашу, проскользнула в ванную и неплотно прикрыла дверь, будто приглашая подглядывать в щелочку. Струя воды звонко ударилась об эмаль. А Паша вдруг ощутил какое-то сладостно-тягучее чувство от мерзости произошедшего, и это чувство плавно переродилось в похоть. Пашин рассудок, уже давно бездействовавший, почему-то ожил и сильно заинтересовался сходной сущностью омерзения и похоти, но истерически спокойные и весьма абстрактные мысли прервались.
— Ты в монастырь-то как — не раздумал идти? — донесся издевательский женский голос, а затем и смех.
Паше захотелось убить гадину, но он лишь заплакал, судорожно оделся и выбежал в душные летние сумерки.
«Почему?! — оглушительно думал он, пробегая квартал за кварталом. — Что же это?.. А как же мама, монастырь, я?..».
Задыхаясь, Паша взобрался по лестнице на четвертый этаж и трижды ударил по звонку кулаком.
— Пожар, что ли? — недовольно пробормотала соседка по коммуналке, открывая дверь. — Мама твоя в магазин ушла.
«Спасибо!» — мысленно поблагодарил кого-то Паша и прошел в комнату. Первым делом он корявым почерком написал записку («Прости меня») и положил ее на мамино Евангелие. Вторым делом он открыл окно и хотел было перекреститься, но не стал, словно побоялся, что исчезнет. Третьим делом он вскарабкался на подоконник, задержал дыхание, как перед прыжком в воду, и выбросился.
* * *
Дядя Паша тихо и жалобно скулил, стиснув уши ладонями с оттопыренными, дрожащими пальцами.
— Что ты? — встревоженно спросил человек в дубленке, и, судя по всему, спрашивал он уже не в первый раз.
— Смех!.. — с мукой ответил дядя Паша.
— Какой смех? Нет уже никакого смеха, а парочка на той остановке вышла… Сам послушай.
Дядя Паша отчетливо слышал негромкий голос собеседника даже сквозь притиснутые к ушам ладони, а смех — как внутренний, так и внешний — и впрямь исчез. Осторожно, недоверчиво, всё еще страшась ошибиться, выпустил голову из рук, резко схватился за нее вновь, будто боясь, что она упадет без поддержки, а затем отпустил окончательно: кошмар действительно миновал. Перестав скулить, дядя Паша желтыми обкусанными ногтями содрал тонкую наледь с продышанного оконца во внешний мир и торопливо посмотрел туда. Как и ожидал, он вновь увидел крупную, нежную, чуть грустную звезду и почему-то мгновенно успокоился. Казалось, что звезда неспешно следует за троллейбусом.
— А ты сам-то пойдешь? — поинтересовался дядя Паша, и человек в дубленке прищуристо поглядел на него, словно не вполне понимая, а после ответил:
— Конечно, пойду. В полночь — как штык. Правда, народу будет уймища, пьяные всякие — но неважно, главное не это. Обязательно, обязательно нужно в церкви быть сегодняшней ночью…
Дядя Паша хмыкнул.
— И зря смеешься: пусть они пьяные, пусть парочками, пусть тискаются потихоньку, а всё равно лучше, если придут! — с горячностью говорил человек в дубленке. — Ясное дело, мало кто понимает, что это за праздник, идут в основном из-за стадного чувства, потому что так принято, потому что зрелище…
Он говорил, а дядя Паша глядел на него и чувствовал, что есть в говорящем какое-то несоответствие, какая-то неуловимая нелепица — вроде тени, падающей навстречу источнику света. Вглядывался, вглядывался и наконец понял: ораторствуя, человек в дубленке сладко прикрывал глаза — наподобие кота-мурлыки. Дядя Паша хмыкнул вторично.
— Ну, я не знаю, дядя Паша… — обиженно перебил себя оратор. — Это до какой же степени надо опуститься, чтобы смеяться над такими вещами! Ты же верующим был, болезненно верующим — по крайней мере, до шестнадцати лет. — Он вновь прикрыл глаза — возможно, чтобы утаить странноватый взгляд. — Хотя бы из уважения к себе тогдашнему мог бы…
— Вон! — сипло, почти беззвучно заорал дядя Паша.
— Еще чего! — холодно отозвался человек в дубленке и, видимо, передразнивая, принялся усердно дышать в стекло. Лед не плавился.
Стиснув зубы, дядя Паша лягнул стенку троллейбуса, поелозил рукавом фуфайки по заветному миниатюрному оконцу и посмотрел на звезду. Он знал, что непременно увидит ее, хотя троллейбус успел свернуть чуть ли не в противоположную сторону, — знал и увидел, увидел и успокоился, присмирел, почти улыбнулся.
— Впрочем, — произнес точно через силу человек в дубленке. — Впрочем, извини.
Троллейбус остановился, двери разъехались, и произошло нечто неожиданное: в заднюю дверь безо всякого сопровождения ворвались две собаки.
Они были великолепны — большой черный кобель, смахивающий на добермана, и маленькая беленькая сучка, дворняжка с востренькой мордочкой. Они, пожалуй, и не заметили, куда заскочили, они совершенно не смотрели на окружающее: они были влюблены.
Да, именно влюблены! На мгновение собаки неподвижно стали под поручнем, на месте парочки, и, приблизив морду к морде, ласково, неизъяснимо ласково поглядели друг на дружку. И столько истинного, столько вечного было в этом мгновении, что никому из тех, кто повернулся в сторону собак, не пришло в голову прогнать их.
Троллейбус тронулся, и собаки поначалу слегка встревожились из-за того, что пол под их лапами заколыхался, но вскоре испуганное повизгивание сменилось повизгиванием успокаивающим, потом — «разговорным». Склонив красивую продолговатую морду, кобель понюхал под хвостом у сучки — понюхал почтительно и нежно. Именно так, наверное, романтический поэт наслаждался ароматом прекрасного цветка, который жаль сорвать. Сучка с настоящей или притворной стыдливостью отошла, но кобель последовал за ней, словно привязанный за нос. Она неторопливо шествовала впереди, а он сзади, на троллейбусной площадке было где развернуться, и они так и прошли «паровозиком» пару кругов.
Затем собаки свернули в проход между сиденьями и стали бок о бок.
— Ишь ты, какую маленькую подружку себе нашел! — добрым голосом сказала одна старушка.
До этого люди молчали и лишь смотрели на собак, но после реплики старушки заговорили почти одновременно:
— Эх-х, нет фотоаппарата!
— Он же ее раза в два больше… Как же они?..
— Красивый пес! Бывают же такие красивые ублюдки!..
— Смотри, смотри, как ласкаются!..
— Да, чего только не увидишь…
И лишь одна тетка подошла к кондуктору и спросила:
— Почему в салоне собаки? — спросила, а сама глядит на них и мимовольно улыбается.
— Выбегут на остановке, — сказала кондуктор и доверительно добавила: — Я ведь их и сама боюсь.
А собаки жили в своем собачьем мире, жили своей собачьей любовью и полностью игнорировали говорящих. Он склонил тяжелую голову к мордочке подружки, разинул пасть и блаженно прикрыл глаза, а она нежно-нежно покусывала его нижнюю челюсть.
На остановке они без напоминаний выбежали прочь и навсегда исчезли из тесного троллейбусного мирка, а люди еще долго улыбались тихими хорошими улыбками.
Улыбки уже успели растаять, когда вдруг зашипело, затрещало и громкий, пророчески-зловещий голос проскрежетал: «Роддом». Второй троллейбусный круг замкнулся.
Круг третий. Ночная темнота
Второй круг замкнулся, троллейбус остановился и с тюремным лязгом резко распахнул двери. Дядя Паша отвернулся от заиндевелого стекла, отступил на шаг в сторону и тревожно вгляделся в прямоугольник внешнего мира. А извне ночная темнота зорко вглядывалась в него, дядю Пашу, словно тюремщик, который стоит на пороге камеры и вот-вот скажет: «На выход». Никто не вышел из троллейбуса, никто не вошел в него, — вероятно, не хотели мешать свиданию человека и темноты.
Дядя Паша зажмурился: он давно догадывался, что хотя и маскируется темнота, пропитываясь мертвым светом фонарей, на самом деле она черная и захлебнуться в ней проще, чем в чернилах…
Когда он открыл глаза, троллейбус уже мягко плыл по ночному городу, а темноты не было видно.
Многое в салоне изменилось по сравнению с началом предыдущего круга: количество пассажиров уменьшилось настолько, что почти никто не стоял и были свободные места, да и сами пассажиры изменились. Колыбельное колыхание троллейбуса, его беззлобный вой и слепые окна — всё это способствовало безмолвию, и люди молчали, глядя в никуда.
Они нырнули в себя, думая, вероятно, о разном, но — странное дело! — выражение их разновозрастных и разнохарактерных лиц было одинаково. Всмотревшись в такие лица, можно увидеть лик человечества, не искаженный ничем внешним. Лик этот печален, причем печаль, проступающая на нем, не минутная, не случайная, а вечная, вселенская даже… О ней легко забыть и сложно вспомнить; чувство, близкое к ней, возникает, когда мы перебираем свои детские фотографии.
Люди с неуловимым отблеском истины на лицах молчали, а человек в дубленке, будто припомнив или поняв что-то, весело произнес:
— А ведь сейчас, дядя Паша, ночь перед Рождеством. Этой ночью, по Гоголю, нечисть в самую силу входит.
Слова человека в дубленке наложились на ощущения недавнего свидания с темнотой, и дяде Паше стало жутковато. Поспешно содрав наледь со своего оконца, он глянул на звезду, невыразимо мягко светившую во тьме. Внезапно туманный зеленый шар пиротехнической ракеты устремился к звезде, повисел рядом и провалился: кто-то расстреливал остатки новогодних боеприпасов. А дядя Паша неотрывно смотрел на звезду и уже ничего не боялся.
На очередной остановке в троллейбус со смехом заскочили три запыхавшиеся женщины лет тридцати пяти — едва успели. Свободны были только одиночные места, а женщинам, как видно, не хотелось разлучаться, вот и облепила компания продольный поручень на задней площадке, тяжело дыша, но не прерывая разговора, начатого где-то вне троллейбуса. Вошедшие торопливо тараторили, будто читали текст на время, причем текст явно эзотерического содержания. В непролазных дебрях разговора часто раздавалось рыканье: реинкарнация, карма, чакра… И еще мелькало слово «ангелы», в отдельности лазурное, но рядом с рыкающими соседями приобретшее сизый цвет.
— А вот и третье блюдо… — тихо пробормотал человек в дубленке, словно подумал вслух.
Затем он резко припал к уху дяди Паши и безо всякой видимой связи с чем бы то ни было быстро зашептал:
— Почему ты на меня злишься? Я же тебя растормошить хочу, а ты злишься… Зачем злишься? Посмотри-ка вон на них. (Кивок в сторону женского трио.) Они же не просто так хохочут: нарки, наку… — Человек в дубленке осекся, поняв, вероятно, что явно напутал и повторяется. — То есть не нарки, не накурились (это я оговорился), а обычные современные ведьмочки. — Поправившись таким образом, он уже без запинки произнес: — Послушай, у них сейчас разговор любопытнейший… Слушай!
— Так-таки и любопытнейший… — иронично усомнилась одна из женщин.
— Ты о чем? — осведомилась другая, удивленно на нее глянув.
— Просто кое-кто нашим разговором заинтересовался. Говорит, что любопытнейший.
— Кто же это? — почти испуганно прошептала третья женщина. — Я ничего не слышала.
Первая указующе скосила глаза в сторону дяди Паши и человека в дубленке.
— Тот мужичок, что ли? — спросила вторая сомневающимся полушепотом.
— Ну да, — утвердительно ответила первая. — Больше некому…
Третья захихикала в ладошку.
— Да тише ты! — прицыкнула вторая. — Продолжаем разговор и ни на кого не обращаем внимания. О чем мы говорили?
— Об ангелах.
— Точно. Так вот, Олег на семинаре по ангелам про Атлантиду рассказывал. Она и впрямь существовала. То есть был такой материк — Карагуана, а столица его называлась Атлантидой. Атлантийцы были высокие, краснокожие, голова у них была яйцеобразная, заостренная кверху…
— Кверху?!
— Ну да. Непонятно, правда, чем они думали, но цивилизация у них была классная. Лазеры там, кристаллы какие-то, космические корабли, атомная энергия… Еще они владели сферической магией, в смысле телепортацией, и жили по двести восемьдесят лет.
— А откуда Олег всё это взял? — наивнейшим образом полюбопытствовала широкоокая женщина, обозначенная в нашем повествовании третьим номером.
— Откуда?.. — переспросила вторая весьма удивленно. — Из Акаша-хроники, конечно.
— Откуда-откуда? — третья чуть съежилась и прищурила глаз.
— Да темная она — что с нее взять, — успокоительно обратилась женщина номер один ко второй, которая едва в кому не впала оттого, что подруга не знала об Акаша-хронике. — Акаша-хроника — это космический банк данных, — назидательно сообщила она номеру третьему. — Там содержатся сведения о том, что было и что будет. Акаша-хроника — это истина. Некоторые люди умели подключаться к ней: к примеру Будда, Иисус, Ванга, Серафим Саровский. Ну и Эдгар Кейси, конечно же.
— А что за Эдгар Кейси?
— Ну, Эдгар Кейси, знаменитый «спящий пророк». Он впадал в транс и говорил чужим голосом, а за ним записывали.
— Что ж, если чужим голосом заговорил — значит, правда? — простодушно осведомилась третья.
— Не пытайся казаться глупее, чем ты есть! — очень строго, с величавостью одернула вторая. — Слушай лучше про Атлантиду. Так вот, атланты жили в гармонии с природой: параллельно с научными достижениями у них было всё хорошо и на спиритуальном уровне. Почти все они были целителями там, ясновидящими, ну и с ангелами общались.
— Это как? То есть как общались? — полюбопытствовала третья.
— Да не перебивай ты! Общались: есть такие специальные техники, с помощью которых можно настроиться на ангелов. Они и сейчас известны, эти техники, и они очень даже простые. Сходи на семинар, и Олег тебе всё объяснит.
— Денег нет…
— Уж как будто не найдешь!.. Займи, в конце концов! Где ты еще такое узнаешь?.. Олег — он еще попов ругал в том смысле, что они скрывают от нас доступ к духовному миру. Он сказал, что они не дают нам общаться с нашими невидимыми братьями и сестрами — и, знаете, с волнением так сказал, даже лицом задергал… Так что, подруга, копи деньги — будешь общаться с ангелами… Ладно, это в сторону. Вообще-то есть 144 ангела, и каждый имеет свой символ, имя и сферу деятельности. Есть ангелы-стихии, есть покровители профессий — с ними со всеми можно работать, и они будут помогать. Атлантийцы как раз и работали — устраивали коллективные медитации. Был у них еще совет локки — это высшие посвященные, духовные воспитатели народа. Они во всем советовались с ангелами.
— Бредятина! — скептически пробормотал дядя Паша и весьма удивился, что мысленно, совсем как в предсмертный юношеский период, стал выстраивать ряд созвучных слов: Бердяев, берданка, бередить, бродить, Бродский… Постепенно дошел до «баранины». Дядя Паша изумился, взволновался и почти испугался, потому что уже более десяти лет ничему не удивлялся, ни к чему не прислушивался с интересом, а тут и Атлантида, и Бердяев с Бродским… — Бредятина… — беззвучно, одними губами, словно самому себе не доверяя, прошептал он.
«Так юноша, когда краснеет и понимает, что краснеет, краснеет еще сильнее, — подумалось вдруг. — Кажется, из Достоевского…».
«Кому подумалось?!» — встрепенулся дядя Паша. Понятно, не ему: это было бы слишком. Значит, фразу произнес человек в дубленке.
— Бредятина! — в третий раз выдохнул дядя Паша.
— Разумеется, бредятина, — готовно подхватил человек в дубленке, зачем-то дождавшись, чтобы слово было произнесено трижды. — Эдгар Кейси, «спящий пророк», — я ведь о нем слышал. Он впадал в транс и отвечал на вопросы — и, знаешь, удачно так: к примеру, надо было спасти жизнь человека — к нему. Так, мол, и так. Он им и выдал, что есть в такой-то аптеке такая-то скляночка. Спасли. Опосля этого можно ведь любые сказочки рассказывать — поверят! А тем, кто не поверит, скажут: цыц, он про скляночку напророчил, он человека спас… Только ведь пророчествовал он в трансе и чужим голосом — милое дело. Ну нормальному христианину объяснять не надо: любил парень поспать и давал тело напрокат кому требовалось, а когда просыпался — пожинал лавры. Зато сколько на нем, наверное, диссертаций защитили — у-у!.. — Человек в дубленке взвыл с каким-то завистливым сожалением, словно все диссертанты попользовались его идеей или изобретением, а он остался ни с чем. — Ладно, фиг с ними, с диссертантами: они сейчас, наверное, в одном котле с Эдгаром Кейси варятся, а лавровые венки пошли на приправу. (Ну, не поэт ли я?) Жаль только, что бес, который сказочки придумывал, безвестен. Записали ведь за ним всё, книжки издали, а на обложке — Кейси. Будь я тем бесом, мне обидно было бы.
Дядя Паша как-то особенно проницательно посмотрел на него, и тот, слегка запнувшись, продолжил более спокойным тоном:
— И ведь в каждой сказочке начинка — иначе никак. К примеру, сказочка про Атлантиду. Во-первых, сроки. Возникла, дескать, эта цивилизация 150 тысяч лет назад. А по Библии, от сотворения мира каких-то семь с половиной тысяч лет прошло. Мораль: Библия врет.
— Женщина о сроках не говорила, — заинтересованно сказал дядя Паша.
— Гм… Значит, забыла. Не суть важно, сроки там такие. Далее, идея вторая: общение с ангелами, «невидимыми братьями и сестрами». Разумеется, светлым Ангелам те милые женщины на фиг не сдались. Сколько раз Ангелы в Библии являлись людям — по пальцам перечесть можно. А наши ведьмочки спокойненько «работают» с ангелами — с падшими ангелами, конечно же. Идея ясна: общайтесь с бесами, они плохому не научат. Слушай, кстати, что ведьмочка сейчас глаголить будет — ухихикаться можно.
Между тем рассказчица, инвентаризованная как «женщина № 2», уже успела:
а) похвалить мудрых локки, осознавших с помощью ангелов законы Вселенной;
б) отругать гадких варваров, которые совсем ничего не смыслили в законах Вселенной и потому принесли в Атлантиду свои глупые идеи;
в) посетовать на то, что глупые варварские идеи привели к расколу в обществе атлантийцев, к убийствам, войнам и так далее;
г) поведать о трех катастрофах, заставивших Атлантиду погрузиться в морские глубины (взрыв химического оружия, взрыв энергетических станций, атомный взрыв).
— …И вот после второй катастрофы, — продолжала она, — локки поняли, что Атлантиду не спасти. Тогда они вместе с частью населения эмигрировали в Египет, Палестину и Центральную Америку. В Египте они понастроили пирамид и научили египтян многим полезным вещам. Олег сказал, что в какой-то из пирамид хранятся записи атлантийцев. А в Палестину отправились самые дельные локки. Там они образовали сообщество, которое тогда считалось сектой. Они назывались ессеями. Именно из их среды должен был выйти Иисус, Божий посланник.
— Что?! — вскричал дядя Паша и забормотал: — Если бы я был жив, ересь была бы ересью… А здесь это всё равно, здесь так и надо…
— Интересно? — осведомился человек в дубленке. — То ли еще будет…
— Отстань! — отмахнулся дядя Паша.
А рассказчица всё это время держала эффектную паузу и поплатилась: женщина за номером один обрадовалась возможности прервать поднадоевшее повествование и неожиданно полюбопытствовала:
— А чакра, которая на два цуня ниже пупка, — она как называется? Никто не помнит?
— Сакральная, кажется, или сексуальная — два названия, — ответила вторая.
— Сакральная — значит тайная? — спросила третья.
— Не тайная, а священная. Священная, она же сексуальная. Мы ведь вместе на семинаре были…
— Да нет, я почти всё помню, — поспешно произнесла первая. — И названия, и где располагаются, и за что отвечают. Чакры еще часто засоряются, и тогда их прочищают энергетическим шомполом…
Третья вдруг расхихикалась.
— На два цуня ниже пупка — шомполом!.. — едва выговорила она. И вновь закашлялась смехом.
— Пошлячка! — ухмылисто охарактеризовала вторая, и вскоре ухихикивались уже втроем.
А дядя Паша сощурился, скукожился и вжался в фанерную стенку; он чувствовал, что недавний кошмар в любую секунду мог возродиться от женского смеха. Что-то подобное он ощущал в детстве, когда осторожно шел по льду большой глубокой лужи: лед потрескивал под ногами, но нельзя было ни остановиться, ни пойти быстрее, ни покинуть лед в два прыжка — тогда наверняка провалишься. Вот и сейчас дядя Паша слышал ненадежное потрескивание мира и напряженно цепенел, боясь шевельнуться и повредить Вселенную.
* * *
Пашу, что называется, собрали по кусочкам, а он так и не поверил. Нырнувший с четвертого этажа в адскую бездну, он воспринимал дикую боль как самое естественное последствие прыжка и приготовился терпеть вечность, изредка скрежеща зубами. Но через некоторое время боль почему-то начала утихомириваться, а затем почти исчезла. Паше, жаждавшему вечного наказания, стало обидно, и он скрежетал зубами уже не от боли, а с досады и плевался в бесов, одетых в белое. Однако он внезапно успокоился, осознав, что неудовлетворенная жажда боли, жажда муки и есть страшнейшее наказание. С той поры он иной раз даже ухмылялся и подмигивал бесам, — мол, молодцы, хорошо придумали!
Его выписали.
Как оказалось, ад был до смешного похож на тот мир, из которого Паша выпрыгнул. Даже поселили новоприбывшего в такой же дом, как и раньше, в такую же комнату. Вот только жила рядом не мама, а какая-то чужая женщина. Женщина эта ежедневно приходила к Паше в дни боли, и он еще тогда выделил ее среди бесов, одетых в белое, из-за того, что снежная одежда смотрелась на ней неестественно. Неожиданная соседка пыталась доказать, что она его мама, и даже плакала и молилась, часами простаивая на коленях, — у-ух, хитрющая!.. Но Пашу не проведешь!.
Около года он прожил рядом с ней, тихонько посмеиваясь, как человек, постигший механику бытия, а потом приехали бесы, одетые в белое, и увезли странную женщину. Когда ее выносили, она отрывисто вскрикивала, судорожно пыталась приподняться, но падала, и голова ее тяжело билась о носилки. Паша понимающе улыбался, глядя на эту сценку, и в конце концов тоненько захихикал. Сосед по адской коммуналке, очень похожий на прежнего, настоящего, размахнулся и врезал Паше в ухо.
— Ты что?! — воскликнула жена соседа, очень похожая на прежнюю, настоящую. — Он же глупеньким стал после больницы! Он же не понимает!
— Ничего… — злобно произнес сосед, потирая кулак. — Совсем он ее извел, гаденыш!..
А Паша, слегка оглохший, лежал на полу и наслаждался расцветающей болью.
Через несколько дней в его комнате появился гроб, а в гробу — женщина, причем явно не та, которая билась головой о носилки. Сосед по адской коммуналке, ударивший Пашу, стоял на лестничной площадке перед крышкой гроба и постукивал молотком. Он брал астры и двумя ударами вколачивал гвоздь в их мясистый зеленый кадык, второй гвоздь вонзался в стебель. Лепестки астр, узкие, нежные и многочисленные, казались материализовавшимся воплем. А соседова жена кормила Пашу пирожками; она и впоследствии опекала его, когда он уже повзрослел и стал дядей Пашей.
На следующий день поутру в отпахнутую дверь скорбной вереницей стали входить соседи по подъезду, сослуживцы и неслыханные родственники из деревни. Они медленно подходили ко гробу, некоторые стискивали ледяные белые тапочки умершей; потом они подолгу вглядывались в ее лицо и уходили, оставляя деньги на тюле.
Дядя Паша не помнил, отпевали или нет эту женщину. Он помнил кладбище.
Оркестра не было, и гроб несли под птичий щебет. В числе немногих Паша ковылял следом; шли медленно, и он почти не уставал, передвигаясь бочком, по-крабьи, и вывертывая ногу. Еще одним последствием прыжка с четвертого этажа был скошенный к переносице глаз, из-за чего Паше казалось, что мир тайком сделал небольшой шаг влево. Наконец неподалеку от кучи свежей земли и могильной пасти гроб поставили на две табуретки.
— Прощайтесь, — сказал кто-то.
Пашу зачем-то подтолкнули к желтоватому остроносому лицу усопшей. Он отпрянул и стал поодаль, а несколько человек поцеловали умершую в лоб. Зато когда приколотили крышку, опустили гроб в могилу и выдернули вожжи, Паша первым бросил горстку земли. Точнее, он приметил большой, почти идеально круглый земляной ком, похожий на глобус, взялся за него, но ком рассыпался в Пашиной руке, и в могилу полетела лишь горстка.
С той поры Паша остался один. Он не работал и не учился, жил на деньги, которые ему выплачивало государство, словно оно было отцом, платящим алименты отвергнутому ребенку. Деньги он отдавал соседке по коммуналке, и та вела хозяйство: покупала что надо и прибирала в его комнате. Через несколько лет к имени Паши прилепилось словцо «дядя», а еще через несколько он более со скуки, нежели по нужде, стал просить милостыню. Просил он странно: ковылял к прохожим и серьезным, деловым тоном говорил: «Слушай, дай две копейки». Подавшие почти всегда принимались неосознанно вычислять, во сколько их щедрость превысила запросы нищего; решив в уме несложную арифметическую задачку, они улыбались. А дядя Паша, по примеру многих нищих, тратил подаяние на курево и водку. Выпивкой он, впрочем, не увлекался: так, иногда, да еще зимой для сугрева.
Такова была внешняя оболочка жизни дяди Паши, внутренняя же оболочка, та, под которой таится непроницаемая душа, гораздо интереснее.
Как и следовало ожидать от человека в его положении, дядя Паша с любознательностью естествоиспытателя принялся изучать ад. Потом, конечно, надоело, но поначалу многое казалось весьма забавным. Смешило, к примеру, то, что истязуемые грешники не понимали, где находятся, боялись попасть в ад. И что самое уморительное — здесь даже церкви были.
Дядя Паша зашел однажды в храм, и что-то земное ему вспомнилось, что-то из детства — времени, когда он еще живым был, когда еще в рай мог попасть… И дядя Паша, поддавшись вдруг изощренному бесовскому обману, принялся подпевать клиросу. Но тут такая жуть на дядю Пашу напала, что его залихоманило, от телесной дрожи задрожал и голос, став каким-то козлиным… И словно кто подсказал, как избавиться от ужаса и тряски, — дядя Паша осекся и начал размеренно, очень четко выговаривая слова, материться. Вмиг полегчало, и внезапно он понял, что и на клиросе поют матом, и уж тогда-то он расхохотался. Легонько подталкивая, его вывели из церкви, а он всё смеялся и думал: «Ай да молодцы бесы, ай да искусники!».
Вскоре дядя Паша научился видеть и самих бесов. Было их куда больше, чем людей, как, впрочем, и положено в аду: они кишмя кишели в воздухе, сидели на людских плечах, а мизерная их часть шутки ради маскировалась под ангелов. Воздух походил на кипящую воду с бесами-чаинками, поэтому дядя Паша перестал смотреть на небо, некогда голубое.
Через несколько лет пребывания в аду дядя Паша настолько ко всему привык, что даже не замечал нечисти. Ему словно и неведома была страшная истина; в числе нищенствующих грешников он просил милостыню на водку и курево у тех грешников, которые спешили в церковь, чтобы молитвенно материться. В церковь дядя Паша не ходил, лишь на Крещение заглядывал на церковный двор, смотрел, как люди давят друг друга, ругаются и чуть ли не дерутся из-за святой воды, и хохотал до изнеможения. А на Пасху и Рождество он даже милостыню не просил — сам не понимал, почему.
В общем-то дядя Паша был бы вполне доволен послесмертием, если бы не взрослел, а оставался шестнадцатилетним (ведь так и умереть можно — дальше-то куда?..). И если бы не было того кошмара с тошнотой и женским смехом. И если бы не приставал этот человек, слишком уж напоминающий живого, земного, — человек, одетый в дубленку и стоящий рядышком в том же троллейбусе, что и дядя Паша.
* * *
Опытная рыбина жует безопасный конец червя, нанизанного на крючок, мудрая мышь потихоньку скусывает сыр со стерженька мышеловки — и обе остаются безнаказанными, потому что делают это медленно-медленно, осторожно-осторожно. С той же медлительностью и осторожностью дядя Паша выбрался из стылого оцепенения, когда смолк женский смех. Окружающий мир утратил катастрофическую хрупкость и замер в мало кому заметном, привычном и совсем не страшном ожидании конца света. Человек в дубленке молча наблюдал за дядей Пашей и почему-то облизывался.
— Вечно ты, подруга, с пошлостями… — пожурила вторая женщина третью, когда они уже сполна насладились колышущейся тишиной послесмешия.
— Правда, посерьезнее надо быть, — поддержала первая. — Ты всё полтергейстами, тарелочками увлекаешься, а пора уже людям пользу приносить.
— Это как? — улыбчиво поинтересовалась третья.
— Как-как — целительством заниматься! — ответила женщина и, манерно избоченившись, выдала: — Мы, между прочим, лечим наложением рук — как Иисус.
— Кстати, об Иисусе, — спохватилась вторая. — Я же не досказала.
— Выходить скоро, — уныло напомнила первая.
— Я быстро, — уверила вторая и затараторила: — В общем, так. Я остановилась на ессеях, потомках атлантийцев, которые в Палестину эмигрировали. Короче, им было откровение, что из их среды выйдет Божий посланник. Ну и вышел. А они обеспечивали Ему помощь и поддержку. На берегу Мертвого моря был тайный учебный центр ессеев (кажется, Курман назывался), и там Иисус проходил обучение. А то, что в Библии написано, что Он лет до тридцати плотничал, а потом вдруг пошел проповедовать — это всё глупость, конечно. Да, и еще ведь Иисус был женат, и жену Его звали Марьям — а потом она умерла. И Он, кстати, на кресте не умер; Он просто овладел методиками этих локки и заставил сердце биться раз в полчаса — вот и подумали, что умер, а из гроба Он телепортировался. Олег говорил, что, согласно некоторым источникам, Иисус уплыл на корабле во Францию и там уже умер своей смертью. А насчет Его рождения есть две версии: первая — это то, что при рождении в Него вселилась какая-то сущность, а вторая… как уж его… Да, вторая — это что Его душа идеально очистилась в предыдущих воплощениях. Есть еще евангелие от ессеев (археологи недавно откопали) — там обо всем этом подробно написано. Вот так! — победно заключила рассказчица.
— Любопытно-любопытно… — заинтересованно произнесла первая. — Что-то я такое уже слышала — не помню где. Евангелие от ессеев… Любопытно… Надо бы на семинар сходить!
— А по-моему, всё это сказочка — что Библия, что это ваше евангелие от ессеев… Две тысячи лет прошло — какой смысл что-то вспоминать? Гипотезы, гипотезы — делать, что ли, больше нечего? У нас тут чудеса на каждом шагу, НЛО летают, никаких раскопок не надо — бери видеокамеру и снимай. А вы в древность лезете… — с искренним возмущением и, похоже, даже для самой себя неожиданно вскинулась женщина номер три. — Вот, прям, денег много — ходите на семинары, пишете под диктовку… Вызубрили — и тра-та-та-та-та, лапшу вешать! А вы вообще-то знаете, чем Евангелие от Библии отличается?
— Евангелие от эссеев от Библии? — переспросила вторая, немало удивленная. — Конечно! Нам Олег…
— При чем тут Олег и ессеи?! — выкрикнула третья почти остервенело, и видно было, что она сама себя пугается, но остановиться не может. — При чем?
— Люди, люди кругом! — зашептала первая.
— Пусть люди! При чем? Я спросила о просто Евангелии и просто Библии, — произнесла третья потише. — Чем они различаются?
— Ну… — протянула вторая и беспомощно посмотрела на первую. Та пожала плечами. — Ну… Не знаю, надо будет у Олега спросить.
Человек в дубленке троекратно хлопнул в ладоши, словно зритель, щеголяющий знанием пьесы — знанием того, что далее уже ничего не будет. Далее и впрямь ничего не было: троллейбус остановился, и женщины молча исчезли в дверном проеме.
А с дядей Пашей творилось страшное. Внешне это выглядело так: приблизительно с середины рассказа второй женщины он зажмурился и уперся лбом в заиндевелое стекло, а лед плавился, плавился… Мысли же дяди Паши напоминали какофонию настраивающегося оркестра, где музыкальные инструменты визжали и ревели не своими голосами. Какофония мыслей абсолютно не зависела от воли дяди Паши, многое в ней было ему непонятно, и лишь одно он знал точно: лучшего аккомпанемента к неслыханно глупой ереси и не подобрать. Слушал он тупо и безучастно, но невольно вникал в каждое слово, и лед под его разгоряченным лбом плавился.
Наконец дядя Паша услышал, как человек в дубленке троекратно хлопнул в ладоши и как троллейбус, остановившись в раздумье, согласно лязгнул дверьми. Какофония мыслей смолкла. Зритель замер в ожидании. Лед плавился.
«Как они посмели? — одиноко подумал дядя Паша в пустоте, внезапно разверзшейся. — Почему они хулили Бога, почему? Бесы знают и трепещут, бесы веруют, а они… — Дядя Паша почувствовал, что время сместилось, сжалось, что так думать может лишь Паша, шестнадцатилетний чистый мальчик. — Они уже в аду, да, но зачем такое жестокое наказание, зачем лишать их возможности узнать правду и раскаяться? Так нельзя думать, так грешно думать, но это нечестно, нечестно! Хотя бы здесь, в аду хотя бы, должна быть справедливость, должны же они узнать, где Истина, и плакать, и скрежетать зубами оттого, что ничего нельзя изменить!.. И, может быть, в следующей Вечности, если она будет, все грешники простятся, потому что все покаялись и все плакали и скрежетали зубами… А эти смеются, смеются!». И Паша, шестнадцатилетний чистый мальчик, заплакал, а дядя Паша, нежно посторонившийся, плакал уже давно, но слез не было. И лишь когда мальчик, выговорившись, зарыдал, единственная слезинка пала на щетинистую щеку. Вдруг рыдания мальчика пропали, а значит, и сам он исчез, и дяде Паше остались лишь воспоминания о нем, чистом, и влага на правой щеке.
Лед плавился.
— Уж ты не плачешь ли, дядя Паша? — спросил человек в дубленке то ли насмешливо, то ли участливо. — Погоди пока, — добавил он то ли угрожающе, то ли утешительно. — К тебе, кажется, идут. — Последняя фраза была произнесена совершенно бесцветно и оттого показалась дяде Паше зловещей.
Он обернулся. Долю секунды он видел перед собой изузоренное стекло с проплавленным во льду оконцем; там идиллически соседствовали нежная звезда и щербатая луна. Дядя Паша почти уже подумал что-то очень важное, но обернулся и…
На этот раз кондуктор подошла молча. Она тихо остановилась за спиной дяди Паши и, поглаживая нервным движением талонную ленту, стала дожидаться, когда он обернется, и… Лишь по тому, как тяжко женщина выдохнула, стало понятно, что она даже дыхание таила, чтобы производить как можно меньше шума. Дядя Паша полуиспуганно глядел на нее — странно возбужденную, прерывисто дышащую, молчащую.
— Помнишь, — произнесла она наконец, — как я тебе говорила, что будет следующий круг, и будет ночь, и мало народа будет в троллейбусе? Помнишь, дядя Паша?
— Помню, — завороженно ответил он.
— А помнишь, — продолжала она ужасающе вкрадчивым голосом, — помнишь, как я тебе говорила, что еще покажу, какая я могу быть?
— Помню, — глухо ответил он, неотрывно глядя на мутную жемчужинку пота на ее левой щеке.
А человек в дубленке, заметно нервничая, дергал дядю Пашу за рукав и что-то говорил, говорил…
— Хорошо, что помнишь, дядя Паша, — таинственно прошелестела женщина. — Сейчас я тебе шепну кое-что на ушко, а ты слушай…
— Это я шепчу ему на ушко! — свирепо рыкнул человек в дубленке, и дяде Паше показалось вдруг, что молния на одежде рыкнувшего с визгом расползлась донизу и в щели не оказалось ничего, кроме голого тела, — впрочем, не голого, а густо поросшего прямой жесткой шерстью, похожей на волчью. Заметив неладное, человек в дубленке мигом застегнулся и повторил: — Это я шепчу ему на ушко!
Но кондуктор абсолютно игнорировала его и будто бы не видела даже. Женщина хищно припала к уху дяди Паши и спросила тоненьким помолодевшим голосом:
— Ты счастлив, Пашенька?
И она засмеялась — сначала тихо, потом громче, и постепенно ее смех превратился в нутряной и какой-то икающий — в смех из кошмара дяди Паши.
— Ты?! — завопил дядя Паша так, что пассажиры оглянулись на него.
— Я! — самодовольно подтвердила женщина.
— Вон!!! — дико заорал дядя Паша и топнул, топнул, топнул ногой. — Вон!
— Вон! — рыкнул и человек в дубленке. — Вон!
Но она не ушла и не исчезла: она стояла тяжким, недвижимым монолитом и сладостно ухмылялась. И тут человек в дубленке проворно подскочил к ней и как-то очень ловко взял ее за голову: левую ладонь приложил к низкому лбу, словно проверяя, нет ли у женщины жара, а правой принакрыл шарообразную шерстяную шапку в области затылка, да так нежно, что шапка не шелохнулась. Взяв женщину за голову, он очень коротко и тихо шепнул ей на ухо и отошел.
Словно обезумев, кондуктор сорвалась вдруг с места, кинулась к кабине водителя и что-то кричала, кричала, кричала ему, пока он не остановил троллейбус, не доезжая остановки, и не открыл переднюю дверь. Продолжая кричать, женщина сиганула вон, а троллейбус, недоуменно клацнув дверью, пополз дальше. Если кондуктор и была прикована к нему, как гребец к галере, то теперь она разбила цепи и прыгнула за борт — в открытое море.
— Что ты сказал ей? — удивительно спокойно спросил дядя Паша.
— Да так… — неопределенно ответил человек в дубленке, облизываясь, и любознательно глянул на него.
С минуту молчали.
— А ведь у меня к тебе серьезный разговор, дядя Паша, — медленно и как будто чуть-чуть неуверенно произнес человек в дубленке. — Очень серьезный.
— Ну, — безучастно поторопил тот.
— Скажи, тебе нравится в аду?
— Да так… — неопределенно ответил дядя Паша, безразлично добавив: — А я и не знал, что ты знаешь.
— Знаю, я всё знаю, — уверил человек в дубленке и с волнением продолжил: — А хочешь, я тебе тайну открою?
— Ну.
— Так вот… Первое — это еще не тайна, это присказка только, да ты и сам, наверное, уже догадался… Первое — это то, что я не человек. Не человек — понимаешь? Я бес.
— А, — ужасающе спокойно, меланхолически отозвался дядя Паша. — Понятно.
— Да, бес, бес я — понимаешь? — бес! — нервно зачастил носитель дубленки, явно оскорбленный таким невниманием. — Вот мы с тобой говорим, говорим, а ведь ты ни слова вслух не произносишь. Обо мне и речи нет: меня вообще никто, кроме тебя, не видит. Ну неужели тебе всё это неинтересно?
— Да так… — неопределенно ответил тот и судорожно зевнул.
— Ничего, дядя Паша, ничего, родной, — я тебя расшевелю… — едва ли не жалостливо пробормотал бес, глядя на человека, и зло добавил: — Переборщила она, сильно переборщила — и кто ее просил, стерву?! Пусть теперь побегает!..
Бес задумчиво почесал нос скрюченным пальцем и, обаятельно улыбнувшись, молвил:
— Теперь я даже кривляться не буду: мне уже всё равно. Веками лгать, а теперь «правда, вся правда и ничего, кроме правды» — это ведь форменное извращение, это ведь приятно! Так вот, тайна очень проста, и состоит она в том, что ты, дядя Паша, отнюдь не умер и что здесь не ад. — И, не давая времени усомниться или возразить что-либо, он проникновенно, с потусторонним жаром зашептал: — Теперь ты мне должен верить, теперь я на полсловца не солгу! Помнишь Пашу, шестнадцатилетнего чистого мальчика, который изредка просыпается в тебе? Он всё сетует на несправедливое устройство ада, на то, что истязуемые грешники не ведают Истины, на то, что покаяния лишены. Это ведь его, Пашина, слеза на твоей щеке — помнишь?..
Крупная дрожь, почти конвульсия, проструилась по телу дяди Паши снизу вверх, и голова сильно мотнулась в сторону, словно от удара. Бес понимающе кивнул и потер неприметно изменившиеся ладони — что-то с количеством пальцев.
— Вижу — помнишь! — удовлетворенно констатировал черт. — Ты ведь стыдишься его, чистого мальчика, ты ведь жалеешь его, страдальца!.. А помочь-то ему можно, еще как можно. Ведь настоящий, настоящий-то ад, до которого ты не допрыгнул, — он ведь справедлив, в нем действительно плач и скрежет зубовный, и все всё понимают. Ну так что?..
Дядя Паша молча дрожал и затравленно смотрел то на пассажиров, то на беса, то на изузоренное морозом стекло; след от разгоряченного лба уже успел затянуться наледью.
— Вижу — понимаешь, всё понимаешь! — почти ласково сказал искуситель. — Тебе только успокоиться надо, чуть-чуть успокоиться, а я пока расскажу про свою работу. Говоря по правде, самое сложное было шестнадцать лет назад — довести тебя до грехопадения. А насчет того, чтобы из окошка сигануть — тут просто маленькая подсказочка нужна была, а не подскажи я, ты бы и сам, пожалуй, додумался. А после самоубийства я уже полное право на тебя получил — самоубийц ведь не прощают… Натешился я, конечно, вдоволь! Приятнее всего было, когда ты свою мать до инфаркта довел… Помнишь?
Дядя Паша беззвучно, бесслезно рыдал, колотясь головой о стекло, но вдруг перестал.
— А вообще, — говорил между тем черт, — а вообще я бы мог спокойно подождать, пока ты сам не умрешь. Но ты мне уже наскучил! Извини, но это так!
— А у меня точно получится? — удавленным голосом просипел дядя Паша.
— Из окошка-то? — небрежно уточнил искуситель. — Разумеется, получится. И прямехонько в справедливый ад.
— Ладно, — согласился дядя Паша и, подумав, добавил: — Спасибо.
Бес ничего не отвечал, вид его был торжественен и сосредоточен, а дубленка, неприметно утратив цивилизованность, превратилась в большое черное руно, накинутое на плечи.
«Вот и кончилось… — подумал многострадальный человек. Так думают, глядя на титры, ползущие снизу вверх по экрану телевизора. — Вот и кончилось…».
Ум его был ясен, предельно ясен, и он спокойно вспомнил все гадости и нелепости, сотворенные во второй половине жизни. Так после просмотра фильма спокойно вспоминают о гнусных поступках главного злодея именно потому, что фильм закончился показом тяжкого топора, заслуженно падающего на злодейскую шею, и сырым звуком за кадром.
Человек отлично понимал, что бес прав, что второй дубль — долг перед тем чистым мальчиком, что дубль этот будет удачен. Он всё понимал, но вне зависимости от его воли трусость (нормальная трусость здравомыслящего человека) обуяла его. Он и клял себя, и Пашу вспоминал, и на откровенного беса косился, но постыдный страх не исчезал. И тогда человек, припомнив кое-что и обнадежившись, принялся торопливо соскребать наледь с заветного оконца.
В бытность свою бесноватым он иногда в тоске выл на луну, и тоска улетучивалась. В прошлый раз и луна, и звезда были в окошечке, будто отражения в проруби, но теперь осталась лишь звезда, доселе так хорошо, так успокоительно сопутствовавшая дяде Паше. И от безысходности, от страха неминуемой гибели, от тоски по непонятому миру человек завыл. Если бы звери, твари бессловесные, могли молиться, самая горячая, самая выстраданная их молитва звучала бы именно так.
Черт шарахнулся в сторону, не в силах слушать; пассажиры повскакивали с сидений, не в силах слушать; сам человек зажал ладонями уши, не в силах слушать!
И свершилось чудо. Застыли все люди в троллейбусе. Застыли все троллейбусы в городе. Застыли все города на Земле. Застыла Земля в космосе. Застыла Вселенная. На короткий миг, необходимый для чуда, время остановило течение свое.
— Он мой! — сказал бес кому-то.
— Вы что — Гёте обчитались?! — возмутился бес.
— Но ведь он уже убил себя, он уже… — объяснительно забормотал бес.
— Делайте как знаете. Мне себя упрекнуть не в чем, — уныло произнес бес и дерзко добавил: — Всё равно что Варавву освободить!
И исчез.
Время возобновило течение свое. Пассажиры тихо и спокойно сели на места, несколько удивленные тем, что непонятно с чего единодушно вскочили. Человек, всё видевший и всё слышавший, рыдал, и слезы его были обильны. Долго ли рыдал он, коротко ли, но источник слез иссяк, и подумал человек: «Кто я? Я уже не чистый мальчик, не Паша. Я уже не бесноватый, не дядя Паша. Кто я? — Павел умиленно всхлипнул: — Три жизни… Сподобил же Господь!».
И Павел принялся усердно, жадно молиться: вот они, молитвы, вот, ничего, ничего он не забыл… «Зачем я Тебе, Господи? — вопросил он наконец. — Я калека, человек никчемный, многогрешный. Зачем?..».
— Роддом! — предупредил троллейбус ржавым голосом, остановился и распахнул двери.
Павлу вдруг показалось, что в салоне невыносимо жарко и что жар ежесекундно усиливается. Размыкая третий троллейбусный круг, Павел выскочил вон.
Вне кругов. Свет
Захлопнув двери, троллейбус уплыл в неосознаваемый, неразличимый для глаз мрак. На остановке не было никого, кроме Павла, коленопреклоненно стоящего на утоптанном, но поразительно чистом снегу.
В тот миг, когда Павел ступил на заснеженную земную твердь, произошло нечто неизъяснимое: если в троллейбусе с соизволения беса в овечьей шкуре он вспомнил всё, что было в годы умопомрачения, то теперь он тоже вспомнил. Вспомнил то, чего не знал раньше и чего почти никто из живущих на земле не знает.
Незачем было думать об этом, незачем было пытаться понять — да он и не пытался. Звезда висела над Павлом и, едва он поднялся с колен, колыхнулась и поплыла вперед. Тихо плача, он пошел следом.
Павел почти не удивился, осознав, что уже не хромает.
II. ВРАЧЕБНИЦА
Понеже пришел во врачебницу, да не неисцелен отыдеши*.
Окончание молитвы перед исповедьюНеделя первая
— Адрес?
Он назвал.
— Полис есть?
— Есть.
— На что жалуетесь?
— Высокая температура, сильный кашель, слабость.
— Сколько дней болеете?
— С первого числа.
— Новый год, наверное, так хорошо отметили?
— Я его не отмечаю.
— Почему?!
— Я Рождество праздную.
Доктор с любопытством посмотрел на больного и поинтересовался:
— И как же вы его праздновали?
— Почти никак. В церковь сходить не смог. Позавчера вечером и вчера утром тропари отчитал, разговелся — вот и весь праздник.
Несколько мгновений врач изумленно глядел на собеседника, и лишь внезапный глубинно-надрывный кашель больного заставил доктора встрепенуться, вспомнить о профессиональных обязанностях и продолжить расспросы:
— Кашель с мокротой?
— Сухой.
— Температура до скольки поднималась?
— До сорока.
— Возьмите градусник. Чем лечились?
— Аспирин, парацетамол, зверобой, мать-и-мачеха.
— Значит, только жаропонижающие и травки… Встаньте лицом к окну. Рот откройте.
— А-а-а!..
— Можно и без «а-а-а». Понятно… Язык не обложен, зев чистый… Садитесь. Аппетит был хороший в эту неделю?
— Так себе.
— Да еще и постились, — укоризненно заметил доктор.
— Это несложно.
— Не знаю, не знаю… Есть среди знакомых больные туберкулезом?
— Нет, вроде бы.
— Хорошо. — И вполголоса медсестре: — Оформляем в пульмонологию.
Медсестра взяла ненадписанную историю болезни и спросила:
— Фамилия, имя, отчество?
— Слегин Павел Анатольевич.
— Полных лет?
— Тридцать шесть.
— Полис дайте.
— Пожалуйста.
— Неработающий? — уточнила медсестра, переписывая с полиса недостающие данные.
— Официально — да.
— Карточка на вас заведена?
— Нет.
— Почему?
— Не болел.
— Не болел, не болел — и на тебе! — усмехнулся доктор. — Как же вы так?
— Не знаю.
— Но ведь у каждой болезни есть причина.
— Не спорю. — Павел Слегин улыбнулся.
— Перед Новым годом простужались, горло болело?
— Нет.
— Кашляли?
— Кашлять я три дня назад начал.
— Давайте градусник и раздевайтесь до пояса… Тридцать девять и две. А выглядите на тридцать восемь. Встаньте. — Врач заткнул уши фонендоскопом. — Дышите глубоко и ровно… Еще глубже… С силой выдохните… Еще раз… Одевайтесь. Ребра давно ломали? — неожиданно закончил он.
— В шестнадцать.
— Кто же вас так?
— Земля.
— В смысле?
— С четвертого этажа летел.
— Везунчик вы, однако, — произнес доктор, торопливо записывая что-то в историю болезни. — Оль, смеряй пока давление.
— Сейчас… Придерживайте вот здесь… Сто на шестьдесят.
— Идите на флюорографию, — сказал врач, закончив писать и протягивая Слегину тонкую крупноформатную книжицу. — Кабинет 116, налево по коридору.
— А какой диагноз? — робко спросил Павел.
— Подозрение на пневмонию. Снимок покажет. Постойте, что у вас с ногой?
— С ногой? — удивленно переспросил больной, приостанавливаясь у двери приемного отделения.
— Вы сильно хромаете.
— Со мной бывает, когда задумаюсь. Извините. — И вышел, смущенный.
Он медленно, но безо всякого хромоножия двинулся по коридору, посматривая на номера кабинетов и думая, что вот ведь странность: всего пару часов назад к нему приехал участковый врач, и он был дома, а сейчас уже в больнице, и история болезни на руках, и надо переобуваться в тапочки. «Хоть не в белые — и то слава Богу», — мысленно пошутил Павел.
Вскоре он, сопровождаемый медсестрой, уже подымался в лифте на четвертый этаж и с улыбкой смотрел на неестественно чистый пол, на свои клетчатые шлепанцы, на спортивный костюм, в одном из карманов которого лежал гардеробный номерок. В гардеробе больной тоже улыбнулся, увидев, как на плечики с его одеждой натягивают большой брезентовый чехол с карманами для обуви. Всё было ново и интересно и заслуживало поощрительной улыбки, но вот только эта пустыня во рту, и колокольная медная тяжесть в голове, и слабость, слабость…
Лифт остановился, дверные створки разъехались в стороны, и Павел крупно вздрогнул: ему представилось, что он не в лифте, а в троллейбусе, возле задних дверей, и рядом стоит не белохалатная медсестра, а человек в дубленке, и этот человек, который и не человек вовсе, хочет шепнуть что-то на ушко…
— Сле-эгин!.. — укоризненно протянула медсестра.
Павел вновь вздрогнул и поспешно покинул лифт.
Больного сдали с рук на руки двум миловидным девушкам с медпоста, и те, посмеиваясь с каким-то заговорщицким видом, стали рассуждать, куда положить новоприбывшего.
— Слегин, идите в палату № 400, — велела курносая сестричка, недавняя школьница. — Это рядышком, во-он там, третья дверь отсюда. Как только положите вещи, сразу возвращайтесь. Пойдете на уколы и капельницу.
В начале сестричкиной речи Павел улыбнулся ее забавной назидательности, а при словах об уколах и капельнице помрачнел и, попинывая сумку с вещами, пошел к указанной палате. «Этого не может быть! — подумал он вдруг, подойдя к прикрытой застекленной двери с табличкой „400“. — „Четверка“ означает этаж. Палата № 0…» Павел уставился на узорчатое дверное стекло, за которым что-то белело, и вспомнил, что три года назад стоял перед таким же, только на то стекло можно было дышать, оттотулив губы, а лед от дыхания волнисто плавился, плавился…
«Что-то серьезное начинается», — решил Павел, зажмурившись и покусывая губы. Прочитав Иисусову молитву, он открыл глаза, отворил дверь и, шагнув через порог, сказал:
— Здравствуйте.
* * *
— Здравствуйте, — ответили ему три обитателя довольно просторной четырехместной палаты.
Слегин, чуть сутулясь от всеобщего липучего внимания, прошел к незастеленной кровати и поставил сумку на пустую тумбочку. Не присев, он с минуту смотрел в окно на хорошенькие конусообразные елочки и цепочку глубоких сизоватых следов, прострочивших сияющий наст.
— Хорошо сейчас на воле… — мечтательно произнес крепенький бородатый дедок, глядя во второе окно.
— На воле всегда хорошо, — пробасил обрюзгший мужичина лет под шестьдесят, сидящий на кровати наискосок от Павловой.
Ближайший сосед Слегина, изможденный старик, тяжко вздохнул и выматерился.
Павел, словно продолжая цепочку реплик, надрывно раскашлялся, вслепую сел на кровать, согнулся, упершись локтями в колени, и вскоре затих, утер слезы, встал и вышел.
Перед капельницей Слегина, уже лежавшего на топчане в процедурной, железно ужалили в палец и взяли немного крови. Затем перетянули руку жгутом, заставили сжимать и разжимать кулак, прощупали вену, мазнули по ней спиртом и вкололи иглу, сняли жгут, покрутили колесико на регуляторе и спросили:
— Не жжет?
— Нет, — ответил Павел, подумав, что не такая уж это и страшная вещь — капельница. «Да и сколько их мне переделали лет двадцать назад…» — подумал он, невесело усмехнувшись.
Пузырьки всплывали на поверхность и там лопались. Подобно им сквозь мутную толщу времени всплывали прозрачные воспоминания и лопались в мозгу Павла. Многие из воспоминаний были ужасны и, будто разрывные пули, могли бы разнести голову вдребезги, но лицо больного оставалось спокойным, взгляд катался на воздушных пузырьках, как на подводном лифте, а думалось примерно следующее: «Это мои грехи, и я их искуплю. Господь милостив».
Вспомнились мечты о монастыре («Я уйду в монастырь и буду молиться за тебя, мама!»), а после — гнусное грехопадение с плахой женского тела и полет с четвертого этажа. Вспомнились безумная уверенность в том, что попал в преисподнюю, и смерть матери, доведенной им до инфаркта, и шестнадцать адских лет, срежиссированных неким находчивым собеседником. Вспоминались три троллейбусных круга в рождественскую ночь, и тот самый собеседник в дубленке, и крупная, нежная, чуть грустная звезда, неотвязно следовавшая за троллейбусом.
В ту ночь свершилось незаслуженное чудо: дядя Паша стал Павлом; и теперь, глядя в высокий больничный потолок, он благодарно улыбался, вспоминая, как три года назад глядел в небо и шел за звездой. Во время того звездного пути к церкви он услышал строгий небесный голос, сказавший: «Помни и молись».
— Господь милостив! — прошептал Павел. — Слава Тебе, Господи!.
Капельница иссякла.
Закрутив до упора колесико регулятора, Слегин очень удивился своим действиям, поскольку раньше, лет двадцать назад, колесико закручивали медсестры или близлежащие больные. Сестричка, пришедшая вскоре, тоже удивилась и похвалила Павла.
— Вы, наверное, часто в больнице лежите? — поинтересовалась она, выдергивая иголку из его вены. — Держите.
— Редко, — ответил он, придерживая ватку и медленно сгибая руку в локте.
— Повернитесь на бок и приспустите штаны.
Жаропонижающий коктейль (анальгин с димедролом) девушка вколола каким-то изощренным способом: зажала два шприца между указательным, средним и безымянным пальцами полусогнутой ладони, вонзила двуигольчатый кулак в цель и внутренней его стороной вдавила поршни до упора.
— Держите ватку. Резко не вставайте, а то голова закружится.
— Спаси Бог, сестра.
— Не за что. Выздоравливайте.
С минуту Павел полежал, затем посидел немного на краю топчана, потом встал и медленно прошаркал в палату.
На его койке успела возникнуть стопочка постельного белья, и он стал стелиться; сил не было, и несколько раз приходилось садиться, чтобы отдышаться или откашляться. Когда постель была готова, больной почти упал на нее со стуком в висках и ощущением, что по лицу проводят и проводят видимой и осязаемой половой тряпкой. Он прикрыл глаза.
— Кто здесь Слегин? — спросил женский голос.
Врач и сестра с электрокардиографом на тележке сноровисто сделали свое дело, сняли зажимы с лодыжек и запястий обследуемого, удалили присоски с его груди и удалились сами вместе с длинной розовой лентой электрокардиограммы.
Лента ЭКГ внезапно вытянула из памяти Слегина другую ленту, поуже, с розовенькими буковками. Талонная лента хвостом свешивалась из сумочки кондуктора, и потная женщина в шарообразной шерстяной шапке нервно поглаживала эту ленту и непонимающе глядела на школьный проездной, предъявленный дядей Пашей, а потом кричала, кричала… Она кричала и после, но уже иначе, она так и выскочила из троллейбуса с безумным криком и понеслась куда-то, а бес в дубленке ехидно ухмылялся ей вослед…
«Где ты теперь, матушка?.. — грустно подумал Павел, глядя в окно. — Узнать бы…» Температура плавно спадала от укола, по небу плыли длинные облака, и становилось всё легче и грустнее.
— Слышь, тебя как звать-то? — вдруг скрипуче спросил изможденный старик с соседней койки, до которой Слегин при желании мог бы дотянуться рукой.
— Павел.
— Паша, значит…
— Павел, — настоятельно поправил новоприбывший.
Остальным больным такая щепетильность не очень-то понравилась, но нужно было знакомиться, и знакомство состоялось. Ближайший сосед новенького, начавший разговор, назвался Колей, крепенький бородатый дедок с кровати у другого окна — Сашей, а обрюзгший, проспиртованного вида мужчина лет пятидесяти с гаком сказал, что зовут его Женей, а в имени Паша ничего обидного нет, но уж Павел, так Павел…
— Ты с чем лежишь-то? — продолжил Женя.
— Подозрение на пневмонию. Снимок не готов еще.
— Тут у всех пневмония, у Коли только бронхит с сердчишком.
— Жидкость в легких скапливается, и дышать тяжко. Говорят, от сердца, — подтвердил сосед Слегина и безысходно выматерился.
— А я уже почти месяц тут, у меня двухстороннее, и никак не вздохнуть полной грудью, никак, — сокрушенно сообщил бородатый Саша и добавил с самоистязательной ухмылкой: — Стало бабушке полегче — реже начала дышать!
— Ну-у, затянул опять! — проворчал Женя. — Меня вот шесть раз бушлатили, весь изрезан, в брюхе сетка — и ничего, весел! «Говорунчика» бы сейчас — и совсем хорошо…
— Только и знаешь — «говорунчик»… — пробормотал бородач.
— А ты только и знаешь — ВЧК, — парировал весельчак и, подмигнув Павлу, доложил: — Он ведь у нас «чекист» — ВЧК да ВЧК…
— Пора в ВЧК! — громко проскрипел старичок Коля, заулыбался и коротко, по-доброму матюгнулся.
— Тьфу ты, околеешь с вами!.. — рассердился толстомясый Женя и вышел из палаты. В дверях он чуть не сшиб худощавую белохалатную женщину, отпрянул и смущенно проговорил: — Извините, Мария Викторовна.
— Ничего, Гаврилов, идите, — сказала врач с усталой материнской улыбкой. — Только к тихому часу будьте в палате… Слегин Павел Анатольевич? — вопросительно прочитала она в истории болезни, потолстевшей от флюорографических снимков, и внимательно посмотрела на нового пациента.
— Да. Здравствуйте.
— Здравствуйте и вы. Разденьтесь, пожалуйста, до пояса — я вас послушаю.
Слушая, Мария Викторовна отрешенно смотрела в окно, и лишь когда нужно было передвинуть прохладное металлическое ухо фонендоскопа, она коротко взглядывала на тело больного и вновь уносилась в заоконную бесконечность.
— Можете одеваться.
— Что скажете, доктор?
— У вас правосторонняя нижнедолевая пневмония. Снимок уже готов, да и хрипы прослушиваются. Жидкости в легких нет. Если всё пойдет нормально, недели через три выйдете отсюда. Пока от вас требуются двадцать пятиграммовых и десять десятиграммовых шприцев и десять систем для капельниц. На первом этаже есть аптека или родственникам закажите. Еще нужны тарелка, ложка и чашка: в столовой их, как ни грустно, не дают. Всё, кажется.
— А позвонить отсюда можно?
— Да, по карточке. Но разок можно и с поста. Поспешите: с двух до четырех у нас тихий час и по коридорам не ходят.
— Спаси Бог, вы очень хорошо всё объяснили.
— Опыт. Выздоравливайте. И если хотите звонить, то идите сейчас же.
Когда она вышла, клинобородый Саша посмотрел на Слегина тихим осенним взглядом и пояснил:
— Это наш лечащий врач, Мария Викторовна. Замечательная женщина.
— Да, — согласился Павел и пошел звонить.
— Марья Петровна? — спросил он через пару минут, сжимая телефонную трубку. — Да, я. Положили с воспалением легких. Говорят, недели на три… Ничего страшного, не переживайте. Марья Петровна, окажите любовь: мне нужны чашка, ложка, тарелка и телефонная карточка… Именно так. В моей комнате на полке стоят «Жития святых» — знаете? В пятом томе лежат деньги. Принесите… Да, тарелок здесь нет… Пока еще не ел — не знаю. С четырех до семи можно… Пульмонология, четвертый этаж, палата № 400… Лучше, наверно, с халатом и тапочками… Спаси Бог, Марья Петровна, до встречи…
Павел Слегин положил трубку, поблагодарил медсестру и вернулся в палату.
* * *
Павел утонул в липко-буром сне сразу же, как только рухнул на визгливую койку после телефонного разговора. Саша и Коля дисциплинированно уснули в положенное время, а Женя еще долго материл какого-то гробовщика, но и эта обидчивая ругань постепенно теряла членораздельность и наконец переродилась в рокочущий храп. Слегин кашлял во сне и, спасясь от кашля, хватался за хрупкую кромку чего-то коричневого, похожего на шляпку гриба, и на пальцы липла труха; воздух был колкий и мутный — это песчаная буря, а надо идти по гребню бархана и не свалиться, но навстречу шествует улыбчивый эфиоп, не разойтись, и песок стеклянно поет.
— Вот и опять встретились, — сказал эфиоп.
— Я не вернусь в троллейбус, — ответил Павел.
Эфиоп схватил скорпиона, пробегавшего мимо, и съел.
Павел осенил себя крестным знамением и проснулся.
— Гробовщик, сволочь, с утра обещал… — устало ругался Женя.
— Плохо без «говорунчика»? — ехидно осведомился Саша.
— Не в том дело, я же ему больше денег-то дал, а он, гад, ничего не принес.
— Не донес, значит. Он ведь который уж день не просыхает.
— У меня сын в деревне — тоже такой, — заговорил Коля, сокрушенно матюгнулся и продолжил: — Всё без меня там пропьет. Я соседям деньги оставил, хлеб ему чтобы покупали. И чего пьет?
— И не работает? — спросил Саша.
— Куда-а… — безнадежно протянул Коля. — Ему бы только глаза залить.
— А если жить скучно?.. — пробормотал Женя как-то уж очень серьезно, словно говорили о нем, а не о каком-то деревенском пьянице. — Лучше уж пить, чем вешаться. А «говорунчика» хряпнешь — так еще и заговоришь — а?
Он усмехнулся, и Павлу стало жутко от этой усмешки.
— Ты и без «говорунчика» вон какой говорун, — заметил Саша, — а я больше тридцати лет даже пива не пью — и ничего, не скучно.
— То-то ты только про ВЧК и талдычишь, тебе скучать некогда — совсем уже помирать собрался…
— Жень, ты обиделся, что ли?
— Да ну тебя, надоело мне всё…
— Успокойся, пожалуйста, раскричался на всю палату… Придет твой лифтер.
— Он не лифтер — он гробовщик. Ему бы на твоем ВЧК в самый раз работать.
— А что такое ВЧК? — спросил Павел.
Остальные трое улыбнулись, словно вопрос был из приятных и отвечать на него — одно удовольствие. Саша пригладил бороду и важно изрек:
— ВЧК — это Восточно-чемодановское кладбище.
— Все там будем, — примирительно сказал Коля. — И пьяные, и тверёзые.
«И из всех будет лопух расти, — подумал Павел, вспомнив тургеневского Базарова. — Действительно скучно».
За окном помутнело, завьюжило, в палате включили свет, медсестра принесла градусники и таблетки.
— Эх, демократия… Лампочек не могут ввернуть! — обиженно проворчал Саша.
Из четырех ламп дневного света горели только две, а половинка одной из горящих, той, что над Павловой кроватью, предсмертно мерцала и потрескивала. «Светляк-подранок, — подумал Павел с улыбкой. — А вообще-то, маленькая неисправная лампа. А солнце — лампа большая и исправная. Такой лампы человеку не сделать». От этой мысли грусть растаяла, и стало весело, и ртуть в градуснике, зажатом под мышкой Слегина, не захотела ползти дальше.
Марья Петровна, с робким дверным стуком вошедшая в палату, застала своего соседа по коммуналке смотрящим на мерцающую лампу и солнечно улыбающимся.
— Здравствуйте… Здравствуй, Павел.
— Здравствуйте, Марья Петровна, присаживайтесь — вот стул.
— Улыбаешься — значит, всё хорошо будет. Как же это тебя угораздило?
Больной, уже успевший сесть на кровати, пожал плечами, почувствовал градусник под мышкой, вынул, рассмотрел и положил на тумбочку.
— Сколько?
— Тридцать восемь.
— Уже лучше. Уколы тебе делали? Врач осматривал? — закончив с расспросами, женщина сообщила: — А я тебе пирожков испекла.
Она угощала его пирожками еще тогда, когда мама кормила Пашу с ложечки манной кашей. Она угощала его пирожками, присматривала за ним и убиралась в комнате, когда мама поглупевшего и охромевшего юноши умерла от горя. Она угощала его пирожками и последние три года, когда рассудок Павла прояснился и хромота пропала. Марья Петровна была первый год на пенсии и чрезвычайно обрадовалась, что сосед-горемыка, с которым она так долго нянчилась, позвонил именно ей и попросил помочь.
Пирожки-«соседки», которые она в шутку именовала «коммунальными» и которые с детства любил Слегин, возникли на тумбочке. Такие пирожки, махонькие, со смородиновым вареньем внутри, выкладывались в глубокую сковороду впритык друг к другу и смазывались сверху яйцом, а затем ставились в духовку. «Соседки» получались настолько сплоченными, что при разделении их, палевоголовых, на беззащитно-белых боках некоторых пирожков разверзались рубиновые раны.
Глядя на одну из раненых «соседок», Павел подумал: «А ведь какой-нибудь светский писатель мог бы перекинуть мостик от такого пирожка ко Христу! Тут и „жизнь за други своя“, и рана, как от копия, и кусочек „тела и крови“ спасенному другу достались… Вот только угодны ли Ему эти мостики?»
— О чем задумался? — ласково полюбопытствовала соседка по коммуналке.
— О Достоевском, — ответил Слегин. — Долго объяснять.
— Ты его всего, наверное, перечел в том году? — полуутвердительно спросила она.
— Почти всего.
Он закашлялся, сплюнул в платок, испуганно посмотрел на кровяные прожилки в мокроте и поспешно спрятал увиденное.
В палату вошла миловидная сестричка и потребовала градусники и результаты измерения температуры, а Павлу сказала следующее:
— Слегин, слушайте внимательно. Завтра с утра не есть: сдаете кровь из вены и из пальца. Вот в эту баночку — мочу, вот в эту — мокроту. И то и другое поставьте до восьми часов на тумбочку возле туалета. Мокроту сдавать так: почистили зубы, прополоскали рот, покашляли, харкнули, закрыли крышкой.
Она говорила с серьезной назидательностью, словно девочка, играющая в куклы или в магазин, и на ее детском курносом лице таилась невинная лукавинка, как на лице той девочки, понимающей, что из кукольного мира, в котором она — строгая мама, можно легко перенестись во взрослый мир, где она — послушная дочка.
Обремененная градусниками и температурными записями, девушка удалилась.
— Ты, Павел, эту Светку заметь, — пробасил Женя. — Молодец пацанка.
— Уколы хорошо делает, — подтвердил Коля и хотел было добавить что-то привычное, но не добавил, вспомнив о павловой посетительнице.
А Марья Петровна отдала Павлу заказанные миску, ложку, чашку и телефонную карточку, сходила в аптеку на первом этаже купить шприцы и системы для капельниц, вернулась и отчиталась:
— Вот шприцы на пять, вот на десять, вот системы, вот оставшиеся деньги. Взяла из книжки, как ты сказал. Их обратно положить?
— Оставьте себе; если вдруг что-то понадобится, я вам позвоню.
— Хорошо. Я постараюсь каждый день забегать, тут недалеко. Как здесь кормят? — спросила она у остальных.
— Сносно, — был ответ. — Но нам еще из дома приносят.
— И я тебя подкармливать буду — не пропадешь, — заверила она Павла.
— Спаси Бог, — сказал он. — Дело душеполезное, так что отговаривать не стану. Спаси Бог, Марья Петровна.
Вскоре она ушла, а немного позже позвали ужинать.
— Лежи, — коротко велел Слегину массивный Женя, забрал его тарелку и через некоторое время вернулся с двумя порциями, одну поставив на свою тумбочку, а другую — на павлову. — А чай там — помои. Лучше здесь вскипятить, — присовокупил он.
Перед едой Павел беззвучно прочел «Отче наш» и перекрестился, после чего ощутил, как минимум, два изумленных взгляда, вязко-клейких, словно перловка в тарелке, и первую ложку он проглотил с трудом, вторую — уже полегче, третью — свободно, поскольку взгляды отлипли, а четвертой не захотел — наелся. Когда он перекрестился после благодарственной молитвы, взгляды были не так назойливы, но он подумал, что для чтения утреннего и вечернего правил придется искать какое-то убежище.
Убежище нашлось быстро: коридорчик, последней палатой в котором была палата № 0, заканчивался тупичком с окном, почти полностью заслоненным могучей пальмой. После молитв на сон грядущий Павел немножко постоял просто так, глядя на голубоватый перевернутый кулек фонарного света, а на Павловом плече покровительственно покоилась зеленая пальмовая длань.
Незадолго перед этим Слегину вкололи два антибиотика, и он опирался на безболезненную ногу, а нога дрожала от слабости. Когда он дошел до койки, мир успел расплыться почти до неузнаваемости, но всё-таки был узнан, а затем и сфокусирован. Больной разделся, лег под одеяло и, прежде чем заснуть, подумал, что он как свинец, залитый в форму. Тяжелый, горячий и неподвижный, он лежал на койке и видел сон.
Властная сила быстро волокла его по бесконечному извилистому коридору, выложенному пластами сырого мяса, и кружилась голова, а на очередном повороте кто-то метнул ему в лицо ежа, кажется — да, ежа, Павел видел его, пока острые длинные иглы не пронзили глаз, пока не ослеп. Ослепленный, он в ужасе проснулся, но ничего не увидел — неужели?! — однако вскоре различил смутные ночные предметы, понял, что выключили свет, и вновь заснул. Сон был разнородно кошмарным, но одинаково коварным: ёж, неожиданно кинутый в лицо и прокалывающий сперва сомкнутое веко и роговицу, затем заднюю склеру и тонкую кость глазницы, а потом — упругий мозг, — этот всепроникающий ёж трижды вышибал сновидца в темную явь.
Следующая волна забытья бросила обессиленного Павла на песчаный гребень бархана, к ногам эфиопа, который в дневном сне съел скорпиона.
— Здравствуй, — насмешливо поздоровался чернокожий. — Давно не виделись.
Павел оперся на руки, поднялся на колени, на ноги и, прямо посмотрев в его лицо, подтвердил:
— Да, давно.
— Ты едва стоишь — совсем слабенький, — заметил супостат.
— Поэтому ты и пришел?
— Как сейчас выражаются, надо ловить момент. Три года к тебе было не подступиться.
— И чего ты хочешь?
— Справедливости, — ответил эфиоп взволнованно. — Из-за тебя надо мной там смеются!
— Я был твоей добычей, и это было справедливо, — согласился Павел. — Но милосердие выше справедливости, и…
— Да заткнись ты! — взревел бес. — Ты мне проповеди не читай, пожалуйста! Хватит и того, что ты надо мной в утренних молитвах глумишься! Учти, родной: если я тебя не затащу в троллейбус, то попросту умерщвлю. Сил у меня хватит.
— Если Бог со мной, то кто против меня? — Человек жалостливо глянул на черта и, отвернувшись, сел на песок.
Хотелось пить; Павел перекрестил близлежащее миражирующее марево, и оно окрепло, превратившись в желанный оазис. Путник спустился со склона бархана под пальмовую тень, припал к ручью, утер губы, кратко помолился и заснул. Проснувшись на больничной койке, он слегка удивился, но быстро опомнился, оделся и отправился в пальмовую молельню. За окном стлался пустырь, припорошенный предрассветно розоватым снегом, а из-под снега проглядывал лабиринтообразный фундамент потенциального здания. «Замороженная стройка», — подумал Слегин с улыбкой, вдохнул, выдохнул и принялся за утренние молитвы. Длинный заздравный ряд он закончил той же фразой, что и раньше:
— Молю Тебя, Боже, и об искусителе моем бесе, имя же его Ты, Господи, веси*.
Получалось в рифму.
* * *
— Здравствуйте, — сказала Мария Викторовна, стремительно входя в палату № 400 с фонендоскопом на шее, тонометром в левой руке и кипочкой историй болезни в правой.
Больные ответно поздоровались и стали с привычной поспешностью снимать рубашки и майки. Обход лечащего врача производился ближе к полудню, когда все пациенты уже позавтракали, укололись и полежали под капельницей. Слегин помимо вышеперечисленного сдал четыре анализа, в том числе кровь из вены и из пальца; утренняя больничная суета сильно утомила Павла.
Сначала доктор осмотрела старичка Колю, фамилия которого, как оказалось, была Иванов и произносилась с рабоче-крестьянским ударением. Женщина задавала вопросы и слушала плохо сформулированные ответы, слушала она также сердцебиение и дыхание, а кроме того — пульс при измерении давления. Лицо ее было печальным, сострадательным и безмерно усталым. Никак не прокомментировав состояние Иванова, она перешла к Слегину.
— Как вы себя чувствуете сегодня?
— Как и вчера. Температура, слабость. От процедурной до палаты еле дошел.
— Вам и нельзя так далеко ходить. Пока — только до туалета, а уколы и капельницы вам будут делать в палате, как Иванову. Микстуру от кашля пьете?
— Пью. У меня мокрота с кровью появилась.
— Кровь сгустками? Прожилками?
— Прожилками.
— Ничего страшного. При сильном кашле в легких капилляры рвутся. Как кашель помягче станет, всё пройдет.
Доктор послушала Павла фонендоскопом, измерила давление и перешла к следующему.
— Карпов, как у вас сегодня?
— Пока жив, — ответил крепенький бородатый Саша. — А какое, кстати, сегодня число?
— Девятое, вторник. Дышите глубже.
Обрюзглого Женю, живот которого был стянут бандажом, Мария Викторовна осмотрела бегло и на прощание сказала:
— Гаврилов, завтра сдадите анализы и сделаете флюорографию. Вас на выписку.
— Везет тебе, — позавидовал Карпов, когда врач удалилась. — А мне еще не знаю сколько торчать.
— Везет как утопленнику, — хмыкнул Гаврилов и, кивнув Слегину, объяснил: — Я ведь, Павел, как попал-то сюда? В подъезде по пьяни навернулся с лестницы и отключился на бетоне. И перелом, и воспаление легких — целый месяц тут лежу.
— У нас в деревне падать некуда, в погреб разве, — заметил Иванов. — Как бы мой обормот туда не… — мат, разумеется.
— Не ругайся, ради Бога, — попросил Павел, укутываясь одеялом: его сильно знобило.
— А как мужику не ругаться? — удивился Коля.
С минуту Слегин молча глядел на голубое заоконное небо, и озноб нарастал в течение этой минуты, перерождаясь в неудержимую дрожь, почти конвульсии, и больной едва смог выговорить просьбу о том, чтобы кто-нибудь сходил за градусником. За градусником пошел Карпов, а Павел изо всех сил старался не разрыдаться, понимая, что рыдания эти — результат всего лишь высокой температуры, а не высокой скорби о грехах мира. Прочитав несколько раз молитву Иисусову, он успокоился раньше, чем принесли градусник.
Температура доползла до сорока, что было на два градуса выше утренней. Быстроногая медсестра влетела в палату и сделала пылающему больному жаропонижающие уколы. Ближе к вечеру температура вновь подскочила, и ее опять сбивали, а ночью кошмарный эфиоп снова таскал Павла по извилистым коридорам и кидался ежами из-за угла. Пальмовая молельня располагалась не дальше туалета, так что Слегин прошел туда утром, не нарушая предписаний врача, отчитал же он только молитвенное правило Серафима Саровского: на большее сил не хватило.
Марья Петровна пришла навестить Павла после тихого часа и очень расстроилась, увидев бледно-зеленое лицо, заостривший нос и воспаленный взгляд соседа. А тот очень настоятельно наказывал ей:
— Вот телефон, Марья Петровна, позвоните прямо отсюда, по карточке: я не дойду. Это квартира. Спросите отца Димитрия. Это священник. Скажете, что я сильно болею, пусть придет. Собороваться, скажите, пока не надо — просто причаститься. Всё запомнили?
— Запомнила, родной, сейчас… Где твоя карточка?
— Вот здесь. Вот она. Позвоните Христа ради…
— Не волнуйся, только не волнуйся… Я быстро.
Через несколько минут она вернулась.
— Он завтра утром придет.
— Слава Богу!
Вечером, после молитв на сон грядущий, уже лежа в постели, Павел мысленно готовился к ночной пытке. «Главное — не бояться, — думал он. — Господь меня не оставит. А завтра Он навестит меня и принесет Жертву ради меня, и я снова стану Христовым». Заснул он с таким ощущением, словно лежит не на постели, а на широкой деревянной лавке, как стародавний провинившийся мужик, и он обнажен, и изо всех сил стискивает отполированные края лавки мозолистыми ладонями, и он готов, он ждет, ну что же ты медлишь?! А истязатель с кнутом в руке стоит рядышком, смотрит и ухмыляется.
Заснув окончательно, человек ужаснулся: никаких мучений не было и в помине — напротив, ему было очень удобно. Он сидел в огромном глубоком кресле со спинкой, значительно отклоненной назад, так что изменить очень комфортное положение тела казалось немыслимым, и эта приятная несвобода шелковистым коконом обволокла недавнюю готовность Павла к решительной битве, и он подумал сокрушенно: «Увы мне, я погиб!».
— К чему такие черные мысли? — услышал он знакомый голос.
Чуть повернув голову влево, человек увидел аналогичное кресло, а в нем — давнишнего знакомого, одетого в пушистый, можно даже сказать курчавый, шерстяной свитер, синие джинсы и тапочки.
— В дубленке сидеть неудобно, — пояснил бес.
Между креслами располагался журнальный столик, а на нем лежали рядышком беспроводной джойстик и Библия, книга — со стороны Павла. Стены и потолок отсутствовали, а кресла и столик стояли на бесконечном паркетном полу, и кресла были взаимно повернуты под таким углом, что сидящие могли при желании видеть один другого. Впрочем, потенциальные собеседники могли глядеть прямо перед собой, и тогда их взоры пересеклись бы и разминулись на нейтральной территории, незаметно и безболезненно.
— В такие кресла психоаналитики сажают своих клиентов, — неторопливо проговорил черт. — Хорошие кресла: в них люди расслабляются и могут без стыда рассказывать о своей жизни. Один умный человек изрек такой афоризм: «Психоанализ — это исповедь без отпущения грехов». Психоаналитик молчит да кивает, а клиент выговаривается, платит деньги и уходит, грехи же остаются — славно… Но я не психоаналитик и молчать не буду, твои грехи я и так знаю, а отпустить их я не имею права.
Взгляд Павла тонул в бледной бесконечности, логичная и спокойная речь искусителя расслабляла и обволакивала, и человек никак не мог сосредоточиться.
— Кстати, — продолжил бес, — извини меня, пожалуйста, за прошлые ночи. Эти мясные коридоры, головоломные лабиринты, ежи в глаза — бр-р!.. Средневековье какое-то! Я ведь и сам понимаю, что это не метод, но уж очень я зол тогда был, очень обижен, я скорпиона-то от чистого сердца слопал, безо всякой рисовки, — вот до чего ты меня довел своими молитовками. А всё-таки приятно было, что ты меня даже в эфиопском обличье узнал, чертовски приятно! Это я сейчас вроде инженеришки из кухонных философов, таким ты меня целых шестнадцать лет видел, а там-то — пустыня и негритос навстречу по гребню бархана прет, а всё-таки узнал… А эфиопом-то, «темноликим мурином», я представился, чтобы тебе приятное сделать: ты ведь «Жития святых» всё читал, ну а там бесы частенько в таком виде являлись. Хотя, по большому счету, негры — люди как люди, есть и христиане среди них…
«Вздор он какой-то говорить начал, — подумал Павел. — Порфирий Петрович точно так же Раскольникова допрашивал, внимание усыплял. Но я-то не убийца!».
Черт ухмыльнулся и, облизнув губы, посетовал:
— Ты, к сожалению, в игры компьютерные не играл, ничего в них не смыслишь — жаль, очень жаль. Одну из граней моей пустынно-негритянской метафоры упустил. Есть, к твоему сведению, такие игры, где люди выбирают одного из нескольких виртуальных убийц и управляют его действиями. Цель игры — убить виртуального противника. Ну хочется людям убивать, ну нравится им убивать призраков, поскольку за убийство призраков уголовной ответственности не предусмотрено! Пусть тренируются. А с моей пустынно-негритянской метафорой связана старенькая игра «Mortal Combat» («Смертельный бой»): там в одной из версий два бойца дерутся в пустыне, на бархане, совсем как мы тогда. Ты, кстати, в тех раундах победил. Так что для меня выгоднее не сражаться с тобой, не пытать тебя, а попросту поговорить.
— Выгоднее, — согласился Павел.
— Мы же цивилизованные существа! — обрадованно воскликнул искуситель. — Молодец, что заговорил вслух: твои мысли удобочитаемы. Ты вот думал недавно о Достоевском, о допросе Раскольникова Порфирием, о том, что не убийца. Аналогия похвальная, а по отношению ко мне — так просто комплиментарная. Но всё-таки неверная. Ты — убивец.
— Нельзя мне было так думать, — согласился человек. — Здесь ты прав.
— Раскольников всего-то двух старух убил, а ты — себя! И забыл!
— Я еще мать убил, — добавил Павел.
— Ну, тут уж скорее я виноват, — свеликодушничал лукавый. — У тебя тогда уже не было свободы воли, ты был вроде компьютерного призрака, а я играл, и играл великолепно… — Он ностальгически улыбнулся и прикрыл глаза.
— Но Бог меня пощадил.
— Но Бог тебя пощадил, что было крайне несправедливо. Однако сейчас ты серьезно болен, и я сижу очень близко от тебя и вновь искушаю. С чего бы это?
— Значит, я согрешил.
— Так. Но вопрос в том, насколько серьезен грех. При серьезном согрешении Бог иногда попускает нам вселиться в грешника. Тебе это хорошо известно. Возьми, пожалуйста, книгу и прочти из одиннадцатой главы от Луки стихи с двадцать четвертого по двадцать шестой. Они мне очень нравятся.
Павел удивленно посмотрел на беса, взял Библию, нашел указанное место и прочел:
— «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя говорит: возвращусь в дом мой, откуда вышел. И пришед находит его выметенным и убранным; тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого».
— Не о нас ли с тобой здесь написано — а, дядя Паша? — очень живо поинтересовался черт, легко встал с кресла, обогнул столик и остановился в полушаге от Павла.
Человек оцепенел, Библия вывалилась из его рук, и он не видел, куда она упала, зато краем глаза он ясно различал, что в кресле кто-то сидит — нет, уже не сидит, уже идет, уже пришел, уже встал рядом с первым, подмигнул третьему, сидящему в кресле, и спросил с издевкой:
— Не о нас ли с тобой здесь написано — а, дядя Паша?
Семь раз Павел услышал страшный вопрос, семеро стояли перед ним, напрочь заслонив бледную бесконечность, а когда восьмой бес, одетый в курчавый шерстяной свитер, синие джинсы и тапочки, встал из кресла, оно опустело. Высоко подскочив, черт запрыгнул на журнальный столик, и джойстик жалобно хрустнул под его копытом (тапочек уже не было). Нечистый навис над человеком, вплавленным в психоаналитическое кресло, и тихо-претихо сказал:
— «Безводные места», по которым я ходил, — это пустыня из «Mortal Combat». Ты проиграл, дядя Паша.
Он протянул когтистую шестипалую лапу и нежно погладил Павла по голове.
— Нет!!! — заорал человек и, вскочив с постели, схватился за грудь.
Дышать было нечем, смотреть было некуда, ледяная сердечная ломота мгновенно проморозила всё тело, но Павел, прежде чем превратиться в прозрачную статую, которой суждено упасть и расколоться, успел взмолиться: «Господи, пощади!» И сердце не разорвалось.
Уже оттаивая, но всё еще сжимая грудь, где сердце чугунно колотилось, он извинился за крик, попросил у старичка Иванова, сердечника с хроническим бронхитом, таблетку валидола.
* * *
— Доброго здоровья! — проговорил отец Димитрий, несмело входя в палату № 0.
Трое больных ошалело посмотрели на священника — лет тридцати пяти, длинноволосого, с лениво растущей бородкой, одетого в долгополую широкорукавную рясу и с ребристой скуфейкой на голове.
— Здравствуйте, — разноголосо ответили все трое, недоуменно глядя на гостя.
Батюшка целеустремленно прошел к четвертому, уже вставшему с кровати, радостно улыбающемуся и просящему благословения. Сухо-шершавые губы благословлённого чуть царапнули тыльную сторону священнической ладони, а после Павел и отец Димитрий троекратно расцеловались.
— Здравствуйте, Павел.
— Здравствуйте, отец Димитрий.
— Садитесь, ради Бога: вы едва стоите, — попросил священник, переставляя легкий деревянный стул, ночевавший возле больничного стола, себе за спину. — Как же вы так?
Застилая красным платом страшноватый железноногий стол, который был расположен в простенке между окнами и частично занят полупустыми пузырьками с микстурой, иерей досадовал на себя за глупый вопрос.
— По грехам и муки, — ответил Слегин, продолжая стоять. — Я уже успел с утра валидол иссосать — мне можно причащаться?
— По болезни можно, — сказал отец Димитрий, затепливая от зажигалки свечу и раскладывая на плате необходимое для таинства. — Сердце болело?
— Да.
Из сумочки-дароносицы, висевшей на шее поверх наперсного креста и епитрахили, батюшка достал преждеосвященные Дары и спросил, обернувшись:
— Еще кто-нибудь желает причаститься?
Трое смущенно отказались.
— Помолимся, Павел. Садитесь вот сюда, на стул.
— Я выстою.
— Садитесь, ради Христа. Вы больны. — И батюшка принялся быстро, но внятно читать молитвы.
Слегину было непривычно креститься сидя, но он понимал, что и впрямь мог не выстоять: он и теперь едва держал голову.
— Внемли убо: понеже пришел во врачебницу, да не неисцелен отыдеши, — читал отец Димитрий, а Павел взволнованно внимал, готовясь к тому страшному и радостному, что должно свершиться.
К удивлению больного, исповеди не было: священник сразу накрыл ему голову епитрахилью и с торжественной медлительностью стал проговаривать разрешительную молитву, а раб Божий Павел с горячечной поспешностью вспоминал свои грехи и каялся перед Господом.
А потом было причащение, хлебный и винный вкус Тела и Крови Христовых и счастливое понимание того, что недавний ночной ужас не повторится, что пустынная битва выиграна бесповоротно и что бес не сможет войти туда, где обитает Бог.
«Он и раньше не имел власти вселиться в меня, — понял Павел, — он просто хотел убить. Если бы я умер без причастия, со всеми грехами, у него был бы шанс». Слегину хотелось рассказать об этом и многом другом отцу Димитрию, но язык строптивился и сугубая слабость тянула лечь и молча смотреть на небо, и больной понял, что еще не время.
Священник дал ему поцеловать большой медный крест, выслушал благодарность и пробормотал:
— Ничего, Павел, теперь станет полегче. Я буду за вас частицы на проскомидии вынимать. Выздоравливайте. — Он задул свечку, фитилек зачадил, и пришлось прищипнуть его, после чего свечка был положена в ту же кожаную сумку, куда и прочая богослужебная утварь. На больничном столе остались лишь полупустые пузырьки с микстурой.
— Отец Димитрий, мне поговорить с вами надо, не сейчас только…
— Я через неделю снова приду причащать вас, тогда и поговорим. Сегодня у нас четверг — в следующий четверг с утра постарайтесь не есть и не пить. И молиться не забывайте, если в силах. До свидания.
— До свидания, — ответили все четверо и дружно проследили, как черные ряса и скуфейка исчезли за белой застекленной дверью, задернутой изнутри белой же занавеской, а проследив, напряженно притихли.
Священник уже спустился на лифте, уже оделся, уже вышел, и лишь призывный клич: «На завтрак!» — расколол стеклянную неловкость. Больные засуетились, загремели кружками и мисками, заторопились в столовую, а батюшка в черном долгополом пальто, издали похожем на рясу, и с той же скуфейкой на голове неспешно шел к троллейбусной остановке; но вот он уже и скрылся, и Слегин отвернулся от окна, а Женя Гаврилов с двумя порциями каши вошел и сказал:
— Ешь.
Гаврилов нашел-таки прошлым вечером своего «гробовщика» и нынче был похмельно-серьезен.
— Зачем ты пьешь, Женя? — с болью спросил Павел, стараясь не морщиться от перегара.
— А что еще делать-то?
— В Бога верить. Ты же своим «говорунчиком» просто от Бога заслоняешься!
— Значит, хорошая штука «говорунчик», если им Бога заслонить можно — а?! Поздно мне, Паша, в Бога верить — помру скоро. Весь уже изломан, изрезан, в брюхо сетку вставили — в следующий раз уже в ВЧК отвезут, а не сюда. Повеселиться надо напоследок — а там уж и червей кормить.
— Послушай, но я-то ведь тоже весел, весел, потому что счастлив, а счастлив, потому что верю в Бога. Сегодня, например, мне и умереть не страшно. До причастия было страшно, а сейчас — нет. Ты крещеный?
— Нет и не собираюсь. В партии тоже не состоял и не собираюсь. Я сам по себе. И нечего меня агитировать! В червей верю, а в Бога нет!..
— Ты чего раскричался? — спросил Саша Карпов, входя в палату с кашей и чаем.
— Хочешь в ВЧК? — набросился на него Гаврилов. — А он вот хочет. Надоели вы мне все, сами жрите свою кашу! Меня выпишут сейчас, я дома поем!
— Эк его с похмелюги!.. — воскликнул Коля Иванов с порога. — Чуть с ног не сшиб… Мой сын тоже так. — И добавил, глядя в тарелку: — Зря это он: все-таки манная каша…
— Райский завтрак, — согласился бородатый Саша.
С минуту Павел смотрел в ближний угол, затем проморгался, волнисто вздохнул, помолился и стал есть.
После обхода Женю Гаврилова выписали. На прощанье он пожимал остающимся руку и желал им выздоравливать поскорей, а они смотрели на него улыбчиво, с легкой завистью и желали остепениться, найти работу, пить поменьше и сюда уж не попадать — хватит.
— Не попаду, — отвечал Женя с пасмурной усмешкой и, протягивая руку Слегину, сказал: — Выздоравливай, Павел. Прости, если чем обидел.
— Бог простит. И ты меня прости, — ответил тот, слабо пожимая тяжелую мясистую ладонь, и коротко пожелал: — Выздоравливай, Евгений.
На пятничном обходе Мария Викторовна сказала Павлу, что он выглядит повеселее, а больной объяснил, что видел ночью хороший сон, очень хороший сон.
В субботу и воскресенье обходов не было, кровать Гаврилова пустовала, и ничего существенного, кроме визитов родственников, не происходило в палате № 0. Медсестры, в выходные бегавшие чуть медленнее, чем в будни, ставили больным капельницы и делали уколы, назначенные врачом, и записывали температуру.
У Слегина температура перестала скакать: она укрощенно прогуливалась в тесном вольере между тридцатью семью и тридцатью восемью градусами, и Павел, несмотря на продолжающееся кровохарканье, чувствовал себя значительно лучше.
Заходила Марья Петровна, с киселем, пирожками-«соседками» и вестью о том, что звонил отец Димитрий и спрашивал, как там болящий.
— Передайте, что лучше, намного лучше, после причастия сразу лучше стало, — наказывал растроганный Слегин.
Главным же было то, что в эти ночи он спал спокойно.
Старичка Иванова ежедневно посещали родственники, каждый раз иные, и говорили о житье-бытье других родственников, весьма многочисленных, так что на глазах Павла из ссохшегося корня, покоящегося на соседней кровати, произросло величественное генеалогическое древо. Ветви и веточки его приносили плоды, и старенький Коля питался этими плодами между завтраком, обедом и ужином. Однако больной жаловался, что худеет, что таблеток ему стали давать меньше, да и вообще — вся задница исколота… При родственниках он не матерился.
К Карпову почти каждый день приходила жена, благообразная старушка, которую он называл «баушкой», придавая и без того ласковому слову нечто баюкающе-аукающее. Беседовали они тихо и плавно, прямо-таки ворковали, и идилличностью своей напоминали Павлу гоголевских старосветских помещиков. Слегин слушал березовый шелест их бесед с почти молитвенной, радостной грустью и задумчиво улыбался земному отблеску небесной любви.
В понедельник утром, сразу после обхода, в дверях палаты появился массивный мужчина с задорно-мальчишеским выражением на толстом, полувековой давности лице, огляделся, поздоровался и проследовал к незанятой кровати. Вскоре новенького зашла осмотреть Мария Викторовна, и стало известно, что больного зовут Михаилом Колобовым, что он уже месяц лечился от пневмонии амбулаторно, однако снимки оставались неважными, и его решили положить в стационар.
— А раньше о чем думали? — пробормотала доктор, то ли спрашивая самого Колобова, то ли критикуя врачей, не уложивших сразу человека с такими снимками. — Сейчас снимки получше, конечно, но вы бы уже выписались, если бы месяц назад легли. Как себя чувствуете?
— Хорошо, — ответил Михаил, и было видно, что он говорит правду. — А обед скоро? — спросил он, когда Мария Викторовна ушла.
— А у тебя тарелка с ложкой есть? — осведомился Саша Карпов.
— Нет.
— Значит, и обеда тебе не положено, — заключил не без ехидства бородатый Саша.
— Ничего себе! — изумился новенький с таким простодушием, что остальные трое дружно рассмеялись.
— Демократия!.. — саркастически произнес Карпов.
— Вот и… — согласно выматерился Иванов, употребив вертикальное словечко, похожее на выхлоп стартующей космической ракеты.
Неделя вторая
— Все как люди, а мы — как хрен на блюде! — смачно изрек Саша Карпов, чуть помедлил и брезгливо выдохнул: — Эх, демократия!..
Реплика его относилась, вероятно, к новостям, хриплоголосо сообщаемым по радио.
Простуженный радиоприемник появился в палате двумя днями раньше, одновременно с Михаилом Колобовым, и был для Карпова настоящим подарком, поскольку давал еще один повод поговорить о политике. Бородатый Саша любил такие разговоры, как любят есть вяжущие костистые, маломякотные ягоды черемухи, находя странное удовольствие в мучительной судорожной оскомине. От политических разговоров набивалась не ротовая оскомина, а сердечная: душа застывала, судорожно вывернутая, будто язык после изрядного количества черемушных горстей, но хотя Карпов и жаловался Марии Викторовне, что никак не вздохнуть полной грудью, никак, — по случаю и без случая восклицал:
— Эх, демократия!..
До недавнего времени ему не везло с собеседниками: Женю Гаврилова волновали только воспоминания о прошлом, с социализмом не связанные, и «говорунчик»; Коля Иванов охотно поддакивал, но навряд ли понимал Сашу, разговор поддержать не мог, а если и пытался, то кричал что-то о родной свиноферме, да так громогласно, что Карпов морщился и старался его утихомирить; Павел Слегин поначалу был так плох, что даже попа позвал, тут уж не до политики, а в последние дни, хоть и полегчало ему, молчал, но вроде бы с интересом слушал Сашины рассуждения. И лишь с Михаилом Колобовым можно было, как оказалось, поговорить о «положении дел в стране» — всласть, до душевной оскомины.
— Эх, демократия!.. — брезгливо отозвался клинобородый Саша Карпов на какое-то сообщение хриплоголосого колобовского радиоприемника.
— Да ладно тебе, дядь Саш, — миротворчески молвил Михаил. — И раньше вертолеты падали, нам просто не говорили.
— Сомневаюсь я в этом, Миша. Раньше порядок был и деньги платили — с чего бы им падать?
И беседа завертелась вокруг того, скрывали или нет раньше что-либо, а если скрывали, то что именно и зачем.
— Ты, Миша, всю жизнь на одном заводе вкалываешь, ну, в армии отслужил еще. А я тридцать лет за баранкой, весь Союз объездил, много чего видел, — наставительно говорил Карпов. — Теперь, правда, уже отъездился, — грустно добавлял он и замирал, причесывая воспоминания. Когда мысленная расческа добиралась до 90-х годов, она словно выезжала на лысину, больно царапая голую кожу, и тогда Саша принимался костерить демократов: — Демократы, получается, не о правде пекутся, а лишь бы у власти удержаться, потому и хают коммунистов, — заключал он. — Раньше коммунисты для дикторов бумажки писали, теперь — демократы; вот и вся разница.
— Да демократы — это те же коммунисты, — парадоксально заявил радиовладелец. — Только теперь они со свечками в церкви стоят и про рыночную экономику говорят. Согласись, дядь Саш, ведь партия с головы сгнила. Зато теперь товары появились.
— Миша, не коммунисты они, а перевертыши. Много в мире …удачков — и в очках, и без очков. А насчет церкви — это да. Все верующими стали — ужас какой-то! — Карпов, по-видимому, не хотел дискутировать на тему гниения с головы и появления товаров. — И ведь не все из-за моды, некоторые от души веруют.
Он коротко глянул на Павла, молчаливо лежащего на кровати возле противоположной стены.
— Жить стало труднее, вот и веруют, — предположил Колобов.
— Труднее всё-таки! — победоносно воскликнул собеседник.
— Да я не о том. На себя надо надеяться — и заработаешь получше, чем раньше. А у нас привыкли к «зряплате», вот и надеются на Бога. Раньше — на государство, а теперь — на Бога. Это, вроде того, самовнушение. — Последнее слово было произнесено неуверенно, как малоупотребимое. — А Бог разве поможет?..
— Поможет, — прошептал Павел Слегин, вспоминая, как три года назад, на исходе третьего троллейбусного круга, был незаслуженно помилован Господом. «Ничего себе самовнушение!..» — подумал он и щадяще улыбнулся.
«Как мне отблагодарить Тебя, Господи?» — спрашивал Павел, идучи той рождественской ночью из церкви. Он вспомнил три слова, сказанные ему несколько часов назад строгим небесным голосом. «Помни и молись», — это было похоже на ответ, опередивший возникновение вопроса, опередивший всякую попытку понять произошедшее. Но по пути из церкви мышление Павла, очистившееся от многолетней проказы, работающее, как у шестнадцатилетнего отличника Паши, цепкое и порывистое, склонное к рефлексии и максимализму, — мышление Павла поставило вопрос: «Как мне отблагодарить Тебя, Господи?» И ответом: «Помни и молись» — не удовлетворилось.
«Любой оказавшийся на моем месте помнил бы и молился, — размышлял спасенный. — Но ведь я-то самоубийца! Если я прощен…».
Ему вспомнилось, как совсем недавно, совсем недавно он доказывал теорему, стоя у коричневой доски, с белым мелком, зажатым между большим, указательным и средним пальцами (если бы не мелок, этой щепотью вполне можно было бы перекреститься). Прямоугольный меловой брусок то бесследно проскальзывал по доске, то густо крошился, а юноша комментировал недолговечные записи уверенным и снисходительным отличническим голосом: «Если угол равен…».
«Если я прощен, — размышлял Павел, — то спасение возможно для страшнейших грешников. А коли так, буду молиться обо всех знакомых — и о некрещеных, и о самоубийцах… И о бесе-искусителе надо молиться, — подумал он, улыбнувшись. — Молю Тебя, Боже, и об искусителе моем бесе, имя же его Ты, Господи, веси».
Светили фонари, звезды и луна. Поклонившись Богомладенцу, люди расходились по домам, подобно давнишним восточным волхвам, неторопливо возвращавшимся в страну гороскопов. Обгоняя остальных, легко и стремительно по дороге шел человек в фуфайке, продранной на рукаве, шел и, ничего вокруг не замечая, вопрошал: «Как мне отблагодарить Тебя, Господи?».
И вдруг он остановился.
— Да! — восторженно воскликнул он. — Это будет лучшей жертвой!
На него удивленно поглядели несколько прохожих, оказавшихся рядом, но вот он уже пошел, пошел молча и неторопливо, вот он уже свернул на боковую улицу, нам с ним не по пути и незачем о нем думать, скоро дойдем до дому — и спать, спать, спать…
Скучающий охранник в камуфляже и две кислоликие проститутки молчаливо курили на крыльце круглосуточного продовольственного магазина.
— Мой сосед идет, — сказала одна из барышень.
— А ты разве бомжуешь? — пошутил охранник.
— Он не бомж, он этажом выше живет, я — на третьем, а он — на четвертом, его дядя Паша звать.
— Твой хахаль, что ли? — спросила вторая и расхохоталась, а потом продолжила вполголоса, на фоне смеха собеседников — продолжила мрачно и ожесточенно: — Алкаш отмороженный, мой батяня такой же, ненавижу…
— Он вроде бы и не пьет — у него просто с головой непорядок. Он, кажется, с крыши свалился и с тех пор хромой и шизанутый. А пить — не пьет.
— В каком это месте он хромой? — полюбопытствовал охранник.
— Ой…
Миновав яркий магазин, Павел продолжил путь, освещаемый скудноватым светом фонарей, звезд и луны. Однако внутри пешехода сияло такое солнце, что глаза невольно щурились и слезились, губы улыбались, а мысли были медленными, мягкими и словно масляными.
«Это будет мой дар Тебе, Господи, — думал он. — Ты вернул мне разум, а я подарю его Тебе. Юродство Христа ради, высший путь служения Богу… Мне и убеждать-то никого не надо будет, что с ума сошел: убедил уже…».
— Не хромает, — проговорил охранник, — но лыбится, как придурок, это уж точно.
— Леш, он же еще вчера утром хромал, я видела…
— Значит, рождественское чудо, как у Диккенса, — ухмыльнулся Леша.
Он умудрялся совмещать работу магазинного цербера, а попутно и сутенера, с учебой в пединституте на филфаке и очень боялся, что не сдаст зарубежную литературу в эту зимнюю, зимнюю сессию.
Стояла летняя теплынь, светило солнце и загнанно билось сердце, когда шестнадцатилетний Паша положил на мамину Библию записку («Прости меня») и выбросился из окна. Вернувшись домой морозной рождественской ночью, Павел первым делом отыскал ту самую Библию, помолился по памяти и уснул, положив книгу под подушку. В первый год из трех, отделяющих ту ночь от нынешней больничной койки, Павел читал только Библию: сначала Новый завет, потом Ветхий, затем вновь Четвероевангелие. И копил деньги на двенадцатитомные «Жития святых».
Внешне жизнь его изменилась мало: он по-прежнему хромал, рассудив, что внезапное прямохождение было бы подозрительно; по-прежнему просил милостыню на кладбище возле собора, иногда отчебучивая что-нибудь эдакое для поддержания репутации; по-прежнему отдавал деньги, которые ему выплачивало государство, Марье Петровне, и она всё так же вела хозяйство: покупала что надо и прибирала в его комнате.
Курить Павел бросил, а зимой для сугреву пил чай из термоса — очень даже удобно. Стоя с протянутой рукой, он молился о каждом проходящем; со временем он научился отличать прихожан от «захожан» и о «захожанах» молился усерднее. С последним ударом благовеста он шел на службу и после нее отправлялся домой, попутно разбрасывая в нищенские плошки утреннее подаяние. Заплатанные коллеги дружно решили, что теперь-то он точно сбрендил.
Раз в месяц в одном из отдаленных городских храмов Павел исповедовался молодому священнику отцу Димитрию и причащался святых Христовых Таин.
Откладывая малую часть нахристарадствованных денег, Павел к концу первого года скопил достаточно, чтобы купить на книжном рынке облюбованный двенадцатитомник — «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского, репринтное издание. В январе следующего года он принялся за январский том, а в декабре дочитал декабрьский.
Встречаясь с житиями юродивых, Павел радовался, читал и перечитывал, сравнивал со своей жизнью и от жития к житию всё более и более задумывался. «Они спали под открытым небом, поношения и побои принимали, обличали нечестивых, чудеса творили, им Христос и Богородица являлись, а я что?..».
Когда Павел читал житие юродивой Исидоры, инокини Тавеннийского женского монастыря, светило майское солнце, орали коты и целовались влюбленные, а тела женщин, ходивших под окнами читаря, всё более и более обнажались. «Иногда Исидора притворялась как бы бесноватой, дабы утаить пред окружавшими ее сестрами свои добродетели». На голове она носила тряпку вместо куколя, по этой тряпке ее и узнал старец Питирим, пришедший из Порфиритской пустыни, чтобы поклониться великой праведнице. Еще Исидора пила воду, оставшуюся после мытья посуды, и Павла затошнило, когда он читал об этом, и он подумал в сердцах: «Если чтобы войти в Царствие Небесное, необходимо такое питие… Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий…». Светило майское солнце.
В январе следующего года, за год до болезни, Павлу стало нечего читать, и он купил учебник по истории России ХХ века. Кое-что он, правда, уже узнал из автобусных разговоров (троллейбусом он больше не ездил), и узнанное казалось настолько странным, что невольно думалось: «Ну ладно, я-то Христа ради юродствую, а они из-за чего?..». По вечно работающему кухонному радио вместо вестей с полей и концертов по заявкам передавали невесть что, и жить в этой странной стране, весьма отличной от СССР времен Андропова, было непривычно и неудобно, как неудобно смотреть даже незамысловатый фильм с середины.
А первого января Павел услышал, что полумертвый Ельцин ушел в отставку и вместо него теперь будет воинственный Путин. Это известие взволновало всех гораздо больше, чем новогодняя пьянка, и Христа ради юродивый решительно отправился на книжный рынок, чтобы купить свою первую светскую книгу.
— … А Бог разве поможет?.. — риторически заключил Михаил Колобов, сказавший перед тем, что вера в Бога — это что-то вроде самовнушения и что надеяться надо только на себя.
— Поможет, — прошептал Павел Слегин, вспоминая, как три года назад…
— Ты что шепчешь, а? Плохо тебе? — скрипуче поинтересовался старичок Иванов, приподымаясь на локте, и кровать его скрипнула тем же голосом.
— Нормально. Спаси Бог.
— А меня еще священники удивляют, — продолжалась беседа у противоположной стены; клинобородый Саша Карпов обращался вроде бы к Колобову, но внимательным оком поглядывал на Слегина: ему хотелось растормошить этого странного Павла, втянуть в разговор, спор, но только бы не было этого высокомерного молчания… — Удивляют меня священники. Простые люди, к примеру, пришли, помолились, ушли, им вроде как полегче стало. А священникам всю жизнь молиться, а бывают среди них молодые здоровые мужики. Неужели ж они так веруют, что им в бабьем платье ходить не стыдно?..
— Что ж это ты, Саша, на священников… — укоризненно молвил Коля Иванов и тоже глянул на соседнюю койку, словно хотел добавить: «При нем».
Павел молчал.
— Да у попов просто работа такая. Мы — у станка, а они — с кадилом. И получают побольше нашего, — откликнулся Михаил. — Я тут историю про одного попа знаю — обхохочешься.
— Не надо, — досадливо оборвал Карпов.
— Не надо? — удивился Колобов.
— Не надо, — подтвердил Иванов.
Слегин перевернулся на бок, лицом к окну, и не к окну даже, а к тумбочке — совсем не видно лица. Но, перевернувшись, закашлялся, сел, харкнул в баночку кровью, утер слезы. От сильного кашля иногда идут слезы.
«Сегодня среда, — подумал Павел среди внезапного значительного молчания. — В четверг придет отец Димитрий, причащусь. Завтра уже, скоро…».
И он улыбнулся, как улыбается младенец, тянущий к заплаканному лицу любимую игрушку.
— Павел, ты сиди побольше, ходить пробуй, — посоветовал Саша Карпов извиняющимся тоном. — А то, как говорится, в ВЧК могут вызвать.
— Мне врач говорила. Спаси Бог. До обеда посижу на стуле. Он со спинкой. Спаси Бог.
* * *
За обедом Слегин пошел сам. Он уже второй день ходил в столовую — да, именно так, прошлым утром он впервые посетил это заведение, оно было совсем рядом, но пока стоял в очереди к раздаточному окну, закружилась голова и пришлось привалиться к стенке. Нынешним утром всё было слава Богу, а как же — крепнем, выздоравливаем, скоро и в процедурную пойдем; да, надо сегодня же на вечерние уколы сходить. Ну вот и столовая, и очередь небольшая — слава Богу.
Павел пристроился к короткохвостой очереди, и вскоре он уже протягивал тарелку разгоряченной девушке с половником, как тянул когда-то руку за милостыней. Пока девушка наливала пустоватые щи и оделяла хлебом, Слегин почти рефлекторно молился о ней, как молился, стоя на околоцерковном кладбище с протянутой рукой, обо всех проходящих.
— Дяденька, вы сядьте за столик — столики свободные, — весело напутствовала девушка с половником.
— Спаси Бог, так и сделаю.
— Следующий.
Столиков было десять, половина из них пустовала, и Слегин, прошептав «Отче наш» и перекрестившись, сел в дальнем углу. Он принялся старательно хлебать щи, приговаривая мысленно: «Надо есть. Надо есть. Надо есть». И вдруг поперхнулся, сдержанно закашлялся, замолк и вновь посмотрел на полную женщину в цветастом халате, и смотрел неотрывно, пока та не вышла из столовой с порцией второго в руках.
«Неужели она?.. — смятенно думал больной. — Похожа, очень похожа… Тоже здесь и тоже с воспалением — привел же Господь… Как же тебя зовут, матушка? Дай Бог памяти… Раба Божия… Раба Божия… А может, и не раба Божия: крестика на ней тогда не было, точно, не было… Господи, дай памяти! Ленка, точно! Елена, значит… Царица Елена обрела крест Господень, Воздвижение — двунадесятый праздник… Елена. Спаси, Господи, и помилуй сию Елену, и пошли ей душевного и телесного здравия!».
— Мужчина! — услышал он недовольный женский голос. — Вы будете второе брать?
— Буду! — спохватился Павел, мгновенно дохлебал щи, прошел через пустую столовую к раздаточному окошку и, протягивая тарелку, сказал смущенно: — Простите Христа ради — задумался.
С картофельным пюре и квашеной капустой Слегин разделался уже в палате. Помыв тарелку, он вскипятил в кружке воду и заварил чай: больничный, как и предупреждал незабвенный Женя Гаврилов, был сущими помоями. Вода возле крупных чайных листиков всё более и более бурела, а сами листики набухали и разворачивались, и наблюдать за этими метаморфозами было весьма приятно. Павел успел успокоиться после неожиданности, произошедшей в столовой, и решил, что если Елена увидит его и захочет поговорить, то они поговорят, а сам он ни искать встречи, ни избегать ее не будет. Однако с того самого дня он предпочитал брать еду в палату.
Слегин пил крупнолистовой чай без сахара и припоминал грехи для завтрашней исповеди, старичок Иванов спал с открытым ртом, а Карпов и Колобов снова разговаривали о политике. Бородатый Саша, чем-то похожий и на Ленина, и на Солженицына, неторопливо констатировал, что другие страны уже не уважают нас, что соседи разбежались из Союза по своим углам, что у власти — воры, что нет никаких идеалов, что по телевизору — сплошная порнография… Миша, пятидесятилетний толстячок с лицом шкодливого, но добродушного мальчишки, отвечал, что раньше он по два часа стоял в очереди за пивом, и было только «Жигулевское», а теперь в каждом киоске…
— А цены?! — тихоголосо возмутился Карпов и для сравнения привел тогдашние и теперешние цены на бензин, попутно заметив, что пива или чего покрепче он уже больше тридцати лет не пил.
— Ничего себе! — изумился Колобов. — Как же ты так, дядь Саш?
— А вот так. Ехал как-то утром: солнышко светит, трасса ровнехонькая, впереди Ленинград — благодать Божия, одним словом. А я улыбнуться даже не могу: башка трещит с похмелюги. Ну, тогда я и дал зарок, что всё — ни грамма больше.
— А кому дал зарок? — заинтересованно спросил Павел.
— Просто дал зарок. Себе, наверное. По-моему, если мужик что сказал, то должен сделать — иначе он не мужик.
— Здорово! — восхищенно воскликнул Михаил, помолчал и, ехидно ухмыльнувшись, спросил: — И так-таки ни разу ни грамма?
— Да.
— А женат ты уже был?
— Нет еще, я года через три после того женился.
— И неужели ж ты, дядь Саш, на собственной свадьбе ни грамма не выпил?! — с торжественной риторичностью вопросил испытующий.
— Ни грамма, — ответил Саша и с усмешкой добавил: — Нам, даже когда бокалы били, вместо шампанского лимонад «Буратино» наливали.
— «Буратино»!.. — И Колобов громогласно расхохотался, скрипуче корчась на кровати и колотя ладонью по ляжке; Павел тоже засмеялся.
— Что?.. — вскинулся старичок Иванов и, когда взгляд его прояснился, загнусил: — Совести у вас нету — поспать не дадут…
— Прости, дядь Коль, — извинился толстячок, просмеиваясь. — Ты знаешь, какой среди нас трезвенник есть?
— Знаю, знаю… Он у нас святой. Он на свадьбе только лимонад… Слышали…
— До тихого часа, между прочим, еще двадцать минут, — заметил Карпов.
— Слышали… — повторил старичок, закрыл глаза и стойко перенес новую волну хохота.
— А как там, в Ленинграде? — спросил чуть позже Колобов с тем чистым любопытством, с каким спрашивают внуки, сидящие на дедовых коленях.
— Очень красиво. Сейчас он уже, правда, Петербург — в Петербурге я не был. Но в Ленинграде самое красивое место — это Эрмитаж. Я всегда по нескольку часов выкраивал, чтобы сходить. Есть там один такой зал… ну-ка… да, как войдешь — налево, на второй этаж — и снова налево. Он огромный, весь белый с золотом и с огромными хрустальными люстрами. Там есть такие часы-павлин: огромная золотая клетка, а внутри дерево, трава, грибы, сова и павлин… Всё из золота, и каждый час павлин вертит головой и распускает хвост. А еще из этого зала есть выход в сад, на втором этаже настоящие деревья растут, трава, цветы — висячий сад, чудо света!
— Бывает же такое… — потрясенно пробормотал Михаил. — А где ты еще был, дядь Саш?
— Да весь Союз, почитай, объездил. В Грозный съездить только не получилось, жалко. А сейчас там война.
— У меня брат недавно из Чечни вернулся, денег много привез.
— Сколько?
Колобов сказал.
— Прилично.
— Он контрактник, им платят. Он сразу машину купил, «Волгу» новую, погулял хорошо. Еще он две гранаты привез: одну у мамы в деревне взорвал — рыбу глушил, а другую бережет на всякий случай.
— Опять на войну не собирается?
— Хватит, навоевался.
— Молодец.
Павел заинтересованно слушал.
— А вот я когда в армии служил, мне денег не платили. Но до чего здорово там было! — произнес Колобов с внезапным воодушевлением, и приятственные воспоминания прозрачно засквозили в его взгляде. — Я на китайской границе служил, на заставе. Эх, там и природа! И охота, и рыбалка, и грибы с ягодами. Здесь ты с удочкой, с бредешком — если ведро наловишь, то это уж очень хорошо. А там речка шириной метра два и снастей никаких не было, а рыбы — ужас. Мы прямо брали бочку и сетку-рабицу, и этой сеткой просто черпали рыбу и черпали. За час полную бочку начерпывали. Зубров били, медведей били. У медведей лапы отрубали, а остальное — волкам, из когтей кулоны делали.
— А шкуры что же? — поинтересовался Карпов и, заранее ужасаясь чужой бесхозяйственности, спросил: — Неужто не снимали?
— Не снимали, дядь Саш. Мы их выделывать не умели. Беличьи шкурки, правда, брали на стельки для сапог, но они быстро трескались, вонять начинали — дня на три хватало, а потом выбрасывали. Зато как этих белок стреляли — обхохочешься. Солдаты вместо собак были: собаки лают, как белку увидят, а мы: «Товарищ старший лейтенант, белка!» Он ее из мелкашки — бац: «Подбирай!» — Михаил тихо рассмеялся.
— Как-то не похоже на армию, — недоверчиво заметил Слегин.
— Просто на границе, поэтому и вольности такие. Нас вместе с офицерами и двадцати человек не насчитаешь, начальство далеко, так что мы летом по полдня в одних майках ходили. Да это еще что — рядом метеостанция была, и там метеоролог жил, бобыль. А патроны от автоматов подходили к его карабину — вот мы и меняли патроны на бражку. Хорошо!.. А как я там ел — я так нигде не ел. И кормили, и охота-рыбалка, и еще на собак отпускалось по 5 кг сала в день — ну, сала они, конечно, не видели, им и так хватало…
Павел заснул с улыбкой, и последним, что он слышал, было: «Местные там чай странно пьют: мы — с сахаром, а они — с солью».
— Действительно странно: они — с солью, мы — с сахаром, а ты, Павел, — безо всего, — произнес давнишний потусторонний знакомый уснувшего.
— Чего тебе? — спросил человек, боеготовно сконцентрировавшись и попутно творя Иисусову молитву.
— Да ничего особенного, пришел засвидетельствовать почтение, — рассеянно ответствовал бес.
— А еще что?
— А больше ничего. Елену ты уже видел сегодня — почему бы и мне не заглянуть… Для полноты впечатления.
— Но тебе же, наверное, побеседовать хочется… Раз уж заглянул.
— Вовсе нет. Тебе хотелось бы беседовать с субъектом, который истошно орет и размахивает дубиной? Вот и я с молящимся человеком говорить не расположен. До встречи, приятель.
Учтиво осклабившись и откланявшись, искуситель покинул сон Павла Слегина.
* * *
— Колобов, четырехсотая палата, спуститесь вниз, к вам пришли. Колобов, четырехсотая, спуститесь вниз. Колобов, четырехсотая…
Все динамики на этаже пронзительно щелкнули и смолкли. В первые дни Павел вздрагивал, слыша подобные громогласные призывы: ему представлялось, что он в троллейбусе и что незримый водитель всё объявляет и объявляет очередные остановки… Потом эта страшноватая ассоциация сменилась более нейтральной, и больной уже не вздрагивал.
Михаил поспешно сложил в сумку пустые банки, надел спортивную куртку и вышел из палаты. У самых дверей он разминулся с человеком, одетым в пушистый, можно даже сказать курчавый, шерстяной свитер, синие джинсы и тапочки. Поверх серого свитера была повязана куцая белая накидка, сбившаяся назад и подрагивающая при ходьбе наподобие сломанных крыльев.
— Доброго здоровья! — сказал человек, переступая порог палаты, и направился к кровати Слегина.
Недавно проснувшись и еще не вполне освоившись в грубой реальности, тот с ужасом наблюдал приближение гостя. Он отчетливо помнил, как неделю назад сидел в убийственно-удобном психоаналитическом кресле, а к нему подходили и подходили одинаковые бесы в курчавых серых свитерах, синих джинсах и тапочках… Но ведь он уже проснулся — неужели опять?!
— Здравствуй, Павел! Как говорится, пришел засвидетельствовать почтение, — сказал нежданный гость.
Больной хотел крикнуть — и не мог, хотел перекреститься — но рука не слушалась, он лишь смотрел на гостя, а гость с видимым недоумением глядел на Павла и поправлял накидку. Белая накидка округло улеглась на плечах посетителя, став похожей на священническую фелонь, и Слегин внезапно улыбнулся.
— Здравствуйте, отец Димитрий! — радостно проговорил он. — А я вас завтра ждал.
— Завтра само собой, а сегодня просто в гости зашел. Извините, Павел, но мне показалось, что я чем-то напугал вас…
— Так и есть, — весело подтвердил тот. — Садитесь, пожалуйста, на стул — я вам сейчас всё расскажу.
— Как на вокзале, — заметил священник, усаживаясь и прислушиваясь.
— У меня тоже с вокзалом ассоциация, — согласился больной. — Скорый поезд такой-то прибывает на такой-то путь… А вы меня и вправду напугали.
И Павел негромко и обстоятельно рассказал о домогательствах беса. Отец Димитрий, придвинув стул вплотную к сидящему на постели, внимательно слушал его рассказ; старичок Иванов с соседней койки тоже пытался вслушиваться, но вскоре бросил ввиду тихости и непонятности повествования.
— Надо же… — задумчиво пробормотал батюшка и продолжил тихим исповедальным голосом: — Ко мне ведь тоже приставлен один поганец из их ведомства, во сне иногда является. Говорливый, нагловатый, в костюмчике — он мне представился даже, Иваном Федоровичем его зовут.
— Как Ивана из «Братьев Карамазовых»?
— С умным человеком и поговорить приятно, — усмехнулся отец Димитрий. — Давно перечитывали?
— В прошлом месяце закончил. Я когда диалог брата Ивана с чертом читал, о своем знакомом вспоминал.
— А ваш знакомый и сам не прочь о себе напомнить…
— Отец Димитрий, неужели же всем людям бесы являются? Для бесед… Во сне, а то и наяву… А?
— Наверное, только большим грешникам и большим праведникам. Я отношусь к первой категории, а к какой вы — не знаю.
— Я же вам исповедовался и историю свою рассказывал. Какой из меня праведник?.. А на себя вы, по-моему, наговариваете.
— Павел, ничегошеньки вы обо мне не знаете, — молвил иерей с мягкой грустью. — Это даже как-то нечестно. Вы про себя рассказывали, а я про себя — нет. Идеализировать священников — это вообще большая ошибка. Идеализация — она хуже клеветы: клевету можно опровергнуть, а в идеале можно только разочароваться. Один Бог без греха. А свою историю я вам сейчас расскажу. Знаете ли… — отец Димитрий замялся и слегка покраснел. — Мне кажется, что после моего рассказа мы сможем перейти на «ты». Всё-таки ровесники, три года знакомы, а грешен я не меньше вашего.
Батюшка опасливо огляделся и заговорил еще тише, так что даже Павлу было едва слышно. Впрочем, начала повествования Слегин не смог воспринять, радостно оглоушенный возможностью перехода на «ты».
— Надо же! — усмехнулся отец Димитрий. — Мне уже почти не хочется рассказывать. Чисто интеллигентская черта — не разрушать благоприятного представления о себе, ни в чем не каяться, а тихо-мирно рефлексировать, как сказано в одном мудром фильме, «сделать гадость, а потом долго-долго мучиться»… Однако попробуем преодолеть. Дело в том, Павел…
Павел вздрогнул, очнувшись от приятных раздумий.
— … дело в том, что я всего лишь четыре года как священник, всего лишь четыре года. Восемь лет назад архиепископ благословил меня на левый клирос и на заочное обучение в семинарии. На третьем курсе был рукоположен в диаконы, на пятом — в иереи, заканчивал семинарию уже священником. А до тех восьми лет относительной воцерковленности я, любезный Павел, был в секте.
— В секте?!
— Именно. Причем не в какой-нибудь протестантской, где хотя бы иллюзия христианства присутствует, а во вполне оккультной секте. Знаете ли, в те годы была мода на эзотерику, причем это, в отличие от дней сегодняшних, была вполне элитарная мода. Студенту-гуманитарию, каким я был тогда, любое «там что-то есть» казалось вполне революционным и безусловно положительным заявлением. И вдруг — приглашение в тайное общество, с инициациями, с ритуалами, с бесконечными ступенями посвящения… Это вам не Церковь, где одни глупые бабки коленки протирают, а священники — сплошь стукачи или переодетые гэбэшники! Это синтез науки и тайной мудрости Востока! Это религия одушевленного Космоса! Вот такая вот бяка была у меня в голове, Павел.
Сейчас все эти оккультные секточки всего лишь сфера бизнеса: вводная лекция — бесплатно, первая ступенька — столько-то, вторая — столько-то, третья — и т. д., и т. п. Каждая ступенька дает некую сумму оккультных знаний, умений и навыков, увеличивает возможности посвященного. Очень похоже на сетевой маркетинг с рангами дистрибьюторов.
Раньше было не так: те же ступеньки, но не за деньги, а по заслугам. Я был неглуп, умел убеждать, не отклонялся от общественной работы и, соответственно, довольно быстро шагал по лестнице оккультного познания. «Малых сих» я убеждал в надрелигиозности нашего тайного общества, в неприменимости к нему, скажем, христианской терминологии, однако чем выше я карабкался, тем больше убеждался в обратном. Безличностные космические силы и энергетические потоки внезапно оказывались очень даже личностными и требовали жертвоприношений. А Великий Астральный Свет носил, как выяснилось, более короткое имя — Люцифер. Отношение к Православию на более высоких ступенях тоже менялось: из сборища дураков и гэбэшников Церковь превращалась в реальную силу, абсолютно враждебную нашей секте. Я решил, что врага следует знать в лицо, принялся изучать Православие и в результате стал православным священником.
Отец Димитрий невесело улыбнулся, послушал молчание Павла и продолжил:
— Да, Павел. Я великий грешник. Две трети из тех, кого духовно соблазнил, я смог перетащить в Церковь. А одну треть — не смог. И этой одной трети, если по справедливости, вполне достаточно для моего осуждения. Однако я надеюсь на милосердие Божие.
Священник вновь замолчал, а Павел, чрезвычайно взволнованный, пытался подобрать нужные слова — и не получалось.
— Может быть, вы и не зря меня за беса приняли, — проговорил батюшка, неловко усмехнувшись. — Хотя джинсы — это случайность: матушка зимние штаны замочила, говорит — грязные…
— Брат мой! — воскликнул Павел, подобрав-таки слова, и трое остальных обитателей палаты, в том числе и вернувшийся Колобов, посмотрели на Слегина и его гостя.
— Братство во Христе гораздо лучше, чем братство во грехе, — пробормотал отец Димитрий, разглядывая узор на линолеуме. — И лучше бы нам бесы не являлись, хоть это и роднит нас. — Он поднял стыдливо опущенную голову, посмотрел в глаза собеседника и улыбнулся. — Но братьям сподручнее говорить друг другу «ты» — тебе так не кажется?
— Кажется, — уверенно ответил Павел и робко спросил: — Как ты пришел к Богу? Евангелие? Богословская литература? Молитвенный опыт?
— Сначала — Достоевский. Потом — Евангелие и молитвенный опыт. А богословская литература — уже в семинарские годы.
— Достоевский… — удивленно повторил Павел. — А я думал, что это тупиковый путь.
— В смысле?
— Слишком много грязи и страстей. А о Боге почти ничего — только мельком, краем глаза или на горизонте. А в грязь и страсти попросту суют лицом.
— Вот именно! Ты слышал про апофатическое богословие?
— Богопознание через познание того, что не является Богом.
— Не всякий мой прихожанин столь сведущ.
— В прошлом году я много читал.
— Похвально. Однако вернемся к тому, что Федор Михайлович сунул тебя лицом в страсти и грязь. Самая естественная реакция в данном случае какая? Встать и отряхнуться. Движение прочь от хорошо описанной грязи — это движение в сторону неописуемого Бога. А система координат в произведениях Достоевского истинно православная, так что рефлекторное движение читателя предполагается не в сторону какой-нибудь пустой нирваны, а в сторону всепрощающего Христа.
Священник говорил уверенным, почти лекционным тоном, и Павлу вновь вспомнилось отличническое доказательство теоремы и стук мелка о доску и подумалось, что две трети подопечных отца Димитрия, которых он вырвал из секты и привел в Православие, — это, вероятно, довольно большое количество людей.
— Всепрощающего… — пробормотал Слегин. — А разве Он всех прощает? Разве все обречены на спасение?
— Срезал, — похвалил батюшка. — Милосердие Бога безгранично, мы с тобой это на себе испытали. Однако простить и спасти Он может только того, кто хочет быть прощенным и спасенным и выполняет указания Врача. Словом, если хочешь бессмертия — принимай лекарство от смерти, то есть причащайся, а перед причастием — кайся в грехах. Это я не тебе, Павел, говорю — это я общо. А кто не желает принимать лекарства, тот умрет, и Врач тут совсем не виноват.
— Кажется, диакон Андрей Кураев такое развернутое сравнение приводил.
— Да и не он один, — заметил отец Димитрий и процитировал: — «Отче Святый, Врачу душ и телес наших…» Забыл, что ли?
— Не забыл, — ответил Павел и улыбнулся.
— Ну вот и хорошо. Раз не забыл — скоро поправишься. Я завтра часов в восемь приду. Будь готов.
— Всегда готов.
Посмеялись и помолчали.
— А ты сегодня намного лучше выглядишь, чем в прошлый раз, — похвалил священник. — Тогда совсем доходягой был.
— Лучше. Со вчерашнего дня уже сам в столовую хожу.
— Молодец.
— А еще меня вчера на флюорографию возили, в коляске. Флюорографию на первом этаже делают, я бы не дошел.
— Приятно, когда тебя возят?
— Скорее стыдно.
— Очень хорошо, Павел. А результаты уже известны?
— Врач говорит, что организм отреагировал на лекарства и есть улучшения.
— Ну вот и славно. Павел, мне идти пора. Завтра увидимся.
Священник встал со стула, а больной — с кровати; священник протянул руку, а больной пожал ее.
— До завтра, Павел.
— До завтра, отец Димитрий.
— Это был твой брат? — спросил у Слегина Колобов, когда посетитель ушел.
— По плоти — нет, по вере — да, по духу — скорее отец, нежели брат.
— Не понял, — простодушно констатировал Михаил.
— Завтра утром поймешь, — улыбчиво пояснил Павел.
* * *
Однако до утра еще нужно было дожить: утру предшествовали вечер и ночь. Вечером Павел самостоятельно сходил на уколы, помолился в пальмовой молельне, глядя куда-то сквозь оконное стекло и заснеженный пустырь, и отправился спать.
В ночном сне ему приснилось позднее зимнее утро, черно-белое кладбище и цветные небо, солнце, купол. Слегин шел в церковь к большому празднику и по собственному умонастроению вдруг понял, что он не Павел, а дядя Паша, и ему стало грустно, как, наверное, бывает грустно душе, возвращающейся в тело после клинической смерти.
Дядя Паша рыкнул, прогоняя странную грусть и пугая прохожих, после чего по-крабьи заковылял далее. Глаза его (прямосмотрящий и скошенный к носу) глядели вниз, туда, где ступали его ноги (здоровая и покалеченная). Вверх смотреть было незачем: он и так знал, что в воздухе кишмя кишат бесы и оттого воздух похож на кипящую воду с бесами-чаинками.
Обычно дядя Паша в церковь не ходил: не дурак же он, в конце концов — какие в аду церкви?! Однако на Крещение он регулярно заглядывал на церковный двор посмотреть, как люди давят друг друга, ругаются и чуть ли не дерутся из-за святой воды, — и хохотал до изнеможения. Нынче церковный двор вновь был забит людьми с пустыми бидонами, трехлитровыми банками и пластиковыми бутылками, и это было очень смешно. Но на сей раз какое-то чувство, столь же непонятное, как и недавняя грусть, втолкнуло дядю Пашу в храм.
Народу было не очень-то много: большинство стояло снаружи в ожидании водосвятного молебна. Дядя Паша уже довольно давно выяснил, что на клиросах поют матом, а прихожане ничего не замечают, и это было уморительно, но слушать всё-таки не хотелось. Теперь же в храме совершалось что-то необычное: через открытые Царские врата было видно, что в алтаре какого-то мужчину с испуганным и откуда-то знакомым лицом, бородача, одетого в белое, водят вокруг престола, ставят на колени, подводят к архиерею… Наконец иерарх возгласил:
— Аксиос, аксиос, аксиос!
«Иностранное ругательство», — решил дядя Паша и подпел по-русски:
— Накося, накося, выкуси!
На него возмущенно посмотрели, и он, посмеиваясь, пошел из храма, а с клироса неслось вдогонку:
— Достоин! Достоин!
— Достоин… — повторил дядя Паша и тревожно подумал: «Откуда же я его знаю?..».
Подумав так, человек раздвоился и в упор посмотрел на свое щетинистое лицо со скошенным к носу глазом. «Этот глаз надо запомнить», — понял Слегин.
«Глаз!» — мысленно воскликнул Павел, проснувшись.
Он посмотрел на часы, поспешно оделся и отправился в пальмовую молельню. Там он прочитал утренние молитвы и молитвы перед причащением, а канонов читать не стал, не надеясь на свою память. До прихода отца Димитрия он успел вернуться. На этот раз священник пришел в широкорукавной рясе и скуфейке, с епитрахилью, крестом и дароносицей на груди, и ошеломленный Михаил Колобов понял, почему вчерашний посетитель Слегина, не являясь братом по плоти, может быть братом по вере и духовным отцом.
После причащения Павел спросил:
— Отец Димитрий, а вас… тебя, то есть — никак не привыкну… Тебя, случаем, не в праздник Крещения рукополагали? Не в соборе?
— Да, — удивленно ответил батюшка. — Завтра ровно четыре года будет.
— Я, оказывается, видел… тебя тогда. У тебя довольно испуганное лицо было.
— Как это ты запомнил, интересно?
— Во сне сегодня увидел.
— Надо же… А там, когда диакон тебя водит то вокруг престола, то архиерею руку целовать, вообще ничего не соображаешь. Испуганное лицо… — Священник рассмеялся и продолжил: — Да, четыре года. А сегодня вечером я буду воду в проруби святить, многие моржевать придут. Вообще-то от крещенской воды еще никто не заболел; может, и я искупнусь… Да, праздник великий! Ну, Павел, поздравляю тебя с принятием святых Христовых Таин, с наступающим праздником тоже поздравляю. А я пойду. Выздоравливай.
Павел поднялся с постели и взял благословение, после чего они с отцом Димитрием троекратно расцеловались.
— В следующий четверг приду причащать; может, и среди недели забегу. Ну, до встречи! — попрощался батюшка.
— До встречи! — ответил Слегин.
— До свидания! — дружно сказали остальные больные.
— До свидания! — ответил священник, улыбнулся и вышел.
Через минуту в палату влетела миловидная сестричка по имени Света, та самая, которую очень хвалил Женя Гаврилов, — впрочем, Павел лежал уже одиннадцатый день и имел не один случай убедиться в правоте Жени. Влетев в палату, Света на мгновение застыла, как девочка, играющая в прятки и достигшая наконец убежища; вся ее ладная фигурка и в особенности курносое личико были пропитаны напряженной растерянностью.
— Доброе утро, — сказала она, очнувшись. — Я вам градусники принесла. Сейчас шла сюда, а мне навстречу — поп! Настоящий! В рясе, с крестом! У меня аж мурашки по коже: я из-за угла — и он из-за угла…
— Это отец Димитрий, он к Павлу приходил, — готовно сообщил Колобов.
— Да?.. — Девушка заинтересованно посмотрела на Павла. — А вам, Слегин, с сегодняшнего дня дышать назначили. До поста дойти сможете?
— Смогу. А в каком смысле дышать?
— Пойдемте, — сказала Света с лакомой улыбкой. — Я вам всё объясню.
— Когда моя дочка так улыбается, я ее убить готов, — проговорил Михаил после исчезновения медсестры и больного.
— Она дочка тебе? — уточнил Иванов.
— Нет, конечно. Просто улыбка одинаковая.
А тем временем Слегин и белохалатная Светлана медленно шли по коридору, и Павел, слегка задыхаясь, спрашивал:
— Простите, сестра… но разве вы раньше… не видели здесь… священников?
— Я здесь недавно работаю, — ответила та, подавляя ножную прыть. — Уже скоро…
Скоро они и впрямь подошли к медпосту — трехстенному закутку с деревянным ограждением, «похожим на стойку бара», — подумал бы кто-то. «Высотой как поручень возле троллейбусного окна», — отметил Павел. Часть ограждения была отделена и посажена на петли; ее-то Света и толкнула, пригласив больного войти. Сразу за ограждением располагался стол с телефоном, вдоль боковых стен стояли шкаф с медикаментами и диван, возле пухлого диванного валика притулился рахитичный столик на колесиках, увенчанный замысловатым аппаратом.
— Присаживайтесь вот сюда, ближе к краю, — предложила медсестра, легко обезглавливая ампулы, вытягивая из них лекарство и впрыскивая его в какой-то полупрозрачный пластмассовый стаканчик. — Сейчас будем дышать, — пояснила она, присоединяя стаканчик к шлангу аппарата и закрывая сверху клювообразной насадкой. — Вот вам пока градусник. Дышать будете десять минут, заодно и температуру смеряете. — Она щелкнула переключателем, аппарат заурчал, а жидкость внутри стаканчика забурлила. — Мундштук берете в рот, вдыхаете только ртом. Когда вдыхаете, нажимаете вот на эту кнопку, выдыхаете через нос. Понятно?
Павел кивнул, нажал кнопку под клювом мундштука, вдохнул влажный лекарственный воздух, отпустил кнопку, выдохнул через нос, нажал кнопку…
В палате он сплюнул в раковину и почистил зубы, а потом позвали завтракать.
В палате № 0 завтракали только двое — Слегин и Колобов. Карпов тоже взял завтрак, но лишь тоскливо глядел на стынущую молочную вермишель с пенками: анализ крови нужно было сдавать натощак, а медсестра-кровопускательница задерживалась. Иванов и вовсе не ходил на завтрак, поскольку успел хорошенечко наесться домашними подношениями, и теперь спал с полуоткрытым ртом.
Доев, Михаил очень медленно (чтобы не скрипнула) поднялся с постели, выудил из тарелки длиннющую (вероятно, специально отложенную) вермишелину и со шкодливым выражением на лице пошел на цыпочках к почивающему старичку Иванову. Павел и Саша заинтересованно наблюдали, как озорник, достигнув цели, принялся водить влажной вермишелиной по ладони спящего, а ладонь судорожно вздрагивала, взмывала в воздух, пытаясь избавиться от навязчивой мухи… Наконец Иванов проснулся, оценил ситуацию и, повернувшись к соседней кровати, озадаченно сказал:
— Павел, вот ты умный. Вот ты объясни мне — что этот шельмец делает?
— Озорничает, — ответил Слегин и, не в силах сдержаться, расхохотался.
— Дядь Коль, обедать уж пора, а ты спишь! — сообщил шалун.
— Да иди ты отсель! — сердито ответил разбуженный, глянул на часы и добавил: — Ой, ну и дурак!
— Скажи спасибо, что он тебе «велосипед» не сделал, как в армии, — проговорил сквозь смех Саша.
— Спасибо.
— Карпов, кровь сдавать! — сказал кто-то, не заходя в палату.
— Наконец-то, — обрадовался тот и поспешно вышел.
До его возвращения Слегин доел вермишель и узнал, что «велосипедом» называется довольно жестокая шутка: спящему вставляют между пальцами ног спички, поджигают и смотрят.
— Тебя, похоже, выписывать собираются, — предположил Колобов, взглянув на вернувшегося однопалатника: одна рука Карпова была согнута в локте, а большой и безымянный пальцы другой руки сжимали ватку. — И из вены, и из пальца. И ты ведь утром еще мочу сдавал?
— Сдавал, — гордо подтвердил Саша. — А к десяти на флюорографию пойду.
— Точно — выписывают.
— Смотря какие результаты будут. Ты, Миша, не говори пока ничего — вдруг сглазишь. В любом случае будем лежать до победы.
— Ага, — мрачно проговорил Иванов. — До 9 мая.
Весело было этим утром в палате.
Во время обхода Мария Викторовна сказала, что Павел выглядит намного лучше, и спросила, продолжается ли кровохарканье.
— Вчера было раза три, сгустками, а сегодня — нет, — ответил Слегин.
— Хрипы не прослушиваются, — комментировала врач. — Это славно. Дышать ходили?
— Да. На уколы я со вчерашнего вечера тоже сам хожу.
— Замечательно. Набирайтесь сил, не залеживайтесь. Со следующей недели вам уже можно будет на дыхательную гимнастику ходить.
— Лет двадцать гимнастикой не занимался.
— А зря.
Иванову Мария Викторовна ничего не сказала, а Колобову посулила бронхоскопию назавтра.
— А что это за зверь? — полюбопытствовал Михаил.
— Это такое обследование. Через нос вам введут в легкое трубочку с оптической системой и посмотрят, что у вас там интересного. По ощущениям чуть-чуть неприятнее, чем гастроскопия, но в целом терпимо.
— Ну ни хрена себе! — взревел Михаил, заметно побледнев.
— Колобов, не выражайтесь.
Старичок Коля хихикнул, а доктор перешла к Карпову.
— Вас, Карпов, можно поздравить. Завтра на выписку.
— А результаты анализов? — радостно спросил Саша.
— Результаты должны быть хорошими. Впрочем, после обеда принесут снимок, и я вам скажу точно.
— Тебя на выписку, а меня — на бронхоскопию, — жалобно проныл Колобов, когда Мария Викторовна удалилась. — Тебе хоть делали эту гадость?
— Нет. Сначала назначили, а потом отменили… У меня ведь сердце.
— И что?
— Могло не выдержать. Там, говорят, когда ее делают, шприц специальный держат наготове. Чтобы, если сердце остановится…
— Ну ни хрена себе! — взвыл Михаил, схватил сигареты и выскочил из палаты.
Павел сотворил молитву Иисусову и перекрестился, прибавив мысленно: «Господи, избави мя от бронхоскопии!».
После обеда Мария Викторовна сообщила Карпову, что снимок хороший.
— Слава Тебе, Господи! — воскликнул Саша. — Обрадую теперь баушку.
«Баушка» пришла после тихого часа и, узнав новость, радостно перекрестилась.
— Слава Богу! А я хотела завтра водички тебе принести.
— Вместе за водичкой сходим, вместе. Меня утром выпишут — сразу и пойдем. Тут как раз церковь рядом. Самую большую свечку Богу поставлю! Чтобы уж никогда, никогда так не болеть! Сорок дней лежал! Хорошо ты меня, баушка, мороженым покормила…
— Приятное хотела тебе, дурню, сделать. Кто ж знал, что ты такой нежный?
— Да я не в обиду, я так…
— Так ты, дядь Саш, из-за мороженого здесь? — встрял Михаил.
— Из-за мороженого, — живо откликнулась старушка. — Я, дура, его побаловать хотела, а он только с мороза пришел, не согрелся, а потом ему опять уходить было нужно — опять не согрелся. Так и началось.
Поздним вечером в палату, как всегда, пришла медсестра и сделала старичку Иванову несколько уколов. Несмотря на ликующее настроение, Карпов не сдержался и проворчал:
— Работают, как папа Карло, а получают, как Буратино на мороженое. Это ж надо — за такие деньги в чужие задницы заглядывать! Эх, демократия!..
«Почему как Буратино на мороженое?» — подумал Павел, отходя ко сну. Поразмыслив, догадался. Догадавшись, заснул.
Его разбудило радио.
— Сегодня Русская православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник — Богоявление, — сообщил диктор с той же деловитостью, с какой рассказывал минуту назад о подрыве российского бронетранспортера чеченскими боевиками. — Другое название этого праздника — Крещение. По преданию, в этот день Иисус Христос крестился в Иордане посредством Иоанна Крестителя. Когда Иисус выходил из воды, разверзлись небеса, и Дух Святой в виде голубя сошел на Него, и был глас с неба, глаголящий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Так были явлены все три ипостаси Пресвятой Троицы. Вчера вечером и сегодня утром по всей России были отслужены торжественные водосвятные молебны. Освящалась вода в прорубях, и некоторые смельчаки купались там. Сложно сказать, что придавало им смелости — вера или же выпитое спиртное…
— Господи, помилуй нас, грешных! — прошептал Павел и принялся одеваться.
После завтрака медсестра Света принесла обеденную порцию таблеток и поздравила всех, а в особенности Павла («Почему в особенности?» — «Ведь вы же верующий») с праздником. Карпову таблеток уже не полагалось, а Иванову принесли целую горсть.
— Саш, твои теперь, наверное, мне достались, — прокомментировал старичок Коля, на что Саша ответствовал:
— «Пить так пить», — сказал котенок, когда его несли топить… Что-то я волнуюсь, мужики!
— Да ладно тебе, дядь Саш! — раздраженно проговорил Михаил. — Тебе нынче домой идти — не на бронхоскопию.
— Господи! Пусть никогда я больше сюда не попаду! — воскликнул Карпов, глянул по сторонам и широко перекрестился.
— Нервишки… — пробормотал Колобов.
Павел встал с постели, подошел к перекрестившемуся и тихо спросил:
— Саша, а почему ты крестика не носишь?
— Павел, а я, может, и некрещеный. Не знаю даже, считается это или не считается… Ты сядь, пожалуйста, вот сюда, на стул, — я тебе расскажу. В общем, попов тогда было мало, да и крестить в церкви боялись, — короче, меня крестила бабка. Это считается?
— Считается, — с удовольствием объяснил Слегин. — Только в церкви сразу же за таинством крещения совершают таинство миропомазания. А бабка его, естественно, совершить не могла. Миропомазание — это великое таинство. Слышал, наверное, что царей называют помазанниками Божьими. Это из-за того, что при восшествии на престол их второй раз в жизни мажут миром. А первый раз — при крещении, так что сходи в церковь, купи крестик и дополни таинство. В воду тебя уже окунать не будут, а миром помажут.
— Вот как, оказывается, тебя разговорить можно, — усмехнулся Карпов. — А насчет таинства — не знаю пока. Я ведь в Бога не очень верую. Вот баушка моя — та верует. А мы с ней всю жизнь душа в душу. Я не пью — она и не ругается. Вот я и думать стал: если там всё-таки есть что-то, то мне бы и дальше с ней хотелось, с баушкой. А то ВЧК да ВЧК — страшно.
— Саша, я дам тебе телефон отца Димитрия. Если надумаешь — позвони. Кстати, креститься или дополнить таинство можно и дома. Он придет и всё сделает.
— Спасибо, Павел. Я подумаю. Где-то тут у меня была ручка с бумажкой…
На обходе Мария Викторовна поздравила Карпова и выдала ему анамнез, а Колобову сообщила, что бронхоскопия переносится на понедельник, поскольку не удалось достать талончик. В ответ на эмоциональные возгласы Михаила врач попросила его прекратить истерику и быть мужчиной. На этом обходе был осмотрен еще один больной — новенький, расположившийся на свежезастеленной кровати Карпова, то есть на бывшей кровати Карпова, в то время как сам Саша скромненько сидел на легком деревянном стуле с сумкой на спинке, словно и не лежал здесь Саша сорок дней, а лишь заскочил на минутку проведать кое-кого, и уже пора восвояси, под ручку с «баушкой», ждущей за дверью. Перед уходом он услышал занимательное — такое, о чем можно рассказать супруге или приятелю:
— Ну, я и попал! — воскликнул новенький, парень лет двадцати.
— Все мы тут попали… — пробормотал Михаил.
— А у меня свадьба через неделю, — нервно пояснил парень.
— Н-да-а… — протянул Саша Карпов, попрощался со всеми за руку, пожелал скорейшего выздоровления и ушел.
Слегин взял телефонную карточку и тоже вышел. В коридоре он позвонил Марье Петровне и попросил принести крещенской воды и двенадцатый том Достоевского.
— После тихого часа? Хорошо, буду ждать… Там окончание «Братьев Карамазовых» и рассказы. Рассказы я не успел прочитать, так уж вышло… Не надо колбасы, не надо. Лучше уж сыра, если на то пошло… Ну, спаси Бог. До встречи.
Павел повесил трубку, повернулся, чтобы идти в палату, и застыл: в двух шагах от него стояла Елена и умоляюще смотрела снизу вверх. Она стояла на коленях.
— Прости меня, Павел, — сказала женщина.
— Бог простит, — ответил мужчина, опускаясь на колени, так что расстояние между собеседниками сократилось до одного шага. — И ты меня прости, Елена.
— За что?!
— До больницы я ни разу не молился о тебе. О бесе-искусителе молился, а о тебе — нет.
«Все женщины в больнице ходят в халатах: медсестры и посетительницы — в белых, а больные — в цветастых, — подумал Павел, глядя на отворот женского халата, шею, новенькую тесемку на шее… — Вот оно! Раба Божия Елена… Вот зачем эта встреча!».
И Павел ясно вспомнил, что тогда креста на ней не было. Был только один крест — его собственный. И этот крест однажды зацепился за ее грудь, и Паша испугался, что цепочка порвется. Но цепочка выдержала, и юноша закинул крест на спину.
Павел посмотрел в глаза Елены и улыбнулся.
— Ты изменился, — сказала она. — Не хромаешь, глазом не косишь, бороду отпустил.
— И в здравом уме к тому же, — улыбчиво добавил Павел. — Помнишь, Елена, когда Христос изгнал из бесноватого легион бесов, люди увидели того человека одетым и в здравом уме и ужаснулись. Ты не ужасаешься — ты плачешь. Это нормальная реакция.
Женщина плакала, а мужчина неторопливо говорил: он знал, что Господь не допустит, чтобы кто-нибудь помешал разговору.
— Когда ты окрестилась?
— В прошлом году, в сентябре.
— На Воздвижение Креста Господня?
— Да, как ты догадался?
— Царица Елена… — загадочно ответил Слегин.
— Ой, Павел! — воскликнула Елена и рассказала, что после того как выскочила из троллейбуса, бегала по ночному городу и кричала, пока не охрипла, а потом была больница, пульмонология. Кондуктор вылечилась и почти забыла причину болезни, но на следующее Рождество опять попала в больницу с воспалением легких. С середины декабря женщина взяла отпуск и упорно сидела дома, но всё-таки заболела. Это было год назад.
— Когда я окрестилась, я думала, что в четвертый раз уже не заболею. Теперь я поняла.
— Я думаю, в следующем году всё будет в порядке, — сказал Павел.
Точнее, он знал, что в следующем году всё будет в порядке. Знал он также и содержание рассказа Елены: было достаточно тогдашнего бегства в морозную ночь и нынешней тесемочки от крестика, чтобы размотать трехлетний свиток. Павел не знал одного: есть ли у Елены муж. Рассеянно слушая ее рассказ, Слегин думал: «Может, мне жениться на ней? Если спасусь я, спасется и она. Если спасется она, спасусь и я».
— Ты замужем? — спросил он.
— Да, — ответила она.
«Слава Тебе, Господи, — поблагодарил Павел. — Не дал мне, по грехам моим, тяжелого креста».
— Вы венчались?
— Нет. Но я уговорю его, обвенчаемся.
— Бог в помощь. Я помолюсь, чтобы уговорила.
— Спасибо.
— «Спаси Бог» говорить надо. Учишь вас, учишь…
— Спаси Бог.
— Ну, вот ты и улыбнулась.
— Ты правда простил меня?
— Простил. А ты простила, что я о тебе не молился?
— Простила. Но теперь-то не забывай.
— Не забуду. И ты не забывай обо мне молиться.
— Я — о тебе?
— Именно. Прощай, — сказал Павел и поцеловал женщину в лоб.
Та посмотрела на него слезящимися глазами и, не посмев прикоснуться губами к его лицу, поцеловала в правое плечо.
— Ну, так не пойдет! — запротестовал он, поднимаясь с колен и подавая Елене руку. — Мы теперь брат и сестра.
Они троекратно расцеловались.
— Прощай, Павел.
— Прощай, Елена.
Только Бог был свидетелем их разговора.
Неделя третья
— Опять в этих креслах?! — возмутился Павел и принялся усердно творить молитву.
— Извини! — поспешно проговорил бес, и под человеком оказался деревянный больничный стул. — Не молись пока, пожалуйста. У меня к тебе серьезный разговор.
Сам искуситель униженно утопал в психоаналитическом кресле, расположенном по другую сторону пустого журнального столика.
— Три года назад у тебя тоже был ко мне серьезный разговор, и после него я решил выпрыгнуть из окошка, — напомнил Павел, продолжая мысленно проговаривать коротенькую молитву.
— И выпрыгнул бы, если бы тебя не помиловали, — с отвращением проговорил черт. — Человеческая трусость плюс Божественный произвол — равняется рождественское чудо… Впрочем, сейчас уже поздно об этом. Сейчас я просто хочу, чтобы ты прекратил молиться и выслушал меня. В память о той несправедливости.
— В память о той несправедливости я ежедневно молюсь о тебе. Кстати, выглядишь ты неважно: бледный, пот градом…
— А скоро и вовсе исчезну. Мне очень трудно здесь оставаться. Смилуйся, Павел!
— Хорошо. Аминь. Говори.
Павел почувствовал себя пустынником, зачем-то засыпавшим родник; и хотя ясно было, что родник никуда не делся, что его можно легко отрыть и вновь напиться воды, исподволь думалось о смерти от жажды. Бес ухмыльнулся, и на столике возникла бутылка газировки.
— Чтобы не думалось, — прокомментировал он. — А вообще-то, Павел, внутренне ты поэт. Ума не приложу, отчего ты стихов не пишешь.
— Говори, зачем пришел.
— Пришел я рассказать об одном твоем грехе. Мне этот грех не нужен. Лучше уж я тебя на чем-нибудь другом поймаю.
— Мне даже Ангел-хранитель о моих грехах не рассказывал. А ты-то с какой стати?
— Повторяю для тугоухих: мне этот твой грех не нужен. Ты меня этим твоим грехом уже достал. Надо мной коллеги смеются из-за этого твоего греха.
— То есть молиться о тебе — грех, — заключил Павел.
— Догадлив, однако, — иронично сказал черт. — А раньше догадаться не мог?
— Я и сейчас не уверен, что это грех. Говорят, некий святой молился о падших ангелах. А я же не обо всех — я только о тебе…
— Наговорили на твоего святого. А ты — просто дурак, и моя задача — доказать тебе это.
— Не очень-то ты учтив, — с усмешкой заметил человек. — Доказывай, конечно, только я верю, что Бог может простить любого кающегося грешника, если он и меня простил, и отца Димитрия.
— Я, кстати, знаком с Иваном Федоровичем.
— С искусителем отца Димитрия?
— Так точно. Интересный чертяка, диалектик, Гегеля цитировать любит, — с искренним воодушевлением охарактеризовал бес.
— Надо же, — удивился собеседник.
— А он вообще философией увлекается. Я-то всё больше по изящной словесности специализируюсь (псевдонимчик ему тоже я придумал), а он — голова: с Флоренским на Соловках беседовал и с Кантом тоже, за завтраком, — уточнение лукавый почему-то произнес юмористически.
— Ай да Иван Федорович! — воскликнул Павел, развеселившись. — Ты бы и себе, что ли, псевдонимчик придумал. А то неловко даже.
— Себе? Пожалуйста. Зови меня Вергилием.
— Вергилия не читал. Знаю, что жил давно и был поэтом.
— Главное — не то, что он был поэтом, — умненько произнес черт. — Однако вернемся ко мне, грешному. Настолько грешному, что молитва обо мне является грехом.
— А я по-прежнему считаю, что Бог может простить любого кающегося грешника, — упрямо постулировал человек. — Главное — раскаяться.
— Давай-ка привлечем гегелевскую триаду, — малопонятно изрек бес. — Твое заявление было тезисом, мое опровержение будет антитезисом, а то, что в результате образуется в твоей голове, вполне можно назвать синтезом. Предположительно синтез должен быть такой: «В принципе я прав, но об этом засранце молиться греховно».
— Сначала выскажи антитезис, — предложил Павел. — А синтез — это уже мое дело.
— Разумеется, — согласился нечистый и начал излагать свои доводы. — Во-первых, Бог прощает не каждого кающегося грешника. Иуда, например, и раскаялся, и деньги возвратил, и вешаться пошел — а Бог его не остановил. Во-вторых, Бог может смилостивиться над грешником просто так, из самодурства. Твой новозаветный тезка, например, не каялся, преследовал себе христиан и в ус не дул — а Бог его просветил, рядом с Петром поставил. В-третьих, на падших ангелов милосердие Божие не распространяется, и потому молиться о нас — ошибка, то есть грех.
До этого момента черт говорил с уверенностью и снисходительностью отличника, доказывающего у доски теорему, и Павел припоминал свои школьные годы и прошлый год, и три продольные морщины всё глубже и глубже проступали на его лбу. Но после тон чертячьего рассказа изменился, стал нервным и проникновенным, и морщины на Павловом лбу обмелели: человек внимательно слушал.
— Послушай, Павел, — говорил бес. — Я ангел, хотя и падший, я слуга, посланник — не более. Я свободен в гораздо меньшей степени, чем любой человек. Скажу сразу, что в этом веке, до конца времен, ни я, ни кто-либо из бесов не был прощен и не будет. Есть надежда на прощение лишь в веке будущем, после Страшного суда, однако ваши за эту надежду предали Оригена анафеме. И вновь повторюсь, Павел: я — слуга и смогу раскаяться лишь по примеру моего владыки.
— Но неужели вам нельзя отпасть от сатаны, как он когда-то отпал от Бога? — воскликнул человек.
— Пока еще никто не отпадал, — ответил черт. — Человекам это возможно, пока они здесь, а бесам — нет. У вас есть причастие, у вас души пластичные, вы можете грешить и каяться. А мы не можем измениться, пока Бог нам этого не позволит. Ради вас Христос Себя в жертву принес, а к нам Он только однажды заглянул — разломал ворота и души ветхозаветных праведников вывел. Это, знаешь ли, как атомный взрыв для нас было — очень страшно…
Он прикрыл глаза и замолчал, а Павлу было до слез жалко падшего ангела и хотелось молиться, молиться, молиться о бесплотном грешнике, но человек уже понимал, что так он лишь причиняет боль самозванному Вергилию, погруженному в психоаналитическое кресло.
— Ладно, я не буду за тебя молиться. Но после Суда я буду просить о тебе у Господа.
— Синтез вполне приемлемый, — оценил бес. — Благодарю. А почему ты не зовешь меня Вергилием?
— Я читал «Божественную комедию». Мне такой поводырь, как ты, не нужен.
— Браво! — восхитился лукавый. — Тебе тогда было пятнадцать лет, а я заглядывал в книгу из-за твоего левого плеча и бранил переводчика. Впрочем, разве мог он переложить на грубый русский язык те драгоценные терцеты?
— Ты эстет, — констатировал Павел.
— А кем мне прикажешь быть? — риторически вопросил черт. — Наслаждаться творчеством Божьим я уже не могу — остается творчество человеческое.
Помолчали. Человек перекрестил бутылку газировки, стоявшую на столе, отвинтил крышку и отпил. «Здесь могла быть ваша реклама», — подумал он.
— Остроумно, — похвалил черт. — Тебе, кстати, скоро просыпаться. И возможно, что мы теперь долго не увидимся. Ты выздоравливаешь телесно, а духовно почти здоров. Нечисть же навещает лишь нездоровых. Свидригайлов об этом очень грамотно рассуждал: мол, болезнь — это ненормальное состояние, в котором могут возникать точки соприкосновения с иным миром, и чем тяжелее болезнь, тем таких точек больше… — он сделал паузу и с потусторонним жаром продолжил: — Грех тоже является болезнью, и я верую, что когда-нибудь ты очень серьезно согрешишь, и я приду к тебе, и затащу в троллейбус, и снова уговорю выпрыгнуть из окошка! — Его облик неприятно, но очень естественно изменился. — Я хочу, чтобы ты запомнил меня таким — с клыками и копытами! Я — злой, и никакими человеческими молитовками этого не изменить! Запомни!!!
— Запомню… — пролепетал Павел, перекрестил искусителя и проснулся.
Он проснулся в понедельник утром; за окном было сумрачно, в палате мерцала и потрескивала полудохлая лампа дневного света; паренек, угодивший в больницу за неделю до свадьбы, рассказывал анекдот:
— Умер гибэдэдэшник и очутился перед Богом. Бог его и спрашивает: «Как ты жил? Плохие дела творил или хорошие?» Гибэдэдэшник отвечает: «Были плохие, были и хорошие». Бог говорит: «Ну, раз так — вот перед тобой две дороги. Одна ведет в ад, другая в рай. Выбирай любую». А гибэдэдэшник Ему: «А можно, я здесь, на перекресточке, постою?».
«Умный анекдот», — отметил Слегин и под смех остальных обитателей палаты призадумался о прошлогодних событиях, как делывал не раз и не два в эти больничные дни.
Первую светскую книгу, прочитанную в новой жизни (а это был толстенький учебник по истории России ХХ века), Слегин заглотил менее чем за неделю — успел до Рождества. «Ну и ну!» — подумал он и поехал на книжный рынок. Во второй год юродствования Павел привычно откладывал часть подаяния, и теперь оно пригодилось: продавец учебников и детских энциклопедий заполучил странного постоянного клиента — одетого в драную фуфайку и хромоногого. «За эти деньги в „сэконд хэнде“ можно нормальную куртку купить, — размышлял продавец, протягивая экстравагантному книгочею красочную энциклопедию. — Вот ведь чудак!» А книгочей был просто недоучившимся отличником, и в его взгляде, чувственно оглаживающем книжные ряды, сиял жуткий интеллектуальный голод.
Перед началом Великого поста деньги кончились, и Павел спросил у того продавца:
— Можно мне сюда устроиться — книги таскать?
— Вы же хромой! — изумленно напомнил продавец.
— Могу и не хромать, — невозмутимо сообщил Слегин и прошелся спортивной походкой.
— Ну ты и жук! — восхищенно воскликнул книжник. — Я поговорю с хозяином.
Работа Павлу понравилась: теперь он ежедневно видел восход солнца, а раньше мог и проспать. С семи до девяти утра он возил тридцатикилограммовые коробки с книгами со склада на рынок, а во второй половине дня, с трех до пяти, — с рынка на склад. Возил он их сначала на санях, а потом — на тележке, по четыре коробки за раз, и в конце дня получал деньги — в месяц набегало примерно столько же, сколько и у среднезагруженного доцента, не берущего взяток. Работа идеально подходила Слегину: он успевал и на позднюю обедню, и на всенощное бдение.
Милостыню он просить перестал, хромать — тоже, рассудив, что и в церковь, и на книжный рынок ходят отнюдь не самые глупые люди, что взаимопроникновение этих двух групп людей неизбежно, а потому неизбежно и разоблачение. Половину жалованья Павел раздавал нищим, а на остальное покупал книги, еду, одежду. Марья Петровна нарадоваться на него не могла и чуть ли не ежедневно кормила пирожками-«соседками», однако нахмурилась, узнав, что он сходил в поликлинику и изумил врачей, в результате чего денег ему больше платить не будут.
— Ну, работал бы ты и те деньги тоже получал бы. Что же ты такой несообразительный?.. — горестно произнесла соседка по коммуналке.
— Не хочу обманывать, — ответил Слегин.
— А раньше что же?.. Ой, извини, Павел!
— Что? — он просто не понял.
— Ну, ты ведь еще два года назад выздоровел… На Рождество. И глаз у тебя с тех пор прямо смотрит, и хромать ты иногда забывал…
— Плохой из меня конспиратор, — усмехнулся он. — А почему же я, по-вашему, притворялся?
— Ну, на работу сейчас сложно устроиться, а так хоть что-то платили… И еще милостыня — ее ведь тоже не всякому дадут… — с запинкой проговорила она и, робко глянув в лицо собеседника, вздрогнула и воскликнула: — Павел! Павел, прости меня! Ой, прости меня, дууурууу!..
— Бог простит. И вы меня простите.
— За что?
— За соблазн.
Слезы опрометью скатывались по его кумачовым щекам и стыдливо прятались в зарослях бороды. «Вот так юродивый! — мысленно повторял Павел. — Ну и юродивый!».
То же самое он повторял и в начале года, когда совмещал юродствование Христа ради и чтение светской литературы. Он всё чаще и чаще думал, что юродствование в современных условиях — это скорее антиреклама христианства, нежели проповедь. «Сейчас проповедовать надо по телевидению — а кто меня туда пустит, юродивого? — размышлял он. — Обратиться к правителю с обличением может теперь каждый: голову не отрубят. Иван Грозный слушал блаженного Василия, потому что боялся Бога. А нынешние только шантажистов и киллеров боятся. Да и вообще, фуфайки нынче не в моде…».
Устроившись на работу и сменив одежду, Слегин не прекратил жить церковной жизнью — он даже решил восполнить некоторый пробел в образовании и принялся за богословскую литературу. Поначалу она показалась ему смешной: слишком уж грубы и приблизительны были слова по сравнению с тихим внесловесным знанием, открытым Павлу той рождественской ночью. Однако вскоре внесловесное знание куда-то исчезло, а богословская литература осталась, и читарь полюбил ее, заметив там блики прежнего сияющего знания и горько сожалея о потере.
Осенью Слегин в поисках тех же несказанных бликов купил старенький и дешевый двенадцатитомник Достоевского. В этих книгах с цветными и черно-белыми иллюстрациями слово «Бог» писалось с маленькой буквы, а шрифт был мелок и изящен. Рассказы из последнего тома («Вечный муж», «Мальчик у Христа на елке», «Кроткая», «Сон смешного человека», «Примечания»; нет, «Примечания» — это не рассказ), Павел дочитал уже в больнице, в прошедшие выходные.
— Апофатическое богословие… — задумчиво пробормотал он, дочитав. — Может быть, и так.
— Что ты там бормочешь? — осведомился старичок Иванов.
— Ничего. Книга очень хорошая. Читал Достоевского?
— Нет. Мура это всё. Эх, пожить бы еще немножко!
Ночью Павлу приснился бес, а утром двадцатилетний жених рассказал анекдот про гибэдэдэшника.
Итак, было утро понедельника — обычное больничное утро, добротно сконструированное из кирпичиков грубой реальности. Эти незамысловатые кирпичики, такие, как холодок зубной пасты во рту, прохлада градусника под мышкой, влажное урчание ингалятора, клейкость перловой каши, расширяющаяся боль от укола и последующая кратковременная хромота, — эти предсказуемо-узнаваемые кирпичики были подогнаны друг к другу столь же плотно, как и блоки египетских пирамид. Данное обстоятельство радовало Слегина, поскольку при таком построении яви в ней просто не мог распахнуться люк, возле которого Павел оказался перед пробуждением, — люк, зияющий в ледяной открытый космос.
— Ну, блин, сестричка! Ну, блин, прикололась! — потешно возмущался Колобов, вернувшись после уколов в палату № 0. — Это не Светка, это другая какая-то — черненькая какая-то чувырла. Я уже, короче, спустил штаны, стою весь на нервах, а она мне: «А Колобову сейчас будет больно!» Вот ведь зараза!
Смеялись все четверо, и это тоже было незыблемым реальностным кирпичиком.
На обходе Мария Викторовна сказала Слегину, чтобы он шел на дыхательную гимнастику вместе с Колобовым, а самому Михаилу напомнила, что в двенадцать — бронхоскопия.
— Помню, — мрачновато ответил тот.
Гимнастика Павлу понравилась: проводилась она в специальном зале с зеркалами и шведскими стенками, многие упражнения были знакомы со школьной поры и потому приятны, а некоторые обладали забавной специфичностью. Несмотря на то, что физрук, стройная и флегматичная молодая особа, укоренилась на стуле и давала лишь словесные указания, дюжина больных выполняли упражнения правильно и с удовольствием. Удовольствие было естественным следствием того, что люди, занимавшиеся дыхательной гимнастикой, были не столько больными, сколько выздоравливающими. Наиболее интересным Слегину показалось, что больным с правосторонней пневмонией позволялось сгибаться только в левую сторону, а левосторонним — наоборот. И еще он немножко испугался, когда было получено указание разбиться по парам и поочередно колотить друг друга по согнутой спине; испугался же он того, что Колобов по рассеянности пришибет его. Но обошлось.
Около полудня Михаил отправился на бронхоскопию, а к жениху пришла невеста.
— Привет, Леш, — сказала невеста.
— Привет, Люб, — ответил жених.
Павлу вдруг подумалось, что, когда девушка уйдет отсюда, поверх свободного свитера она наденет лохматую шубу из шкуры неизвестного науке зверя, и на шубе той непременно окажется проплешина, кое-как прикрытая шерсткой. Увидев эту проплешину чуть более трех лет назад, в том самом троллейбусе, Слегин приметил, что над проплешиной явно поработали расческой, даже бороздки от зубчиков видны, и он подумал тогда (а может, впрочем, и не подумал), что подобная жалкая попытка молодиться роднила шубу с лысеющим мужчиной. «Вообще-то, — размышлял Павел, внимательно глядя на Лешину невесту, — парень у нее теперь другой. Может, и шуба другая».
— Температура не спадает, — нервно жаловался Леша, — и кашель — с-сука!.. Врач говорит, метрогил слабоват — надо абактал покупать. У них, типа того, нет. А он, сука, дорогой…
— Леша, Леша, успокойся — сегодня же купим, — заботливо баюкала Люба. — Тетя Тая тебе барсучьего жиру вечером принесет и этот, как уж его…
— Вот, на бумажке… Только ты, Люб, не забывай: нам на свадьбу бабки нужны.
— Займем, если что. Главное — чтобы ты поправился, — сказала невеста, чуть помедлила и грустно добавила: — А если улучшения не будет, придется переносить.
— Щас! Разбежались! — проорал жених, вскакивая с кровати, постоял, сел и заговорил тише: — Мы и так сколько туда вбухали: продукты, зал, камера, приглашения разослали. Мишка из Москвы приедет… Исключено, короче. Врач сегодня тоже говорила — переносить. Типа, говорит, загнешься. Невесту, типа, на руках к памятнику понесешь — и шлепнешься. Да я на войне был — не загнулся!
Парень надрывно раскашлялся, отдышался, проморгался и спросил:
— Шарики купили?
— Что?.. — вздрогнула невеста, нежно поглаживавшая его ладонь.
— Шарики, спрашиваю, купили? Воздушные. Для украшения зала.
После того как Люба ушла, Леша посмотрел на Михаила, вернувшегося с бронхоскопии и минут пять лежавшего на кровати пластообразно и каменнолико, — посмотрел и поинтересовался:
— Как оно?
— Ничего хорошего, — ответил Колобов. — Она мне в одну ноздрю трубку пихала, пихала — так и не пропихнула. А в другую ничего — пролезла. Она как посмотрела, так и говорит: «Ну у тебя там, — говорит, — и помойка», — он через силу посмеялся и спросил: — А ты где воевал? Я тут краем уха…
— В Чечне.
— У меня брательник тоже в Чечне воевал.
— Живой?
— Да.
— Повезло.
Несколько минут в палате молчали, а потом Леша заговорил:
— Я полгода назад оттуда вернулся. Служил снайпером. Меня здесь баба ждала — переписывались, всё такое. А как я вернулся, мы через месяц разбежались. Она говорит: «Ты, типа, другой стал, агрессивный». А оттуда, вообще-то, сложно беленьким вернуться. Вот Любка — она поняла… — Он ненадолго примолк и негромко сказал: — Я когда своего первого мальчика убил, полдня блевал. Потом меня спиртом отпаивали — держали и вливали в глотку. Я тогда понял, что если бы не я его, то он бы меня, — и всё по местам встало… А мы еще пули со смещенным центром тяжести делали — это раза два или три по пуле надо тихонечко напильником мазнуть сбоку. И вот если обычной, например, пулей в человека попадешь, то он может еще метров пятьдесят пробежать и ничего не почувствовать. А если, например, пуля со смещенным центром тяжести в руку попадает, то руку отрывает на хрен!.. Я в того мальчика тоже такой пулей выстрелил, в голову. Нас учили, что в голову — это наверняка. Бывают, правда, редчайшие случаи, когда пуля между полушариями пройдет, навылет… Выстрелил, короче, а у нас оптика очень хорошая была, видно — как вас сейчас… И там вместо головы — фонтан какой-то из крови и мозгов, головы уже не было!..
В палате тягостно молчали, старичок Иванов беззвучно плакал, а потрясенный Слегин думал о том, как страшно умереть вот так — внезапно, без покаяния…
* * *
Слегин спал, и ему снилось позднее зимнее утро, черно-белое кладбище и цветные небо, солнце, купол. Павел стоял на обочине дороги, ведущей к храму, и просил милостыню. Прислушавшись к себе, он вдруг понял, что молится о людях, идущих к поздней обедне, и больничному сновидцу стало стыдно, как бывает стыдно ложиться спать, не омывшись, на чистые простыни.
Юродивый ощутил внезапный стыд и, объяснив его собственной греховностью, помолился и о себе. Вскоре справа от него солнечно полыхнуло, и он увидел лучезарного духа. Перекрестив неведомого посланника, человек улыбнулся, перекрестился сам и поклонился Ангелу.
— Хранителю мой святый, а почему ты такой внезапный и яркий? — поинтересовался Павел, восклонившись и улыбнувшись.
— Но ведь ты же не вздрогнул и не сощурился, — ответствовал Ангел слегка смущенно. — А для других я невидим.
— Прости меня! — воскликнул человек, пав на колени, чем вызвал смех соседних нищих.
— Бог простит. И ты меня прости, — молвил небожитель, помогая Павлу подняться.
Некоторое время они совместно молились о прохожих: Ангел подсказывал имена и раскланивался с коллегами, а человек поименно молился о мимоидущих людях и тоже кланялся Ангелам-хранителям, становившимся на мгновение видимыми, будто в темноте на них направляли луч фонаря.
— И как голова не отвалится… — пробормотала соседняя нищенка, завистливо глядя в плошку Павла.
Тот улыбнулся, взял плошку с подаянием и, пересыпав монетки в кружку соседней нищенки, вернулся к улыбающемуся Ангелу и продолжил молитву.
Когда людской поток иссяк, юродивый спросил:
— Мне идти на службу?
— Как хочешь, — ответил Ангел. — Раннюю обедню ты уже отстоял, так что можешь и не ходить.
— Значит, домой?
— Подожди немножко. Сейчас сюда спешит отрок Геннадий. Он всегда опаздывает на службу минут на двадцать или полчаса и по пути непрестанно творит молитву Иисусову. Я хочу, чтобы ты помолился о нем.
Павел исполнил желание Ангела.
— Я хочу, чтобы ты увидел его и запомнил, — продолжил небожитель.
— А зачем?
— Может случиться так, что тебе это будет необходимо. А пока я кое-что расскажу о нем…
Павел хорошо запомнил ангелов рассказ и того непунктуального паренька, бросившего монетку в его плошку, — очень бледного, несмотря на мороз и тяжкое дыхание.
— Святый Ангеле, — обратился Павел после того, как Геннадий скрылся за церковной оградой. — Я забывчив и недогадлив, а ты всё видишь. Расскажи мне о моих грехах.
— Человек, видящий свои грехи, выше человека, видящего Ангелов, — с улыбкой процитировал вопрошаемый. — Расти, Павел.
— Постараюсь. Прости меня.
— Бог простит. И ты меня прости.
— Не уходи, Ангеле!
— Я ухожу в невидимость, но я рядом.
— Последний вопрос, Ангеле! Почему я больше не вижу бесов?
— А разве ты хочешь их видеть?
— Нет.
— Если захочешь вновь видеть их, попроси об этом у Господа или основательно согреши. Но вообще-то не советую.
— Ангеле!..
— До свидания, Павел.
Слегин проснулся заплаканным, утерся пододеяльником и около получаса думал о чем-то настолько самоуглубленно, что не замечал окружающего. Наконец он вынырнул из собственных глубин и увидел справа от себя, за окном, мутную предрассветность, а слева, с соседней кровати, услышал хриплое дыхание старичка Иванова.
— Коля! — позвал Павел вполголоса. — Тебе плохо? Может, кислородную подушку?
— Да! — придушенно прохрипел тот.
Слегин вскочил, наскоро оделся и поспешно пошел за медсестрой: теперь он уже не задыхался при ходьбе. Было раннее утро среды, на медпосту сидела сестричка Света и, высунув кончик языка, что-то медленно и красиво записывала в большой клетчатой тетради при желтом свете настольной лампы.
— Доброго здоровья.
— Здравствуйте, Павел.
— Иванову нужна кислородная подушка.
— Опять?! — воскликнула девушка и сорвалась с места.
Вскоре на груди Иванова, словно огромная ромбообразная бутыль, лежала кислородная подушка, и он жадно сосал ее содержимое через беленькую пластмассовую соску. Включили свет, разнесли градусники, потом рассвело и свет выключили, а старичок всё сосал и сосал кислород, уже без жадности, а подушка всё уплощалась и уплощалась, перемещаясь из трехмерного в двухмерное пространство. Накислородившийся Коля порозовел и повеселел, а бездыханная подушка, скатанная рулетиком, была унесена прочь.
На завтрак еще не звали, а Иванов уже успел принять два укола, выдышать подушку кислорода и теперь лежал под капельницей. Когда рот его освободился от соски, он сказал:
— Спасибо, Павел. Я сегодня точно бы помер, если б не ты.
— Всё в руках Божьих.
— Это точно. И еще говорят, что перед смертью не надышишься. — Он замолк, слушая, не скажет ли сосед чего-нибудь успокоительного, но тот был тих, и пришлось продолжить: — Я чую, не выйти мне отсюда. Не сегодня, так завтра — в ВЧК. — Вновь обоюдное молчание и вновь необходимость договаривать: — В деревне — сын беспутный, пропьет все на… Прости, Павел.
— Бог простит. И ты меня прости.
— Что же мне делать?
— Ты крещеный?
— Да.
— Тогда — собороваться.
— Ничего себе советик, — усмехнулся Иванов. — Я, можа, и не помру, а ты меня уже отпевать снаряжаешь.
— Соборование — это не отпевание, — терпеливо объяснил Слегин. — Соборование — это одно из семи церковных таинств, помазание елеем больных. После этого таинства совсем не обязательно умирать. Наоборот — иногда происходит чудесное исцеление. И самое главное — при соборовании прощаются грехи, о которых забыл, и можно исповедоваться в грехах, которые помнишь. И еще сразу после соборования можно причаститься. А насчет помереть или не помереть — это уже как Бог даст.
— Складно говоришь, — иронично прокомментировал Коля. — А сам-то ты соборовался хоть раз?
— Конечно, — ответил Павел с улыбкой. — Если боишься, я и сам вместе с тобой соборуюсь, хоть завтра. А я пока помирать не собираюсь — честное слово. Завтра отец Димитрий, скорее всего, придет причащать меня, так что я сегодня же позвоню ему и скажу, чтобы…
— Погоди, Павел. Мне надо подумать. Но если что — чтобы вместе.
— Договорились.
После завтрака к Леше пришли мать и невеста и подробно говорили о свадьбе. Жениху слегка полегчало: сильный антибиотик подействовал надлежащим образом, кашель смягчился от барсучьего жира, и заведующая отделением обещала, если состояние больного еще более улучшится, отпустить его на сутки под расписку. По замыслу заведующей, перед регистрацией брака Леше необходимо было сделать два укола, после которых более получаса придется хромать, затем ни к какому памятнику, конечно же, не ездить, во время застолья не пить, а в брачную ночь следовало непременно полежать под капельницей.
— И только попробуй не сделать! — сердито добавила мать, увидев на лице сына ухмылку.
— Завтра утром Мишка из Москвы приедет, — сообщила невеста. — Может, сразу к тебе зайдет.
— Круто! — обрадовался жених.
После тихого часа к Иванову пришли родственники и очень обеспокоились его состоянием. Павел видел, как дочь Коли остановила в коридоре Марию Викторовну, о чем-то спросила, получила ответ и, резко и глубоко вздохнув, прижала ладонь к приоткрытому рту. Затем она пошла звонить по телефону, и вскоре родственников прибавилось. Они всё приезжали и приезжали, и старичок обреченно плакал, а Михаил, Павел и Леша ушли из палаты, чтобы не видеть тягостного.
В холле, заставленном различными растениями в горшках и кадках, а также жестковатыми креслами, работал телевизор, и трое из палаты № 0 приютились там. Шла какая-то передача, в которой нужно было отвечать на вопросы, а поскольку остальные телезрители старались отвечать, отвечал и Павел. Вскоре на него стали уважительно поглядывать, и это было приятно ему.
Через некоторое время к Слегину подошла дочь Иванова и отозвала в сторонку.
— Отец хочет собороваться, — проговорила она глухим голосом. — Он сказал, что вы тоже будете и можете позвонить какому-то священнику. Наверное, лучше договориться на завтрашнее утро. Врачи нас сейчас выгоняют, говорят, что мы его расстраиваем, и разрешили прийти только завтра, с утра. — Она потянула носом и сглотнула. — Поэтому нужно позвонить сейчас.
— Я понял. Пойдемте, — ответил Павел.
— Доброго здоровья, — говорил он через пару минут. — Отца Димитрия можно к телефону?.. Благословите, отче… Прости, я забыл… Спаси Бог, у меня нормально, а вот одного раба Божия из нашей палаты надо соборовать. Ты не занят завтра утром?.. Слава Богу. И меня тогда вместе с ним соборуй, а то он один боится… Знаю, что мне и так нужно, просто после больницы собирался… Отец Димитрий, тут его дочь стоит рядом. Передаю трубку.
— Здравствуйте, святой отец, — взволнованно сказала женщина, покраснела и поправилась: — Батюшка. Простите, я со священником первый раз… Скажите, пожалуйста, что нужно для этой процедуры?.. Простите, таинства… Восемь свечей… А зачем миска с крупой?.. Понятно, я и не подумала… Да, крещеный, только крестика не носит… Значит, купить и надеть. Ясно. А сколько это времени займет?.. Я думала, меньше. Тогда, наверное, к половине восьмого надо подойти, чтобы до завтрака… Да, встречаемся завтра внизу, в половине восьмого. И еще, простите, но сколько я буду вам должна?.. Ну, это несерьезно: должен же быть какой-то тариф… Простите… Да, до завтра.
— Странно как-то, — озадаченно пробормотала она, стоя перед оглохшим телефоном. — Дадут — спаси Бог, и не дадут — спаси Бог… Человек же трудится, время затрачивает…
— У него служба такая — он не имеет права отказать, — проговорил Павел.
— Ну а всё-таки — сколько?
Слегин сказал, сколько берут за соборование в церкви, и попросил купить не восемь, а девять свечек (семь на стол плюс по одной в руки — Коле и ему).
— Деньги я отдам, — добавил он.
— Какие деньги, что вы!.. — воскликнула женщина и, махнув рукой, пошла прочь.
Ранним утром следующего дня старичок Иванов тихо беседовал со Слегиным.
— Я, Павел, никогда не исповедовался. Волнуюсь. Потренироваться хочу.
— Но ведь я не священник.
— Ты, Павел, хороший мужик. Послушай. Я тебе только об одном расскажу. Просто, по-человечески.
— Слушаю.
— Я ведь тоже человека убил.
Павел вздрогнул от этого «тоже».
— Как вон Лешка, снайпер-то, — продолжил Коля. — Только я не на войне: в войну я пацаном был. Это уж после, на грузовике задавил, выпимши. И голова под колесо попала — тоже фонтан… Отсидел, как полагается, а спокойствия нет. Детишек вон настрогал — взамен, что ли… Вот и всё. Чтоб ты знал.
— Спаси Бог, — спокойно сказал Павел и с улыбкой добавил: — А я, чтоб ты знал, гораздо грешнее.
Он поднялся с постели и стал одеваться.
— Павел! — позвал старичок. — Правильно креститься — вот так вот?
— Да, — подтвердил тот и отправился в пальмовую молельную.
Вскоре пришли отец Димитрий и Колина дочь. На шею Иванова повесили серебряный крестик на тонкой цепочке, больничный стол вновь очистили от пузырьков с микстурой и застелили красным платом, на столе оказалась большая эмалированная миска с рисом, в которой были установлены семь свечей. Вся палата завороженно смотрела, как священник раскладывает на красном плате необходимое, как наматывает ваточные наконечники на семь спичек, как затепливает рисовый семисвечник от зажигалки и дает две иные горящие свечи Николаю и Павлу.
Иерей читал длинную молитву, начинающуюся со слов: «Отче Святый, Врачу душ и телес наших…», потом — Апостол и Евангелие, а после помазывал елеем лоб, ладони и грудь соборуемых, напевая:
— Исцели ны*, Господи. Исцели, Владыко. Исцели ны, Святый.
Затем он вынимал из риса свечку, тушил ее и откладывал в сторону, рядом с использованной ваточной спичкой.
Это повторялось семь раз.
Николай, полулежавший на двух подушках так, чтобы видеть, и Павел, стоявший позади батюшки, были торжественны и крестились, когда крестился тот, а их лоб, внешняя сторона ладоней и приоткрытая грудь блестели от масла. Когда все свечки были потушены, началась исповедь, и посторонние вышли из палаты, хотя их и не просили. Затем исповедуемые причастились и поцеловали крест.
— Слава Богу! — сказал отец Димитрий по окончании, попрощался со всеми и ушел.
Вскоре позвали завтракать, а после завтрака Лешу посетил долгожданный Миша из Москвы. Леша крайне обрадовался, обнял посетителя, усадил, стал расспрашивать. Судя по разговору, они были одноклассниками, а нынче Миша вона как — москвич. Говорили про общих знакомых (кто где, кто с кем), про больницу и свадьбу, про Москву.
— Эх, мы и погудели на Новый год! — смачно повествовал приезжий. — Компания — человек десять. Прикинь, мы ещё когда на хату ехали, еще трезвые… Ты метро видел?
— Да.
— Так вот, там вдоль поручней эскалаторов такие желоба, и по этим желобам постоянно сверху монетки пускают — прямо до низу звенит. Прикольно, там внизу всегда бомжи пасутся. Я один раз видел, как одна старуха внизу подняла монетку и перекрестилась, будто это ей подали, — умора… Так вот, когда еще по трезвянке поднимались наверх, мы сверху, прикинь, по этому желобу петарду немаленькую запустили. Эх, она и долбанула! Как атомный взрыв! И это, ты учти, по трезвянке. А что потом было!..
Поговорили о том, что было потом, посмеялись, разузнали о финансовых делах друг друга, позавидовали-посочувствовали и расстались.
— Вот ведь! — воскликнул Леша после ухода Миши. — В одном классе учились. А где я — и где он…
— Нет, ну какие бабки у людей! — вновь воскликнул он после получасового молчания.
А на обходе Мария Викторовна обрадовала сразу двух человек — Колобова и Слегина, сказав, чтобы завтра сдавали анализы и что если всё будет благополучно, то в понедельник на выписку.
— А почему не в субботу? — возмутился Колобов.
— В выходные я не работаю, если нет дежурства, — ответила врач. — Пора бы уже запомнить.
Леша шутейно сообщил доктору, что готовится к исполнению супружеских обязанностей, в ответ на что был профессионально припугнут и утихомирен.
А Иванову Мария Викторовна с удовольствием сказала, что выглядит он значительно лучше, что пульс славный и что вообще всё это как-то странно.
— Это всё соборование! — радостно повторял Николай. — Это всё Господь!
Долго ли, коротко ли, но наступил вечер, и Павел, привычно зайдя за кадку с пальмой и глядя в заоконную тьму, принялся молиться. Внезапно он вздрогнул, поспешно перекрестил пространство справа от себя, светло улыбнулся и, перекрестившись сам, поклонился.
— Давно не виделись, — прошептал он, распрямившись.
А ночью, во время черно-белого сна, где о чем-то важном спорили демоны с Ангелами, умер раб Божий Николай.
* * *
Сиденье было очень жестким, белые занавески задернуты, рядышком, на том же плоскотелом коричневом топчане, — мама. «Трясет, как в грузовике», — подумал он, опершись локтями о колени, свесив невыносимо тяжелую голову и слушая, как что-то легкое, пустотелое подпрыгивает на каждом ухабе одновременно с его головой и гремит, гремит…
Приехали. Мама и санитар помогли ему выбраться из машины «скорой» и он, слегка страхуемый мамой («Сам! Сам!»), медленно пошел вслед за санитаром или врачом — он их не различал. В приемном отделении ему задавали какие-то вопросы, мерили давление и протягивали градусник, а он не мог самостоятельно снять свитер, не мог расстегнуть тугую верхнюю пуговицу рубашки… Без свитера ему было очень холодно: трясло, зубы дробно стучали, а из прикушенного языка сочилась кровь.
Плетясь на флюорографию по длинному-длинному коридору, он уже без стеснения полновесно опирался на маму. Впрочем, он был легок, а в дни болезни стал еще легче. На флюорографии его худосочные чресла окольцевали тяжелым, невыносимо тяжелым свинцовым поясом и попросили стоять прямо и не дышать. «Лежать прямо и не дышать», — мрачновато переиначил он.
Вскоре он прямо лежал на топчане и смотрел в высокий белый потолок, а одесную стояла стройная металлическая подставка с мутной капельницей. Потом за ним пришла мама и проводила в палату со странным номером. «Что же в нем такого странного? — думал больной, тихо поздоровавшись с однопалатниками и направляясь к свободной свежезастеленной кровати. — Четыреста… Четверка — этаж! Палата № 0!».
— Ты что, Гена? — спросила мама, остановившись на полпути вместе с сыном.
— Ничего, — ответил тот, дошел до кровати и сел, отметив, что на тумбочке лежит их опустевшая сумка.
С двух кроватей, расположенных по другую сторону широкого прохода, на Гену кратковременно и будто бы виновато взглядывали мясистый мужчина лет пятидесяти и крепенький паренек немного постарше самого юноши. «Словно что-то знают, а не говорят, — подумал он. — Да нет, что они могут обо мне знать…». А бородатый длинноволосый мужчина с соседней кровати, очень похожий на священника, смотрел на него и приветливо улыбался.
— Меня Павел зовут, — сказал мужчина, и юноше показалось, что он уже где-то видел соседа и слышал его голос. — Я скоро выпишусь — можешь тогда перебраться на мою кровать.
— Спасибо. Меня зовут Геной.
— Спасибо, — сказала и мама, и ей показалось, что она уже где-то видела этого человека. — Ему будет хорошо у окна.
«У окна, — подумала она, силясь вспомнить. — Именно у окна».
— За что ж вы меня благодарите? — удивился Павел. — Если бы я сейчас предложил меняться — тогда понятно…
— Всё равно спасибо. Извините, Павел, меня Тамарой зовут, скажите: мы с вами нигде не встречались?
— Может быть, мельком, в общественном транспорте… Городок-то маленький.
— Да, наверное…
Павел, человек, как видно, общительный, очень забавно рассказывал о больничных порядках, о кормежке и процедурах и вскоре ободрительно наставлял:
— Держись, Гена. Улыбайся почаще, молиться не забывай.
— А как вы узнали?
— Это заметно.
— А по вам, кстати, тоже заметно.
— Спаси Бог.
В палату вошла Мария Викторовна, внимательно глянула на веселого Павла и оживленного новенького, улыбнулась и сказала:
— Доброго здоровья. Валерьев Геннадий Владимирович?
— Да.
— Полных лет восемнадцать, педуниверситет… Вы раздевайтесь, раздевайтесь… И на каком факультете такие тощие студенты учатся?
— На филологическом, на первом курсе.
— Ясно. Сессию успели сдать до болезни?
— Успел. Все пятерки.
— Замечательно. А болеете давно?
— Дней десять. Думал, грипп, а температура всё держится и держится…
— Давайте я вас послушаю.
Павел сидел на соседней кровати, сосредоточенно глядя в окно, и перед уходом доктор мимолетно и незаметно коснулась ладонью его плеча, крепко сжала и тотчас же отпустила.
Так начался первый больничный день Гены Валерьева, и был тот день пятницей, и запомнился он надолго.
В ту пятницу юноша узнал, что у него правосторонняя нижнедолевая пневмония (осложнение после гриппа), и точный диагноз, хотя и неутешительный, его немножко приободрил. Весьма ободряли и жизнерадостные рассказы Павла Слегина с соседней койки (Гена узнал в ту пятницу имена и фамилии всех обитателей палаты). Еще он узнал, что парень по имени Леша завтра женится (!) и потому сегодня, после тихого часа, прихватив капельницы и шприцы с ампулами, смотается.
Валерьев был свидетелем любопытной сценки: Леша подошел к Павлу и спросил:
— Скажите, а можно нам с Любкой повенчаться?
— Не можно, а нужно.
— Но она, понимаете, уже беременна.
— Я понял, Леша. В идеале, конечно, невеста должна быть невинной, но по нынешним временам это большая редкость. Можно и до рождения ребенка обвенчаться, можно и после. Главное — не забыть.
— Спасибо. А я думал, уже всё, поздно. И еще я что хотел спросить… Этот отец Димитрий — он в какой церкви работает?
— Служит.
— Служит, черт.
— Просто служит. В Крестовоздвиженской.
— Это где такая?
Павел объяснил.
А Михаил Колобов был в ту пятницу мрачен и неразговорчив.
Если бы не мама и не этот странный Павел, говоривший именно тогда, когда надо, и именно то, что надо, и когда надо умолкавший, — если бы не он и не мама, Гена, несомненно, впал бы в мрачное безразличие. И повод к сумрачному настроению у Валерьева был гораздо более веский, нежели у Колобова: пятидесятилетний здоровяк увидел чужую смерть, а к восемнадцатилетнему юноше подкрадывалась своя собственная.
Когда снимок был готов, вокруг Гены сразу же засуетились врачи и медсестры. Слышались произносимые шепотом фразы: «сильная интоксикация», «возможен абсцесс». А то, что может последовать за непонятным абсцессом, больной ощущал всё явственнее и явственнее. Ему делали уколы, очень болезненные уколы, но боль была почти приятна, поскольку контрастировала с огненным телесным отупением. Большую часть времени в пятницу и последующие выходные он провел под капельницами.
То ли из-за полусгнившего легкого, то ли от огромного количества антибиотиков у него началась рвота, и продолжалась она с вечера пятницы до воскресного вечера. Он ничего не ел, но рвота не прекращалась, и во время приступов, свесившись к металлическому эмалированному судну, он думал: «Господи, лучше умереть!». А кашлял он так, что звенели стекла.
Гена через соломинку пил яблочный сок с мякотью, слушал веселого Павла и с наслаждением сухогубо целовал мамины руки, а из глаз его текли слезы и впитывались в подушку. Мама всё время была рядом, даже ночи она проводила в больнице: спала вполглаза на свободной койке в соседней женской палате, и многие больные, врачи и медсестры ободряюще улыбались Тамаре.
С тех пор как началась рвота, юноша почти не замечал того, что происходило в палате: голос Павла, мамины недоцелованные руки, а остальное неважно, неважно… Но кое-что он всё-таки запомнил: в воскресенье, ближе к вечеру, вернулся Леша, и Михаил поинтересовался:
— В кольце не жарко?
Леша усмехнулся, а Гена улыбнулся.
Позвали ужинать, и Тамара спросила:
— Может, поешь? Картофельное пюре с квашеной капустой — вкусно, наверное.
— Возьми и съешь сама, — ответил сын чуть слышно. — Меня всё равно вырвет.
Она взяла и съела, а юноша стал задремывать, но вдруг встрепенулся, непонимающе посмотрел на потолок, на маму, моргнул, улыбнулся, закрыл глаза, но, пролежав несколько минут, вновь содрогнулся и резко сел на кровати, глядя прямо перед собой.
— Что ты? — с беспокойством спросила мама.
— Погоди… — пробормотал Гена, вновь улегся и проспал около получаса.
— Против Бога они ничего не могут! — со счастливой дрожью в голосе сказал он, проснувшись.
— Кто?
— Бесы! — ответил он на мамин вопрос и стал взволнованно рассказывать, со слезами и бесконечной улыбкой, мешающей говорить. — Бесы бессильны! Я, помнишь, резко просыпался два раза… Это мне снился один и тот же сон, или это бред был… Меня волочили по коридору из сырого мяса, а потом бросали в глаза ежа, и еж протыкал глаза, и я просыпался… А потом я сообразил и стал читать молитву Иисусову, и знаешь, что мне приснилось? Церковная парча с золотыми узорами, а потом церковь и центральное паникадило, и я был будто бы совсем рядом с паникадилом, немножко сверху, я видел эти большие цепи — ну, те, на которых паникадило висит, и на них пыль была… А потом — иконы, иконы (точнее, фрески), и я будто бы смотрю на них не снизу, а откуда-то повыше, на уровне ликов, и так легко мне было, и так хорошо сейчас… Мама, послушай! Я бессмертен, и Господь меня любит! Мама, я хочу, чтобы мы с тобой и после смерти были вместе!..
Он восторженно разрыдался, а когда успокоился, начал проповедовать. Он пересказал ей главные события Библии, рассказал о христианстве, Церкви и значении православных таинств, и слова его были просты и точны, и он не выбирал их, но радовался, что они ему даны.
— И вот тебе мое желание, — сказал он в конце, почти полностью обессилев. — Если я умру, постарайся стать христианкой.
— Если ты умрешь, я тоже жить не буду.
— Только попробуй! — с угрозой прошептал юноша. — Тогда мы точно не встретимся. Короче, ты слышала. А умирать я пока не собираюсь — я эту сволочь задушу! — жизнелюбиво проговорил он, под сволочью подразумевая болезнь, — и прикрыл глаза веками.
Ни на какое иное действие сил у Гены не осталось.
Они плыли на лодке — обычной обшарпанной лодке, какую им вполне могли бы дать напрокат на любой лодочной станции. Павел весьма поверхностно греб веслами, словно его задачей было не плыть куда-то, а всего лишь кропить водой Гену, сидящего на корме. Юноша щурился и улыбался от водяных брызг и солнечных лучей. «Наверное, утро, — подумал он, — и мы плывем к солнцу, на восток».
— Ты видел когда-нибудь Галилейское море? — спросил гребец.
— Нет, — ответил Гена.
— Смотри.
— Ах, как я угадал! — воскликнул юноша, оглядевшись. — У меня есть рассказ про Галилейское море.
— Я знаю, — сказал собеседник.
Гена задумчиво помолчал, а потом спросил:
— Ты Ангел?
— Нет. Но я вестник. Я послан сообщить, что ты выздоровеешь.
— А разве я болен? — удивился юноша и вспомнил, что действительно болен.
Вспомнил он и Павла и, улыбнувшись, сказал:
— Здравствуй, Павел.
— Здравствуй, Гена, — ответил тот и, улыбнувшись, спросил: — В церковь всё опаздываешь?
— Опаздываю. А откуда ты знаешь?
— Я про тебя много чего знаю, — уклончиво ответствовал вестник.
— Павел, а ведь у тебя крылья, — заметил Гена.
— У тебя, Гена, тоже крылья.
— Но я своих не вижу.
— И я своих не вижу. А вообще, юноша, у каждого человека есть крылья, даже у величайших грешников, — пусть грязные, переломанные — но есть. И нужно научиться видеть эти крылья и любить людей за них.
— Хорошая метафора. Жаль, что я снов не помню.
— Этот сон ты запомнишь, если не захочешь забыть. — Павел вдруг перестал грести и несколько мгновений смотрел вправо, потом нагнул голову, словно согласно кивнул кому-то, и сказал: — Скоро я покину тебя, Гена, а потому слушай внимательно и не перебивай. Маме своей говори почаще, что Христос воскрес. А то года три назад я слышал, как она рассказывала, что Он и не умирал, просто замедлил сердце, а из гроба телепортировался, жил долго и счастливо и умер во Франции… Господи, помилуй нас, грешных!
— Откуда?!
— Она рассказывала об этом подружкам в троллейбусе — очень тяжко было слушать. Ты, Гена, попробуй ей как-нибудь объяснить, что Бог поругаем не бывает. Ругателей жалко — вот в чем дело, а тебе она мать. К тому же и у нее крылья есть — не зря ты ей руки целуешь.
— Павел, прости, что перебиваю. Я вспомнил, как проповедовал сегодня… Неужели…
— Молчи и радуйся, — строго сказал вестник. — Напоследок дам тебе два совета. Во-первых, в нескольких шагах от палаты есть замечательная пальмовая молельня. Телесно я сейчас нахожусь там, и никто меня не замечает, так что имей ее в виду. Во-вторых, тебе надо причащаться, желательно раз в неделю. Рвоты у тебя больше не будет, не бойся. Когда проснешься, дам тебе телефон отца Димитрия — он очень хороший священник. А теперь мне пора.
— Павел, последнее! Что там за толпа на берегу?
— Там проповедует и исцеляет галилеянин Иисус.
— Господи!
— Садись на весла и греби. Может быть, доплывешь раньше, чем проснешься. Прощай.
Павел поднялся, качнув лодку, взмахнул крыльями и, перекрестившись, коснулся лбом прохладного оконного стекла. А за окном, в кромешной тьме, притаился снег — очень много снега. Фонарь почему-то не горел, и снег терпеливо дожидался солнца, чтобы стать сначала стыдливо-розовым, а затем — белым.
Рецепт
Проснувшись утром, Гена Валерьев первым делом посмотрел на соседнюю кровать. Павел уже оделся и с удовольствием снимал постельное белье, тихонько напевая Символ веры. Закончив, он поинтересовался:
— Как спалось?
— Хорошо. Вас во сне видел, — ответил юноша, чуть помедлил и спросил: — А вы не дадите мне телефон отца Димитрия?
Слегин молча протянул ему сложенную вдвое записку.
Валерьев молча развернул ее и прочел.
Наверху стоял крестик.
Далее следовал телефон отца Димитрия.
Ниже была приписка:
«Желаю скорейшего выздоровления. Не забывай о пальмовой молельне. Молись обо мне.
Раб Божий Павел».Виктор Дрожников НЕТ СПАСЕНИЯ (Рассказ)
Я пытался расстаться с опиумом несколько раз. И тысячи раз, миллионы раз об этом думал. По нескольку раз в день праведная мысль посещала мой разлагающийся мозг почти с самого начала животного существования, в которое я оказался затянут глубокой зависимостью.
Чисто завязать, соскочить с иглы, перекумарить… Об этом я мечтал постоянно и навязчиво, продолжая тем не менее влачить убогое существование. Мечтал в плавной тишине одинокого дурмана, грезил перед коматозным сном и в рассветной спасительной суете, бредил в черные дни ломок. И если случайный добрый волшебник поинтересовался бы у меня о самом сокровенном желании, то скорее всего услышал именно великое слово «свобода».
Свобода от ежедневного диктата опиума. Освобождение от измочалившего нервы страха. Очищение от въедливой гнили притонов. Избавление от непременного созерцания уродливых лиц — уже не человеков — низких тварей в людском обличии. Свобода от рабства, такая минимально близкая, что кажется, вот-вот перетерпеть, превозмочь, вырвать бесовский зов волей из памяти, и всё; и, одновременно, навсегда далекая; ведь страсть, единожды завладев помыслами, умрет только вместе с исстрадавшимся телом, не иначе.
И я поспорил. Взял и поспорил. Заключил жестокое пари, что смогу завязать. Навсегда и только благодаря своей силе воли.
Идиот… Какой опрометчивый поступок!
Я употребляю несколько лет — больше четырех, но сколько точно, моей памяти уже неподвластно; стираются грани…
Безумец… Даже не потому, что травлюсь: потому, что поспорил. На свой палец. На маленький стройный мизинчик. На то, что сам его отрублю. По первую фалангу. Как в рассказе Стивена Кинга о завязавших курильщиках.
Дикость, конечно, невообразимая…
В деталях описывать серые наркоманские годы нет ни малейшего желания. Да и что, собственно, описывать? Бесконечное «варево» и уколы, бесконечный поиск денег и бесконечное уныние? Единственное, что произошло кардинального, так это то, что вместо хорошего героина я, из-за предельного ограничения средств, перешел на «чернягу» — дешевый опиум-сырец, и нагнал такую дикую дозу, что окружающие меня нелюди удивлялись моей живучести. Хотя это отнюдь не подвиг. Это проявление обычной наркотической жадности.
Деградировал я конкретно и, казалось бы, бесповоротно. Многие считали, что уже всё, и деградант не вырулит никогда. Тем более, попытки «переломаться» и «спрыгнуть» последнее время происходили только на словах. Я постоянно собирался бросить, всем об этом рассказывал, кое-кого призывал в единомышленники. Но абсолютно ничего не предпринимал. Только разглагольствовал о предстоящем подвиге.
Я часто представлял ослепительный миг прощания с гнилым бытием и обретения вожделенной свободы. Но почти всегда это происходило после того, как я нашпиговывался опиумом до безобразного, скотского состояния. Только тогда я обретал уверенность и мог слепо и свято верить в будущую победу. В глубине души я еще лелеял малюсенький огонек надежды, что судьба все же повернется иначе и появится шанс выжить после нескольких лет запойного безумия. Что-то внутри все-таки оставляло крохотную веру в то, что я смогу выкарабкаться. Пусть когда-нибудь, но все же смогу. Конкретно это «когда-нибудь» наступало уже трижды, и я бросался в открывшийся просвет из мира теней, но… вскоре включал задний ход, так ни разу и не доведя начатого до логического конца.
В один из своих традиционных вечеров я заседал в одном из засранных притонов, имеющих место быть незаметно глазу простого обывателя практически по всему городу. Раскумаренный просто «в пополам», я ловил каких-то недоступных «невооруженному» глазу галлюциногенных димедрольных мух, очень назойливых и неуловимых. В паузах между их ожесточенными атаками я зависал и, сосредоточенный на чем-то своем, упирался головой в обшарпанный кухонный стол. Но мухи-привидения спокойно расслабиться не давали — их приходилось постоянно отгонять. Не отдых, а настоящая виртуальная война, бескровное побоище с легионами призраков. И бился я довольно-таки долго, прежде чем изгнал полчища куда-то в бесконечность. Переполненный победной эйфорией, я смог наконец-то с легким сердцем боднуть головой поверхность стола и полностью отдаться во власть убийственной тяги.
Спустя час, когда мощная тяга пошла на убыль и я обрел способность более-менее связно владеть мыслями и речью, в лице спутника по наркотическим «трипам», тоже приходившего в себя, нашел оппонента в извечном наркоманском диалоге о том, кто, как и когда перекумарил и что из этого вышло.
Самое интересное и трагичное в том, что кто бы, как бы и где бы ни «переламывался» и лечился, сколько бы страданий ни переносил, желая скинуть ярмо и превращаясь в этакого героя для ошалевшей от наркоты публики, его воздержание заканчивалось сразу же после выхода в свет из квартиры, приезда из деревни или выписки из наркодиспансера. Стоило ногам героя ступить на «землю обетованную»’ и прокуренным туберкулезным легким наполниться зловонным ароматом курмышей, как биение сердца в предвкушении учащалось, и после кратких весов сомнения ноги сами несли героя по знакомым тропам к притонам и блат-хатам. И всё — нет героя, как и не было…
Вот тогда-то, где-то на двадцатой минуте разговора и произошел тот роковой поворот.
— Нет, это неизлечимая какая-то беда, — изрек уже окончательно пришедший в себя Алекс. — Чтобы от этого избавиться, надо старую голову отрезать и новую пришить.
— Ничего подобного, — ответил не менее пришедший в себя я. — Все дело в силе воли, в крутизне характера. Если ты — кремень, то сможешь перекумарить и больше к отраве не прикасаться.
— Я таких кремней не встречал. Знаю бродяг, которых тюрьма спасла, да и то — на время. А стоило на волю выйти, как тут же снова начинал каляться.
— Правильно, если человека насильно, против его воли лишить кайфа, то в башке его только и будет свербить, вот выйду, мол, и раскумарюсь. Некоторым по нескольку лет от тоски по зелью «приходы» снятся. А чтобы завязать, надо, чтоб желание от сердца шло.
Мы закурили по одной сразу же после выкуренной другой. Курили «Приму» — хит местной табачной фабрики, — мерзость, конечно, ужасная, но зато дешево. А то, что канцерогенов много — агитация. Наркоманы от канцерогенов не мрут, в их протравленных потрохах канцерогены не приживаются. Закурили, и диалог продолжился, приобретая уже некоторую личностную остроту.
— Да вот меня сколько раз допекало, — Алекс на собственном тощем горлышке ребром ладони показал предел того, на сколько это допекание доходило. — И вроде бы все, переломался, жить можно с чистого листа, а нет, в голове все мысли только об уколе. Ну, разок, думаю, ширнусь, а там, глядишь, и снова в болоте с головой.
— Это, Алекс, потому, что ты слаб, не можешь перед соблазном устоять. Нет у тебя характера. Он, конечно, может, и есть, только такой же тщедушный, как ты сам.
— Да и ты такой же. Не лучше. И не рисуйся тут каленым, — мой оппонент принял брошенную перчатку и завелся. — У тебя тоже кишка тонка, чтобы спрыгнуть.
— Не тонка, — молвил я спокойно, даже надменно, дабы произвести впечатление внушительности.
— Конечно, брат, переболеть-то ты сможешь, но потом снова начнешь, — задетый Алекс не унимался.
— Не начну. Был бы стимул весомый, аргумент. Вот если бы я поспорил на что-нибудь значимое, стимул бы появился, и я бы все смог.
— Я бы поспорил с тобой, — моментально среагировал ущербный кореш. — Поспорил бы на твой… палец.
— А ты тогда свой ставь. Чтоб равноценно было. — Происходящее приятно щекотало нервы.
— Не, я не выдержу. Я знаю. Да и ты не выдержишь. Только понтуешься сидишь.
Уж больно это все задело меня за живое. Точнее, за больное. Больное, воспаленное самолюбие, замешенное на преждевременно развившейся мании величия и опиумном бесстрашном тумане.
«Что я? Не смогу? — внутри меня бушевало искреннее на тот момент возмущение от столь необъективной оценки моих волевых качеств. — Да я! Да у меня! Воля стальная! Да я и сам весь стальной, крутой, каленый!!!»
Я бы не стал заключать пари со столь нелепым и кровавым условием. Членовредительство меня совершенно не прельщало. Но по более чем странному стечению обстоятельств, именно в тот период — буквально несколько дней назад — начался казавшийся мне искренним и мощным порыв очередного озарения. Он нарастал в течение предыдущих дней и — о, горе — достиг своего апогея именно к теперешнему моменту. А тут еще и стимул нарисовался: задето, поранено, уязвлено самолюбие. Да и протравленному обкайфованному мозгу кажется, что нет места невозможному.
Одним словом, я клюнул, заглотил наживку проказницы-судьбы. Все карты сошлись в этом нелепом пасьянсе. Так встали звезды. Ветер предстоящей свободы задул в косматый затылок: если не сейчас, то уже никогда.
После получаса препирательств по поводу условий спора мы наконец-то пришли к согласованному окончательному варианту и заключили пари.
Условия на тот момент меня устраивали: с завтрашнего дня я не прикасаюсь к шприцу и не употребляю ничего, что меняло бы психо-эмоциональное состояние, кроме алкоголя. Алекс может меня проверить в любой момент времени в течение первых двух недель, и потом, если в течение месяца либо ловит меня «ужаленным», либо до него доходят слухи, достоверность которых проверяется в наркологическом диспансере анализом, я лишаюсь фаланги мизинчика. Если же выдерживаю пытку «на сухую», то мой оппонент будет в течение последующего месяца каждый день покупать мне фруктов или лекарств на пять баксов в день или рассчитываться наличными. В общем-то, справедливо.
Поздним вечером того же дня мы решили, что я имею полное право раскумариться в последний раз и, что называется, от души. Последнее желание — закон.
Я взял «ширева» у барыги, взял в долг, взял намеренно много, так как знал, что с завтрашнего дня опиум для меня — табу. И ужалился. Мы ужалились. С истинно прощальным размахом. Грандиозно. В соплю…
До поздней ночи я, с завтрашнего дня герой, и подстрекатель Алекс бодались с окружающей средой, втыкались при передвижении с закатанными глазами в возникавшие на нашем пути объекты — косяки, стены, двери, табуретки… Короче, «гуляли». Проводы в трезвую жизнь удались.
В середине ночи, когда сознание несколько прояснилось, мы побрели домой. Решимость, в преддверии здорового образа жизни, меня не покидала; страх перед неизбежным был забит в дальние, потаенные уголки подсознания, заглушен ударной дозой зелья.
Я знал, что справлюсь. Я был уверен в этом. На все сто.
Очнувшись утром, вернее, уже днем, я прошел на лоджию и закурил традиционную утреннюю сигаретку натощак.
Землю согревало и щедро дарило ей ультрафиолет яркое солнышко. В прозрачном монолите лазурного неба не наблюдалось ни единого вкрапления облаков. Внизу зеленел город… Но меня почему-то не радовало ни тепло солнечного дня, ни само солнце, ни природа-погода.
Щемящая и мягкая элегическая грусть вкралась в надруганное сердце, нежно ранила погибающую душу. Смутное, но прочное предчувствие безысходности предстоящего начинало меня тихонечко глодать. Я пытался взбодриться мыслями о том, что довольно-таки скоро, пройдя через боль ломок и круги психологического ада, начнется совсем иная, полная радости нормальная жизнь. Только вот от этих правильных мыслей настроение отнюдь не повышалось, а боевой дух почему-то не укреплялся. Как ни странно, но близость нормальной жизни, вчера казавшаяся вершиной здравомыслия и воодушевлявшая на подвиги во имя самого себя, сейчас не приносила ничего, кроме тоскливого уныния. Я чувствовал себя, будто смятая и ненужная старая газета…
Но я решил бороться за свою счастливую долю до конца. Денег на то, чтобы стать пациентом наркоклиники и избежать физических страданий, у меня не было, но мне вдруг показалось, что я смогу преодолеть непреодолимое. По крайней мере, отступать я не собирался.
«Раз уж взялся, значит, надо биться, — как-то вяло, без вчерашнего энтузиазма подумал я. — Надо!»
Хотя всегда легче всего сказать слово «надо». Просто сказать. Произнести вслух. А что за этим стоит?
Меня аж в легкую дрожь бросало от трезвого осознания собственной слабости и беспомощности перед ликами мощных обстоятельств. Я подбадривал себя, любимого, как мог, но это практически не помогало вернуть мыслям столь нужную боевитую твердость. От вчерашнего накала эмоций остались лишь дохленькие, явно угасающие лучики…
Сопли потекли уже к вечеру неостановимыми потоками, в три ручья. В теле появилась предательская слабость, словно силы высосали невидимые энергетические вампиры, и я обмяк. Делать что-либо абсолютно не хотелось — воцарилась немощь. Я только курил и курил мерзкие сигаретки.
Когда над родным городом тучи опустили «саван свой низкий» и наступила ночь, позвонил Алекс.
— Ну, как ты там? — голос его отчаянно хрипел.
— Держусь, — я был лаконичен и зол, я завидовал.
— Ну-ну, — гортанное французское «н» рассказало мне всё.
— Зайдешь? — я втайне лелеял надежду, что корефан занесёт-таки дозу из босяцкой солидарности. Но какое там!
— Да нет, пойду уколюсь на сон грядущий. У Лариски, говорят, отрава классная — пара «чеков» — и с копыт сшибает. — Жлобяра явно меня искушал.
— Ладно, пока. — Я не мог продолжать искушаться.
В ночь наступила ломота. Пока относительно легкая. Но непрерывно усиливающаяся. В первый раз «пробило днище» — дал о себе знать обязательный при «переламывании» понос — оранжево-зеленый.
Бессонница — вполне естественно. Смотрю видео. В одной позе долго лежать не могу. И недолго тоже. Поэтому постоянно ерзаю, ворочаюсь, предпринимаю всевозможные и крайне разнообразные в своей абсурдности телодвижения — гоню ломоту. Помогает, но не очень. Буквально после минуты покоя в новой позе, только что вроде бы удобной, тело с неизменной постоянностью обретает плавную, тянуще-ноющую ломоту во всех членах. Снова меняю положение… и так бесконечное число раз.
Поспать сегодня, завтра или послезавтра — дело совершенно невозможное. С другой стороны, от бессонницы еще никто не умирал… Умирали, вероятно, от безумия, ею вызванного. И эти мысли ничуть не утешают, как ни странно.
Лежу, копошусь и думаю: «Боже, во что я опять ввязался…», и чувствую, как рождается животный страх…
Именно ради того, чтобы отключиться от терзающей действительности, я и прожевал целый лист горького реладорма во времена самой первой попытки самоспасения несколько лет назад. И из-за этой по молодости допущенной ошибки я чуть было вовсе не лишился рассудка. Реладорм — препарат сильный, и в сумеречное состояние сознания я погрузился быстрее, нежели предполагал. Но что-то неведомое меня возбудило. И настолько, что в бессознательном буйном припадке я крушил свой дом, и ничто не могло меня остановить. Раздолбав, порубив и порезав все имущество, я все-таки пришел в себя, а еще несколько позже — к выводу, что лучше кончина в сладостном дурмане, чем психиатрическая больница в перспективе. И продолжил травлю…
Ну вот, и новое утро нового дня.
Позывы в туалет изматывающе часты. Извергаю из себя ту же оранжевую зловонную субстанцию. Опасаюсь, что случится геморрой.
Курю на лоджии сигареты каждые двадцать минут.
Аппетита нет и не предвидится. Сама мысль о еде вызывает отвращение. Пью сладкий чай и потею. Пот воняет уксусным ангидридом. Это даже не пот, а кислота, яд. Взял из старой одежды несколько маек, и как только прошибает — мокрое ангидридное тряпье в пакет. В себя приду и непременно выброшу.
В ватной голове мыльные пузыри и туман.
Ломота в костях, суставах и мышцах не проходит. И не пройдет. Сдается, что никогда. Но радует то, что пока она остановилась на определенном и еще терпимом болевом пороге. Хотя это только временное затишье перед новыми и обязательными приступами.
Явно некомфортно, а ведь ползут только первые сутки настоящего кумара. Предыдущий день был «отсыпной». Так что болевые пределы будут расти и расти, расширяться и расширяться, практически до бесконечности.
Захлебываюсь соплями. Глаза едва видят, и окружающий мир плывет. Это потому, что зрачки, постоянно пребывавшие в суженном состоянии, в отсутствие наркотика расширились, что для них ненормально. Я слепну.
Звонит змей-искуситель:
— Привет, как оно? — Голос надтреснутый, с хрипотцой, видимо, недавно вмазался хорошо.
— Пока терплю. — Хочется заорать о том, какая он сволочь подлая и ублюдок, но сдерживаюсь.
— Давай-давай, хвала героям, — приятель хочет что-то добавить, но у меня почти психоз.
— Даю. — Конец беседе.
Травит меня, издевается. Палец мой хочет. Нет, терпеть!
До самого вечера продолжается цикл «попить — покурить — на толчок — сменить майку — полежать — посидеть — снова покурить…» Замкнутый круг. Не вырваться.
Вечером добавляется насыщенный болевой фактор. Ломота жуткая. Каждый суставчик геройского тела, каждый позвонок как будто клещами сжимает и выворачивает, выворачивает, вырывает… Плюс сильнейшая одышка и сбивчивое сердцебиение — бешеная аритмия.
Вконец измотанный, превозмогая боль, ухожу в ночь. В неизменно бессонную ночь.
Вспомнилось, как мне снимала боль последовательница восточных учений, седовласая и тощая дама-селёдка в один из осенних дней одного недавнего года.
Тогда я отчетливо ощутил, насколько низко пал даже в собственных глазах. В глазах иных я пал уже слишком давно, лишился всех друзей, и круг моего каждодневного бытия составляли порочные люди самого низшего «астрала»: мелкие воришки, жулики и проститутки — такие же, как и я, отбросы общества, составляющие свое «общество». Грязные притоны, небритые рожи субъектов в вонючих одеждах, передаваемый, как эстафетная палочка, гепатит, беззубые разборки… В общем, самое дно.
И вот, прочувствовав всю романтику безнадеги, побывав на самом дне скрытой от посторонних глаз жизни в андеграунде, я решился на подвиг.
В этой попытке стать героем мне помогала женщина-экстрасенс.
Благодаря ее магическому воздействию я впервые за несколько недель помылся и побрился! До этого меня загнать в воду было невозможно. Но она сотворила маленькое чудо, и первая ступень в мир больших чудес была пройдена. Затем женщина с волчьим взглядом (мне это сразу бросилось в глаза при знакомстве — неестественно тяжелый ее взгляд) проветрила комнату и расставила по углам ароматические свечи. Вероятно, прикупленные для такого случая в дешевой азиатской лавке, где наряду с амулетами из латуни, китайскими шариками, благовониями и прочей мистической ерундой продаются и эти самые свечи. Положив на пол новенькую вьетнамскую циновку, ведущую свою родословную, скорее всего, из того же магазинчика, она уложила меня, своего скрюченного пациента, на ее никем еще не запачканную поверхность.
Я распластался на подстилке. Под музыку африканских племен, звучавшую с ее кассеты, вставленной в мой магнитофон, начал делать частые и глубокие вдохи-выдохи. По прошествии некоторого времени я впал в потерянное и глупое забытье — наверное, из-за интенсивного перенасыщения ядовитой крови кислородом. Ощущение микросмерти было подобно тому, что доводилось испытывать по малолетству, когда один из одноклассников давил головой в мою грудную клетку, а я задерживал дыхание.
Когда под четкие хлопки гипнотизерши я вернулся в реальный мир, ломота и боль в спине, суставах и костях тоже моментально вернулись. Я пожаловался на боли — имел такую дурость. И моментально за это поплатился. Беззастенчиво пользуясь своим докторским авторитетом, она заставила меня сделать стойку на лопатках и затянула торчащие вверх ноги за мою же голову. Какое зверское кощунство! После этого легче, конечно, не стало. Но я возненавидел глумившуюся целительницу-буддистку искренне и надолго.
Никак не могу найти себе места на кровати — всё не то и всё не так. Стоит лечь на спину, как через пару мгновений начинаю чувствовать липкий дискомфорт: спина становится мокрой и склизкой. Переворачиваюсь на живот — через минуту то же самое. Ноги вырывает невидимой силой из крестца и расчленяет суставы по всей длине. Постоянные позывы в туалет и необходимые туда походы даются с таким неимоверным трудом.
Мокрый, со слипшимися от ядовитого пота волосами, ворочаюсь и мучаюсь. Начался сильный озноб; те легкие волны мурашек, изредка пробегавшие по поверхности бренного тела еще вчера, преобразились в громады шквальных волн омерзительного холода.
Лежу, мерзну и думаю: «Ну, Алекс, ну пидорас, будь ты проклят!»
Трясусь и от боли тихо поскуливаю. Спать не могу, а не спать — близка шизофрения. Я понимаю, как люди сходят с ума и выбрасываются из окна. Пару раз за ночь все-таки отключался. Казалось, проходила целая вечность. На самом деле не более минуты. Но за эту коматозную минуту майка успевала вымокнуть так, что впору выжимать. По всей видимости, процессы выделения телом кислого пота в мимолетном состоянии отключки происходят много интенсивнее.
Смена белья. Приятное, сухое. Но, увы, эта приятность слишком мимолетна.
Комплекс обязательных мук выматывает. Не знаю, куда себя пристроить; точно раненый вепрь, мечусь по постели, как по лесной чаще, тщетно пытаясь найти оптимальное положение, при котором меня посетит облегчение. Но нет, такого в программе мероприятий не значится. Да и обремененность этой проблемой — явление кратковременное в дьявольском калейдоскопе пыток.
Снова пора в туалет. Потом курить. И — новый заход по кругу мучительных страстей. Ближе к утру, кроме всего прочего, начинаю задыхаться. Сердце периодически перестает сокращать свои желудочки, замирает, и, сдается мне, смерть совсем близка…
Смотрю на палец.
Думаю: «А стоит ли? Может, ну их на… эти муки?.. А вдруг Алекс простит?… Вряд ли, сука конченая…»
Еще одну такую ночь я уже не выдержу. Просто не могу себе позволить подобной роскоши. И зачем я нагнал накануне столь огромную дозу? Надо было хоть чуть-чуть сбросить. Было бы гораздо легче.
Днем новое обострение. Да что же мне делать, в конце концов? Спасите! Кто-нибудь! Дайте что-нибудь! Все, помираю, прощайте, братцы…
Корчусь и прошу мать купить бутылку дешевой водки.
Через полчаса пью «Пшеничную» рюмка за рюмкой. Натощак и без закуски, с закуркой. Проходит полчаса — никакого спасительного эффекта, а ведь половину бутылки уже уговорил. С упорством барана пью дальше. Как пресная вода.
К концу бутылки что-то зашумело там, в моей больной башке. И это «что-то» даже не шум никакой, а выраженное пульсирующими в воспаленном сознании отрывисто-четкими словами требование угасающего организма: «Дозу… дозу…». Алкоголь только поспособствовал возникновению и озвучиванию этого требования, переходящего в каменный слог приказа.
С трудом соображая вообще, но имея достаточно конкретный и вполне реализуемый план действий, одеваюсь и с облегчающей обреченностью смертника выхожу из дома.
Ах, дом, милый дом. Мать в слезах, но уже ничего поделать не может. Хочет, но не может. А мне теперь все равно: палец, не палец. Наложить мне большую кучу на этот палец и розами засыпать. Цена за облегчение значения не имеет.
Вперед! Вперед! — ноги несут меня сами.
Дома взял из тайничка остатки денег. Все, денег больше нет. А, плевать. Надо жить здесь и сейчас. Я же сейчас не живу, даже не существую, а дохну от отсутствия искомого зелья в моей крови, точно муха от общения с дихлофосом.
Или все происходящее и приближающаяся неминуемая смерть лишь плод моего воображения? Сам точно не знаю. Знаю, что от жестокого кумара можно и умереть. Сердце — бац, и всё, покойник. Впрочем, уже ничто не имеет значения: я вышел из дома и назад повернуть не смогу ни за что. Табy нарушено, путы обязательств разорваны, барьеры сломаны. Вперед, на волю, в пампасы…
Решил, что к Алексу заходить не буду. Сразу к барыге и на хату, варить. Варить… Как мило звучит это слово! Как оно ласкает слух! Скоро, очень скоро я окунусь с головой в родное и прилипающее навек дерьмо притонов.
Желание уколоться бывает чудовищно нестерпимым, даже когда все обезболено и муки позади. Ностальгия по укусам серебряных ос в такие отчаянные минуты приобретает угрожающий характер.
Иногда за определенную плату мне помогала добрая женщина — частно и нелегально практикующая сердобольная медсестра из поликлиники. Некоторое отсутствие профессиональных знаний щедро компенсировалось опытом ее всепрощающей души, обитавшей в бесформенных телесах шестидесятого размера. На сей раз ее наивная добродетель, вкупе с необъяснимой леностью, пришлись весьма кстати.
Я сотворил лицо мученика и слезно попросил оставить мне на ночь пару ампул реланиума, чтобы спать. Она сжалилась и оставила… упаковку. Пять штук. Сказав при этом, чтобы я, если уж ни в какую не смогу заснуть, сделал себе инъекцию в… попочку. Да-да, она именно так и обозвала мой тощий неказистый зад. Для меня это был шок. Сладкий шок.
Она еще разговаривала в коридоре с моей мамой, как я в трусах восседал на кушетке с огромным шприцем, вместившим содержимое всех оставленных ампул, и судорожно искал вену…
Ну, вот и нужная дверь. Ломлюсь, как обезумевший от страха беглец, во что бы то ни стало стремящийся уйти от погони. От моих неистовых ударов вскочит и остывший трупак.
Наконец-то заскрипели замочки и засовы. Какая дивная и ностальгически знакомая мелодия из металлических звуков! Я по ней соскучился. Да что там, истосковался!
Дверь приоткрывается на цепочке — обшарпанная, грязная дверь барака. В узкий разрез между косяком и дверной пластиной вижу искаженное лицо барыги Валеры. Из хаты бьет в нос запах уксуса, представляющийся дивным ароматом экзотических культур.
Со своей стороны, видя знакомое лицо, барыга Валера снимает цепочку и открывает дверь своей полусгнившей хибары.
Пока он открывает, я приговариваю-причитаю:
— Быстрей, быстрей, чума болотная. Кумарю, как сволочь последняя.
— Заходи, — скрипит Валера, чуточку посторонясь и пропуская меня внутрь убогого жилища.
— Валер, надо пяток «чеков», пару кубов «кислого» и лист димедрола. — Руки нетерпеливо взбрыкиваются по сторонам.
— Демида нет. — Валера тупит взгляд в пол и выдает себя с потрохами.
— Бля, найди для меня. Болею жутко. Бегать и искать где-то сил просто нет. — Я знаю, что все есть, и я дожму.
— Ну, ладно, дам из своего. Но только четыре таблетки. Как раз на варку.
— Слышь, Валера, я у тебя сварю? — И, не дожидаясь ответа, разуваюсь и прохожу на кухню. — Я быстро. Напрямую.
— Только махом. Я скоро ухожу, — настолько стандартная отмазка, что ее можно и не слышать.
Нервы натянуты до предела ожиданием сладостного момента инъекции. Варю быстро, «напрямую». Совсем не потому, что эта барыжная рожа куда-то там уходит. Просто невтерпеж. А Валера будет ждать столько, сколько нужно. Раз уж впустил.
Буквально через десять минут раствор готов. Выбираю зелье из закопченной кружки в шприц через толстую иголку с намотанной на нее ватой-метелкой. Грязи остается немерено, целое болото. Когда варишь «напрямую», всегда так. Ну да ладно. Все уже без пяти минут позади. Через пять минут все будет в полном порядке. За исключением одного момента.
Возникает сладостно-мазохистская крамольная мыслишка: «А если бы пришлось рубить не один палец, а два, укололся бы?» И сам себе отвечаю: «Вероятно». Хотя в глубине души нисколько не сомневаюсь, что да. Сейчас ни одна сила во всей Вселенной, кроме какой-нибудь глобальной катастрофы, не оттащит меня от пузырька с раствором.
Отбиваю раствор на толченом димедроле. Выбираю снова, теперь для того, чтобы уколоться.
В пузырьке-«самоваре» оставляю приблизительно половину общего объема опиумсодержащей «бронзы». Самая первая доза уйдет на «болезнь», а второй я уколюсь чисто для кайфа. Вполне разумно.
Выбрал. Прошу Валеру меня уколоть. В шею. На руках и ногах, как и на всей поверхности, тела, вен совсем нет — «пожег». В пах боюсь. Значит, в шею, в сонную артерию. Валере можно доверять исполнение подобных вещей: профессионал и знает цену хорошим кровеносным путям. Ложусь в комнате на кушетку, запрокидываю голову и задерживаю дыхание…
В мой «шланг» Валерка попадает легко, с первой попытки. Тихонечко, как-то даже ласково, давит на поршень шприца и гонит раствор.
Все, прогнал. Резко сажусь, чтобы не случилось кровоизлияния в мозг. Прикуриваю сигаретину и жду долгую секунду.
И вот оно, долгожданное божественное тепло, мягкими и нежными волнами разливающееся по моему телу. Димедрольный удар по прокуренным легким вызывает легкий кашель. Следует удар по печени и зубам: опиум первым делом бьет по больным местам.
Теперь все в порядке, оживаю прямо на глазах.
Пока отлавливаюсь и курю «на приход», услужливый Валера промывает кипяченой водой мою «машину» и кладет на газету, рядом с еще не выбранным из пузырька раствором.
Наступает столь желанная эйфория. Появляется неодолимое желание поговорить, развязывается язык, и рассказываю про заключенное пари.
Валерка мне сочувствует.
— Да, брат, наркомания это такая штука, неизлечимая.
Сижу и думаю: «Какой я тебе, падла, брат. Нет у меня таких родственников. И не надо».
Хотя не плохо было бы. Раскумаривался бы на халяву. Вслух же отвечаю:
— Придется рубить. Никуда не деться. — Без жалости смотрю на растопыренные пальцы и пытаюсь пошутить: — С этого момента фаланга моего левого мизинца принадлежит не мне.
Пока поднимаю смывки из кружки, в голову вкрадывается мысль о том, что отчленить уже не принадлежащую мне плоть надо именно сейчас. Не устраивать шоу, а подарить его Алексу отрубленным, в тряпочке.
Колюсь термоядерными смывками. Вернее, колет меня Валера. Спасибо, дорогой, за теплое отношение и прием. Страдание любит соучастие. Истина. Вечная.
Накрыло впечатляюще, прямо-таки оглушило. И придало решимости к действию. Ох уж этот опиумный дурман!
Курю. Морально я готов сотворить членовредительство. Тем более, что обезболивающий раствор — ударная доза — у меня в наличии.
Спрашиваю у Валеры:
— Нож острый есть?
— Есть, а что? — Барыга нехотя встает с обшарпанного табурета, предчувствуя дальнейшее.
— Давай сюда. Пришла пора избавляться от чужой собственности.
По выражению лица Валеры вижу, что участвовать в экзекуции он явно побаивается. Но любопытство берет верх. Дает нож. Проверяю — действительно острый. Какой же ты хозяйственный, Валерик!
Раствор «на потом» готов. Беру носовой платок и протягиваю Валере, чтобы перевязал, как только все случится. Ниткой заматываю основание мизинчика — заранее замедляю кровоток. Прокаливаю нож на комфорке и ставлю острым лезвием перпендикулярно на пальчик.
Говорю Валере:
— Подержи так. Я сверху кулаком ударю, и все дела. Но не дай Бог, сучка, у тебя рука дрогнет…
— Не дрогнет.
— Смотри, не подведи.
Валера держит. Я чувствую, что крепко. Замахиваюсь и… торможу в самом конце траектории движения кулака. Сам побаиваюсь, несмотря на затуманенный мозг. Все ж первый раз отъявленным членовредительством занимаюсь. Опыта еще нет.
Замахиваюсь снова и с мощным придыханием бью ребром кулака по тупой стороне лезвия ножа. Хлоп.
Все. Я беспалый. Слева.
Боли нет. Крови мало. Смотрю на срез — розовое колечко мяса с бело-голубой вставкой хрящичка посередине. Фаланга с ногтем неестественно лежит на газете. Вытаращился на нее, как зачарованный странник на невиданную доселе благодать. Нет ни сожаления, ни грусти. Оцепенение.
Валера уже перевязывает. Что он там перевязывает, не вижу и не смотрю. Только чувствую накатывающую боль. Боль терпимая и чуть дерганая. Нет, наверное, боль, как и должна быть. Это я в шоке и опиуме.
Наконец-то перевязан и спасен от потери крови. Беру аккуратненько, двумя пальчиками правой руки, отторгнутую плоть — кусочек мизинца, и кладу его на лист бумаги, данный услужливым Валерой. Заворачиваю. Презент приятелю Алексу с кровью на упаковке.
Наступает легкий невроз. Иду колоться в комнату. Валерка гонит медленно, но верно. Помню только, как принимаю вертикальное положение, закуриваю…
«Завис» я самозабвенно и надолго. Сказались бессонные ночи. Валерка не тревожит.
Очнулся сам. Надо ехать в травмпункт, зашить обрубок. Медленно поднимаюсь, обуваюсь, закуриваю и прощаюсь.
— Ну, ладно, давай. Спасибо за гостеприимство, — собираюсь выходить и целой рукой снимаю цепочку.
— Давай. Да, на вот, — протягивает мне три «чeкa» — боль снимать.
Сердечно благодарю барыгу и ухожу.
Ловлю «тачку» и еду, постоянно выпадая из действительности, в травмпункт. За помощью.
Там толстенькая тетенька в белом, как располневший ангел-диабетик, списывает с водительского удостоверения мои данные, спрашивает домашний адрес и направляет в соседнюю комнату — операционную.
Парень в белом — тощий наземный ангел, разматывает мою культяпочку. Рядом с нами возникает девушка, уже в голубом — ангел со шприцем в руке. Спрашиваю, что у нее. Оказывается, новокаин, заморозка. Я отказываюсь. Зачем мне заморозка, и так ничего не чувствую.
Пока юные хирурги колдуют над обрубком, с олимпийским спокойствием восседаю, тупо уставившись в пол. На процесс не смотрю. Парень спрашивает:
— Что случилось?
Отвечаю очень лаконично:
— Пари. Нелепое.
Парень только мычит: «М-да». Я знаю, брат, что ты знаешь, что я с «вывихом». Можешь не скрывать своих чувств.
Видя, что я никак не реагирую на боль, и встретившись со мной взглядом, он, похоже, начинает что-то понимать. Когда девушка отходит, он осторожно спрашивает:
— Не героин?
Вижу в глазах у медика хорошо знакомое желание. Но парняга чистенький, верно, не успел еще скурвиться. Ничего, брат, все еще впереди и в обязательном порядке.
— И героин тоже.
— А нет «дорожечки»?
Вот тут-то я и прозрел. Наркоманы везде и всюду. Феноменально. Это настоящая эпидемия. И куда, в какую пропасть катится эта страна?
— С собой нет. Завтра могу занести.
— Я завтра в первую, до двух. — Хирург питает надежду, пусть.
— Постараюсь успеть. — Ну не убивать же ее в зародыше.
Ничего я ему не занесу. Но пусть холит и вынашивает надежду. Наркотики просто так не даются. Их надо заслужить, выстрадать. Первое испытание — испытание напрасным ожиданием. Впрочем, что иное я мог бы ему ответить? Ведь он мне рану зашил.
Вот и все готово. Кожа на верхушке стянута и сшита маленькими швами. Прощаюсь и ухожу. «Через два дня к хирургу, по месту жительства», — толстый ангел выдает направление. Все — я продезинфицирован, зашит и свободен.
Навеки свободен от спасения.
Галина Полынская АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗОЛОТОЙ АНГЕЛ» (Рассказ)
Приятный женский голос в телефонной трубке произнес:
— Алло, добрый день.
— Здравствуйте, — неуверенно пробормотал Титивин, переминаясь с ноги на ногу в полумраке захламленной прихожей, — это «Золотой Ангел»?
— Да, «Золотой Ангел». Доставка неприятностей на дом. Мы вас слушаем.
— Ну, я… Э-э-э… — Он рассматривал свое отражение в большом прямоугольном зеркале на стене, — я бы… э-э-э…
— Извините, — мягко перебил приятный голос, — а откуда вы узнали о нашей организации?
— Из газеты. — Он машинально пригладил всклокоченные волосы.
— Из какой именно?
— Ну… я не помню, из какой-то рекламной, их все время в почтовые ящики заталкивают. А что, это важно?
— Мы проверяем эффективность рекламной кампании. Извините, что перебила.
Голос в трубке замолчал, молчал и Титивин, продолжая переминаться с ноги на ногу. Под стоптанными подошвами клетчатых комнатных тапок тихо поскрипывал паркет.
— Может, вы подъедете к нам в офис? — помог голос. — И мы всё обсудим?
— Да, — поспешно, чуть ли не с облегчением сказал Титивин, — я лучше приеду.
— Записывайте адрес.
Титивин схватил ручку, на длинной веревочке висевшую у зеркала, и быстро принялся писать в растрепанном пухлом блокноте, из которого торчали и сыпались разномастные листочки. Записав адрес, он попрощался и повесил трубку. Руки Титивина слегка подрагивали, а ладони были влажными и липкими. Глядя на листочек с наспех нацарапанными каракулями, он засомневался было в правильности своего поступка, но перед глазами Титивина снова возникло ненавистное лицо Барсукова, и все сомнения рассеялись. Стиснув зубы и криво улыбаясь собственным мыслям, он надел чистую рубашку и темно-серый костюм. Тщательно причесав вьющиеся, заметно поредевшие на макушке волосы, Титивин водрузил на нос большие черные очки с расшатанными пластмассовыми дужками и решительно направился в прихожую. Открыв дверь, он заметил, что забыл надеть ботинки.
На улице стоял предгрозовой июльский зной, и Титивин мгновенно взмок в своем костюме. У метро он купил в ларьке баночку коктейля «ром с колой» и быстро выпил. Коктейль оказался теплым, почти горячим и отдавал резиной. В голове малопьющего Титивина моментально зашумело, а уверенность в собственном решении стала монументальной и непоколебимой.
— Сколько можно, — бормотал он, занимая очередь за карточкой в кассе метро, — безнаказанно… не на того напал, барсук несчастный!
— Вы что-то сказали? — обернулась стоявшая впереди девушка.
— Это я не вам. — Титивин вытащил кошелек из внутреннего кармана и отсчитал десять рублей мелочью. Перед его глазами опять возникла холеная, довольная морда Барсукова с чисто выбритым подбородком, масляными глазками, очечками в тонкой золотой оправе, и Титивин едва не взвыл от ненависти. Купив карточку, он чуть ли не бегом помчался к турникету.
Нужную улицу и дом Титивин отыскал почти сразу, это оказался современный двухэтажный особняк со светло-зелеными стенами и декоративными золотыми решетками на окнах. При входе не было никаких табличек или надписей, указывающих на то, что именно в этом здании располагается АО «Золотой Ангел». Входная дверь была заперта, и Титивин решительно надавил на кнопочку маленького блестящего звонка. Через пару секунд дверь приоткрылась, и на пороге возник молодой человек богатырского телосложения. Черный костюм как влитой сидел на его мощной фигуре, а на железобетонном лице поблескивали настороженные колючие глазки непонятного цвета.
— Здравствуйте, — откашлялся Титивин. «Ром с колой» продолжали бродить в организме, и Титивин чувствовал себя храбрым и практически непобедимым. — Здесь находится «Золотой Ангел»?
Атлет не ответил, продолжая буравить Титивина бесцветными глазками.
— Я звонил недавно, мне сказали, что можно приехать… — Даже невзирая на коктейль Титивин малость струхнул под таким взглядом.
— А, звонили? — ожил атлет. — Да, проходите, вас ждут.
Он отступил, пропуская Титивина, и тот вошел в прохладное, приглушенно освещенное помещение с зеленым ковровым покрытием на полу и с деревянными кадками, в которых росли разлапистые растения с волосатыми стволами. Титивин присел на краешек коричневого кожаного кресла и взял с прозрачного столика толстый журнал в яркой обложке. Не успел он его открыть, как дверь напротив отворилась и на пороге возникла прекрасная ундина в коротенькой юбочке и полупрозрачной блузке, не скрывающей черных кружев на такой груди, какой Титивин никогда не видел наяву.
— Присаживайтесь, — ослепительно улыбнувшись, сказало видение тем самым голосом из телефонной трубки. — Мы вас ждали, проходите, пожалуйста.
Она сделала приглашающий жест ручкой с алым маникюром. Титивин поднялся с кресла и на негнущихся ногах последовал за богиней в кружевах. Она проводила отчаянно потеющего от волнения Титивина в просторный кабинет с ореховым письменным столом и картинами на стенах. За столом, в кресле, сидел довольно молодой мужчина в летнем костюме. Как только Титивин вошел, на приятном лице мужчины вспыхнула улыбка, он привстал и протянул руку.
— Здравствуйте, — Титивин незаметно вытер ладонь о штанину и пожал руку приятного мужчины.
— Здравствуйте, здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста, — он кивнул на стул, и Титивин снова примостился на краешке. — Ларочка, принесите нам кофе.
— Хорошо, Вениамин Леонидович, — и Ларочка исчезла, к великому разочарованию Титивина.
— Как вы уже догадались, меня зовут Вениамин Леонидович, а вас?
— Семен Сергеевич, — немного поколебавшись, ответил Титивин.
— Очень приятно, Семен Сергеевич. Я так понимаю, что вас привели к нам какие-то серьезные проблемы?
— Да, — кивнул Титивин, — проблемы.
— Расскажите мне всё по порядку. — Голубые глаза Вениамина Леонидовича стали внимательными и ласковыми, как у психиатра.
Ларочка принесла кофе и снова исчезла.
— Может, коньячку? — предложил Вениамин Леонидович.
— Нет, не надо. — Титивин взял маленькую чашечку и сделал глоток кофе, он был крепким и сладким. — В общем… дело вот в чем… У меня есть… был институтский друг Алексей Барсуков, он теперь директор фирмы, пейджерами и сотовыми телефонами торгует. Он долго меня к себе звал, я не хотел, понимал, что он так, из жалости… — Титивин смахнул со лба пот. — Работу я найти никак не мог, и пришлось поклониться Барсуку… простите, Барсукову. Он взял меня курьером — как в насмешку, что ли? Сказал, что нет другой свободной должности, и я, со своим дипломом, в мои-то годы, вынужден мотаться по всей Москве за символическую плату… а я за него, между прочим, в институте все курсовые писал! Вы понимаете?
Вениамин Леонидович кивнул потеющему, жалкому Титивину.
— Моя жена, — продолжал Титивин, — ее зовут Наташа, она тоже училась вместе с нами, вместе жили в общежитии… Барсуков уже тогда за нею ухаживал. Они долго встречались, всё было серьезно, но однажды Наташа застала его в постели с другой девушкой. Они сильно разругались, Наташа много выпила, пришла ко мне в комнату и осталась на ночь. Она знала, что я к ней неравнодушен. Потом я предложил ей выйти за меня замуж, и она согласилась. Все эти годы, — лицо Титивина скривилось, — она встречалась с этим мерзавцем за моей спиной. Раньше Наташа хоть скрывала это, теперь даже не трудится. Разъезжает с ним в его машине, на работе все уже смеются надо мной, а позавчера… — водянистые глаза Титивина стали стеклянными: — …Барсуков вызвал меня в свой кабинет и с издевкой сообщил, что Наташа больше не хочет меня видеть, что как мужчина я из себя ничего не представляю и ей больше нравится быть его любовницей, чем моей женой. Дверь кабинета была открыта, и слова Барсукова слышали все сотрудники… И что мне теперь, повеситься, что ли?! — неожиданно выкрикнул Титивин, и Вениамин Леонидович слегка вздрогнул.
— Я вас понял, — сказал он. — Вы хотите устроить неприятности супруге или Барсукову?
— Барсукову, — почти шепотом произнес Титивин, его плечи ссутулились, а ладони стали липкими.
— Угу, — Вениамин Леонидович взял со стола малиновую кожаную папку и протянул Титивину.
— Что это? — он с опаской уставился на папку.
— Перечень наших услуг и расценки.
Титивин открыл папку и уставился на плотные глянцевые листы с аккуратным компьютерным текстом: «Неприятности на работе: а) малой тяжести — 300 у. е.; б) средней тяжести — 700 у. е.; в) повышенной тяжести — 1200 у. е.; г) супер — 2000 у.е. Неприятности в семье… неприятности в семье и на работе… Доведение до нервного срыва без су… Нервный срыв с последующим су… Сведение с ума… Л. И…».
— Что такое «су.» и «Л. И.?» — спросил Титивин, озадаченный огромными суммами, стоявшими напротив именно этих услуг.
— Самоубийство и летальный исход, — бесстрастно сообщил Вениамин Леонидович.
Челюсть Титивина отвисла.
— И что… на самом деле? — он закрыл папку и осторожно, будто она могла взорваться, положил на стол. — Вы… убиваете людей?
— Ну, зачем же так? — ласковый взгляд Вениамина Леонидовича стал скучающим. — Мы просто создаем ситуации, понимаете? Си-ту-а-ци-и.
— А, — кивнул Титивин, хотя ничего и не понял.
— Вы выбрали что-нибудь?
— Да… — Титивин немного помялся и сказал: — Нервный срыв… с последующим Л. И.
— Вы располагаете необходимой суммой?
— У меня есть дача и отцов автомобиль — продам, а пока могу отдать вам документы на машину и дом, это можно?
— Конечно. Вы хорошо обдумали свое решение? Вы его не измените?
Титивин отрицательно покачал головой.
— Тогда заполните анкету, и заключим договор.
На улицу Титивин вышел тихим и задумчивым. Пару минут он стоял и смотрел на проносившиеся мимо машины, потом направился к метро, намереваясь купить еще один коктейль в баночке. После его ухода Ларочка занесла анкетные данные Титивина в компьютер и, глядя в монитор, вдруг заулыбалась, встала и направилась в кабинет к шефу.
— Вениамин Леонидович, здесь небольшая накладка с этим Титивиным.
— А что такое? — Вениамин Леонидович отложил бумаги, которые читал.
— Дело в том, что его самого уже «заказали», его собственная жена, Наталья Титивина, летальный исход.
— Оплачено?
— Да, вся сумма переведена на наш счет. Но это еще не всё. Наталью Титивину «заказала» Светлана Барсукова, судя по всему, супруга Барсукова, которого «заказал» Титивин… — Ларочка растерянно смотрела на шефа.
Тот от души расхохотался, заулыбалась и она.
— Ну, дела! — отсмеявшись, сказал шеф. — Все заказы оплачены?
— Да, все.
— Что ж, мы обязаны выполнять заказы наших клиентов. Передай эти материалы нашим аналитикам, пусть решат, как лучше удовлетворить просьбы и пожелания всех этих людей. Качественно и в срок.
— Хорошо, Вениамин Леонидович. — Ларочка вышла из кабинета, прикрыв за собой дверь. Вениамин Леонидович достал из ящика стола бутылку коньяка, крошечную рюмочку, тщательно, словно отмеривал лекарство, наполнил ее золотистой жидкостью и с наслаждением выпил.
Вернувшись домой, Титивин всё никак не мог справиться с нервным возбуждением и тошнотой после баночных коктейлей. Он ходил из комнаты в комнату, попивая из чашки теплую, отдающую таблицей Менделеева воду, и сам себя убеждал в собственной правоте.
— Всё уже сделано! — Титивин поставил чашку на журнальный столик и машинально потрогал светлое пятнышко облупившейся полировки.
* * *
Неприятности у Семена Сергеевича Титивина начались на следующий же день, и это было похоже на наваждение. Мелочи, невыносимо досадные мелочи, казалось, происходили сами собой: в метро не действовали карточки, и Титивин вынужден был часами скандалить с кассирами и администрацией, автобусы уходили из-под носа, такси обдавали его грязной водой, в магазинах ему всовывали исключительно испорченный и просроченный товар, вдобавок ко всему Титивину разрезали сумку и вытащили бумажник с документами. Через три дня, сплошь состоящих из подобных «мелочей», Титивин почувствовал нечто похожее на панику и ужас одновременно. Внутренний голос шепнул Семену Сергеевичу, что всё это только начало. Сидя в квартире с зашторенными окнами и запертой на все замки дверью, он лихорадочно пытался сообразить, что же такое творится. И внезапно Титивина озарило, ему вспомнилось сверкающее улыбкой лицо жены. Ярче всего эта улыбка была именно в эти три злополучных дня, когда взбешенный Титивин врывался в квартиру и нервно курил одну сигарету за другой.
— Не может быть, — пробормотал он и бросился в спальню. Перерыв вещи жены, в шкафу, в белье, он обнаружил газетную вырезку с рекламой АО «Золотой Ангел».
— Стерва! — не то простонал, не то провыл Семен Сергеевич, без сил падая на супружеское ложе. — Вот стерва!
Услышав, как открывается входная дверь, он сунул вырезку в карман тренировочных штанов и, стиснув зубы, пошел в коридор. Наталья Петровна медленно и как-то вяло снимала белые босоножки. Когда она подняла голову, Титивин заметил, что супруга недавно плакала.
— Что случилось, Наташа?
— Ничего, — выдавила она, — просто неприятности на работе.
Титивин невольно вздрогнул, ему показалось, что бумажный клочок в кармане зашевелился, как живой.
— У меня тоже неприятности, Наташа, странные такие неприятности, — сквозь зубы процедил Семен Сергеевич, пристально глядя на жену. От него не укрылось, как вздрогнули ее плечи. «Значит, правда! — мелькнуло в его голове. — Вот гадина!». Супруга молча прошла мимо него в ванную и вышла оттуда в синем цветастом халате, и Титивин почему-то подумал, что более омерзительного зрелища, чем этот халат, он еще не встречал.
— Где ты деньги взяла? — монотонным голосом спросил он, заходя вслед за женой на кухню.
— Какие деньги? — она поставила чайник на плиту. — О чем ты?
— Большие деньги! — заорал Титивин, хватая ее за синие цветастые плечи и разворачивая к себе лицом. — Деньги на то, чтобы заказать меня в «Золотом Ангеле»!
В карих глазах Наташи мелькнул страх. Он, как крошечный желтый зверек, мелькнул и исчез.
— О чем ты, Сенечка? — попыталась улыбнуться Наташа. — Я не понима…
— Не ври! Я нашел газетную вырезку! — Пальцы Титивина впивались в мягкие синие плечи жены. — Как ты могла, гадина!
— А что мне оставалось делать?! — неожиданно выкрикнула она в лицо Семену. — Квартиру, что ли, с тобой делить?!
— Так ты… — от страшной догадки пальцы Титивина ослабели и разжались сами собой: — Ты меня… убить… хотела?
Стряхнув с себя руки Семена, она быстро вышла из кухни, и Титивин услышал, как Наташа набирает номер телефона. На ватных ногах Семен последовал за супругой и встал в дверях комнаты, без сил прислонившись к косяку.
— Алеша? — супруга стояла к Титивину спиной. — Да, это я. Алеша, он всё знает… не знаю… догадался…
В глазах Семена всё почернело; бросившись к супруге, он отнял трубку и заорал:
— Привет, Барсук! У меня для вас тоже сюрприз есть! Я тебя тоже «заказал» в «Ангеле»! С последующим сэу!
Грохнув трубку на рычаг, Титивин рассмеялся, глядя на ошеломленное Наташино лицо.
— Ты… — начала было она.
— Да! «Заказал»! Три дня назад! Так что хана твоему любовничку!
— А меня? — неожиданно тихо и спокойно спросила Наташа. — Меня ты не «заказывал»?
— Нет, — сбавив тон, ответил Титивин. — Только Барсука.
— Значит, кто-то другой, — она присела на диван. — Кто-то «заказал» меня.
— Кто? — Титивин отупело смотрел на жену.
Она молчала, рассеянно изучая рисунок ковра. Потом вскочила, снова схватила телефонную трубку.
— Алеша? Это опять я, — тяжело задышала Наташа. — Слушай, меня тоже кто-то «заказал». Да. Подозреваю. Твою жену. Нет, я никого ни в чем не обвиняю, просто разузнай у нее. Деликатно. Ладно?
Повесив трубку, Наташа долго смотрела в пыльное окно; его давно уже пора было вымыть, но у нее всё никак не доходили руки… Зазвонил телефон, но Наталья не двинулась с места, трубку взял Титивин.
— Да? Да… хорошо.
Положив трубку на рычаг, он посмотрел на жену.
— Это Барсук звонил, сейчас приедет.
— Я и его жену «заказала», — бесцветным голосом сказала Наташа.
— Что?.. Где деньги взяла, сучка?! — завопил Титивин.
— Не твое дело, — процедила супруга. — И не ори на меня!
Барсуков приехал очень быстро. Деловито протянул Наташе целлофановый пакет, сбросил элегантные легкие туфли и, потирая руки, направился на кухню. Титивину он коротко кивнул, глядя как-то сквозь хозяина дома. Наташа молча извлекла из пакета джин, бутылку тоника и пакет с апельсинами. Выставив это на стол, она, заторможенно двигаясь, достала высокие стеклянные бокалы и с тихим стуком поставила их на стол. Барсуков втиснулся между столом и подоконником и уселся на табурет. Потирая руки, он как-то отрешенно разглядывал зеленую этикетку джина «Гринолдз». Титивин ненавидел эту еще с института хорошо знакомую привычку Барсукова потирать руки: раз, раз, раз — мелькают аккуратные ногти на белых холеных пальцах… Титивин отвернулся и прислонился спиной к дверному косяку. Продолжая хранить молчание, Алексей Барсуков ловко открутил крышку бутылки, плеснул джина в стаканы, разбавил тоником и шумно вздохнул. Наташа, присев на табуретку, неподвижными глазами созерцала апельсины, так и не вынутые из целлофанового пакетика.
— Дожили, — медленно произнес Титивин, продолжая стоять у дверного косяка, — дошли до ручки.
— Давайте выпьем, что ли, — снова вздохнул Барсуков.
— Да уж, есть что отметить! — ядовито хмыкнул Семен.
— Прекрати, — машинально, не глядя в сторону мужа, сказала Наташа.
— Хорошо, давайте выпьем, — примирительно сказал Титивин, хотя внутри у него всё оцепенело от злости. Он присел напротив Барсукова, взял свой бокал и произнес:
— За то, что хоть раз в жизни мы все, единогласно, пришли к одному и тому же решению. За поразительное единодушие.
Наташа подняла на него взгляд, и Титивин не мог не удивиться тому, сколько ненависти было в ее глазах. «Если уж я ей так противен, почему она раньше от меня не ушла? — равнодушно подумал Семен. — Я б ей и слова не сказал». В два глотка выпив пахнущую елкой жидкость, Семен посмотрел на Барсукова и с удивлением отметил, что не испытывает больше никакой ненависти по отношению к нему, не чувствует даже неприязни. Он вообще ничего не чувствовал, в считанные минуты эти люди стали для него чужими, практически незнакомыми.
Тихонько запиликал сотовый телефон Барсукова.
— Да?
— Алексей! — от громкого голоса жены Барсуков немного вздрогнул. — Алексей, я не знаю, что происходит!
У женщины был голос человека, находящегося на грани нервного срыва.
— А что случилось?
— Происходят какие-то странные, непонятные вещи! У меня одни неприятности!
— Что? — тонкие губы Барсукова побелели. Титивин никогда не видел, чтобы у человека так быстро и так сильно белели губы. Глаза за тонкой золотой оправой с легким прищуром остановились на Наташе. Она неподвижно сидела — так ровно, будто проглотила школьную линейку, и смотрела на остатки джина в своем бокале.
— Так… — с трудом выдавил Барсуков, — где ты сейчас находишься?
Голос что-то неразборчиво прокричал.
— Приезжай сейчас по адресу… — Алексей назвал адрес Титивиных и нажал кнопку отбоя. Медленно положив аппарат на стол, он налил себе джина и выпил его неразбавленным.
— Наташа, ты… ты… Марину…
— Да! — неожиданно очнулась она. — Я Марину!..
Лицо Натальи исказилось от злости.
— Все эти годы быть на положении любовницы, жить с этим ничтожеством и знать, что дома тебя ждет эта крашеная сучонка, заманившая тебя постелью! — голос Наташи сорвался на визг. — Если бы она не залезла к тебе тогда в койку, ты б и не женился на ней!
Титивин внезапно расхохотался, но на него не обратили внимания. Отсмеявшись, он аккуратно налил джина в свой бокал, разбавил тоником, с шумом отхлебнул и с интересом уставился на Барсукова и Наташу, ожидая продолжения. Он думал, что Алексей закатит его супруге скандал, но этого не случилось. Плечи Барсукова опустились, он как-то весь съежился, поник, в момент утратив свой лоск.
Звонок в дверь раздался неожиданно, вздрогнули все.
— Это Марина, — прошептал Алексей.
— А если нет? — криво улыбнулся Титивин. — Вдруг это из «Золотого Ангела» явились выполнять наши заказы?..
С отвращением взглянув на мужа, Наташа резко встала из-за стола и направилась в коридор. Вернулась она с высокой симпатичной блондинкой. Салатовые летние джинсы обтягивали ее длинные ноги и аккуратные бедра, короткая легкая маечка подчеркивала упругую грудь, и Титивин не без удовольствия отметил, что на ее фоне Наташа выглядит лет на десять старше. Семен никак не мог понять, зачем, имея такую жену, Барсуков упорно не расставался с располневшей, обабившейся Наташей.
Наташа вынула из шкафчика еще один бокал и поставила его на стол. Не дожидаясь, пока за нею поухаживают, Марина налила себе джина и залпом выпила. Только после этого она кивнула Наташе, не обращая внимания на Титивина.
— Марина, — хрипло откашлялся Барсуков, — у нас тут сложилась весьма неординарная ситуация… так получилось, что мы все стали клиентами одной и той же организации… акционерного общества «Золотой Ангел»…
Марина недоуменно смотрела на мужа, потом ее взгляд прояснился.
— Меня тоже «заказали»? — она говорила на удивление спокойно.
Алексей кивнул.
— И кто? — накрашенные золотистой помадой губы дрогнули в странной улыбке. — Ты, что ли?
— Наташа, — прошелестел Барсуков.
Супруга Титивина, сидевшая рядом с Мариной, вся подобралась, с вызовом глядя на блондинку. Марина вскользь бросила на нее взгляд и снова отвернулась.
— Вот как, значит, — Марина стала легонько постукивать золотистыми, в тон помады, ногтями, — а я «заказала» Наташу.
— Так я и знала! — процедила Титивина. — Подстилка!
— Кто бы говорил, — не глядя в ее сторону, сказала Марина, — я с твоим мужем не спала, мне только мой был нужен. А по-другому от тебя никак было не избавиться. И что он только нашел в тебе? — Марина вздохнула и вынула из маленькой белой сумочки пачку сигарет.
Титивин подал пепельницу и пошире раскрыл форточку.
— Это еще не всё, — хмыкнул Семен, — я «заказал» Барсукова, а моя дражайшая половина — меня самого. Я так понял — никто не мелочился, все со смертельным исходом «заказывали»?
Ему не ответили, и так всё было ясно.
— Вы понимаете, во что мы вляпались? — голос Марины по-прежнему звучал спокойно. — Наши смерти будут выглядеть самым естественным образом, никому и в голову не придет, что нас убили. А если мы пойдем и обо всём расскажем в милиции, то в лучшем случае над нами посмеются, в худшем — всех посадят.
— Кроме меня, — подал голос Барсуков, — я никого не «заказывал». Вообще-то я сам могу вас всех посадить, вы все — организаторы убийств.
— Нет, мы — заказчики, а организатор — эта жуткая контора, — покачал головой Титивин, — но если мы «заказали», мы же можем и отменить наши заказы, разве нет?
— Конечно, можем, — однако в голосе Наташи не было особой уверенности. — Надо позвонить туда и спросить.
Титивин принес телефон, подтягивая за собой длинный шнур, и поставил аппарат в центр стола. Марина по памяти набрала номер и пару минут с каменным лицом слушала длинные гудки, потом положила трубку.
— Может, у них обед? — предположила Наташа. — Хотя уже почти четыре часа… Или рабочий день закончился?
— Если не дозвонимся, завтра поедем туда. — Марина снова закурила.
— Оставайтесь у нас ночевать, я вам в зале постелю, — предложила вдруг Наташа, и Титивин с удивлением уставился на жену. Однако когда он увидел ее глаза, наполненные даже не страхом, а самым настоящим ужасом, удивление прошло. Барсуков вяло, но согласно кивнул. Марина не пошевелилась.
— Напьюсь сейчас, — пробормотал Титивин и потянулся к бутылке. — До чего же мы все докатились…
— Да замолчи же ты! — лицо Наташи страдальчески скривилось, будто голос мужа причинял ей боль. — Надо что-то решать! Надо думать!
— Думать надо было тогда, когда шла «заказывать» родного мужа. — Титивин пристально смотрел на дым Марининой сигареты. — Я хотел от твоего любовника избавиться, меня можно понять, а ты одним махом двоих порешить думала.
— Все хороши. — На лицо Барсукова вернулся нормальный цвет, он заметно приободрился, плеснул себе джину и расправил плечи. — Жена — убийца, друг — убийца, любовница — убийца… Чудо, а не окружение.
— Если бы ты не спал с моей женой и не унижал меня при каждом удобном случае, мне бы и в голову не пришло идти в эту контору! — отрезал Титивин.
— Если бы… — едва ли не одновременно начали Марина и Наташа.
— Всё, хватит! — рявкнул Барсуков. — Если бы да кабы! Ладно, мы останемся, а завтра с утра поедем к этим умникам!
Титивин не знал, как спали и спали ли вообще старые и новые обитатели квартиры, сам он провалился в счастливый сон без сновидений сразу, как только его лысеющая голова коснулась подушки.
Разбудила его Наташа, она была уже одета и наспех подкрашена.
— Вставай, Сеня, — тихо сказала она.
И, не успел Титивин надивиться такой перемене, вышла из спальни. Титивин быстро оделся, умылся, подумал было побриться, но махнул рукой. На кухне все в полном составе пили кофе.
— Доброго утра убийцам и невиновным, — хмыкнул Титивин, насыпая в чашку растворимого «настоящего бразильского».
Тщательно накрашенная Марина курила, погруженная в свой внутренний мир, Барсуков быстро отхлебывал кофе крошечными глотками, а Наташа снова сидела так, будто проглотила школьную линейку.
Допив кофе, они покинули квартиру Титивиных и вышли на улицу. Несмотря на утро, было уже жарко и душно. У подъезда стоял «опель» Барсукова. Наташа хотела по привычке сесть на первое сиденье, но, вспомнив о Марине, открыла заднюю дверь. На щеках Натальи горели маленькие, но яркие красные пятна.
Бледно-зеленый особняк отыскали быстро. Барсуков приткнул машину на свободное место в плотном ряду машин на обочине, и все выбрались на солнышко. Алексей сразу взял инициативу в свои руки: взбежал по ступенькам и надавил кнопку звонка. Ждать пришлось недолго, двери открыл всё тот же парнище в костюме.
— Здравствуйте, — бодро сказал Барсуков, — мы клиенты «Золотого Ангела» и нам необходимо переговорить с Вениамином Леонидовичем.
«Привратник» молча взглянул на нерешительно мнущуюся за спиною Барсукова троицу и кивнул. Войдя в знакомый прохладный холл, Титивин приготовился ждать кружевную Ларочку, но парень сам проводил гостей в кабинет. Вениамин Леонидович разговаривал по телефону. Увидев вошедших, он приветливо кивнул на кожаные стулья, закончил разговор и с мягкой улыбкой воззрился на посетителей.
— Здравствуйте, — откашлялся Барсуков, — тут у нас, видите ли, какая ситуация…
— Я в курсе, — кивнул Вениамин Леонидович. — Мягко говоря, м-м-м… нестандартная сложилась ситуация.
— Да… — начал было Титивин, но осекся под тяжелым взглядом Марины.
— В общем, мы хотели бы отменить все наши заказы, — на одном дыхании произнес Барсуков. — Как выяснилось, мы в состоянии решить наши проблемы спокойным, цивилизованным образом.
Мягкая улыбка Вениамина Леонидовича сползла с лица, а глаза сделались похожими на два репейника.
— Ну-у-у, — протянул он, — вы меня под монастырь подводите. Каждого из вас я спрашивал устно — не передумаете ли? То же самое вы подтвердили и письменно, в договорах. Я ничего не могу поделать.
— К-как? — прошептала Наташа. — Совсем ничего?
— Совсем, задействован мощный аппарат. Для того чтобы его остановить, понадобятся средства.
— Сколько? — почти одновременно выпалили все.
Взгляд Вениамина Леонидовича стал похож на подтаявший пломбир.
— Те же суммы, которые вы заплатили вначале.
— Но у нас нет таких денег, — отрезала Марина.
— А у нас тем более! — крикнула Наташа, и Вениамин Леонидович поморщился.
— Прошу меня простить, — сухо и холодно произнес он, — у меня много дел. Эдик!
Двери отворились, и на пороге возник парнище в костюме.
— Эдик, проводи наших уважаемых гостей, они уже уходят.
Оказавшись на улице, Титивин глубоко вздохнул, глядя на слишком яркое небо.
— М-да, короткий разговор получился, — сказал он.
— Зато емкий и лаконичный, — кивнул Барсуков.
— Что же нам теперь делать? — губы Наташи задрожали.
— Вот уж не знаю! — лицо Алексея светилось изнутри. — Я лично к друзьям поеду, пивка попью с креветками. Мариночка, ты завещание изменять не будешь?
Не дожидаясь ответа, Барсуков впорхнул в свою машину, музыкально просигналил и быстро уехал. Алексей насвистывал арию Тореадора из «Кармен», вспоминая визит к Вениамину Леонидовичу. Была минутка, когда Барсуков испугался, подумав, что Вениамин может передумать и позволить этим осточертевшим Алексею людям благополучно уйти. Но уговор оказался дороже… Хотя кроме уговора были и деньги, причем деньги немалые. Были и распечатанные на цветном принтере рекламные газеты, в один день подброшенные «клиентам», много чего было… Алексей счастливо засмеялся, и тут неизвестно откуда прямо перед носом «опеля» Барсукова оказался бензовоз.
Вениамин Леонидович проводил взглядом из окна понурую троицу, вернулся к столу и извлек заветную бутылку коньяка и крошечную рюмочку. «Завтра же надо будет подыскать новое место для офиса, — подумал Вениамин Леонидович, аккуратно наливая в рюмочку золотистую жидкость. — Вся работа будет выполнена сегодня же. Сегодня же…». Мысленно подсчитав сумму, полученную за всю операцию, он удивленно улыбнулся: по его мнению и примерным предварительным расчетам, все эти люди стоили гораздо дешевле.
Александр Фуфлыгин КОГДА СБЫВАЮТСЯ ЖЕЛАНИЯ (Новелла)
Быть может, стоит сбыться заветным желаниям и для того еще, чтобы понять, как все-таки мы привыкли жить исключительно посолонь, как свыклись с этой безнадежной аксиоматичностью бытия: с урчащими запахами завтраков (вообще, с этой каждодневной проблематикой пищеварения), с болотистой топографией быта, с командирской капризностью погоды. Когда все твое существо, вся ровная гладь твоих дней, точно контрфорсами, облеплена привычками, привычками, привычками, есть повод крепчайшим образом усомниться и в самом себе как в существе разумном, долгом, вечном, и в примате человеческого племени, и в торжестве рассудка, наконец. И вот тогда: одним, взятым наугад утром приученная к надобностям тела постель, вдруг простынув, превратит в маету бывшую до сего момента сладкой утреннюю дрему; вдруг воспаленное сознание, спешно вооружившись штыком регресса, отринет привычный уклад обеденного винегрета; вдруг засаленный томик детектива, поданный вместо позднего ужина, при легком чтении даст оскомину.
«Как все-таки легко я попался в сеть рутины, — подумал старик, в неожиданно сильном изнеможении падая на стул. — Мне ли было попасться в них, опытнейшему доке, за всю свою жизнь сплетшему такое количество разнообразнейших сетей, исследовавшему все возможные закоулки сетевой ловли. Но жизнь, как говорится, умнее нас всех, какими бы изворотливыми мы ни были. Она найдет управу на каждого из нас. И вот уж и я в сетях безысходности, пленник плесени, узник застарелости, застоя, рухляди…» С какой-то непомерною тощищей глядел он на разлегшийся перед домом пустырь, безнадежно, год от года расползающийся вширь, и думал, что пустота, поселившаяся внутри него самого, растет еще шибче, и ее росту нет никакого предела. В конце концов, он мыслями этими довел себя до зябкого оцепенения и с упоительной медлительностью улиты заполз под одеяло, по пути наугад выудив дородный кирпичик с книжной полки.
До сих пор он искал в книгах своего рода убытка сознания, эдакого особого дремотного состояния, границ и глубин которого не угадать; сначала лениво рыскал промеж строк, пока наконец не вяз в каком-нибудь абзаце и не засыпал тупо, не видя снов. На этот раз все было иначе: первой же строфой он был смыт в пучину сюжета и совершенно неожиданно для себя сумел оценить всю его глубину, всю плещущую красоту и прозрачность слога.
…Вдруг, пенясь, по комнате разлилось соленое и теплое, и солью облепленный стул поплыл, задрав ноги. Непогожим был вечер у самого Синего моря: чья-то старая лодка со страстностью самоубийцы билась носом о причал, просясь на простор. Утопая в песке до икр, старик почуял щеками, грудью, ляжками мощный пассат, размашисто и привычно снял с сушилен выветренный и подлатанный со вчерашнего вечера садок и вышел в просоленную ширь, вразлет, по ветру, разрезая море-окиян ровно надвое, по меридиану подкрадываясь к рыбному месту. Поначалу несколько раз сеть приходила с тиною морскою, когда же упорство рыбака было вознаграждено и рыбка, выполнив три заветных желания, раззевавшаяся от усталости, нырнула в пучину, старик проснулся.
Ощущая легкость в мослах, он лежал, постепенно приходя в себя. Выловив из одеяльных волн забытые с вечера очки, отложил их, еще не проснувшихся, на тумбу, встал, полный каких-то диких, удушливых — во все легкие — вздохов: эх, мне бы! я бы! сетью бы три этих заветных! не тратя ни одного на зловредных, неврастеничных старух (своя, земля ей пухом, померла пять лет назад), все, все исключительно на себя! К тому же ведь столько всего требуется: подлежат выравниванию колени, забор ребер требует поддержки. Но почему же только три желания? Он выдумывал их пачками: выправить голень, исправить люфт копчика, «развал-схождение» всей опорно-двигательной системы.
С этого самого момента дни его потекли с ускорением: моментами захватывало дух, когда он вдруг оказывался ввинченным самым крепчайшим образом в карусельную лихорадку кабинетов, когда волна очереди подносила его, трепыхающегося, бьющего хвостом, к окошку железнодорожной кассы. Но там, слева, наислучайнейший проезжий забрасывал сеть, выуживал колотящееся, золотое, хвостатое и требовал вслух свое кровное. Директор базы размораживал рыбий труп и, не дожидаясь вялого шевеления, вталкивал губами в рыбьи уши свои похабные жажды. Возникала прорубь, приглашала ведрами черпать из себя говорящих щук. Грезился добрый молодец, сотовый и до изумления мобильнейший: и в извращенной форме экспроприировал идею, и херил мечту. Уйдите, монстры, террариумы, волки, спохватывался старик и поспешно брал билет до самого Синего моря.
По приезде вместе с ключом от отвратительной комнаты в плохоньком заезжем доме он получил памятку, отпечатанную в виде поздравительной, с ажурной кромкой, открытки. Решительным образом (без каких-либо исключений) приезжим запрещалось следующее: заготавливать в качестве сувенира морскую воду более полутора литров в одни руки и в том же количестве вывозить за пределы курорта; осуществлять безлицензионный, кустарный лов золотых рыбок снастями, непригодными к таковому; приобретать за наличный и безналичный расчет с рук жареную, вареную, копченую, вяленую и тем более сырую золотую рыбу с целью употреблять оную в пищу — во избежание каких бы то ни было кишечных инфекций (настойчиво предлагалось посетить ресторан «Золотая рыбка»: добрая дюжина альтернативных рыбных блюд, отличнейшая язевая ушица); а также появляться в нетрезвом виде в необорудованных для этого местах, на пирсах, волнорезах и проч.
Перекусив наскоро, старик отправился к побережью: было спокойным Синее море, лишь мелкие барашки раз от разу проносились по его поверхности, муругой и мраморной. Как игрушечки, сидели на морской поверхности ладные рыбацкие судна: захотелось, неудержимо потянуло кинуться вдоль бережка, отыскать — пусть даже самую дурно просмоленную! — лодку, броситься в нее жадно и, рискуя жизнью, посягнуть наконец на соленый простор. Однако же плакаты, понатыканные там и сям, предупреждали ясно: ни-ни; грозным тоном звучали строгие императивные нормы; пресекалась ловля без патента; заплыв за какие бы то ни было буйки строго воспрещался.
В этом месте наступает легкий штиль, посудина нашей новеллы с обвисшим парусом замирает посередь сюжета. Уж так исторически сложилось, что зараза казенщины крепко вросла в плоть литературы точно таким же образом, как она уже однажды, питаясь веществом жизни, мощно и неудержимо пошла в рост. Поставленные жизнью бюрократические барьеры герои литературных произведений берут, но при этом теряют молекулы своей сути, как перья. Вот и наш старик готов нестись галопом по кулуарам, как по беговой дорожке, беря кабинеты прыгающим сердцем, но поделать здесь нечего, тем более что и сам автор против непатентованной рыбной ловли и совершенно всерьез надеется в этом вопросе заполучить читателя себе в союзники.
Обычно конторы, ведающие выдачей всякого рода правоустанавливающей документации, располагаются на куличках, однако же отдел контроля за рыбной ловлей, охраной окружающей водной среды и выдачи патентов подвалил к Синему морю под бочок, пришвартовался к песчаному бережку с самым официальным выражением фасада. В кабинетах, как в кулёмах, старик неизбежно вяз, чувствуя себя не человеком, а скорее мелкой зверюшкой, на сухие вопросы отвечал нетвердо, за что неизменно отсылался в очереди следующие, отстаивая в которых, желая лишь отвлечься от тупой боли в измученных пятках, он пробовал тешиться чтением объявлений, прикрепленных там и сям. Предлагалось, например, плюнуть на все муки с высокой башни и через посреднические фирмы приобрести, минуя патентованную ловлю, выращенную в искусственных условиях золотую рыбку, гарантированно исполняющую стандартный комплект желаний: полногабаритную квартиру с раздельным санузлом, блондинку с евроремонтом бюста, счет в банке. Ох уж все эти людские похоти в родительном падеже! Все эти трафаретные эфирные грезы, будто сошедшие с конвейера, способные удовлетворить лишь нужды грязнопузого троглодита, сызмала мечтающего о самом простецком: норе, мясе, бабе! Нет на свете муравы, настой которой способен извести под корень всю эту пандемию скудоумия, столь резво распространяющуюся по свету, что порой захватывает дух! А ведь желанья не должны быть скромны и незатейливы: неужели не хочется, к примеру, увидеть человечество коленопреклоненным, годным к употреблению? или слопать добрую порцию абсолютной монархии? или выгрести из копилки человечества все мировое золото, разделить между всеми поровну и наблюдать за всеобщим долгожданным равенством? Нет никакого резона размениваться на мелочевку, коль имеется возможность через соломинку высосать из космоса мировой разум, ибо необходимо, в конце концов, узнать его вкус.
Старику вдруг захотелось быть абсолютно несносным в желаниях — насколько хватало заряда памяти; вещество истории, как веснушками, усеяно невозможными желаниями, осуществленными в действительности. «Я буду упрямым, — думал старик, все ближе подбираясь к нужному кабинету. — Упрямство здесь уместно, ведь моими стараниями создается история. Как сложно ощущать себя на пороге сверхбытия, когда рядом близкая возможность хотя бы чуток задержать объявленные сумерки богов. Я буду мелочным, ведь самое земное существование, которым я желаю овладеть, состоит из мириадов мелочей, людских хотений, махоньких, незначительных нужд…»
Однако же к закату второго дня пыл его стал утихать. Не то чтобы он устал, но вот обнаружилась какая штука: стариковские качества, на которых он норовил строить свой расчет (мудрость, жизненный опыт и тому подобная чепуха), оказались бессильны под нажимом качеств принципиально иных. Требовалось, к примеру, безобразное рвачество, требовались мускулистые локти, луженая глотка, недурственный припас нахальства. Всяческие разнокалиберные морды, нацепив деловое выражение, как мастеровой фартук, нагло сновали из кабинета в кабинет, привычно небрежно отодвигая старика с пути своего следования. Мысль о том, что он по уши погряз в этой лишенной смысла чехарде, подкравшись ближе, набросилась, растерзала грудь. Цепляясь за желания, как за жизнь, он продержался еще некоторое время, однако к тому времени, когда был все же впущен в кабинет, силы его почти оставили.
Старика приняла госинспектор в партикулярном костюме, нервозная и рассеянная. Он бредом сивой кобылы ответил на вопросы, показавшиеся ему абракадаброй, побожился, что не имеет задолженности перед бюджетом, христом-богом подтвердил оплату госпошлины, недостающую анкету заполнил каракулями на коленях. «Я выдохся, — мелькнула мысль, — однажды глупейшим образом отдавшись вам на растерзанье, — вам, палачи, ликторы, как еще вас назвать!» Как приговор выслушал он резолютивную часть заключения: в течение недели донести четыре фото три на четыре, получить патент в течение месяца после получения ответа из министерства.
— Когда же будет ответ? — слабо поинтересовался старик.
— В течение месяца.
На том аудиенция была окончена. Сбоку напала шальная волна: хватаясь за стены, старик двинулся к выходу, наконец, тяжело высадился на песок из идущего ко дну, разваливающегося по всем швам здания комитета, ладонью унимая бегущее рысью сердце. Берег, встав дыбом, услужливо подставил рассыпчатый бок. Случайная, заблудшая волна лизнула ботинок, — от этого липучего ощущения сырости старик и очнулся.
Душа ходатая, идущего на униженный поклон, держится на единственной ниточке, но неизмеримо страшней положение того, кто ворочается восвояси с грубым отказом под мышкой: нить прервана, пустота выела жизненный смысл. «Коль был бы я молод, — подумал старик, — то встал бы колом в ваших глотках, а переварили бы меня, так выел бы вам внутренности!» Вдруг с околицы прошлого ворвались воспоминания, полные каких-то давних желторотых чудачеств. Старик полакомился ими, как семечками, как вдруг настало нежданное облегчение: и было спокойным Синее море; и запах выбросившихся на берег водорослей, мягкий и соленый, вкрался в легкие: их объема недоставало, чтобы вмещать его. Уж больше не хотелось рвать и метать, а всей середкой жаждалось пива с бульоном из раковых хвостов, и обязательно с ржаным хлебом.
Для смеху он забрел на базар, и тут же — назло государственной системе патентования — купил золотую рыбку, а с нею и комплект из трех стандартных желаний у подозрительного вида воротилы, который немедля, не отходя от кассы, ответственно отчитался в мобильный телефон перед кем-то, что толкнул последнюю, самую задрипанную упаковку желаний одному старому дуралею. Подманенный прикормом, старик глубоко заглотал наживку, но, как всякому обывателю, ему никак не хотелось самому себе сознаваться, что его самым пошлейшим манером надули. Он нес яркую глянцевую коробку торжественно, как вымпел, и с той самозабвенностью, с какой, наверное, несут только чушь, и на лице его сияла улыбка самого отличнейшего качества: та, что от горизонта до горизонта.
В своей комнате он рвал брюхо упаковке долго, со смаком, с треском, будто разделывал рыбу, только вместо пузыря выудил инструкцию. Немного покопавшись в иероглифах, он отыскал кириллицу: предлагалось не спешить, а для начала ознакомиться, как активировать все три желания. Он распаковал пластиковую золотую рыбку (монограмма на лейбле: «Made in China»), затем произнес вслух четко и громко: любвеобильную, большегрудую блондинку, квартиру улучшенной планировки, много денег (требовалась конкретная сумма: волнуясь, он назвал сумму, всегда казавшуюся ему астрономической — миллион). Затем, ничтоже сумняшеся, он завел таймер исполнения желаний на утро, которое, как известно, мудренее вечера, выполнив все требования инструкции от доски до доски.
Научная мысль, однажды мощно скакнув, показала человечеству реальную возможность сказку сделать былью. Отыскались мастаки, смогшие стреножить многие из диковин (хотя, справедливости ради надо отметить, что определить физические параметры чуда не удалось пока никому). Метаморфоза задрипанной халупы в царский дворец стала привычным делом. Пышногрудая блондинка, полученная путем репродуционного дробления кварка, случаем забытого на простыне, любая субстанция, зачатая силою человеческого мышления и отпочковавшаяся от чуда, перестала удивлять, став заурядным обыкновением. Старик вдруг подумал, проснувшись, что в комплекте с чудом он получил и добрую порцию привычки, настолько он был спокоен в то утро. Обычно ждешь исполнения желаний с распрыгавшимся сердцем, с томленьем души, — но вот ведь, кажется, дальнейшая твоя жизнь предрешена, настоящее вывернуто наизнанку, а все минувшее перечеркнуто крест-накрест: откуда же столько спокойствия в человеке, откуда столько привычки? «Хотя, впрочем, — думал старик, — я лишь сменил нору, и только…» Всеми фибрами души он силился не думать о спящем существе, оказавшемся сегодня ночью у него под боком, о пахнущем клубникой и молоком соблазнительном колене, выставленном напоказ из простынных валов, о сонном сопении, вызывающем у него ураганный прилив нежности. Забытый запах самки, пробудивший в нем дремлющую мужскую мочь, насторожил: отвратительный страх сидел в нервных узлах, в трепещущем виске, в самой утробе.
Поначалу он радовался девичьему глубокому сну, ибо трусость, его обуявшая, требовала отсрочки окончательного исполнения чуда. Маскируясь мудрой неторопливостью, как камуфляжем, старик с удовольствием шлялся по квартире, ныряя в бездонные пропасти зеркал, пропадая там лишь для того, чтобы с дельфиньей легкостью вынырнуть из других. Он вел себя точно ребенок, забравшийся в новенький автомобиль: попробовал на крепость всякую ручку; постучался в каждую дверь, отворял ее, а затем впрыгивал что было мочи в скрытое ею помещение, пугающе гаркая на маскирующихся под мебель лакеев (довел двух-трех до инфаркта, и они, скользя спинами по стенам, сползли на пол, обернувшись резными стульями); лихо спустил воду в унитазе, вокализом подпев в унисон ревущему во всю глотку водному потоку; совсем распоясавшись, вскарабкался в джакузи, вопя, боролся с пышной пеною, как с ворогом; оберегая, однако же, сердчишко, из ванной быстро выполз, раскисший и пахучий, и завалился на постель рядом со спящей девушкой.
Сон ее был удобен и сладок. Пробудившийся в старике сластолюбец, пользуясь этой ее беспомощностью, этой глубиною сна, притулился сбоку, как был, влажный от принятой ванны и от похоти. Ему не хватало еще смелости дать волю рукам. Вот и позволил он себе всего одно бесстыдное касание, лишь одно головокружительное действие, от которого девушка вдруг брыкнулась и застонала, возясь. Старику стало несусветно стыдно за себя, старого маразматика, распустившего слюни при виде нежной юной плоти. Мозолистая старческая ладонь, алчно лапающая беззащитную девическую грудь, достойна неотложного отсечения. Подступившая к горлу дурнота показала старику, насколько он слаб, насколько немощен, чтобы дать этой девочке хотя бы толику той услады, которой она заслуживает.
Он заснул с каким-то недобрым чувством, и к утру ощущение тревожности лишь распухло, как болезненно раздается за ночь опухоль. С самого утра начался перезвон: многажды длинно звонили в дверь, но покуда он доковылял в халате до двери, все смолкло, и он обнаружил лишь письмо, приколотое к косяку кнопкой. Его распечатал, страстно любопытствуя, но, еще не проснувшись окончательно, не понял чудовищного смысла написанного.
«Уважаемый жилец! — писалось в письме. — Предупреждаем Вас, что на сегодня назначен снос Вашей квартиры, признанной самовольной постройкой. Просим организовать вывоз из квартиры личного имущества. Сообщаем также, что Ваше отсутствие в помещении на момент сноса не будет являться препятствием для такового. Однако в этом случае служба судебных приставов ответственности за оставленное без присмотра личное имущество не будет нести. Невыполнение Вами настоящих рекомендаций будет рассматриваться как противодействие исполнению службы судебных приставов законного решения суда и повлечет за собой уголовную ответственность в соответствии…»
«Какая-то ошибка, кажется, — подумал старик, — мура какая-то…»
Настроение его было испорчено, и нехорошая мысль, до сих пор подкрадывающаяся, как тать, нынче мощно скакнула, улучив удобный момент, и вцепилась в сердце. Что-то не ладилось, что-то сбилось в исполненных желаниях, какой-то скрытый изъян порочил всю конструкцию. Быть может, стариком не было учтено китайское происхождение рыбки или подвело бижутерийное качество продукции. Теперь старик начал беспокоиться из-за того, что девушка отчего-то никак не просыпалась, хотя сон ее по-прежнему казался безмятежным и сладким. В каком-то неистовстве колобродил он по комнатам, чувствуя потребность пораскинуть умом. Мысль, сказочная в своей простоте и легкости, пришла в голову. Длинногривый конь, прочтя богатырские мысли, бряцая сбруей, мощно кивнул, словно соглашаясь. Прижимая обоюдоострый меч к стегну, королевич, пошатываясь под бременем кольчуги, припал на одно слабое колено, взявшись морщинистой рукой за край хрустального гроба. Лишь только стоило слиться в чудотворном поцелуе двум дыханиям, лишь только старческие губы припали к губам младым, все в мире, как по волшебству, пришло в движение. Могучий ветер взволновал Синее море, тридцать три удальца, окончив ночной дозор, исчезли в морской пучине, а дюжий богатырь, ухватившись за кольца, небо притянул к земле. Смешалось все — огонь, твердь, вода, — и старик, сняв шлем, пал на оба колена.
— Ах, — сказала девушка, просыпаясь, и сладко потянулась, показывая умопомрачительные подмышки, — как же долго я спала!
Какой-то застоявшийся хрящ в ее спине нежданно-негаданно хрустнул. Она, словно по его команде весело вскрикнув, прыснула с постели в каком-то безумном простоволосом плясе, беря визгом нечеловеческой высоты октавы, как была, обнаженная, с бесстыдно болтающейся грудью, и в исступлении заламывала лапки, фальшивым, но чертовски милым щебетанием меря кубатуру помещения. Старик бегством пытался спастись от знойного плена ее распоясавшихся рук, но она неизменно нагоняла его, прыгала ему на закорки с наезднической удалью, горланила, рвясь в бой, беспощадною шашкой в капусту крошила врагов, затем, возбужденная и влажная, бросалась наземь под ноги своему обессиленному коню. Старик валился обок, как мешок: изнеможение его мало смахивало на томную негу, скорее, на дрыгоножества грудной жабы. Ее же поразил демон сумасбродства: она какими-то многими прыжками, какой-то резвой чередой невесомых, но полновесных па тащила старика за собой, пытаясь на отвратительном русском с азиатским акцентом втолковать ему что-то. Старик изо всех сил бодрился, но чувствовал, что рассыпается от слабости и, кажется, растерял себя по каплям в лабиринтах новой квартиры, ибо уже не чувствовал ни рук, ни ног, ни шеи. Зеркала в холле испуганно отпрядывали, отразив в себе эту шатающуюся размазню.
— Милый… — счастливо прошепелявила девушка, неожиданно нелепо дергая челюстью, — моя твой навечно…
Дальнейшее ее поведение было каким-то марионеточным: притаившийся под потолком китайский кукловод (будучи с нею в некоторых натянутых отношениях) перепутал нити и своротил ей шею, и выкрутил руки; пытаясь устранить нитяную путаницу, лишь запутался больше, в конце концов вообще махнул на нее рукой, — и она брякнулась оземь, недвижимая, с остекленевшими глазами.
Как был, в халате, босоногий и жалкий, старик стоял посреди комнаты в эпицентре сердечного удара, нутром чувствуя, как свежеиспеченная жизнь китайского производства, совсем недавно приобретенная им за наличный расчет, рассыпается в пух и прах. В бетонных панелях стен, в самом угловом стыке, вдруг с грохотанием разверзлась дыра, как хайло залетного дракона. Мордатый бульдозер изо всей своей дизельной мочи впихнул внутрь комнаты ковш, с древесным хрустом разбомбил мебель, пихнул стену, пихнул другую, чихая от пыли и в сатанинском ожесточении отвратно воя по-звериному. Старик, визгливо и тонко вопя, бросился в образовавшийся просвет, рискуя быть раздавленным бульдозерной гусеницей. Откуда только взялись силы у нашего престарелого героя: он увертывался от пытающихся его схватить зевак, орущих и по-бабьи всплескивающих руками, и пробовал удерживать рушащиеся балки ладонями, плечами, спиною. Он цеплялся за свое кровное, хапая ртом пылищу, пока его оттаскивали от опасного места, яростно крича, что там, в хламном тартаре, сгинула забывшаяся волшебным сном красавица, пусть раскосая, пусть спящая, пусть дикая и необузданная — но это его красавица! Впрочем, сил хватило ненадолго, и его, слабого и раскисшего от горя, все же смогли оттащить подальше.
Целый час он просидел возле самого Синего моря, будто ожидая ответа, распустив слабые руки вдоль колен, как кукла, бездыханный, искусственно дергающий коленкой, и как ребенок, насильно разлученный с матерью, маялся влажными всхлипываниями, вскоре переросшими в изнурительные промозглые рыдания. Слезы прошли, как, впрочем, кончается все в этом мире. Старику показалось в тот момент, что со слезами он вытек сам, а его душа, со сноровкою муравьиного льва, безвозвратно ушла в песчаную дюну.
— Что ж это я! — вдруг закричал он и ударил себя по лбу изо всех своих сил, словно желая наказать за забывчивость: у него же есть деньги — целый миллион! Сумма, казавшаяся невероятной кажущимся бесконечным количеством нулей, позволяла в мгновение ока оборотиться вылощенным набобом, могущим с легкостью прикупить, например, к «кадиллаку» резвую молоденькую цыпочку, чтобы обжиматься с ней в обтянутом кожей салоне, с сознанием своего легитимного права и могущества. Больше он не ждал ответа у Синего моря, а пошел прочь, вдруг поняв, насколько неисполненные желания изглодали всю его жизнь. Но теперь страданиям его пришел конец. Утлое суденышко, страдающее течью, вечно болтающееся между штилем и бурей, пристало наконец к безмятежному берегу. Старик вышел из лодки, взглядом окинув чистоту прибрежных вод, ровный бобрик холма, поросшего кустарником, и по-стариковски оценил медлительную поступь времени, владычествующего в этих краях.
Теперь он был вооружен одним волшебным средством, вооружен, но не опасен в своем предчувствии неизбежно надвигающегося счастья, которое он собирался прикупить. Он не станет торговаться, а выложит кругленькую сумму без какого бы то ни было сожаления. Затем, счастье приобретший, он примется за покупки не менее важные: возьмет себе в собственность щедрую горсть здоровья (чтобы хватило в аккурат до самой кончины), возьмет понюшку сибаритства, в меру девичьей ласки. Одним желанием, не исполненным, но исполнимым, он будет заполнять оставшуюся жизнь, и дни его теперь потекут новым чередом. Он станет тратить деньги так, чтобы остаток века, порученного ему Богом, теперь казался фиестой, но не плачевной юдолью. Чтобы мир вокруг него, будто поставленная в вазу с водой иммортель, раззеленелся, пустил корень, почку, лист. Когда же жизнь его подойдет к концу, он тихо умрет. И пускай будет в тот момент на море черная буря: пусть вздуются сердитые волны, так воем и завоют. Все же будет старику покой, потому что нет на свете ничего покойней вечного сна, нет во вселенной лучшей гавани, нежели удобная смерть — последнее пристанище для вымотанной, исстрадавшейся души.
Виктор Никитин ЧЕЛОВЕК У ТЕЛЕСКОПА (Рассказ)
Муж исчез из Ольгиной жизни. Он перегонял подержанные автомобили из Германии — заработки выходили приличные. Дела пошли хорошо, настолько, что он сначала задержался в Восточной Германии, а потом и в Западную перебрался, да так и остался там, прекратив писать домой письма и хоть изредка звонить, но самое главное — присылать вместе с очередным курьером деньги, позволявшие Ольге с маленьким сыном Вадимом если уж не хорошо жить, то по крайней мере не бедствовать. Последнее успешное возвращение мужа подвигло ее на увольнение с работы. Он и так ей говорил постоянно: «За что ты держишься? Увольняйся с этого молокозавода — копейки ведь платят. Всё равно ничего не потеряешь. Лучше дома сидеть, хозяйством заниматься — дешевле обойдётся». Она и послушалась. Так и осталась ни с чем: без мужа и без работы. Курьеры из Германии испарились, друзья мужа со своими жёнами — тоже, а своих подруг она не завела. Родители, конечно, помогали; на бирже даже одно время состояла. Теперь жизнь свелась к существованию — до прозябания оставалось совсем немного. И она замкнулась в своём одиночестве. Вышло всё по поговорке: «Дешевле купишь — дороже возьмёшь», которую часто повторяла Валентина.
Она начальником смены на приёмке молока работала, Ольга — в лаборатории, брала пробы сметаны, кефира, творога, делала необходимые анализы. Дружбой их отношения назвать было нельзя: просто общались на работе, никак друг друга не выделяя. С увольнением Ольги закончилось и это. А потом вдруг два года спустя, в марте, Валентина объявилась: позвонила Ольге по телефону домой — без всякого повода, кажется, просто так, чтобы напомнить о себе и узнать, конечно же, о том, как живёт её бывшая коллега. Надо же, и телефон мой для этого узнала, удивлённо подумала Ольга: она уже прочно тогда засела в добровольной изоляции. В разговоре выяснилось, что Валентина по-прежнему работает на том же молокозаводе, в той же должности. Выдала целый ворох ненужных Ольге новостей, поведала ей о людях, которых она успела позабыть. Обещалась зайти в гости — творогу принести, сметанки. Ольга покорно продиктовала свой домашний адрес, надеясь, что подобной глупости не случится, но уже через неделю, в субботу, в некотором смущении принимала нежданную гостью у себя. Впрочем, в не меньшей степени была смущена и Валентина. Загадочно улыбалась. Выглядела она странновато: в коричневом мужском свитере, чёрных брюках, заправленных в сапоги; какие-то пресные, похожие на солому волосы, стриженные под горшок; даже, кажется, ещё пучки в разные стороны торчали. Ольга вдруг подумала, что она вообще всегда казалась ей странноватой, но почему — она не могла сказать. На работе они одевались одинаково: в белых халатах, колпаках; в другом виде Ольга её не видела. Что еще? Ничего определённого. Но всё же…
Шестилетний сын Ольги Вадим, очень впечатлительный и резвый мальчик, сразу дал пришедшей к ним в гости тете прозвище. «Это просто Федя Федёвкин какой-то!» — сообщил он маме с притворным ужасом. Ольга укладывала сына спать — его неожиданное определение её позабавило. Кто такой Федя Федёвкин, почему именно Федёвкин, — она не спросила. Вернулась на кухню, чтобы продолжить посиделки.
Мысленно она уже согласилась с сыном: да, это Федёвкин; принёс творогу и сметаны; сидит ссутулившись на табурете и попивает чаёк, изредка посмеиваясь. Лицо простецкое, открытое и вместе с тем хитроватое. Но ещё прежде чая выпили по рюмочке, вспомнили, как хорошо было прежде. Валентина сказала, что постарается помочь Ольге с работой. Ей самой, наверное, придётся скоро увольняться: пришёл новый начальник, ставит своих людей. Но это даже к лучшему. Она найдёт себе место посолиднее. Тогда сразу же и об Ольге позаботится.
Расставались со взаимными уверениями в необходимости встречаться. И перезваниваться, конечно.
Целых два месяца прошло, прежде чем Ольга снова услышала голос Валентины по телефону. Сама даже и не подумала ей позвонить. Зачем? И вообще забыла о её визите. Продолжала прощаться с иллюзиями. Однажды смотрела по телевизору программу, в которой рассказывалось о нелёгкой судьбе популярной певицы. Проникновенный и печальный женский голос с многозначительными паузами и многочисленными вздохами рассказывал о том, как безденежно и голодно жилось будущей эстрадной звезде, и даже сейчас ей приходится испытывать немалые трудности. Певица при этом выглядела очень холёной; пальцы рук, которые она нервно ломала, были усеяны кольцами и перстнями; шею обрамляло дорогое ожерелье искусной работы; роскошный дом, в котором она жила за городом, менее всего походил на полуразвалившийся дачный сарайчик какой-нибудь задёрганной жизнью пенсионерки. Тихий голос ведущей программы тем не менее продолжал взывать к сочувствию. Они сидели в уютной гостиной, «звезда» и ведущая, горела свеча у них на столике, и было очень хорошо видно: даже пламя этой свечи, даже тень от него, отбрасываемая на их лица, и те стоили больших денег. И Ольга чуть не заплакала — оттого, что её обманывают, нагло ей врут: «Ну почему, почему, если у людей есть деньги, я должна на это смотреть?»
В таком душевном состоянии и застал её звонок Валентины. Трубку снял расторопный сын. Узнал её сразу: «Мам, это Федёвкин тебя!» «Тише ты, не кричи так… Какой Федёвкин?» — Ольга сразу не сообразила. «Ну, тот, который приходил тогда…»
Разговор вышел недолгим. Начало было с вкрадчивой улыбкой, которую Ольга сразу увидела перед собой и узнала; потом голос Валентины окреп, и невнятные ответы Ольги только придавали ему силу. Валентина предложила посетить её дачу: «Это недалеко от города, туда автобус ходит. Вместе поедем». Слово «автобус» всё вдруг открыло, заставило вспомнить, почему Ольга и прежде считала Валентину странной.
Когда они работали вместе, Валентина рассказывала, как она проводит выходные. Одним из любимых её занятий было прокатиться вместе с дочкой на автобусе шестого маршрута (тогда он ещё ходил), которым управлял знакомый водитель, из конца в конец и обратно. Она на полном серьёзе, с какой-то непонятной радостью рассказывала, как они выходят из дома после завтрака, садятся на улице Путиловской в автобус и катят по кругу. Разве не странное увлечение?
На встречу с Валентиной они опоздали. Не доехали одну остановку, вышли по ошибке и теперь двигались словно под перекрёстным огнём. Мальчишки взрывали петарды. Вадим заинтересованно вертел головой по сторонам, но Ольга тянула его за руку, вздрагивала от неожиданных разрывов — никак не могла привыкнуть.
Валентина выглядела оживлённой; та же копна волос на голове, тот же свитер, вместо брюк, правда, джинсы; в кроссовках, потрёпанная спортивная сумка в ногах. Баба неопределённого возраста. «А ведь ей лет тридцать, наверное, — подумала Ольга, — как и мне». «Автобус только что ушёл, — весело сообщила Валентина. — Следующего будем ждать. Зато первыми будем».
Вадима оставили сидеть на сумках, а сами отошли к соседним ларькам купить бутылку минеральной воды. Светило солнце; было и прохладно, и жарко одновременно. Ещё задержались немного, разглядывая витрину. И тут неожиданно Ольга услышала за спиной: «Мужики, два рубля не найдётся?» Она удивлённо обернулась: это к ним обращаются? Валентина ответила коротко: «Нет». У спрашивающего человека не было лица — только синяки, шрамы и порезы. У него даже дыхания не было. Ни на что не претендуя, шатаясь, поплёлся дальше. Валентина скорчила игривую физиономию, молча пожала плечами, показывая Ольге: вот, мол, чудила ещё объявился! Но Ольге стало неприятно: кто это — «мужики»? Разве не видно, кто она? Разве можно её перепутать с мужчиной? Это всё из-за Валентины, решила она, из-за того, как она мужиковато выглядит. Вот уж действительно Федя Федёвкин! С ней ещё в историю поневоле попадёшь!
Вадиму не было скучно. Котёнок откуда-то взялся, тыкался симпатичной мордочкой в сумки. О ноги Валентины стал тереться, спинку выгибая, а она: «Ну что, ты тоже два рубля пришёл просить?»
В автобус Ольга садилась с испорченным настроением. Над ними стояли, висели. Вадим пальцами барабанил по стеклу, что-то сдержанно гудел — в таком возрасте всё интересно. Ольга вздохнула — душно, ощущая его тяжесть на коленях, как единственное в этом автобусе, что ей несомненно принадлежит. Рядом Валентина; ей, казалось, здесь принадлежало всё: руки уверенно держатся за спинку следующего кресла, будто на командном пункте восседает. Ну, это понятно: привыкла раскатывать на своей «шестёрке». Впереди них парень сидел, деловой, видно, очень, а ещё туповатый; он долго и нудно разговаривал по мобильному телефону, постоянно вставляя словечко «короче». А сбоку Валентина своё нашёптывала — какой-то запутанный рассказ о своей знакомой, которая старше ее, и дочери этой знакомой — никак не отважится девушка на замужество, всё выбирает. «Мать не слушает — это ясно, как противодействие у неё. У меня ведь тоже глаза есть, смотрю — парень нормальный, не типчик, но и не босой. А то ведь знаешь, как бывает: поглядишь и сразу видно — так себе, трёп один, песня щегла. Я её и спрашиваю: „Вера, ну что тебе ещё надо?“ А она мне заявляет: „Походка мне у него не нравится“. Я говорю: „Какая походка?“ А она: „Да какая-то она у него борцовская“. „Какая?“ — говорю. „Борцовская…“ Понимаешь, Оль, я просто обалдела! Ну, говорю, ты даёшь, Вера! У нас у президента походка борцовская, и ничего страшного. Выходи замуж и не думай! Он, может, тоже у тебя человеком станет!»
Доехали в возбуждённом состоянии — по разным, разумеется, причинам. Открывшийся пейзаж заставил в нетерпении приплясывать Вадима: «А где ваша дача?» Вдоль шоссе тянулся лес, вниз шёл травянистый спуск — гнездились сады, торчали крыши, сирень повсюду выставляла свои кисти. Валентина вела их к дубам, высившимся справа. Только тут наконец посвежело, и у Ольги прекратила болеть голова. Стали спускаться — чуть ли не бегом. Ольга волновалась из-за Вадима. Потом пришлось ещё и карабкаться по противоположному склону — так выбрались на другую сторону. Дача Валентины оказалась вполне приличным домиком. Долго не могли справиться с замком у калитки. Валентина посетовала: «Вот что значит не была полгода». Наконец открыли, вошли в дом. Некоторое запустение, царившее внутри, придавало ему оттенок таинственности. «Главное, окна целы», — подвела итог осмотру Валентина.
Немного поворошили прошлогоднюю листву в саду, а потом развели костёр, чтобы испечь картошки и поджарить сосисок. Когда потянуло дымком и затрещал хворост, Ольга вдруг успокоилась. Теперь она была даже рада, что её вытащили из дома. И в самом деле, чего так волновалась? Глядя на то, как охотно возится с сучьями Вадим, она сообразила, что до сих пор ни разу не поинтересовалась у Валентины её семьёй — мужем, детьми, — вообще ничего об этом не знает. Чувство неловкости удерживало от расспросов. Однако молчание между ней и Валентиной затягивалось. Маячивший перед глазами обеих деятельный Вадим, хлопотавший у костра, очевидно, наводил в эту минуту на одни и те же мысли. И Валентина поведала, что у неё есть дочка трёх лет, забавный ребёнок, уже со способностями, как отметили воспитатели в детском саду, так и сказали: «Девочка у вас с изюминкой, необыкновенная», так и заявили после одного утренника, где она выступала, стихи читала и танцевала, рисует ещё хорошо, в общем, есть у неё артистические задатки, только развивать надо, и уже в лицах может показать, кого по телевизору увидит, так здорово копирует, просто умора, и муж тоже радуется как дитя, в шутку даже объявляет, когда она начинает заводиться: «Выступает заслуженная артистка Маша Петренко!», а та и рада стараться, чтобы только похвалили…
Про своего мужа Валентина успела рассказать совсем немного, но c тем же нараставшим воодушевлением, которому, казалось, не будет конца: и отец он заботливый, и муж замечательный, занимается научной работой, в университете преподаёт, астрофизик, у них даже дома, на балконе, специальная подзорная труба стоит, телескоп небольшой, вот в него он и наблюдает за звёздами… И не договорила, подхватилась неожиданно и предложила: «Давай в овраг спустимся? Знаешь, как там интересно!» Вадима не взяли с собой, потому что спешили, не спускались — кубарем скатывались в резвом и головокружительном беге. Потом с хохотом падали в траву. Раскрасневшиеся, запыхавшиеся, переворачивались на спину и глядели в небо — высокое, полное резкой синевы. Каждая травинка, казалось, звенела. Воздух можно было попробовать губами и снова отпустить на волю. «А давай кричать?» Валентина была возбуждена, её распирало от невероятного удовлетворения. «Зачем?» — не поняла Ольга. «Тут эхо звонкое, раскатом проходит». — «Не надо, и так хорошо». — «Ну что тебе, жалко вместе со мной крикнуть? — настаивала Валентина. — У тебя вообще никогда не возникало такого желания?» — «Да нет». — «Ну, просто крикнуть, потому что так хочется?» — «Ну, правда, нет». — «Тогда смотри!»
И она крикнула, что было силы: «Ольга-а-а!!!» Эхо проскакало по холмам, отразилось от соседних домов и отозвалось уже внизу, дальше, где овраг терял свои очертания, растворяясь в полях.
«Дура, ты что делаешь?» — испугалась чего-то Ольга. «Да кого ты боишься, соседей? — возразила ей Валентина. — Не хочешь вместе со мной кричать, я одна буду!» И снова выдала громогласное «Ольга-а-а!!!», а потом: «Вади-и-м-м!!!» Ольга не выдержала, поднялась, отряхиваясь: «Слушай, я наверх пошла!» На холме показался сын — замахал им руками.
Валентину ничем нельзя было сбить. Накричавшись вволю, она не скрывала неумеренной радости, так что можно было заподозрить, что причина тут кроется в чём-то ином, недоступном разумному пониманию. Но Ольга не стала об этом задумываться. День клонился к вечеру. Домой они возвращались, как герои в школьном сочинении, — «усталые, но довольные».
С этого дня почти каждые выходные Валентина приходила в гости к Ольге. Перед этим всегда звонила по телефону. Часто Вадим успевал взять трубку: «Ма, это Федёвкин тебя». «Дурачок!». Ольга ласково сердилась, затем примирялась с неизбежным; отказывать она не умела: «Ну, конечно, заходи!» Всё это представлялось ей не то чтобы назойливым, но не очень-то нужным. Сметану и творог, которые Валентина считала своим долгом им приносить, они почти не ели.
Усаживались под вечер на кухне, как обычно, да так и просиживали за разговорами часа три-четыре. Сначала чай, кофе, а потом, под настроение, когда монологи Валентины вдруг находили точку обоюдного интереса и уже складывались в непринуждённую беседу, могли и по рюмочке выпить из стародавней, ещё из Германии привезённой (вот и пригодилась!) бутылки коньяка, а больше и не надо было. Ольга оживлялась, забывая о своей отчужденности, которая кормилась одиночеством. Валентина тогда менялась, кивала согласно: «Вот и я то же самое говорю».
После такого согласного и насыщенного вечера у Ольги только усугублялось ощущение законченной пустоты. Валентина, скорее всего, сама того не ведая, спасала её, как могла. И однажды пригласила Ольгу в гости к себе домой. Подробно рассказала, как добраться, описала дом, в котором живёт, окна, что выходят на проезжую часть, балкон на седьмом этаже, а на нём — труба стоит подзорная на треноге — мужнина обсерватория.
Так, по описанию, Ольга всё и увидела, когда прошла от автобусной остановки, и даже более того — за этим телескопом фигуру мужа Валентины заметила. Дверь квартиры открыла сама хозяйка. И сразу — на кухню, чтобы не мешать: «А то он сердится». Шёпотом, почти на цыпочках. На кухне уже стол накрытый — ждала, готовилась. «Его трогать не будем, он у меня человек серьёзный, занятой». Ольга вспомнила про «изюминку», спросила: «А где дочка?» Валентина придвигала к ней коробку конфет: «Угощайся… Она у бабушки». Ольга начинала согласно кивать под возобновлённый монолог Валентины и вдруг с опозданием поняла, что на кухне они не одни; какое-то явственное шевеление и даже вздох слева от неё и повыше заставили её скосить взгляд; не расставаясь со своим занудным, поддакивающим «угу», она обнаружила стоящую на холодильнике клетку с большой и надменной, как ей показалось, птицей. Валентина привычно молола про то, как «у нас на молокозаводе», а Ольга ни с того ни с сего озадачилась тем, что никак не могла вспомнить, что это за птица. Улыбнулась невпопад и повела рукой: «Слушай, а это…» «Это попугай наш, Викентий, — объяснила Валентина. — Его муж из командировки привёз». Ну да, настоящий попугай. Внушительный загнутый клюв. Неправдоподобно яркая красная голова, такие же зелёные крылья, и голубое в нём есть, и жёлтое — все цвета радуги уверенно расположились.
Какая же я дура, подумала Ольга. Викентий глядел на неё строгим, немигающим взглядом; молчал, пожалуй, презрительно и на подначки хозяйки сказать что-нибудь для непутёвой гостьи так и не купился. Муж тоже ей не представился: на кухне так и не появился, ни разу не отвлёкся от своей работы.
В коридор выбирались уже как опытные заговорщики, прощались, словно о конспиративной явке договаривались. Едва перейдя улицу, в подступающих сумерках Ольга оглянулась на дом Валентины и снова приметила знакомую, склонённую над трубой фигуру — его упорству оставалось только поражаться.
Они продолжали общаться все лето. В цирке вместе с детьми побывали. Наконец-то Ольге показали «изюминку». На Валентину совершенно она была непохожа. «Девочка у меня в мужа», — заявила Валентина. Maшa оказалась смуглым, довольно упитанным и молчаливым ребёнком. Кажется, ни одного слова не произнесла за всё время представления — ни до того, когда встретились на улице, ни в антракте, когда ели в буфете пирожные и пили лимонад, ни после всего. Таращила глаза с открытым ртом на Валентину и Ольгу. От Вадима вообще пряталась за маму, но тот и сам не проявил к ней ни малейшего интереса, и когда Ольга потом спросила его, почему он не подошёл к девочке, услышала в ответ: «Охота мне с малышнёй возиться!» В чём состояла «изюминка» Маши, Ольга так и не узнала. Ну, может быть, когда Маша вернётся домой, подумала она, там и даст себе волю, раскрепостится и покажет папе с мамой их, Ольгу и Вадима, в лицах, порадует родителей.
Затем был пикник в парке у стадиона «Динамо». Маша на этот раз визжала как резаная; затихала, зарёванная, на минуту-другую и снова заливалась слезами. Мяч ей в руки совали, ведёрко с совочком — ни в какую. «Хочу домой!» — вот и голос прорезался. Насилу успокоили её тем, что свернули после безуспешных попыток наладить воскресный отдых свои одеяла и попрощались с зелёной лужайкой. Тогда же, ещё до детской истерики, Ольга в разговоре случайно обронила, что, мол, всё в городе сидим, а лето проходит, и хорошо бы выбраться куда-нибудь на природу, позагорать, искупаться в реке. Валентина с радостью ухватилась за эту мысль. Душной, заполненной людьми электричкой они добрались до Усманки; на этот раз без Маши. Теперь удивляла Валентина: в воду не полезла, сослалась на плохое самочувствие; покуда Ольга с Вадимом плескались, просидела целый день на солнцепёке в джинсах и майке, кидая в реку камешки с берега. Когда Ольга разочарованно заметила ей: «Зачем тогда приезжали? Надо было отменить», она ответила: «Да ладно, раз уж договорились. А то когда ещё случай представится?»
И точно — больше на природу уже не выезжали. Сидели на кухнях — у Ольги преимущественно. Зашли однажды и к Валентине. Ни мужа, ни «изюминки» дома не было. Про мужа уже и неловко было Ольге спрашивать. Не видела его ни разу. Раза два Ольга слышала его сухое покашливание — в те минуты, когда Валентина отлучалась из кухни, в его комнату. Потом, в коридоре, видела полоску света под прикрытой дверью, за которой ни разу не довелось ей побывать. Когда уходили из кухни, Валентина заговорила о новой работе: нашлось-таки ей место, может быть, теперь и для Ольги что-нибудь подыщется — новая линия йогуртов создаётся, импортная, немцы, кажется, приехали производство налаживать. «Трепло!» — вдруг услышала Ольга; Валентина прервалась на полуслове. И ещё: «Хватит врать!» Голос игрушечный, с присвистом. Попугай Викентий! «Замолчи!» — попыталась урезонить его Валентина, но куда там: раскачиваясь на жёрдочке, упорно желая переговорить Валентину, Викентий разболтался: «Трепло! Хватит врать!» «Да угомонишься ты!» — вскричала она. Викентий не уступал. И тогда она накрыла его тряпкой.
Этот вечер закончился раньше обычного. В коридор выходили, как всегда, осторожно, чтобы пол не скрипел. Валентина, по своему обыкновению, говорила шепотом, потом вдруг спохватилась и хлопнула себя по лбу, громко рассмеявшись: «Надо же, привычка… Решила, что муж дома!»
Наступила поздняя осень. Выпал снег, ударили морозы. Валентина позвала Ольгу на каток: «На коньках катаешься?» У неё был абонемент, а после катка она иногда посещала сауну; ей там массаж делали, парень знакомый. И она призналась Ольге (та без Вадима была, закапризничал, не захотел), что этот массажист — её любовник, духи ей недавно подарил французские, и она теперь не знает, куда их дома от мужа спрятать, таскает с собой в сумке… В раздевалке показала: блестящая упаковка, флакон изящный. Аромат Ольгу душил. Вернулись к бортику, поправили на коньках шнуровку. Валентина предложила: «В сауну со мной пойдёшь?» Ольга отказалась. Домой возвращалась одна, думала обиженно, глотая холодный ком в горле: везёт же таким — и муж у неё есть, и любовник… почему? Вспомнила её низкую, плотную фигуру. Медвежью походку. Федёвкин. Вылитый Федёвкин. Разве может это нравиться мужчинам? В штанах постоянно ходит. Ни юбки на ней, ни платья ни разу не видела. Ещё и французские духи не знает, куда прятать!
После похода на каток прошло две недели, а Валентина почему-то не объявлялась. Хотя понятно — любовник… Другие заботы… А у Ольги свои: подошвам её зимних сапог пришлось делать профилактику в мастерской. У прилавка Ольга увидела бывшую работницу молокозавода. «Да, — сказала та после нескольких минут общих воспоминаний, — ты слышала, что с Валентиной случилось?» И рассказала ей всё, всё, всё или почти всё, потому что одно предложение цепляло другое, а к нему возникал вопрос, а ответ был намного сильнее и беспощаднее вопроса; ответы множились и широко раскрывали Ольге глаза, и у неё падало сердце, и ей хотелось найти оправдание, и застревали какие-то бесполезные слова во рту, в нём накапливалась горечь… Если по порядку, то картина вырисовывалась такая: Валентина в лаборатории, на работе, надышалась кислотой, когда анализы делала, прямо в руках у неё бутыль с кислотой лопнула, обожгла руки, теперь она на больничном, у неё и так инвалидность, ещё раньше получила, тогда ногам от кислоты досталось, с тех пор только брюки носит; мужа у неё никакого нет и никогда не было, потому что замуж она не выходила, детей — тем более; словом, всегда Валентина одинокой была, а тут ещё это…
Дома Ольга спросила Вадима: «Мне никто не звонил?» Сын покачал головой. Ольга вспомнила, что у неё всегда было какое-то к Валентине недоверие. Слишком она была настойчивой, словно хотела что-то доказать. Теперь понятно, что главным образом себе. Ведь она тоже спасалась.
Обида и злость прошли. Ольга взяла телефонную трубку и тут же опустила её. Дура, номера её так и не удосужилась запомнить! Думала не долго, поехала к Валентине. Когда вышла из маршрутки, сразу посмотрела на балкон: трубы там не было. В квартиру звонила короткими и длинными звонками, потом стучала. Вышла соседка: «Вы к Валентине?» — Крашеная блондинка, немного постарше. — «Так её нет дома». Сзади женщины послышались скорые шлепки бойких ног. «Мама, кто к нам пришёл?» Любопытная девочка выглянула из-за ног. «Изюминка», — улыбнулась ей Ольга. «Кто?» — не поняла женщина, а Ольга спросила: «А где она, вы не знаете? Я её подруга». «На нашей даче, за городом, — принялась объяснять женщина. — Зимой дача всё равно пустует, а жить там можно, печка есть. Валентина нам всегда помогает, и за ребёнком присмотрит, когда мы с мужем уезжаем… Постойте, а вы знаете, как туда добраться?»
Снегу за городом было море. Ольга спешила, оступалась с узкой, протоптанной дорожки и проваливалась в сугробы. Пустынная белизна резала глаза. Вот и овраг. Дом с искрящейся на солнце крышей, дым из трубы. Благословенная, изначальная тишина. Мороз возбуждал. И тут Ольга почувствовала, что у неё появилось нестерпимое желание крикнуть. Заголосить самым отчаянным, сумасшедшим криком. Чтобы слышно её было на многие километры вокруг. И она крикнула изо всех сил: «Валентина-а-а!!!» И стала ожидать, когда эхо ещё раз, уже с той стороны, отзовётся ей встречным криком.
ПОЭЗИЯ
Илья Недосеков (20 лет, Москва) НАШИ ОБЩИЕ СНЫ И ТРЕВОГИ…
По пшенице ладони скользили…
Мы расстались, мой милый ариец, В тех краях, где я правды искал, И теперь эта жизнь, как зверинец, Обнажила звериный оскал, Эта власть, что в пороке зачата, Обнажила повадки врага… В этой жизни мы оба — волчата, Но свобода лишь мне дорога. Ведь мерцание снежного склона Не поймёшь и не примешь всерьёз Ты, поверивший в силу закона, Как слепой, дрессированный пёс. Ослеплённый своими правами, Оглушённый призывами, ты Слишком часто бросался словами, Извлекая их из пустоты… Мы расстались в конечном итоге, Но из памяти разве сотрёшь Наши общие сны и тревоги, Нашу общую правду и ложь? По пшенице ладони скользили… А в груди навсегда, как ожог, Как слеза побеждённой России, Отражён твой далёкий Торжок — Отражён, как видение, чтобы От разлук был какой-нибудь толк… Да, мы были волчатами оба, Но теперь я давно уже — волк.* * *
«Не бывает стихов о любви…»
Не бывает стихов о любви. Не бывает стихов о разлуке… Я целую дрожащие руки, Побледневшие руки твои. Те порывы, что были нежны, Те мечты неземные — сбылись ли? Говори. Мне нужны твои мысли, Мне слова твои очень нужны. Но несбывшихся чувств не зови. Я о них не жалею нисколько, Потому что, как это ни горько, Не бывает стихов о любви. На земле, где порядок таков, Что мечты и порывы — телесны, То стихи для любви слишком тесны, То любовь недостойна стихов… Обречённо забыв свою грусть, Но исполнив своё обещанье, Обними ты меня на прощанье — Я к тебе никогда не вернусь. Но замаливать станешь грехи, — Не забудь, как сердечные муки: Не бывает стихов о разлуке! Так о чём же бывают стихи?* * *
«Тихо, как в небе — за белой звездой…»
Тихо, как в небе — за белой звездой, В облаке белой космической пыли… Как хорошо, что в судьбе непростой Были печали и радости были. Были деревья в прозрачной смоле, Были широкие русские дали… Как хорошо, что на этой земле Девушки в губы меня целовали. Я не забуду и не отрекусь, Мир полюбив, где, забвенье нашедший, Тихий кузнечик, приветствуя грусть, Вторит безмолвию, как сумасшедший. Мне ли, прижавшему клевер к губам, Пряча глаза за вершинами сосен, Думать, что я никогда не отдам Сердце тому, кто об этом попросит? Мне ли грустить о далёкой звезде, Если, ссыпая смородину в блюдце, Руки дрожат, как цветы на воде, Но не пытаются к звёздам тянуться? — Знают, что их обожжёт метеор, В медленном небе до срока сгорая… Как хорошо, что небесный простор Сердце собою заполнил до края, Жить научил и глядит с высоты Так, словно только недавно был рядом… А серебристое око звезды Манит своим понимающим взглядом.Сергею Есенину
Тишина деревенской Руси Треплет рыжего клёна локон. Тёплый дождь, выбиваясь из сил, Льётся в землю берёзовым соком. Всё здесь, плача, молчит о тебе. Всё здесь молится, тихо вздыхая… Сквозь печаль серебристых небес Промелькнёт журавлиная стая… До сих пор всех бросает в дрожь Твоей жизни суровая полночь… До сих пор всюду ржавая ложь, Что плела фарисейская сволочь! Лезла в душу всякая дрянь, И смердела упрёков плесень. Неужели собачья брань Заслонила бы свет твоих песен?! Неужели чёрная грязь Разлилась бы в словесных узорах?! Бирюза твоих ласковых глаз Навсегда отразилась в озёрах… Но завяли глаза, как цветы, Глядя в жадно-надменные лица… И гордятся слепые скоты Своим мифом о самоубийце… Нет, не верю! Не верю в ваш хлам — Мемуарам и некрологам! В вечной буре трагедий и драм Он остался чист перед Богом!.. Отцвела белоснежная гладь… На губах — только запах жасмина… И недаром старая мать Отпевала умершего сына…* * *
«Шёпот вереска, шум бересклета…»
Шёпот вереска, шум бересклета, Бесконечных полей целина… Ты осталась одна у поэта, О, моя полевая страна! Ты прими меня, даль луговая, У заросшей осокой межи, Через край небеса проливая В опустевшую чашу души. Запылённой тропой Подмосковья Из московской глухой суеты Я пришёл твоей рыжей корове Накосить луговые цветы. Дай мне ветер и посох пастуший, Птичий щебет — наперебой. Может, вылечат стихшую душу Подорожник и зверобой… Ведь, ржаным покрывалом одета, Окаймлённым узорами льна, Ты осталась одна у поэта, О, моя полевая страна…Русский самородок
Издалека мерцают купола, И кажется, как будто всюду — свято… Лишь тяжело вздыхает Ханкала, Кровавыми пожарами объята, Лишь от озноба стонет Гудермес, И в мутные глаза Урус-Мартана Испуганно бросается с небес Рассвета окровавленная рана. В бреду застыли Грозный и Аргун… А вдалеке сквозь рубежи и грани Цветут дожди, как колокольный гул, И об ушедших плачут христиане… Последние слова — с надгробных плит — К зрачкам до боли льнут, сжимая души, И с вечностью упрямо говорит Простуженное эхо — голос Сунжи, Как будто, не тая последних сил, Всё рассказать пытается кому-то, Как русский воин вслух произносил Слова молитв в окрестностях Бамута… Его теперь не упрекнёт никто: Он до кончины был правдив и кроток, Чтоб каждый выродок запомнил, что Не продаётся русский самородок!* * *
«Сегодня в этом небе — журавли…»
Сегодня в этом небе — журавли, Сегодня в этом небе — листопады… От этой опечаленной земли Мне больше ничего уже не надо. В душе прошла та жажда тишины, А брызги чувств, застыв ветвями клёна, К моим ногам легко наклонены, И тишина — легка и окрылённа. Вы знаете, как сладок аромат Той нежности, что не объять руками, Когда с тобой поля заговорят Холодными, как осень, сквозняками? Вы помните? — Лишь руку протяни И попроси прибежища и крова Сквозь полумрак: «Спаси и сохрани!» — В неповторимой жажде неземного. Вы слышите? — Я слился с тишиной, Как запах спелых яблок — с нежной кожей, И облака плывут передо мной, На тишину задумчиво похожи. Она — звучит и шепчет издали, Чуть потревожив огонёк лампады: «Сегодня в этом небе — журавли, Сегодня в этом небе — листопады…»Памяти Ю. П. Кузнецова
В эти сумерки выбежать? выйти ль? — С обнажённой душою — до строк — О тебе, мой суровый учитель, Что мой путь безнадёжный предрёк. То ли тихо заснул, то ли ожил… Замерев у судьбы на краю, Безнадёжностью ты обнадёжил Обнажённую душу мою. И не вычеркнуть слов — до предела Дорожи или не дорожи: «На успех безнадёжного дела!» — Из моей обнажённой души.Мечта
По узким трещинам Расстеленной брусчатки Туда, где солнца жар, Стремлю неспешный шаг. Улыбка — женщинам. И белые перчатки. И белоснежный шарф. Цилиндр. И чёрный фрак. Глядят насмешливо: «Видали остолопа?! Быть может, вкуса нет? Приличней нет белья?» Представлюсь вежливо — Запомнили все чтобы: Мне девятнадцать лет, Зовут меня — Илья!Наталья Мурзина (33 года, Кемерово) РУССКАЯ ВЕЧНОСТЬ
«Я баян обниму. Он, заждавшийся, на руки просится…»
Я баян обниму. Он, заждавшийся, на руки просится. Встрепенётся, вздохнёт, как живые, меха развернёт. Он застенчиво всхлипнет коротенькой разноголосицей И протяжную русскую сам нараспев заведёт. Он «Лучинушку» плачет — качает басы безысходные. Он созвучья выводит. Пронзительно. Сладко. Навзрыд. Словно жаркой слезою, он песней текучей народною Пробирает насквозь. Бередит на душе. Бередит… Он заходится песней. А мне всё отчётливей кажется, Что, как исстари, сядем за стол, соберётся родня. И потянется песня-слеза, и всем миром завяжется… Что не песня, а русская вечность течёт сквозь меня.* * *
«Ночь была черноспелая гроздь, да распалась-рассыпалась…»
Ночь была черноспелая гроздь, да распалась-рассыпалась. Словно жадное лето пылало у нас на устах. Словно лето плыло, и горчащая звёздная жимолость Предрассветна, черна, в низкорослых цвела небесах. Из кромешности глаз одинокой походкой опасливой Я исчезну однажды, не пристальна, но холодна. Ты забудешь о том, как рябина по-дикому счастливо Трепетала полунощной жертвой в пожаре окна. Причитала ветвями, смыкалась, клонилась со стонами. В полынье простыни задохнись, утони до утра, В лихолетии вяжущих губ… и не помни за окнами Ягод, кровоточащих в гортани ночного двора.* * *
«Даже странно — в губах это имя нести…»
Даже странно — в губах это имя нести, Различать только этого имени сполохи. Словно чуждую птицу сгоняю — лети! — Потрепещет и сгинет в процеженном воздухе. Но, спугнув, отпустить от себя не могу, Хоть не мне его пить, и не мной зацеловано. Лишь однажды в протянутой ложечке губ Это имя цвело тёмным мёдом ворованным. Отпустить от себя — не стряхнув, как листву, Не спугнув, как молитву, нечаянным возгласом. Будто дикий шиповник губами сорву, Окликая пустое пространство вполголоса…* * *
«Это тонут черёмухи в белых проточных ветрах…»
Это тонут черёмухи в белых проточных ветрах. Это летнее небо цветным капюшоном на плечи. Это в утреннем мареве дремлет детёныш-кузнечик, Опьянённый ленивым дурманом нетронутых трав. Это терпкая нежность в дыханьи распахнутых крон: Ведь не скоро ещё тяжелеть, наливаясь плодами. А пока — шелестеть, шелестеть на ветру куполами И ловить лепестками пчелиный полуденный звон.* * *
«В кромешности потушенного света — я знаю — мне опасно оставаться…»
В кромешности потушенного света — я знаю — мне опасно оставаться, протянешь руку, шевельнёшь губами — бабай скакнёт! Скорей, скорей на кухню! Сестра длинноволосая. Как крепость. Готовит неприступные уроки. Расплывшиеся по тетради буквы я медленно распробовать пытаюсь. И вот они, послушны, оживают тропическим названием «Ал-геб-ра», растением волшебным. Но об этом спросить сестру мне духу не хватает. У бабушки гребёнка костяная и сарафан, впитавший запах кухни. Стремительные спицы, будто птицы, вьют гнёздышко пуховое, ручное. Я знаю, как. Меня уже учили перебирать запутанные петли. Отколупну кусочек штукатурки за печкой, где меня никто не видит. Получится горяченькая ямка. В печном нутре гневливый зверь бушует. Пахучие песочники томятся, мы с мамой их в духовке заточили на противне, посыпанном мукою. Он не противный, просто очень чёрный. Из погреба сейчас достанут к чаю тягучего клубничного варенья. А за окном надсадный рык овчарки, рёв трактора. На сваленных берёзах везут зарод, зародище, громаду, присыпанную снегом гору сена, Колючего, душистого, сухого. Я завтра на него тайком залезу. Отец кричит о чём-то с мужиками, перекричать старается овчарку… Оранжевые тракторные фары прошили двор насквозь, до огорода…Дом
Бабушке Ане
Отоснишься ль когда-нибудь, ждавший, любивший, кормивший, Мой единственный дом, где рассыпало детство следы… Белоствольный простор у просевшей под временем крыши И щербатый колодец, черпнувший глубинной воды. И толчёный снежок, скорлупой под шагами хрустящий. А скворечня пуста — долговязый качается шест. Только рыжий телёнок, опасливым оком косящий, Из лохматой охапки солому поспешную ест. Большеглазых снежинок бумажную белую стаю На рождественский клей прикрепили в соседском окне. Возвращаясь в тебя, каждый раз из тебя вырастаю, Старый бабушкин дом. Но по-прежнему чудится мне Неотчётливый скрип половиц у притихшей кроватки, И притворство прищуренных глаз… А ещё б подглядеть, Как мелькают по толстым шкафам быстроногие пятки И фиалковый суп уплетает безухий медведь. А ты помнишь, как жили котята в плетёном лукошке, А как я на запретный чердак пробиралась тайком, А пахучий дымок от печёной в духовке картошки, С крупной солью и хлебом, и белым густым молоком! Что-то ветрено нынче… Хлопочут иссохшие ставни. Детство — яблоко, из повзрослевших упавшее рук. Не оставь же меня, моё млечное воспоминанье — Миг духмяного детства, предутренне-сладкий испуг.* * *
«И всё-таки февраль. Подстывшая дорога…»
Маме
Летит под перестук натруженных колёс. То грязным полотном расстелется полого, То зарябит в глаза рубашками берёз. Заждавшаяся дверь в свои объятья примет, Подсуетится стол, посудою звеня. И мама за столом заботливо обнимет Забытой теплотой обмякшую меня. И будет говорить, что пирожки остыли, Что свежий варенец так и не съели мы. И скажет, помолчав, что зиму пережили, И, может, хватит дров до будущей зимы. А престарелый кот свернётся у порога Помуркивать во сне, пережидать мороз. Но всё-таки февраль. И всё-таки дорога Размотанным клубком летит из-под колёс.Алексей Павлов (22 года, Москва) НЕ УХОДИ ОДНА…
«На улице дождь. На холодный асфальт…»
Посвящается Надежде
На улице дождь. На холодный асфальт Падают капельки душ человечьих. Корни подмокли. Зелёная шаль Кутает ветки подруг моих вечных. Дождик отнюдь не весёлый с утра. Вымочил сердце, ботинки, бандану. И я, пригорюнясь, иду со двора, Вдыхая озон, как марихуану. Дождь. Он впитался в шершавый асфальт. Падают капли, чтоб вдребезг разбиться. Жалко мне их, а себя вот не жаль. Только зачем-то влажнеют ресницы.Ангел и бес
Я взял и в зеркало шагнул. Зачем? Я сам не знал. Я просто в мир тот заглянул. Я всё там понимал. На лакированном столе Роняла цвет сирень, И в залу, будто бы извне, Вошли за тенью тень. И взяли за руки меня, Хотя я их не знал, И ярко-красного вина Налили мне в бокал. Но тот, что справа от лица, Почти совсем не пил, А тот, что слева, — без конца Смеялся и курил. Я им читал какой-то стих, Я песни распевал, Потом меня один из них В свои покои звал. Другой сказал мне со смешком: — Пошли со мной, дружок. И там, за карточным столом, Мы скоротаем срок. Но кто-то сверху прошептал, Что время не пришло. Я «до свидания!» сказал И вышел сквозь стекло.* * *
«Уходя за порог, позабыв закрыть окна…»
И. Ч.
Уходя за порог, позабыв закрыть окна, Ты уходишь до ночи бродить по холмам. И по руслам дорог бродишь ты одиноко, Вспоминая дорогу к заветным лесам. Там гитара моя говорит беспрестанно, Ветер воет в деревьях, волос мой теребя. Не пришла ты опять. И обидно и странно. Возвращается песня, троп твоих не найдя. Я иду туда сам по знакомым дорогам. Может, встречу тебя, где ты бродишь одна. Или проще дождаться тебя у порога, Куда ты возвращаешься в поисках сна.Жизнь
Не уходи, не возвращаясь. Не уходи туда, где быль, Дорога вьётся, не кончаясь, А под ногами — только пыль. Под сводами земного дома Ещё звучит моя струна. Неужто ты уйти готова? Постой, не уходи одна.Зов Южного Креста
По кустам в тёмном воздухе смрад От кладбища разносится ветром. Я хотел бы вернуться назад, Но, увы, ещё верю приметам. То ли стон, то ли вой, то ли плач. Бред ночной, и душе не уняться. И луну я сжимаю, как мяч, Чтобы в Южном Кресте оказаться.Диктатор
Глядя на мир сквозь живое своё отражение И не желая снимать с мира тяжких оков — А для кого их снимать, для сенатских ослов? — Сулла стоял, попирая ногами вселенную. Рим бесновался под ним, утопая в грязи. Смерды дрались за куски человечьего мяса… Это — высший народ, богоподобная раса — Те, кто живут по закону: «Пойди и возьми»?! Встал и покинул он свой безграничный конклав, Стал уходить, но возник за спиной Катилина И перебил его вкрадчивым голосом сына: «Знаешь, диктатор, наверно, ты всё же не прав».Перед концом света
При лучах заходящего солнца — А оно угасало навек — В направлении горизонта Шёл последний живой человек. То ли юноша он, то ли старец — Молодое в морщинах лицо, Час-другой до развязки остались, Завершится к полуночи всё. Что он думает, этот бродяга, Он, последний живой на земле? Жизнь прошла, но осталась присяга — Раствориться в полуночной мгле. Без причастия. Без покаянья. Исповедать грехи не дано… Скоро плоти с душой расставанье. А потом… Что потом? — Всё равно.Из поэмы «Время дорог»
А на стене автозавода, Там, где гараж его стоял, Он синей краской из баллона «Любовь и дружба» написал. Бандану завязал потуже… Мотор завёлся и завыл, Его «Урал», взрезая лужи, Исчез, как не был там, где был. Бежало время, мчались годы, И рухнул старенький завод, Одна лишь стенка от завода Осталась, подпирая свод. Девчонка местная, простая Случайно надпись ту прочла: «О Бог мой! Я же его знаю! Зачем же с ним я не ушла?» Баллон купила с синей краской, К стене завода подошла, С нечеловеческою лаской Струёю надпись обвела.* * *
«Темнота, деревья и дорога…»
Брату
Темнота, деревья и дорога, И луна над самой головой. Неба для двоих, пожалуй, много, А земли так мало, братец мой! Не печалься углубляться в мысли О плохом — оставь для дураков, И давай в снегу следы поищем, Вдруг они от чьих-нибудь подков? Или вспомним о словах поэта, Где «…звезда с звездою говорит». Пролетит зима, и будет лето, А тебя, братишка, Бог хранит…Дмитрий Чёрный (29 лет, Москва) ЗАПРЕТНАЯ ЭПОХА
Новокузнецкая-Маяковcкая
Вот беда! Когда, бывало,
Он с неистовым серпом
Проходил по полю шквалом -
Сноп валился за снопом.
И. Джугашвили «Старец Ниника» cтроительный текст Сталина cтанция Ново кузнецкая третья очередь сооружена в 1943 г. в начале своего опаскудевшего века вижу расправившие плечи сталинские дома отбойный молоток на фоне колосьев и подземь спускаясь эскалатором в Новокузнецкую читаю дань и гордость в расцветших от пятиконечных звёзд листьев в двадцати пяти арках доблестным бойцам великой отечественной войны слава (всё та же что у греков лепнина но крупнее уверенней и рог изобилия и колосья и жнецы берут начало от пятиконечной звезды с Кремля светящей и продолжаются батальонами на фоне наковальни на железе жмущие тяжесть рабочие тянущие к нам жизни) запретная эпоха нам внукам запрятана в потолках метрополитена зримый текст тех лет когда не было нищих когда не было грязи регресса сползанья в буржуйство Москвы а вырастали спортсмены ввысь синейшему небу на ветру под военно-морскими знамёнами радостным напряжением могучих рук несли словно на блюде урожай революции как статую превознесли свою спортсменку с букетом победительницы гляди на наши самолеты на наши сады и лица снизу освещенные словно колосьями выросшими из пола светильниками видишь как мы строим как мы светимся в празднике Родины и придавил вдруг взгляд красной улыбкой фюзеляж пролетающего спортсамолёта а ниже со стен смотрят в спину в барельеф вмешанные многие воины всё вызолоченное оружие Советов дула фюзеляжи гусеницы знамёна родители-предки угрюмо и твёрдо выгнавшие врага из нашего будущего своими жизнями легли в наш урожай слава героическим защитникам города Сталинграда скромно почти траурно на чёрном телеграфном стекле желтовато названа станция НОВОКУЗНЕЦКАЯ (как таблички «не курить» вывески учреждений и номера наших квартир) рассветайте своды станций метро имени В. И. Ленина смотрите сдавленные реставрацией потомки сквозь толщи земли времён и лжи радзинской как мы тянемся к вам здесь в Маяковской наши самолёты и парашютисты в невиданно голубом небе с флагами с праздниками летят над садами советской весны летят над полями жнивья а мы пожинаем плоды мы в пути к коммунизму хоть гибнем в войне мы вливаемся в металл решёток метро в наковальни шестерни и молоты своим оружием и жестами уменьшаемся в барельефах но шепчем всегда тебе товарищ: ПРОДОЛЖАЙ РЕВОЛЮЦИЮ протоптанный к эскалатору мрамор (чёрный камень оказался крепче плит розоватых и белых до ложбин прохоженных — выдаётся горками) и путь от станции Победы к станции имени поэта где прятались от бомбёжек где проходили выступления генералиссимуса вам беспамятным вам рабам доллара пьяным потомкам Советов шершавьте шагами по прошлому будущего проезжайте вверх шары света на тонких усеченных ножках на кубах древнего красного дерева к потолку на свет пятиконечных в круг вписанных звёзд с серпом окружающим (отдающим честь) молот(у) в каждом пятом углуРифмы
(На 4 октября 2003)
В каждый джип — гранату! В каждый банк — снаряд! Классовой расплаты Красный мы отряд. Ваш жирок подщёчный, Ваши лыбы пошлые — Прошлому пощёчина, Трудовому прошлому. Десять лет хозяева Недр, земли и воли Нас ни в грош не ставили, Только не пороли. Но подрос подросток, Песен новых хочет — Не про «тонешь-тонешь», А про комсомольцев. Видя тел продажность, Видя денег шоры — С прошлым он срастается, С настоящим в ссоре. В каждый джип — гранату! В каждый банк — снаряд! Классовой расплаты Красный мы отряд. Нам пятнадцать-двадцать, Мы другим пример: Мы твои последыши, Наш СССР. В чаще у столицы, Бывшей пролетарской, Будущей всемирной Центрокоммунарской. В каждый джип — гранату! В каждый банк — снаряд! Классовой расплаты Красный мы отряд. Гриндера, банданы, Акаэмы, песенки: Градопартизаны — Не капээсэсники. Ведь терять нам нечего, Кроме будней смертности: Мы за вековечное Младочеловечество. Власть стране — советскую, Недр богатства — каждому, Деприватизацию И экспроприацию! Нету рифмы проще Той, что под курком: Буржую — пулю, Стране — ревком!Гимн шестидесятника
(Политическая сатира на А. Дементьева)
Никогда ни о чем не жалей, россиянин: Ни советской отчизны, ни преданных дел — Пусть свобода, как пел пуделек*, воссияет, Та свобода, что — каждому, брат, свой удел. Никогда, никогда не завидуй богатым — В том их труд, а не твой и подобных тебе, Кто-то стал олигархом, а кто-то — магнатом, Но зачем ворошиться тебе в их судьбе? И не пробуй понять, отчего так вдруг сталось: Как Советский Союз рассоюзился вдруг — Лишь бы собственность частная свята осталась, С остальным же — возьмем мы тебя на испуг. Мы шарахнем из танков по Дому Советов, В Беловежье расторгнем народный Союз — Сами сделаем то, что из вражьих заветов: Что исполнить не смог ни фашист, ни француз. Никогда не греши, не бунтуй против власти, Не мешай олигархам страной торговать. Как из банка — бомжа, прогони в одночасье Коммунистов из Думы, заставь их молчать. Так уж Богом дано, ты смирись, россиянин: Сверхдержаве колонией стать суждено. Если власть, что в Кремле, капитал назначает За такую судьбу, — знать, навек решено. Россиянин, ступай к буржуям с покаяньем, Что когда-то восстал, за семнадцатый год! Кто-то нефть продаёт, кто-то лес вырубает: Не мешай, ты уже не советский народ. И не верь болтовне о какой-то там цели, О заре коммунизма, что светит в веках, — Если раз уже выстроить рай не сумели, Значит, вечно нам тлеть на буржуйских углях. Никогда-никогда ни о чем не жалейте! Ни о вкладах пропавших, ни об СССР — В катастрофах, в руинах пляшите да пейте: Евтушенко с Дементьевым в том вам пример.Сергей Дерюшев (31 год, г. Чайковский Пермской области) ВОСКРЕСНЫЙ ДУХ
Алёнушка
Над тишиной земной молчала Благая птица в час, когда Моя Алёнушка вздыхала У васнецовского пруда: Начало песни обронила Из уст неловких в темень вод. В той песне жизнь, В той песне сила, Ту песню долго ждёт народ… И ныне, присно и вовеки Потеря слабит отчий дом. Тяжки Алёнушкины веки, Глубок и долог русский сон… Молчит пока благая птица, Хоть знает вещие слова. И лада спит, И ладе снится, Что пахнет русская трава, Что пруд любимый зарастает!.. Очнувшись, девушка-краса Ладонью белой открывает В слезах славянские глаза И взмахи крыл из поднебесья Душой тоскующей зовёт, Пока народ чужие песни На языках чужих поёт.Пустой дом
Двери сирые, Обветшалые, Седовласыми мхами поросшие. В них не просятся Дети малые, Не заходят и гости хорошие. Голос песенный Не доносится Из оконца во дни разговенья. И по лесенке Скособоченной Не сойдут ни Наталья, ни Ксения… Нет хозяюшки, Нет хозяина, Нет и пса в конуре безродного. Ни приветствия, Ни прощания. Только пугало огородное. В палисаднике Травы сорные; Оскудела малина-смородина… Здесь оставлена, Кем-то брошена — В обнищании — милая родина.Перед распятием
Я берегу на Пасху скатерть. Крестами вышита она… Как называть Тебя в закате, Когда повсюду тишина? Как величать Тебя в печали, Что слышать в имени Твоём? Тебя на царствие венчали, Ты внеземельным стал царём, Я берегу на Пасху скатерть, Когда с темна и до темна Сверлит глазами нашу Матерь — Из внеземелья — сатана; Когда обуглившийся Феникс Из пепла гордо не встаёт… Что Ты в полях весенних сеешь, Когда война мальчишек жнёт? Когда безрукие вояки Сидят с «протянутой рукой»?.. Я берегу на Пасху скатерть, Чтоб растревожить Твой покой.Воскресный дух
«В этой деревне огни не погашены…»
Н. Рубцов Щедро льётся белый дым Над сосновыми домами. На окошках расписных пляшет «Русскую» мороз! Русь по-прежнему в живых, Не объятая умами, Вся в наличниках резных и в ледышках женских слёз!Мать
На холм высокий тьма упала, Смягчив дневную духоту. Два обезумевших опала — С креста — отыскивали Ту, Что отрекаться не умела И сомневаться не могла… Качнулся крест. Рванулось тело. На грудь упала голова… Одна лишь Мать тогда сумела Заметить в небе два крыла.Андрей Ильенков ВЫШЛИ И МЫ ИЗ НАРОДА…
Интеллигент
«Я никогда не считаю до ста, Прежде чем выстрелить — грех невелик, И различать очертанья креста Танка и купола я не привык» — Сладостно очи закрыв, бормочу. Сторож церковный. Пора закрывать. Смилуйся, дедушка, я не хочу! Джунгли там, дедушка, Дарвинов ад!Декабрист
Уберите свидетелей и оставьте в покое Пять повешенных пуговиц — не тревожьте уют: Мне казалось, что жизнь моя — это что-то такое: Или будет восстание, и меня не убьют. Мне казалось, что боль моя оставляет мне право Обойтись без косметики рассыпать конфетти (А когда меня вызовут в департамент расправы — Завалить туда с песнями и с подарком уйти). Чубука у Тургеневых не сосите, не верьте: Никому не обещано ничего на Земле, Кроме воли, но каждому сердобольные черти Счастья страшную трещину по губам провели. Перепью сотню хамов я (но до Ноя не допил), Я в углу обезьянника, арестован и гол, Я язык мой из уст моих изблюю, ибо тёпел — И претят междометия, и неведом глагол.* * *
«Вышли и мы из народа по пояс…»
Вышли и мы из народа по пояс, Авторы формул и саг, Время направило наш бронепоезд В реку по имени Факт. Люди волнуются, рвут эполеты, Камни летают вдогон. Мы отказались платить за билеты, Заняли лучший вагон. Мы превратили в шампанское воду, Манкой покрыли пески. Люди сопят и друг друга в проходах Пальцами рвут на куски. «Кажется, мимо, — шепнул я на ухо. — Это не тот адресат. Сколько мы шли от порнухи к чернухе, Эй, поворачивай взад! Там нас спасёт вековая природа Похоти и красоты, Щедрые капли солёного мёда, Песни сирены и ты». «Все их глаза на полу в общей луже, — Слышу я шёпот в ответ. — Это одно, а второе, что хуже, — Нас с тобой, в сущности, нет».* * *
«Простыми русскими словами…»
Простыми русскими словами Достать немногого дано: Какой-то дождь в оконной раме, Позавчерашнее вино. Вино — и пыльный подоконник, И так столетья протекли. Внизу сидят седые кони И хмуро лижут соль земли. Прими, тоска российских песен, Мой щедрый дар в твой пыльный склеп! Мне говорят, что это плесень, — Спасибо, я и сам не слеп. Открыть окно навстречу ветру? Но я постиг за много лет, Что в этих душных кубометрах — Последний воздух на земле.Сергей Демченков (28 лет, г. Омск) МОЁ ТЕЛО — МОЯ ЗЕМЛЯ
«Отчего говорим: родная земля?..»
Отчего говорим: родная земля? Что назвать в этой жизни родным? Обтрепались до ниток «родные поля» И отечества холоден дым. Но рука моя — в тёплой её пыли, Кровь — от крови её дождей. Плоть — от плоти чёрной, как смерть, земли, Как её не назвать своей? В моих венах медленный пульс её рек, И когда их скуёт мороз, Мои кости отбелит последний снег Белизною её берёз. Эту чёрную, ветром изрытую персть Я люблю не за и не для — Как не любят себя. Она просто есть: Моё тело — моя земля.* * *
«Жизнь прожить — не поле перейти…»
Жизнь прожить — не поле перейти. Вязнут ноги в раскисшей густой земле. Там, у горизонта, обмякший сырой лесок, А за ним опять без счёту — поля, поля. Тяжело, и сам не знаешь куда брести. Только дождик шагает в ногу и месит грязь. Обними меня, чёрная от непогод земля! Дай мне спрятать лицо на холодной твоей груди. Мне, сквозь мутный простор, ещё далеко брести. И бесследно сгинуть в размокших пустых полях.* * *
«Сквозь тёмное окно в пустынной вышине…»
Сквозь тёмное окно в пустынной вышине Желтеет месяц сумрачно и строго. Чуть светится покатая дорога. Косые тени дремлют на стене… У подостывшей дряхлой печки стоя, Назад подавшись, чувствую спиною Камней белёных робкое тепло, — Как старческую бережную ласку. Там, за трубой, грибов сушёных связку И зеркальца потухшее стекло Старушка-печь хранит который год. А тьма всё гуще. Скоро ли восход? Вот, крадучись, усатый мышелов Неслышно пробирается к сараю. Прислушавшись к окрепнувшему лаю, Спешит скользнуть под прочный низкий кров. Вдруг — треснуло над самой головой. Наверно, спать улёгся домовой. На полочке всё тикают часы, Отсчитывая медленно мгновенья. За окнами — лишь лунное свеченье Порой играет в капельках росы. На поле дня уж клонятся весы, Но спящий мир всё медлит с пробужденьем. Медлительна осенняя заря. Неспешна ночь в начале сентября.* * *
«Январский день высок, как Божий храм…»
Январский день высок, как Божий храм. В узорных окнах — солнечная вьюга, Вздымается торжественная фуга К слепяще-ярким облачным горам. Открыта степь набегам и ветрам, Ползёт позёмка в балки и яруги, Вытёсывает ломкие заструги, Сувои наметает по буграм. Трепещет солнце венчиком алтея, Но через час уж вихревые змеи В морозной мгле, сплетаяся, гудят. И чудится порой, что в свете целом, Куда ни кинь тревожно-чуткий взгляд — Снега, снега, два цвета — синий с белым.Екатерина Федорчук (26 лет, Саратов) Я ЗНАЮ, ЧТО СЧАСТЬЯ НЕ СТОЮ…
«Хорошо золотому лучу…»
Хорошо золотому лучу трепетать на ресницах заката. Я тебя никогда не прощу, потому что сама виновата. На дороге, как белая мышь, островок прошлогоднего снега. Ты меня никогда не простишь, это альфа, и это омега. Тонок хруст запоздалого льда, И почти неизбежна расплата. Пусть растает моё «никогда» ностальгическим словом «когда-то».Любовь
Я знаю, что счастья не стою, Но всё же молю поутру: — Пусть вспыхнет иссохшей листвою, Растает, как дым на ветру. Захлопнется эта страница, пройдёт и восторг, и испуг. Пусть плачет, как синяя птица, зимой улетая на юг. Пусть станет немой и глухою, в стихах обретая покой, словесной шуршит шелухою под чьей-то тяжёлой ногой. И пусть, не дожив до рассвета, потушит костёр, как вода, и пьяной слезою поэта сбежит по щеке в никуда.* * *
«Виновник стольких зол и бед…»
Виновник стольких зол и бед, ты мог бы утонуть в упрёках. За всё спасибо, знаю — нет твоей вины в твоих пороках. Ведь не виновны град и снег, в апреле зелень убивая. Ты просто пошлый человек. (Я? После этих слов? Живая?) Как я могла забыть, что ты всегда ведёшь игру без правил? Меня за детские мечты каким бы словом ты ударил? За страх не встретиться в пути? За боль, что стала нестерпимой? За всё спасибо, мой… прости, чуть не сказала: мой любимый.Серебряный век
Закружилась я в вальсе старинном, он играется очень легко. В белом платье, нелепом и длинном, и в изысканно-сером манто. И оркестр играет умело и плетёт свой узор не спеша, и давно отдохнуло бы тело, но уносится в небо душа. Я забыла, что есть и что было, и движенья так странно легки, что мешаются сумерки мира с чьим-то лёгким пожатьем руки. Только это всего лишь страницы, что уносят в сказочный плен, но я вижу далёкие лица и не вижу обшарпанных стен. Я внимаю словам, замирая, и страницы ложатся, как снег. И глядит на меня, не мигая, тот далёкий серебряный век.Наталия Сивохина (25 лет, Москва) КРАДУТСЯ ЗИМЫ ТАЙКОМ ОТ НАС…
«Через сколько-то лет так легко возвращаться туда…»
Через сколько-то лет так легко возвращаться туда, Где каймою грифоновых крыльев желтеет вода, А закаты зеленые дремлют в руках у волны, — Я однажды смогу убежать от беды, от вины, От того, что кошмары, сбываясь, выходят в эфир, От того, что живем мы, надеясь на умерший мир. Через сколько же лет, посветлевшую прядь теребя, Постою у перил — я еще не забуду тебя, Как и чьи-то углы, чай без сахара, скверик в окне, Чудаков, неудачников, в этой живущих стране. Но вздохнет самый первый грифон на гранитном мосту, Я поглажу его по спине и сменю на посту. Покидая металл, сквозь неправильный, меркнущий свет Золотистыми крыльями черный взмахнет силуэт.* * *
«Крадутся зимы тайком от нас…»
Крадутся зимы тайком от нас… Жила я всему назло. Но вот сегодня, но вот сейчас Так нужно твое тепло. Мой ангел-птица, забыв дела, В дому пропадал твоем, Но крылья стужа ему свела Под снегом и под дождем. Звоню зачем-то в который раз — Прости, и себе назло, Но и от пары ненужных фраз Он сможет поднять крыло.* * *
«А нищим слепцом или Крезом войти в бессмысленный этот век…»
А нищим слепцом или Крезом войти в бессмысленный этот век — Конечно, каждый в итоге решает сам. Так чем же ты живешь, странный мой человек, Какой тебе вопрос мешает спать по ночам? Кого сохранят от снарядов домов обугленные края — А пепел Чечни так долго стучал в сердца, Что счастья ждать разучились и ты, и я, И мальчику с луком, как мне, не поднять лица.* * *
«Если счастье непрочное рухнет…»
Если счастье непрочное рухнет — Детский домик, песок на песке, Я присяду в неубранной кухне, В самом дальнем ее уголке. И другого лекарства не знаю, Кроме шелеста книжных страниц, Кроме вечно разлитого чая, Кроме света задумчивых лиц. И не дом, не дела, не работу, Не приверженность каждому дню, Позабытое чувство полета Как последнюю радость храню. Разуверясь во всем и отчаясь, Я ловлю каждый жест на лету. И за спором поставленный чайник В сотый раз заливает плиту…Нина Малыгина (18 лет, Таганрог) НО НАД НАМИ КУРЛЫЧЕТ ЖУРАВЛИК…
«Ты всё назвал своими именами…»
Ты всё назвал своими именами, Ну а теперь прошу тебя, молчи. Ведь между нами вспыхнувшее пламя — Всего лишь пламя газовой печи. И каплет бельё в погнутый тазик, И киснут простыни на донцах у корыт. И ходишь-бродишь и боишься сглазить Весь этот глупый лад, уют и быт. Ты всё назвал своими именами, Так хорошо по полкам разложил. Ведь между нами вспыхнувшее пламя — Согретый ужин… но ещё не жизнь.* * *
«Ты теперь мне и слова, наверно, не скажешь…»
Ты теперь мне и слова, наверно, не скажешь, А мои слова слишком тихи. Проза — это ну разве что стирка рубашек, Остальное — стихи. Мы с тобою за малым теперь не родные… Да куда мне тебя в женихи! Проза — это к полудню не встать в выходные, Остальное — стихи. Ты продли эти дни, дай отсрочку нам, Боже, Я свои не забыла грехи! Проза — это накуренный сумрак в прихожей, Остальное? Стихи.* * *
«Я тобой, человек, не больна, не пьяна…»
Я тобой, человек, не больна, не пьяна, За неделей проходит неделя. В волосах моих много весёлого льна, Много льна, но никак уж не хмеля! Я хожу по земле, я не верю хуле, В разговоры давно не вникаю. И души я своей не таю в хрустале, Словно змея, по ветру пускаю. Напролом не спешу и спокойно дышу, Не надеюсь на щедрость и милость. Только если пишу, бесконечно пишу, Значит, что-то со мной приключилось.* * *
«Бабушка! Я увидала Волгу…»
Бабушка! Я увидала Волгу, Её голубую живую гладь. Бабушка! Я так устала долго И непреложно красиво лгать. Бабушка! Я целовала пристань, Песок извилистых берегов. Бабушка! Бережно спрячу жизни Своих любимых в её альков. Бабушка! Я увидала Волгу, У ней на донце горит свеча. Бабушка! Здесь ты молилась Богу И колыбель мою стала качать.* * *
«Всё, о чём люди судачат — неправда!..»
Всё, о чём люди судачат — неправда! Мы бескровны, бездушны, бесправны… Ничего не изменишь теперь! Но над нами курлычет журавлик, Не пугаясь ни ружей, ни травли, Ты ему, серогрудому, верь!Молодежная мозаика
Андрей Русанов (24 года, г. Новомосковск Тульской области)
«В скользящей по свету ночной тишине…»
В скользящей по свету ночной тишине Вблизи вифанийской стены В священных оливах приснились мне Пророчества вещие сны. Там сердце не вывести из толпы И страха не побороть, Который видишь и чувствуешь Ты, Которым наполнена плоть. Но верю в предтечу дней своих, В прощение каждого дня И в крест, предназначенный для двоих, Для вечных Тебя и меня. С чистого древа креста сойду, Твой осеняя покой. В далеком Гефсиманском саду Вдруг зацвету травой.Евгения Сиденко (22 года, Москва)
«Я уйду вслед за солнцем, уйду на заре…»
Я уйду вслед за солнцем, уйду на заре, Новый день, словно остров, парит в пустоте. Не остаться на месте, назад не уйти. Снова в путь, к новой бездне на дальнем пути. Словно призрак, исчезнет прошедшая ночь. Душный полдень извергнет сбежавшую дочь. В дикой скачке я вcпомню, вернувшись домой, То, что звалось любовью и болью земной. Снова вспомню родство испарившихся дней, Снова в душу войдет все, что связано с ней, Сердце вспомнит слова, что читались над ним, Затуманит глаза серой памяти дым. Вновь родные леса и простор синевы, Вновь родные ветра на обрыве скалы, Растворясь в синеве, вспомню вольный полет. Вспышкой мир в голове позабытый всплывет.Надежда Ткачева (16 лет, Москва)
Московский вечер (Стихотворение в прозе)
Между рельсами метро — мышь. Девочка с серьёзными глазами и несерьёзным лицом. Смотрит на мышь.
Зачем мышь между рельсами? У мыши свои интересы.
Накрыло. Поездом мышь — как счастьем девочку. Обе остались
живы. Им нечего делить.
Её отец — мышь, её мать — мышь. Неизменно низменно. Жизнь — укатившийся апельсин. Мыши не видели апельсинов. Девочка видела слишком… Мышам не нужны апельсины. Девочке не нужны…
Иней в траве — и нежность, и не… Иници…
Всё дальше, и дальше, и выше. Нет фальши на крыше. И нежности мыши не надо. Нежности мышь не нужна.
Давно это было.Троллейбус таранит несдавшейся крепости стены.
Давно это было.Улыбка кумира — оскалом вампира.
Давно это было.Вдох. Вы… Вдохновение выдохнется. Через пару жизней усталость раскрошит зубы. Окна погаснут. Сопли высохнут.
Игорь Клошар (24 года, Иркутск)
«Уменье мечтать — словно порох в глазах…»
Уменье мечтать — словно порох в глазах, И здесь мы с тобой не имеем разлада, Меняя панель на блистательный крах И нежные пни от вишнёвого сада. Как в книгах, которых никто не читал, Как в сказках, о правде которых забыли, Мне хочется сжать вороненую сталь, Распятие свастики вынуть из пыли. «Кто душу погубит во Имя Меня, Тот душу спасёт». Коль не выйти из ада, Восстань, Торквемада, даруй нам огня, Хотя бы на пни от вишнёвого сада!Лина Воробьева (26 лет, Москва)
Испанский мотив
Отвори двери, когда за тобою придут, Молча иди и не спрашивай, почему. Ты не преступник, ты просто не сделал шаг, Будешь за это расстрелян дважды. Раннее утро, с небес моросит вода, Стой и не спрашивай, что ты такого сделал. Если всю жизнь ты привык ожидать суда, Просто молчи и жди своего расстрела. Лязгнут затворы, а ты продолжай молчать, Слушай, как делят твои сапоги солдаты. Подан сигнал, осталось недолго ждать, Пуля ни в чем не виновата. Ты не готов, но ведь ты никогда не готов К штурму небес, покорению дальних высей. Здесь твое место, в ряду безымянных крестов Тех, от кого ничего не зависит. Может быть, ты бы гордился своей судьбой, Может, носил ордена и другое имя, Может быть, все разрешится само собой, Может быть, пуля ударит мимо. Залпом взлетит воронье с ледяной земли… Это уже никого не должно тревожить. Поздно кричать о свободе. Солдаты, пли! Ты ничего изменить не можешь.Виктория Маландина (20 лет, Донецк)
Степь
Я наш весёлый век приемлю, Хоть он кощунственно суров: Мы камнем покрываем землю, Что стала матерью ветров, Дышала, бредила травою, Скрывавшей вольный бег коня. Мне б увидать её живою, Какой бывала до меня! Кочевья туч друг к другу жались, И нарастал к полудню зной, И мои волосы мешались С летящей гривой вороной. И покорители народов Завоевать нас не могли, Простых бесстрашных скотоводов, Хозяев солнечной земли. Душа за кругом солнца мчалась… Но самый дивный час, когда Ночь на кочевья опускалась И возвращались все стада, Справляли памятный обычай, Шумели дети у шатров, Брели охотники с добычей И мясом пахло от костров. Звук наших песен над пустыней Прохладный ветер относил К луне, таинственной богине И госпоже незримых сил. Шаман, берегший все святыни, Как должно, был суров и хмур, И с терпким запахом полыни Мешался запах потных шкур. Костры горели до рассвета, В ночи был слышен вздох коней… А ныне всё — в мечте поэта Да в крови варварской моей.Алёна Каримова (28 лет, Казань)
«Не сват, не брат, а просто спутник мой…»
Не сват, не брат, а просто спутник мой… А просто путник… дай мне надышаться бесспорной неудачей, ловлей шанса, молением о глупости смешной — о нежности к бездомному калеке — мир уместился в школьный глобус — весь… Душа, душа, зачем ты снова здесь, чего ещё ты ищешь в человеке? Вот он — прохожий… у него внутри печёнка, сердце, лёгкие… постой… Не друг, не враг, и имя — «звук пустой», но он — родной — люби его, замри. На цыпочках, едва дыша в затылок, иди за ним в глухой проем метро, ещё на свете плакать не старо среди цветов, осколков, слов, бутылок… А жизнь нельзя по-новой подарить, но мы за приручённого в ответе — неслышная в пространстве междометий, ещё любовь над вечностью парит…* * *
«Ничего не скажешь, а скажешь — ложь…»
Моей давани*
Ничего не скажешь, а скажешь — ложь, только горько в горле глухим словам. Я запомню тёмный глубокий дождь, в ночь, когда была ты ещё жива. Дорогая, как беспокоен свет, на расправу скор, да на ласку скуп… У кого теперь изыскать ответ, сколько надо было картошин в суп? У кого спросить, где вернее брод через речку глупую Черемшан? Не туда ли, сонных касаясь вод, полетела нынче твоя душа… Дорогая, милая, правнук твой хорошо умеет уже ходить. Ручку требует и листок — долой, у моих колен, на меня сердит. Он не знает, как нам с тобой жилось в деревеньке, влево от большака, где в саду малина, в воротах — гость, где черна черемуха в кузовках. А коза Чернушка, как пёс, за мной — своенравна тоже. В хозяйку… Вот, так и жили… Слышишь, детёныш мой? Только он не слушает, кривит рот. У него теперь «давани» своя, и свои секреты у них двоих. Дорогая, это и есть семья? Зур рахмат. Спасибо тебе за них.* * *
«В небесные дали ушел минарет…»
В небесные дали ушел минарет. Пушистые, царские светятся вербы. Российская бродит весна на дворе. Куда тебя клонит, мой век двадцать первый? Всё спешка и шум в переходах метро, шикарные розы в пластмассовых вазах. Сограждане, будемте делать добро — вот здесь и сейчас, непосредственно, сразу. Заморской едой безо всяких проблем давайте накормим бомжа и пиита. Сограждане, эта округлая «м» и в Африке символ теперь общепита. В пространстве Вселенной, пустом и кривом, героем в поношенных джинсах с дырою, забавно себя ощущать в мировом контексте, ища, как пропавшую Трою, свой правильный город и свой огород, в котором уж некуда складывать камни, но есть чем дышать, и такой кислород нигде окромя не найти никогда мне.Ли Рё-Нэн (20 лет, Сергиев Посад)
«Я жила обычною женщиной…»
Я жила обычною женщиной, напевала грустные песенки, а когда вернулась, услышала — песни крутят по радио. Я сажала деревья в садике, укрывалась листвой от холода, но сказала соседка старая — мое дерево выросло. Я любила своих родителей — кроме них, любить было некого, но сказали на тихом кладбище: моя дочь похоронена. Уходила на пару месяцев, воротилась через столетие. Двери заперты, деться некуда — стану деревом под своим окном. Темной ночью срубили дерево. Ранним утром подняли на руки. Ровно в полдень сожгли до щепочки да развеяли пепел по ветру. Не ищите меня на западе. Не зовите меня на севере. Я повсюду — в земле и в воздухе, только голос мой не услышать вам.* * *
«Мы опять не узнали друг друга в толпе…»
Н. Р.
Мы опять не узнали друг друга в толпе, мы опять разошлись, не поладив с судьбой. Я устала звонить и скучать по тебе. Я забыла, как пишется нежное «мой». Я привыкла к звучанию слова «чужой». Пусть другая целует оплавленный рот. Пусть другая хранит твой некрепкий покой. Пусть другая, расплакавшись, ночью уйдет. Мотыльком у свечи догораю за час. Пусть другая лелеет мое божество. Пусть другая допишет короткий рассказ — ну а мне до рассвета всего ничего…* * *
«Дай мне, Боже, силу и смелость…»
Ученику
Дай мне, Боже, силу и смелость, обогрей хоть раз у огня, чтобы я его не жалела — человека, что любит меня. Дай мне, Боже, кошачьи повадки, чтобы крепла моя броня, чтобы я победила в схватке человека, что любит меня. Чтобы я одна не осталась, грубея день ото дня, дай мне, Боже, самую малость — человека, что любит меня.Наталья Гущина (19 лет, Калуга)
Стояние на Угре
Дороги вьются лентами победными, Стоят курганы — стражи тишины. Овеянные славой и легендами Нетленной древнерусской старины. В них отдыхают витязи былинные — В покоях царских матушки-земли, Их бороды волнистые и длинные Травой зеленой к солнцу проросли. Бессмертны люди — храбрые, достойные… И я не знаю, правда или нет, Но говорят, что будто эти воины Выходят из могил на белый свет. Презревши тлен и вновь гремя кольчугами, Все, до единого богатыря, Как в бой выходят, каждый год, с хоругвями, Они в двадцатых числах октября. У памятника витязи становятся И перекличку ратную ведут, И кажется, освободились молодцы В минуты эти от столетних пут. Им тяжело в железной амуниции Стоять в строю недвижно на горе, И, поклонившись полю, по традиции, Они уходят молча на заре. Уходят, чтобы снова с нами встретиться, Ведь слава их осталась на земле, Их имена, их подвиг солнцем светятся, А вороги их сгинули во тьме. Бегут отсюда лентами победными Дороги средь полей, лесов, равнин… А возле них с хоругвями победными Я вижу витязей оживших из былин. Они пришли, чтоб снова с нами встретиться. Чтоб посмотреть в глаза сквозь время мне… И лица, как у ангелов, их светлые Сияют светом неземным во мгле.* * *
«Не расписанья поездов…»
Моему дедушке, Бурякову А. П., участнику боев на Курской дуге, посвящаю
Не расписанья поездов, А «стрелки» наступлений, Из всех советских городов, Вели нас в день весенний. Я всё изведал в свой черёд, Хоть был бойцом бывалым. Но страшно как бежать вперед За оружейным шквалом. Я помню бешеный тот бег Под стоны канонады, Когда снаряд и человек Бегут почти что рядом. А как дышалось тяжело От вяжущего дыма, Что плыл над гибнущим селом, Клубясь, куда-то мимо. Метнешь гранату — и опять Вперед, и нет покоя… Кто не был там — тем не понять Накал и цену боя. Ведь где с боями мы прошли — Черна вода в криницах, А под ногами нет земли — Одна зола дымится.Екатерина Цыбина (20 лет, Москва)
«От бездвиженья нервы рвутся…»
От бездвиженья нервы рвутся, Я ритму мерному не рада… Пускай случится революция, Но кто пойдёт на баррикады? Ведь в безысходности томления, В трясине секса, моды, денег Увязнув целым поколением, Не ощутили мы паденья. Судьба устало крутит блюдцами Неуспевающего поезда… Пускай случится революция, Ударить чтобы ниже пояса По «прогрессивному» желанию Настигнуть мировое стадо По безразличью, вымиранию… Но кто пойдёт на баррикады? Как от рекламы оторвутся и Пропустят где-то распродажу? Случилась, что ли б, революция. НЕ БУДЕТ! Не надейся даже…* * *
«Душно мне. Тесно мне…»
Душно мне. Тесно мне. Не тронь. Не коснись. Лестница небесная — Вниз, вниз. Тропка между травами, Никого вокруг. Там, за переправою, Луг, луг. Плещется так близко Неба синий след, Рассыпает искрами Свет, свет… Двери нараспашку… Не просись со мной! Я возьму лишь фляжку Для воды речной. Пробегу по тропке, Ветки разомкнув, Разноцветье топкое Босиком помну. Пробегу оврагами. Птиц подстерегу. А потом прилягу В клевер на лугу. Заново рожденною Меж цветов проснусь. Ты, благословлённая Русь, Русь!Анна Курятова (21 год, Москва)
Дорожная
Долгая осенняя улыбка, Грязь-дорога, рыхлые дымы. Так спокойно, холодно и зыбко, Как давно оплакивали мы. Как давно в усладе обнищанья Позабыли чувствовать ветра Влажно-белой мозаичной ранью Неподвижно-чуткого утра. И выходим в студенисто-сонный, Но приветный час колоколов. Нам пути — под многолико-кронный И нескучный перелес дымов. Слушайте! Пойдём не бесконечно, Не безвестно в эти дерева. Свод небесный — равнодушно-млечный. Свод земной — трава, трава, трава.Памятник
Белоэмигрантам
Слишком земные, по-прежнему, мы На перепутье последней зимы. Пар поднимается до куполов, До безнадёжных, неправильных слов. Отсветы ловит сухое стекло. Холодом город заволокло. Так и стоим, и молчим, покорясь, Заиндевевшего времени вязь.Ирина Костенко (25 лет, Хабаровск)
«Помолюсь за чужого ребенка…»
Помолюсь за чужого ребенка И за всех вообще помолюсь, Ощущая протяжно и тонко, Что едина и праведна Русь, Что энергия в храмах России, Как пасхальное солнце, светла. И за то, что с младенцем Мария В вещей скорби не хмурит чела.Прощание с Москвой
На Соколе кусты еще не облетели, Когда растаял снег, упав едва-едва. Мне было хорошо от чокнутой капели, Запевшей в ноябре. — С какого лиховства?.. А может, в мир пришли спасительные слезы — Рвет связи желтый лист, рвет небо самолет… Хабаровск дверь открыл: из горних кущ — в морозы, И грохнулся Пегас коленями об лед.Хабаровск — Москва
Как елка огнями, витринами манит Тверская, Призывно распахнуты двери в «О.Г.И.»-«Пироги»… А мы отошли, словно остров Даманский — Китаю, В чернильную полночь бескрайней звериной тайги. Весенние воды Европы еще не сбежали По водо- и судьборазделу Уральской гряды. Здесь жизнь потаенней, незыблемей Божьей скрижали, И годы в глухом карауле смыкают ряды. Но вечно иная, как ветер, как тучи и осень, Та горечь, присущая знанью: а мы не мертвы!.. И вынырнет утро, и здешняя вышняя просинь Окажется глубже бескровного неба Москвы.Иван Рассадников (29 лет, Новосибирск)
«Медленно-медленно движутся воды реки…»
Медленно-медленно движутся воды реки. Подле полуночи наши глаза глубоки. Нежность нежданная возле слияния дней. От Борисфена до Тибра не будет нежней. Нежность нежданная — ветер в мои паруса. Свет ниоткуда какие-то четверть часа. Лунная радуга… шелест случайной волны… Только друг в друге — воистину — мы спасены.* * *
«Мы друг другу сдаёмся в плен…»
Мы друг другу сдаёмся в плен. А кузнечики так звенят. Притаюсь у твоих колен. Как стихи, прочитай меня. В джинсах синеньких — Боже мой! Так изысканна и стройна. Прочитай меня, как письмо. Правда, странные письмена? Вечер нежится в головах. Не спугни его, как птенца. А в твоих волосах — трава. Будем слушать и созерцать Всё, что видится и звучит. Это — наша с тобой игра. Горизонт, словно взгляд твой, чист. И ни завтра нет, ни вчера.Алла Линёва (28 лет, Липецк)
«Рябинники, осинники, сирень…»
Рябинники, осинники, сирень, Клубами пыль вдоль пашни у обочин, Леса, поля… качели у плетней, И бабушки в фуфайках и платочках. И льётся свет сквозь сито облаков, И у запруды серебрится верба. И тишина… и не хватает слов, Чтоб выразить любовь свою и веру.* * *
«Как река зимой во льды скована…»
Как река зимой во льды скована, Научилась быть и я сдержанной, Чтоб ни воплями своими, ни стонами Ни себя и ни других я не тешила. А когда луга зальет паводок И заря в лучах рассветных забрезжится, Хлыну чувствами — а сдерживать надо ли? Через край прольюсь и я, грешница…Денис Бесогонов (1973–2003, Ижевск)
Весна
Люблю поскрипыванье ручки, Но удовольствий больше нет, Чем когда первый робкий лучик Весной пронзит последний снег. Когда ужасным ледоходом Заговорит весной река И понесутся ее воды Сквозь потемневшие снега, Когда среди сугробов хладных После унынья долгих дней Цветок проснется ароматный, Он — первенец Земли моей. Когда душою понимаешь, Что здесь России уголок, Где с наслаждением внимаешь Весны горячий, дивный вздох. Ручей бежит — ее работа, Птенцы поют — ее дела, Какие важные заботы Тебе доверены, весна! И пусть заводов шумных рокот Порой заглушит птичью трель, Когда весна идет у окон, Мы шире открываем дверь, Пускай заходит и смеется, Пусть людям веселей живется, Когда влетает в дом одна На всех красавица весна!Константин Девятков (26 лет, Московская область)
«Положи у горячих печных изразцов…»
Положи у горячих печных изразцов Мою душу, подобно шинели отца. Видишь — голубь хрустальный заплакать готов, Изумлённый цветочным покоем лица. Что услышит душа за старинным литьем? То ли чёрная галка родное кричит, То ли скрипка живая поёт о родном, То ли сердце родное стучит…Последние времена
Лети, мой дух, но истину свободы Ты не отыщешь в наши времена. Тебя не сдержат каменные своды, Тебя влекут былые имена. А во дворце, где скрещены мечи, В тебя небесной музыкой органа Вольются слёз горячие ручьи Из древних глаз седого Иоганна. Замри на миг пред музыкой любви, Которой нет и не было превыше. Теперь… спеши — исходят ввысь огни И светочи, дарованные свыше.Татьяна Скабо (18 лет, г. Погар Брянской области)
«За моими плечами стоит ангел мой…»
За моими плечами стоит ангел мой. Он меня охраняет, как сторож ночной. Он со мною всегда, он со мною везде, Он со мною летает к небесной звезде. И так робко со мной говорит каждый час. Его голос так нежен, так ласков, что нас Никогда не разлучит любая гроза. Я в его влюблена голубые глаза. Я люблю человека, который со мной, Словно ангел, стоит за моею спиной.* * *
«Я влюблена в осенний лес…»
Я влюблена в осенний лес, В горящие огнём закаты. Россия вся полна чудес, И чудесами мы богаты!Владимир Тенешков (28 лет, с. Замятино Нижегородской области)
«Мне говорят: Россия погибает…»
Мне говорят: Россия погибает, Но не погибнет Русь моя вовек, Пока из пепла храмы поднимает И памятники ставит человек. Пока земля дает нам хлеб насущный, Пока ручьи сбегаются к реке — Не ставьте крест могильный на грядущем, Оно сияет звёздно вдалеке. Не обделил Всевышний нас терпеньем, И в жизни нам его не занимать, Я осенён крестом своим нательным, Но чужеземцам это не понять. У них не так, у них совсем иначе, Но как в руках монету ни крути — Великий путь России обозначен Крестом нательным на моей груди.* * *
«Вот такая канитель…»
Вот такая канитель — За окном метёт метель. День и ночь она метёт, И тревожит, и гнетёт. Пропади ты пропадом! Я рождён не роботом! Через душу пропущу Всё, о чём сейчас грущу. Под метелью февраля На земле живу не зря, И в заброшенном краю Я не плачу, а пою.ПАМЯТЬ
Сергей Сергеев, кандидат исторических наук
«…ЛЮБЛЮ ТОЛЬКО ОДИН РУССКИЙ НАРОД…» Национализм Розанова
Розанов — фигура чрезвычайно противоречивая, его воззрения с трудом поддаются систематизации, а тем более причислению «по ведомству» тех или иных направлений, школ, партий… Особенно сложно характеризовать изменчивые общественно-политические взгляды философа, неоднократно демонстрировавшего свое принципиальное равнодушие к политике. Но было бы, с другой стороны, совершенно неверно отрицать наличие вообще каких-либо констант в розановском политическом мировоззрении. Таковой, в частности, является трактовка Василием Васильевичем национального вопроса. При всех возможных оговорках его позицию здесь можно определить как национализм.
Будучи сотрудником крупнейшей русской националистической газеты «Новое время» (далее в тексте — НВ), Розанов в целом разделял ее общую политическую линию, и его публицистика 1900–1916 гг., посвященная национальному вопросу (наиболее активно он писал на эту тему с 1909 г.), идейно не слишком отличается от писаний других «нововременцев». По мнению мыслителя, национальное сознание русских находится в кризисном состоянии: «Мы страдаем космополитизмом, но уж национализмом мы никак не страдаем. […] Какое там „обрусение“: сами немечимся, полонизуемся и почти жидовеем…»; «Русским в России, русской мысли в России не было хода, не было признания […] Чтобы быть русским не по имени, а по существу, требовалось быть героем». Не лучше дело обстоит и с их национальным бытием: «Что такое русский на всем протяжении центральных губерний? Ни яркой и мощной общественной организации около него, в сфере экономической — ни мелкого кредита, как помощи в случае несчастья; не всегда твердая нравственная поддержка со стороны „батюшки“, довольно неясный юридический свет в лице земского начальника, в сфере грамоты — грамота отвлеченная и незнание ремесел». Розанову представлялось, что «инородцы везде двигаются на русских сплошной массой и хорошо умеют пользоваться русским раздором, русской разрозненностью, наконец, русской мягкостью и податливостью. Мы поддаемся, они наступают. Мы в своей собственной земле везде незаметно побеждаемы, они завоевывают эту землю „мирно и культурно“ […]»; «Русские — разговоры разговаривают, „не верят в Бога“ и обсуждают на все лады свое неверие, а поляки, евреи и армяне прибрали к рукам строительную часть, инженерную часть, железнодорожную часть в Империи, оставляя от сытной еды кое-какие кусочки русским „идеалистам“ […]». Одной из главных причин такого положения дел он считал излишнюю заботу правительства об окраинах и пренебрежение великорусским центром: «Прямо или косвенно, мы всё даем окраинам и всё отнимаем от центра! […] России — водка, посты и грубый окрик станового и исправника, окраине — культурная школа, вежливое начальство, огромный доход от расквартирования войск […]». Напротив, с его точки зрения, «государственный смысл и национальное самосбережение диктует совершенно обратную программу: подавайте весь русский талант во внутреннюю Россию, а окраинам — уж что останется. Лучшие учителя, лучшие врачи, лучшие инженеры, лучшие агрономы и во главе всего самые деятельные, творческие администраторы пусть сидят внутри России, делают на русской земле русское дело, а окраины пусть посидят и подождут. Нечего опасаться, не „разбегутся“ они. […] Пусть Россия сама окрепнет, расцветет: это и будет лучшей угрозой и самой крепкой сдержкой для окраин». Розанова раздражало заискивание правительственных и думских кругов перед национальными меньшинствами империи: «Нужно совершенно оставить этот недостойный России „извиняющийся“ тон, каким мы говорим о „польской окраине“, о „кавказской окраине“: потому что есть только „русские окраины“, края, окончания и границы русской земли. „Русская окраина с польским населением“ — вот и всё. Земля, страна, города и уезды — наши, русские, „купленные“ и в смысле трудовом, и в смысле стоимости, ценности. За всё заплачено: и полякам не о чем тут разговаривать, как равно финнам и армянам. У них есть жительство в этой стране, но никакой собственности на нее. Собственность — у русских, наша». Сепаратистские устремления окраин часто вызывали весьма резкую реакцию мыслителя, например, в статье «Окраинная кичливость и петербургское смирение» (НВ. 1909, 14 сент.) редакцией газеты была даже снята фраза о том, что «автономия Финляндии должна быть уничтожена, и ее территория совершенно смыта и сравнена с территорией Империи».
Наиболее часто Розанов обращался к проблеме национализма в 1911 г., после убийства П. А. Столыпина. В статье «Террор против русского национализма» Василий Васильевич трактовал это убийство как проявление борьбы «центробежных сил» против русской национальной политики, которую, по его мнению, проводил в жизнь покойный премьер-министр: «Центробежные силы в стране не ограничиваются сдержанным ропотом, но выступают вперед с кровавым насилием. Они не хотят примириться с главенством великорусского племени; не допускают мысли, чтобы оно выдвигалось вперед в руководящую роль. Им мало того, что торговля, промыслы и ремесла частью перешли и всё переходят в их руки; перешли к ним хлеб, леса, нефть; им хотелось бы вообще разлиться по лицу русской земли и стать над темным и, к несчастью, малообразованным населением в положение руководящего интеллигентного верхнего слоя. Этой вековечной и жадной мечте политика П. А. Столыпина, везде отстаивавшего первенство русского племени, стояла поперек горла». Философскому осмыслению понятия «национализм», сравнению его с космополитизмом посвящена статья «Космополитизм и национализм». «Народ, так сказать, дошкольного возраста и развития, — отмечает мыслитель, — естественно национален, — всегда и везде». Но «отчего „национальная идея“ трудно усвояема полуобразованными людьми? И отчего она понятна была только людям, „изучавшим Гегеля и Гёте?“. […] Оттого, что это действительно трудная идея.
Это есть идея органическая, в противоположность механическим идеям. Механические идеи, в приложении к истории, есть космополитизм. […] Национальная идея есть святая и чудная идея. Это идея — аристократическая и гордая. Она не „всего хочет“. Она — не собака. А космополитизм — именно собака, которая „ничем не брезгует“. […] Уже космополитизм — преступление, уже самая его идея. Не почему-нибудь, а потому, что она мертвая, механическая. Потому что, относясь к истории — она вне-лична. Ибо история — это всегда личность, как и человек-лицо. Национализм и есть не что иное, как построение истории на личности, […] которая есть факт раньше истории. Это есть „мой“ рост, „наш“ рост сосны и соснового „бора“… В истории, так понимаемой, всё — закон, всё правило, всё стройность… Предвидение „на завтра“ и мудрость веков. Этот национализм так же практичен, как и интересен в теории.
Он, наконец, есть творчество, которое и может быть только личным, „своим“… у каждого, у человека, у народа». Статья «Как торжествует „русский национализм“» — ироническая реплика в ответ Д. В. Философову, обеспокоенному «засильем националистов». Вспоминая суд над своей брошюрой «Русская церковь», Розанов пишет, что в зале суда среди людей «с адвокатскими значками […] не было ни одного русского лица […] Весь русский суд уже захвачен не русскими, и тут „так сложилось дело“, что вновь приходящему русскому „не просунуть и носа“…».
В статьях 1914 г. Василий Васильевич пропагандировал идею добровольного «обрусения» инородцев, предлагая им «стать окончательно русскими, без разделения, без всякой иной веры даже, иного быта даже»; «Путь Даля и Востокова, — двух немцев и лютеран, которые настолько были преданы России, что переменили даже фамилию — на русскую (Востоков) и под конец жизни перешли из лютеранства в православие: вот путь и канон душевной жизни инородца в России»; «Я хотел бы, чтобы инородцы шли к нам гордо и как господа, отнюдь не как рабы и принужденные, — однако с мыслью стать русскими и только русскими». О философских аспектах национализма Розанов снова размышлял в статье «Князь Е. Н. Трубецкой и Д. Д. Муретов»: «[…] между „национальным чувством“ и „национализмом“ или нет разницы, или — почти нет». […] «„Национальное чувство“ есть доброе и мирное чувство мирных лет; это пассивная, недеятельная любовь к месту рождения своего, к своей родине, земле, отечеству. Но когда на них напали? Когда на русскую народность нападают тихо, незаметно, истощая ее, разоряя ее? Является „национализм“, — и это есть то же прежнее чувство, но уже активное, борющееся, защищающееся. „Национализм“ рождается из „национального самосознания“ — как „армия“ рождается из „народа“. Это — тот же самый „народ“, но он уже „вооружен“ и „умеет сражаться“».
Следует заметить, что политический национализм не исчерпывает всей сложности позиции философа по национальному вопросу, но стихийным, экзистенциальным националистом он оставался всегда: «Кроме русских, единственно и исключительно русских, мне вообще никто не нужен, не мил и не интересен» («Опавшие листья. [Короб первый]»). Принадлежность к нации для него была чем-то роковым, фатальным, биологически предопределенным, вне нации личность невозможна: «Со своего корня нельзя уйти растению: оно умрет. Оно может быть только сорвано со своего корня: ветром, зверем. С своей земли некуда уйти народу. От своего народа некуда уйти человеку», но «судьбу „быть русским“ можно принять с ненавидением и можно принять с любовью». Розанов принял эту судьбу «с любовью» и остался верен своему выбору даже в период жестокого разочарования в родине после октября 1917 г.: «[…] при всем этом — люблю и люблю только один русский народ, исключительно русский народ. […] И только эту „вошь преисподнюю“ и люблю. И хочу — сгнить, сгнить — с нею одной, рыдая об этой его окаянной вшивости» (из письма к П. Б. Струве, февр. 1918).
ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА
Сергей Сидоренко НУЖНА ЛИ «УКРАЇНЦЯМ» РОССИЯ? (Главы из книги)
Вместо предисловия
То, что произошло с Украиной, можно сравнить с запоем. В шинке, куда забрел ненароком наивный малороссийский мужик, его опоили самогонкой, настоянной на дурном зелье.
Опившись зелья, мужик принялся буянить, крушить все вокруг, говорить гадости своим близким… В пьяном угаре он за короткое время умудрился разрушить то, что создавалось им долгие годы ценой непосильного труда.
В итоге — пропил значительную часть имущества, разругался с родственниками, попал в долговую кабалу… Вдобавок, пока он валялся пьяный, его ограбили…
Однако запой и все его тяжкие последствия — это еще не смерть. После запоя и жестокого похмелья нужно, оглядев себя в зеркале, исправлять ошибки и пытаться наверстать упущенное.
1
«Самый вопрос о пользе и возможности употребления в школе этого наречия не только не решен, но даже возбуждение этого вопроса принято большинством малороссиян с негодованием, часто высказывающимся в печати. Они весьма основательно доказывают, что никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может и что наречие их, употребляемое простонародьем, есть тот же русский язык, только испорченный влиянием на него Польши; что общерусский язык так же понятен для малороссов, как и для великороссиян и даже гораздо понятнее, чем теперь сочиняемый для них некоторыми малороссами и в особенности поляками так называемый украинский язык. Лиц того кружка, который усиливается доказать противное, большинство самих малороссов упрекают в сепаратистских замыслах, враждебных России и губительных для Малороссии»
(Из «отношения», направленного министром внутренних дел Валуевым министру народного просвещения Головину.) (1).Когда украинские пропагандисты в своих целях бесконечно тиражируют выдернутые из контекста слова «никакого особенного малороссийского языка не было, нет и быть не может», то предусмотрительно «забывают» уточнить, что мнение, выраженное этими словами, принадлежит не самому министру, а «большинству малороссиян» — министр же это мнение только приводит, заявляя о своем с ним согласии. «Забывают» они упомянуть и о том, что министра внутренних дел вопрос о малороссийском языке интересует лишь, как сказано в том же документе, «вследствие обстоятельств чисто политических, не имеющих никакого отношения к интересам собственно литературным» (2) — а именно по причине того, что в условиях польского восстания «большая часть малороссийских сочинений действительно поступает от поляков» (3).
Впрочем, зная повадки тех, кто в разные времена сеял на Украине семена сепаратизма, подобному способу цитирования особо удивляться не приходится. Ведь мы имеем дело с теми самыми господами, которые постоянно потчуют доверчивых своих земляков всякого рода баснями. Однако, что касается письма Валуева, то сегодня оно интересно в первую очередь не столько как исторический документ, отражающий связанные с Украиной политические перипетии полуторавековой почти давности, и даже не тем, что оно было использовано для беспрецедентной дезинформации, существенно повлиявшей на ход нашей истории… Сегодня наибольший интерес все-таки представляет неизбежно возникающий при чтении этого письма вопрос о том, куда с тех пор подевалось то «большинство малороссиян», которые сознавали важность для себя общерусского языка и общерусского образования, так что даже «с негодованием» относились к попыткам ввести в Малороссии преподавание на местном наречии вместо языка русского? Неужели все эти люди были конъюнктурщиками и карьеристами и держались русской культуры исключительно из корыстных соображений? Неужели конъюнктурщиком был Гоголь, как те многие малороссы, которые внесли неоценимый вклад в сокровищницу русской культуры и кого теперь самостийническая пропаганда пытается задним числом «приватизировать» и зачислить в свои ряды?
Ведь еще незадолго до революции Малороссия считалась оплотом самодержавия. В 1909 году «Союз русского народа» под предводительством настоятеля Почаевской Лавры архимандрита Виталия собрал в Волынской губернии (теперешние Волынская, Ровенская, Житомирская, север Тернопольской и Хмельницкой областей) миллион (!) подписей в поддержку самодержавия (4).
По свидетельству В. В. Шульгина, император Николай II в 1907 году, принимая делегацию Второй Государственной думы, говорил: «…Русские национальные чувства на Западе России (то есть на территории нынешней Украины. — С. С.) — сильнее… Будем надеяться, что они передадутся и на Восток…» (5).
Подобную же надежду выражал впоследствии и П. А. Столыпин в своей телеграмме Киеву (киевскому клубу русских националистов): «Твердо верю, что зародившийся на Западе России свет русской национальной идеи не погаснет и скоро озарит всю Россию…» (6).
Преобладание среди малороссов русских патриотических настроений отмечалось многими. Известный исследователь «украинства» А. Царинный (Стороженко) писал: «…Малороссияне, начиная с Феофана Прокоповича, которому принадлежала сама мысль о русской империи, непрестанно созидали и укрепляли империю, в то время как московские князья Долгорукие или Голицыны не задумывались бы из-за личных честолюбий легкомысленно ее развалить» (7).
Патриотизм малороссов в отношении государства российского вполне объясним, если вспомнить, что до воссоединения с Русью Великой, в условиях польского владычества, малороссам приходилось долгое время бороться за сохранение православной веры и национальной культуры. Да и после, из-за окраинного положения Малороссии в Российской империи, малороссы, пребывавшие в тесном соприкосновении с инородцами и иноверцами, вынуждены были постоянно сталкиваться с необходимостью отстаивать свою веру и национальные святыни. В отличие от них, население великорусских губерний — откуда, по уверению гоголевского городничего, «хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь» — могло чувствовать себя в этом смысле вполне беспечно. Поэтому-то, по словам А. Царинного (Стороженко): «…еще в печальное десятилетие Государственных дум, накануне крушения русского государства, западные части империи с русским населением, но входившие до разделов в состав Польши, высылали депутатов-националистов, тогда как великорусский центр и восток давали октябристов, кадетов и социалистов, которые соединенными усилиями погубили и похоронили русское государство» (8).
2
С юго-западным краем России, который некогда был колыбелью русской государственности, за короткий временной отрезок произошла небывалая в истории подмена.
Население этого края с самого зарождения в нем государственной жизни называло себя русским. В XIII веке, после татарского погрома, единая Русь оказалась разделенной на две части, получившие названия Малой и Великой Руси. При этом слово «малая» в названии «Малая Русь» нисколько не означает «меньшая по рангу» или «неполноценная». Наименования «Малая Русь» и «Великая Русь» пустили в обиход византийские греки, которым для продолжения отношений по церковным и прочим делам с расколотой надвое Русью потребовалось отличать одну ее часть от другой (9). Согласно античной традиции, в которой давались эти названия, «малая» — значит «исконная», «изначальная», территория первоначального пребывания народа и зарождения его цивилизации, а «великая» — область дальнейшего распространения этого народа и расширения его владений. Малая Русь длительное время пребывала под иноземным владычеством, однако, несмотря на это, население ее твердо хранило свое русское имя и отстаивало православную веру. Вплоть до 1917 года население Малой Руси считало себя русским, принадлежащим к одной из трех ветвей триединого русского народа.
Сегодня кажется невероятным, но даже предки нынешних антирусски настроенных галичан (Галиция с XIV века сначала была частью Польши, затем — Австрийской империи) до сравнительно недавнего времени сознавали себя русскими и в качестве таковых противостояли польскому засилью и влиянию в крае. Так было до тех пор, пока в дело не вмешались австрийские власти. Обеспокоенные тем, как бы из-за родственных уз, связывающих русских, проживающих в Австрии и в Российской империи, не вышло каких-либо неудобств для Вены, австрийские власти задались целью превратить своих русских подданных в новый, нерусский народ. Осуществлению задуманного немало способствовали распространившиеся по Европе, с середины XIX века, различного рода социалистические веяния. Их проникновение в Галицию привело к тому, что русское национальное сознание галичан постепенно перемешалось с классовым. Уже к концу XIX века русское население Галиции раскололось на так называемых «москвофилов», продолжавших следовать русским национальным и духовным традициям, и «народовцев», предпочитавших (с подачи польских историков) именоваться не русскими, а «украинцами». Идеология последних опиралась на простонародную культуру, социалистическую доктрину и верноподданническую позицию по отношению к австрийскому трону, представляя собой довольно странную смесь. «Народовцы» пользовались активной поддержкой австрийских властей.
В пределах Российской империи начало перерождения русского населения Малороссии в «украинцев» тоже неразрывно связано с распространением социалистических идей, с характерным для них противопоставлением низового, «народного», всему тому, что относилось к высшим, «эксплуататорским», классам.
Кстати, и первые в Малороссии попытки писать на языке, отличном от литературного русского, приходятся на период, когда во второй половине XIX века на малороссийскую почву была перенесена общая для того времени демократическая мода просвещать народ посредством издания для него литературы на «народном» языке. «Прогрессивные» люди принялись писать «для народа», подлаживаясь под образовательный уровень неграмотных крестьян, вместо того чтобы пытаться подтягивать их к высшей культуре. Все это делалось отнюдь не ради создания новых языков и воспринималось тогдашним обществом всего лишь как способ донести элементарные знания до неграмотного народа. Предполагалось также, что чтение крестьянами подобной литературы должно стать первым для них шагом к полноценному образованию. Даже Лев Толстой писал в свое время азбуку для своей яснополянской школы на особом, тульском, языке (10). Однако особый тульский литературный язык (как и вятский, рязанский, сибирский…) дальнейшего развития не получил — иначе сбылись бы мечтания австрийского «теоретика» Варфоломея Капитара, еще в 40-х годах XIX столетия трудившегося над планом, реализация которого должна была привести к тому, чтобы в России в каждой деревне писали на отдельном языке, непонятном ближайшим соседям (11).
Что же касается Малороссии, то социалистические настроения местной интеллигенции, выражавшиеся, кроме прочего, в пренебрежительном отношении к высшим духовным и культурным ценностям с одновременным увлечением особенностями простонародного языка и быта (в которых представлены основные отличия малороссов от остальных русских), способствовали созданию благоприятной среды для появления особого литературного украинского языка и последующего перерождения русского населения Малороссии в новый нерусский народ. К тому же в случае с Малороссией дело не обошлось и без активнейшего содействия этому процессу со стороны внешних сил, заинтересованных в расколе России.
Национальность «украинец» по сути и возникла, когда к признаку этническому был подмешан классовый признак и поставлен во главу угла, заслонив собою русскую духовную и культурную общность. «Украинец» — это малороссийский простолюдин, носитель «народной» культуры, не затронутый высшей национальной культурой (которая до определенного времени считалась принадлежностью высших, «образованных», слоев общества), не желающий к ней приобщаться и настаивающий на своей культурной самодостаточности.
Следует все же заметить, что те, кто относил себя к названному «этносу», составляли среди образованной части населения дореволюционной Малороссии ничтожное меньшинство и представляли собою довольно экзотическое явление. Да и сами будущие вожди украинского сепаратизма, до тех пор пока им в руки не свалилась власть над юго-западным краем России, ни о каких сепаратизмах не помышляли и стояли на самых умеренных позициях. Как вспоминал о том времени князь Волконский: «Слово „украинец“ […] произносилось так редко, что, когда в 1917 году его ввели в употребление, мы, русские (в том числе и малороссы), спрашивали друг друга, где в нем ставить ударение» (12).
3
В послереволюционные годы большевики и украинские самостийники достигли между собой своего рода компромисса ради реализации общей их цели: скорее покончить с ненавистными тем и другим старыми российскими порядками и со всем тем, что могло бы напомнить о прежней России. Сошлись они в итоге на том, что большевики, получив в свои руки государственную власть на Украине и возможность проводить экономическую политику, предоставили самостийникам проводить политику образовательную и культурную (тем более что экономические прожекты самостийников мало чем отличались от большевистских).
Подобный компромисс для них был вполне естественен, потому что, несмотря на время от времени возникавшие между большевиками и украинскими самостийниками взаимные неудовольствия и несмотря на все проклятия нынешней украинской власти по адресу большевиков, у большевиков и украинских самостийников гораздо больше было общего, чем различий.
Во-первых, социалистическая идеология, к которой в той или иной степени тяготели все украинские «пророки», и основанные на этой идеологии сходные экономические воззрения.
Во-вторых, атеизм, который в конце концов и позволил разделить единый в прошлом народ по второстепенному признаку — признаку языкового отличия (насаждаемого к тому же искусственно), — разрушив то, что этот народ объединяло — православие. А ведь именно православная вера — общая вера малороссов и великороссов — препятствовала всем прежним попыткам врагов России вынудить население Малой Руси изменить свой национальный, культурный и духовный облик.
В-третьих, схожая политика в сфере культуры. Культурная политика самостийников характеризуется демократизацией в дурном смысле этого слова — иначе говоря, уравниловкой в культуре, достигаемой посредством понижения вершинных уровней. Выражается она в попытках уравнять создаваемую искусственно и находящуюся в первобытном своем состоянии украинскую культуру и великую, мирового значения, русскую культуру — уравнять посредством вытеснения и замалчивания последней, несмотря на то, что она создавалась совместно всеми частями русского народа и должна принадлежать малороссам в не меньшей степени, чем великороссам.
В-четвертых, установка на полный разрыв с дореволюционной Россией, ее историей, традициями, наследием; общее для коммунистов и украинских самостийников стремление разрушить «до основания» прежний порядок вещей и затем возводить на его месте «новый мир», не считаясь при этом с «издержками».
Один из виднейших деятелей украинства эпохи русских революций и гражданской войны, В. Винниченко, писал: «…Вся украинская государственность вышла из революции, революцией поддерживалась и всецело от революции зависела в своем дальнейшем существовании и развитии. <…> Именно советская Россия была наилучшим обеспечением возможности существования украинской государственности…» (13).
Что же касается тех или иных «неудовольствий», возникших впоследствии, в годы коммунистического правления, между коммунистами и украинофилами и выразившихся в сворачивании украинизации и даже в гонениях на украинство, — то вызваны они были не столько взаимным идеологическим неприятием, сколько причинами объективными. Тут и неизбежное противостояние между центральной, московской, и местной, украинской, властью; и борьба на местном, украинском, уровне за власть и за лидерство между правящей коммунистической элитой и выращенной при советской власти украинофильской элитой… Главной же причиной нарастающего отчуждения между бывшими попутчиками стала та разность задач, которые пришлось решать коммунистам и украинским самостийникам после того, как те и другие сыграли свою роль в разрушении исторической России.
Пришедшие к власти в России большевики так и не дождались начала «мировой революции», на которую они, думая об осуществлении своих грандиозных всемирных планов, возлагали большие надежды. Оказавшись во враждебном внешнем окружении, они волей-неволей вынуждены были уповать на собственные силы. Им, приложившим немало старания к развалу Российской державы, на определенном этапе пришлось сделать ставку на укрепление государственности и — даже! — на патриотизм, понимаемый, конечно, по-своему. Естественно, что подобная «смена курса» перестала устраивать и те внешние силы, которые прежде большевиков поддерживали. Взявшись за созидательную работу, коммунисты вынуждены были сворачивать все свои эксперименты с «украинизацией», которая для созидания совершенно непригодна, так как по самой своей природе изначально предназначена для разрушения. Поэтому прямым наследником прежних, отличившихся в разрушении коммунистов и оппонентом коммунистов последующих стало украинское самостийничество, принявшее эстафету в деле развала России и — в такой своей роли — получившее активную поддержку извне.
По большому же счету самостийникам грех жаловаться на коммунистическую власть. Просто на некоторых этапах своей истории коммунистическая власть оказывалась втиснутой в жесткие идеологические и поведенческие рамки, необходимые для ее выживания, — поэтому строгости ее пришлось испытать на себе не только самостийникам, но и самим коммунистам, тем, кого заносило в сторону от указанных рамок.
Значение семидесяти с лишним лет коммунистического правления для нынешнего триумфа самостийничества переоценить вообще невозможно. Ведь по сути то, чем до 1917 года занималась лишь кучка украинствующих энтузиастов, после 1917 года, при власти коммунистов, стало воплощаться в жизнь средствами государства, притом государства, не терпящего возражений. Кроме того, коммунисты, отрекшись от дореволюционной России, расчистили место в душах и в головах ее граждан от подлинной ее истории. Они всё подготовили для того, чтобы это освободившееся место впоследствии могло быть заполнено исторической версией «от Грушевского».
Забавно, что, несмотря на все это, неблагодарные самостийники умудряются в наши дни выставлять себя в качестве основного оплота борьбы с коммунизмом и в качестве единственной ему альтернативы на Украине.
4
Желание во что бы то ни стало повысить свой статус было главным мотивом, побудившим нашу политическую и, с позволения сказать, интеллектуальную «элиту» в бурные перестроечные годы извлечь на свет Божий из пыльного ящика истории идеологию «украинского самостийничества», изготовленную, в основных своих чертах, чуть более ста лет назад в тогдашней австрийской Галиции. Речь идет об идеях, которые австрийское правительство, начиная примерно со второй половины XIX века, принялось настойчиво внушать своим русским подданным, предоставляя им возможность для развития лишь в качестве нерусского народа — народа, в культурном, политическом и во всех прочих смыслах принципиально отдельного от русских, населяющих Северо-Восточную Русь, и всячески культивирующего в себе эту отдельность.
Для подведения под эти правительственные пожелания надлежащего наукообразного обоснования и для оформления их в виде идеологии, способной «овладеть массами», нашлась кучка деятелей, чаяния которых оказались сходными с чаяними австрийских властей.
Постепенно распространившаяся среди части русского населения Галиции идеология «украинства» позволила Австрии не только уменьшить для себя опасность москвофильских настроений русского населения (могущих перерасти в сепаратистские), но и самой претендовать на часть территории Российской империи, населенной такими же «украинцами», как и те, которых причислили к таковым в Австрии.
Важнейшей составляющей «украинской идеи» служит специально сочиненный, отдельный от русского и намеренно на него непохожий украинский книжный язык.
Украинский книжный язык был создан на основе простонародной «мовы» — которая является разговорной смесью («суржиком») русского и польского языков, возникшей в результате длительного польского владычества над южной частью Руси. Изготовлен он был нехитрым способом: «мову» оснастили фонетическим (как слышится — так и пишется) правописанием, применение которого было вызвано потребностью добиться кардинального отличия текста на новом, «украинском», языке от привычного русского текста. (Нетрудно убедиться, что если текст на любом языке — русском, английском, французском… — передать при помощи фонетического правописания, то этот текст станет сам на себя непохож и будет казаться иностранным.) Вдобавок были введены несколько новых букв, упразднены некоторые старые и т. д. — все делалось для того, чтобы свести, по возможности, к минимуму родственные черты между русским языком и новоиспеченным «украинским». В наше время на очереди уже следующие нововведения, вплоть до применения латиницы, — однако, видимо, не всё сразу…
Главная роль в создании украинского книжного языка принадлежит небольшой группе львовских деятелей, объединившихся во второй половине XIX века в «Наукове товариство iм. Т. Г. Шевченка». Основные же успехи в осуществлении этой затеи приходятся на время, когда упомянутое «товариство» возглавлял М. С. Грушевский, проживавший во Львове с 1896 по 1914 годы в качестве цесарско-королевского профессора Львовского университета.
Трудно сказать, что именно побудило этих русских людей создавать для русского народа новый нерусский книжный язык: направленные на это дело ассигнования австрийского правительства и щедрая финансовая помощь от единомышленников из Малороссии, или притеснение австрийскими властями русского языка и культуры в их традиционном виде, или вполне бескорыстное чувство враждебности к русской культуре, зависти к великим ее достижениям, желание сделаться «богами», которые, по словам Винниченко, «бралыся з ничого творыты цилый новый свит» (14)… — а может, и то, и другое, и третье, — но за сравнительно короткий период поставленная задача была достигнута…
Созданный «Грушевским и К°» украинский книжный язык затем был благополучно обкатан на «Записках» «Наукового товариства iм. Т. Г. Шевченка». «По „Запискам“, — писал А. Царинный, — можно судить, как наспех составленный искусственный „украинский“ язык из года в год выравнивался, выправлялся, совершенствовался, пока не принял законченной формы особого языка типа славянского эсперанто или волапюка…» (15).
После того как вышло около 50 томов «Записок», Грушевский на одном из собраний общества (2 февраля 1900 года) заявил о том, что общество «сотворило українсько-руську науку в очах i понятиях ученого сьвiта» (16).
Современники справедливо замечали, что даже при наличии 50 томов научных работ рапортовать о создании науки «несколько преждевременно». Тем более что «созданная наука» состояла в основном из сырого материала (то есть издания исторических актов, памятников старинной литературы, образцов народных говоров), или из переводов на «українсько-руський» язык сочинений русских историков, или из пересказов и изложений трудов, изданных на русском языке (17).
Параллельно с возникновением нового языка возникали как грибы после дождя многочисленные теории, призванные доказать глубочайшую его древность и всяческую первичность в сравнении с тем же русским. Хотя, для того чтобы сделать вывод об особенностях его происхождения, незачем тревожить древность. Ведь процесс его создания, и особенно массового внедрения, частично осуществлялся и на наших глазах, так что для уяснения его происхождения достаточно вспомнить наше еще недавнее прошлое. Кому, в самом деле, не памятны первые годы после провозглашения «нэзалэжности» — когда восторженные сторонники нового статуса Украины и просто досужие граждане несколько лет подряд вразнобой воспроизводили, изобретая на ходу и как Бог на душу положит, некую языковую смесь, главным достоинством которой считалось отличие от русского языка, упражняясь и совершенствуясь в этом деле до тех пор, пока все не «забалакалы» на более-менее единообразной «мови». Да и сейчас украинское телевидение время от времени удивляет граждан каким-нибудь новым словом, доселе совершенно неведомым, даже для тех, кто всю жизнь разговаривал на украинском языке. Запускаемые в обиход слова, как правило, или вовсе отсутствуют в прежних украинских словарях, или заменяют собой прежние слова, присутствующие в этих словарях в неприемлемой с сегодняшней точки зрения форме, которая обличает их родство с языком русским.
Вообще, все теории о первоначальности на Руси (в южной ее части, территориально соответствующей нынешнему государству Украина) «української мовы» рассчитаны на неосведомленность тех, для кого они предназначены. Ведь, чтобы убедиться в том, какой язык был на Руси изначальным, достаточно ознакомиться с текстами летописей и других литературных памятников Древней Руси. (Кстати, в сегодняшнем украинском государстве вся литература Южной Руси, с древнерусских времен и до XVIII века включительно, изучается в учебных заведениях и вообще преподносится широкому кругу читателей — в переводах на современный украинский язык. Иначе — если бы были предъявлены подлинные тексты — было бы очень трудно объяснить тем же, к примеру, учащимся, почему изучаемая ими литература считается украинской, а не русской. Что же касается слова «русский», относящегося к персонажам произведений и к самому названию края, — которое то и дело «предательски» попадается в произведениях этой «украинской» литературы, — то по поводу этого слова в примечаниях к текстам частенько можно прочитать: «руський — тобто1 український»…).
Обстоятельства же позднейшего возникновения на территории нынешней Украины того, употребляемого в народе, русско-польского языкового гибрида, который впоследствии был положен в основу искусственно созданного литературного украинского языка, станут более понятны и наглядны, если вспомнить о такого же направления параллельных процессах, происходящих тогда же и в других сферах, к примеру в сфере религиозной. В отличие от языковой сферы, где превращение русских в полурусских-полуполяков — «украинцев» — происходило очень постепенно и неуловимо, то, что осуществлялось в религиозной сфере (попытки превращения православных в полуправославных-полукатоликов — униатов), зафиксировано в истории и отмечено определенными событийными вехами.
Неизвестно, как бы вообще сложилась судьба всей описываемой затеи, если бы не подоспевшая русская революция и последовавшее за ней установление советской власти, которая подхватила «полезное начинание» и на протяжении более семидесяти лет делала все, чтобы не позволить ему зачахнуть. Ведь именно при советской власти огромное число школьников, особенно в сельской местности, обязаны были получать образование на украинском языке. Именно советская власть упорно финансировала издание книг и периодической печати на украинском языке, которые никто не читал; обеспечивала безбедное существование украинских вузов, научных институтов и культурных «закладив»1; содержала на свой счет огромную армию деятелей украинской науки и культуры, выстроив, по сути, настоящую богадельню для украинских «мытцив»2 и «науковцив»3…
То обстоятельство, что к началу «перестройки» на Украине среди культурной и научной (в первую очередь — гуманитарной) интеллигенции в наличии оказалась только украинствующая, решило судьбу Украины. Именно эта интеллигенция в определяющие моменты нашей недавней истории популярно и авторитетно, с непременными ссылками на науку, разъяснила народу, как ему следует поступать…
5
Возложив на себя задачу переделать сознание русского народа, живущего на земле Древней Руси, наполнить это сознание новой духовной стихией, нерусской по своему происхождению и враждебной всему русскому, — вожди украинства прекрасно понимают, что одним изменением букв и придумыванием новых слов не обойтись, что для придания их деяниям большей солидности собственного их авторитета явно недостаточно. Будучи по природе самозванцами, они, желая скрыть свою сущность и одновременно поднять вес своему сообществу, пытаются представить себя наследниками древней традиции. Поэтому важнейшей составной частью украинской утопии является историческая концепция, призванная доказать и исторически обосновать правомерность отделения Украины от России.
Для украинствующих всех поколений всегда была характерна готовность к тому, чтобы приводить историю в соответствие с политическими потребностями их движения. С историей они вообще церемониться не привыкли и потому не столько заботятся о правдоподобности своих писаний, сколько полагаются на невежество тех, на кого эти писания рассчитаны.
Исторические «изыскания» украинствующих сводятся, в основном, к банальному переименованию задним числом сначала русского народа, проживающего на территории нынешней Украины, в народ украинский и затем — всей истории этого народа, происходившей на данной территории, в украинскую историю. Всё это предпринимается для того, чтобы доказать изначальную разделенность истории теперешней России и теперешней Украины. Цели, которые преследует украинская историческая наука, легко достигаются также посредством замалчивания одних исторических эпизодов и их участников и всяческого выпячивания других.
Поставленная задача изобразить жизнь на Украине как нечто обособленное от тех регионов, с которыми Малая Русь (Украина) была кровно связана на протяжении большей части своей истории, установка на то, чтобы всячески отрицать эту кровную связь, вынудили украинских историков одной ложью подкреплять ложь другую — и в результате нагромоздить целые горы лжи.
Им пришлось вычеркивать из истории все те процессы, в которых территория нынешней Украины и ее население выступали как часть более обширного целого и управлялись из центров, находившихся за пределами современной территории Украины. Заодно пришлось отказаться и от тех духовных и культурных ценностей, которые были созданы в ходе русской истории и по праву принадлежали народу Малой Руси, в том числе и от всего почти духовного и культурного наследия, созданного этим народом.
Из всей огромной русской истории признаны были своими только те происходившие в Малой Руси события (и действующие в них лица), которые шли вразрез с общим ходом русской истории или которые возможно представить в качестве таковых. В первую очередь это относится к деятельности кучки малороссийских «интеллектуалов», видевших смысл своего существования в упорном выращивании на русской почве альтернативной, нерусской культуры.
Однако если допустить, что названные персонажи и впрямь являются важнейшими деятелями малорусской истории, то становится непонятным, кто же все-таки создал всю ту огромную цивилизационную базу — города, железные дороги, порты, заводы, архитектурные памятники, учебные заведения и т. д., — которой в наше время беззастенчиво пользуются неблагодарные наследники? Неужели та малочисленная кучка колоритных личностей, все занятие которых состояло в ношении народной одежды, пении народных песен да сочинении второсортных литературных произведений на специально изобретенном для этого языке?
На это, конечно, не замедлят ответить, что строил, возводил, созидал и все прочее — не кто иной, как народ. «Украпнський, — добавят, — народ!» Однако чем все-таки была направляема народная воля? Что вдохновляло народ на созидание? Что побуждало его создавать те великие ценности, которыми мы гордимся и посейчас? И на протяжении всей своей истории упорно защищать эти ценности от посторонних посягательств? Неужели опять-таки та убогая идеология, которой нас морочат сегодня?..
О восприятии самим народом самостийнических идей — если говорить о стабильных, сравнительно, временах (именно тех временах, когда народ более всего занят был созиданием) — судить вообще непросто. Потому что в стабильные времена народ мог позволить себе роскошь совсем ничего не знать о существовании этих идей. Если вспомнить, к примеру, дореволюционную эпоху, то, к прискорбию всех нынешних профессиональных плакальщиков по поводу будто бы страшных гонений на «украинство» со стороны «царату»1, приходится отмечать, что деятельность тогдашних украинствующих не встречала в народе никакого сочувствия. И не в последнюю очередь потому, что прославляемое сегодня «украинское движение», как и проклинаемые сегодня якобы страшные на него «гонения», на фоне тогдашней жизни были незаметны «невооруженным взглядом». Более того, этот самый ненавистный самостийникам «царат» очень часто представал перед своими «оппонентами» именно в «украинском обличии». Сошлемся хотя бы на свидетельство нашего земляка В. Г. Короленко, который, описывая в книге «История моего современника» свою революционную молодость (конец XIX века), отмечал: «Тогда была полоса, когда именно украинцы охотно вербовались в жандармскую службу» (18).
Говоря же о тех исторических эпизодах, когда самостийническая идея добивалась все-таки видимого успеха, нельзя не учитывать то обстоятельство, что она почти никогда не появлялась на политической арене в «чистом» своем виде. Все успехи самостийничества совпадают с периодами исторических катаклизмов в России и объясняются, как правило, тем, что самостийничеству удавалось удачно пристроиться к какому-нибудь востребованному народом идейному течению. Так, в годы русских революций и гражданской войны самостийники паразитировали на идее социалистической: народ воспринимал их как местных, украинских, представителей той политической силы, которая во всероссийском масштабе провозглашала намерение решить социальный вопрос, и откликался прежде всего на их социалистические лозунги. В эпоху «перестройки» самостийники выдавали себя уже за противников социализма и за демократов — так что и посейчас на Украине политическое движение, сторонники которого всеми способами стараются не позволить половине населения страны разговаривать на том языке, на котором оно привыкло, считается почему-то демократическим… И это несмотря на то, что внушительная часть украинствующих всегда открыто проповедовала фашистского типа идеи (да и все движение вдохновляется в наши дни деяниями тех своих представителей, кому в свое время, в соратничестве с Гитлером, довелось отличиться, воплощая фашизм на практике)…
В мемуарной литературе, возвращающей нас к тем временам, когда при помощи внешних сил самостийничество добивалось возможности развернуться во всей красе, имеется множество красноречивых свидетельств того, что украинствующих, их идеи и сопутствующую всему этому атрибутику (и в том числе насаждаемые украинствующими языковые новшества) народ на Украине воспринимал по большей части с иронией.
Вот хотя бы одно из таких свидетельств (относящееся к периоду кратковременного правления самостийников в годы гражданской войны). В мемуарах Н. Плешко «Из прошлого провинциального интеллигента» (напечатанных в 1923 году в Берлине) читаем: «Однажды я был командирован в Радомысльский съезд мировых судей для дачи „заключений“. Входим в заседание. И что же? Председатель начал вести его на украинской „мове“, на такой же „мове“ члены суда делали доклады, защитники заговорили по-украински. Мое место находилось вблизи публики, состоящей главным образом из крестьян, и они в недоумении стали переглядываться друг с другом, а один из них, нагибаясь к соседу, сказал: „Петро, а Петро, что это паны показились, чи що?“» (19).
На отсутствие должной любви «украйинцив» к навязываемой им украинофильской идеологии очень часто сетуют и сами предводители самостийничества. К примеру, один из руководителей украинской Центральной Рады и, затем, Директории В. Винниченко, в своей книге «Відродження нації», в числе прочего, писал и такое: «Я їхав вісім днів серед солдатів, селян і робітників, зміняючи своїх сусідів на численних пересадках. Отже я мав нагоду бачити на протязі сих днів немов у розрізі народних шарів їхній настрій /…/ Я під той час уже не вірив у особливу прихильність народу до Центральної Ради. Але я ніколи не думав, що могла бути в йому така ненависть. Особливо серед солдатів. І особливо серед тих, які не могли навіть говорити по руськи, а тільки по українськи, які, значить, були не латишами й не руськими, а своїми, українцями. З якою зневагою, люттю, з яким мстивим глумом вони говорили про Центральну Раду, про Генеральних Секретарів, про їхню політику.
Але що було в цьому дійсно тяжке й страшне, то це те, що вони разом висміювали й усе українське: мову, пісню, школу, газету, книжку українську». (20).
Надо сказать, что такая удивившая Винниченко реакция народа на «вси спробы»1. Винниченко и К° его «украйинизуваты» — вполне объяснима.
У всякого человека (если это не мертвый духовно человек) есть внутреннее стремление к развитию, к усложнению, к углублению… Идеологи же самостийничества и воплощающие их идеи правители Украины ради достижения своих целей потакают невежеству простого народа и, эксплуатируя это невежество, закрывают для народа путь к полноценному культурному развитию. Они стараются в культурном отношении ограничить народ тем местным, провинциальным уровнем, которому и соответствует украинская культура. Самостийники отрицают в принципе саму необходимость для тех, кого они назначили «украйинцямы», подниматься выше этого уровня. Вполне вероятно, что большинство этих «простых людей» никогда в своей жизни и не поднимутся культурно выше своего местного уровня, но когда у них отнимается сама возможность сделать это — они, если и не протестуют, то уж точно большой признательности к украинизаторам не испытывают…
Украинские идеологи пытаются оправдать используемые ими методы и приемы тем, что всякий народ имеет право на собственное толкование своей истории. В этом они следуют по стопам сегодняшнего всемирного законодателя мод — США. Вольное толкование американцами даже такой недавней истории, как история Второй мировой войны — их поползновение к тому, чтобы, не мудрствуя лукаво, приписать себе главные заслуги в победе над германским фашизмом, — является дурным примером и соблазном для всякого рода мелких подражателей.
В данном случае приходится иметь дело с мировоззренческой установкой, которую можно назвать «ветхозаветной» и которая скорее присуща иудеям или протестантам, нежели православным, каковыми по духу являются русские (даже те, которые считают себя атеистами). Для народов с такой мировоззренческой установкой характерна психология «избранности» — когда все остальные народы, не относящиеся к «избранным», воспринимаются как материал для жизнедеятельности «избранных», как средство для достижения их национальных целей. «Избранный» народ стремится подчинить своему национальному эгоизму и своим потребностям все, что можно для этого приспособить, в том числе и историческую правду. Вообще нетрудно обнаружить у представителей «украинства» и у тех, кто создавали в свое время Соединенные Штаты, множество сходных черт. Ведь, по большому счету, «независимая Украина» является попыткой воплощения на нашей земле своего рода варианта «американской идеи». Однако американское общество все-таки построили люди, бежавшие из своих стран и оторвавшиеся от своих национальных корней, ради того, чтобы на новом месте начать свою жизнь сначала. Что же касается создателей «нэзалэжной Україны», то они никуда не бежали — они решили возводить новую жизнь, оставаясь на своей земле. Для этого им потребовалось не только самим отречься от великого прошлого своей страны, но и само это прошлое превратить в девственную прерию. Поэтому они так рьяно уничтожают в нашей истории то, что им неугодно, переименовывая и переиначивая на свой лад все, что попадается им под руку.
После создания мифа о древней истории украинского народа понадобилось наполнить такую замечательную историю столь же замечательными деятелями. Бессовестно прибрав к рукам древний период русской истории, самостийники, не моргнув глазом, причислили к своим предтечам выдающихся деятелей нашего прошлого. По-чичиковски рассчитывая на то, что имеют дело уже с «мертвыми душами» и потому наказания за деяния такого рода бояться не следует, они перекрасили в свою масть многих тех, кто некогда составил русскую славу, — не брезгуя при этом ни князьями, ни философами, ни учеными, ни авиаторами… Несмотря на то, что большинству из записанных задним числом в «українци» и не по своей воле удостоенных «чести» фигурировать в украинской истории под самостийническими знаменами подобное при их жизни не могло присниться даже в кошмарном сне…
6
Самостийникам сравнительно легко удалось воплотить свою утопию в жизнь. Удалось — благодаря удачному для них стечению исторических обстоятельств и использованию всевозможных, шулерских по своей сути, рекламных технологий; при помощи могущественных союзников (от австро-венгерского правительства второй половины XIX века до коммунистического режима в России и новейшей украинской власти) и при активной поддержке заинтересованных сил извне. Задача по искусственному созданию и последующему массовому внедрению книжного украинского языка и литературы на этом языке, художественной и научной; по переводу на этот язык школьного и высшего образования оказалась благополучно решенной. Самостийническая точка зрения на отечественную историю принята в украинском государстве в качестве единственной и безальтернативной и активно вдалбливается в головы граждан при помощи вузовских и школьных учебников, а также средств массовой информации. Успехи превзошли все ожидания.
Но при этом мало кого из украинских «просветителей» и тех, на кого направлено это «просвещение», заботил вопрос: а какой это будет язык и какая это будет литература? Смогут ли они выполнять те функции, которые выполняют обычно всякий язык и всякая литература? И способна ли та история, которая написана самостийниками, быть кладовой национального опыта? И можно ли человека, получившего украинское «образование», считать по-настоящему образованным?..
Ответ, увы, получается неутешительный: и этот язык, и эта литература, и эта интерпретация истории, и украинское образование вообще — годятся только на то, ради чего, по сути, и создавались.
Задачи, которые решаются при помощи этих культурных суррогатов, давно известны и ни к науке, ни к словесности отношения не имеют. С одной стороны, это раскол русского единства на потребу заинтересованным в этом внешним силам, с другой — обеспечение жизненных благ и карьерного продвижения для тех, кто получил выгоду от такого «культурного реформирования» внутри страны. Создавая новый книжный язык, литературу на этом языке, ревниво оберегая, поддерживая и развивая ее, ожесточенно борясь со всякой альтернативой, о культуре как таковой мало кто думал: она служила лишь средством для посторонних целей. Одним хотелось самостоятельного украинского государства, другие ненавидели «отсталую» политическую систему самодержавной России, третьи выполняли заказ внешних врагов Российской державы, у четвертых были карьерные, финансовые и прочие соображения…
Ревнители самостийничества не обделили своим вниманием и христианскую веру. Их очень не устраивает то, что украинская православная церковь, которая окормляет подавляющее большинство верующих на Украине, находится в подчинении у Московского патриархата. К тому же из истории им хорошо известно, что именно православная вера, общая для малороссов и великороссов, помогла в свое время населению Малой Руси сохранить русские национальные корни и в итоге немало способствовала воссоединению двух частей Руси в единое целое. Что же касается дней нынешних, то сегодня православие остается едва ли не последним духовным бастионом, в котором еще сохраняется единство Руси. Это обстоятельство не может не вызывать бешеной ненависти по отношению к каноническому православию у всех, кому ненавистна Русь. Поэтому православие является одним из главных объектов нападок со стороны зарубежных идеологов нашего развала.
Надо сказать, что религиозная жизнь (как и все другие формы духовной жизни) всегда воспринималась украинствующими как нечто прикладное, как средство для достижения политических целей. Поэтому самостийники всех времен всегда считали своим долгом обзавестись ручной церковью, которая была бы призвана обслуживать их политические интересы.
Так, в послереволюционные годы, вслед за попыткой создания украинской государственности, в 1921 году (уже при большевиках) сторонники «видокрэмлэння»1 украинской церкви созвали церковный «собор», на котором провозгласили создание украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). И хотя в составе участников «собора» не оказалось ни одного архиерея, участники мероприятия для совершения положенной процедуры сами возвели двух присутствующих на «соборе» священников в епископский сан (из-за чего за приверженцами украинской автокефалии и закрепилось название «самосвяты»).
Следует заметить, что в первые годы советской власти такого рода «религиозное творчество» весьма поощрялось и даже организовывалось большевистским режимом. УАПЦ (совместно с другими возникшими после революции раскольническими новообразованиями) успела достаточно активно поработать на ослабление канонического православия — до тех пор, пока в 1930 году не была за ненадобностью упразднена властями, которые, укрепившись, более уже не нуждались в подобных союзниках.
Современник происходившего, историк Андрей Царинный, об украинской автокефалии писал так: «На протяжении веков нельзя припомнить себе церковного движения, столь бедного смыслом, столь духовно убогого, столь пустого и бессодержательного, как затея группы разнузданных украинских попов. Нигде не видно в нем никакого подъема горячего религиозного чувства, никаких мощных порывов от земли вверх, „горе“, к небесам, к Богу, никакого пламенения любовью к Господу нашему Иисусу Христу. Всё сводится к безграмотному „перекладу“ богослужебного книжного обихода с торжественного церковнославянского языка святых первоучителей словенских Кирилла и Мефодия на простонародную мужицкую базарную „мову“ да к разным поблажкам неверующему и распущенному духовенству» (21).
А митрополит Киевский и Галицкий Владимир (впоследствии, в 1918 году, убитый большевиками и причисленный в 1992 году к лику святых Архиерейским собором Русской православной церкви), в ответ на первые попытки сделать православие на Украине «нэзалэжным», писал в «Архипастырском обращении», опубликованном в начале августа 1917 года:
«Для нас даже страшно слышать, когда говорят об отделении Южно-Русской Церкви от единой Православной Российской Церкви. После столь продолжительной совместной жизни имеют ли для себя какие-либо разумные основания эти стремления? Откуда они? Не из Киева ли шли праведники Православия по всей России? Среди угодников Киево-Печерской лавры разве мы не видим пришедших сюда из различных мест святой Руси? Разве православные Южной России не трудились по всем местам России как деятели церковные, ученые и на различных других поприщах, и, наоборот, православные Севера России не подвизались ли также на всех поприщах в Южной России? Не совместно ли те и другие созидали единую великую Православную Российскую Церковь? Разве православные Южной России могут упрекнуть православных Северной России, что последние в чем-либо отступили от веры или исказили учение веры и нравственности? Ни в каком случае. <…> К чему же стремление к отделению? К чему оно приведет? Конечно, только порадует внутренних и внешних врагов. Любовь к своему родному краю не должна в нас заглушать и побеждать любви к единой Православной Церкви» (22).
Возникновение в 1991 году независимого украинского государства увенчалось созданием в 1992 году (при активной поддержке властей) новой украинской церкви — так называемого «киевского патриархата». Теперь ее возглавляет отлученный от РПЦ митрополит Филарет (Денисенко). Главным назначением новой церкви является обслуживание курса «нэзалэжной» украинской власти на полный разрыв с Россией.
УПЦ («Киевский патриархат») вместе с возобновившей свою деятельность УАПЦ — несмотря на неканоничность и сравнительную малочисленность тех и других — вынашивают планы объединения и затем, при поддержке властей, подчинения себе единственной канонической церкви на Украине — УПЦ (Московского патриархата). Они, таким образом, стремятся добиться того, чтобы на Украине традиционное православие превратилось в послушную украинскому государству церковную структуру — подобно тому как в свое время на Украине русский народ (малороссийская его ветвь) был превращен в «украинский». Разгром русского православия на Украине должен, по замыслу его организаторов, довершить и увенчать собою раскол единой Руси.
7
Между тем совсем еще недавно народ, проживающий в нынешнем украинском государстве, обладал одной из величайших мировых культур — русской культурой. Обладал с полным на то правом, ибо сам являлся одним из ее создателей. Более того, на некоторых этапах становления русской культуры влияние на этот процесс представителей Южной Руси было определяющим. Достаточно вспомнить хотя бы период Киевской Руси или эпоху петровских времен, когда, по словам Костомарова, «…царь, задавшись мыслью пересадить в Россию западное просвещение, увидел в малорусских духовных превосходное орудие для своих целей…», а потому «…на все важнейшие духовные места возводимы были малороссияне» (23). Русское православие, в котором выходцы из Южной Руси играли столь важную роль, по сути и сформировало великую русскую культуру. Ведь русская культура — это, в первую очередь, культура православного народа, в ней выражено православное отношение к миру — и именно это делает ее уникальной и неповторимой. Можно вспомнить также, сколько великих богословов, философов, писателей, художников и композиторов дала русской культуре Южная Русь…
Учитывая все это, выбор, сделанный населением Украины, которое еще прежде, после катастрофы 1917 года, вынудили отречься от русского имени и которое теперь, на исходе столетия, на референдуме 1991 года подавляющим большинством голосов (около 90 %) окончательно разорвало с Россией, с русской судьбой, с русской культурой… есть выбор людей, не ведающих, что творят.
8
Николай Васильевич Гоголь писал: «…сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой — явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характеров, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве» (из письма А. О. Смирновой от 24 декабря 1844 г.) (24).
Таков завет великого Гоголя. Действительность же наша совсем иная. Эти строки пишутся в дни, когда земляки Гоголя празднуют очередное «торжество» «независимости Украины» (иными словами — гибельного раскола Российского государства). Празднуют довольные и самоуверенные, без малейших признаков осознания тяжести ими содеянного.
Иван Бунин по поводу другого черного периода в нашей истории писал: «Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего всечеловеческого проклятия теперешним дням» (25). Мучительным будет пробуждение и горьким будет раскаяние от нашего нынешнего забытья — но гораздо хуже, если это пробуждение вообще не наступит, свидетельствуя о гибели, о разложении и распаде того русского мира, который возник на этой земле более тысячи лет назад.
Сейчас, когда самостийники празднуют на Украине свою победу, когда их «завоевания» нашли свое воплощение в окружающей нас действительности и когда в то же время противостоящая им сторона выявляет всяческую слабость, так что, казалось бы, и помощи ждать неоткуда… — вспоминаются заключительные страницы «Войны и мира», где Толстой обстоятельно опровергает господствующие представления о возможности сознательного воздействия человека на историю и доказывает, что история изменяется по совершенно другим законам… Поэтому сегодня, когда «пророссийской ориентации» деятели и организации на Украине бессильны изменить ситуацию, быть может, не будет так уж безнадежно уповать на ту невидимую нами Силу, которая, по Толстому, движет историю и которая неподвластна влиянию личностей, учреждений и организаций…
И потому, несмотря на очевидную гибельность и кажущуюся необратимость происходящих на Украине процессов, ничуть не колеблется вера в то, что вслед за этим надвинувшимся на Русь черным периодом ее истории неизбежно последует откат в противоположную сторону и что сам этот черный период есть не более чем эпизод в истории Руси, необходимый, может быть, для вразумления нынешних поколений русских людей, которые за годы «развитого социализма» успели, пожалуй, и подзабыть, какой ценой в свое время доставалась свобода России и создавалось ее величие.
Сама внутренняя несерьезность тех альтернатив русскому пути развития, которые реализуются сегодня на пространстве Малой Руси, указывает на то, что наши нынешние кошмары — преходящи, что они для всех нас — лишь испытание…
Что же касается дальнейшей судьбы Южной (или Малой) Руси, то стоит процитировать философа Василия Розанова, который в статье «Русь и Гоголь» писал: «Великий Гоголь вывел малорусский народ на общерусский путь жизни, сознания и говора: и вопроса, им решенного, им повороченного к северу, не перерешить и не переворотить в другую сторону малорослым, а не малорусским полуписателям и полуполитикам. Его великому русскому сердцу они причиняют несносные обиды» (26).
И что из того, что упомянутые «полуписатели» и «полуполитики», с «осэлэдцэм» на голове и в душе, «спромоглыся»1 обманным путем влезть на трон, принадлежащий Пушкину, Гоголю и Достоевскому… Ярославу Мудрому и Петру I… — и, надев свои поганые нарукавники, разложив свои дыроколы и прочие канцелярские принадлежности, уже больше десятка лет с серьезным видом «розбудовують дэржаву» и «здийснюють2 национальну культурну политыку». Рано или поздно они бесславно исчезнут с исторической арены.
И чем раньше это произойдет — тем лучше.
Многое тут, конечно, зависит и от нынешних «украинцев». Окажутся ли они на уровне, хоть сколько-нибудь соответствующем тем возможностям, которые предоставляет им великое духовное достояние русской православной цивилизации. Или — в бесчувствии ко всему, что возвышается над материальными интересами, — с готовностью поддадутся очередному гибельному для себя соблазну, позволив себя завлечь какой-нибудь новой приманкой?..
Сегодня для «украинцев» важнее всего исцелиться от страшной смертельной болезни, которая их охватила. Нужно найти свои корни, воссоздать свой духовный облик и далее постепенно возродить русскую жизнь на этой древнейшей русской земле.
Патриотизм малороссов должен заключаться как раз в том, чтобы не хуже великороссов и других русских отстроить на своей территории русское государство, сохранить национальные традиции и те местные культурные особенности, которые отличают край среди других частей русского мира.
Затем предстоит восстановить целостность русского народа и его государственности. Мы ведь все русские — триединый русский народ — и можем полноценно существовать лишь в таковом качестве. Это полякам, австрийцам, немцам, а после большевикам и следом за ними самостийникам (и нынешним их заокеанским покровителям) угодно было, чтобы мы об этом не знали. Важно осознавать, что не только Украине невозможно быть без России, но и наоборот. От того, по какому пути пойдет Украина, зависит будущее всей России. «Без Киева, „матери городов русских“, не может быть России», — писал в свое время В. В. Шульгин (27).
От Украины сегодня зависит, сможет ли восстать из пепла и возродиться русская цивилизация — единственная цивилизация, имеющая духовный потенциал для сопротивления американскому глобализму.
И в то же время Украина — своим окончательным отступничеством от русского дела — способна сыграть роковую для всей русской цивилизации геростратову роль…
Литература
1. Ульянов Н. И. Украинский сепаратизм. М.: Изд-во «ЭКСМО», Изд-во «Алгоритм», 2004, с. 301–302.
2. Там же, с.300.
3. Там же, с.301.
4. Шульгин В. В. Дни. М., 1989, с. 243.
5. Там же, с. 238.
6. Там же, с. 239.
7. Царинный А. Украинское движение. Цит. по кн.: Украинский сепаратизм в России. М., 1998, с.161.
8. Там же, с. 162.
9. См. Стороженко А. В. Малая Россия или Украина? В кн.: Украинский сепаратизм в России. М., 1998, с. 281–282.
10. Ульянов Н. И. Указ. соч., с. 276.
11. Там же, с. 357.
12. Волконский A. M. Историческая правда и украинофильская пропаганда. Цит. по кн.: Украинский сепаратизм в России. М.,1998, с. 38.
13. Винниченко В. К. Возрождение нации. Цит. по кн.: Революция на Украине (по мемуарам белых). М.-Л., Государственное издательство, 1930, с. 354.
14. Вiнниченко В. К. Вiдродження нацiп. Частина I. Кипв-Вiдень, 1920, с. 258.
15. Царинный А. Указ. соч., с. 178.
16. Флоринский Т. Д. Малоруський язик и «українсько-руський» литературный сепаратизм. Цит. по кн.: Украинский сепаратизм в России. М., 1998, с. 375.
17. Там же, с. 375–376.
18. Короленко В. Г. Собр. соч. в 5-ти томах. Л., 1991, т. 5, с.139.
19. Плешко Н. Из прошлого провинциального интеллигента. Цит. по кн.: Архив русской революции, т. 9. Берлин, 1923, с. 218.
20. Вiнниченко В. К. Вiдродження нацiп. Частина II. Кипв-Вiдень, 1920, с. 259–260.
21. Царинный А. Указ. соч., с. 203.
22. «Жития святых» св. Димитрия Ростовского, кн. V (январь). Киев, 1999, т. 2, с. 967.
23. Костомаров Н. И. Исторические произведения. Автобиография. Киев, 1989, с. 348–349.
24. Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах. М., 1986, т. 7, с. 244.
25. Бунин И. А. Указ. соч., с. 133.
26. Розанов В. В. О писательстве и писателях. М., 1995, с. 353.
27. Шульгин В. В. Опыт Ленина. «Наш современник», 1997, № 11, с. 143.
Александр Елисеев, кандидат исторических наук КТО РАЗВЯЗАЛ «БОЛЬШОЙ ТЕРРОР»? О подлинных инициаторах политических репрессий 1937–1938 годов
Введение
Вопрос, вынесенный в заглавие этого скромного труда, у многих наверняка вызовет недоумение или даже гнев. Как это — кто? Давным-давно известно — Сталин и его подручные. Зачем дурить людям головы, задавая риторические вопросы?
Любопытно, что даже те, кто склонны положительно оценивать роль Сталина в нашей истории, в большинстве своем приписывают организацию массовых репрессий ему же. Дескать, уничтожал троцкистов, палачей времен «красного террора», бюрократов, скрытых врагов Советской власти. В общем — нужное подчеркнуть, все зависит от политических убеждений.
Главное, все сходятся на том, что именно Сталин был организатором массовых репрессий. Казалось бы, такое единодушие должно убеждать. Однако давайте не будем спешить. Мало ли сколько было расхожих представлений, а потом выяснялось, что они не ценнее мыльного пузыря. Попробуем взглянуть на проблему «Большого террора» непредвзято.
Для начала выясним, откуда возник массовый политический террор. Он появился в эпоху революций. Резкий поворот в общественном развитии всегда порождал мощное сопротивление широких социальных слоев. Революциям сопротивлялись не только представители свергнутой верхушки, но и массы, точнее, их часть. А подавление масс, соответственно, требовало массового террора.
Классическим образцом можно считать якобинский террор 1793–1794 годов, который во Франции унес около миллиона жизней. Такова была цена Великой французской революции. Однако политический терроризм, в той или иной степени, были присущ и другим буржуазным революциям — английской, американской, испанской, итальянской. Любопытно, что он был присущ и первой российской революции, вспыхнувшей в 1905 году. Я имею в виду террор эсеров и анархистов. Его принято называть индивидуальным, однако он на деле принял характер массового. И это неудивительно, ведь эсеры имели в своем распоряжении массовую партию леворадикального толка.
По самым скромным подсчетам, в годы эсеровско-анархического террора погибло 12 тысяч человек. Думские депутаты-монархисты однажды принесли в зал заседаний склеенные бумажные листы, на которых были написаны имена жертв террористов. Так вот, полосу этих бумаг они смогли развернуть по всей ширине зала. До революции была выпущена многотомная «Книга русской скорби». В ней собраны данные о жертвах. Среди них лишь очень немногие принадлежали к элите русского общества. Масса людей пострадала совершенно случайно. Например, 12 апреля 1906 года при взрыве дачи П. А. Столыпина погибли 25 человек, пришедших на прием к премьер-министру.
Все это было генеральной репетицией гораздо более страшного «красного террора», который показал, что массовый терроризм присущ не только буржуазным, но и социалистическим революциям. Это потом подтвердил и пример «великой пролетарской культурной революции», осуществленной Мао Цзэдуном. Погибли десятки миллионов китайцев, ставших жертвами как госбезопасности, так и шаек озверевших юнцов, именуемых хунвейбинами и цзаофанями.
Пристрастие к террору продемонстрировали и революции «справа». Придя к власти на волне «национальной революции», национал-социалист Гитлер подверг репрессиям сотни тысяч немцев. Только членов Коммунистической партии Германии было казнено 33 тысячи человек. А уж какой террор Гитлер организовал на оккупированных территориях, говорить, я думаю, не стоит.
Теперь давайте обратимся к фигуре Сталина. Исследователи как-то не склонны преувеличивать революционность этого деятеля. Напротив, многие наблюдатели, как «левые», так и «правые», считают, что Сталин был могильщиком «пролетарской» революции. И очень мало тех, кто ставит его на одну доску с творцами Октября.
Меня давно занимает такой парадокс. Проводя параллели с Великой французской революцией, Сталина часто именуют термидорианцем, а его политику — термидором. Особенно любил говорить о сталинском термидоре Троцкий. Однако ведь именно группировка термидорианцев положила конец массовому революционному террору 1793–1794 годов, который грозил уже пожрать и самих революционеров. И если Сталин — термидорианец, то какой же он тогда организатор террора?
Как ни относиться к Сталину, но очевидно, что он осуществил ряд мер, направленных против нигилизма, порожденного революцией. Восстановил в правах национальный патриотизм. Наряду со своим культом установил культ русской литературы. Взял курс на укрепление семейного уклада. «Реабилитировал» многих исторических деятелей старой России. Прекратил преследование церкви.
И в то же самое время именно он развернул массовый террор? Получается, что преодоление нигилизма ведет именно к массовому террору, широкомасштабным репрессиям? Непонятно… А если предположить, что развязывание террора произошло против воли Сталина?
Но, может быть, допустить и обратное? Что, если Сталин и в самом деле был верным продолжателем дела Ленина и Троцкого, как нас уверяют некоторые? Что ж, давайте вглядимся повнимательнее.
Глава 1. Профессиональный контрреволюционер
В борьбе с мировой революцией
Начать я предлагаю со сталинской внешней политики. В ней отчетливее всего проявился его консерватизм, который не следует путать с ретроградством. На международной арене он выразился в категорическом нежелании «бороться за коммунизм во всемирном масштабе». Само коммунистическое движение рассматривалось Сталиным сугубо прагматически — как орудие геополитического влияния России. Во внешней политике сталинское неприятие революционного нигилизма и радикализма заметно более чем где бы то ни было.
Еще в 1918 году Сталин публично выражал свое скептическое отношение к пресловутой «мировой революции». Во время обсуждения вопроса о мирном соглашении с немцами он заявил: «…Принимая лозунг революционной войны, мы играем на руку империализму… Революционного движения на Западе нет, нет фактов, а есть только потенция, а с потенцией мы не можем считаться».
Свой скепсис Иосиф Виссарионович сохранил и во время похода на Польшу (1920 год). И он же, один-единственный во всем Политбюро, не верил в возможность «пролетарской революции» в Германии, которую советские вожди хотели осуществить в 1923 году. В письме к Зиновьеву он замечал: «Если сейчас в Германии власть, так сказать, упадет, а коммунисты подхватят, они провалятся с треском. Это „в лучшем“ случае. А в худшем случае — их разобьют вдребезги и отбросят назад… По-моему, немцев надо удерживать, а не поощрять». И не случайно, что именно Сталин возглавил в 20-е годы разгром левой оппозиции, которая зациклилась на мировой революции.
На протяжении всех 30-х годов, будучи уже лидером мирового коммунизма, Сталин навязывал западным компартиям оборонительную тактику. Западные коммунисты всегда были нужны ему как проводники советского влияния, но не в качестве революционизирующей силы. В 1934 году в Австрии (февраль) и Испании (октябрь) вспыхнули мощные рабочие восстания, в которых приняли участие и тамошние коммунистические партии. Сталин этим восстаниям не помог вообще ничем — ни деньгами, ни оружием, ни инструкторами.
Сталин не верил в революционные устремления европейского пролетариата. Известный деятель Коминтерна Г. Димитров рассказывает в своих дневниковых записях об одной примечательной встрече со Сталиным, состоявшейся 17 апреля 1934 года. Димитров поделился с вождем своим разочарованием: «Я много думал в тюрьме, почему, если наше учение правильно, в решающий момент миллионы рабочих не идут за нами, а остаются с социал-демократией, которая действовала столь предательски, или, как в Германии, даже идут за национал-социалистами». Сталин объяснил этот «казус» следующим образом: «Главная причина — в историческом развитии, в исторических связях европейских масс с буржуазной демократией. Затем, в особенном положении Европы — европейские страны не имеют достаточно своего сырья, угля, шерсти и т. д. Они рассчитывают на колонии. Рабочие знают это и боятся потерять колонии. И в этом отношении они склонны идти вместе с собственной буржуазией. Они внутренне не согласны с нашей антиимпериалистической политикой».
Весьма поучительно обратиться к событиям, предшествовавшим советско-финской войне 1939–1940 года. Ее довольно часто считают проявлением сталинской агрессивности, указывая на сам факт территориальных претензий Москвы. Но мало кто знает, что до начала официальных переговоров с Финляндией Сталин вел с этой страной переговоры неофициальные, тайные.
Документы, подтверждающие это, содержатся в архиве Службы внешней разведки. Не так давно они были опубликованы в 3-м томе «Очерков истории внешней разведки». Архивные материалы повествуют о том, как еще в 1938 году Сталин поручил разведчику Б. А. Рыбкину установить канал секретных контактов с финским правительством. (В самой Финляндии Рыбкина знали как Ярцева. Он занимал должность второго секретаря советского посольства.)
Финны согласились начать тайные переговоры. Через министра иностранных дел Таннера Рыбкин-Ярцев сделал правительству Финляндии следующее предложение: «…Москву удовлетворило бы закрепленное в устной форме обязательство Финляндии быть готовой к отражению возможного нападения агрессора и с этой целью принять военную помощь СССР». То есть советское руководство всего лишь хотело, чтобы финны стали воевать, если на них нападут, да еще и приняли бы советские военные поставки. Сталин очень опасался, что Финляндию захватит Германия, ведь советско-финская граница пролегала в 30 километрах от Ленинграда.
Но гордые финны отказались от этого заманчивого предложения. И только тогда Сталин выдвинул территориальные претензии, причем обязался компенсировать потерю Финляндией земель большими по размеру территориями Советской Карелии.
Не помешает коснуться предвоенной политики СССР в отношении Прибалтики. Здесь тоже полно разных мифов. Считается, что Сталин с самого начала ставил своей целью коммунизацию балтийских республик. Между тем факты опять свидетельствуют против мифов.
На первых порах СССР хотел только одного — чтобы прибалтийские правительства согласились на размещение советских войск. Маршал А. И. Мерецков, бывший в то время командующим Ленинградского военного округа, вспоминает об одном показательном инциденте. Ему понадобилось построить укрепления на одном из участков эстонской земли. Он взял разрешение у эстонского правительства, а также получил согласие местного помещика, на чьей территории планировалось строить укрепления. Но инициативу Мерецкова категорически не одобрили в Москве, и он подвергся резкой критике В. М. Молотова.
Ситуация изменилась к лету 1940 года. Немцы в течение рекордно короткого срока подмяли под себя Данию, Норвегию, Голландию и Бельгию. Выяснилось, что маленькие государства не способны хоть как-то сдерживать напор немецкой военной машины. Кроме того, в прибалтийских странах резко активизировались антисоветские элементы, которые стали готовить фашистский путч. Тогда руководство СССР потребовало от стран Прибалтики создать правительства, способные в случае агрессии оказать сопротивление и поддержать СССР. Первоначально в новых правительствах коммунисты составляли меньшинство. В правительстве Эстонии вообще не было ни одного коммуниста. Лишь после выборов, состоявшихся в июле 1940 года, СССР взял курс на советизацию Прибалтики. Очевидно, Сталина воодушевил тот успех, который одержали на них просоветские, левые силы.
Архитектор послевоенной стабильности
Еще не окончилась Вторая мировая война, когда Сталин встретился с лидером Французской компартии Морисом Торезом. Это произошло 19 ноября 1944 года. Во время беседы Сталин покритиковал французских товарищей за неуместную браваду. Соратники Тореза хотели сохранить свои вооруженные формирования, но советский лидер им это решительно отсоветовал. Он дал указание не допускать столкновений с Шарлем де Голлем, а также активно участвовать в восстановлении французской военной промышленности и вооруженных сил.
Какое-то время ФКП держалась указаний Сталина. Но склочная марксистская натура все же не выдержала, и 4 мая 1947 года фракция коммунистов проголосовала в парламенте против политики правительства П. Рамадье, в которое, между прочим, входили представители партии. Премьер-министр резонно обвинил коммунистов в нарушении принципа правительственной солидарности, и они потеряли важные министерские портфели. Сделано это было без всякого согласования с Кремлем, который ответил зарвавшимся бунтарям раздраженной телеграммой Жданова: «Многие думают, что французские коммунисты согласовали свои действия с ЦК ВКП(б). Вы сами знаете, что это неверно, что для ЦК ВКП(б) предпринятые вами шаги явились полной неожиданностью».
Сталин предостерегал коммунистов Греции против обострения отношений с правительством. Но они вождя не послушали и подняли восстание. Тогда Сталин отказал в поддержке коммунистическим повстанцам. Более того, он упорно настаивал на прекращении ими вооруженной борьбы. В феврале 1948 года на встрече с лидерами Югославии и Болгарии Сталин сказал прямо: «Восстание в Греции нужно свернуть как можно быстрее». В конце апреля того же года повстанцы уступили и пошли на мирные переговоры с правительством.
Именно Сталин не допустил создания коммунистической Балканской Федерации, вызвав тем самым упреки И. Б. Тито, который обвинил генералиссимуса в измене большевистским идеалам.
Сталин был готов отказаться от идеи строительства социализма в Восточной Германии и предложил Западу создать единую и нейтральную Германию — по типу послевоенной Финляндии. В марте-апреле 1947 года на встрече четырех министров иностранных дел (СССР, США, Англии, Франции) В. М. Молотов показал себя решительным поборником сохранения национального единства Германии. Он предложил сделать основой ее государственного строительства положения конституции Веймарской республики.
Сталин советовал коммунистам Западной Германии отказаться от слова «коммунистическая» в названии своей партии и объединиться с социал-демократами (данные предложения зафиксированы в протоколе встречи с руководителями Восточной Германии В. Пиком и О. Гротеволем, состоявшейся 26 марта 1948 года). И это несмотря на огромную нелюбовь вождя к социал-демократии во всех ее проявлениях!
Сталин спустил на тормозах коммунизацию Финляндии, угроза которой была вполне реальной. Тамошние коммунисты заняли ряд ключевых постов, в том числе и пост министра внутренних дел, и тихой сапой уже начали расправу над своими политическими противниками. Но из Москвы пришло указание прекратить «революционную активность».
Кстати сказать, Сталин далеко не сразу пошел на установление коммунистического правления в странах Восточной Европы. В 1945–1946 годах он видел их будущее в создании особого типа демократии, отличающейся как от советской, так и от западной моделей. Сталин надеялся, что социалистические преобразования в этих странах пройдут без экспроприации средних и мелких собственников. В мае 1946-го на встрече с польскими лидерами Сталин заявил, что демократия может стать народной, национальной и социалистической тогда, когда устранена лишь крупная буржуазия, превращающая «свободные выборы» в фарс, основанный на подкупе политиков и избирателей.
Но усиление конфронтации с Западом (по вине последнего), а также выбор многими несоциалистическими политиками Восточной Европы сугубо прозападной ориентации подвигли Сталина взять курс на установление там господства коммунистических партий. Весьма возможно, что Сталин несколько поторопился с коммунизацией Восточной Европы, однако это его решение диктовалось накалом геополитического противостояния.
Не желая посягать на европейские зоны влияния Запада, Сталин в то же время был непреклонен в решимости создать свою зону влияния на Востоке. Он поддержал коммунистических повстанцев Мао Цзэдуна, доведя дело до провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики. Но, опять-таки, поддержку оказали не сразу. Весной 1946 года Сталин вывел советские войска из Манчжурии, что противоречило пессимистическим прогнозам американских военных. Вообще, Сталин долгое время не разрушал мосты даже после провокаторской речи Черчилля в Фултоне.
Сталин и трагедия Октября
В принципе сталинская внешняя политика была почти идеальной. Любой шаг «влево» или «вправо» грозил либо впадением в троцкистский авантюризм, либо сдачей всех государственных позиций. Сталин не подчинялся Западу, но и не шел с ним на революционный конфликт. Он выступал, выражаясь по-современному, за многополярный мир. Многополярный не только в цивилизационном, но и в идеологическом отношении. Данный курс следует считать продолжением курса внутриполитического. Выше говорилось о том, что сталинское неприятие революционного нигилизма было заметнее во внешней политике. Заметнее — да, но это вовсе не значит, что во внутренней политике Сталин был более авантюристичен. Просто во внутриполитической сфере сталинский курс встретил самое ожесточенное сопротивление революционеров из ленинско-троцкистской гвардии, что и предопределило многие откаты «влево».
Внутри страны Сталин также являл собой тип консервативного политика.
Существует довольно распространенное мнение, согласно которому Сталин отказался от революционного нигилизма и встал на государственно-патриотические позиции только в 30-е годы — из прагматических соображений. Дескать, он исходил из того, что скоро наступит война, которую не выиграешь под левацкими, интернационалистическими лозунгами. Отсюда и его эволюция. Однако факты эту концепцию опровергают. Сталин был национальным патриотом и творческим консерватором еще в 1917 году.
В первые месяцы после Февральской революции Сталин был против перерастания буржуазной революции в революцию социалистическую (свою точку зрения он изменил только после возвращения Ленина). В марте-апреле на подобных позициях стояло почти все высшее партийное руководство, находящееся в России. Подобно лидерам правого крыла российской социал-демократии, оно не считало необходимым брать курс на перерастание буржуазной революции в революцию социалистическую. Оно также было против поражения России в войне.
Но Сталин все же занимал особую позицию. Он осознавал, насколько можно дискредитировать себя поддержкой правительства либеральных болтунов, которые разваливают страну и во всем оглядываются на своих англо-французских покровителей. Согласно ему, надо было поддерживать «временных» лишь там, где они, вольно или невольно, проводят преобразования, необходимые для России.
В марте 1917 года Сталин впервые открыто декларировал приверженность русскому национальному патриотизму. Будущий строитель (правильнее сказать — реставратор) великой державы выступал за руководящую роль русского народа в революции, против интернационализма, который потом длительное время осуществлялся за счет стержневого народа России. В статье «О Советах рабочих и солдатских депутатов» он обращался с призывом: «Солдаты! Организуйтесь и собирайтесь вокруг русского народа, единственного верного союзника русской революционной армии».
Ещё один важный пункт сталинской программы того периода составляют его специфические взгляды на советы. Как известно, после победы Февральской революции в Петрограде и других регионах стали возникать Советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Но общенационального, всероссийского Совета так и не возникло. По сути, деятельностью других советов руководил Петроградский Совет, бывший собранием столичных левых политиков, не всегда точно учитывающих интересы трудового населения столь огромной страны. Формально над советами возвышался их съезд, то есть общенациональный орган, однако он созывался время от времени и не был постоянно действующей структурой, способной конкурировать со столичными политиками, которые были рядом с центральной властью.
Если бы советы имели свой общенациональный, постоянно действующий орган, то в России возникло бы действительно народное представительство, свободное от буржуазного парламентского политиканства западного типа (выборы могут быть свободными только тогда, когда нет ни бюрократического диктата, ни подкупа избирателей крупными капиталистами). Оно сочеталось бы с мощной правительственной, исполнительной вертикалью, но не подавлялось бы ею.
Так вот, Сталин предлагал российским революционерам именно этот вариант. В двух своих мартовских статьях «О войне» и «Об условиях победы русской революции» он выступит за создание органа под названием Всероссийский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.
Тогда проект Сталина, предполагавший установление реального советовластия, был отвергнут как «правыми» сторонниками Каменева, так и «левыми» приверженцами Ленина. К чему это привело — известно. Позже Сталин еще попытается снова вернуться к своему мартовскому проекту. Во время конституционной реформы 1936 года на месте громоздкой системы съездов Советов будет создан Верховный Совет страны. Однако на этот раз советовластия не получилось, несмотря на все старания вождя. О причинах этого будет сказано позже.
Различия между подходами Сталина и Ленина прямо-таки бросаются в глаза после сравнения двух вариантов воззвания партии большевиков, опубликованных 10 июня в «Солдатской правде» и 17 июня в «Правде». Первый принадлежит Сталину, второй, отредактированный, Ленину. В сталинском тексте написано: «Дороговизна душит население». В ленинском: «Дороговизна душит городскую бедноту». Разница налицо. Сталин ориентируется на весь народ, имея в виду общенациональные интересы, тогда как Ленин апеллирует к беднейшим слоям, пытаясь натравить их на большинство.
Сталин желает: «Пусть наш клич, клич сынов революции, облетит сегодня всю Россию…». Ленин расставляет акценты по-иному: «Пусть ваш клич, клич борцов революции, облетит весь мир…». Как заметно, Сталин мыслит патриотически, в общенациональном масштабе, Ленин — космополитически, в общемировом. Показательно, что у Ленина дальше следует абзац, отсутствующий в тексте Сталина. В нем говорится о классовых «братьях на Западе».
Сталин в своем варианте воззвания вновь говорит о «Всероссийском Совете», Ленин же поправляет его, говоря о советах.
В сентябре, по горячим следам корниловского мятежа, Сталин написал статью. В ней он обрушился на англо-французских покровителей кадетствующего генерала. Примечательно, что для характеристики заграничных манипуляторов им используется слово «иностранцы». Ленин и другие большевики больше писали об «империалистах», используя классовый подход. Для Сталина же эти империалисты являлись в первую очередь внешним врагом, который, как и встарь, пытается ослабить Россию.
Почти через месяц после Октябрьского переворота, 20 ноября, Сталин на заседании Совнаркома предложил не разгонять Учредительное собрание, а просто оттянуть его открытие. Он хотел найти некий компромисс между сторонниками Советов и парламентаризмом западного образца. Он отлично понимал, что большая часть крестьянства и мелкая городская буржуазия идут за эсерами и меньшевиками, которые настаивают на верховенстве Учредительного собрания (выборы это великолепно продемонстрировали). Противопоставить себя этому громадному большинству означало развязать жесточайший конфликт. И Сталин этого конфликта опасался. В отличие от большевистской верхушки и Ленина, которые на упомянутом заседании правительства приняли решение разогнать «учредилку». По сути дела, этот авантюристический шаг и вызвал гражданскую войну.
Так как же после всего этого относиться к Сталину, которого большинство считает деспотом, хорошим или плохим, но все равно — деспотом? Сталин предложил объединить советы в постоянно действующий всероссийский «парламент», то есть создать реальное народное представительство, независимое от диктатуры исполкомов. Это как, деспотизм? Сталин высказался против разгона Учредительного собрания, которое вызвало гражданскую войну и «красный террор». Это что, тоже деспотизм? Сталин был против штурма мятежных кронштадтцев, тех же самых рабочих и крестьян в матросской форме, возмущенных продразверсткой. И это опять — деспотизм? Да если бы большевики приняли некоторые предложения этого «деспота», удалось бы избежать пролития крови миллионов. Да и самого «Большого террора» 1937–1938 годов не было бы. Ведь ясно же, что он был бы невозможен без того озверения, к которому страна привыкла в ходе гражданской войны.
Возникает вопрос: не делаю ли я из Сталина либерала? Нет, не делаю. К счастью, он таковым не был. По ряду вопросов вождь занимал либеральную позицию, а по ряду других проявлял себя жестким государственником и централистом. Как, например, по вопросу о создании Союза Советских Республик. Тогда либералом показал себя именно Ленин, требующий огромных прав для республик (в частности, права на выход). Зато Ильич был гораздо более жесток по отношению к Учредительному собранию или кронштадтским повстанцам. Он вообще критиковал Сталина за излишнюю мягкотелость по отношению к врагам и очень хвалил Троцкого с его методами расстрела каждого десятого в отступившей красноармейской части. Ленин всячески защищал Троцкого от обвинений в жестокости, утверждая, что Лев Давидович пытается превратить диктатуру пролетариата из «киселя» в «железо».
В свое время я очень сильно удивлялся тому, что наши либеральные и демократические обличители коммунизма основной огонь своей критики направляли и направляют именно против Сталина. Ленину, конечно, тоже достается, но не столь сильно. Главный демон — именно Сталин. Помнится, как в середине 90-х годов Г. А. Зюганов решил процитировать отрывок из сталинской речи на XIX съезде. Так гневу телеобозревателя Е. Киселева не было предела. Дескать, вот наконец-то Зюганов окончательно показал свое тоталитарное лицо!
Как же так? Ведь именно Ленин был основателем большевистской системы. И он был гораздо жестче Сталина, при нем погибло намного больше людей. Почему же большая часть шишек достается Сталину? А все очень просто. Сталин выволок на своем хребте великую державу и сделал ее сверхдержавой. А либералам нужно, чтобы Россия стала всего лишь частью Запада, войдя туда на правах прилежного ученика. Вот они и не могут простить Сталину изменение траектории движения России в конце 20-х годов. Проживи Ленин чуть подольше или приди к власти какой-нибудь действительно «верный ленинец», страна бы просто не выдержала груза коммунистической утопии. Она бы сломалась, а «добрые» дяденьки с Запада подобрали осколки и склеили бы что-нибудь нужное себе. Вроде ночного горшка…
Глава 2. Загадки «тирана»
Неожиданный либерализм
Как видно, Сталин вовсе не был поклонником революционного радикализма — ни во внешней, ни во внутренней политике. Но как же все-таки быть с репрессиями 1937–1938 годов?
Прежде всего давайте обратим внимание на то, что сам Сталин вовсе не был каким-то любителем репрессий. Он, конечно, прибегал к ним, но лишь тогда, когда считал их неизбежными. По возможности же старался избегать их или смягчать.
Вот несколько крайне показательных примеров. Сам Троцкий в письме к своему сыну Льву Седову (от 19 ноября 1937 года) признавался, что Сталин, в отличие от него и других красных вождей, был противником штурма мятежного Кронштадта. Он был убежден, что мятежники капитулируют сами.
Пример второй. В 1928 году был организован процесс по так называемому «Шахтинскому делу». На нем судили специалистов-инженеров, которых обвиняли во вредительстве. В Политбюро столкнулись два подхода к судьбе обвиняемых. «Гуманист» и «либерал» Н. И. Бухарин вместе со своими «правыми» единомышленниками — А. И. Рыковым и М. П. Томским выступали за смертную казнь. А «кровавый» тиран Сталин был категорически против.
Сталин был и против казни самого Бухарина. На февральско-мартовском пленуме ЦК (1937 год) бывшего «любимца партии» вместе с Рыковым обвинили в контрреволюционной деятельности. Для решения их дальнейшей судьбы пленум создал специальную комиссию. Во время ее работы были выдвинуты три предложения. Нарком Н. И. Ежов предложил предать Бухарина и Рыкова суду с последующим расстрелом. Первый секретарь Куйбышевского обкома П. П. Постышев предложил предать их суду без расстрела. Предложение же Сталина сводилось к тому, чтобы ограничиться всего лишь высылкой. И это предложение задокументировано, оно содержится в протоколе заседания комиссии, датированном 27 февраля 1937 года.
Сталин отнюдь не был жесток ко всем бывшим участникам оппозиций. Он ничего не предпринял в отношении бывших активных троцкистов — А. А. Андреева и Н. С. Хрущева. Сталин так и не тронул самого главного своего оппонента в области внешней политики, М. М. Литвинова. Он также сохранил жизнь и свободу Г. И. Петровскому, который участвовал во многих антисталинских интригах и отзывался о Сталине с нескрываемой неприязнью.
После войны Сталин отказался репрессировать маршала Г. К. Жукова, к которому испытывал неприязнь и который часто и резко спорил с вождем. И это несмотря на то, что госбезопасность «сигнализировала» Сталину об «измене» маршала!
Сталину претило воспевание репрессий, карательных методов, которое стало нормой для многих представителей политической и творческой элиты. По свидетельству адмирала И. С. Исакова, во время посещения Беломорско-Балтийского канала Сталин не хотел выступать, всячески отнекивался. Все-таки один раз он выступил, испортив настроение многим «энтузиастам». Сталин резко раскритиковал (за излишний пафос) предыдущие выступления, в которых воспевалась стройка и сопутствующая ей «перековка» заключенных.
Плюрализм вождя
Репрессии часто выводят из «сталинской нетерпимости». В сознании очень многих прочно утвердился образ Сталина-деспота, требующего от всех, и в первую очередь от своего политического окружения, строжайшего единомыслия и беспрекословного подчинения. Надо сказать, что этот образ далёк от действительности. Безусловно, революционная эпоха с присущими ей радикализмом и нигилизмом сказалась на характере Сталина. В определенные моменты ему были присущи и нетерпимость, и грубость, и капризность. Но он никогда не препятствовал тем, кто отстаивал собственную точку зрения.
Сохранились свидетельства очевидцев, согласно которым Сталин вполне допускал дискуссии по самым разным вопросам. Вот что говорят люди, работавшие с вождем. И. А. Бенедиктов, бывший нарком, а затем министр сельского хозяйства, вспоминает: «Мы, хозяйственные руководители, знали твердо: за то, что возразили „самому“, наказания не будет, разве лишь его мелкое недовольство, быстро забываемое, а если окажешься прав, то выше станет твой авторитет в его глазах. А вот если не скажешь правду, промолчишь ради личного спокойствия, а потом все это выяснится, тут уж доверие Сталина наверняка потеряешь, и безвозвратно».
Сталинский нарком вооружений Д. Ф. Устинов отмечает, что «при всей своей властности, суровости, я бы даже сказал жесткости, он живо откликался на проявление разумной инициативы, самостоятельности, ценил независимость суждений».
А Н. Байбаков писал о вожде следующее: «Заметив чье-нибудь дарование, присматривался к нему — каков сам человек, если трус — не годится, если дерзновенный — нужен… Я лично убедился во многих случаях, что, наоборот, Сталин уважал смелых и прямых людей, тех, кто мог говорить с ним обо всем, что лежит на душе, честно и прямо. Сталин таких людей слушал, верил им, как натура цельная и прямая».
Порой споры Сталина с лицами из его окружения носили достаточно жесткий характер. Вот что вспоминает Жуков: «Участвуя много раз при обсуждении ряда вопросов у Сталина в присутствии его ближайшего окружения, я имел возможность видеть споры и препирательства, видеть упорство, проявляемое в некоторых вопросах, в особенности Молотовым; порой дело доходило до того, что Сталин повышал голос и даже выходил из себя, а Молотов, улыбаясь, вставал из-за стола и оставался при своей точке зрения». Хрущев великолепно дополняет Жукова, говоря о Молотове так: «Он производил на меня в те времена впечатление человека независимого, самостоятельно рассуждающего, имел свои суждения по тому или иному вопросу, высказывался и говорил Сталину все, что думает».
Свое, отличное от сталинского, видение перспектив социалистического развития не боялся высказывать А. А. Жданов. Факты свидетельствуют о том, что он считал необходимым провести широкомасштабные политические реформы. В 1946 году, на мартовском пленуме ЦК, ему было поручено возглавить работу идеологической комиссии по выработке проекта новой программы партии. И уже осенью следующего года проект был готов. Он предусматривал осуществление целого комплекса мер, призванных радикально преобразовать жизнь в стране. Так, предполагалось включить в управление СССР всех его граждан (само управление предлагалось постепенно свести к регулированию хозяйственной жизни). Все они должны были по очереди выполнять государственные функции (одновременно не прекращая трудиться в собственной профессиональной сфере). По мысли разработчиков проекта, любая государственная должность в СССР могла быть только выборной, причем следовало проводить всенародное голосование по всем важнейшим вопросам политики, экономики, культуры и быта. Гражданам и общественным организациям планировалось предоставить право непосредственного запроса в Верховный Совет.
Совершенно очевидно, что Сталин, убежденный сторонник укрепления государства, не мог согласиться с таким весьма либеральным проектом. Но, что характерно, Жданов имел возможность представить вниманию Сталина и всего высшего руководства собственную программу преобразований, резко противоречащую устоявшимся взглядам и подходам.
Иногда и все «раболепное» сталинское окружение занимало позицию, совершенно отличающуюся от позиции вождя, и последний был вынужден уступать. Приведу яркий пример. Историк Б. Старков на основании архивных документов (материалы общего отдела и секретариата ЦК, речь М. Калинина на партактиве НКВД) сделал поразительное открытие. Оказывается, Сталин хотел поставить на место потерявшего доверие Ежова Г. М. Маленкова, которого очень активно продвигал по служебной лестнице. Но большинство членов Политбюро предпочло кандидатуру Л. П. Берии.
Конечно, далеко не все и далеко не всегда имели полную возможность выражать свою позицию открыто. Но было бы совершенно неверно считать, что неугодные мнения обязательно карались и заканчивались неизбежно расстрелом или лагерем.
При Сталине, в 1951 году, среди экономистов провели широкую дискуссию, в ходе которой высказывались самые разные, порой довольно неожиданные мнения. Вкратце укажу на некоторые из них. Заведующий кафедрой Московского финансового института А. Ф. Яковлев отметил плачевное состояние отечественной экономической мысли. Причину он видел в том, что ученые ждут, пока за них все сделает Сталин, и боятся обвинений в «антиленинизме».
Начальник Управления министерства финансов СССР В. И. Переслегин предложил провести широкомасштабную экономическую реформу, заключающуюся в переводе на хозрасчет всех хозяйственных структур — от завода до главков и министерств.
И никто не препятствовал в высказывании этих и многих других интереснейших предположений и предложений. Правда, одного участника дискуссии, Л. Ярошенко, все же репрессировали — в январе 1953 года, через год после ее окончания. Тогда Сталин поручил вынести определение позиции Ярошенко двум участникам высшего руководства — будущему «правдолюбцу» Хрущеву и Д. Шепилову. Они признали ее антипартийной, и Ярошенко арестовали. Безусловно, ситуация со свободой слова при Сталине была неудовлетворительной (так же, как и до него). Но не стоит преувеличивать удельный вес несвободы и произвола.
Настоящие масштабы
Указанное преувеличение во многом обусловлено тем, что начиная с перестроечных лет огромное количество историков, публицистов и политиков упорно завышали масштабы репрессий, развернувшихся в 30–50-е годы. До сих пор называются цифры в пять, семь, пятнадцать и более миллионов репрессированных. При этом никто из разоблачителей сталинизма не называет источники, из которых берется столь жуткая цифирь. А между тем историки, стоящие на позициях объективного рассмотрения, давно уже задействовали данные Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), чьи фонды содержат документы внутренней отчетности карательных органов перед высшим руководством страны.
Здесь в первую очередь нужно упомянуть справку, представленную Хрущеву 1 февраля 1954 года. Она была подписана Генеральным прокурором Р. Руденко, министром внутренних дел С. Кругловым и министром юстиции К. Горшениным. В справке было отмечено: «В связи с поступающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц о незаконном осуждении за контрреволюционные преступления в прошлые годы Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым совещанием, Военной коллегией, судами и военными трибуналами, и в соответствии с вашим указанием о необходимости пересмотреть дела на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления и содержащихся в лагерях и тюрьмах, докладываем: за время с 1921 года по настоящее время за контрреволюционные преступления было осуждено 3 777 380 человек, в том числе к ВМН (высшая мера наказания. — А. Е.) — 642 980 человек, к содержанию в тюрьмах и лагерях на срок от 25 лет и ниже — 2 369 220, в ссылку и высылку — 765 180 человек».
Вот точное количество лиц, пострадавших от политических репрессий и во время «сталинизма», и в период нэпа.
Теперь внимательнее вглядимся в данные отчетности НКВД. Сразу скажем, что приуменьшить масштабы репрессий ежовско-бериевские «монстры» никак не могли. Им это попросту не было нужно, ведь материалы не предназначались для широкой публики.
Итак, согласно подсчетам НКВД, в его лагерях, знаменитом ГУЛАГе, по данным на 1 января 1938 года находилось 996 367 заключенных. Через год их количество составляло 1 317 195 человек. Но это общее количество всех заключенных, а ведь сажали не только (и даже не столько) политических. Не надо забывать и об обычных уголовниках. Так сколько же все-таки пострадало политических? Тот же самый НКВД дает точный расклад. В 1937 году в лагеря, колонии и тюрьмы по политическим мотивам было заключено 429 311 человек. В 1938 году — 205 509. А уже в 1939 году число новых политзэков снизилось почти в 4 раза, до 54 666. Любопытно, что в этом же году основательно выросло общее количество заключенных ГУЛАГа, составив 1 344 408. Обычно недоброжелатели Сталина любят козырять этой цифрой, утверждая, что никакого ослабления террора в 1939 году не произошло. Но, как очевидно, они игнорируют данные о репрессированных по политическим мотивам. На поверку же получается, что в этом году новый наркомвнудел Берия больше усердствовал по линии борьбы с уголовниками, за счет которых и произошло увеличение численности гулаговского контингента.
За годы перестройки в общественном сознании возникло множество штампов, связанных с «ужасами сталинизма». Взять хотя бы утверждение о том, что после войны сидело большинство репатриированных советских граждан. Якобы тот, кто побывал в плену, обязательно сидел. Однако стоит только обратиться к архивным данным, к материалам статистики, как от этого штампа ничего не останется. Вот историк В. Земсков не поленился пойти в ГАРФ и покопаться в тамошних коллекциях. И что же он выяснил? Оказывается, уже к 1 марта 1946 года 2 427 906 репатриантов были направлены к месту жительства, 801 152 — на службу в армию, а 608 095 репатриантов были зачислены в рабочие батальоны наркомата обороны. И лишь 272 867 (6,5 %) человек передали в распоряжение НКВД. Они-то и сидели.
Вряд ли такая цифра должна удивлять и уж тем более возмущать. Надо бы учесть, что примерно 800 тысяч военнопленных подали заявление о вступлении во власовскую армию. А сколько служили в разных «национальных частях» — прибалтийских, кавказских, украинских, среднеазиатских! Кстати, и к этим людям отношение было зачастую вполне либеральным. Так, 31 октября 1944 года английские власти передали СССР 10 тысяч советских репатриантов, служивших в вермахте. По прибытии в Мурманск им было объявлено о прощении и освобождении от уголовной ответственности. Около года они проходили проверку в фильтрационном лагере НКВД, после чего их отправили на шестилетнее поселение. По истечении срока большинство было оттуда освобождено с зачислением трудового стажа и без отметки в анкете о какой-либо судимости.
Еще один штамп — страшные кары опоздавшим на работу, которых якобы сажали в тюрьму. На самом деле за опоздания практически никого не сажали. Было специальное Бюро исправительных работ при НКВД, в чье ведение и переходили нарушители дисциплины. Их приговаривали к общественным работам, которые они выполняли на своем же рабочем месте. Просто из зарплаты провинившихся вычитали 25 %. По сути, это был штраф в пользу государства. Крутовато? Да, бесспорно. Но не следует забывать о том, что подобный жесткий режим был введен накануне войны, когда речь шла о судьбе страны.
И все же — почему?
Другое дело, было бы неправильно игнорировать сам факт массовых репрессий. Они, безусловно, имели место, причем зачастую принимали совершенно абсурдный характер. Что же было их причиной, почему наряду с революционными палачами ленинской поры и политическими интриганами пострадали сотни тысяч безвинных людей? Можно ли возложить ответственность за репрессии непосредственно на Сталина и его ближайшее окружение?
Мне представляется, что политические репрессии 1937–1938 годов были вызваны прежде всего острой внутрипартийной борьбой.
В 30-х годах в партийном руководстве существовали как минимум четыре партийные группы, по-разному видевшие судьбы политического развития СССР. Этим группировкам можно присвоить следующие, во многом условные названия: 1) «левые консерваторы», 2) «национал-большевики», 3) «социал-демократы», 4) «левые милитаристы». Борьба между ними и привела к мощным кадровым перестановкам сверху донизу. Накал этой борьбы предопределил использование в ее ходе методов массового террора, ставших привычными во времена гражданской войны. Причем особый размах и даже абсурд террору придали действия одной из групп, занимавшей антисталинские позиции. Речь идет о левых консерваторах, с характеристики которых я и начну анализ политического расклада, сложившегося во второй половине 30-х годов.
Глава 3. Красные князьки
Феномен «левого» консерватизма
Ленин, осуществляя «пролетарскую», как ему казалось, революцию, предполагал, что новое советское государство станет государством-коммуной, в котором все чиновники будут выборными, а вооружение — всеобщим. Однако реальность опровергла его утопические расчеты. Молодой республике пришлось решать уйму управленческих и военных вопросов, что потребовало создания профессионального аппарата, мало зависимого от масс непрофессионалов.
В стране возникла многочисленная и влиятельнейшая партийная номенклатура, не желающая делить свою власть ни с народом, ни с вождями. По сути, она стала олигархией. Как известно, важнейшим признаком олигархии является сращивание какой-либо социальной группы с политической властью. А здесь социальная группа — бюрократия — вообще соединилась с массовой правящей партией, вооруженной утопической идеологией.
Ниже идейная позиция этой группы будет рассмотрена подробно. Пока же стоит назвать ее участников. Возглавлял левых консерваторов С. Косиор, глава мощнейшей Компартии Украины. В руководстве страны вообще были крайне сильны украинские «регионалы» — В. Чубарь, П. Постышев и Г. Петровский. Сильные позиции занимали региональные лидеры РСФСР, первые секретари краевых комитетов: И. Варейкис, М. Хатаевич, Р. Эйхе, П. Шеболдаев, К. Бауман.
Молчание Кирова
Возникает большое искушение причислить к данной весьма влиятельной группе С. М. Кирова, руководившего одной из важнейших парторганизаций — Ленинградской. Именно Кирова региональные бароны (Косиор, Варейкис, Шеболдаев, Эйхе и др.) пытались сделать лидером партии вместо Сталина на XVII съезде. Однако осторожный «Мироныч» от такого подарка отказался, сообщив об этом Сталину. Кто-то оценивает это как проявление лояльности вождю, кто-то склонен считать, что Киров сделал ставку на постепенное оттеснение Сталина от власти.
Однако логика подсказывает, что оппозиция никогда бы не предпочла Кирова Сталину, если бы видела в нем человека, полностью лояльного вождю. Какая-то кошка между Сталиным и Кировым пробежала. А некоторые свидетельства позволяют нам отнести Кирова к одним из самых ярых противников генсека. Очень любопытные данные сообщил француз Жан ван Ейженорт, бывший секретарем и телохранителем Троцкого в 1932–1939 годах. Согласно ему, Киров пытался наладить контакты с «демоном революции», когда последний проживал в Париже. «Мироныч» послал своего доверенного человека в столицу Франции, но там Троцкого не оказалось, и вместо него посланец общался со Львом Седовым. Сообщение Ейженорта кажется фантастическим, особенно в свете сказанного выше. И тем не менее полностью отмахнуться от него нельзя — слишком уж важный источник информации.
В любом случае, Киров устраивал оппозицию своим сугубо региональным складом ума. В свое время она обожглась на Сталине, который хоть и был аппаратчиком, но оказался способным мыслить в общенациональных масштабах. А Киров был типичным вотчинником. Вот показательный случай — летом 1934 года Киров без разрешения Москвы использовал неприкосновенные продовольственные запасы Ленинградского военного округа. Великолепный образчик отношения к оборонным нуждам державы! Такими мерами Киров пытался завоевать популярность у «питерского пролетариата».
Преследуя эту задачу, «Мироныч» не останавливался и перед жесткими репрессивными мерами. Так, он весьма лихо решил жилищную проблему в Ленинграде, которая там была весьма острой. Кирову советовали соорудить около города два кирпичных завода и на базе выпускаемой ими продукции начать строительство пятиэтажных домов (по сто квартир в каждом). Это должно было решить проблему, хотя и не сразу. Но Кирову ведь нужно было поддерживать свое реноме сверхэнергичного руководителя! И он принял решение выселить из Ленинграда полторы тысячи семей «непролетарского происхождения». В течение одного (!) дня из северной столицы выслали в более северные края тысячи «бывших» (чиновников, священников, дворян и их потомков), музыкантов, врачей, инженеров, юристов, искусствоведов. Среди них было огромное количество детей, стариков, женщин. Многие из высланных погибли в дороге…
Ко всему прочему, Киров устраивал регионалов тем, что сам не претендовал на весомую роль в «коллективном» олигархическом руководстве. Идеальный боярский «царь». Такой мог бы стать лидером только для того, чтобы передать власть «регионалам». А власти у Кирова в 1934 году оказалось очень много, особенно если учесть его «тихое» и «скромное» поведение. Он был участником сразу трех руководящих партийных органов — Политбюро, Оргбюро и Секретариата ЦК.
Впрочем, вряд ли можно утверждать на все сто, что именно Сталин приложил руку к убийству Кирова. Не меньше оснований для его убийства было у той же самой оппозиции. Взять хотя бы мотив мести — ведь Киров не только не поддержал их, но выдал тайные планы вождю. Такое не прощают.
Король тяжпрома
К вождям регионального масштаба примыкали и многие видные управленцы союзного масштаба. Особенно здесь выделяется колоритная фигура наркома тяжелой промышленности С. Орджоникидзе. Это уже был ведомственный магнат-хозяйственник, ревниво охраняющий свою вотчину — крупнейший и важнейший наркомат, где он считал себя полным хозяином. А за ним стояли руководители различных промышленных ведомств.
Орджоникидзе занимал активную политическую позицию. Его считают фигурой совершенно лояльной по отношению к Сталину. Якобы лишь в конце своей жизни прекраснодушный Серго понял, каким тираном является его старый друг Коба. На самом же деле Орджоникидзе интриговал против Сталина начиная с 20-х годов. Так, еще при жизни Ленина, в 1923 году, он принимал вместе с Зиновьевым, Фрунзе и др. участие в неофициальном совещании близ Кисловодска. Там, собравшись в пещере, как заговорщики из романов, крупные коммунистические бонзы решили ослабить позиции Сталина в аппарате.
Во время борьбы с объединенной левой оппозицией (Троцкий, Зиновьев, Каменев) Орджоникидзе был главным инициатором примирения с ней, которое чуть не состоялось в октябре 1926 года. Тогда лидеры оппозиции, шокированные отсутствием широкой поддержки в партийных массах, дали, что называется, задний ход и сделали официальное заявление, в котором отказались от фракционной борьбы. Доброхоты во главе с Орджоникидзе немедленно простили «левых» и проявили трогательную заботу о возвращении «блудных сыновей» в объятия «отцов партии». Вот как об этом говорил он сам: «Нам приходилось с некоторыми товарищами по три дня возиться, чтобы уговорить остаться в партии… Таким порядком мы восстановили в партии почти 90 процентов всех исключенных».
Орджоникидзе часто считают этаким прагматиком-технократом, пытающимся уберечь инженерно-технические кадры от сталинского террора. Действительно, он горячо выступал в защиту работников своего ведомства. Выступал потому, что считал его именно своим собственным, не подлежащим контролю какой-либо инстанции — партийной или правительственной. «Орджоникидзе, — утверждает историк О. Хлевнюк, — отстаивал свое „традиционное“ право самостоятельно „казнить и миловать“ своих людей». («Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы».)
Есть мудрая поговорка: «Не место красит человека, а человек место». В случае с Орджоникидзе все было как раз наоборот. Его красило именно «место». В конце 20-х годов, занимая пост председателя Центральной Контрольной комиссии ВКП(б), Серго был горячим поборником форсированной индустриализации, ратуя за безумные темпы промышленного роста. Тогда же он активно боролся против «вредителей» в среде специалистов-хозяйственников. Того требовала контрольно-карательная должность. А вот должность наркомтяжпрома потребовала уже совершенно иных подходов. Орджоникидзе внезапно возлюбил специалистов и выступил за снижение темпов промышленного роста. По последнему вопросу он полемизировал с Молотовым, который как председатель правительства отстаивал точку зрения Госплана, хозяйственные интересы всего государства. Если Вячеслав Михайлович считал необходимым увеличивать капиталовложения в промышленность, добиваясь ее быстрого роста, то Орджоникидзе хотел, чтобы капиталовложений в его отрасль вкладывалось побольше, а темпы роста в ней были поменьше. Побольше получать и поменьше работать — такова формула любого бюрократического вотчинника.
Орджоникидзе представлял группу технократов. Они были не такими влиятельными, как «регионалы», но все же представляли собой определенную силу. Технократы довольно часто сталкивались с «регионалами» — по поводу дележа ресурсов. Однако и «регионалы», и технократы занимали единую, сепаратистскую по сути, позицию в отношении Центра. Поэтому последних можно считать частью, хотя и специфической, группы левых консерваторов.
Ни Киров, ни Орджоникидзе не дожили до решающих событий весны 1937 года, когда «Большой террор» развернулся во всю мощь… Тем не менее анализ их политических портретов крайне важен, ибо он показывает яркие образы революционных бюрократов, восторжествовавших в 20-е годы. Теперь самое время нарисовать политический портрет всей группы левых консерваторов.
Певцы бюрократизма
Консерватизм их мышления определял сам статус бюрократа, получившего в результате революции огромную власть, несопоставимую даже с властью царских губернаторов. Как уже было сказано, бюрократ по сути своей исполнитель, а исполнителю всегда присущ сильнейший консерватизм.
С другой стороны, все красные региональные (и ведомственные) князьки имели богатое революционное прошлое, они вступили в партию еще задолго до 1917 года. Опыт подпольной (или эмигрантской) работы и гражданской войны оказал огромное влияние на их политический кругозор. А он, как понятно, был густо замешен на революционном нетерпении и революционном же насилии, национальном нигилизме и атеизме.
Левые консерваторы не хотели каких-либо серьезных поворотов — ни в сторону троцкистской «перманентной революции», ни в направлении бухаринского углубления нэпа, ни навстречу сталинскому национализму. Они хотели, чтобы развитие страны осталось где-то на уровне первой пятилетки.
Эта группировка оказывала всяческое противодействие конституционной реформе, затеянной Сталиным еще в 1934 году. Вождь желал законодательно закрепить отказ от левого, троцкистско-ленинского курса. Из мнимой диктатуры пролетариата, контролируемого мнимой диктатурой партии, он хотел сделать общенародное, общенациональное государство. Как известно, на выборах в Советы один голос от рабочего засчитывался за четыре голоса от крестьян, что ставило большинство населения страны в положение людей третьего сорта. Сотни тысяч людей были вообще лишены избирательных прав. Речь идет о «бывших» — священниках, дворянах, предпринимателях, царских чиновниках, а также об их детях. Права избирать были лишены и сосланные в ходе коллективизации крестьяне. Само голосование происходило мало того, что безальтернативно, но еще и открыто. Сталин решил покончить со всем этим и наткнулся на яростное сопротивление «регионалов», не желавших терять власть и поступаться ленинскими принципами, реализация которых им ее и предоставила. Эта подковёрная борьба блестяще проанализирована в монографии Ю. Н. Жукова «Иной Сталин».
На июньском пленуме ЦК 1936 года во время обсуждения проекта новой конституции никто из участников не пожелал выступить по его поводу. Не было даже слов формального одобрения. Похоже на то, что большинство аппаратчиков объявило сталинским инициативам бойкот. Сталин, конечно, мог бы двинуть в бой лично преданных ему людей, но ему интересно было прощупать реакцию неподконтрольной аудитории.
Сталин хотел провести съезд Советов для принятия конституции уже в сентябре. Но один из представителей «регионалов», председатель Совнаркома Украины П. Любченко, выступил с предложением перенести его на декабрь (по сути, это означало затягивание и саботаж). И Президиум ЦИК СССР, контролируемый теми же самыми «регионалами», поддержал именно Любченко.
Оппозиция региональных лидеров конституционной реформе совершенно понятна. Эти люди привыкли во главу угла ставить именно административные методы решения всех проблем.
Показательно поведение «регионалов» во время коллективизации. Они своим бюрократическим рвением, помноженным на революционную нетерпимость, довели политику Кремля до абсурда. Так, Варейкис, руководивший в то время Центрально-Черноземной областью, увеличил процент коллективизации в своем регионе с 5,9 % на 1 октября 1929 года до 81,8 % к 1 марта 1930 года. Сделал он это по собственной инициативе. Первоначальный план предусматривал завершение в регионе сплошной коллективизации к весне 1932 года. Но Варейкис на областном собрании партактива призвал осуществить ее к весне 1930 года. Руководители Елецкого и Курского округов пытались его образумить, но Варейкис заявил: «Люди, выступающие в данный момент против быстрых, высоких темпов, есть не осторожные люди, какими они себя выдают, а оппортунисты, самые настоящие оппортунисты».
Еще один «красный князек» Бауман, не намного отстал от Варейкиса — в указанный период он довел процент коллективизации в Московской области с 3,3 до 73 %.
«Регионалы» часто сами подталкивали Москву к усилению пагубной «чрезвычайщины». Так, П. Шеболдаев, секретарь Нижне-Волжского крайкома, просил обеспечить высылку кулаков, предлагая для выполнения данной задачи «ускорить опубликование декретов и присылку работников». «Обстановка в деревне, — подчеркивал Шеболдаев, — требует форсирования этих мер». Регионалы действовали гораздо более радикально, чем того от них требовал Сталин, часто забегая вперед центрального руководства.
«Князьки» демонстрировали открытое неповиновение Центру, когда тот пытался поправить ситуацию. Особенно яркий пример — политика раскулачивания, проводившаяся в Средне-Волжском районе тамошним партийным боссом М. Хатаевичем. Очевидно, тоскуя по временам гражданской войны, тот создал в крае «боевой штаб» по раскулачиванию. Было принято решение за пять дней арестовать 5 тысяч человек и 15 тысяч семей собрать для выселения. Для проведения операции предлагалось привлечь армейские части и (внимание!) раздать коммунистам края оружие. Последнее было уже шагом к гражданской войне…
При тщательном рассмотрении именно критики сталинского «деспотизма», как правило, оказываются ответственными за ужасы коллективизации. Так, С. Сырцов и В. Ломинадзе, создавшие в 1930 году антисталинскую группу, в 1929 году категорически возражали против приема кулаков в колхоз. (Причем Сырцов был секретарем Западно-Сибирского крайкома зимой 1927–1928 годов, когда там были впервые опробованы чрезвычайные меры. И опробованы «на совесть»!) А саму идеологическую кампанию по раскулачиванию начала газета «Красная звезда», редактируемая М. Рютиным, главой подпольного «Союза марксистов-ленинцев», выступавшего против Сталина.
«Регионалы» подталкивали Центр к различным авантюрам и штурмовщине не только в ходе коллективизации. Они пытались максимально ускорить и процесс индустриализации, с тем чтобы выбить для своих областей побольше ресурсов. Например, Варейкис всячески пытался ускорить строительство Липецкого металлургического комбината. И ВСНХ, и Госплан считали, что нужно время для подготовки к такому важному строительству. Покрыть отставание одним прыжком — вот был стиль работы таких руководителей.
Региональные «князьки» ставили интересы своих территорий выше интересов страны в целом. Так, целых три года, в 1926–1929 годах, шли острые споры между украинскими и сибирско-уральскими руководителями по поводу того, где строить стратегически важные металлургические комбинаты. Лишь после долгих и ожесточенных баталий выбор был сделан в пользу Урала и Западной Сибири, где и приступили к строительству знаменитых комбинатов — Магнитогорского и Кузнецкого.
Едва ли не самым действенным административным методом региональные лидеры считали репрессии. Ю. Жуков справедливо обращает внимание на то, что именно они больше всех и громче всех призывали к ним и на декабрьском 1936 года, и на февральско-мартовском пленумах 1937 года.
Левые консерваторы подчеркивали, что реформы несвоевременны потому, что в стране существует огромное количество врагов. Именно эта группа была крайне заинтересована в начале репрессий, которые бы похоронили политико-экономические преобразования, затеянные группой Сталина.
Глава 4. Государственник и реформатор
Цель номер один — первенствовать
Теперь посмотрим, чего же хотела группа национал-большевиков, возглавляемая Сталиным. Она взяла курс на создание мощного Советского государства, которое бы возрождало державные традиции на новой социалистической основе. Марксизм в его классическом виде Иосифа Виссарионовича явно не устраивал. Государственнику Сталину никак не могли импонировать идеи отмирания государств и наций. Еще в 1929 году он заявил, что строительство социализма не только не ликвидирует национальные культуры, но, напротив, укрепляет их.
В работе «Марксизм и вопросы языкознания» (1950 год) он утверждал, что нация и национальный язык являются элементами высшего значения и сохранятся даже при коммунизме.
В своих трудах и публичных выступлениях Сталин неоднократно спорил с «классиками»: «…Энгельс совершенно отвлекается от такого фактора, как международные условия, международная обстановка». Этот фактор, согласно Сталину, и был главным препятствием на пути отмирания государственной организации.
В 1951 году, во время дискуссии по вопросу издания учебника политэкономии, Сталин обрушил, пожалуй, наиболее резкую критику на сторонников марксистского подхода к государству: «В учебнике использована схема Энгельса о дикости и варварстве. Это абсолютно ничего не дает. Чепуха какая-то! Энгельс здесь не хотел расходиться с Морганом, который тогда приближался к материализму. Но это дело Энгельса. А мы тут при чем? Скажут, что мы плохие марксисты, если не по Энгельсу излагаем вопрос? Ничего подобного!»
При этом ни социализм, ни государство не являлись для Сталина какими-то высшими целями. Он рассматривал их в качестве инструментов, которые должны были обеспечить главное — национальную независимость. Димитров в своих дневниках вспоминает, что вождь ставил вопрос именно так — «через социальное освобождение к национальной независимости».
Социализм должен был окончательно покончить с эксплуатацией внутри нации, сделать ее монолитной перед всеми внешними вызовами. Кроме того, социализм ликвидировал стихийность в экономической жизни, делал возможным планомерное развитие народного хозяйства. На встрече с авторским коллективом нового учебника политэкономии, состоявшейся 29 января 1941 года, Сталин сказал: «Первая задача состоит в том, чтобы обеспечить самостоятельность народного хозяйства страны от капиталистического окружения, чтобы хозяйство не превратилось в придаток капиталистических стран. Если бы у нас не было планирующего центра, обеспечивающего самостоятельность народного хозяйства, промышленность развивалась бы совсем иным путем, все начиналось бы с легкой промышленности, а не с тяжелой промышленности. Мы же перевернули законы капиталистического хозяйства, поставили их с ног на голову, вернее, с головы на ноги… На первых порах приходится не считаться с принципом рентабельности предприятий. Дело рентабельности подчинено у нас строительству, прежде всего тяжелой промышленности».
Как видим, вождь ставил перед экономикой сугубо политическую задачу. Рентабельность, прибыль, выгода — все это отходило на второй план, подчиняясь соображениям национально-государственной самостоятельности. Незыблемые объективные законы, торжествующие при рынке, преодолевались субъективной волей государственников. Во всём этом было очень мало от марксизма. Марксисты стремились достигнуть небывалого уровня развития производительных сил, Сталин же стремился соотнести их развитие с политическим суверенитетом нации. Понятно, что достичь данной цели можно было только при опоре на мощное государство, имеющее эффективный аппарат, сильную армию и госбезопасность.
Сделать Россию еще более сильной и тем самым исключить возможность ее поражения от внешних врагов — вот в чем была главная задача сталинского социализма.
Сталин отлично понимал, что без достижения реальной национальной независимости нельзя думать и о достижении материального благосостояния. Независимость должна была предшествовать благосостоянию, являясь базой, на которой происходит повышение жизненного уровня нации.
И он оказался прав. Без сталинского государства мы не смогли бы победить в войне и восстановить свою экономику после войны.
Отстаивая национальную независимость, Сталин имел в виду прежде всего интересы русской нации. Он отлично знал, что русские являются ядром, вокруг которого объединяется вся страна. Поэтому сломал абсурдную ситуацию, сложившуюся с первых лет советской власти, когда представители нерусских этносов стояли во главе тяжелой промышленности (Орджоникидзе), транспорта (Л. М. Каганович), госбезопасности (Г. Ягода), внешней политики (М. М. Литвинов), торговли (А. И. Микоян), сельского хозяйства (Я. А. Яковлев-Эпштейн). Сталин добился того, чтобы кадровая политика была гораздо более справедливой и учитывала интересы самого многочисленного народа СССР — русского народа. С конца 30-х годов русские, а также родственные им украинцы и белорусы доминируют во властных структурах. На первые роли в государстве выдвинулись молодые А. А. Жданов, Г. М. Маленков, Н. А. Вознесенский, А. Н. Косыгин, В. В. Вахрушев, И. А. Бенедиктов. Русские люди.
Достичь такого перелома можно было только после длительной пропагандистской подготовки. В 20-е годы с «легкой» руки Ленина было принято считать, что уклон в русский «великодержавный шовинизм» гораздо более опасен, чем местный национализм.
Он шел к достижению своей цели не спеша, осторожно. В 1921 году на Х съезде он поставил оба уклона, «великорусский» и местный, на одну доску. Один другого стоит. Но в то же время русский «шовинизм» был истолкован всего как лишь инициатива местных партийцев, а также тех чиновников, которые начали делать свою карьеру еще до революции. Что же до местного уклона, то Сталин приписал его части высшего руководства национальных окраин.
Показательно, что с этим категорически не согласился Троцкий. Истоки русского «шовинизма» он видел в позиции «значительной части партийных работников центра». «Демон революции» явно намекал на Сталина.
На XII съезде (1923 год) Сталин стоял на тех же самых позициях. При этом он разошелся с Зиновьевым, своим главным союзником на тот период. Зиновьев считал, что шовинизм «имеет самое опасное значение». Зиновьева полностью подержал Бухарин, выступавший против «равнозначности» двух уклонов. Характерно, что уже через год Сталин, выступая на совещании ЦК, заявит, что главным уклоном является именно местный.
В 1925–1929 годах тема национальных уклонов в партии почти не поднималась. Все силы были отданы внутрипартийной борьбе. Лишь в 1930 году, на XVI съезде было дано определение обоих уклонов как «вялых» и «ползучих». Единственно опасным уклоном признавали внутрипартийный, который мог быть либо «правым», либо «левым». А уже на XVII съезде Сталин вообще не коснулся темы «русского уклона». Зато он говорил об уклоне местном. Тогда уже велась борьба с национальным нигилизмом в культуре и общественных науках. Готовился разгром школы М. Н. Покровского, который сводил всю русскую историю к деспотизму. Реабилитировались выдающиеся государственные деятели России, в том числе и цари. К развитию исторической науки привлекались ученые-патриоты, представители старой школы, такие, как С. О. Платонов.
Сильная государственность — сильное народоправство
Обычно под государственным патриотизмом Сталина понимается лишь стремление к централизму, сильной армии и активной роли на международной арене. Бесспорно, это были одни из самых приоритетных задач его государственной политики. Но они отнюдь ее не исчерпывают.
В соответствии с рядом новейших исторических реконструкций Сталин выступал за гибкую модель государственного устройства. В ее рамках сильная исполнительная власть (правительство) сочеталась бы с довольно сильной вертикалью Советов, представляющей власть законодательную. Партии же отводилась роль некоей концептуальной власти, занимающейся прежде всего идейно-политическим воспитанием масс. Вождь в такой системе был бы важным связующим звеном, центром, объединяющим все ветви власти воедино.
Сталин пытался отделить государство, точнее — его исполнительный аппарат, от партии. В руках первого должны были сосредоточиться управленческие функции, в руках второго — идеологические и кадровые.
Но самым интересным было то, что Сталин пытался создать в стране реальный парламентаризм, призванный дополнить правительство. Разумеется, разговор идет не о парламентаризме западного типа, который основан на противоборстве разных политических партий, точнее — стоящих за ними финансово-промышленных групп. По мысли Сталина, в СССР на свободных выборах (всеобщих, прямых, тайных, равных) должны соперничать различные по типу организации: политические (Компартия и ВЛКСМ), профсоюзная (ВЦСПС), кооперативная, писательская и т. д. Они, а также коллективы трудящихся должны были выставлять своих кандидатов в одномандатных округах и полагаться на суд избирателя. Предполагалось выборы сделать альтернативными, в каждом округе надо было выдвигать сразу нескольких кандидатов. История сохранила даже образцы бюллетеней, которые планировалось ввести на выборах 1937 года. На одном из них напечатаны три фамилии кандидатов, идущих на выборах в Совет Национальностей по Днепропетровскому округу. Первый кандидат предполагался от общего собрания рабочих и служащих завода, второй — от общего собрания колхозников, и третий — от местных райкомов партии и комсомола. Сохранились и образцы протоколов голосования, в которых утверждался принцип альтернативности будущих выборов. На образцах визы Сталина, Молотова, Калинина, Жданова. Они не оставляют сомнения в том, кто являлся инициатором альтернативности на выборах.
Сталин довольно-таки спокойно относился к возможности того, что на выборах в депутаты могут пробраться противники советской власти. Это, по его мнению, станет показателем плохой работы коммунистов, нежелания и неумения защищать свои взгляды политическими методами. На VIII Чрезвычайном съезде Советов (1936 год) он заявил: «…Если народ кой-где и изберет враждебных людей, то это будет означать, что наша агитационная работа поставлена плохо, а мы вполне заслужили такой позор». Ему вторил Жданов: «Если мы не хотим, чтобы в советы прошли враги народа, если мы не хотим, чтобы в советы прошли люди негодные, мы, диктатура пролетариата, трудящиеся массы нашей страны, имеем в руках все необходимые рычаги агитации и организации, чтобы предотвратить возможность появления в советах врагов конституции не административными мерами, а на основании агитации и организации масс. Это — свидетельство укрепления диктатуры пролетариата в нашей стране, которая имеет теперь возможность осуществить государственное руководство обществом мерами более гибкими, а следовательно, более сильными».
Сталин действительно хотел использовать выборы как мощный удар хлыстом по вельможам, которые засиделись на своих руководящих постах. Еще одним таким ударом должна была стать демократизация самой партийной жизни. Сталин всячески выступал за обновление кадров ВКП(б), а также за отмену открытого голосования и кооптации в партийные органы. Его выражение «незаменимых людей у нас нет» следует понимать как требование обязательной смены руководства. На февральско-мартовском пленуме ЦК (1937 год) Сталин потребовал от всех секретарей найти и подготовить двух человек, которые могли бы заменить их в случае необходимости. Тогда же он попытался вызвать секретарей обкомов на разговор о недопустимости кооптации. Протоколы заседания свидетельствуют о том, что секретари говорили о проблемах внутрипартийной демократии неохотно. Это происходило только тогда, когда их принуждал к этому сам Сталин — своими наводящими вопросами и репликами.
Долгий путь к реформам
Такое видение перспектив развития СССР сложилось у Сталина не сразу. Ему нужно было пройти долгий путь проб и ошибок, чтобы осознать весь вред партократии. В начале 20-х годов, став генеральным секретарем ЦК, он попытался подчинить и партию, и страну мощной административно-партийной вертикали. По мысли Сталина, всем должен был заведовать партаппарат, которому следует подчинить массы коммунистов, их выборные органы, а также советы, правительство и общественные организации. Партноменклатурная вертикаль виделась ему как некая жестко иерархическая пирамида, в которой низы строго подчиняются верхам, а срединные и низовые аппараты — центральному, который структурирован вокруг Секретариата, Оргбюро и разных отделов ЦК. Выборность Сталин думал сделать сугубо формальной процедурой, сосредоточившись на подборе кадров путем назначения.
В принципе Сталин не создал ничего нового. Уже в период гражданской войны партийные комитеты стали подчинять себе парторганизации и советы, генсек лишь завершил структурирование новой системы, придал ей легитимность в виде партийных решений. Он считал, что именно такая жесткая структура управления из одного центра сумеет упрочить государство и провести необходимую модернизацию.
Но очень скоро Сталин поймет всю ошибочность своих замыслов. Партаппарат (центральный и местный) его поддержал, но по разным мотивам. Если центральные кадры действительно связывали свою судьбу с генсеком и жесткой моделью подчинения, то местные аппаратчики, напротив, надеялись укрепить свою самостоятельность, сделав власть аппарата ЦК формальной. Их устраивало, что он подчиняет себе правительство и советы, устраняя опасных конкурентов. С одним центром силы, как это ни покажется странным, дело иметь всегда легче. Лучше подчиняться одному контролеру, чем нескольким. К тому же Центр, подминая под себя правительственные и советские органы, создавал нужный прецедент — «регионалы» считали себя вправе поступать также.
Здесь очень важный момент. Чем больше Сталин укреплял вертикаль подчинения, тем больше он усиливал региональные, нижестоящие звенья. Жесткое давление на них побуждало «регионалов» оказывать такое же давление на собственные низы. Сталин невольно плодил собственных двойников, которые превращались в самостоятельные центры силы и влияния. Тому способствовала система единообразия, имевшая своей целью сделать региональные органы столь же эффективными в проведении политики подчинения, сколь и Центр.
Так, центральный аппарат всюду навязывал режим секретности. Практически вся важная информация сообщалась (и сверху вниз, и снизу вверх) в обстановке строжайшей секретности. За этим следил особый орган — Секретный отдел ЦК. Но ведь и региональные органы, которые Сталин хотел уподобить Центру, также имели свои секретные отделы. То есть они обладали всем арсеналом противодействия породившему их Центру. Очевидно, что структура, облеченная слишком большими властными полномочиями, обречена иметь внизу такие же самые структуры, которые будут минимизировать ее власть.
Середина 20-х годов стала настоящим «золотым веком» советской бюрократии. В 1923–1927 годах численный состав республиканских ЦК, обкомов, горкомов и райкомов увеличился в два раза. Причем, что характерно, в рескомах и обкомах уровень обновления кадров не превышал 22 %, тогда как в райкомах и горкомах за указанный период обновилось не менее 50 %. Получается, что крупные региональные боссы сохраняли на своем уровне стабильность кадровой ситуации, а в низах проводили нечто вроде чистки.
Было бы еще полбеды, если бы властная вертикаль исходила от правительства, тогда страна имела бы дело с бюрократией по типу царской. Но советская бюрократия была именно партократией, она представляла собой сплав канцелярщины, политиканства и революционности. Управление страной в таких условиях не могло быть эффективным. Всегда сохранялась угроза совершения непродуманных, авантюристических, левацких поступков. Троцкий потерпел поражение, но его дело продолжало жить в мыслях и поступках ветеранов революции и гражданской войны, сохраняющих контроль над властной вертикалью. Надо было переносить центр власти из партии в правительство, что требовало снижения роли партийного аппарата, особенно на местах.
Сталин довольно рано заметил всю ненормальность складывающейся ситуации. Уже в июне 1924 года, на курсах секретарей уездных комитетов ВКП(б), он резко обрушился на тезис о «диктатуре партии», принятый тогда всеми лидерами. Генсек доказывал, что в стране существует не диктатура партии, а диктатура рабочего класса. А в декабре 1925 года в политическом отчете XIV съезду Сталин особо подчеркнул — партия «не тождественна с государством», а «Политбюро есть высший орган не государства, а партии». Это были первые, осторожные шаги на пути к ослаблению партократии. Выше уже обращалось внимание на сталинскую методику начинать с очень компромиссных и внешне безобидных положений, которые на самом деле были чреваты радикальными нововведениями. Партократия не почувствовала в этом никакого подвоха, восприняв заявления Сталина как обычную демагогию, попытку убедить широкие массы в наличии так называемой «диктатуры пролетариата».
Пока шла ожесточенная борьба с левой оппозицией, Сталин ограничивался лишь осторожными декларациями. Когорта секретарей была тогда очень нужна ему, он использовал ее как мощную дубину против Троцкого, Зиновьева и Каменева. Но когда «левые» были полностью разбиты и исключены из партии, Сталин немедленно попытался ослабить партократию, начав с… себя и своего поста. В декабре 1927 года, на пленуме ЦК, состоявшемся после XV съезда, он предложил ликвидировать пост генерального секретаря. Иосиф Виссарионович заявил следующее: «Если Ленин пришел к необходимости выдвинуть вопрос об учреждении института генсека, то я полагаю, что он руководствовался теми особыми условиями, которые у нас появились после X съезда, когда внутри партии создалась более или менее сильная и организованная оппозиция. Но теперь этих условий нет уже в партии, ибо оппозиция разбита наголову. Поэтому можно было бы пойти на отмену этого института…»
Но пленум ЦК отказался поддержать вождя.
Сталин отложил борьбу с «регионалами» и даже позволил им провести административную реформу, которая привела к созданию в РСФСР гигантских бюрократических монстров — крайкомов.
В среде «регионалов» стали назревать оппозиционные настроения, выплеснувшиеся на XVII съезде ВКП(б) в попытку отстранить Сталина от власти. Впрочем, еще задолго до съезда наиболее радикально настроенные «регионалы» создали довольно-таки сильную оппозиционную группировку. Речь идет о так называемом «право-левацком» блоке Сырцова и Ломинадзе, возникшем в 1930 году. Левацки настроенный Ломинадзе занимал должность первого секретаря крупнейшего Закавказского комитета ВКП(б), а симпатизирующий Бухарину Сырцов (кстати, выдвиженец и любимец Сталина) — должность Председателя Совнаркома РСФСР. Компартии в России создано не было, поэтому носителем региональных амбиций был руководитель правительства.
К оппозиционной деятельности его подталкивала некая ущербность его статуса. С одной стороны, РСФСР представляла собой обширную территорию с огромными материальными и людскими ресурсами. С другой — в руках Сырцова не было никакой партийной организации, тогда как реальная власть принадлежала именно партийному аппарату. Можно также предположить, что одним из условий создания «право-левацкого блока» была попытка «россиянина» Сырцова и «закавказца» Ломинадзе составить оппозицию не только Сталину, но и спайке влиятельных региональных баронов из РСФСР и УССР.
Поведение секретарей в ходе коллективизации и возникновение блока Сырцова-Ломинадзе Сталина насторожило. Он по-прежнему не предпринимал никаких радикальных мер, ограничившись некоторым разукрупнением крайкомов. Их число было увеличено до 32.
И уже в 1933 году, когда стало ясно, что промышленная модернизация страны, несмотря на все трудности, так и не захлебнулась, Сталин предпринял решительный шаг. Он инициировал широкую партийную чистку. Она затянулась на три года, и в ходе ее был вычищен примерно каждый третий из членов и кандидатов в члены ВКП(б). Целью чистки являлось выдвижение наверх молодых коммунистов, вступивших в партию уже после гражданской войны. Как писал «невозвращенец» А. Орлов, симпатизирующий троцкизму, чистка «с циничной откровенностью была направлена против старых членов партии». «Парткомы, — сетовал он, — возглавлялись молодыми людьми, вступившими в партию лишь недавно». Эти новые кадры испытали минимальное влияние революционного лихолетья и были готовы воспринять сталинские новации.
Исследователи, симпатизирующие Троцкому, всячески скорбят по поводу процесса обновления партии, в то же время парадоксальным образом обвиняя Сталина в бюрократизме. Но, что любопытно, с ними согласны историки, отдающие свои симпатии так называемым «правым», бухаринцам. Так, А. А. Авторханов, бывший в свое время участником бухаринской оппозиции, в работе «Технология власти» пишет, что главной целью чисток являлась «ликвидация думающей партии». «Этого можно было добиться, — утверждает Авторханов, — только путем ликвидации всех и всяких критически мыслящих коммунистов в партии. Критически мыслящими как раз и были те, которые пришли в партию до и во время революции, до и во время гражданской войны». С этим высказыванием совершенно солидаризуется историк В. Роговин, воспевающий Троцкого. И такая солидарность наводит на определенные мысли. Очевидно, что и «левым», и «правым» была свойственна этакая барская, псевдоэлитарная неприязнь к молодым кадрам, которым было отказано в праве считаться думающими вообще и уж тем более «критически мыслящими». Получалось, что думать могли лишь «герои» гражданской войны. Интересно только, когда они этому научились? Наверное, тогда, когда бегали по России, как выразился Маяковский, с «Лениным в башке и с наганом в руке», расстреливая «буржуев» и снося церкви.
Сталин проводил чистку постепенно, не прибегая сразу к полномасштабному обновлению кадров. Подобная революционность могла бы только дестабилизировать положение в стране. Сначала он укомплектовал новыми выдвиженцами нижние этажи партийного здания. Теперь на очереди стояло обновление верхних этажей.
О нем Сталин в присущей ему осторожной манере заявил на XVII съезде партии (март 1934 года). В Отчетном докладе генсек охарактеризовал некий тип работников, мешающих партии и стране: «…Это люди с известными заслугами в прошлом, люди, которые считают, что партийные и советские законы писаны не для них, а для дураков. Это те самые люди, которые не считают своей обязанностью исполнять решения партийных органов и которые разрушают таким образом основание партийно-государственной дисциплины. На что они рассчитывают, нарушая партийные и советские законы? Они надеются на то, что советская власть не решится тронуть их из-за их старых заслуг. Эти зазнавшиеся вельможи думают, что они незаменимы и что они могут безнаказанно нарушать решения руководящих органов…».
Разговор теперь уже зашел не просто о бюрократах, канцеляристах — их Сталин до этого выделил в отдельную группу. Под огонь критики попали именно «вельможи» с богатым революционным прошлым (обладатели «старых заслуг»), которых обвинили в неподчинении высшему руководству. Генсек дал понять, кого он считает главным противником. При этом в докладе многие другие противники не были обозначены вообще. Сталин ни сказал ни слова о разнообразных оппозиционных группах, образовавшихся в начале 30-х годов (блок Сырцова-Ломинадзе, «Союз марксистов-ленинцев», блок И. Н. Смирнова, группа А. П. Смирнова — Н. Б. Эйсмонта — В. Н. Толмачева). О бывших лидерах правого уклона Сталин сказал, что они «давно уже отреклись от своих взглядов и теперь всячески стараются загладить свои грехи перед партией». Левый уклон (троцкисты), в отличие от правого, не разгромленный до конца и имеющий свой центр за границей, был объявлен таким же опасным. (Масштабы сталинского либерализма порой просто ошеломляют. В мае 1934 года Бухарин издал работу «Экономические проблемы Советской власти», написанную с рыночных позиций. Сталин был с этими позициями категорически не согласен, однако никаких оргвыводов не предложил. Он ограничился тем, что послал в Политбюро свои критические замечания. Этот факт признается историками-антисталинистами — А. Зевелевым, Г. Бордюговым и др.)
Касаясь вопросов внешней политики, Сталин подчеркнул, что СССР будет стремиться поддерживать миролюбивые и дружественные отношения со всеми странами, в том числе и фашистскими.
Доклад Сталина являл собой образчик миролюбивого спокойствия во всем, что не касалось бюрократов и вельмож. Такими же спокойными были и выступления его ближайших соратников. В свой речи, открывающей съезд, Молотов не сказал о «правых» ни слова. О них он упомянул лишь в докладе о перспективах развития народного хозяйства, но сделал это в том же контексте, что и Сталин, говоря об уклоне как о чем-то окончательно и бесповоротно завершенном. «Ликвидаторская сущность правого уклона, — утверждал Молотов, — и его кулацкая подоплека были вовремя разоблачены большевиками».
Даже неистовый Каганович был настроен довольно мирно, указывая на монолитность партии и отсутствие в ней каких-либо уклонов: «Мы, товарищи, раздавили на нашем пути, как лягушек, всех врагов нашей партии — „правых“ и „левых“, которые мешали этому великому строительству, и мы пришли к XVII съезду как никогда единой, монолитной, ленинско-сталинской партией».
Напротив, выступления многих «регионалов» были насыщены именно идеологической нетерпимостью, желанием продолжить выискивание различных уклонов и борьбу с ними. Так, Эйхе высказал подозрения в отношении Рыкова и Томского: «Мне кажется, товарищи, что XVII съезд может и должен спросить этих товарищей, как они свое заявление на XVI съезде оправдали». Он выразил сомнение в искренности вчерашних правых уклонистов.
В полемику с Бухариным и Рыковым по поводу их высказываний и действий, имевших место в конце 20-х годов, вступил и Постышев. На былые прегрешения «правых» указала и новая «звезда» на политическом небосклоне СССР — первый секретарь МГК Н. Хрущев.
Но, пожалуй, резче всех на «правых» обрушился С. Киров, посвятивший едва ли не большую часть своего выступления критике «обозников» из числа правой оппозиции. Он нарисовал яркую картину, сравнив партию с наступающей армией, а оппозиционеров с обозниками, находящимися позади самого войска. И вот, когда армия наконец побеждает, обозники «выходят, пытаются вклиниться в это общее торжество, пробуют в ногу пойти, под одну музыку, поддерживают этот наш подъем». «Но, — бдительно замечал „Мироныч“, — как они ни стараются, не выходит и не получается. Вот возьмите Бухарина, например, по-моему, пел как будто по нотам, а голос не тот… Я уже не говорю о товарище Рыкове, о товарище Томском».
Сталин критиковал бухаринцев за старые прегрешения, но не высказывал никакого подозрения по отношению к ним. Он объявлял опасным не столько самих «правых», сколько условия, ведущие к возникновению правого уклона. «Лидеры правых уклонистов, — отмечал Иосиф Виссарионович, — открыто признали свои ошибки и капитулировали перед партией. Но было бы глупо думать на этом основании, что правый уклон уже похоронен. Сила правого оппортунизма измеряется не этим обстоятельством. Сила правого уклонизма состоит в силе мелкобуржуазной стихии, в силе напора на партию со стороны капиталистических элементов вообще, со стороны кулачества в особенности». В качестве сил, сопротивляющихся социалистической реконструкции, были объявлены — верхушка старой буржуазной интеллигенции, кулачество и бюрократия (прежде всего новая, советская). «Правые» в числе антисоциалистических сил названы не были. Более того, Сталин назвал бухаринскую формулу мирного врастания капиталистических элементов в социализм «ребяческой», чем фактически снял с Бухарина все политические обвинения в антисоветизме и контрреволюционности.
Напротив, выступления секретарей крайкомов были полны обвинительного пафоса. Они не только критиковали былые ошибки лидеров правого уклона, но и подозревали их в скрытой оппозиционности. В данном плане очень показательно выступление Шеболдаева — всё от начала и до конца посвящённое правому уклону. Он сообщил о том, что у него на Нижней Волге разоблачена контрреволюционная организация, состоящая из сторонников Бухарина, которые якобы допускали даже возможность вооруженного восстания. Это уже был почти открытый призыв к репрессиям.
Сталин, конечно, тоже не очень доверял «правым». И не без основания. Но он знал, что отсечение их от партии будет означать начало внутрипартийной гражданской войны, которая приведет к невиданным политическим потрясениям. Дай он волю нахрапистым секретарям, и они начали бы «Большой террор» уже в начале 30-х годов, благо обстановка, сложившаяся в ходе коллективизации, к этому вполне располагала. Но Сталину это не было нужно. Он надеялся на то, что бывших оппозиционеров все же удастся включить в созидательную работу, использовав их несомненные таланты. И весьма возможно, что это ему бы и удалось, если бы не революционные истерики, которые постоянно закатывали разного рода шеболдаевы.
«Наезд» региональных вождей на бухаринцев, предпринятый в ходе XVII съезда, был, по всей видимости, маневром, отвлекающим внимание съезда от сталинского «наезда» на вельмож. «Регионалы» впервые опробовали тактику, которая и приведет к «Большому террору» — всегда говорить о врагах и уклонистах тогда, когда речь заходит о реформах и бюрократизме. По сути, их критика в адрес «правых» была косвенной критикой Сталина, ибо она выставляла его коммунистом, потерявшим бдительность.
В частности, речь Кирова на XVII съезде партии была прямо-таки насыщена революционным антифашизмом. Он яростно бичевал фашизм, сравнивая его с русским черносотенством. Это был завуалированный упрек Сталину, допускавшему возможность мирных отношений с Третьим рейхом и дрейфовавшему в сторону национал-большевизма.
Выступление Сталина и выступление Кирова были диаметрально противоположными, отличаясь принципиально разным видением вопросов как внутренней, так и внешней политики. (Надо думать, что кировское выступление и было той «кошкой», которая пробежала между ним и вождем.) И не надо смущаться тем, что Киров всячески восхвалял Сталина — до, во время и после съезда. Тот же самый Эйхе, принявший деятельное участие в попытке сместить Сталина с поста генсека, во время своего выступления на съезде произнес его имя 11 раз, и каждый раз — восхваляя. Это было излюбленным методом многих оппозиционеров — прятаться за имя Сталина и раздувать его культ, занимаясь в то же самое время борьбой против вождя.
Неумеренные славословия в адрес Сталина зачастую таили в себе некую логическую ловушку. От приписывания всех заслуг одному Сталину очень легко было перейти к приписыванию ему и всех недостатков. Так ведь, собственно говоря, и произошло в период «перестройки». Так же могло произойти и в случае отстранения Сталина от власти.
Напуганные сталинским намерением покончить с диктатурой «красных вельмож», регионалы попытались его снять и заменить Кировым. Но тот оказался слишком осторожным и тем самым подписал себе смертный приговор. Кто бы ни убил Кирова, но ясно, что выстрелы в Смольном были результатом его двурушнического поведения на съезде.
Сталин провел на съезде две важнейшие реорганизации — аппарата ЦК и органов партийного контроля.
Первая реорганизация заключалась в образовании отраслевых отделов ЦК. Отделы ставили перед собой следующую задачу — надзирать за соответствующими наркоматами и ведомствами. Эта мера была направлена против «технократов», разнообразных ведомственных диктаторов. Теперь они контролировались не только председателем правительства, но и заведующими отделов ЦК. Съезд, кроме того, постановил ликвидировать коллегии в наркоматах, оставив у каждого наркома лишь двух заместителей.
Создание нового органа — Комиссии партийного контроля (КПК) осуществлялось непосредственно под руководством Сталина и аппарата ЦК. Прежний орган — ЦКК избирался съездом партии и был подотчетен ему. Всегда существовала угроза того, что съезд, на котором большинство автоматически принадлежало регионалам, сделает ЦКК неким противовесом Сталину. В принципе, это можно было бы сделать и с ЦК, но в ЦК был очень сильный сталинский аппарат, с ним такую операцию было бы провести гораздо сложнее. Позднее КПК в лице своего председателя Н. И. Ежова очень поможет Сталину во внутрипартийной борьбе и установлении эффективного контроля над органами госбезопасности.
Сталин добился еще одной меры, ослабившей «регионалов». После XVII съезда в обкомах, крайкомах и ЦК нацкомпартий были ликвидированы секретариаты. Теперь там дозволялось иметь лишь двух секретарей. А через несколько месяцев ноябрьский пленум ЦК принял постановление, согласно которому крайкомы, обкомы и республиканские ЦК теряли право назначать и смещать секретарей нижестоящих организаций. Это право переходило к аппарату ЦК.
Это был довольно хитрый маневр — усилить аппарат ЦК за счет ослабления ведомственных и региональных сепаратистов. Сталин знал, что главная трудность заключается в обуздании «регионалов» и технократов, а «свой», центральный аппарат, он мог, в случае чего, урезонить легко.
Однако административных мер было недостаточно. Да, они вводили бюрократов в некие «рамки», но не устраняли саму проблему наличия могущественных вельмож. Не устраняли ее и периодические перемещения кадров с одного места на другое. «За долгие годы работы старые кадры притерлись друг к другу, установили достаточно прочные контакты между собой, — пишет историк Хлевнюк. — Сталин периодически „тасовал колоду“ руководителей, однако совершенно разбить установившиеся связи, разрушить группы, формировавшиеся вокруг „вождей“ разных уровней по принципу личной преданности, при помощи одних лишь „перетасовок“ не удавалось. По существу, в номенклатуре складывались неформальные группировки, сплоченные круговой порукой, стремлением обеспечить кадровую стабильность…».
Глава 5. Предтечи «перестройки»
Социал-демократы среди большевиков
В 30-х годах внутри партии действовала группировка, сложившаяся на базе разгромленного ранее «правого уклона». Ее возглавляли бывшие члены Политбюро — Бухарин, Рыков и Томский. Многим может показаться странным, что эти «отработанные» фигуры, лишившиеся своих высоких постов, выделяются в отдельную группу, сопоставимую по своему влиянию с группой Сталина или объединением региональных лидеров. Однако логика фактов заставляет считать бухаринцев серьезным течением.
Еще в августе 1936 года, во время процесса над Зиновьевым и Каменевым, были даны показания против Бухарина и Рыкова. Совершенно очевидно, что это делалось не случайно. Кому-то (скорее всего, Сталину) было нужно скомпрометировать «правых» и поставить вопрос об их удалении с политической арены. Но в сентябре было объявлено, что факты, сообщенные на процессе, не подтвердились. И от Бухарина с Рыковым отстали — вплоть до декабря 1936 года, когда на пленуме ЦК «правые» попали под обстрел региональных лидеров — Эйхе, Косиора и проч. Тогда Сталин спустил всё на тормозах, и за «правых» взялись только на февральско-мартовском пленуме 1937 года. Причем немалую роль сыграли те же самые регионалы. И только на этом форуме произошло долгожданное падение «правых» титанов. Получается, что решали вопрос целых шесть месяцев, а следовательно, Бухарин и Рыков имели серьезный политический вес. Иначе их свалили бы в гораздо более сжатые сроки.
Существует такое объяснение этой волынки. Дескать, надо было убедить партию и все ее тогдашнее руководство в том, что такие старые и заслуженные большевики оказались контрреволюционерами и врагами народа. То есть на «правых» якобы работала их революционно-героическая репутация и прежние заслуги. Абсурдность подобных доводов очевидна. Региональные боссы, такие, как Эйхе или Косиор, настоящими старыми большевиками считали себя, а всех бывших оппозиционеров презирали. Особенно Бухарина, который уютно и спокойно теоретизировал в Кремле, в то время как косиоры напрягались на фронтах гражданской войны и в прифронтовых регионах. Они полоскали бухаринцев и на XVII съезде, и на упомянутом уже декабрьском пленуме. И какого особого почтения к «старым заслугам» Бухарина и Рыкова от этих людей можно было ждать? Морально они были готовы сожрать «правых» уже давно.
Сталина и его группу также нельзя было заподозрить в ностальгических симпатиях к старым большевикам.
Никакого чистосердечного «раскаяния» за свой правый уклонизм Бухарин не приносил. Почему-то считают, что в 30-е годы он был совершенно лоялен вождю и лишь в душе своей возмущался «сталинскими беззакониями». Всё, однако, было не так. Формально признав правоту Сталина и даже закидав того славословиями, Бухарин все равно оппонировал ему, правда, более тонко.
О том, каковы были подлинные, а не декларируемые взгляды «любимца партии», рассказывает эмигрантский историк, меньшевик Б. Николаевский, который теснейшим образом общался с Бухариным в 1936 году. Тогда Бухарин посетил Европу (Францию, Австрию, Голландию) по заданию Политбюро. Ему поручили купить у немецких социал-демократов, спасавшихся от Гитлера в эмиграции, некоторые архивы — в первую очередь архив Карла Маркса. Николаевский осуществлял при этом посредничество и во время всей бухаринской загранкомандировки находился рядом с гостем из СССР.
Из разговоров с Бухариным Николаевский вынес много интересного, о чем он поведал только в 1965 году, накануне своей смерти. В частности, Бухарин сообщил ему о переговорах Сталина с Германией, явно в надежде на то, что его сообщение будет передано кому надо — меньшевики в эмиграции (как и другие левые) занимали яростно антигерманские позиции. Позже Николаевский встретится с Оффи, секретарем У. Буллитла, бывшего посла США в СССР. Тот поведает ему о том, как Бухарин дважды — в 1935-м и 1936 годах — слил американцам информацию о переговорах с Германией.
Бухарина крайне беспокоили любые попытки соединить социализм и национальный патриотизм. Критикуя нацизм, Бухарин беспокоился не столько по поводу агрессивных устремлений Гитлера, он смертельно боялся, что пример немцев будет творчески осмыслен в России и приведет к созданию новой версии патриотического социализма, свободной от гегемонизма гитлеровского типа. Боялся он и союза с Германией, который мог плодотворно сказаться на судьбах России и самой Германии, удержать последнюю от непродуманных внешнеполитических авантюр.
Вне всякого сомнения, для «любимца партии», проклинавшего «отсталую, крестьянскую Россию», «страну Обломовых», организовавшего посмертную травлю Есенина, было вполне естественно люто ненавидеть любые режимы, достигшие национального подъема. Также естественным было для него выступать против Сталина, осуществившего русификацию большевизма и пытавшегося сблизиться с националистическими режимами Германии и Италии. Отношения с самим Сталиным Бухарин в беседе с Николаевским оценивал на три с минусом. А в разговоре с вдовой известного меньшевика Ф. Дана он был еще более категоричен, сравнив Сталина с дьяволом.
Замечу, что гуманизм Бухарина был довольно своеобразным. Это был действительно пролетарский гуманизм. Участвуя в работе комиссии по созданию новой конституции, Бухарин категорически выступал против предоставления избирательных прав всем гражданам, требуя исключения для «лишенцев» — «бывших» и раскулаченных.
Пробухаринские симпатии главного чекиста
По данным Николаевского, во время своего заграничного вояжа Бухарин встречался с Ф. Езерской, некогда бывшей секретарем Розы Люксембург. Она сделала ему предложение остаться за границей с тем, чтобы выпускать «правую газету», направленную против Сталина и сталинистов. Однако Бухарин отказался, заявив, что не считает положение безвыходным, так как в Политбюро Сталин еще не имеет большинства.
Бухарин надеялся не только на поддержку коллег-партийцев. В качестве одного из орудий будущих антисталинских боев Бухарин намеревался использовать масонство, к которому имел некоторое отношение и которое в З0-е годы было настроено враждебно как в отношении Сталина, так и в отношении Гитлера. Н. Берберова приводит рассказ знаменитой масонки Е. Д. Кусковой о выступлении Бухарина перед общественностью в Праге. Тогда он делал вполне заметные масонские жесты. Не будем торопиться с зачислением «Бухарчика» во франкмасоны. Однако не пройдем и мимо одного интересного документа, только недавно открытого отечественными историками. Речь идет о письме эмигранта-масона Б. А. Бахметьева Кусковой от 29 марта 1929 года. В нем он возлагает надежды на приход к власти в СССР лидеров правого уклона. Это должно было стать началом конца большевистской России: «У правого уклона нет вождей, чего и не требуется: нужно лишь, чтобы история покончила со Сталиным как с последним оплотом твердокаменности… Внутри русского тела будут нарастать и откристаллизовываться те группировки и бытовые отношения, которые в известный момент властно потребуют перемены правящей верхушки и создадут исторические связи и исторические личности, которым суждено будет внешне положить конец большевистскому периоду и открыть будущий».
Кстати, как все это перекликается с событиями времен «перестройки»! Пришедший к власти «ненастоящий вождь» Горбачев, восхищавшийся социал-демократией, идеализирующий Бухарина, всего лишь открыл шлагбаум для сил, навязавших стране прозападный капитализм.
«Правым» были готовы помочь многие. Но, пожалуй, самая прочная опора у Бухарина, Рыкова и Томского была в органах государственной безопасности. К ним примыкал всесильный нарком внутренних дел Ягода, который формально возглавил органы в 1934 году после смерти В. Р. Менжинского, а фактически был их шефом с 1926 года.
Ягоду давно уже принято считать верным сталинским сатрапом, который на определенном этапе перестал устраивать «тирана». Но ряд данных свидетельствует об обратном. Ягода вовсе не был таким уж подхалимом, во всем поддакивающим Сталину и высшему партийному руководству. Довольно часто он противопоставлял себя партийным верхам, проявляя качества ведомственного вотчинника, имеющего свои «хозяйственные» интересы. А какие интересы могут быть у вотчинника, если он стоит во главе тайной полиции? Стремиться всячески усилить свою власть над свободой и жизнью людей. Что Ягода и старался делать, иногда пытаясь обходить Сталина и Политбюро. Так, 9 августа 1934 года наркомвнудел разослал на места телеграммы, в которых приказал создать при каждом концлагере суд НКВД. В телеграмме запрещалось обжаловать приговоры этих судов и требовалось согласовывать данные приговоры лишь с краевыми прокурорами и судьями. Политбюро и сам Сталин были в шоке от подобного сепаратного мероприятия, но это вовсе не привело к падению «верного сталинского сатрапа». С ним был заключен компромисс (внимание — именно компромисс!) — лагерные суды оставались, но разрешалось право кассационного обжалования.
Тогда Сталин заметил, что «органы» частенько идут впереди самой партийной верхушки в развязывании репрессий. В сентябре 1934 года он инициировал создание комиссии в составе Кагановича, В. В. Куйбышева и И. А. Акулова (прокурора СССР). Ее целью была проверка «органов» — на основании жалоб в ЦК. Жалобы касались дела о «вредительстве» в наркомате земледелия (1933 год), по которому репрессировали около сотни ответственных работников. Комиссия выявила серьезнейшие нарушения, допущенные в ходе расследования этого и других дел. Сталин вообще хотел назначить Акулова главой тайной полиции вместо Ягоды, но тот упорно не желал выпускать такой пост из своих рук. Довольно странная ситуация, если считать Сталина всесильным диктатором, а самого Ягоду бесхребетным подхалимом. Ведь если верить нашим тираноборцам, любое решение Сталина было законом, неукоснительно исполнявшимся.
О «правом» уклоне Ягоды в 1929 году открыто заявил второй заместитель Менжинского — Трилиссер. Он, конечно, мог приврать (нравы в ЧК были далеки от монастырских), но в любом случае этот деятель исходил из факта тесных деловых и дружеских контактов Ягоды с лидерами «правых». Председатель ОГПУ входил в состав Московского комитета ВКП(б), возглавляемого бухаринцем Н. А. Углановым. На партучете он состоял в Сокольнической районной парторганизации, чьим секретарем был Гибер — также сторонник Бухарина. Ягода частенько пьянствовал с Рыковым и Углановым, и это тоже наводит на некоторые мысли. Ясно, что такой опытный карьерист, как Трилиссер, не мог основывать свое публичное обвинение на голом месте, нужны были какие-то основания.
Здесь я снова коснусь «загадки Кирова». Если до сих пор нет достаточных фактов, чтобы определить с точностью самого заказчика этого политического убийства, то можно с полным основанием говорить о вовлеченности в него руководства НКВД. Причём версия о том, что органами командовал «диктатор» Сталин, очень сомнительна. Как видно из приведенных выше фактов, Ягода вовсе не был послушной марионеткой в руках вождя. А если признать, что он был участником бухаринской группы, то уместно возложить ответственность за убийство Кирова именно на эту группу.
У бухаринцев были все основания желать смерти «Мироныча». Самое время вспомнить, что именно он был наиболее ярым критиком «правых» на XVII съезде. Очевидно, Киров хотел серьезно увеличить свой политический капитал на критике «правых» и отвлечь партию от борьбы с региональным местничеством, переключив внимание на «врагов». В качестве таковых могли быть выбраны либо «левые» (троцкисты, зиновьевцы), либо «правые». Трогать первых Кирову не было никакого резона. Даже если не брать в расчет его возможные связи с Троцким, все равно надо учесть наличие в окружении ленинградского босса множества «раскаявшихся» зиновьевцев, которых он не хотел чистить, несмотря на требования Сталина. Ленинград некогда был вотчиной Зиновьева, и наезд на «левых» вызвал бы нездоровый интерес к нынешнему его владыке — Кирову. Характерно, что, критикуя «правых» обозников, Киров ни словом не обмолвился о «левых».
Мишенью были выбраны «правые», но и у них оказались свои стрелки. Мишенью стал уже сам Киров. И благоприятные для «правых» последствия его убийства не замедлили обнаружиться. С декабря 1934 года прекращается любая критика правого уклона. Пальба (в том числе и свинцом) ведется теперь по «левым» — троцкистам и зиновьевцам. Бухарин же переживает новый взлет своей карьеры, не такой, правда, впечатляющий, как после Октябрьского переворота. Он редактирует «Известия», превращая ее в интереснейшую, охотно читаемую газету. Основной упор газета делает на гуманизм и антифашизм, сильно отличаясь тем самым от скучноватого официоза — «Правды». Бухарин активно включается в процесс написания новой конституции. Явно не обошлось без его влияния и создание концепции антифашистского народного фронта, объединяющего коммунистов и социал-демократов.
«Буревестник» снова в полете
Бухарин с его страстью к теоретизированию и неуемным красноречием был кумиром довольно-таки значительной части творческой интеллигенции. Как известно, среди этой прослойки всегда очень сильны оппозиционные настроения, особенно по отношению к тем правителям, которые укрепляют государство и отстаивают ценности патриотизма. На Первом съезде советских писателей (1934 год) его участники устроили Бухарину громовую овацию (в отличие от делегатов съезда партийного). Возможно, некоторые из них знали о том, что Бухарин разделяет мнение А. М. Горького о необходимости создания в СССР второй партии, состоящей из представителей интеллигенции (на худой конец, Горький готов был удовлетвориться неким «Союзом беспартийных»). По сообщению Николаевского, Бухарин тоже считал, что «какая-то вторая партия необходима».
Горький, который в первые годы советской власти критиковал большевиков именно с социал-демократических позиций, тоже очень много распространялся о гуманизме. И так же, как Бухарин, он был не прочь порассуждать о «национальной отсталости» России. Как русофобы они стоили друг друга. «Буревестник» сравнивал русскую историю с «тараканьими бегами», Бухарин писал о «стране Обломовых». Оба ненавидели русское крестьянство. Не кому-нибудь, а именно Бухарину «великий гуманист» писал в июле 1925 года: «Надо бы, дорогой товарищ, Вам или Троцкому указать писателям-рабочим на тот факт, что рядом с их работой уже возникает работа писателей-крестьян и что здесь возможен — даже, пожалуй, неизбежен конфликт двух „направлений“. Всякая „цензура“ тут была бы лишь вредна и лишь заострила бы идеологию мужикопоклонства и деревнелюбов (слова-то какие! — А. Е.), но критика — и нещадная — этой идеологии должна быть дана теперь же. Талантливый, трогательный плач Есенина о деревенском рае — не та лирика, которой требуется время и его задачи, огромность которых невообразима… Город и деревня должны встать — лоб в лоб».
Но как же так? Все мы привыкли считать Бухарина образца 20-х годов защитником крестьянских интересов, грудью вставшим против «сталинской коллективизации». А тут сам неистовый «Буревестник» призывает его сталкивать лбами город и деревню. Да еще и с Троцким сравнивает, дескать, оба неплохо справились бы с антикрестьянской писаниной.
Горький знал, кому писать. На самом деле Бухарин был всей душой за искоренение «кулака». Бухарин не верил в российского крестьянина и считал, что его можно кооперировать только лет через десять-двадцать. Только тогда простейшие формы кооперации (потребительская, кредитная и т. д.) дорастут до высшего типа — производственного кооператива. Возникнут крупные крестьянские хозяйства, способные эксплуатировать новейшую технику. А промышленность, по Бухарину, должна была соответствовать этим черепашьим темпам и развиваться медленно, ожидая, пока село потихоньку разбогатеет и окажется в состоянии покупать промышленные товары.
В общем-то, программа Бухарина вполне подошла бы России, если бы только она находилась где-нибудь на Луне и нам не угрожала бы агрессия. Тогда можно было бы развивать промышленность медленно, не слишком заботиться об оборонном секторе, который может быть развит лишь на базе мощной тяжелой промышленности. Но СССР находился не на Луне, а на Земле, которая только что пережила Первую мировую войну и готовилась ко Второй. Пойди партия в конце 20-х годов за Бухариным, и нас просто-напросто задавил бы любой предприимчивый агрессор.
Сталин, в отличие от Бухарина, подходил к данному вопросу как патриот и прагматик. Он понял, что надо срочно создавать производственные кооперативы (колхозы) и форсировать развитие индустрии. Другое дело, что поставленных перед страной верных целей он достигал слишком уж крутыми средствами. Впрочем, снова обращу внимание на то, что ответственность за это несет не только Сталин.
Горький был о Бухарине очень высокого мнения. Между ними поддерживались весьма теплые отношения, которые сложились еще в 1922 году, в то время, как Бухарин лечился в Германии. Именно Бухарин встречал Горького, когда тот возвращался из-за границы. Горький при каждом удобном случае оказывал «Бухарчику» протекцию. После поражения лидеров правого уклона Горький пытался убедить Сталина вернуть их на прежние посты. Для этого он выбрал довольно хитрую тактику, устраивая на своей квартире якобы случайные встречи Сталина и «правых». Таким образом он хотел смягчить генсека.
Горький настаивал на том, чтобы Бухарин представлял СССР на Международном антифашистском конгрессе в 1932 году. Двумя годами позже Алексей Максимович упрашивал Политбюро поручить Бухарину приветствовать съезд писателей от имени партии.
Очень неплохо ладил «Буревестник» с «железным» наркомом Ягодой (они подружились еще до революции, в Нижнем Новгороде). Два ценителя прекрасного любили уединяться в угловой комнате горьковского особняка в Москве, где подолгу беседовали. О чем? О литературе? А может, не только о ней?
Горький и Ягода оставили после себя обширную переписку. Из нее явствует, что отношения между ними можно считать почти дружескими. Исследователь взаимоотношений Горького с советскими властями А. Ваксберг так характеризует письма к нему Ягоды: «…Он раскрывал свою душу в таких выражениях, которые и впрямь позволительны лишь интимному другу».
В 1934 году Горький устроил Ягоде грандиозный, выражаясь по-современному, пиар. Он организовал вылазку огромной писательской бригады на Беломорско-Балтийский канал. Там Ягоду всемерно восхваляли, славя за перековку десятков тысяч заключенных. После исторической «прогулки» Горьким и его сотрудниками был выпущен красочно оформленный альбом, в котором фотография главного чекиста находилась аккурат сразу же за фотографией Сталина. Тем самым «тонко» намекалось на то, кто должен быть в доме хозяином. Или же, по крайней мере, стоять на втором месте в государстве. По итогам «прогулки» вышла книга, в которой Горький написал: «К недостаткам книги, вероятно, будет причислен и тот факт, что в ней слишком мало сказано о работе 37 чекистов и о Генрихе Ягоде».
В известном смысле Горький и Ягода являлись родственниками. Приемный сын Алексея Максимовича, Зиновий Пешков, был братом еще одного великого «гуманиста» — Свердлова, чья племянница была замужем за Ягодой. Правда, по стопам своего выдающегося брата-цареубийцы Зиновий не пошел, он стал советником колчаковского правительства. Позже Зиновий служил офицером во французском «Иностранном легионе» и вступил в масонскую ложу.
К слову, Ягода в свое время пытался сделать ставку на писательские организации. Так, он весьма активно поддерживал Российскую ассоциацию пролетарских писателей (РАПП), которой заправлял его родственник, упертый левак, «литературный гангстер» Лев Авербах. Любопытно, что Горький хотел взять под защиту эту организацию, когда Сталин ее распускал. Довольно странно. Ведь тем самым Сталин вроде бы расчищал место для самого Горького и для новой организации — Союза писателей, который создавался явно под «Буревестника». Очевидно, Горький опасался, что в Союзе его ототрут от реального руководства, оставив в качестве декоративной фигуры. А РАПП, патронируемая любезным другом и «землячком» Ягодой, была более надежным резервом. С Авербахом и его «леваками» было надежнее, чем с государственниками-сталинистами типа А. А. Фадеева.
Любопытные совпадения, не правда ли? И Бухарин, и Ягода крутятся вокруг патриарха отечественной интеллигенции, певца социалистического реализма. А он им всячески помогает, причем помогает политически. Вот и еще одна ниточка, позволяющая присоединить этих двух пламенных большевиков к одному антисталинскому блоку, чьи границы раскинулись от НКВД до Союза писателей. Очевидно, творческим людям, в чьем кругу, кстати, очень любил вращаться Ягода, планировалось поручить ту роль, которую играли их коллеги в событиях «Пражской весны» и горбачевской «перестройки».
Но, конечно, главную ставку социал-демократы делали на вторую партию, которая должна была объединить интеллигентов. По сути, ее основа уже была создана. Здесь имеется в виду малоизвестная историкам, но вполне легальная «Всесоюзная ассоциация работников науки и техники для содействия социалистическому строительству» (ВАРНИТСО). Этой сугубо интеллигентской организации покровительствовал Горький. Она бы и превратилась в столь желанную для «правых» партию. Планировалось поставить во главе ее самого «Буревестника» и академика И. П. Павлова. В руководство также намечалось включить известного ученого и философа В. И. Вернадского, некогда бывшего членом ЦК партии кадетов.
Тайные дневники Вернадского, опубликованные лишь в период перестройки, свидетельствуют о том, что он был ярым противником Сталина и знал об оппозиционной деятельности Ягоды. В дневниках упоминается некая «случайная неудача овладения властью людьми ГПУ — Ягоды». Опять совпадение?!
К счастью, Сталин, понимавший всю губительность социал-демократии, не согласился с планами создания второй партии.
В 1936 году «правая» группировка была существенно ослаблена. В июне умер Горький, в августе покончил жизнь самоубийством Томский. А в сентябре руководство страны снимает с поста наркомвнудел могущественного Ягоду. Отныне «правые» превращаются в самую слабую группировку. Из всех фракций, проигравших Сталину, она первой сгорела в испепеляющем огне «Большого террора».
Глава 6. Милитаристы против партии
Убогий полководец
В З0-е годы в ВКП(б) существовала еще одна весьма специфическая группировка, которую можно назвать левыми милитаристами. В нее входило ближайшее окружение заместителя наркома обороны, маршала М. Н. Тухачевского. Перечислим ее основных участников: командующий Московским военным округом А. И. Корк, командующий Киевским военным округом И. Э. Якир, командующий Белорусским военным округом И. П. Уборевич, начальник Главного политического управления РККА Я. Б. Гамарник, начальник Административного управления РККА Б. М. Фельдман. Все её участники были репрессированы в 1937 году по обвинению в «военно-фашистском заговоре». Им также приписывали шпионаж в пользу нацистской Германии. Пожалуй, именно эти формулировки обвинения и обеспечили ту легкость, с которой при Хрущеве прошла реабилитация пострадавших военачальников. Впрочем, то же самое можно сказать и в отношении всех других репрессированных деятелей. Обвинения в фашизме и шпионаже в пользу фашистских стран действительно выглядят абсурдными, ведь их предъявляли убежденным коммунистам и интернационалистам.
Однако не стоит обращать внимания на ярлыки тех лет. Обвинения сталинской поры были некоей амальгамой, соединением правды и вымысла. И речь идет о том, чтобы отчленить одно от другого.
Так был ли заговор? Не стоит торопиться. Сначала поговорим о Тухачевском и его друзьях как о группе, имеющей свою политическую платформу. То, что сама группа существовала, ни у кого сомнений не вызывает. Правда, историки-антисталинисты склонны говорить о некоем сообществе военных профессионалов, которые противостояли «кавалеристам» — Ворошилову и Буденному. Первые якобы были сторонниками научно-технического прогресса, вторые ратовали за «лошадок». Сталин сглупа поддержал «кавалеристов» и репрессировал «мотористов», что и привело к страшным поражениям в первые дни войны.
Схема эта очень старая — и совершенно неверная! Она родилась в мудрых головушках хрущевских идеологов, которые очень хотели все недостатки коммунистической системы списать именно на «извращенца» Сталина, хотя правильнее было бы поступать противоположным образом. Так и родился миф о «великом полководце» Тухачевском.
На самом деле Тухачевский больше блистал революционной фразеологией, чем военными победами. Достаточно только вспомнить, как он подавлял тамбовское восстание. Против плохо вооруженных повстанцев Тухачевский бросил части регулярной армии, укомплектованные бронетехникой и авиацией, подкрепленные различными вспомогательными подразделениями (ЧОНом и т. д.). Несчастных крестьян травили газами. И тем не менее первый натиск не удался, победа была одержана лишь со второго захода. Впрочем, о победе Тухачевского тут можно говорить лишь с очень большой долей условности — тамбовских повстанцев только рассредоточили и вытеснили в другие губернии, где их и добили уже совсем другие «красные герои». На это почти не обращают внимания, но это факт — тамбовский мятеж так и не был подавлен Тухачевским.
Ещё более явно этот деятель провалился во время советско-польской войны 1920 года. Будучи командующим Западным фронтом, он крайне неумело использовал резервы и не согласовывал свои действия с командованием Юго-Западного фронта. Тухачевский слишком зарвался в своем стремительном марше на Варшаву, что и стало причиной поражения России в той войне. В результате она потеряла ряд своих западных территорий, а более 50 тысяч красноармейцев попали в польский плен, где их тиранили самым злодейским образом — почти никто из пленных домой так и не вернулся (об этом почему-то молчат наши гуманисты-демократы, столь любящие рассуждать о «сталинских зверствах» в Катыни).
Заведуя обеспечением вооружениями, Тухачевский также оказался не на высоте. Например, он всячески препятствовал внедрению в армию минометов, называя их «суррогатом» артиллерийского оружия. Он вооружил армию дрянными танками Т-28 и Т-35. Эти уродцы имели много башен, но в то же время отличались очень тонкой броней. Она могла предохранять только от пуль. А ведь в других странах уже наращивалось производство танков с противоснарядной броней.
«Гений» пожелал, чтобы дивизионная артиллерия выполняла роль корпусной, ведя огонь с более дальних расстояний. Сделать это было можно, но лишь при условии увеличения калибра орудий. Однако Тухачевский категорически это запретил.
К числу «великих достижений» Тухачевского на ниве развала нашей армии следует отнести и роспуск конструкторского бюро, занимавшегося развитием нарезной ствольной артиллерии. Он объявил этот вид вооружения устаревшим, хотя именно нарезная артиллерия сыграла одну из главных ролей во время Великой Отечественной войны.
Авантюристы
Не блистая в военной сфере, Тухачевский мечтал взять реванш в политике. У него и его друзей была собственная политическая платформа. Она представляла собой особую версию марксизма. Согласно ей авангардом революции становился не рабочий класс и даже не коммунистическая партия, а «пролетарская армия». Тухачевский хотел милитаризировать страну, жестко подчинив все сферы ее жизни интересам армии. Так, ещё в декабре 1927 года он предложил Сталину создать в следующем году 50–100 тысяч новых танков. Любой думающий человек сразу поймет всю нелепость данного плана. Страна ведь еще даже не приступила толком к индустриализации, а 50 тысяч — это количество, которое произвела советская танковая промышленность за весь послевоенный период.
Таким же нереальным был план, предложенный Тухачевским в 1930 году. Согласно ему СССР нужно было срочно произвести на свет 40 тысяч самолетов. Это уже не единичный факт, это тенденция. Тухачевский вел дело к тому, чтобы перевести всю страну на военные рельсы. Все народное хозяйство должно было работать на производство вооружений, а все мужское население призывного возраста — их осваивать.
Зачем нужна такая гора оружия? Для революционной войны, призванной сокрушить капитализм на Западе. Тухачевский ждал революционной войны и готовился к ней, правда, больше в идеологическом плане. И войска он предлагал готовить именно политически. Вот весьма любопытное пожелание: «Вся… подготовка должна быть регламентирована определенными тезисами, охватывающими понятия: о целях войны, о неминуемости революционных взрывов в буржуазных государствах, объявивших нам войну, о сочетании социалистических наступлений с этими взрывами, об атрофировании национальных чувств и о развитии классового самосознания». Особенно, конечно, умиляет положение об «атрофировании национальных чувств»!
Тухачевский еще немного осторожничал. А у некоторых его сподвижников военно-революционная горячка проявлялась гораздо сильнее. Так, В. М. Примаков, особо близкий к Тухачевскому, написал в 1930 году книгу «Афганистан в огне», в которой он предлагал послать в эту страну войска на помощь «угнетенным братьям». Вон когда пытались ввязать Россию в широкомасштабную авантюру в этом регионе!
Итак, перед нами особая политическая позиция. Сталин после ознакомления с предложениями Тухачевского по поводу производства 50–100 тысяч танков довольно точно охарактеризовал ее как «красный милитаризм». Я же использую термин «левые милитаристы» как более точный в плане политологии.
Так был ли заговор?
Но, может быть, имея политическую платформу, «левые милитаристы» не хотели ее навязывать стране посредством военного переворота? Давайте обратимся к фактам. Существует огромное количество прямых свидетельств в пользу заговора. (Большинство их собрали и обобщили в своем интереснейшем исследовании А. Колпакиди и Е. Прудникова «Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи»). Еще задолго до 1937 года было несколько разведдонесений (по линии ОГПУ-НКВД и ГРУ), сообщающих о заговоре Тухачевского. О заговоре, со слов французского премьера Даладье, сообщал Сталину наркоминдел Литвинов. О нем же говорит в своем секретном послании чехословацкому президенту Э. Бенешу его посол в Берлине Мастны. Та же информация содержится в послании французского посла в Москве Кулондра своему берлинскому коллеге. Перебежчик Орлов после войны тоже подтвердил, что заговор Тухачевского против Сталина действительно имел место.
Но особенно интересно, на мой взгляд, свидетельство руководителя политической разведки рейха В. Шелленберга. Он сообщает о решении Гитлера поддержать Сталина против Тухачевского. Хитроумный фюрер полагал, что тем самым он обезглавит и ослабит Красную Армию. (Наивный человек, знал бы он об уровне военных «дарований» Тухачевского!). «Гитлер… распорядился о том, чтобы офицеров штаба германской армии держали в неведении относительно шага, замышлявшегося против Тухачевского, так как опасался, что они могут предупредить советского маршала, — пишет Шелленберг. — И вот однажды ночью Гейдрих (шеф имперской безопасности. — А. Е.) послал две специальные группы взломать секретные архивы генерального штаба и абвера, службы военной разведки, возглавлявшейся адмиралом Канарисом. В состав групп были включены специалисты-взломщики из уголовной полиции. Был найден и изъят материал, относящийся к сотрудничеству германского генерального штаба с Красной Армией. Важный материал был также найден в делах адмирала Канариса. Для того чтобы скрыть следы, в нескольких местах устроили пожары, которые вскоре уничтожили всякие следы взлома. В поднявшейся суматохе специальные группы скрылись не будучи замеченными. В свое время утверждалось, что материал, собранный Гейдрихом с целью запутать Тухачевского, состоял большей частью из заведомо сфабрикованных документов. В действительности же подделано было очень немного — не больше, чем нужно было для того, чтобы заполнить некоторые пробелы. Это подтверждается тем фактом, что весьма объемистое досье было подготовлено и представлено Гитлеру за короткий промежуток времени — в четыре дня».
То есть немцы предоставили Сталину фактически подлинную информацию, касающуюся тайных — от Сталина и Гитлера — контактах советских и немецких военных. И речь не идет о секретных контактах времен Веймарской республики. Они были санкционированы советским руководством? Нет, разговор шел о сговоре за спиной Сталина и всего Политбюро.
Обращает на себя внимание то, что и немецкие генералы действовали тайно от фюрера. Иначе зачем было Гейдриху прибегать к хитроумным взломам? То есть перед нами самый настоящий двойной заговор — против Гитлера и против Сталина. Точнее, против НСДАП и ВКП(б). Армии против партий. Социалистов-милитаристов против социалистов-идеократов.
Характерно, что Сталин, выступая на известном заседании военного совета, посвященного разгрому заговорщиков, вовсе не утверждал, что они работали на Гитлера. Он указывал именно на рейхсвер: «Это собственноручное сочинение германского рейхсвера. Я думаю, эти люди являются марионетками и куклами в руках рейхсвера». То есть Сталин явно отделяет немецкое военное руководство от руководства политического, партийного. Он приписывает немецким военным собственные амбициозные цели. Любопытно, что Сталин упорно именует немецкую армию рейхсвером, хотя она с 1935 года именовалась вермахтом. Скорее всего, это оговорка, но оговорка не случайная. В сознании Сталина военная верхушка Германии представлялась чем-то отдельным от нового руководства этой страны. Рейхсвер, в определенном плане, продолжал быть рейхсвером. Кстати сказать, именно во времена рейхсвера и Веймарской республики, то есть в период тесного военного сотрудничества СССР и Германии, Тухачевский, Якир и прочие военачальники активно знакомились с идеологическими наработками некоторых германских военных. Особенное влияние на них оказала концепция генерала Г. фон Секта, бывшего сторонником передачи государственной власти в руки армии.
Итак, мы рассмотрели четыре внутрипартийные группировки, сложившиеся в 1930-е годы. За каждой из них стоял свой социально-политический проект. Каждая опиралась на социальный слой, который стремилась сделать главенствующим. Левые консерваторы ориентировались на партийный аппарат, национал-большевики — на государственное чиновничество, социал-демократы — на интеллигенцию, левые милитаристы — на генералитет.
В 1936–1938 годах в ожесточенной битве сошлись, по сути дела, четыре политические партии. Послушай большевики Сталина в ноябре 1917 года, и эти партии имели бы возможность отстаивать свою точку зрения в Учредительном собрании или Всероссийском Совете. Однако в 30-е годы такой возможности уже не было. Проигравших ждали не мандаты парламентского меньшинства, не места в «теневом кабинете», а подвалы Лубянки и девять граммов свинца.
Глава 7. «Демон революции» на защите Запада
Реальность троцкистской угрозы
В 30-е годы существовала еще одна советская коммунистическая группировка. Правда, ее нельзя назвать внутрипартийной, так как центр группы находился вне самой партии. Речь идет о Троцком и троцкистах.
Некоторые историки уверены, что у изгнанного Троцкого почти не было сторонников в СССР. Якобы только в больном мозгу подозрительного Сталина могла существовать троцкистская оппозиция, с треском разгромленная в конце 20-х годов.
Но факты, со всем своим упрямством, свидетельствуют об обратном. Конечно, из открытых троцкистов, тех, кто бушевал во времена нэпа, на свободе оставались немногие. Но они в большинстве своем продолжали сохранять верность идеям изгнанного кумира. Даже в лагерях троцкисты имели некую организацию и вели пропаганду. Через эту пропаганду, через школу троцкизма прошли тысячи заключенных ГУЛАГа, многие из которых выходили на свободу убежденными сторонниками Троцкого. Этот факт не отрицается никем из историков-антисталинистов, однако мало кто признает советских троцкистов 30-х годов как серьезный политический фактор.
Да ведь дело не только в зэках! Троцкий — это действительно фигура, создавшая мощное направление в марксизме, которое и по сей день пользуется большой популярностью. Так неужели же в СССР не могло быть людей, симпатизирующих Троцкому? В том числе и в партийно-государственном аппарате, в армии.
Разумеется, они были. Как не поверить «сталинским сатрапам», когда архивные данные свидетельствуют о том, что технический секретарь ЦК ВКП(б) Е. Коган сочувствовала Троцкому и передавала ему важную информацию, когда тот находился в Норвегии. Уже в Норвегии информацию получали ее сестра Р. Коган, а также некто П. Куроедов. Оба работали шифровальщиками в советском посольстве. И данные обо всем этом публикует не какой-то там «сталинистский листок», а серьезное академическое издание «Исторические архивы». Их подтверждают даже симпатизирующие Троцкому историки (В. Роговин), талдычащие о надуманности репрессий.
Отдельная статья — «генералы от троцкизма», видные оппозиционеры 20-х годов. Все они покаялись перед партией, кто раньше, кто позже. Но вот насколько искренним было такое покаяние? Факты (только факты!) свидетельствуют о том, что для многих оно было только хитрым маневром.
Взять хотя бы Ивана Никитича Смирнова, одного из ближайших соратников Троцкого. Это был старый большевик, изрядно поднаторевший в революционной деятельности. Достаточно сказать, что во время гражданской войны организовывал восстания в сибирских городах, с тем чтобы облегчить задачу Красной Армии, сражающейся с Колчаком. В 1929 году Смирнов раскаялся в своей оппозиционной деятельности, но уже в 1931 году опять свернул на дорожку троцкизма. Летом этого года, будучи в заграничной поездке, он, якобы случайно, встретился в берлинском супермаркете с сыном Троцкого Львом Седовым. Как писал сам Седов, сообщивший о встрече, они «установили известную близость взглядов».
Осенью 1932 года Смирнов присылает в «Бюллетень оппозиции», выпускаемый Троцким, статью о бедственном положении народного хозяйства в СССР, а также обильную корреспонденцию.
Лев Седов публично признавал только эти два факта. Остальное было объявлено ложью организаторов первого московского процесса. Однако Гарвардский архив Троцкого, открытый для исследователей только в 1980 году, свидетельствует об обратном. Работавшие в нем историки А. Гетти (США) и П. Бруэ (Франция) независимо друг от друга обнаружили материалы, свидетельствующие о более широких контактах Троцкого с его сторонниками в СССР. Связи между Смирновым и Троцким поддерживались постоянно через двух человек — Гавена и Гольцмана. Более того, согласно данным архива, именно группировка Смирнова объединила вокруг себя все другие антисталинские течения, как «левые», так и «правые». Единый антисталинский фронт составили: «организация И. Н. Смирнова» (в нее еще входили такие старые соратники Троцкого, как И. Смилга и С. Мрачковский); группа Стэна-Ломинадзе, лидеры давно разгромленной «рабочей оппозиции» Шляпников и Медведев, а также Зиновьев и Каменев. Последнее чрезвычайно важно. Получается, что троцкистско-зиновьевский блок был все-таки восстановлен, а московский процесс исходил из реальных фактов. Как явствует из архива Троцкого, Зиновьев и Каменев считали необходимым установить связь с Троцким (они ее фактически уже установили, контактируя со Смирновым). И мы знаем только часть правды о контактах этой «сладкой парочки» с «демоном революции». Историк В. Роговин пишет: «В отношениях Троцкого и Седова с их единомышленниками в СССР была отлично отлажена конспирация. Хотя ГПУ вело тщательную слежку за ними, оно не могло обнаружить никаких встреч, переписки и иных форм их связи с советскими оппозиционерами. Далеко не все оппозиционные контакты были прослежены и внутри Советского Союза. Хотя в конце 1932 — начале 1933 года была осуществлена серия арестов участников нелегальных оппозиционных групп, ни один из арестованных не упомянул о переговорах по поводу создания блока. Поэтому некоторые участники этих переговоров (Ломинадзе, Шацкин, Гольцман и др.) до 1935–1936 годов оставались на свободе».
Мне представляется, что Роговин несколько недооценивает органы ГПУ. Довольно сложно представить себе, чтобы они постоянно следили за участниками неотроцкистских оппозиций, но не могли обнаружить факты, свидетельствующие о контактах оппозиционеров друг с другом и с Троцким. Даже царская охранка, получается, действовала более эффективно. Нет, тут скорее заметно нежелание «органов», возглавляемых Ягодой, вести серьезную борьбу с троцкизмом и «левыми». Вспомним о том, как «всевидящее око» партии не увидело контактов Бухарина и Каменева в 1928 году. К тому же вызывают множество вопросов поблажки, которые зачастую делались в отношении ссыльных и заключенных троцкистов, да и вообще «политических» всех мастей. Конечно, делались они до поры до времени, но все же делались.
Так, поначалу многих политических заключенных помещали в особые изоляторы. В них заключенные сидели в камерах только вместе со своими политическими единомышленниками. То есть посаженные троцкисты получали уже готовую форму самоорганизации в условиях заключения. В политизоляторах им жилось привольно. Там существовали спортивные площадки. Осужденным предоставлялось право выписывать неограниченное количество книг и журналов, проживать вместе с женами. Им выдавался усиленный паек, но ассортимент своего питания политзэки всегда могли расширить — заключенным разрешали закупать с воли любые продукты и получать денежные переводы в большом количестве.
Ссылка поначалу тоже была для троцкистов чем-то вроде санатория. Журналист М. Я. Презент фиксировал в своем дневнике встречи с троцкистами, освобожденными из ссылки. Будучи в Сибири, они имели возможность держать оружие, выписывать из-за границы новые книги и журналы. Так, ссыльный троцкист Радек вполне легально носил с собой револьвер и получал из-за границы 12 газет и журналов. С собой в Сибирь он перевез почти всю свою домашнюю библиотеку. «Когда я ехал на место ссылки, — рассказывал Радек, — на тройке с начальником ГПУ, а за ним везли на нескольких санях ящики с книгами, крестьяне думали, что везут золото».
Существуют свидетельства о том, что Ягода был обеспокоен судьбой Зиновьева, Каменева, Смирнова и иных участников новой, точнее, даже новейшей, левой оппозиции, сложившейся в 1932 году. По сообщению перебежчика Орлова, «железный Генрих» испытал облегчение, когда Сталин дал обещание сохранить жизнь всем предполагаемым участникам процесса 1936 года. Кстати, обращает на себя внимание то, что осужденных расстреляли сразу же после вынесения приговора, не став даже формально рассматривать их апелляцию, хотя ЦИК устанавливал для этого обязательный срок — 72 часа. Откуда такая спешка? Что, осужденные могли убежать? Или Троцкий высадил бы десант для их вызволения? Нет, очевидно, была реальная возможность того, что осужденным смягчат меру наказания. А может быть, и освободят через некоторое время. Следовательно, существовала некая сила, способная вступиться за «левых». И пока по всем статьям на нее подходит Ягода, активный участник бухаринской оппозиции.
Ягода не хотел по-настоящему выкорчевывать троцкизм, ибо видел в нем потенциального союзника во внутрипартийной борьбе. Его социал-демократическая группа все-таки была слабее и национал-большевиков, и левых консерваторов. Поэтому он и искал дружбы с троцкистами. А на жесткие меры по отношению к ним он шел только после давления со стороны иных политических группировок.
Вообще же по отношению к Троцкому, его соратникам и союзникам в партийно-государственном руководстве было нечто вроде консенсуса. «Демона революции» боялись больше, чем кого бы то ни было. И дело здесь не только в его несомненных политических талантах, а также героическом ореоле «второго человека после Ленина». Троцкий был наиболее радикальным и последовательным сторонником проведения прозападной политики, ориентированной на Англию, Францию и США. Он действительно был агентом иностранных разведок, но не фашистских, а «буржуазно-демократических». За ним стоял не только самый левацкий и авантюристический из всех революционных проектов. За ним стояла и мощь ведущих западных держав.
И когда в 1936 году открылась связь Зиновьева и Каменева с Троцким, и Сталин, и почти все его противники пришли в ужас. Речь шла уже не только о политической борьбе, но и о работе на иные страны. То есть о шпионаже очень высокого уровня. Шпионов такого ранга обычно называют почтительно — «агенты влияния». Но суть от этого не меняется.
Вот почему по поводу Зиновьева и Каменева в руководстве не возникло никаких разногласий. Их судили и тут же казнили, осознавая всю опасность левой оппозиции. А позже расправятся с Бухариным и Рыковым — потому, в первую очередь, что заподозрят их (и не без оснований) в связи с Троцким и троцкистами. Именно троцкизм представлялся главным орудием западного влияния.
Но, может быть, руководство страны демонизировало Троцкого и его союзников? Может быть, Зиновьев и Каменев, контактировавшие с Троцким, все же были казнены за собственные убеждения, а то и по прихоти «жесткого» Сталина? Для ответа рассмотрим вопрос о «западничестве» Троцкого.
Сторонник Антанты
У нас принято много писать о пломбированном вагоне, в котором, пользуясь поддержкой кайзеровской Германии, прибыл в Россию Ленин. Но мало кто писал о норвежском пароходе «Христиан-Фиорд», в котором Троцкий с группой своих единомышленников отправился «домой» из эмиграции — при покровительстве американских властей и попустительстве британской разведки.
Только недавно английская газета «Дейли телеграф» опубликовала рассекреченные документы разведслужбы МИ-6, из которых следует, что англичане имели возможность предотвратить возвращение «демона революции» в Россию. Более того, поначалу его задержали — по инициативе руководителя канадского бюро английской разведки Уильяма Вайзмена — в порту Галифакс. Вайзмен наивно считал, что помогает спасти западный мир от заразы социалистического радикализма, но лидеры этого самого мира были настроены более благодушно. За «перманентного революционера» тут же заступился президент США В. Вильсон, а через некоторое время руководство британской разведки распорядилось отпустить Троцкого на все четыре стороны. Западные лидеры еще раньше заключили с Троцким политический договор, согласно которому он должен был выполнять функцию противовеса якобы прогермански настроенному Ленину, не желавшему продолжать войну на стороне Антанты. Сам Троцкий против такой войны не возражал — конечно, при условии, что вести ее будет новая революционная армия, которая сначала покончит с кайзером (что отвечало интересам Антанты), а затем разберется и с бывшими «союзниками». Показательно, что Троцкий прибыл в Штаты в январе 1917 года и пробыл там чуть больше месяца. Складывается впечатление, что единственной целью его пребывания там были переговоры с людьми Вильсона.
Поначалу расчеты западных лидеров оправдывались. После победы Октябрьского переворота Троцкий занял пост народного комиссара иностранных дел, и это дало ему мощные рычаги для противодействия ленинскому «германофильству». При этом он действовал довольно хитро и никогда не выступал в открытую за войну с немцами, отдавая себе отчет в том, что она крайне непопулярна в народе. Он выдвинул идею «ни мира, ни войны», предложив не подписывать мирное соглашение с Германией как «унизительное для пролетариата», но и не поддерживать состояние войны, демобилизовав старую армию и приступив к созданию новой. Такое предложение только кажется идиотским. На самом деле в нем заключался железный расчет старого провокатора. Троцкий хотел спровоцировать немцев на широкомасштабное наступление, которое сделает войну с ними неизбежной. При этом сам он не потерял бы имидж социалиста, выступающего против войны, ведь на ней Троцкий, в отличие от фракции «левых коммунистов» (Дзержинского, Бухарина и т. д.), публично не настаивал.
И действительно, на первых порах именно эта позиция Троцкого встретила поддержку большинства. 10–18 января прошел III съезд Советов, согласившийся с мнением наркоминдела, о чем советская историография всегда скромно умалчивала, отделываясь фразами типа: «Съезд также одобрил политику Совнаркома в вопросе о мире и предоставил ему в этом вопросе самые широкие полномочия» (а никакой единой политики в вопросе о мире в тот момент не было и в помине). Поддержал Троцкого и ЦК РСДРП(б), несмотря на протесты Ленина, который отлично понимал, что Троцкий втягивает его в крупномасштабную внешнеполитическую авантюру.
Окрыленный поддержкой товарищей по партии, Троцкий прибыл в Брест-Литовск, где шли переговоры о мире. Там он какое-то время эпатировал немецкую делегацию, требуя признать Советскую Украину и грозя обратиться ко всем народам мира за поддержкой в борьбе против агрессивных устремлений Германии. Одновременно по указанию Троцкого большевики развернули мощную агитацию в немецких и австро-венгерских войсках. Наконец, 10 февраля наркоминдел провозгласил свою знаменитую формулу «ни мира, ни войны», крайне изумив тем самым немцев. И через неделю, 18 февраля, Германия начала крупномасштабное наступление. В тот же день Ленин решительно потребовал заключить мир с немцами любой ценой и впервые получил поддержку большинства ЦК, напуганного быстрым продвижением тевтонов — бывшая российская армия была неспособна сопротивляться и в панике бежала. Но уже на следующий день, 19 февраля, Франция и Великобритания предложили РСФСР крупную финансовую и военную поддержку с одним только условием — продолжать войну с кайзером. Сторонники «революционной войны» тут же воспряли духом и решили не спешить с заключением мира. Более того, 22 февраля ЦК принял предложения Антанты, и Россия встала на пороге грандиозной бойни за англо-французско-американские интересы. Совершенно очевидно, что полностью деморализованная событиями 1917 года старая армия не смогла бы победить тогда еще мощную немецкую военную машину. Она бы закидывала трупами наступавших немцев, как можно дольше отвлекая их внимание от Западного фронта.
Ситуацию переломила только личная воля Ленина, 23 февраля добившегося-таки принятия германских условий мира, гораздо более тяжелых, чем те, которые выдвигались поначалу. ЦК с большой неохотой поддержал своего вождя, опасаясь его угроз подать в отставку и обратиться за поддержкой к народу. При этом Троцкий вел себя предельно хитроумно — он выступил со следующим заявлением: дескать, по совести надо бы объявить обнаглевшей Германии революционную войну, однако сейчас в партии раскол и она невозможна. Позицию главного советского дипломата поддержали Дзержинский и Иоффе. В результате выиграл Ленин. Дальше все развивалось в соответствии с его волей — VII Чрезвычайный съезд партии большевиков (6–8 марта) и IV съезд Советов (14 марта) высказались за принятие немецких условий — несмотря на яростное сопротивление левых коммунистов и левых эсеров.
Однако Троцкий на этом не успокоился. Он продолжал лоббировать идею союза РСФСР и Антанты, причем на весьма непростых для России условиях. Нарком был готов на то, чтобы обеспечить союзникам контроль над нашими железными дорогами, предоставить им порты Мурманска и Архангельска с целью ввоза товаров и вывоза оружия, разрешить допуск западных офицеров в Красную Армию. Более того, «демон революции» предлагает осуществить интервенцию Антанты в Россию по… приглашению самого Советского правительства. Да, такое предложение неоднократно и вполне официально обсуждалось на заседаниях ЦК. В последний раз это произошло 13 мая 1918 года, a уже 14 мая Ленин зачитывал во ВЦИК сообщение советского полпреда в Берлине Иоффе, уверявшего в отсутствии у кайзеровской Германии каких-либо агрессивных намерений.
Троцкий уже откровенно выступал за войну на стороне союзников — 22 апреля он заявил, что новая армия нужна Советам «специально для возобновления мировой войны совместно с Францией и Великобританией против Германии». На «просоветскую» интервенцию очень надеялись многие деятели Антанты, и в этих надеждах их поддерживали западные представители в РСФСР. Так, британский представитель Б. Локкарт считал необходимым заключить с большевиками детально разработанный договор и «доказать им делами, что мы готовы, хотя и не поддерживая напрямую существование Советов, не бороться с ними политическим путем и честно помогать им в трудно начинающейся реорганизации армии».
Пробный шаг был сделан уже 2 марта, когда Мурманская народная коллегия, являвшаяся коалиционным (Советы, земства и т. д.) органом местной власти и возглавлявшаяся сторонником Троцкого А. Юрьевым, «пригласила» в город две роты солдат английской морской пехоты. Сделано это было по благословению самого наркоминдела. 1 марта коллегия прислала в Совнарком телеграмму, спрашивая, принять ли военную помощь, предложенную руководителем союзной миссии контр-адмиралом Т. Кемпом (тот предлагал высадить в Мурманск войска с целью защиты его от возможного наступления немцев). Ответил мурманским властям Троцкий: «Вы обязаны незамедлительно принять всякое содействие союзных миссий». На следующий день английские военные моряки в количестве 150 человек вошли в город (к началу мая иностранных солдат будет уже 14 тысяч человек).
5 марта Троцкий официально встретился с английским и американским представителями — Б. Локкартом и Р. Робинсоном. На встрече он объявил о том, что большевики готовы принять военную помощь Антанты. А 11 марта, во время проведения IV съезда Советов, президент США Вильсон прислал телеграмму, в которой обещал РСФСР всемерную поддержку в деле защиты ее суверенитета — ясно от кого. Но политические весы уже слишком сильно склонились на сторону Ленина, и от помощи в конечном итоге отказались. Троцкий же в скором времени был снят со своего поста, который занял более управляемый Чичерин.
Лоббист иностранного капитала
Касаясь проблемы «советского западничества», было бы весьма уместным вспомнить о том, что в 20-е годы прошлого века Троцкий был горячим поборником интеграции экономики СССР в систему международного хозяйства, которая тогда была сугубо капиталистической. В 1925 году он, неожиданно для многих, предложил весьма любопытный план индустриализации страны. Согласно этому плану, промышленная модернизация СССР должна была основываться на долгосрочном импорте западного оборудования, составляющем от 40 до 50 % всех мощностей. Импорт сей следовало осуществлять за счет экспорта сельскохозяйственной продукции. Кроме того, предполагалось активно задействовать иностранные кредиты.
Обращает на себя внимание то, что Троцкий предлагал наращивать советский экспорт за счет развития фермерских капиталистических (!) хозяйств. То есть в данном вопросе он встал на одну линию с Бухариным, который бросил призыв: «Обогащайтесь!». Подобная эволюция «вправо» позволяла Троцкому заключить союз с Бухариным и Сталиным, в то время категорически выступавшим против свертывания нэпа (на этом настаивали ультралевые — Зиновьев с Каменевым). Тем более что сам Троцкий в 1925 году занимал нейтральную позицию, облегчая Сталину и Бухарину борьбу с Зиновьевым и Каменевым. Кто знает, как тогда пошел бы ход истории…
Но в 1926 году бес мировой революции снова стукнул Троцкого в ребро, и он примкнул к левой оппозиции, что окончилось для него колоссальным проигрышем и в конечном итоге высылкой из страны.
Позднее Троцкий уже ни слова не говорил о фермерах и капиталистическом развитии села, однако ориентацию на включение СССР в экономическую систему мирового капитализма он так и не сменил. Призывы к ней периодически появлялись в так называемом «Бюллетене оппозиции» — печатном органе зарубежных троцкистов.
Здесь впору задаться вопросом — что же заставило Троцкого, столь яростного врага мирового капитала, возлагать столь большие надежды на этот самый капитал? Ведь не был же он, в самом деле, сторонником реставрации капитализма в СССР… Ясно, что эта реставрация не могла устроить Троцкого как конечная цель, но она же могла казаться ему весьма действенной как средство ликвидации «плохого» советизма ради «хорошего».
Наблюдая усиление сталинского национал-большевизма, грозящее полным забвением мировой революции в пользу «узконационального» строительства социализма в одной отдельно взятой стране, Троцкий постоянно думал о союзниках в борьбе против сталинизма. О настоящих союзниках, а не о Зиновьеве с Каменевым. Таковых он мог отыскать только за пределами СССР. Как и в 1917–1918 годах, ими оказались страны западной демократии, которым было невыгодно долгосрочное усиление советской державы. Но оно же было невыгодно и Троцкому, ибо уводило советских коммунистов в сторону от разлюбезной его сердцу мировой революции.
Союз Троцкого и западных капиталистов не мог быть равноправным, ведь в 20-е годы певца перманентной революции уже оттерли от реальной власти. Он представлял собой всего лишь оппозиционера, пусть и всемирно известного. В подобных условиях таким людям, как Троцкий, обычно бывает не до щепетильности, и они могут пойти на самые разные «финты». В том числе и на предательство идеи во имя ее же самой. Нужно было идти на громаднейшие уступки Западу, одной из которых была бы капитализация советской экономики.
Предатели на марше
Подобная логика заставила Троцкого в 30-е годы стать обычным стукачом. В эмиграции он предавал своих вчерашних товарищей по борьбе, сообщая американской администрации информацию о секретных агентах Коминтерна и о сочувствующих «сталинистским» компартиям. В конце прошлого века были опубликованы рассекреченные (за сроком давности) материалы госдепа, свидетельствующие о теснейшем сотрудничестве Троцкого с американцами. Так, 13 июля 1940 года «демон революции» лично передал американскому консулу в Мехико список мексиканских общественно-политических деятелей и государственных служащих, связанных с местной промосковской компартией. К нему прилагался список агентов советских спецслужб. Через пять дней, уже через своего секретаря, Троцкий предоставил подробнейшее описание деятельности руководителя нью-йоркской агентуры НКВД Энрике Мартинеса Рики. Помимо всего прочего Лев Давидович тесно сотрудничал с пресловутой Комиссией по антиамериканской деятельности палаты представителей США, всегда стоявшей в авангарде антикоммунизма и антисоветизма.
Простейшая логика подсказывает, что Троцкий не мог сдавать опытных агентов советской разведки, не имея своей агентуры в НКВД. Очевидно, в «органах», как и в других структурах СССР, у него всегда были искренние пособники. Достаточно вспомнить хотя бы упомянутого уже Блюмкина, занимавшего ответственный пост в ОГПУ. Причем обращает на себя внимание та быстрота, с которой его расстреляли. 31 октября 1929 года был выдан ордер на арест этого авантюриста, а 3 ноября коллегия ОГПУ уже приговорила его к высшей мере. А ведь Блюмкин начал давать показания о встречах в Турции с Троцким и его сыном. Складывается впечатление, что эти показания были очень невыгодны тем высокопоставленным чекистам, которые также имели тайные контакты с «демоном революции».
Предательство Троцкого не было каким-то исключением. Многие другие «пламенные революционеры», недовольные сталинской «контрреволюцией», также вполне успешно стучали на своих товарищей. В этом плане особенно выделяется Вальтер Кривицкий (Самуил Гинзберг), в середине 30-х годов бывший руководителем советской военной разведки в Западной Европе. Осознав «пагубность сталинизма», сей деятель сбежал на Запад, где стал громогласно обличать «тиранию» Сталина. Различные леваки и социал-демократы с радостью ухватились за эти разоблачения. Однако западным спецслужбам нужно было кое-что посущественнее. И, немного покочевряжившись, Кривицкий дал им всеобъемлющую информацию секретного характера. Его биограф Б. Старков, несмотря на все сочувственное отношение к, так сказать, предмету исследования, все же признал: «…Он был вынужден фактически предать своих товарищей… Как сообщает Г. Брук-Шефферд, он передал около 100 фамилий своих агентов в различных странах, в том числе 30 в Англии. Это были американцы, немцы, австрийцы, русские — бизнесмены, художники, журналисты» («Судьба Вальтера Кривицкого»).
Впрочем, были и такие «пламенные революционеры», которые сотрудничали с западными разведками еще задолго до сталинизма. В качестве примера можно привести жизненный путь Ф. Ф. Раскольникова, типичного представителя разгромленной Сталиным ленинской гвардии. Раскольников известен своим «смелым» письмом на имя Сталина, в котором он, находясь во Франции, обличал его «преступления против революции». Прославился этот несгибаемый большевик и своим поведением на посту командующего Балтфлотом — в тяжелейшие для страны дни он, вместе со своей семейкой, вел роскошную жизнь на глазах всего Кронштадта, чем в немалой степени спровоцировал известный мятеж тамошнего гарнизона. После мятежа партия доверила психически неуравновешенному Раскольникову возглавлять Главрепертком, и находясь на этом посту, тот чуть было не застрелил драматурга М. А. Булгакова.
Крайне интересен такой эпизод из жизни Раскольникова, как нахождение его в 1919 году в английском плену. Попав туда, он был перевезен в Лондон, где его переводчиком работал знаменитый Локкарт. Именно он добился того, что Раскольникова обменяли на пленных английских матросов и освободили еще до отправки в Россию. Ожидая возвращения «на родину», Раскольников вел привычный для себя образ жизни, обитая в роскошных гостиницах, нося дорогие костюмы и посещая лондонские театры. В этом ему способствовал все тот же Локкарт. Уже в 1937–1938 годах, будучи советским полпредом в Болгарии, Раскольников неоднократно встречался с Локкартом, что наводит на вполне определенные мысли. «Таким образом, — отмечает А. М. Иванов в работе „Логика кошмара“, — прославленный герой на поверку оказывается вульгарным английским агентом, и не случайно бедный невозвращенец жил в 1939 году на фешенебельных французских курортах на Ривьере».
Вот еще один пример невозвращенца-«ленинца» — Александр Бармин. Будучи поверенным СССР в делах Греции, сей «пламенный революционер» разочаровался в сталинизме и решил остаться на Западе. В эмиграции он даже вступил в контакт с Троцким, но затем отвернулся от коммунизма вообще. В 1945 году Бармин опубликовал книгу «Один, который выжил», где уже воспевал западную демократию и частное предпринимательство. Более того, он даже поступил на работу в американскую спецслужбу.
Несколько более сложную позицию занял невозвращенец Александр Орлов (Фельдбин), изнывавший под «сталинским игом» в советской разведке. Избавившись от него, этот «верный ленинец» написал письмо Ежову, в котором пригрозил, что, если его не оставят в покое, он выдаст «западникам» 62 советских агента и расскажет о всех крупных операциях НКВД. Орлова не тронули, и до смерти Сталина он хранил молчание, вполне обоснованно опасаясь мести. Но в 1953 году «тиран» умер, и наступили времена хрущевского либерализма. Тогда Орлов осмелел и рассказал все, что ему известно о деятельности советской разведки, заодно облив Сталина помоями. При всем при том он продолжал оставаться большим почитателем Ленина, вплоть до 1973 года.
Красное западничество как феномен
Изучая политическую историю XX века, неизбежно приходишь к мысли о том, что левый экстремизм просто обречен эволюционировать в сторону западного либерализма. В этом великолепно убеждает и пример Троцкого, и пример Бухарина. Последний в 1918 году был крайне левым, а в 20-е годы превратился в сторонника развития рыночных отношений. Причем закономерность подобной эволюции подтверждает не только отечественный опыт, но и пример зарубежных компартий. Так, Иосип Броз Тито, лидер югославских коммунистов, начал свое противостояние Сталину, выступая именно с позиций «возврата к ленинизму». На заседании политбюро ЦК компартии Югославии, прошедшем 1 марта 1948 года, вполне в троцкистском духе говорилось о перерождении СССР и утверждалось: «…Восстановление русских традиций — это проявление великодержавного шовинизма. Празднование 800-летия Москвы отражает эту линию… навязывается только русское во всех областях жизни… Политика СССР — это препятствие на пути международной революции…» Это уже позже, после разрыва с Союзом, титовцы пойдут на либерально-рыночные реформы и станут сотрудничать с Западом, а первоначально все начиналось с критики сталинской великодержавности и «национальной ограниченности».
Показателен пример еще одного левого экстремиста — Мао Цзэдуна — творца «культурной революции». Вдоволь порассуждав о пользе ядерной войны для мировой революции, поразоблачав СССР в контрреволюционности и отправив на тот свет десятки миллионов китайцев, Мао в начале 70-х годов пошел на стратегический союз с США, который был сорван только после его смерти, разгрома левацкой «банды четырех» и прихода к власти прагматика Дэн Сяопина.
Все это не случайно — р-р-революционная горячка и левачество так же вредны, как и рыночно-демократические эксперименты. Из леваков скорее всего выйдет либерал или агент западных спецслужб, ибо «троцкистов» всех мастей и «капиталистов» объединяет подчеркнутая ненависть к традиционным ценностям и национальной самобытности.
К сожалению, смерть Сталина помешала вытравить до конца утопизм, космополитизм и экстремизм некоторых положений Марксова учения, которые дали свои ядовитые всходы в 50–80-х годах. Левый экстремизм бывшего троцкиста Хрущева был проявлением «синдрома мировой революции». Стремительное политическое наступление на Запад, чуть не приведшее к мировой войне, сопровождалось заигрыванием с ним же и заимствованием многих его цивилизационных установок. Воспроизводилась «старая добрая» модель поведения Троцкого, парадоксальным образом сочетающего антизападную революционность и западничество. Но, в отличие от своих предшественников, советские неотроцкисты все-таки победили — хрущевизм, временно остановленный осторожными брежневскими партаппаратчиками, возродился при Горбачеве. Тогда начались разговоры о «ленинском социализме», о том, что «революция продолжается». Произошла реабилитация Троцкого и иже с ним. Окончилось все, правда, торжеством в России самого дикого и прозападного капитализма. Но ведь примерно того же и хотел Троцкий.
Сознание Троцкого было сформировано на основе преклонения перед буржуазным Западом, его научно-промышленной мощью. Троцкий не верил в то, что Россия способна сама построить социализм или хотя бы серьезно поднять свое хозяйство. «Отстояв себя в политическом и военном смысле как государство, — писал он в 1922 году, — мы к созданию социалистического общества не пришли и даже не подошли. Борьба за революционно-государственное самосохранение вызвала за этот период чрезвычайное понижение производительных сил; социализм же мыслим только на основе их роста и расцвета… Подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата в важнейших странах Европы» («Программа мира»).
Сердце Троцкого принадлежало Западу, в особенности — США, с чьими спецслужбами он сотрудничал на закате своей жизни. Еще до событий 1917 года «демон революции» предсказывал их хозяйственное и культурное доминирование во всем мире. Вот отрывок из его воспоминаний об «открытии Америки» в 1916 году: «Я оказался в Нью-Йорке, в сказочно-прозаическом городе капиталистического автоматизма, где на улицах торжествует эстетическая теория кубизма, а в сердцах — нравственная философия доллара. Нью-Йорк импонировал мне, так как он вполне выражает дух современной эпохи».
И надо сказать, что Западу Троцкий тоже импонировал. В том числе — и некоторым западным капиталистам. Вообще, как это ни покажется странным, но многие деловые круги на Западе были весьма заинтересованы в развитии революционного движения. Марксисты были убеждены в необходимости и неизбежности отмирания как наций, так и государств. Поэтому они своей деятельностью способствовали стиранию национально-государственных различий, что на руку транснациональному капиталу. К тому же на революциях в некоторых странах можно очень неплохо поживиться, используя свои связи среди самих революционеров.
Еще в начале XX века Троцкий активно сотрудничал с немецким социал-демократом Гельфандом Парвусом, который по совместительству успешно торговал. Одно вовсе не мешало другому. Так, прогрессивное требование создания «Соединенных штатов Европы», которое упорно выдвигал Троцкий, весьма отвечало интересам зерноторговцев, способствуя устранению таможенных барьеров. «Таможенные барьеры стали препятствием для исторического процесса культурного объединения народов, — писал Парвус. — Они усилили политические конфликты между государствами».
Очень любопытные данные, подтвержденные источниками, приводит американский историк Э. Саттон в книге «Уолл-стрит и большевистская революция». Согласно ему, Троцкий имел теснейшие контакты с банковскими кругами Америки. Связь осуществлялась через его родственника Абрама Животинского, некогда бывшего банкиром в Киеве, а потом эмигрировавшего в Стокгольм. Сам Животинский был настроен антисоветски, но охотно помогал «молодой советской республике» в заграничных операциях с валютой.
Когда Троцкий снова оказался в эмиграции, на этот раз уже по воле «красного царя», капиталисты не оставили в беде своего яростного обличителя. Буржуазная пресса охотно предоставила ему страницы своих изданий. «Демон революции» печатался даже в люто реакционной газете лорда Бивербрука, обосновывая это тем, что у него якобы нет денег. Однако биограф Троцкого и его искренний почитатель И. Дейчер признается, что бедность его кумиру никогда не грозила. Только проживая на Принцевых островах, он имел доход 12–15 тысяч долларов в год. В 1932 году буржуазная газета «Сатердей ивнинг пост» заплатила ему 45 тысяч долларов за издание книги «История русской революции».
Закон всех деловых людей гласит: «Ты — мне, я — тебе». Лев Давидович тоже частенько помогал представителям столь ненавистной ему «мировой буржуазии». Так, в 1923 году он оказал весьма своевременное содействие семейной фирме американских предпринимателей Хаммеров «Эллайд америкэн», точнее, ее московскому филиалу «Аламерико». Наркомат внешней торговли тогда склонялся к мысли аннулировать привилегии, которые советское правительство дало этим предприимчивым буржуа. Инспекция наркомата после проверки счетов Арманда Хаммера установила, что «Аламерико» получает чрезмерные прибыли. Оказалось, что она списывает огромные суммы на личные расходы, предоставляет необоснованные скидки партнерам и перечисляет деньги третьим лицам. Договор компании с Фордом, по которому Хаммеры осуществляли посредничество в деле продажи тракторов в Советскую Россию, был признан «вредным» и «наносящим ущерб» нашей стране. Был принят компромиссный вариант. «Аламерико» должна была сойти со сцены, но не сразу. Ей позволили торговать лицензиями, получая от этого повышенные комиссионные, но до тех пор, пока она не окупит расходы. Некоторое время фирма должна была сотрудничать с Фордом, но под строгим контролем особых советских организаций. Вскоре возникла одна из них, «Амторг», руководитель которой И. Хургин объявил, что берет на себя деловые связи Хаммеров с Фордом.
Отец знаменитого Арманда Хаммера, Джулиус, навестил тогда еще всесильного Троцкого. Они были хорошо знакомы по совместной подрывной деятельности, осуществляемой в Нью-Йорке в январе 1917 года. Тогда Троцкий еще не был большевиком, но многое сделал для активизации левого крыла Социалистической партии США, в которой состоял Джулиус Хаммер. Хаммер попросил вождя Красной Армии помочь поддержать его посреднические контакты с Фордом. Ну и «как не пособить родному человечку»? Троцкий сделал все от него зависящее, и Хургину приказали держаться Хаммеров. Наверное, тот проявил несговорчивость, поскольку через некоторое время его труп, обвешанный цепями, извлекли из озера Джордж (штат Нью-Йорк).
Приходится признать, что контакты Зиновьева и Каменева с Троцким были одной из причин начала массового террора. Не казнить их было нельзя, но сам факт казни старых большевиков создавал важный прецедент. Руководство перешло некоторую черту, после которой уже никто не мог рассматриваться в качестве фигуры неприкосновенной ввиду прежних заслуг и принадлежности к «ленинской гвардии».
Раньше старых большевиков из ленинского окружения рассматривали как неких божеств, входящих в состав блистательного пантеона. Исключение составлял Троцкий, но он-то как раз и не был старым большевиком. В партию «демон революции» вступил только летом 1917 года. То ли дело Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков. Пусть они и пали с вершин пантеона, переместившись на уровень второстепенных божеств, ореол вокруг них все же сохранялся. Теперь боги были низвергнуты на землю.
Глава 8. Под прицелом — Сталин
Компрометация Молотова
В августе 1936 года прошел первый московский процесс. На скамье подсудимых собрали участников единого антисталинского блока, сложившегося в 1932 году: Зиновьева, Каменева, Смирнова, Мрачковского и т. д. Подсудимые много рассказывали о своих подлинных и мнимых прегрешениях, создавая весьма эффектную амальгаму. Среди прочих преступлений была и подготовка терактов против руководителей партии и государства. И тут произошла маленькая сенсация. Заговорщики не назвали в числе объектов покушения Молотова, бывшего вторым лицом в советской иерархии.
Само собой, это было не случайно. По логике тех лет, отсутствие Молотова в списках кандидатов в жертвы могло означать только то, что он не представляет особой опасности для террористов. А если Молотов не опасен, то, может быть, он и сам действовал заодно с врагами? Именно такими вопросами задавались люди, читавшие отчет о судебном процессе.
Кому-то было очень выгодно скомпрометировать Молотова. Очевидно, такая компрометация была первым шагом к началу шельмования председателя правительства. А само шельмование должно было завершиться падением этого политического исполина. И уж само падение неминуемо привело бы его на скамью подсудимых.
Возникает вопрос — кому же было выгодно красноречивое молчание подсудимых, не включивших Молотова в почетный список будущих жертв? Историки-антисталинисты, по старой своей привычке, валят все на Сталина. При этом сам Молотов объявляется верным и кровожадным сталинским сатрапом.
Ответ всегда дается невразумительный. Наиболее вдумчивые антисталинисты пытаются выискать какие-то разногласия между Сталиным и Молотовым по вопросу текущей политики. Иногда ссылаются на данные невозвращенца Орлова, который уверял, что Молотов был категорически против организации процесса над Зиновьевым и Каменевым.
Вот уж позвольте не поверить! Чтобы Молотов жалел Зиновьева и Каменева? Это уже фантастика. Причем антисталинисты опять же противоречат сами себе. То у них Молотов — кровавый сатрап, а то прямо какой-то либерал-правозащитник.
В. Роговин с превеликой осторожностью допускает более правдоподобную версию, согласно которой Молотов серьезно расходился с вождем по вопросам о концепции народного фронта. Вячеслав Михайлович был против объединения коммунистов с социал-демократами и иными центристами, поэтому и рассорился с Иосифом Виссарионовичем. Но ведь в том-то и дело, что и сам Сталин не был горячим поборником идеи народного фронта. Ему эту, как показала практика, совершенно проигрышную идею навязали.
В 1934 году в Коминтерне резко усиливаются позиции Г. Димитрова, блестяще выигравшего поединок с Герингом на процессе о поджоге рейхстага. У Димитрова были свои представления о перспективах развития коммунистического движения. В апреле — июне 1934 года Димитров настойчиво пытался убедить Сталина отказаться от прежней теории «социал-фашизма», отождествляющей социал-демократов и фашистов. 1 июля он написал вождю письмо, в котором спрашивал, верна ли по-прежнему жесткая линия в вопросе о социал-демократии. Сталин ответил, что верна.
А уже 27 июля 1934 года во Франции коммунисты и социалисты подписали пакт о единстве действий против фашизма. Но ведь никакого курса на создание народного фронта тогда не проводилось. Что же, Москва никак не контролировала французских коммунистов, предоставляя им полную свободу политических маневров? Рушится миф о контроле ВКП(б) над Коминтерном?
А если взглянуть на это с другого боку? Если признать, что Сталин тогда еще не имел единоличной власти и был вынужден считаться с мнением неких влиятельных политических сил? Вот тогда все становится на свои места.
Дальнейшее развитие событий только подтверждает явное нежелание Сталина соглашаться с идеей народного фронта. Он тянул до октября, когда Димитров написал ему нечто вроде ультиматума. 15 октября Сталин получает от него письмо, в котором болгарский коминтерновец резко критиковал руководство самого Коминтерна (то есть того же Сталина) и требовал решительного поворота в сторону объединения с социал-демократами. Через десять дней Сталин ответил Димитрову согласием. Но даже и тогда он дотянул созыв очередного, VI конгресса Коминтерна (на котором и планировалось принять новую концепцию) до мая 1935 года. Очевидно, за это время вождь пытался противодействовать сторонникам народного фронта. Уже на самом конгрессе Сталин вел себя подчеркнуто отстраненно. Он не выступал с речами и докладами и почти не присутствовал на заседаниях. За месяц работы конгресса Сталин появился там один, от силы — два раза, причем садился в президиум так, чтобы его закрывала колонна.
Совершенно очевидно, что сломить упорное сопротивление Сталина могла только очень влиятельная сила в партии и государстве. Ни Димитрову, ни кому бы то ни было из руководства Коминтерна такое было не под силу. Логичнее всего предположить, что таковой силой были левые консерваторы. Вряд ли кто-то иной мог добиться таких политических побед над вождем.
Регионалы были крайне напуганы укреплением фашизма. Война их явно не устраивала, она была бы концом спокойного и привольного хозяйничанья в их «уделах». В этом левые консерваторы были едины со Сталиным, который не хотел войны, исходя из общенациональных интересов. Поэтому и он, и они считали нужным сближаться с западными демократиями, пытаясь выстроить систему коллективной безопасности. Но Сталин полагал, что войны можно избежать и путем сближения с Германией. Как гибкий политик, он считал необходимым иметь несколько вариантов, с тем чтобы можно было выбирать, исходя из смены внешнеполитической ситуации.
Вот этот подход и не могли взять на вооружение левые консерваторы. К тому же многие из них были настроены крайне германофобски, чему в определенной мере способствовало этническое происхождение некоторых из них. Так, С. Косиор, этнический поляк, был ярым ненавистником немцев. Во время дискуссий, развернувшихся вокруг заключения мира в Бресте, он занял совершенно антиленинские позиции, при этом не будучи «левым коммунистом».
Приведу любопытный отрывок из воспоминания Косинова — помощника Косиора. Тому было поручено написать биографию своего босса. Старательный помощник решил собрать побольше материала из, так сказать, первоисточника. Он провел несколько вечеров в беседах с Косиором, который вспоминал вехи своей жизни. И вот разговор зашел о событиях 1918 года. Между начальником и подчиненным состоялся такой диалог:
«— Как вы, Станислав Викентьевич, могли не понять правильность позиции В. И. Ленина в этом вопросе? Ведь вы так близко к нему стояли, жили одними мыслями — и вдруг какое-то сомнение.
— Вам этого не понять, Косинчик, для вас история решается очень просто.
— Так вы же, Станислав Викентьевич, левым никогда не сочувствовали, и вдруг ваши позиции сошлись.
— Да что вы, Косинчик, понимаете в психологии человека? Не все в душе человека отображается так прямолинейно. Левые тут ни при чем. Дело происходило много сложнее. Очевидно, какое-то влияние на меня имело настроение Дзержинского, позицию которого я никак не связывал с позицией левых…
— А как Ленин воспринял вашу ошибку?
— Воспринял он правильно. Как всегда, Ленин был непримирим к любым колебаниям. Сначала был страшно возмущен. И лишь позже стал мягче: „Ненависть к немецким империалистам вас ослепила, — сказал он. — А в вопросах политики надо иметь трезвый ум и не идти на поводу у чувств. Ну что же, ненавидите немецких захватчиков, поедете на Украину!“».
Между прочим, ситуация на Украине была довольно специфической. Очень сильные позиции здесь имели выходцы из тамошней партии левых эсеров, именовавших себя «боротьбистами». Так, одно время бывший «боротьбист» Любченко возглавлял Совнарком республики. По многим данным, именно он был одним из самых ярых противников Сталина в Украинской компартии. А ведь левые эсеры были в свое время горячими поборниками революционной войны с кайзеровской Германией. В этом они сходились и с левыми коммунистами, на чьих позициях стоял и Косиор.
Явно не отличался любовью к немцам и латыш Эйхе. В 1934 году он сигнализировал в ЦК «о саботаже по хлебоуборке и активизации фашистских проявлений на почве получения гитлеровской помощи». «Саботаж» и «активизация» якобы имели место в колонии советских немцев, живущих в Западной Сибири. По собственной инициативе Эйхе направил на территорию проживания немцев спецвойска НКВД, устроившие там массовые расстрелы.
Понятно, что красные бароны просто не были способны вместить в себя сталинскую диалектику международных отношений. Они думали-думали, да придумали (с подачи таких международных деятелей комдвижения, как Димитров) дополнить усилия по сближению России с Англией и Францией еще и усилиями по сближению с европейской социал-демократией. Последняя как раз и ориентировалась на страны западной демократии, будучи в восторге от тамошней политической и экономической системы. Сталин же предпочитал договариваться не со слугами, а с хозяевами — деловыми и военными кругами Англии и Франции. Он и от них-то не ожидал особых результатов, но объединение с эсдеками считал просто «дохлым номером». И был прав. В Испании, где победил Народный фронт, левые социал-демократы попытались немедленно скопировать опыт Ленина, а правые — просто-напросто сдали летом 1939 года Мадрид войскам генерала Франко. А во Франции, где также было создано правительство Народного фронта, сами социалисты уже в 1937 году разорвали пакт о единстве действий с коммунистами. Народный фронт возник еще в далекой Чили, но и там от него тоже не было особого проку.
Сталина частенько поругивают за его нелюбовь к социал-демократии. Вспоминают о том, как он отождествлял ее с фашизмом. Уверяют, что разреши вождь немецким коммунистам союз с социал-демократами, и не было бы Гитлера, а значит, не было бы и войны. Эти «соображения», чрезвычайно распространенные в дурную эпоху перестройки, не учитывают многих исторических реалий. Начать хотя бы с того, что и сами европейские социал-демократы отождествляли коммунистов с фашистами. Так же, как и Сталин. Ими был даже изобретен термин — «коммуно-фашизм». Они отличались крайне антисоветским настроем и где только возможно мешали сближению с нашей страной. Особенно вредной была позиция немецких эсдеков, всячески пытающихся сорвать советско-немецкое военное сотрудничество. Их активисты даже подговорили в 20-е годы грузчиков Гамбургского порта разбить несколько ящиков с военными грузами, тайно доставляемыми из СССР. Когда ящики были разбиты и их содержимое стало достоянием публики, социал-демократы немедленно устроили скандал в парламенте.
С такими «союзничками» было бы очень сложно остановить Гитлера. Но представим себe, что в Германии возник бы народный фронт и из него вышел бы какой-нибудь толк. Фюрера бы к власти не пустили, но к ней пришли бы именно социал-демократы, бывшие намного сильнее коммунистов. Вот тогда в Европе и образовался бы единый антисоветский фронт, включающий в себя три наиболее развитые промышленные державы — Англию, Францию и Германию. Веймарская республика все же не порывала своих дружеских связей с Россией, но абсолютно прозападная социал-демократия сделала бы это легко. Используя промышленный потенциал Германии, воссоздав ее армию, объединенная антисоветская коалиция двинулась бы на СССР. И в армии захватчиков нашлись бы места и нацистам, и коммунистам, и, само собой, социал-демократам. Вспомним, что на стороне Гитлера вполне дисциплинированно воевали бывшие коммунисты и социал-демократы. А почему бывшие нацисты не могли также дисциплинированно воевать под чутким руководством социал-демократов?
Война грянула бы намного раньше, где-нибудь в начале 30-х годов. И надо ли напоминать о состоянии нашей армии в то время? А так приход Гитлера к власти запутал геополитическую ситуацию в Европе. Западные демократии оказались меж двух огней — национал-большевистской Россией и национал-социалистической Германией. Им пришлось маневрировать, сближаясь то с первой, то со второй и при этом еще и науськивая их друг на друга. Эта сложность, по большому счету, и затянула развязку с мировой войной. Веймарская же республика все равно дышала на ладан. И приход там к власти левых сил во главе с антисоветски настроенными социал-демократами сделал бы ситуацию довольно однозначной — в плане развязывания войны против СССР. Ведь не секрет, что западные демократии считали своим главным врагом именно красный Восток.
Но почему социал-демократы все же пошли на союз с коммунистами, одобрив идею народного фронта? Просто им захотелось получить лишнюю политическую выгоду. Чем враждовать, сталкиваясь лоб в лоб, и получать шишки, рассуждали вожди Социалистического интернационала, лучше уж коммунистов обмануть, войти с ними в союз, а потом и подчинить своей воле, используя собственное преимущество. Это и попытались сделать французские и испанские социалисты. У них, правда, ничего не получилось, тут Сталин был начеку. Но страны свои они подразвалить успели. В результате испанским социалистам «дал пинка» Франко, а французским — Гитлер. «Финита ля комедия».
Вот против этой комедии и выступал Сталин. А то, что против нее был и Молотов, явно опровергает версию о наличии у него серьезных разногласий с вождем. Молотов вообще был самым сильным звеном в цепи сталинского окружения. Отдалять столь сильного соратника от себя, компрометировать его было бы безумием. Конечно, между Молотовым и Сталиным существовали некоторые разногласия в вопросах теории, например в формулировке основного принципа социализма. Но они не были острыми и не касались вопросов текущей политики. Сталин вообще не очень-то жестко относился к разным идеологическим излишествам. Для того чтобы отказать в доверии Молотову, нужны были более актуальные вещи. После войны Молотов самочинно стал делать уступки западным странам, вот тогда (никак не раньше) Сталин выступил против него. И то их ссоpa не была вынесена из избы, а самого Молотова не сняли с поста и не репрессировали.
По всему выходит, что в компрометации Молотова Сталин заинтересован не был. У Вячеслава Михайловича был другой, очень сильный противник. Такой же, как и у Сталина. Кто же он?
Звездный час Серго
На ум сразу приходят все те же региональные бароны. Без них явно не обошлось бы. Но, конечно, одни они в атаку не пошли бы. Да и какую возможность имели косиоры и эйхе прямо повлиять на показания подсудимых? Здесь нужен был «железный нарком» Ягода, который очень «плотно» работал с Зиновьевым, Каменевым и прочими подследственными. Скорее всего, он и добился исключения Молотова из числа несостоявшихся красных «великомучеников».
Роль Ягоды в оправдании «правых» очевидна. Даже Р. Конквест, автор известного антисталинского триллера «Большой террор», признает: «Временная реабилитация Бухарина и Рыкова была объявлена без единого их допроса. Тем не менее вряд ли можно сомневаться, что политическое решение об их реабилитации сопровождалось, по крайней мере формально, рапортом НКВД о сомнительности выдвинутых против них обвинений… Возможно, что Ягода как-то пытался смягчить судьбу участников оппозиции… Есть также сообщения о том, что внутри самого НКВД было некоторое сопротивление террору, что следователи ставили вопросы в такой форме, чтобы предостеречь и даже защитить подозреваемых».
Но ведь подсудимые «оговорили» и Бухарина с Рыковым. Что же, Ягода навредил лидеру своей же политической группировки? Нет, тут все гораздо тоньше и просчитывается лишь на уровне хитрой многоходовой комбинации. Как известно, через несколько дней после августовского процесса с Бухарина и Рыкова были сняты все обвинения. Это было их триумфом. Сначала людей обвинили, а потом оправдали, — что может быть лучше в плане отбеливания сомнительных фигур? Бывшие лидеры правого уклона нажили себе неплохой политический капитал, который им, правда, не очень помог в ближайшее время. По сути, была сделана попытка полной и окончательной реабилитации Бухарина и Рыкова.
А как же быть с Томским, который застрелился, узнав о показаниях на процессе? Есть все основания полагать, что Томский вообще хотел отойти от группы Бухарина и находился в состоянии стресса. Об этом свидетельствует и написанное им письмо, в котором он рассказал о роли Ягоды. Томский не выдержал напряжения и покончил жизнь самоубийством, он, несомненно, был «слабым звеном» бухаринской оппозиции. А может, ему и «помогли». В НКВД это хорошо умели делать.
Консенсус между регионалами и «правыми» был невозможен без Орджоникидзе, который связывал эти две фракции воедино. Он был близок к группе регионалов, но как ведомственный магнат имел свои собственные интересы и потому сохранял независимость от самой группы. С другой стороны, Серго был очень близок к бухаринской группировке. С самим Бухариным у него были очень хорошие, дружеские отношения. Когда Бухарина сняли с высоких партийных постов, его подобрал именно Орджоникидзе. Он устроил Бухарина на место заведующего объединенным научно-исследовательским и технико-пропагандистским сектором НКТП. Часто Бухарин прибегал к помощи Орджоникидзе, чтобы избавить себя от критики чересчур злопамятных партийцев. Во время большой партийной чистки он писал ему письма с просьбой о защите. Вот, например: «Дорогой Серго. Извини, ради Бога, что я к тебе пристаю. У меня к тебе одна просьба: если меня будут чистить… то приди ко мне на чистку, чтобы она была в твоем присутствии». В декабре 1936 года на пленуме ЦК Орджоникидзе фактически выступил в защиту Бухарина, подтвердив, что тот плохо отзывался о Пятакове, одном из лидеров «левых». После смерти Серго Бухарин скажет: «Теперь надеяться больше не на кого».
Группа Бухарина, сильная своими позициями в НКВД, была нужна Орджоникидзе для противовеса группе регионалов. Сам же он мыслил себя именно в центре этих качелей, первым среди равных, мудрым «технократом», направляющим развитие страны. И он был очень близок к тому, чтобы выдвинуться на первое место, оттеснив Сталина. Серго удовлетворял запросам всех политических групп, кроме сталинской. Он явно не желал лезть в вожди и был, в принципе, удовлетворен своим положением ведомственного диктатора. Ведущая роль в партии ему была нужна для того, чтобы не допустить создания монолитного национал-большевистского единства, которое враз бы покончило с групповщиной и местничеством.
Конец августа — начало сентября были неким звездным часом в политической жизни Орджоникидзе. В это время он предпринимает нечто вроде наступления. Оно было призвано продемонстрировать его кадровое могущество. Орджоникидзе образцово-показательно приказывал прекратить все политические дела, заведенные на работников его «вотчины» — тяжелой промышленности. Например, 28 октября он потребовал от Ежова восстановить в партии директора Кыштымского электролитного завода Курчавого. Тот был исключен из ВКП(б) за связь с троцкистами. Теперь, по требованию Орджоникидзе, его восстановили. А 31 августа Орджоникидзе выступил на Политбюро в защиту директора Криворожского металлургического комбината Я. И. Весника, также исключенного за содействие троцкистам. На заседании ПБ было принято постановление о работе Днепропетровского обкома ВКП(б). В нем Весник и заместитель Ильдрым были взяты под защиту высокого партийного руководства. Члены ПБ направили в адрес обкома специальную телеграмму, в которой предписывалось прекратить любые преследования Весника. А несколькими днями позже, 5 сентября, в «Правде» была помещена информация о пленуме Днепропетровского обкома. На нем критиковались организации, допустившие «элементы перехлестывания, перегибов, мелкобуржуазного страховочного паникерства». Пленум снял с поста секретаря Криворожского горкома.
В начале сентября Орджоникидзе вынудил Вышинского прекратить уголовное дело против нескольких инженеров Магнитогорского металлургического комбината.
Но, пожалуй, наиболее характерная история произошла с директором саткинского завода «Магнезит» Табаковым. 29 августа 1936 года газета «Известия» опубликовала статью своего челябинского корреспондента. Называлась она вполне в духе тех лет — «Разоблаченный враг». В ней сообщалось о том, что директор Табаков был изобличен в связях с троцкистами и исключен за это из партии. Орджоникидзе как будто ждал этой статьи и немедленно организовал крупномасштабную проверку. И уже (вот это оперативность!) 1 сентября ЦК принимает специальное решение, в котором с Табакова были торжественно сняты все обвинения.
Обращает на себя внимание схожесть «почерка». И в случае с обвинениями в адрес лидеров правого уклона, и в деле Табакова наблюдается задействование схожих технологий «отбеливания». Сначала людям предъявляют страшные обвинения, а потом их торжественно оправдывают. А если вспомнить, что газету «Известия» редактировал именно Бухарин, то все становится абсолютно понятно.
Любопытно, что еще и раньше наркомат Орджоникидзе практически не подвергся партийным чисткам. Например, во время так называемого «обмена документов», проходившего весной-летом 1936 года, из 832 номенклатурных работников НКТП было уволено всего 11, из них 9 исключили из партии и арестовали.
Теперь же Орджоникидзе наступал. В августе и в начале сентября действовала и усиливала свои позиции одна и та же спайка, один и тот же блок, во главе которого стоял «король тяжпрома».
Куда же глядел Сталин? А есть все основания полагать, что его в то время никто ни о чем особо и не спрашивал. На стыке двух месяцев, августа и сентября, Иосифа Виссарионовича вообще не было в столице, он находился на отдыхе в Сочи. Практически все руководители — Калинин, Ворошилов, Чубарь, Каганович, Орджоникидзе, Андреев, Косиор, Постышев — вернулись из отпуска 27 августа. Чуть позже прибыл Молотов. Только Сталин продолжал оставаться в Сочи. Вопросы о лидерах «правого уклона» и о вредителях были решены в его отсутствие. И это показатель того, что вождь на тот момент находился в состоянии некоей изоляции.
Но что же все-таки послужило причиной столь резкого усиления оппозиции? Очевидно, произошли определенные подвижки в сталинской группировке. Там появились колеблющиеся, готовые перебежать на другую сторону.
К таким колеблющимся можно, с большой долей вероятности, отнести Кагановича. Его считают тенью Сталина, но ведь тень — она на то и тень, чтобы уменьшаться или даже исчезать в зависимости от «движения» солнца. Вообще любой человек гораздо сложнее, чем то стереотипное мнение, которое складывается о нем. Каганович тоже был вовсе не так прост, как его пытаются изобразить. Любопытно, что наша антисталинская историческая школа грешит теми же шаблонами, что и официальная советская. Ее представителям и в голову не может придти, что какие-то деятели сталинского окружения могли позволить себе определенные уклонения от «нормы». Есть готовая схема, есть привычный образ, и ничего за их рамки выйти не может.
Но не будем уподобляться догматикам от либерализма. Задумаемся над таким вопросом: а не могла ли произойти определенная эволюция во взглядах Кагановича за время его пребывания на посту наркома транспорта? В 1934 году на XVII съезде Каганович жестко критиковал руководителей наркоматов. Но ведь тогда он не занимал пост наркома, а был, прежде всего, секретарем ЦК. Ясно, что за два года работы в экономическом наркомате «железный Лазарь» не мог не подвергнуться влиянию узковедомственного духа, царившего в таких заведениях.
Исследования американского историка А. Риза, опиравшегося на архивные источники, показывают, что в 1936 году Каганович был очень близок к Орджоникидзе. Их переписка отличается подчеркнутым дружелюбием. Два наркома-хозяйственника исходили из своих ведомственных интересов. Так же как и Орджоникидзе, Каганович протестовал против любых попыток тронуть кого-нибудь из работников своей отрасли. В публичных выступлениях Кагановича в тот период содержатся призывы избежать массовых преследований «вредителей». На основании изученных источников Риз пришел к выводу, что и Орджоникидзе, и Каганович на определенном этапе сумели установить неплохие отношения с НКВД. Что ж, неудивительно, если учесть, что и Ягода, и Орджоникидзе «дружили против» Сталина вместе с одним и тем же человеком — Бухариным.
Не следует сбрасывать со счетов и того, что старший брат Кагановича, Михаил Моисеевич, был в то время одним из заместителей Орджоникидзе. Перед нами типичный ведомственный клубок, характеризующийся тесным переплетением аппаратных связей. Такие клубки, впрочем, существовали и в партийных организациях. Сталин их ненавидел страшно, а про организованную в кланы бюрократию говорил — «проклятая каста». Теперь эта каста брала вождя за горло, причем с участием его же соратников.
Именно Каганович присутствовал на очной ставке Бухарина и Рыкова с Сокольниковым, который давал показания против «правых». После беседы Каганович доверительно сказал Бухарину о Сокольникове: «Все врет, б…, от начала и до конца! Идите, Николай Иванович, в редакцию и спокойно работайте». Какая трогательная забота!
Можно предположить, что Каганович был настроен не столько против Сталина, сколько против Молотова. Будучи председателем правительства, Молотов неоднократно пытался образумить ведомственных баронов. Мы уже видели, насколько серьезные разногласия у него были с Орджоникидзе, пытавшимся выпускать меньше продукции при увеличении капиталовложений. Но в любом случае позиция Кагановича в 1936 году была объективно антисталинской. Очевидно, именно это и привело к резкому усилению оппозиции, которая потребовала крови Молотова. В сущности, оппозиция уже переставала быть оппозицией.
Позже, когда вождь возьмет реванш за свои временные неудачи, Каганович вернется на сталинские позиции. В попытке реабилитировать себя в глазах Сталина он развернет беспрецедентную кампанию по борьбе с вредителями в своем наркомате. И так уж получится, что этот «верный изменник» будет прощен.
О том, что ряды сталинистов дрогнули, свидетельствует поведение «дедушки» Калинина. И. М. Гронский, редактор «Известий», а затем и «Нового мира», сообщает о следующих словах председателя ЦИК, сказанных в адрес вождя в 1936 году: «Сталин — это не Ленин. Ленин на десять голов был выше всех окружающих его людей, он ценил всякого образованного, умного, толкового работника и пытался его сохранить. У Ленина все бы работали — и Троцкий, и Зиновьев, и Бухарин. А Сталин — это не то: у него нет ни знаний Ленина, ни опыта, ни авторитета. Он ведет дело к отсечению этих людей». Калинин и раньше не очень жаловал Сталина. В 20-е годы Михаил Иванович говорил о генсеке: «Этот конь когда-нибудь завезет нашу телегу в канаву». Он, как и Ворошилов, был по своим взглядам ближе к Бухарину и Рыкову. И только неуклонное усиление Сталина вынудило хитроватого «дедушку», работающего под простачка, решительно встать в ряды сталинистов.
Усиление оппозиции сильно отразилось на внешней политике страны. Оппозиция хотела продолжать свою прежнюю политику народного фронта. В связи с этим она добилась того, что СССР оказал поддержку республиканской Испании против мятежников Франко. Сталин поддерживать республиканцев явно не хотел. Его никак не радовала перспектива противостоять Германии и Италии, патронировавшим мятежного генерала. И самое главное — во имя чего? Победа левых сил в Испании была вождю совершенно не нужна. В противном случае он поддержал бы испанских коммунистов и социалистов еще в 1934 году, во время рабочего восстания в провинции Астурия (чего сделано не было). Испания буквально кишела троцкистами, анархистами и прочими леваками, которые были настроены враждебно в отношении сталинистской Компартии Испании (КПИ). Если бы они взяли верх в ходе политической борьбы, то Испания вполне могла стать полигоном для реализации левацких проектов, не укладывающихся в схему сталинского национал-большевизма. А такая угроза реально была. Те же самые анархисты контролировали многие районы, где они терроризировали местное население. Особенную ярость леваков вызывали католические монахи и монахини, которых они уничтожали и насиловали, закрывая и даже разрушая сами монастыри. Вообще в республиканскую Испанию съезжался авантюристический сброд со всего мира, создавая питательную среду для явных и скрытых троцкистов.
Показательный факт. Два высокопоставленных невозвращенца, занимавших видные посты в советской разведке, И. Райсс и упоминавшийся уже Кривицкий, решили порвать со Сталиным и поддержать Троцкого еще в 1936 году. Тогда от этого шага их удержало только желание использовать свои посты в разведке для оказания помощи испанской революции.
Исходя из всего этого Сталин первоначально решил не поддерживать республиканцев, заняв позицию невмешательства. Еще в первых числах сентября 1936 года Литвинов писал советскому послу в Мадриде М. Розенбергу: «Вопрос о помощи испанскому правительству обсуждался у нас многократно, но мы пришли к заключению о невозможности посылать что-либо отсюда». И все-таки 6 сентября руководство приняло решение продать республике самолеты через Мексику. Решение это, кстати сказать, саботировалось в течение трех месяцев, очевидно, самим Сталиным, который резонно считал, что назначенные к продаже самолеты больше пригодятся нашей армии. Инициатива перешла к представителям ленинской гвардии, по инерции мыслящим в категориях прежнего интернационализма. И ничего переиграть уже было невозможно.
Правда, Сталин сделал все, чтобы предотвратить «социалистическую революцию» в Испании. По большему счету именно он, а не Франко, спас испанцев от ужаса левого экстремизма, который повторили бы в этой стране социалисты, анархисты, троцкисты. Повторили бы, дай им Сталин волю.
Однако вождь СССР скомандовал революции: «Стоп!» 21 декабря 1936 года он, вместе с Молотовым и Ворошиловым, направил телеграмму испанскому премьер-министру Ларго Кабальеро. В телеграмме было высказано пожелание воздержаться от конфискации имущества мелкой и средней буржуазии, заботиться об интересах крестьян, привлекать к сотрудничеству представителей не только левых организаций. А коммунистам строго предписывалось забыть о всякой революции.
И они забыли. Компартия Испании стала ориентироваться на средний класс и говорить больше о национальной независимости, чем о социализме. Во время гражданской войны ее ряды пополняли главным образом мелкие предприниматели, офицеры, чиновники. По сути КПИ занимала позиции национального, патриотического социализма. Но только ее национальный социализм, в отличие от гитлеровского, был свободен от ксенофобии и шовинизма.
Обращает на себя внимание то, что оправдание «гуманиста» и германофоба Бухарина совпало с решением поддержать испанских левых, противостоящих европейскому национализму. Также любопытно и абсурдное обвинение (на августовском процессе) Зиновьева и Каменева в сотрудничестве с нацистской разведкой. Будучи левыми, они, безусловно, никак не могли работать на Гитлера. Такое ощущение, что организаторы процесса указывали на Германию как на главного врага, демонстративно игнорируя простейшие вещи. Обычно организацию всех «московских процессов» приписывают Сталину, но в 1936 году засудить Зиновьева и Каменева хотело все высшее партийное руководство, в среде которого Сталин не чувствовал себя уверенным. Более того, летом-осенью сталинская группа теряет инициативу, уступая ее «стойким ленинцам»-интернационалистам. Это обстоятельство делает понятным германофобскую упаковку первого московского процесса.
А вот на третьем процессе (март 1938 года), когда Сталин уже расправился с большинством своих противников, внешнеполитический антураж был совсем иным. «Правотроцкистов» Бухарина, Рыкова, Крестинского и др. обвиняли в том, что они пытались сорвать нормализацию отношений между СССР и Германией, причем именно с 1933 года, когда Гитлер пришел к власти. На процессе утверждалось: троцкисты-бухаринцы еще в 1931 году вступили в сговор с определенными кругами в нацистской партии. Оказывается, в 1936 году ими планировалось втянуть Германию в войну с СССР. Сталин явно указывал германским правящим кругам на тех, кто мешает сближению двух государств. И он же обращал внимание на то, что в самой НСДАП существуют силы, заинтересованные в их стравливании.
Радека «зачищают»
Было бы совершенно невероятно, если бы Сталин отказался от борьбы и позволил уничтожить себя. Используя положение Ежова, возглавлявшего КПК, вождь пошел в атаку на наркомат Орджоникидзе. В качестве первого рубежа им был выбран Пятаков, заместитель Серго и бывший троцкист. В конце июля арестовали его жену, а 10 августа с ним «поработал» Ежов. Председатель КПК был поражен реакцией Пятакова. Тот заявил, что ничего не может сказать в свое оправдание, «кроме голых опровержений на словах». Виновным же он себя признал только в том, что не обратил должного внимания на «контрреволюционную работу» своей жены. С целью искупить вину Пятаков предложить дать ему возможность самолично расстрелять всех оппозиционеров, которых приговорят к высшей мере на будущем процессе. Он даже был готов расстрелять собственную супругу.
Такое поведение не могло не настораживать. Все деятели оппозиции, попавшие под подозрение, пытались выдвинуть хоть какие-то аргументы в пользу своей невиновности. И уж если не смог ничего сказать Пятаков, то это говорит о его полной растерянности. О том же самом говорит и совершенно абсурдное предложение самолично расстреливать приговоренных. Пятаков испугался, причем испугался до неприличия. Спрашивается, что же так напугало этого «пламенного революционера», в свое время боровшегося в подполье? Его ведь не только не пытали, но даже и не допрашивали. Ни одного смертного приговора ни одному из лидеров оппозиции еще не было вынесено, все считали, что и Зиновьева с Каменевым в конце концов помилуют. Очевидно, Пятаков действительно был замешан в оппозиционной деятельности и арест жены его просто сломил.
Несмотря на более чем подозрительное поведение Пятакова, его не арестовали и на целый месяц оставили на свободе. Тут явно не обошлось без заступничества Орджоникидзе. Но вот наступило 12 сентября, и органы все же забрали Пятакова. Комиссия Ежова сделала свое дело. Слишком уж навредил себе Пятаков своим истеричным поведением, и слишком уж боялись в высшем руководстве троцкистов (даже бывших).
Это был ответный удар Сталина, нанесенный по Орджоникидзе. Серго долго не хотел смириться с арестом своего подчиненного. Когда один из директоров НИИ принялся публично ругать Пятакова, нарком его резко осадил: «Легко нападать на человека, которого здесь нет и который поэтому не может защититься. Подождите, пока Юрий Леонидович вернется». Орджоникидзе даже посетил Пятакова в тюрьме, пообещав ему скорое освобождение. Потом, правда, Серго переменит свою точку зрения. По воспоминаниям его жены, Зинаиды Григорьевны, после прочтения показаний, данных Пятаковым, Орджоникидзе возненавидел его со страшной силой. Очевидно, сообщенные данные действительно имели под собой реальные факты сотрудничества Пятакова с троцкистами. У нас обычно представляют все дело так, что Пятаков себя оговорил (под давлением следователей НКВД), а простодушный Серго поверил. Но утверждать такое — это значит делать из Орджоникидзе последнего идиота, которым он, конечно же, не являлся. Надо думать, что Орджоникидзе, прожженный политический интриган, отлично знал специфику работы НКВД и то, как там выбивают показания. Его вряд ли мог убедить сам факт дачи Пятаковым показаний. Но было в них нечто, что Орджоникидзе вполне убедило.
Но это произойдет в декабре, а в сентябре Серго был страшно взбешен сталинским контрударом. И через четыре дня после ареста Пятакова органы «замели» К. Б. Радека, бывшего одним из доверенных лиц Сталина.
Историки-антисталинисты, разумеется, приписывают «зачистку» именно Сталину. Его вообще делают ответственным за каждый «чих», произошедший в 30-х годах. Но вот какого-либо внятного объяснения, зачем Сталин репрессировал Радека, антисталинисты не дают. Они находятся даже в некоторой растерянности. «С тех пор как Карл Радек принес покаяние в своей оппозиционной деятельности еще в двадцатые годы, Сталин не мог на него пожаловаться, — признает Конквест. — Радек предавал оппозицию при каждом удобном случае и превозносил Сталина в небывалых выражениях. Он был единственным человеком, который действительно сжег за собой все мосты после выхода из оппозиции… И поэтому до сих пор неясно, какие причины побудили Сталина привлечь именно Радека к выдуманному заговору Пятакова».
Надо отметить, что и в 20-е годы Радек был одним из наиболее вменяемых лидеров левой оппозиции. Находясь в руководстве Коминтерна, он часто занимал вполне взвешенные и осторожные позиции. Например, выступал против выхода Компартии Китая из националистической партии Гоминьдан.
В самый разгар внутрипартийной борьбы троцкист Радек предлагал самому Троцкому пойти на союз со Сталиным. А ведь в троцкистской среде выдвигались и совсем уж радикальные предложения. Так, Муралов, командующий Московским военным округом, вообще выступал за военный переворот, предлагая «демону революции» использовать подчиненные ему войска. Радек на этом фоне явно выделялся своей умеренностью и своим благоразумием.
Троцкий прислушался к мнению Радека и, в известной мере, воспользовался его советом. В 1925 году, когда Сталин громил своих вчерашних коллег по правящему триумвирату, Зиновьева и Каменева, Троцкий держался подчеркнуто отстраненно. На XIV съезде он занял нейтралитет и спокойно глядел, как Иосиф Виссарионович расправляется с лидерами «новой», зиновьевской оппозиции. Если бы Троцкий вмешался в борьбу тогда, то еще неизвестно, чем бы все завершилось. Но он был над схваткой и тем самым облегчил победу Сталину. И тем не менее «неистовый Лев» так и не пошел на сближение со Сталиным, которое ему столь настоятельно рекомендовал Карл Бернгардович.
Радек остался вместе с Троцким, но продолжал пытаться остудить пыл своего не в меру горячего патрона. Он был категорически против выхода левых оппозиционеров на улицы Москвы 7 ноября 1927 года. Радек упорно придерживался линии на прекращение острой конфронтации со Сталиным. И неудивительно, что именно он первым из всех троцкистов капитулировал перед генсеком. Но главное все-таки в том, что Радек был, пожалуй, самым последовательным сторонником сталинского курса на сближение с национал-социалистической Германией. В 70-е годы бывший ответственный работник Наркомата иностранных дел Е. А. Гнедин сопоставил данные из архивов МИДа Германии с советскими дипломатическими документами и пришел к выводу, что Радек был тем загадочным человеком, которого посол в Москве называл «нашим другом».
В 1934 году Радек издал брошюру «Подготовка борьбы за новый передел мира». В ней он обильно цитировал Г. фон Секта, немецкого генерала, бывшего убежденным сторонником союза с Россией. Приведу одну из цитат фон Секта: «Германии крайне нужны дружественные отношения с СССР». Наличие у Радека прогерманских настроений подтверждает и «невозвращенец» В. Кривицкий. Он приводит следующие слова Карла Бернгардовича: «…Никто не даст нам того, что дала Германия. Для нас разрыв с Германией просто немыслим». По утверждению Кривицкого, Радек ежедневно консультировался со Сталиным. Очевидно, эти консультации касались вопросов внешней политики.
Радек создал канал особой связи с Германией. Через этот канал осуществлялись тайные контакты с политической элитой Третьего рейха. Они проходили, минуя как НКИД, так и НКВД. И Литвинов, и Ягода были категорическими противниками сближения с Германией. Последний использовал возможности своего ведомства для того, чтобы рассорить СССР и Германию. Например, когда произошло убийство Кирова, НКВД тут же стало разрабатывать несуществующий «немецкий след». Убийство «Мироныча» хотели свалить на разведку рейха и тем самым радикально ухудшить и без того сложные советско-германские отношения. Однако Сталин быстро раскусил замысел Ягоды и приказал прекратить поиски «немецкого следа».
Ясно, что на НКИД и НКВД в деле сближения с Германией опираться было ни в коем случае нельзя. Правда, Сталин использовал один правительственный канал. Он вел секретные переговоры с Германией еще и через торгпреда СССР Д. Канделаки. Но то все-таки были контакты второго уровня. Статус торгпреда явно не соответствовал тем грандиозным политическим задачам, которые поставил Сталин. Зато им удовлетворяла миссия Радека. Он ведь был не только одним из ведущих советских публицистов 30-х годов. На это мало обращают внимание; но Радек занимал пост руководителя Бюро международной информации при ЦК ВКП(б). Под этим скромным названием скрывалась очень серьезная структура, которая представляла собой нечто вроде партийной разведки. Вот это уже был серьезный политический уровень.
Возникает вопрос, но как же мог активный коминтерновец и участник левой оппозиции ратовать за сближение с Германией? Может быть, на Радека «наговаривают»? Тем не менее комплексное изучение политических взглядов этого деятеля убеждает в том, что он вообще придерживался стратегии на сближение коммунистов и националистов. Германофилия была лишь частью, хотя и весьма органической, этой стратегии. Что же до увлечения троцкизмом и левачеством, то они были попыткой наиболее четко обозначить свое неприятие западной плутократии. К тому же Троцкий на определенном этапе заигрывал с русским национальным патриотизмом, используя его в прагматических целях. Так, он писал о «национальном характере» Октябрьской революции. Лев Давидович делал определенные реверансы в сторону национал-большевиков сменовеховского толка, которые в свою очередь осыпали его комплиментами (как «вождя русской армии»). На основании этих и других фактов некоторые исследователи, например М. Агурский, считают возможным отнести Троцкого именно к национал-большевикам. Это, конечно же, неверно, однако уже и сама возможность подобного допущения говорит о многом. Радек, очевидно, тоже считал Троцкого воплощением национал-большевизма. Однако в дальнейшем он понял, что вождем национал-большевиков является именно Сталин. И с этого момента он стал ревностным сталинистом.
По всей видимости, формирование Радека как национал-большевика следует отнести к 1919 году. Тогда Радек, помогавший организации коммунистического движения Германии, был обвинен в подрывной деятельности властями этой страны и брошен в тюрьму Моабит. Режим пребывания там был довольно свободный, и Радек имел возможность общаться с разными политическими деятелями, находившимися на воле. В заключении его, в числе других гостей, навещали представители немецкого национал-большевизма, горячо ратовавшие за союз с Советской Россией против демократической Антанты. Одним из посетителей Радека был пионер немецкого национал-большевизма — барон Ойген фон Рейбниц. Кроме того, Радек тесно общался с лидерами Германской коммунистической рабочей партии (ГКРП) Генрихом Лауфенбергом и Фрицем Вольфгеймом, которые стояли на позициях национал-большевизма. Основной темой разговоров Радека с его посетителями была именно необходимость советско-германского сближения, которое следовало дополнить сближением коммунистов и националистов. Правда, надо отметить, что в то время Радек только начинал осознавать в полной мере всю глубину национал-большевизма. Он полемизировал с Лауфенбергом и Вольфгеймом, выступавшими за объединение с крайне правыми. Причем Радека смущала не столько сама идея объединения (в принципе он допускал такую возможность). Карл Бернгардович считал, что лидеры ГКРП несколько мягкотелы и националисты захотят использовать их «в качестве зонтика».
Ярче всего национал-большевизм Радека проявился в 1923 году. Здесь имеется в виду его сенсационная речь, произнесенная 20 июня на расширенном пленуме Исполкома Коминтерна (ИККИ). Она была посвящена молодому немецкому националисту Лео Шлагетеру, казненному за терроризм французскими оккупационными властями в Рейнской области. В Германии началась кампания всенародной солидарности с казненным патриотом. К ней присоединился и Радек. В своей речи он высоко оценил подвиг молодого националиста: «Шлагетер, мужественный солдат контрреволюции, заслуживает того, чтобы мы, солдаты революции, мужественно и честно оценили его». По мнению Радека, националисты должны были сделать правильные выводы из трагической судьбы Шлагетера. Им следовало сосредоточить всю свою борьбу именно против Антанты, в союзе с коммунистами, а также русскими рабочими и крестьянами.
Многие немецкие националисты (например, граф фон Ревентлов) стали обсуждать возможность такого объединения. А коммунистическая газета «Роте Фане» даже предоставила им для этого свои страницы. К дискуссии подключились и нацисты. Члены НСДАП стали посещать собрания коммунистов, и наоборот. Положения Радека поддержали такие лидеры Компартии, как Рут Фишер и Клара Цеткин.
Новый курс коммунистов, получивший название «линии Шлагетера», продлился недолго. Его провалили догматики из Коминтерна и КПГ. Тем не менее идея объединения коммунистов и националистов была озвучена. В этом направлении будут предприняты некоторые шаги, которые все-таки не приведут к желанному результату.
В 20-е и 30-е годы среди коммунистов было очень большое тяготение к национализму. А в лагере националистов наблюдалось движение в сторону коммунизма и социализма. Многие объясняют это взаимопритяжение общностью двух экстремизмов — правого и левого. Дескать, коммунисты и националисты хотели пострелять да помучить вволю, вот вам и сходство.
Но постараемся взглянуть на эту проблему с несколько иной стороны. В 20-е годы так называемая «мировая капиталистическая система» вступила в полосу мощного экономического кризиса. Он сопровождался кризисом политическим. Вскрылись факты потрясающей коррупции, которой способствовали минусы парламентской, демократической системы (прежде всего ее зависимость от крупного капитала). А в Германии кризис еще усугублялся горечью от поражения в Первой мировой войне и тяжестью навязанной извне Версальской системы.
В Европе ответом на мощный кризис стала мощная же оппозиция. Иногда она бывала чересчур радикальной, но ведь радикальными были и сами последствия кризиса. Сопротивление капитализму и буржуазной демократии разделилось на два потока — коммунистический и националистический. В первом потоке упор делался на социальный протест, и здесь прежде всего обращали внимание на интересы низших классов. Во втором потоке на первый план выдвигали протест национальный, и там внимание было поглощено интересами нации и государства. Причем и тот и другой потоки страдали некоторой однобокостью, замыкаясь либо на классовом, либо на национальном подходе. Но и среди коммунистов, и среди националистов всегда было понимание указанной однобокости, стремление ее преодолеть. Так или иначе, но социалисты пытались сделать шаг навстречу национализму, а националисты — навстречу социализму.
Гитлер ведь не случайно назвал свою партию «социалистической» и «рабочей»: он понял, куда двигались массы после Первой мировой войны. Другое дело, что никакого социализма Гитлер строить не хотел, он взял на вооружение лишь некоторые его элементы (такие как активная социальная политика). Но ведь в самой НСДАП было очень сильно «левое крыло», группировавшееся вокруг братьев Г. и О. Штрассеров. На радикально-социалистических позициях стояло руководство штурмовых отрядов, а также Национал-социалистическая организация заводских ячеек — объединение нацистских профсоюзов.
И ведь что любопытно: левые в НСДАП стояли на куда менее экстремистских позициях, чем Гитлер. И они были куда большими «демократами». Штрассеры выступали за многопартийный режим, свободу мнений и реальное народное представительство. Их идеалом была христианская республика для Германии и свободная конфедерация для всей Европы. И без каких-либо разделений на «высших» и «низших».
Даже после того как Гитлер разгромил левое крыло в «ночь длинных ножей», социалистическая оппозиция в стране сохранилась. Она действовала и в подполье, и на полулегальном положении. Так, в рядах уже «зачищенных» СА существовала глубоко законспирированная организация «Колонна Шерингера», названная так по имени одного из офицеров-националистов, перешедшего в начале 30-х годов на сторону коммунистов. «Колонна» была теснейшим образом связана с подпольной организацией КПГ и издавала нелегальную газету «Красный штандарт». Впрочем, социалистическая оппозиция действовала и в самих СС. Там существовала европейская служба «Амтсгруппа С», чьи руководители (А. Долежалек и др.) вполне открыто разрабатывали проект создания европейской социалистической конфедерации. А что же на левом фланге? Там происходили сходные процессы.
В 1930 году КПГ принимает «Декларацию о национальном и социальном освобождении», в которой критика Версаля и Антанты была доведена до предела. Кроме того, коммунисты стали апеллировать к средним слоям — мелким предпринимателям, ремесленникам, зажиточным крестьянам. Их позиция становилась все более национальной, патриотической и, одновременно, более умеренной. Нередко можно было видеть колонны ротфронтовцев, скандирующих лозунги в поддержку «Великой Советской Германии», и представителей мелко- и среднебуржуазных кругов, аплодирующих этим колоннам.
В тот период совместные митинги коммунистов и националистов не были редкостью. А в августе 1931 года КПГ и НСДАП вместе голосовали на референдуме за роспуск социал-демократического правительства Пруссии. Кстати, двумя годами раньше «умеренные» и «либеральные» эсдековские власти Берлина приказали расстрелять мирную рабочую демонстрацию, проходившую 1 мая. Теперь рабочие Германии поквитались за этот вполне тоталитарный акт.
В том же самом 1932 году при поддержке КПГ председателем прусского ландтага (местного парламента) был избран представитель НСДАП. В июле 1932 года канцлер Ф. Папен, опираясь на фракции КПГ, НСДАП и правых консерваторов, распустил социал-демократическое правительство Германии.
Но апогеем «красно-коричневого» сотрудничества была забастовка транспортных работников Берлина, прошедшая в два тура — 3 и 7 ноября 1932 года. Эту забастовку организовали коммунистическая Революционная профсоюзная оппозиция и Национал-социалистическая организация заводских ячеек. Она получила столь серьезный размах, что Берлинское транспортное общество с очень большим затруднением смогло организовать лишь частичное функционирование транспорта. Дело дошло до уличных боев, которые сопровождались строительством баррикад.
Исследователи либерального толка единодушны в том, что ноябрьская транспортная забастовка была сугубо экстремистским мероприятием, которое лишний раз подтвердило — крайности (в данном случае правого и левого радикализма) сходятся. Что тут можно сказать? Конечно, лучше обойтись без уличных боев и баррикад, да и вообще без забастовок. Но нельзя забывать и то, что крайности социального протеста часто вызваны эгоизмом сильных мира сего. И разве не экстремизмом следует считать ту политику, которая загнала Германию в пропасть экономического кризиса, разорила и сделала безработными миллионы людей? Странная у либералов логика. Когда в Веймарской республике десятки тысяч детей рождались без ногтей (ввиду физической истощенности своих родителей), это экстремизмом не считается. А когда последовательно социалистические партии пытались положить конец подобному безобразию, это, безусловно, является только лишь экстремизмом и ничем иным…
Неизвестно, как сложились бы судьбы Германии, России, да и всего мира, если бы курс 1930 года (именуемый «линией Шерингера») продлился еще несколько лет. Однако в Москве резко усилились позиции сторонников франко-советского сближения. После этого «антиверсальская» тональность лидеров КПГ снизилась. А в НСДАП на пятки «левым» все более жестко наступал авторитарный Гитлер — фанатичный антикоммунист и антисоветчик.
Тоталитарный режим в Германии был установлен потому, что монополию на власть в НСДАП захватил «правый» Гитлер. Если бы верх взяли Штрассеры, то в этой стране возник бы национал-большевистский режим, сочетающий ценности национализма, социализма и свободы.
Теперь вспомним о том, что и Сталин, лидер русского национал-большевизма, пытался сделать советский режим более свободным и демократическим, не отказываясь в то же время от социализма. Закономерно, не правда ли?
Теперь начинаешь несколько в ином свете воспринимать возможные перспективы сближения СССР и Третьего рейха. Оно, несомненно, сопровождалось отказом двух стран от присущих им крайностей — классового и расового шовинизма. Усиливались бы позиции тех деятелей Германии, которые стояли на более умеренных позициях.
Вот почему я делаю упор на разногласия по поводу Германии. Сближение с этой страной имело не столько внешнеполитическое, сколько внутриполитическое значение. Оно способствовало национал-большевизации и, одновременно, демократизации страны. Впрочем, была и обратная связь.
Радек пал как политическая фигура именно на переднем фронте борьбы за объединение национализма и социализма. Он, со своими международными связями и талантами дипломата-игрока, был крайне опасен для противников сближения с Германией.
Фактор Енукидзе
Еще раньше такая участь постигла Авеля Енукидзе, занимавшего до 1935 года пост секретаря ЦИК СССР. Его падение тоже сваливают на Сталина, что опять-таки неверно. Енукидзе был самым близким Сталину человеком. Иосиф Виссарионович знал его с 1900 года. Первая жена Сталина крестила дочь Енукидзе, а дети Сталина называли его «дядей». Сохранилась фотография, на которой члены Политбюро позировали после окончания XVII съезда. На ней мы видим Енукидзе — единственного не члена ПБ. Такое к нему было доверие. Но ко всему этому Енукидзе был активным сторонником сталинского курса на сближение с Германией. В дневнике М. Я. Раппопорта приводится такое высказывание Енукидзе: «…Только союз Германии и СССР может спасти и ту, и другую страну». А вот описание этого деятеля, сделанное немецким послом Дирксеном: «Добродушный, с чудесной шевелюрой, голубоглазый грузин, явно симпатизировавший Германии».
Летом 1933 года Енукидзе провел отпуск в Германии. Вернувшись, он пригласил к себе на дачу Дирксена и министра-советника немецкого посольства Твардовски. Секретарь ЦИК (кстати, лицо представительское) заявил, что приход национал-социалистов к власти может положительно отразиться на германо-советских отношениях. Он с явным неудовольствием заметил, что и в CCCP, и в Германии многие люди ставят на первое место политические задачи своих партий. Таких людей, по мнению Енукидзе, нужно сдерживать, приучая к «государственно-политическому мышлению». В ходе беседы было достигнуто соглашение о встрече заместителя наркома иностранных дел Н. Н. Крестинского с Гитлером. Но встреча так и не состоялась. По некоторым данным, на ее отмене настоял Литвинов. Стоит ли говорить, какой это был удар по самолюбию Гитлера?
Надо отметить, что взгляды Сталина, Радека и Енукидзе на «германский вопрос» разделяли и многие другие партийцы. Явным сторонником сближения с Германией был Молотов, неустанно повторявший, что «наш главный враг — Англия». Еще в июле 1932 года руководитель ТАСС Долецкий сказал советнику немецкого посольства Г. Хильгеру, что здравый смысл требует утверждения в Германии именно национал-социалистического правительства. И совсем уж яркой была краткая речь председателя Киевского облисполкома Василенко, обращенная к тому же самому Хильгеру в 1934 году: «Политика Литвинова для масс неубедительна, и история скоро расставит все по своим местам. Ведь глупо Советской России вступать в союз с таким загнивающим государством, как Франция! Только дружба с Германией может обеспечить мир. Кому какое дело до расовой теории национал-социализма?».
Но в партии было немало могущественных противников советско-немецкого сближения, к числу которых принадлежал и нарком НКВД Ягода. Они не сидели сложа руки, всячески пытаясь дискредитировать своих «оппонентов». Одним из первых был вышиблен из седла Енукидзе. Органы НКВД пристегнули его к явно сфальсифицированному делу о так называемом «кремлевском заговоре», которое еще называют «делом полотеров». Начиналось все, казалось бы, с пустяков. Выяснилось, что некоторые кремлевские уборщицы ведут между собой весьма вольные разговоры, позволяя критику Сталина. Органы стали «работать» с ними, и через некоторое время в сферу их внимания попали многие сотрудники кремлевской комендатуры. Были обнаружены серьезные недостатки в деле охраны Кремля. Положение усугубляло то, что начальником кремлевской библиотеки работал Н. Б. Розенфельд, дядя известного «левого уклониста» Л. Б. Каменева. Кроме того, вспомнили, что начальник кремлевской комендатуры Р. А. Петерсон некогда был троцкистом. Все это обернулось против Енукидзе, ибо кремлевская комендатура подчинялась ему, как секретарю ЦИК. Правда, наряду с ЦИК ею заведовал еще и наркомат обороны. Однако ведомство Ворошилова трогать не стали. Почти о всех военных, замешанных в кремлевском деле, «забыли», а Петерсона благополучно перевели в Киевский военный округ заведовать материальной частью, не став тормошить его троцкистское прошлое.
Кстати, пример с Петерсоном весьма показателен. Еще с 1919 года Пeтерcoн возглавлял комендатуру, а Сталин даже не озаботился его перемещением. Держать рядом с собой пусть и бывшего, но все равно троцкиста — это как-то не вяжется с тем образом, которым нас пичкают антисталинисты.
А вот Енукидзе, в отличие от Петерсона, повезло гораздо меньше. Сначала его просто вынудили уйти с поста секретаря ЦИК СССР, сделав секретарем ЦИК Закавказской Федерации. Не снять Авеля было просто нельзя. Ведь недостатки в работе комендатуры действительно имели место. Но крови Енукидзе Сталин явно не хотел. Зато ее хотели другие, весьма влиятельные недоброжелатели бывшего секретаря ЦИК. Это выяснилось на июньском пленуме ЦК (1935 год), который разбирал дело Енукидзе. С докладом о его проступках выступал Ежов, председатель КПК. Он подверг Енукидзе жесткой критике, но взыскание предложил довольно умеренное — вывести Авеля из ЦК ВКП(б). Новая должность Енукидзе вовсе и не требовала присутствия в ЦК.
Обратим внимание на то, что Ежов был человеком Сталина. Вождь для того и создавал КПК, независимый от партсъезда, чтобы иметь свой собственный контрольный орган, этакую дубину центрального партийного аппарата. Поэтому можно с полной уверенностью считать, что предложение Ежова было и предложением Сталина. Но вот дальше последовали предложения с гораздо более крутыми мерами взыскания. Еще относительно умеренным было выступление Л. П. Берия, предложившего вывести Енукидзе из ЦИК. Тут сказалась личная, давнишняя неприязнь двух грузинских коммунистов. Но поскольку Берия был лоялен Сталину, то ограничился требованием «малой крови». Однако другие региональные лидеры требовали уже большого кровопролития.
Особенно выделяется выступление Косиора за исключение Енукидзе из партии. Это означало уже полное политическое недоверие. А теперь вспомним о давнишней нелюбви Косиора к немцам. Тут явственно прослеживается попытка регионалов ударить по сталинской политике сближения с Германией, персонально — по одному их ее активных проводников. Предположу также, что Енукидзе был выбран мишенью еще и потому, что как деятель советской вертикали был задействован в осуществлении конституционной реформы. (Радек, кстати, тоже являлся одним из активных творцов новой конституции.) Такую важную фигуру Сталина выбить с «шахматной доски» было просто необходимо. Пo степени кровожадности с Косиором мог сравниться только Ягода, который также выступил за исключение Енукидзе из партии. Этот чекист-бухаринец тоже был заинтересован в крушении столь видного «германофила».
Под совокупным натиском регионалов и чекистов Енукидзе пал. И это было генеральной репетицией «зачистки» Радека, партийного «министра иностранных дел», который «весил» больше секретаря ЦИК. Его самого смогли «зачистить» только благодаря начавшемуся колебанию среди сталинистов, а также резкому усилению влияния Бухарина. Очевидно, именно Бухарин является главным застрельщиком всех антигерманских игр. И это отлично понял Радек, который сделал отчаянную попытку остаться на свободе. Незадолго до ареста он посетил Бухарина, попросив его о заступничестве. Этот факт антисталинисты внятно объяснить не могут. Да все просто. Радек знал, что Бухарин находится в ударе, а Сталин, наоборот, под ударом. Вот он, проявив душевную слабость, и пошел просить Бухарина о пощаде.
Сталина лишили двух ближайших соратников — Радека и Енукидзе. Третий — Молотов — был скомпрометирован на августовском процессе. В середине сентября вождь оказался перед мощным фронтом оппозиционеров, который включал в себя регионалов, технократов и «правых». Очевидно, к этому фронту примыкали и «левые милитаристы», которых весьма устраивал Орджоникидзе, поддерживавший неплохие отношения с Тухачевским. Они тесно сошлись еще во время гражданской войны, когда вместе действовали на кавказском фронте. В 1931 году именно Орджоникидзе способствовал продвижению авантюристических предложений Тухачевского, который пытался поставить перед армией нереальные задачи. Серго лично передал Сталину одно из писем зарвавшегося «полководца», написанное в апреле 1930 года.
В сентябре 1934 года Орджоникидзе и Тухачевский вместе с Куйбышевым попытались ослабить влияние Сталина на армию. Иосиф Виссарионович был обвинен в нескромности и некомпетентности. Поводом стала беседа Сталина с чехословацкой военной делегацией, во время которой тот ничего не говорил о роли Орджоникидзе и Куйбышева в деле модернизации армии. Более того, Сталина обвинили в разглашении государственных секретов. Якобы он сообщил иностранцам страшную «тайну» о том, что СССР хочет модернизировать свои вооруженные силы!
Именно Орджоникидзе жаловался Уборевич, человек Тухачевского, в своем письме от 17 августа 1936 года. «Ворошилов не считает меня способным выполнять большую военную и государственную работу… Нужно тут же сказать, еще хуже оценивает он Тухачевского… Если т. Ворошилов считает меня малоспособным командиром для большой работы, то я очень резко и в глаза, и за глаза говорю о его взглядах на важнейшие современные вопросы войны». Знал, ох знал Уборевич, кто сейчас главный и кого нужно просить о заступничестве!
Правда, в августе, 14-го и 31-го, были арестованы Примаков и Путна, люди из ближайшего окружения Тухачевского. Но они пострадали из-за своих теснейших связей с Троцким и троцкистами. И тот и другой в 20-е годы открыто поддержали «демона революции», причем пытались создать троцкистскую организацию в РККА, чего не отрицают и историки-антисталинисты. И когда в 1936 году крепко взялись за «левых», эти два тухачевца закономерно «попали под раздачу». Пока трудно сказать, контактировали ли они с Троцким и в 30-е годы. Обращают на себя внимание тесные связи Путны с И. Н. Смирновым, который и в самом деле тайно контактировал с Троцким. В любом случае этих «добрых молодцев» сгубил троцкизм, который изрядно пугал и сталинистов, и «технократов», и регионалов. Больше никого из сторонников Тухачевского не тронули, и они с радостью ожидали падения Сталина. А оно, похоже, было реальностью, ибо против вождя действовал целый фронт.
Ко всему прочему в лагере Сталина наступил разлад. Многие, наверное, просто боялись повторить судьбу Радека и Енукидзе. Надо было что-то предпринимать, причем весьма срочно…
Сталин наносит ответный удар
День 25 сентября 1936 года был для наркома Ягоды роковым. Сталин и Жданов, бывшие на отдыхе в Сочи, прислали телеграмму, в которой предлагалось снять «железного Генриха» с его чекистского пьедестала. Почти все исследователи «большого террора» считают нужным цитировать содержание этой судьбоносной телеграммы. Не изменю данной традиции и я. «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом, — уведомляли Политбюро Сталин и Жданов, — назначение тов. Ежова на пост наркомвнудела. Ягода явным образом оказался не на высоте своей задачи в деле разоблачения троцкистско-зиновьевского блока. ОГПУ опоздало в этом деле на четыре года».
Историки заворожены мнимым всемогуществом Сталина и поэтому не обращают внимания на то, что свои предложения вождь присылает именно из Сочи. По их мнению, Сталин был всевластен, а следовательно, какая ему разница — откуда приказывать. Но, согласитесь, кажется очень странным, что вождь проводил столь важное кадровое решение откуда-то издалека. К тому же непонятно, почему он вновь оказался в Сочи. Ведь Иосиф Виссарионович уже отдыхал там в августе, причем задержался в Сочи гораздо дольше всех других высших руководителей. И вот снова — у моря. Может быть, у него были какие-то серьезные проблемы со здоровьем? Да нет, вроде не было. Решил отвертеться от работы? Ну уж, простите, в этом «трудоголика» Сталина еще никто никогда не упрекал. И время, прямо скажем, было очень жаркое и сложное.
Складывается впечатление, что вождя просто сослали в Сочи до выяснения его дальнейшей судьбы. Полностью ему связь с внешним миром не отрубили, но возможности присутствовать на заседаниях Политбюро лишили. А в компанию ему определили стойкого сталинца Жданова.
Но оппозиционеры не учли того, что в Москве у Сталина осталось мощное сверхоружие — Николай Иванович Ежов, возглавляющий партийную охранку. По своей партийно-контрольной линии он много чего уже «нарыл», в частности и по наркому Ягоде. Заметим, что в телеграмме об опоздании последнего в деле борьбы с «левыми» говорится как о каком-то общеизвестном (на тот момент) факте. Сталин не приводит никаких доказательств, он обращает внимание на нечто очевидное.
Что-то во второй половине сентября было объявлено членам Политбюро. Может быть, им стали известны данные, которые Ежов сообщил Сталину в телефонном разговоре? В том самом, где Иосифа Виссарионовича информировали о предсмертном письме Томского, содержащем обвинения в адрес Ягоды. Если так, то Ягода сразу оказался «задействован» в двух неприглядных делах: 1) в связях с троцкистами и потворстве им; 2) в попытке привести к власти группу Бухарина.
Далее Сталин сделал красивый жест, разыграв из себя невинную жертву, которой он, по большему счету, на тот момент и являлся. Его послание говорило: вот вы как со мной, а ведь Ягода-то каков, а как мой Ежов, а? Он явно обращал внимание на события 1932 года; когда И. Н. Смирнов создал единый лево-правый оппозиционный блок. Точнее — на то, что Ягода этот самый блок прозевал. Раньше ему это простили. Не простили бы именно этого «зевка», так сняли бы гораздо раньше, во время разбирательства дел участников единого блока. Но теперь «зевок» Ягоды красиво наложился на данные Ежова. И прощения «железному Генриху» уже не было.
Ежову регионалы, которые тогда и составляли организационный костяк оппозиции, поверили. Он был тихим и скромным партийным аппаратчиком, вполне исполнительным бюрократом. Таким, каким бюрократы считали Сталина. И то, что Ежов сообщил в отсутствие потерявшего доверие Сталина, их напугало. Органы были все-таки органами, а уж если они контактируют с Троцким… Нет, тут было от чего запаниковать. Уж лучше Сталин.
Теперь в руководстве оформляется новый, вернее, очень старый блок — Сталина с регионалами. На пост наркома НКВД назначают тихоню Николая Ивановича. От него ожидали многого. И он эти ожидания оправдал. Причем с лихвой.
Охота на «вредителей»
После назначения Ежова НКВД начал усердно копать под Бухарина, Рыкова и Ягоду, скомпрометированных признаниями Томского. Но главной мишенью в то время были все-таки не они. Тогда решили серьезно взяться за вредителей на промышленном производстве. То есть за Серго Орджоникидзе, который был наркомом тяжелой промышленности. Он уже перестал удовлетворять регионалов. Более того, Орджоникидзе покровительствовал Бухарину, который на поверку оказался очень непрост, являясь лидером целой группы, имевшей своим человеком наркома внутренних дел. Этот самый нарком не просто опоздал на четыре года с борьбой против троцкизма, но имел с ними какие-то связи. В заместителях Серго ходил Пятаков, бывший троцкист. Кроме того, вспомним, что у партократов были весьма серьезные разногласия с технократами. Разногласия эти касались вопроса о промышленных предприятиях. Регионалы хотели как можно больше заводов и фабрик подчинить себе, а технократы, соответственно, наоборот.
Как представляется, именно наличие указанных разногласий не позволило регионалам и технократам достигнуть той степени единства и сплочения, которая была необходима для устранения Сталина от власти в 1934 году. Летом 1936 года такое единство было достигнуто, и Сталин оказался на самом краю пропасти. Но его умелые маневры с Ежовым позволили вождю разрушить опасное единение.
Теперь орава секретарей была настроена против Орджоникидзе. Ему объявили «священную войну», против которой не возражал и Сталин, желавший окончательно ослабить короля тяжпрома. Сокрушительным ударом по Орджоникидзе стал «кемеровский процесс», состоявшийся 19–22 октября в Новосибирске. На нем судили группу «троцкистов-вредителей», действовавших в угольной промышленности. «Вредителям» (восьми советским и одному немецкому инженеру) приписали, в частности, взрыв, произошедший 23 сентября на кузбасской шахте «Центральная». Как «выяснилось», лидеры группы Дробнис и Шестов, примыкавшие к троцкистской оппозиции в 20-е годы, подчинялись непосредственно Муралову, лидеру так называемого «западносибирского троцкистского центра». А деятельность этого центра направлялась из Москвы — Пятаковым. Ясно, что «разоблачение» столь широкомасштабного заговора в промышленности, да еще и возглавляемого бывшим замом Орджоникидзе, било именно по наркомтяжпрому.
Процесс носил именно региональный характер. Участникам группы предписывалось намерение убить «хозяина» Западной Сибири Р. Эйхе. Скорее всего, именно он и организовал (с благословения других региональных бонз) этот дутый процесс. Тем самым Эйхе не только бил по Орджоникидзе, но и укреплял свой собственный престиж. Получалось, что именно западносибирского лидера троцкисты считают своим важнейшим врагом.
Тут надо сделать одну существенную оговорку. Говоря о процессе, я употребил слово «дутый». Действительно, никакого троцкистского вредительства в промышленности не было. Троцкий, как истый марксист, не мог быть поклонником индивидуального террора. Однако это вовсе не означает, что в системе промышленности вообще не было никакой троцкистской оппозиции. Любопытно, что участникам «кемеровского процесса» инкриминировали создание тайной типографии, которая — и это признают сами антисталинисты, например Конквест, — существовала в реальности. Антисталинисты утверждают, что типографию создали работники НКВД, однако это маловероятно. Скорее всего, новосибирские энкавэдэшники напали на политическую организацию троцкистов, которой и приписали вредительство.
Региональными делами всё, конечно же, не ограничилось. В ноябре «выявили» еще одну вредительскую организацию, возглавлявшуюся начальником Главного управления химической промышленности С. А. Ратайчаком. Группе инкриминировали взрыв на Горловском комбинате азотных удобрений. Наконец, «разоблачили» и третью группу «вредителей», которая якобы орудовала на транспорте. Верховодил ей, по уверениям НКВД, заместитель наркома транспорта Я. Лившиц (кстати, тоже являвшийся бывшим троцкистом). Это уже били по Кагановичу, который летом 1936 года перешел на сторону Орджоникидзе.
В ноябре по Орджоникидзе нанесли еще один удар. Органы НКВД в Закавказье арестовали его брата Папулию. Попытки Серго вызволить арестованного родственника или хотя бы ознакомиться с материалами дела наткнулись на отказ торжествующего Берия, которому наконец-то представился шанс уязвить ненавистного соплеменника.
Декабрьские страсти
Почти сразу же после «кемеровского процесса» открыл работу декабрьский пленум ЦК ВКП(б). На нем уже всерьез взялись за Бухарина с Рыковым. В своем докладе Ежов ознакомил участников пленума с показаниями Радека, Пятакова, Сокольникова, которые свидетельствовали о том, что в «левой», троцкистской оппозиции были замешаны и «правые» — Бухарин с Рыковым. Насколько такие утверждения имели под собой основу? Трудно сказать. Тем более что речь может идти о самых разных видах участия. Возможно, что «правые» только знали о каких-то действиях троцкистов, но молчали о них. И этого было вполне достаточно, чтобы настроить против себя самые разные силы в партийном руководстве.
Могли быть и попытки нащупать контакты с Троцким — с твердым намерением сотрудничать или же без него. Николаевский сообщает, что Бухарин во время своей последней заграничной поездки изъявлял желание тайно навестить Троцкого в Норвегии: «А не поехать ли нам на денек-другой в Норвегию, чтобы повидать Льва Давидовича?.. Конечно, между нами были большие конфликты, но это не мешает мне относиться к нему с большим уважением». Однако историк-эмигрант так и не обмолвился о том, предпринял ли Бухарин какие-либо практические шаги в этом направлении. Опять-таки само желание встретиться с «демоном революции» могло вызвать бурю негодования у ЦК.
Тревогу участников пленума нагнетало и то, что в начале декабря Троцкий готовился уже выйти из домашней изоляции, в которую его поместили норвежские власти. Правда, решение мексиканского правительства предоставить Троцкому убежище было озвучено лишь в середине декабря, но очевидно, что такие решения сразу не возникают. Какие-то шевеления на международном уровне, связанные с изменением места пребывания Троцкого, начались еще до середины декабря. И о них явно знала советская разведка, которая наконец-то стала серьезно бороться с «демоном революции». Ягода в течение многих лет не мог внедрить агентов ОГПУ-НКВД в окружение Троцкого. А Ежов справился с этим за несколько месяцев, подкинув Льву Давидовичу «провокатора» Зборовского.
Как бы то ни было, но Бухарин и Рыков очутились в заведомо враждебной обстановке. Масла в огонь подлило еще и то, что они весьма неумело защищались. Николай Иванович напирал на свои «чудесные» качества, на то, что он, в отличие от Зиновьева и Каменева, якобы никогда не хотел власти. А Рыков даже вынужден был согласиться с тем, что троцкисты прочили его на пост председателя Совнаркома (спрашивается, за какие такие заслуги?). Правда, разные участники пленума проявили разную степень усердия. Жестче всех Бухарина и Рыкова критиковали регионалы. Особенно отличился секретарь Донецкого обкома Саркисов. Он вспомнил о том, что Бухарин призывал в 1918 году, в разгар борьбы вокруг Брестского мира, арестовать Ленина. В той обстановке это было равнозначно политическому обвинению. И вполне логичным было требование Саркисова предать «правых» суду. По сути он озвучил требование группы «левых консерваторов», которые уже тогда были настроены на долгожданный террор, видевшийся им в качестве панацеи от всех бед.
Усердствовал по части обвинения и Эйхе, который, очевидно, решил стяжать лавры главного обличителя троцкизма и «правого уклона». Он предложил расстрелять обвиняемых по делу «пятаковского центра», а «правым» выразил недоверие кратко, но ясно: «Бухарин нам правды не говорил. Я скажу резче — Бухарин врет нам!».
Почти так же резок был Косиор, который пристегнул «правых» к Троцкому и Зиновьеву, родив тем самым концепцию «троцкистско-бухаринского блока».
Комичным было поведение Кагановича. «Железный нарком» так пытался загладить свою вину перед Сталиным, что довольно сильно пережал в деле поиска улик. Так, им было проведено расследование о связях Томского с Зиновьевым. В качестве главного доказательства Каганович привел смехотворный аргумент: «Зиновьев приглашает Томского к нему на дачу на чаепитие… После чаепития Томский и Зиновьев на машине Томского едут выбирать собаку для Зиновьева. Видите, какая дружба, даже собаку едет выбирать, помогает. (Сталин: Что за собака — охотничья или сторожевая?) Это установить не удалось… (Сталин: Собаку достали все-таки?) Достали. Они искали себе четвероногого компаньона, так как ничуть не отличались от него, были такими же собаками. (Сталин: Хорошая собака была или плохая, неизвестно? — Смех). Это при очной ставке было трудно установить… Томский должен был признать, что он с Зиновьевым был связан, что помогал Зиновьеву вплоть до того, что ездил с ним за собакой».
Из сталинских реплик, вызвавших в конце концов смех в зале, было видно, что он пытался высмеять Кагановича, указать на всю несерьезность его аргументации. Сам Иосиф Виссарионович вовсе не был настроен кровожадно и с конкретными обвинениями не торопился. Он вынес предложение продолжить проверку по делу «правых» и отложить решение до следующего пленума.
Возникает вопрос — зачем же Сталину было миндальничать с Бухариным, симпатизировать которому он не имел ни малейших оснований? Тем более что всплыли факты, свидетельствующие о неискренности его прежнего покаяния и о ведении им оппозиционной деятельности. Ведь и регионалы были настроены на крутые меры. Чего, спрашивается, ждать?
Сталин не хотел репрессий. И не столько потому, что они ему были не по нраву. Как прагматик, он понимал, что развертывание террора может ударить по кому угодно. Начнется кровавый кадровый хаос, который сделает ситуацию неуправляемой. Сталин, будучи знатоком истории, отлично знал, насколько может быть абсурдным массовый террор. Бесспорно, вождь выступал за политическую изоляцию Бухарина и Рыкова, но уничтожать их он не желал. Это явно продемонстрирует его поведение на следующем, февральско-мартовском пленуме, о котором речь пойдет ниже.
Единственный из членов ЦК, кто хоть как-то вступился за Бухарина, был Орджоникидзе. Бухарин пытался убедить собрание, что он лично высказывался о Пятакове очень плохо. Подтвердить данный факт Бухарин попросил Орджоникидзе, что тот и сделал. Надо сказать, что это была очень неуклюжая попытка выкрутиться. Мало ли что мог говорить Бухарин о Пятакове, может быть, это было в целях маскировки. Но все равно, поведение Орджоникидзе характерно. Он явно симпатизировал Бухарину. Однако и с открытой поддержкой бывшего «любимца партии» не выступал. Слишком уж было «рыльце в пушку» у самого Орджоникидзе. Сталин и регионалы своей умелой кампанией против вредителей отбили у Серго всякое желание «качать права» на пленуме и уж тем более заступаться за кого-либо.
Не пройду мимо и одного показательного факта, связанного с вопросами внешней политики. Во время доклада Ежова Сталин бросил реплику о том, что разоблаченные троцкисты были связаны со странами западной демократии — Англией, Францией и США. И лишь после этой реплики Ежов заговорил о переговорах, которые оппозиционеры вели с «американским правительством» и «французским послом». Дальше возникла конфузная ситуация. Ежов сказал о заговорщиках, что они «пытались вести переговоры с английскими правительственными кругами». Молотов поправил его — оказывается, переговоры велись с французскими кругами. Ежов извинился за оговорку, но было очевидно — произошел некий конфуз.
Историк Роговин объясняет произошедшее тем, что «вожди» еще не сговорились, в чем следует обвинять подсудимых будущего процесса. Очень сомнительно, вряд ли Сталин и Молотов были такими наивными людьми. Тут, скорее всего, произошло иное. Оговорка Ежова явно свидетельствует о том, что его слова о связях троцкистов с западными демократиями были не заготовкой, а импровизацией. Ежов и не думал, что ему придется кивать на Запад, но Сталин вынудил его к этому. Наркомвнудел сказал о французах, но сталинцам нужно было «приложить» в первую очередь англичан. Вот Ежов и был вынужден срочно перестраиваться. Очевидно, что ранее, при обсуждении этого доклада между сталинистами и регионалами, о западных демократиях и речи не было. «Левые консерваторы» все тянули именно к Германии. Однако Сталин решил все-таки связать троцкистов и Запад в сознании участников пленума. Сделано это было очень тонко, по-византийски.
Указанный «конфуз» свидетельствует о том, что Ежов не был фигурой, абсолютно послушной Сталину. Он вынужден был еще и учитывать интересы регионалов. Еще будучи председателем Комитета партийного контроля, Ежов пытался оказать некоторые услуги региональным «вождям» — без ведома Сталина. Так, в начале 1936 года была арестована жена брата Косиора — Владимира Викентьевича. Последний некогда был активным участником троцкистской оппозиции и в указанное время находился в ссылке вместе с супругой. Владимир направил брату гневное письмо, в котором потребовал ее освобождения. Интересно, что Косиор поспешил помочь брату-троцкисту и попросил Ежова «привести это дело в порядок». И тот уже начал «приводить», когда обо всем узнал Сталин. Разгневанный вождь потребовал прекратить «наведение порядка» по-косиоровски. Получается, что Ежов не был до конца человеком Сталина и в некоторых случаях вел свою игру. Понятно, почему Сталин опасался вступить с Ежовым в предварительный сговор о поправках в его докладе, связанных с прозападной ориентацией троцкистов. Показательно, что на московском процессе 1937 года подсудимым все же припишут связь с Германией. Очевидно, Сталин был еще слишком слаб, чтобы успешно гнуть свою «антиантантовскую» линию.
Декабрьский пленум ЦК продемонстрировал обострение политической обстановки. «Правые» своей действительно двурушнической позицией озлобили руководство, особенно регионалов. Последние, по старой привычке, стали нагнетать революционно-карательные настроения, предлагая репрессии в качестве наиважнейшего метода решения всех проблем. Показательно, что о новой конституции, которую тогда принимал последний, VIII Всесоюзный съезд Советов, на пленуме почти никто не говорил, хотя Сталин и пытался навязать активное обсуждение. Однако членам ЦК было не до конституции, их сердца снова наполняло упоение от грядущих классовых битв. Что ж, скоро они их получат…
Глава 9. Кровавая развязка
Позиционные бои
В январе прошел очередной московский процесс, на котором судили Радека, Пятакова, Серебрякова и прочих «троцкистов». Его результаты носят компромиссный характер. Засудили сталинца Радека, но судебной расправы не смог избежать и человек Орджоникидзе — Пятаков.
Для самого Орджоникидзе дела складывались плохо. В начале 1937 года партноменклатура в союзе со Сталиным продолжила наступление на «вредителей», то есть на Серго и прочих «технократов». Эта борьба достигла своего обострения в феврале, накануне пленума ЦК. Орджоникидзе было предложено подготовить особый доклад, посвященный вредительству. Он это сделал, и тема вредительства там была обозначена довольно слабо. В результате доклад подвергся серьезной правке со стороны Сталина. Вождь особо обращал внимание на политические моменты, требуя, чтобы нарком не замыкался на одних лишь хозяйственных вопросах.
В свою очередь Орджоникидзе предпринимает контратаку. Он поручает своему наркомату в десятидневный срок осуществить проверку тех предприятий, на которых вредительство якобы приняло наиболее широкий размах. Им были назначены три комиссии, которые практически опровергли утверждения о вредительстве. Есть мнение, что накануне пленума Орджоникидзе готовил выступление, направленное против «охоты на вредителей». Так это или нет, установить сегодня невозможно. Орджоникидзе не дожил до пленума, и нам неизвестно, что он сказал бы на нем. Нельзя установить и точную причину смерти Серго. Непонятно, идет ли речь о самоубийстве или же наркому помогли оставить грешную землю умельцы из ежовского ведомства. В любом случае кончина Серго была обусловлена резким обострением политического противоборства.
Попутно группы решали свои проблемы, проводя накануне пленума аппаратные маневры.
Первой их жертвой пал секретарь Азовско-Черноморского крайкома ВКП(б) Шеболдаев (инициатор переименования Царицына и один из главных заговорщиков на съезде «победителей»). Новый, 1937 год начался для него печально — уже 2 января ЦК принял постановление, в котором Шеболдаев обвинялся в «политической близорукости». Оказалось, что он засорил парторганизацию края врагами народа всех мастей. Шеболдаева переместили на более скромную должность секретаря Курского обкома.
Эта аппаратная операция была инициирована группой Сталина. Перед тем как ЦК принял постановление по Шеболдаеву, в крае побывал Андреев, один из наиболее стойких сталинцев. В ходе его поездки была тщательно исследована ситуация, сложившаяся в крупнейших городах региона — Ростове, Краснодаре, Новороссийске, Новочеркасске, Сочи. Проверка показала, что руководство горкомов и горсоветов оказалось переполнено троцкистами. Нас сейчас не должно интересовать — сколько процентов правды и лжи было в этой амальгаме, столь типичной для того времени. Очевидно одно — вождь стремился ослабить позиции одного из крупнейших регионалов, который занимал антисталинские позиции.
Реакция региональных лидеров не заставила себя ждать. Так, 13 января ЦК подверг резкой критике Постышева, и уже через три дня он был перемещен с поста секретаря Киевского обкома на место руководителя гораздо менее значимого Куйбышевского обкома. Это перемещение обычно связывают с коварностью Сталина, однако тут очевидна коварность Косиора. Дело в том, что Постышева на Украину прислали только в 1933 году, когда там с 1928 года уже образовалась весьма теплая компания во главе со Станиславом Викентьевичем. Вместе с Постышевым в республику прибыла группа новых партийных работников численностью примерно в 5000 человек. Почти никто из них не имел отношения к, так скажем, «этническим украинцам». То была хитрая задумка Центра — создать сильному руководству этой республики сильный же противовес. По сути, с прибытием Постышева на Украине сложилось некое двоевластие, которое ослабляло Косиора и его команду.
Само собой разумеется, что Сталину вовсе не было никакой нужды нападать на Постышева до полного и окончательного подчинения Украины. А вот Косиор такую нужду испытывал. Кроме того, смещение Постышева стало яркой демонстрацией той силы, которой обладали регионалы.
Сталин, правда, выжал из этой неудачи определенную пользу. Он послал в Киев Кагановича с поручением — встретиться с Николаенко, той самой дотошной женщиной, пострадавшей за критику жены Постышева. Каганович поручение выполнил и сообщил Сталину о благоприятном впечатлении, которое произвела на него Николаенко. После этого сталинские «политтехнологи» сделали из нее этакий символ антибюрократического сопротивления рядовых масс. Был создан образ нового героя — «маленького человека», вступающего в опасную схватку с коварным и сильным противником. Культ этого человека призван был дополнить культ Сталина и заменить культ региональных вождей. На февральско-мартовском пленуме Сталин уделит Николаенко очень много внимания.
Поворотный пленум
Обе стороны обменялись полновесными ударами, однако так и не разрушили свой тактический союз, направленный против Орджоникидзе и «правых». Орджоникидзе «своевременно» ушел из жизни накануне пленума. А вот с «правыми» надо было что-то решать. Было совершенно ясно, что они падут на предстоящем пленуме, но вот в какой форме это произойдет, было пока еще неизвестно. По этому поводу между Сталиным и «левыми консерваторами» существовали разногласия. Сталин поначалу предложил пленуму исключить Бухарина и Рыкова из партии, а потом направить в ссылку. Однако это предложение не прошло ввиду упорного сопротивления партноменклатурных кланов. Тогда Сталин пошел на некий компромиссный вариант — он предложил не решать судьбу «правых» сейчас, а провести расследование в НКВД. Что и было сделано.
Надо отметить, что на пленуме сталинская группа выступала в качестве «демократического» крыла ВКП(б), тогда как регионалы, по большей части, проявили себя как приверженцы «тоталитарно-революционных методов», они без удержу разоблачали «врагов» и требовали проведения репрессивных мер. С наиболее кровожадными речами выступали Косиор, Эйхе, Постышев, Саркисов, Шеболдаев, Варейкис и др. Очевидно, к регионалам тогда примкнули и левые милитаристы. Их представитель Якир голосовал за расстрел Бухарина и Рыкова. Милитаристы поняли, куда дует ветер, и теперь уже сами набросились на друзей Орджоникидзе.
И вот что любопытно. С наиболее либеральными и антитеррористическими соображениями на пленуме выступили как раз «наиболее одиозные фигуры из сталинского окружения» — Ежов и Вышинский.
Нарком внутренних дел пытался уверить пленум в том, что «вражеский фронт» сужается «изо дня в день». Теперь уже нет никакой необходимости в массовых арестах и ссылках, которые проводились в ходе коллективизации. Ежов заговорил о коллективизации не случайно. Он напомнил регионалам об их собственных бесчинствах, творимых во время «раскулачивания». Им подчеркивалось, что теперь уже нет вообще никакой нужды прибегать к массовым репрессиям.
С резкой критикой НКВД выступил Вышинский. Он вскрыл факты недостойного поведения следователей-чекистов, пытавшихся давить на людей и даже фальсифицировать дела. По мнению Вышинского, следственные мероприятия страдают «обвинительным уклоном». В работе НКВД и прокуратуры он выявил опасную «тенденцию построить следствие на собственном признании обвиняемого». «Между тем, — утверждал этот „сталинский монстр“, — центр тяжести расследования должен лежать именно в… объективных обстоятельствах».
Критики Сталина и здесь обнаруживают полную неспособность дать вразумительное объяснение тем фактам, которые не укладываются в их схемы. Более или менее серьезный анализ выступления Вышинского дал только В. Роговин, но и он не сумел обойтись без противоречий себе же. Этот историк, например, уверяет, что «демонстрируя свою приверженность строгому соблюдению юридических норм, Вышинский стремился снять существующее у некоторых участников пленума внутреннее сомнение в юридической безупречности недавних процессов, на которых он выступал государственным обвинителем». Допустим, это так. Но ведь тогда получается, что при этом он ставил под сомнение ту репрессивную кампанию, которая разворачивалась накануне пленума и во время его. То есть выходит, что Вышинский выступал против дальнейшей эскалации репрессий. Правильно, так оно и было. Вот только как тогда быть с обвинениями в адрес «тоталитарного» сталинизма? Ну а что касается слов Ежова о ненужности массовых репрессий, то здесь никто ничего путного не говорит вообще. Странно, как это наши разоблачители не смогли приписать Сталину еще одно потрясающее коварство в духе Макиавелли.
Сталинисты, конечно, тоже призывали к борьбе с «врагами народа» и «троцкистами». Тот же Ежов выступал за расстрел Бухарина и Рыкова (подобное требование было неизбежным для человека его должности). Они не могли не учитывать того, что революционные настроения далеко еще не были изжиты в полной мере и присущи довольно-таки широким кругам в партии и обществе. Но при этом национал-большевики несколько смещали акценты. Они настойчиво обращали внимание на необходимость демократизации ВКП(б), скорейшего проведения тайных выборов в партийные органы, отмену кооптации.
Регионалы вынужденно соглашались со сталинистами (подобно тому, как сами сталинисты вынужденно соглашались с регионалами по поводу репрессий). Однако они все время пытались перевести разговор на тему поиска врагов. Подчас только реплики Сталина заставляли регионалов согласиться с отказом от кооптации.
О силе регионалов и нежелании идти на демократизацию партийной жизни свидетельствует тот факт, что пленум так и не принял предложение Жданова, который настаивал на скорейшем проведении партийных перевыборов. ЦК поддержал Косиора и Хатаевича, которые потребовали оттянуть сроки окончания выборов в парторганизациях. Вот и верь после этого в байки о сталинском всевластии! Оказывается, еще в марте 1937 года Центральный комитет мог запросто не согласиться с мнением ближайшего сталинского соратника, то есть, по сути дела, с самим Сталиным. И весьма показательно то, по какому вопросу ЦК полемизировал с «кровавым палачом». Оказывается, этот палач, «великий и ужасный» Сталин, прямо-таки навязывал демократию, а его будущие «невинные» жертвы от этой демократии бегали, как черт от ладана. Да еще и требовали репрессий — побольше.
На пленуме были окончательно ослаблены «хозяйственные» наркоматы. По ним били как сталинисты, так и регионалы. Поводом для нападок послужило так называемое «вредительство». Его масштабы раздувались чрезвычайно, с тем чтобы создать впечатление о крайне неблагоприятной обстановке, царившей в наркоматах. Она, конечно, такой и была, но связывать это следовало не с вредительством, а с бюрократизмом и канцелярщиной, царившей во многих ведомствах. Однако так ставить вопрос регионалы не могли. Они сами были прожженными бюрократами и понимали, что критика бюрократизма ударит по ним же самим. Нужно было все списать на политический фактор, на врагов, деятельность которых якобы и является причиной большей части хозяйственных трудностей.
Группа Сталина с таким подходом была согласна, хотя и расставляла свои специфические акценты, о которых будет сказано дальше. Очевидно, в сентябре 1936 года между сталинистами и регионалами был заключен некий компромисс. Последние обещали поддержать Сталина против Орджоникидзе, а тот пообещал перевести борьбу с технократами в плоскость борьбы с вредительством.
Надо отметить, что именно регионалы чересчур усердствовали в разоблачении вредителей. Выступления первых секретарей — Кабакова, Саркисова, Е. Г. Евдокимова, М. Д. Багирова дают образчик самой разнузданной травли. Порой они доходили до откровенно фантастических утверждений. Так, уральский босс Кабаков утверждал: «В одном магазине встретили такой факт — на обертку используют книги Зиновьева, в другом ларьке обертывают покупки докладом Томского. Мы проверили, и оказывается, такой литературы торгующие организации купили порядочное количество тонн. Кто может сказать, что эту литературу пользуют только для обертки?».
Гораздо более взвешенным было выступление Молотова. Вячеслав Михайлович очень сурово проехался по «вредителям», однако не стал «зацикливаться» только на них. Он обратил внимание на «канцелярско-бюрократические методы», которые плодят многочисленные структуры, мешающие друг другу. Он призвал к улучшению организации на производстве, причем назвал конкретные меры, призванные оздоровить ситуацию: установление технических правил, личный инструктаж, регламентация техники и т. д.
Кроме того, Молотов предостерег от излишнего усердия в борьбе с «вредителями». В качестве примера такого усердия он привел несколько фактов. Например, травлю директора Пермского авиамоторного завода Побережного, организованную первым секретарем Пермского горкома Голышевым. Спасло директора лишь своевременное заступничество Политбюро. Молотов прямо сказал, что партийные работники должны заниматься своей работой, а не искать врагов, предоставив это дело органам НКВД. Это был уже явный «наезд» на регионалов.
Результаты пленума были двойственными. Левые консерваторы сумели еще больше наэлектризовать обстановку, сильнее заострить «тему врага». Настояв на аресте Бухарина и Рыкова, они перешли через еще одну важную черту. Раньше не поглядели на заслуги Зиновьева и Каменева, но эти деятели были скомпрометированы своей поддержкой Троцкого в 20-е годы. А Бухарин с Рыковым были гораздо более авторитетны, к тому же они в свое время внесли большой вклад в разгром троцкизма. Их арест сломал очередную преграду на пути к террору. Теперь было ясно, что жертвой репрессий может стать любой человек.
В принципе это совершенно правильный подход — для нормальных государств, обладающих сильной правовой системой. Никто не должен считать себя неподсудным. Однако СССР был государством, травмированным так называемым «революционным правосознанием», и элементы этого правосознания оказывали очень и очень ощутимое воздействие на поведение людей. В такой ситуации всегда лучше «недожать», чем «пережать». Это отлично понимал Сталин, которого многому научили уроки коллективизации. А вот регионалы этих уроков не усвоили. Они склонялись к тому, чтобы «пережать». И на пленуме победил именно их подход.
В то же самое время Сталин сумел убедить ЦК в необходимости демократизации партии. Секретари вынуждены были признать ненормальной ту обстановку, которая сложилась вокруг выборных органов, чья выборность оказалась фикцией. Были назначены тайные перевыборы партийных органов. Эта кампания нанесла мощный удар по местному руководству.
Сталин наступает
Кампания по перевыборам чрезвычайно оживила политическую жизнь страны. Делегатам партийных собраний и конференций было предоставлено право неограниченного отвода кандидатур, которым они активно пользовались. Порой обсуждение кандидатов затягивалось на целую неделю.
Демократический характер перевыборов очевиден. Это, правда, с большими оговорками, признают даже многие историки-антисталинисты. Например, Р. Такер в свой монографии «Сталин у власти. 1929–1941» пишет следующее: «…Ясно, почему Жданов (читай — Сталин) высказался на февральско-мартовском пленуме за „внутрипартийную демократию“. Под последней понималось не только тайное голосование при выборах в партийные органы, но и наделение рядовых членов партии правом критики своих партийных руководителей на партсобраниях. Прежде партиец не поднимал голоса против маленького Сталина в Омске — т-ща Булатова — или маленького Сталина в Смоленске — т-ща Румянцева. Теперь же, призывая членов партии всерьез воспринимать „внутрипартийную демократию“, их мобилизовали именно на это…».
При этом Сталина все равно ругают. Дескать, он хотел свалить неугодных ему людей, опираясь на недовольство партийной массы. И это, между прочим, вполне нормально. В любой, самой либеральной стране лидер желает подбирать руководство сам — из числа тех людей, которым он доверяет и которых считает своими единомышленниками. Другое дело, что делает он это, опираясь на мнение широких кругов, которые выносят лидерам доверие или недоверие. И Сталин как раз использовал самый демократичный из всех механизмов выявления поддержки — выборы. Они, конечно, сопровождались поисками врагов и обвинениями в государственных преступлениях. Такова была специфика положения СССР, который был весь покрыт родимыми пятнами гражданской войны. В стране произошел рецидив революционности. Ответственность за это несут прежде всего левые консерваторы, упрямо не хотевшие переходить на новые методы руководства, считавшие, что всего можно добиться путем административного нажима и репрессий. Сталин в первой половине 1937 года еще надеялся на то, что этот рецидив удастся довольно быстро подавить, пока он еще не привел к большой крови.
Критики Сталина, как всегда, противоречат себе же самим. То его обвиняют в бюрократизме, а то, напротив, в том, что он не церемонился с самой бюрократией. О последнем обстоятельстве особенно сокрушаются авторы, стоящие на левых позициях. Они почему-то считают, что старые заслуги перед революцией должны были автоматически превращать человека в некоего небожителя, совершенно недоступного для простых смертных. А обновление кадров ими трактуется как выдвижение на первый план молодых карьеристов. И только лишь.
Позволю себе сделать еще одно отступление. На этот раз в область литературы. Вообще освещение эпохи сталинизма глазами литераторов, в первую очередь прозаиков, — тема особая. Я обращу внимание на творчество писателя А. Рыбакова, автора некогда популярнейшего романа «Дети Арбата». Это произведение в свое время нанесло по образу Сталина удар такой силы, которая намного превышает силу десятка толстых академических исследований, написанных «внезапно прозревшими» историками. «Дети Арбата» представляют собой некую квинтэссенцию левого «антисталинизма», выражающего недовольство потомков революционной элиты, которая была выращена Лениным и решительно сметена Сталиным. Если внимательно читать «Детей», то легко заметить недовольство именно демократизмом Сталина. Потомки устраненных с властного Олимпа «комиссаров в пыльных шлемах» потому и ударились в прозападное диссидентство, что видели в буржуазной демократии единственно возможную альтернативу демократии национальной и социалистической, отвечающей особенностям нашей страны. Неотроцкистская революция не произошла бы в любом случае, вот сынки и дочки палачей и сделали выбор в пользу капитализма.
Рыбаков приписывает Сталину довольно-таки верные мысли, которые у того действительно были. Так, в романе Сталин определяет в качестве своего главного врага красный бюрократизм: «Аппарат имеет свойство коснеть, аппарат, сплоченный многолетними связями, вместо рычага становится тормозом, становится мумией… Аппарат надо сохранить, аппарат надо укреплять, но надо в зародыше убить в нем самостоятельность, непрерывно менять людей, не давать цементироваться взаимным связям, непрерывно сменяющийся аппарат не имеет самостоятельной политической силы, но остается могучей силой в руках вождя… нынешний аппарат (действие романа происходит в 1934 году. — А. Е.) — это уже старье, отработанный пар, хлам. Однако эти старые кадры и наиболее сцементированы, наиболее взаимосвязаны, они со своего места так просто не уйдут, их придется убирать».
Весьма любопытно описание «проработки» главного героя романа — Саши Панкратова. Партийная организация вуза, в котором Саша учился, выдвинула против него политическое обвинение. За Сашу пытается вступиться его дядя — Марк Рязанов, директор одного из крупнейших заводов и любимец самого Сталина. По просьбе Марка за Сашу хлопочет старый большевик, нарком Будягин. И что же, это пугает обвинителей? Нет, нисколько. На собрании, «прорабатывающем» Сашу, секретарь партбюро Баулин говорит следующее: «Панкратов рассчитывал на безнаказанность. Рассчитывал на высоких покровителей. Был уверен, что партийная организация спасует перед их именами. Но для партийной организации дело партии, чистота партийной линии выше любого имени, любого авторитета».
Прямо какой-то апофеоз демократизма! Почему же Рыбаков так недоволен сталинизмом? А потому что он никакой демократии не хотел, как не хотели ее (и не хотят) другие критики сталинизма. Им нужна власть олигархии. Не получилось с коммунистической олигархией, так получится олигархия капиталистическая. Такая логика и способствовала, во многом, тому направлению, которое выбрала горбачевская «перестройка». Вместо действительной демократизации она пошла по пути капитализации, передав власть в руки обуржуазившейся бюрократии, а собственность — буржуазным олигархам.
Рыбаков и подобные ему «левые» авторы проговариваются, и эта их оплошность позволяет сделать правильные выводы. Я, правда, вовсе не склонен столь высоко оценивать степень демократизма, который существовал в 1934 году, как это невольно делает Рыбаков. В то время проведение таких собраний было невозможно. А вот в 1937 году они были самым обычным делом.
И надо сказать, что региональные лидеры всячески препятствовали демократическому волеизъявлению рядовых партийных масс. Уже 20 марта Косиор прислал Сталину телеграмму, в которой вопрос о закрытом голосовании был назван неясным. Сталин ситуацию прояснил, ответив кратко, но четко: «Все выборы проводятся путем тайного голосования». А для подстраховки он в тот же самый день провел через Политбюро циркуляр, в котором предписывалось проводить именно тайное голосование, запретить голосовать списком и обеспечить право неограниченного отвода кандидатур. Сопротивление регионалов было столь сильным, что 8 мая ПБ принимает циркуляр, в котором еще раз обращает внимание не недопустимость открытого голосования.
Конечно, Сталин вовсе не полагался во всем на стихию масс (этого не делает ни один политик). Движение «снизу» он дополнил неким движением «сверху», призванным ослабить позиции секретарей крупнейших региональных организаций. Он сделал довольно остроумный ход, организовав через Секретный отдел ЦК непосредственную и скрытую связь с секретарями районных комитетов (о том, что такая связь действительно была, свидетельствуют данные смоленского партархива, захваченного немцами во время войны). Тем самым вождь натравил мелких партократов на крупных.
Позиции Сталина укрепились еще и после мартовских арестов Ягоды и нескольких лиц из бывшего руководства НКВД — П. П. Буланова, И. М. Островского, М. И. Гая, К. В. Паукера. Ежовское руководство НКВД лишний раз позиционировало Сталина в качестве разоблачителя серьезного заговора спецслужб и гаранта от любых заговоров в ЧК. Это была еще одна из причин, по которой партократия, скрипя зубами, позволила Сталину осуществить ряд выгодных для него структурных преобразований.
Так, 14 апреля в ПБ были созданы две постоянные комиссии. Одна из них должна была решать внутриполитические вопросы, не терпящие отлагательства. В ее состав вошли Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович и Ежов. Другой комиссии предстояло решать такие же вопросы внешней политики. В нее включили Молотова, Сталина, Чубаря, Микояна и Кагановича. Созданием указанных комиссий Сталин достигал усиления позиций правительства, Совета народных комиссаров. Обращает на себя внимание, что в комиссии, кроме самого Сталина, были включены только и исключительно деятели союзного правительства (Чубарь на тот момент был заместителем председателя СНК СССР). Очевидно, его включение во внутриполитическую комиссию было неким компромиссом с группировкой регионалов. Чубарь происходил из их среды, но находился уже под влиянием чуждого им аппарата Совнаркома. Любопытно, что при перечислении членов внешнеполитической комиссии Сталин стоит на втором месте после Молотова. Может быть, Сталин уже тогда прочил его на пост наркома иностранных дел? Некоторые историки, например Р. Такер, утверждают, что соглашение с Германией (подобное пакту Молотова — Риббентропа) могло быть заключено уже в мае 1937 года; в этом случае Литвинов не смог бы оставаться руководителем советской дипломатической службы.
Своим решением создать комиссии Сталин ясно давал понять, что главную роль в стране будут играть именно государственные деятели. От них в первую очередь должно было зависеть решение важнейших и безотлагательных проблем как внутренней, так и внешней политики.
Через девять дней Сталин одержал еще одну победу. Он провел разукрупнение 7 крайкомов и обкомов РСФСР — Северо-Кавказского, Сталинградского, Саратовского, Горьковского, Свердловского, Ленинградского, Восточно-Сибирского. Из их подчинения вывели парторганизации автономных республик, которые подчинили ЦК ВКП(б). Кроме того, были созданы компартии и их ЦК в двух республиках — Казахской и Киргизской. Закавказский крайком был ликвидирован и на его месте возникли три независимые друг от друга компартии — Грузии, Армении и Азербайджана. Подобной мерой Сталин сталкивал секретарей новых партобразований с теми лидерами, которым они раньше подчинялись.
А 25 апреля ПБ создало особый орган — Комитет обороны при СНК СССР. В него вошли 11 человек: Молотов, Сталин, Каганович, Ворошилов, Чубарь, Гамарник, Жданов, Ежов, В. М. Рухимович, В. И. Межлаук. Председателем КО стал Молотов. Здесь бросается в глаза то, что в правительственный Комитет включили Сталина и Жданова — двух секретарей ЦК, не занимающих никаких должностей в правительстве. Они оказались подчиненными именно Молотову — председателю СНК. Речь, конечно же, не шла о том, чтобы Сталин подчинялся Молотову как политик. Сталин хотел, чтобы в подчиненном положении оказалась сама должность первого секретаря ЦК. Сам Сталин явно стремился занять пост руководителя правительства, наиболее подходящий ему — вдумчивому и кропотливому организатору. На пост первого секретаря ЦК он, скорее всего, намечал поставить идеолога Жданова.
Попытка переворота
Однако весной в политическую игру активно включается группа «левых милитаристов» — сторонников Тухачевского. До той поры она в основном стояла в стороне, хотя ее настрой и оказывал определенное влияние на расклад политических сил. Так, летом 1936 года милитаристы поддержали Орджоникидзе, чем придали ему определенный вес. А в феврале-марте 1937-го они приняли участие в травле Бухарина и Рыкова, что облегчило расправу над лидерами «правых». Но все это были периферийные шевеления. А ставку свою милитаристы делали именно на военный переворот.
Молотов, абсолютно убежденный в наличии заговора, говорил Чуеву, что высшее руководство даже знало точную дату переворота. Он ее, правда, не называет, но можно с большой долей вероятности, считать, что переворот планировалось осуществить 1 мая 1937 года. Скорее всего, он должен был произойти во время военного парада. Наблюдатели отмечают, что празднование Первомая прошло в довольно-таки напряженной обстановке. По свидетельству английского журналиста Ф. Маклина, «члены Политбюро нервно ухмылялись, неловко переминались с ноги на ногу, забыв о параде и о своем высоком положении». Все, кроме Сталина, хранившего ледяное спокойствие.
Сталин, поднявшись на трибуну мавзолея, демонстративно отказался пожать руку Тухачевскому. Что это было? Проявление гнева? Вряд ли. Сталин никогда бы не дал волю своим чувствам при таком большом скоплении VIP-персон, если бы не ставил перед собой определенных, вполне прагматических целей. Скорее всего, он хотел предупредить Тухачевского, что знает о заговоре и чтобы тот не предпринимал никаких необдуманных поступков, которые могут привести к огромным жертвам и падению престижа СССР на международной арене.
Обращает на себя внимание и странное поведение Тухачевского. На всем протяжении парада он стоял, держа руки в карманах, что было ему не свойственно. Не имея военных талантов, Тухачевский все же обладал красивой выправкой и аристократическими манерами. Возможно, в карманах у Тухачевского находилось готовое к бою личное оружие.
Кстати, о личном оружии. Отличалось и поведение Ворошилова, одного из главных оппонентов Тухачевского. Обычно он стоял на мавзолее без оружия. Однако в тот день на его поясе демонстративно находилась кобура от пистолета. Вряд ли она была пустой…
Обычно военные руководители после парада оставались еще и на праздничную демонстрацию трудящихся. Так делал и Тухачевский. Но на этот раз он, дождавшись конца парада, спустился с мавзолея и отправился прочь от него.
В. Кривицкий, принимавший участие в майских торжествах в качестве почетного гостя, рассказывает о том, что спецотдел НКВД готовился к 1 Мая в течение двух недель, забросив все другие дела. На торжествах присутствовало невиданное количество чекистов, одетых в штатское.
Переворот не удался, однако заговорщики остались на свободе — временно. Сталин хотел собрать как можно больше доказательств в пользу заговора и тем самым сделать руководство всех уровней более податливым. К тому же решительные действия, предпринятые в самом начале мая, могли окончиться вооруженными столкновениями — со всеми вытекающими последствиями. Слишком сильны были мятежные генералы. Сталин решил сначала ослабить влияние Тухачевского, сместив его с должности заместителя наркома обороны. Это произошло 13 мая, когда Тухачевский получил новое назначение — на пост командующего Приволжским военным округом. Потом пришло время Якира, которого перевели в Ленинградский военный округ. Органы арестовывают бывшего начальника ПВО Медведева, Фельдмана, Корка. Все они дают показания на Тухачевского и многих других высших военных руководителей. Одновременно следователи «трясут» военных-троцкистов — Примакова и Путну. Они тоже показывают на Тухачевского. И вот наконец 22 мая арестовывают Тухачевского, 28 мая — Якира, а 29-го — Уборевича. 30 мая из наркомата обороны изгоняют начальника Политуправления РККА Гамарника. На следующий день он кончает жизнь самоубийством.
Далее события развиваются стремительно. Уже 12 июня, в течение одного дня, проходит закрытый процесс, на котором Тухачевский, Якир, Уборевич, Корк, Фельдман, Эйдеман, Примаков и Путна были приговорены к смертной казни.
Сразу настораживает та быстрота, с которой были осуждены военные вожди. С Зиновьевым и Каменевым, Бухариным и Рыковым возились гораздо дольше. Складывается впечатление, что каждый день жизни военных заговорщиков представлялся Сталину очень и очень опасным. Почему? У мятежников явно были покровители в политическом руководстве страны. Они могли решительно выступить на июньском пленуме ЦК, добившись освобождения и реабилитации милитаристов. Тогда события пошли бы по самому опасному пути (вплоть до гражданской войны).
Кто же из партийного руководства мог быть заодно с Тухачевским? Мне представляется, что надо внимательно приглядеться к группе регионалов. Все они были недовольны апрельскими успехами Сталина. Но наиболее радикальная их часть отвергла путь аппаратного противоборства и решила пойти на государственный переворот.
Что говорит в пользу этого предположения? Прежде всего отметим такое любопытное совпадение. В мае происходят аресты военачальников, и в мае же начинаются аресты секретарей крайкомов и обкомов. До этого их могли смещать и критиковать. Но арестовывать?..
По решению ПБ от 13 мая был снят с занимаемой должности первый секретарь Свердловского обкома И. Д. Кабаков. Через три дня было дано разъяснение. Оказывается, Кабаков принадлежал к «контрреволюционному центру правых». Одновременно с ним были сняты Саркисов и А. Р. Вайнов, секретарь Ярославского обкома. Правда, против них пока еще не выдвигали никаких политических обвинений. Весьма возможно, что они просто стали жертвами той кадровой игры, которую Сталин вел с регионалами. А вот Кабаков, скорее всего, был как-то связан с военными заговорщиками — не случайно его сняли почти одновременно с перемещением на Волгу Тухачевского. Вряд ли бы Сталину тогда удалось передать дело в НКВД, не имей он твердых доказательств вины Кабакова. А так его сдали свои же. Через месяц со своего поста слетел еще один региональный барон — Румянцев, бывший первым секретарем Западного (Смоленского) обкома. Он был обвинен в связях с «врагом народа Уборевичем». Связи в любом случае имели место — в то время Смоленская область входила в состав Белорусского военного округа.
Был ли связан с заговорщиками Лев Давидович Троцкий? Мы его успели маленько подзабыть, однако он такого отношения не заслуживает. Человечище был действительно матерый.
По официальной версии, троцкисты, само собой, были связаны с заговором. Но мы будем помнить, что официальные версии той поры являются амальгамами и в них надо скрупулезно отделять зерна от плевел. А это весьма трудно. Особенно в данном случае. Троцкий надежно законспирировал большинство своих контактов с СССР. И надо думать, что возможные связи с армией держались бы им в самом большом секрете. Ведь армия — это надежнейший путь к власти. Поэтому придется включить логику и соотнести одни известные и бесспорные факты с другими такими же фактами.
Вспомним, что сам Тухачевский был выдвиженцем Троцкого, активно им поддерживался. И тот и другой ориентировались на проведение политики «завинчивания гаек», организации жизни советского общества по образцу военного лагеря. Одно время Троцкий выступал за милитаризацию профсоюзов и создание трудармий, бывших чем-то средним между казармой и концлагерем. Наркомвоенмор уже видел себя во главе массовых революционных армий, освобождающих Европу. И военизированная организация всего общества должна была служить грядущим завоевательным походам. Троцкий сравнивал Россию с передовым отрядом мировой революции, который должен был погибнуть в битвах за социалистические Соединенные Штаты Европы.
Демократом Троцкий стал, когда почувствовал, что его отсекают от руководства. Вот тут-то он и вспомнил про «внутрипартийную демократию». Она ему понадобилась, чтобы свободно оппонировать Сталину и другим противникам. А приди «демон революции» к власти, он бы такую «демократию» устроил, мало не показалось бы. По крайней мере, уже в эмиграции он вовсе не церемонился со своими соратниками по IV Интернационалу. Когда мексиканский троцкист Галисия потребовал свободы мнений внутри троцкистского Интернационала, сам Троцкий немедленно заявил о том, что это требование противоречит принципам централизма. Как только американские троцкисты предложили провести внутри движения референдум по вопросу о том, является ли СССР рабочим государством, так Троцкий взял и дезавуировал их предложение. А троцкистов Бэрнхэма и Шахтмана, усомнившихся в пролетарской природе СССР, Троцкий просто-напросто исключил из своего Интернационала. Так что демократ он был еще тот. Типа Ельцина.
Получается, что Троцкий и левые милитаристы идейно были весьма близки друг другу. И «демон революции», и полководцы-заговорщики одинаково ценили милитаризм, мечтая использовать его для осуществления внешнеполитических авантюр революционного характера.
Еще в 1932 году Троцкий призвал к военному свержению сталинизма. Было бы наивно думать, что такой опытный политик и убежденный борец не попытался бы выйти на связь с недовольными генералами. И также наивно было бы полагать, что сами генералы-заговорщики отказались бы от поддержки Троцкого. Ведь в СССР их группировка была самой слабой. Да, конечно, армия — это сильный козырь. Но, во-первых, они ее полностью не контролировали. А во-вторых, власть в стране все же принадлежала политическим элитам.
Характерно и наличие в рядах тухачевцев Примакова и Путны, бывших активных троцкистов. Это навевает кое-какие интересные мысли.
Но более всего интересен «испанский след». По данным Кривицкого, Тухачевский был очень сильно недоволен политикой Сталина в Испании. Он считал, что СССР беспардонно вмешивается во внутренние дела испанцев, а сталинские агенты распоряжаются в Испании, как в покоренной стране. На первый взгляд, выглядит все это очень благородно. Не забыть бы только о том, что сам Тухачевский, как и Троцкий, мечтал о революционных завоевательных походах в другие страны. На самом же деле маршала волновало то, что сталинская агентура сдерживает чрезвычайно бурную активность испанских леваков, среди которых не последнюю роль играли троцкисты. Выше я уже отмечал, что сталинистская Компартия Испании (КПИ) получила из Москвы четкие инструкции — препятствовать развитию революции и опираться на самые широкие слои. В КПИ стали в массовом порядке вступать представители средних слоев. Вряд ли это было бы возможно, если бы сталинская агентура проводила репрессивную политику в отношении испанского народа. Нет, спецслужбисты из СССР преследовали именно крайне левых, особенно троцкистов и близких к ним. Вот это и тревожило Тухачевского. Он-то хотел сделать из Испании некую военно-революционную базу на Пиренеях. Но ведь того же самого хотел и Троцкий…
Когда в Испании началась гражданская война, Тухачевский и Уборевич предложили Сталину направить их в эту страну на помощь республиканцам. Об этом сообщал сам Сталин, задолго до репрессий, в иронично-снисходительном тоне. Заместитель наркома обороны хочет ехать воевать в чужую страну? Вот уж это «оздоровило» бы международное положение! Какой сильный козырь получили бы сторонники вооруженного «крестового похода против коммунизма»! Но главное даже не в авантюризме подобного предложения. Авантюризм здесь наличествует с точки зрения дипломатии, а Тухачевский преследовал не дипломатические цели, не цели внешней политики СССР. Он явно хотел подготовить почву для победы ультралевых сил, которая создала бы столь желанную для него революционной базу. Кстати, с этой базы военным заговорщикам могли оказать самую действенную поддержку.
Бросается в глаза одно потрясающее совпадение! В конце апреля — начале мая, когда в Москве планировалось осуществить военный переворот, в испанской провинции Каталония полыхал ультралевый мятеж. Костяк его составляли анархисты из Национальной конфедерации труда (НКТ). Серьезную поддержку им оказала Рабочая партия марксистского единства (испанская аббревиатура — ПОУМ). А это была протроцкистская организация.
Я использовал приставку «про» не случайно. Троцкисты очень обижаются, когда ПОУМ считают троцкистской партией. И это тот редкий случай, когда они хоть отчасти правы. Действительно, в ПОУМ существовало несколько фракций. Только часть из них склонялась влево, к троцкизму, другую часть кренило вправо — к левой социал-демократии. (Между прочим, это отлично демонстрирует ту легкость, с которой ультралевые объединяются с «правыми оппортунистами» — тогда, когда речь идет о борьбе против «сталинизма», то есть против патриотического социализма.) Однако сам Троцкий возлагал очень большие надежды на ПОУМ, считая, что она способна перевести испанскую революцию на коммунистические, пролетарские рельсы. И мы можем смело делать вывод — Троцкий был замешан в левацком мятеже. А то, что попытка путча в Москве совпала по времени с путчем в Барселоне, говорит о многом.
Сталин, однако, сумел подавить оба эти путча. Победа над военными заговорщиками еще больше укрепила его позиции и дала ему основания для новых структурных преобразований. Решение ПБ от 11 мая 1937 года предоставляло верному сталинцу Маленкову и руководимому им отделу работы с партийными органами (ОРПО) очень большие полномочия. Теперь аппарат ЦК напрямую контролировал все кадровые перемещения, осуществляемые как в партийных, так и в государственных организациях. Во-первых, это давало в руки первого секретаря ЦК Сталина мощнейший организационный ресурс. Во-вторых, решение ПБ было серьезным шагом на пути затеянных им широкомасштабных реформ.
Сталин хотел избавить партию от непосредственного руководства государством. Но он вовсе не хотел, чтобы она перестала быть правящей партией. Он планировал сосредоточить ее руководящую роль на идеологии, а также на контроле за кадровой политикой. Иными словами, партия, по мысли Сталина, должна была руководить государством, но лишь опосредованно, более гибко. Решения по всем вопросам внутренней и внешней политики принимали бы государственные организации, однако партия могла бы сказать свое веское слово посредством кадровых рычагов. Таким образом, и государство, и партия находились бы в равновесном состоянии, дополняя друг друга.
Сталин был противником догматизма и заидеологизированности, присущей коммунистам. В то же время он отлично понимал, что первейшей слабостью дореволюционной правящей элиты была ее аполитичность. Царская Россия обладала мощным государственным аппаратом, сильнейшей армией, неплохой жандармерией. Однако у нее совершенно не было политической организации, которую она могла бы противопоставить революции. Власть смогла подавить вооруженные восстания времен первой русской революции. Власть обуздала кровавый эсеровский террор. Но она показала себя абсолютно беспомощной в 1915–1917 годах, когда в основу подрывной деятельности была положена парламентско-пропагандистская деятельность либеральных партий. Прогрессивный блок нападал на правительство в Думе, но Совет министров принял решение никак не отвечать на клевету кадетских адвокатишек. В крайнем случае цензура вымарывала из газет речи оппозиционеров, что не только не помогало, а, напротив, вредило. Люди тянулись к запретному плоду, любопытствовали, что порождало самые невероятные слухи и домыслы. Итог общеизвестен.
Сталину было очевидно, что государственный аппарат, замкнувшись сам на себе, окостенеет, превратится в «силу», неспособную отвечать на политические вызовы эпохи. Мало чего хорошего принесла бы и партийная монополия, которая растворила бы партию в рутине повседневных дел, сделав ее организацией бюрократов и канцеляристов. Так оно и произошло. Сталинский урок пошел не впрок хрущевско-брежневским партаппаратчикам.
Жаркое лето 1937 года
Жарким оно было прежде всего в политическом отношении. Именно тогда в стране и развернулся настоящий, «большой» террор, который унес жизни множества людей — и правых, и виноватых. Окончательный поворот к массовому террору произошел на июньском пленуме ЦК. Тогда была предпринята мощная атака на Сталина.
Старый большевик Темкин рассказывал о том, что накануне пленума некоторые из руководителей провели серию тайных совещаний, названных «чашкой чая». На них обсуждался вопрос о смещении Сталина с поста первого секретаря ЦК. Причем на вооружение была взята довольно осторожная тактика — подвергнуть критике не популярного вождя, а его выдвиженца, «железного наркома» Ежова и сам НКВД. Доподлинно известно о двух выступлениях на пленуме, которые были направлены против НКВД (в течение четырех дней, с 22 по 26 июня, но заседания пленума не стенографировались, поэтому судить о многих событиях можно, только опираясь на воспоминания очевидцев). Речь идет о выступлениях наркома здравоохранения Г. Н. Каминского и заведующего политико-административным отделом ЦК И. А. Пятницкого.
Каминский вначале напал на сталиниста Берия, обвинив его в сотрудничестве с английской разведкой, которое якобы имело место во время гражданской войны. Берия был также обвинен в репрессиях против партийного руководства в Закавказье. Затем Каминский «плавно» перешел к НКВД. Он выразил недоверие Ежову и его ведомству, обратив внимание на массовые аресты среди коммунистов: «Так мы перестреляем всю партию».
А между тем на февральско-мартовском пленуме Каминский был одним из наиболее ревностных борцов с «врагами». Тогда он не боялся за судьбу партии. Что же произошло? Может, стали арестовывать не тех, кого нужно? Например, военных заговорщиков и связанных с ними секретарей обкомов?
Не менее критичным было и выступление Пятницкого. Он заявил, что НКВД фабрикует дела и необходима его комплексная проверка. Это выступление было очень весомым. Дело в том, что отдел Пятницкого как раз и занимался курированием органов госбезопасности по партийной линии. И, кстати говоря, сам Пятницкий непосредственно участвовал в организации московских процессов и политических преследований, которые были санкционированы февральско-мартовским пленумом и на котором его голос протеста не был слышен, так же как и голос Каминского. И это еще более укрепляет уверенность в том, что критики НКВД возражали не против репрессий как таковых. Их беспокоило то, что репрессии пошли не по тому пути.
Выступление Пятницкого было для Сталина неожиданным. Поначалу он даже попытался уговорить его взять свои слова обратно. Сталин в 1935 году вытащил Пятницкого из Коминтерна, где он возглавлял отдел международных связей (ОМС), бывший чем-то вроде спецслужбы. Пятницкий не верил в идею народного фронта, и это объективно сближало его со Сталиным и, наоборот, отдаляло от коминтерновской бюрократии. Иосиф Виссарионович надеялся, что работа в аппарате ЦК «исправит» Пятницкого, превратит его в проводника сталинских идей. Но Пятницкий продолжал жить идеями мировой революции. Он сделал ставку на заговорщиков-авантюристов, которых стали чистить в мае-июне.
Об остальных участниках атаки можно судить только предположительно. Я склонен согласиться с реконструкцией В. Роговина. Он отметил, что уже в самом конце работы пленума Сталин предложил вывести из ЦК внезапно арестованных М. С. Чудова, И. Ф. Кодацкого и И. П. Павлуновского. Скорее всего, они тоже выступили против Сталина.
Чудов и Кодацкий были представителями кировской гвардии. Один был вторым секретарем Ленинградского обкома, второй — председателем Ленгорисполкома. Жданов, который стал руководителем Ленинграда после убийства Кирова, далеко не сразу смог устранить этих кировских выдвиженцев с их высоких постов. Поначалу он вообще смог осуществить кадровые перестановки лишь на уровне секретарей райкомов.
Заметим, что сам Киров был теснейшим образом связан с Тухачевским, некогда командовавшим Ленинградским военным округом. Это сразу настораживает и заставляет предположить связь Чудова и Кодацкого (да и всех критиков Сталина на июньском пленуме) с военными заговорщиками.
Атака на Сталина захлебнулась. Уже во время работы пленума были арестованы Каминский, Чудов, Кодацкий, Павлуновский. С Пятницким пришлось повозиться, слишком уж высоко было его положение. Этого фанатика мировой революции арестовали только 6 июля. Казалось бы, Сталин должен был торжествовать. Однако ему было не до торжества.
Региональные лидеры воспользовались атакой недобитых заговорщиков для того, чтобы еще больше раскрутить маховик террора. Критики НКВД дали повод для «усиления бдительности». 28 июня по предложению Эйхе в Западной Сибири была создана самая первая карающая «тройка», состоявшая из первого секретаря, прокурора области и начальника местного управления НКВД.
А через несколько дней, 2 июля, ПБ приняло решение о повсеместном создании таких «троек». Эти органы кошмарным образом возродили практику гражданской войны с ее ревкомовщиной. Несомненно, что их создание было выгодно в первую очередь регионалам. Оно усиливало их позиции в организационном плане и давало возможность наращивать репрессивную политику на местах. Для Сталина же «тройки» создавали новую опасность. Они представляли собой структуры, которые могли организовать настоящее сопротивление Центру.
Крушение регионалов
Регионалы, выражаясь по-современному, «достали» Иосифа Виссарионовича. Он решил предпринять открытый поход против красных князьков, начав с самого могущественного из них — Косиора. В августе 1937 года на Украину прибыла руководящая группа в составе Молотова, Хрущева и Ежова. Группу сопровождал контингент спецвойск НКВД. Прибыв на заседание пленума ЦК ВКП(б), посланцы из Москвы потребовали снять со своих постов Косиора и председателя СНК УССР Любченко. На место Косиора предлагалось поставить Хрущева.
Однако сталинская группа явно переоценила свои силы. Пленум взбунтовался и отверг требования Москвы. Тогда Сталин решил действовать хитрее. Он, через Молотова, предложил руководству УССР прибыть в столицу для переговоров и достижения компромисса. Это предложение вызвало раскол среди украинских боссов. Если Косиор склонялся к компромиссу, то Любченко категорически выступал за усиление конфронтации. Победил Косиор, который обвинил Любченко в создании на Украине «национал-фашистской организации». Первый секретарь попытался передать Любченко Москве на расправу, но там от такого «подарка» отказались, заявив, что украинские власти должны сами разобраться со своим премьером. И они, несомненно, разобрались бы, но Любченко их опередил, застрелившись сам и застрелив свою жену. Косиор прибыл в Москву, где радостно рассказал о раскрытии «национал-фашистского заговора». Ему позволили вернуться на Украину.
Теперь Сталин перестал противиться террору, который стал неизбежным. Он решает принять активное участие в организации репрессий, с тем чтобы сделать процесс управляемым и выжать из него максимальную выгоду. К счастью, вождь СССР не был прекраснодушным мыслителем. Он был прагматиком и понимал, что если какой-либо процесс нельзя остановить, то его нужно возглавить самому. Регионалам была дана отмашка. От них даже стали требовать все новой и новой крови. Сталин рассудил, что коли местные лидеры не хотят демократического обновления кадров, то оно пройдет диктаторскими методами.
Регионалы с радостной готовностью принялись сажать и расстреливать. На той же Украине погром кадров прошел несколько кругов. В Белоруссии первым «чистильщиком» был Гикало, но его весной сменил Шарангович, который тоже не отставал по части репрессий. Наконец, ему на смену пришел Волков.
Пожалуй, круче всех развернулся Постышев, напуганный регионалами в начале 1937 года. Он организовал в Куйбышевской области террор, беспрецедентный даже по меркам тех времен. Им была с успехом опробована своего рода новация — массовый роспуск райкомов. За время своего секретарства Постышев разогнал 30 РК. Разумеется, почти все разогнанные «комитетчики» были репрессированы. Постышев доходил до абсурда. Так, он с лупой в руке рассматривал школьные тетради, пытаясь обнаружить там свастику и другую фашистскую символику. И ведь «находил»! Свастикой могла быть объявлена даже простая ромашка.
Свирепствовал Варейкис — еще одна «безвинная» жертва сталинизма. В сентябре он послал в Москву одно весьма показательное письмо. В нем сообщалось о разоблачении «краевого троцкистско-правого японского (!) центра». Варейкис рапортовал: «…Почти вся группа старых работников из дальневосточных партизан разложена политически и была втянута в военно-фашистский заговор… на всех сколько-нибудь значительных железнодорожных узлах, станциях и депо были расставлены японские шпионы, агенты, резиденты. За это время основательно почистили дорогу. Свыше 500 шпионов расстреляно».
Не миндальничали и сталинисты. В Москве репрессии организовывал будущий разоблачитель культа личности Хрущев. В Ленинграде — Жданов. Из 65 членов ЛГК, избранных 29 мая 1937 года, до лета 1938 года дотянули лишь двое. Пятеро были переведены на другие должности, остальных — «почистили». Члены команды Сталина разъезжали по стране, участвуя в разгромах местных организаций. При этом они выводили из-под удара нужных людей, а участь особо вредных, напротив, усугубляли. Вождь не хотел пускать процесс на самотек.
В огненном вихре репрессий сгорело большинство ведомственных олигархов. «Карающий меч НКВД» обрушился на головы наркома оборонной промышленности М. Л. Рухимовича, наркома легкой промышленности И. Е. Любимова, наркома пищевой промышленности С. С. Любова. Регионалы не вступались за социально близких «хозяйственников», чем способствовали ослаблению позиций всей группировки «левых консерваторов».
Показательно, что страшные эти времена были страшными прежде всего для коммунистической партии, которая являлась своеобразной элитой, аристократией. Простой народ пострадал в гораздо меньшей степени. По стране ходил даже такой, в принципе опасный для самих рассказчиков, анекдот: «Ночь. Раздается стук в дверь. Хозяин подходит и спрашивает: „Кто там?“. Ему отвечают: „Вам телеграмма“. „А-а-а, — понимающе протягивает хозяин, — вы ошиблись, коммунисты живут этажом выше“».
Как ни удивительно, но 1937 год был весьма благоприятным для крестьянского большинства России. Большой террор сопровождался уступками крестьянству. В марте была аннулирована задолженность колхозов и единоличников государству. Крестьянам позволили пускать на продажу излишки зерна — до того как они выполнят обязательные госпоставки. Жесткий критик сталинизма Такер вынужденно замечает: «…Выгодные крестьянам меры в сочетании с благоприятными погодными условиями, позволившими собрать в 1937 году небывалый урожай (в отличие от 1936 года с его охватившей многие районы небывалой засухой), способствовали возникновению в деревне атмосферы удовлетворенности. Многие могли с мрачным удовлетворением рассуждать о том, что те самые коммунисты, которые совсем недавно подвергали их суровым испытаниям коллективизации и голода, получили по заслугам».
Проводя репрессивную политику, регионалы, в конечном итоге, подрывали свое же собственное могущество. Они «чистили» одних людей и приближали к себе других. Однако новые выдвиженцы уже относились к местному руководству с недоверием, опасаясь (и не без оснований), что оно рано или поздно репрессирует уже их самих. Репрессии связывались в основном с региональным начальством, Москва же была далеко, и считалось, что тамошнее руководство ничего не знает о произволе на местах. Поэтому в определенный момент местные кадры оказывались готовыми одобрить смещение и аресты их руководства.
Кроме того, регионалы сами создавали почву для будущих обвинений. Неизбежно возникал вопрос — если в регионе оказалось столько врагов, то кто в этом виноват? Уж не удельные ли князьки? А сам факт массовых расправ давал повод и для открытых сомнений в том, что все репрессированные пострадали за дело.
В течение нескольких месяцев, прошедших между июньским и октябрьским пленумами, Сталину удалось свалить таких региональных гигантов, как Варейкис, Хатаевич, Шарангович, Икрамов. Группировка «левых консерваторов» стремительно таяла, как льдина весной. Оставались, правда, еще магнаты самого высшего эшелона — Косиор и Эйхе. В правительстве сидел их ставленник Чубарь. На Волге куролесил Постышев. Вся эта публика находилась в составе Политбюро — в качестве членов или кандидатов в члены. Атаковать их впрямую было бесполезно и даже опасно, региональные вотчинники вполне могли сделать ставку на самый решительный сепаратизм и развязать гражданскую войну. И вот тогда Сталин решил устранить их если не мытьем, так катаньем.
Вождь соблазнил Эйхе и Косиора ключевыми постами в правительстве СССР. Это ему было нужно для того, чтобы выманить их из региональных вотчин и переместить в чуждую совнаркомовскую среду. В данной среде, контролируемой Сталиным и Молотовым, влияние регионалов неизбежно должно было ослабнуть.
Сталин умело использовал непомерное честолюбие князьков. Им уже было мало вершить судьбы своих регионов и влиять на положение страны через ПБ. Они захотели еще и правительственных постов, которые им щедро предложил Сталин. Первым поддался искушению Эйхе, ставший в октябре 1937 года наркомом земледелия СССР. За ним последовал Косиор, получивший в январе 1937 года сразу два поста — заместителя председателя СНК СССР и председателя Комитета советского контроля.
Регионалы были людьми хитрыми, но подвоха они так и не обнаружили. Во-первых, потому что честолюбие всегда мешает политической зоркости. А во-вторых, Сталин сумел притупить их бдительность, используя фигуру Чубаря, бывшего когда-то председателем СНК Украины. Этот деятель находился на посту заместителя председателя Совнаркома аж с 1934 года, несомненно выполняя роль лоббиста региональных элит. Сталин его не трогал, разумно полагая, что особой погоды он не сделает. Пример Чубаря успокаивал регионалов, которые полагали, что Сталин по своей старой традиции пытается наладить некий компромисс. Их оптимизм поддерживался еще и тем, что одновременно с назначением Косиора Сталин двинул Чубаря на повышение, дав ему пост уже первого заместителя председателя СНК.
Из предполагаемого компромисса регионалы хотели выжать как можно больше преимуществ. Возможно, они даже рассматривали свой новый статус как некий задел для захвата власти. Но Сталин в этот раз не был настроен на компромисс. Он постарался сделать так, чтобы новые должности стали трамплином для прыжка в никуда.
Но сначала он расправился с менее опасным Постышевым. В начале 1937 года на январском пленуме ЦК были приведены данные о небывалом размахе репрессий в Куйбышевской области. Сталин охарактеризовал происходящее там следующим образом: «Это расстрел организации. К себе они мягко относятся, а районные организации они расстреливают… Это значит поднять партийные массы против ЦК». Постышева на пленуме жестко критиковали сталинцы — Молотов, Ежов, Микоян, Берия, Каганович. При этом Косиор, Эйхе и Чубарь отмалчивались. Они не были склонны обвинять Постышева, однако то, что он делал, являлось перегибом даже с их точки зрения. К тому же они получили видные назначения и не хотели столкновения со Сталиным. Регионалы отдали Постышева на съедение. В январе его сместили со всех постов, исключили из партии. А 22 февраля он был арестован.
Потом пришло время и самих регионалов. Подождав немного, Сталин стал бить по ним, причем уже не оглядываясь на мнение ЦК, изрядно «подчищенного» не без помощи самих регионалов. В апреле был арестован Эйхе, в июне — Косиор. Последним упал с вершин властного Олимпа бесполезный уже Чубарь. Сталин поначалу не стал его арестовывать, а просто переместил на должность начальника строительства Соликамского целлюлозно-бумажного комбината. Но потом передумал…
Совершенно очевидно, что регионалы пали жертвой собственных же левоконсервативных политических убеждений, которые на практике вылились в массовый террор. Однако не следует возлагать на них всю ответственность за случившееся. Рецидив гражданской войны был спровоцирован деятельностью разнообразных заговорщиков — троцкистов, зиновьевцев, бухаринцев, тухачевцев. И «левые» и «правые» изрядно потрудились для того, чтобы взбудоражить самые широкие партийные массы.
Глава 10. Победитель и побежденный
Нормализация
Теперь перед Сталиным встала важнейшая задача — вернуть страну к нормальной жизни. Еще на январском пленуме Г. Маленков много говорил о необоснованных исключениях из партии. Правда, тогда не был поднят вопрос о несправедливо осужденных. После январского пленума судьи стали в массовом порядке отправлять липовые дела на дополнительное расследование. В апреле Прокуратура СССР дала особые инструкции в областные и республиканские прокуратуры. Согласно им, для возбуждения всех дел по политическим обвинениям необходимо было заручиться согласием союзной прокуратуры. И она постаралась дать как можно больше отказов. В мае — декабре ведомство Вышинского получило 98 478 просьб о возбуждении политических дел, из которых было удовлетворено всего 237. Работники прокуратуры стали привлекать к судебной ответственности многочисленных доносчиков. В прессе против них развернулась настоящая кампания. Только в апреле — сентябре «Правда» опубликовала десять статей, разоблачающих безудержное доносительство.
Регионалы пали, но было еще одно серьезное препятствие, которое мешало свернуть «большой террор». Я имею в виду «железного наркома» Ежова. За время «большого террора» Ежов чрезвычайно укрепил свои позиции на властном Олимпе. Этому способствовала и концентрация в его руках двух важнейших постов — секретаря ЦК и председателя Комиссии партийного контроля.
Ежов, что называется, вошел во вкус командования грандиозным аппаратом тайной полиции. Те прерогативы, которые были даны НКВД, сопряженные с высшими партийными должностями, превращали его в самостоятельную политическую фигуру, которая не могла не ставить перед собой особых целей. Если Ягода находился в поле идейного влияния бухаринцев и ориентировался на интеллигенцию, то Ежов хотел поставить во главе угла собственное ведомство. Все было вполне логично. Технократы выдвигали на первый план хозяйственную бюрократию, регионалы — местные элиты, военные — армейскую верхушку. Ну а Николай Иванович Ежов двигал свой собственный, весьма специфический наркомат. Очевидно, он хотел сделать тайную полицию некоей доминирующей ветвью власти, а репрессии превратить в механизм постоянной и планомерной организации жизни страны. Террор для него становился уже самоцелью. Он стал рассматривать его как некий производственный процесс, который должен постоянно наращиваться и повышаться в качестве.
В конце концов Ежов решил замахнуться на членов сталинской команды. Существуют данные о том, что он готовил репрессивную акцию против Кагановича. По крайней мере, показания на него уже стали выбиваться. Так, директор Харьковского тракторного завода Бондаренко дал в НКВД показания на «контрреволюционера» Кагановича. После ареста Ежова в его сейфе нашли досье, составленное на Сталина и лиц из его ближайшего окружения. А не так давно в Кремле во время ремонтных работ обнаружилось, что ведомство Ежова регулярно «слушало» кабинет вождя.
НКВД стал предпринимать сепаратные акции, направленные против лиц, лояльных по отношению к Сталину и пользующихся его полным доверием. Особенно показательна история с Шолоховым. Органы подбирались к нему еще в 1936 годy, когда в Вешенской, родной станице писателя, была вскрыта липовая «контрреволюционная организация». Однако тронуть его боялись. Сталин высоко ценил Шолохова. Писатель не боялся открыто информировать вождя о тех безобразиях, которые творились на местах. Он решительно выступил против злоупотреблений в ходе коллективизации. В 1933 году писатель направил Сталину три письма, в которых описал тяжелое положение родного края.
Ознакомившись с письмами Шолохова, Сталин распорядился выслать в Вешенский район 120 тысяч пудов ржи, а в Верхне-Донской район 40 тысяч пудов. Таким образом, Шолохов своей отважной акцией, грозившей опалой, спас многие человеческие жизни.
Местное руководство явно было не в восторге от того, что у них в регионе находится такой важный «канал» непосредственной связи со Сталиным. Отсюда и попытки скомпрометировать писателя. Они продолжились и в 1937 году, а 1938-м стали уже совсем настойчивыми. Ростовское управление НКВД действовало еще более решительно, чем прежние партократы, прищученные Сталиным. Они уже подготовили арест писателя. Однако некто Погорелов, заместитель начальника УНКВД Когана, предупредил писателя о готовящейся акции. Шолохов и Погорелов тайно выбрались в столицу, где и добились встречи со Сталиным, на которой тот решительно взял великого писателя под свою защиту.
Эта воистину детективная история свидетельствует о том, что органы НКВД становились все более и более неуправляемыми. Нужно было срочно менять их руководство.
Сталин не торопился и провел эту замену в два этапа. Сначала он «сосватал» Ежову своего давнишнего сторонника Берия. Он сделал Лаврентия Павловича заместителем наркома внутренних дел. Ежов же получил, в прибавку ко всем постам, новое назначение — наркома водного транспорта. Это произошло в августе 1938 года. И уже очень скоро Ежов, занимавшийся делами «водного» наркомата, оказался оттертым от реального управления НКВД. Теперь все официальные документы, спускаемые «сверху», поступали уже на имя Берия. Наконец 9 ноября Ежов был снят с поста наркома НКВД. Он еще протянет до 10 апреля, когда произойдет его арест. Однако судьба Ежова была уже решена. Отныне он не имел политического влияния и стремительно деградировал в личном плане, ожидая ареста.
Надо сказать, что далеко не все чекисты были рады появлению нового начальства. Перед Берия была поставлена задача прекратить массовый террор, а эти лихачи жаждали «продолжения банкета». В феврале группа высокопоставленных чекистов во главе с М. С. Кедровым направила на имя Сталина письмо, в котором резко осуждался новый стиль руководства. Он был назван «фельдфебельским». Наверное, Сталин не мог читать этого письма без смеха. Получалось, что прежде, во времена Ежова и Ягоды, НКВД был прямо-таки демократическим учреждением, а теперь, когда он выпускал на волю десятки тысяч невинно осужденных, появился откуда-то неожиданно «фельдфебельский» стиль.
Перемены надвигались со всей своей неотвратимостью. Комиссия партийного контроля, которую Ежов возглавлял уже только формально, рассматривала дела бывших партийцев, необоснованно исключенных из ВКП(б). В тех случаях, когда необоснованность исключения была доказана, комиссия требовала отмены приговора (если только имела место судимость).
Осенью Верховный суд СССР получил беспрецедентное право принимать любое дело любого советского суда и рассматривать его в порядке надзора. Только до конца года ВС отменил и предотвратил исполнение около 40 тысяч смертных приговоров, вынесенных за «контрреволюцию».
Апогеем либерализации стало совместное постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Принятое 11 ноября 1938 года, оно предписывало положить конец массовым арестам и высылкам. Согласно положению, прекращалась деятельность печально известных карательных «троек». Кроме того, восстанавливался прокурорский надзор за следственным аппаратом НКВД.
Внутри самого НКВД тоже произошла определенная либерализация. Новый наркомвнудел Берия уже 9 ноября 1939 года подписал приказ «О недостатках в следственной работе органов НКВД». В нем предписывалось освободить из-под стражи всех незаконно арестованных. Приказ устанавливал строгий контроль за соблюдением уголовно-процессуальных норм.
Теперь «органы» стали не только карать, но и миловать. За один только 1939 год они освободили 330 тысяч человек. Всего же в ходе преодоления последствий «большого террора» реабилитировали свыше 800 тысяч пострадавших.
Американский историк права П. Соломон, относящийся к числу недоброжелателей Сталина, все-таки характеризует процесс нормализации достаточно высоко: «Одним из аспектов возрождения было повышение требования к стандартам доказательства и процедуры. В большем объеме, чем когда-либо до этого за весь период советской истории, прокуратура и наркомюст стали посвящать страницы своих журналов объяснениям значения законов, установлению стандартов судебно-прокурорской деятельности и пропаганде методов работы образцовых следователей и судей, которые представлялись как пример для подражания. Суды под руководством Верховного суда СССР стали требовать представления более веских доказательств… Похоже, что возрождение прежних стандартов в работе судей имело прямое воздействие на качество работы следователей. Процент дел, возвращенных в прокуратуры на доследование, упал с 15,4 % в мае 1938 г. до 7,6 % в мае 1939 г. Следователи все еще необоснованно возбуждали дела, но умудрялись останавливать многие из них еще до начала судебного разбирательства (по Москве за первую половину 1939 г. их количество составило 27,6 % от общего числа начатых расследований)».
Контуры новой системы
«Большой террор» нанес огромный удар по реформаторским замыслам Сталина. Тем не менее от самих реформ он не отказался, сделав основной упор на усиление правительственной вертикали. В ноябре 1937 года в дополнение к Комитету обороны в системе СНК был создан Экономический совет (сначала его возглавил Микоян, потом — молодой экономист Н. А. Вознесенский). Эта коллегиальная структура, обладающая правами постоянной комиссии, была призвана усилить вес СНК.
В марте 1941 года КО и ЭС были упразднены, а на их месте возник новый орган — Бюро Совета народных комиссаров. Оно обладало всеми правами СНК. В его задачу также входило усилить влияние правительства, сделать его работу более оперативной. Совершенно очевидно, что несколько десятков наркомов и других членов правительства должны были подчиняться некоему узкому руководству, состоящему из влиятельных и энергичных координаторов. Заседания Бюро проходили регулярно — один раз в неделю, тогда как заседания и KO, и ЭС созывались лишь раз в месяц.
Было увеличено количество заместителей председателя СНК. Теперь зампредсовнаркома контролировал два-три наркомата, причем обладал правом решать вопросы каждого из них. В каждом наркомате был введен пост заместителя наркома по кадрам. Это усиливало кадровую самостоятельность правительственных организаций, делало их более независимыми перед лицом могущественного партийного аппарата.
Последнему предлагалось отойти от руководства хозяйством, сосредоточиться на идейно-политических вопросах. Это пожелание, скорее даже требование, отчетливее всего было выражено Ждановым на XVIII съезде ВКП(б). Он заявил: «Там, где партийные организации приняли на себя несвойственные им функции руководства хозяйством, подменяя и обезличивая хозяйственные органы, там работа неизбежно попадала в тупик». Именно этим обстоятельством он и объяснял все промахи и отставания в экономическом развитии страны. То есть речь уже не шла ни о внутренних врагах с их вредительскими замыслами, ни о международном империализме. Корень всех бед виделся в гипертрофированном могуществе партийного аппарата.
Жданов обрушился с критикой на саму систему функционирования отраслевых отделов ЦК и местных комитетов: «Производственно-отраслевые отделы ныне не знают, чем им, собственно, надо заниматься, допускают подмену хозорганов, конкурируют с ними, а это порождает обезличку и безответственность в работе». Практическим выводом из этих наблюдений стала повсеместная ликвидация отраслевых отделов. Исключение сделали только для сельскохозяйственного отдела, чью ликвидацию отложили на время ввиду чрезвычайной важности аграрного вопроса.
На съезде был принят новый партийный Устав, разработанный под руководством Жданова. В нем появился раздел, определяющий права членов ВКП(б). Провозглашался окончательный отказ от массовых партийных «чисток». Среди них выделяются такие права партийца: критиковать действия любого партийного органа, избирать и быть избранным, присутствовать на партийном собрании любого уровня тогда, когда речь идет о решении персонального дела.
Съезд отменил прежнюю дискриминацию по социальному признаку. Теперь представители всех слоев общества имели равные возможности для вступления в ряды ВКП(б). Всем претендентам устанавливался один и тот же испытательный срок (один год), а также предъявлялось единое требование — получить рекомендации трех членов партии с трехлетним стажем. Рабочий класс прекратил быть привилегированной прослойкой, «диктатура пролетариата» все больше уходила в прошлое.
Это не замедлило сказаться на социальной структуре партии. В начале 1938 года рабочие составляли 64,3 % членов ВКП(б), крестьяне — 24,8 %, служащие — 10,9 %. Через два года ситуация сильно изменилась, рабочие составляли уже 43,7 %, крестьяне — 22,2 %, служащие — 34,1 %. Чрезвычайно важным источником пополнения последней категории партийцев стала интеллигенция, прежде всего техническая. Это было чрезвычайно важно ввиду настоятельной необходимости научно-технического рывка. Историк-антисталинист Дж. Боффа признает: «…Вербовка новых членов партии в предвоенные годы шла по большей части именно за счет новых кадров, выдвинутых на новые рубежи в обществе, и из тех, кого осчастливило своими плодами развитие системы образования… из этих слоев партия черпала в этот период 70 % своего пополнения».
Вообще следует заметить, что советская элита в конце 30-х годов пережила процесс, который можно назвать «интеллектуализацией». Руководящие кадры стали гораздо более грамотными и деловыми. Их стали черпать из молодых сталинских выдвиженцев, пришедших на смену ленинским кадрам, созревшим, по большей части, во времена гражданской войны. На XVII съезде ВКП (б) члены-делегаты со стажем до 1920 года составляли всего 19 %. На предыдущем съезде их было 80 %. Новые кадры были чужды прежнему нигилизму, они ориентировались на созидание.
В первую очередь интеллектуализация затронула Совет народных комиссаров (СНК). Молодые сталинские наркомы, пришедшие в правительство в конце 30-х, представляли собой крайне энергичную команду профессионалов, обладающую к тому же и ценным опытом. Вот что пишет о членах нового правительства Ю. Н. Жуков: «От старой формации руководителей — прежде всего партфункционеров их отличало то, что они не только имели высшее образование, но даже успели поработать, несмотря на молодость, несколько лет по специальности на производстве, познавая его изнутри».
Но интеллектуальный рост был заметен и в других подразделениях элиты. В 1939 году среди руководящих работников центрального, республиканского и областного уровня доля лиц, имеющих высшее и среднее образование, составила 71,4 %. Высшее образование имели 20,5 % руководителей.
Серьезный шаг на пути структурных преобразований был сделан 4 мая 1941 года. В этот день председателем Совета народных комиссаров СССР был назначен И. В. Сталин. Одновременно в аппарате ЦК ввели новый пост — заместителя первого секретаря. Им стал руководитель Управления пропаганды и агитации (УПиА) Жданов. Так окончательно нарисовались контуры новой системы руководства страной. Высшая власть переходила в руки председателя правительства. И хотя Сталин еще не ушел полностью из Секретариата ЦК, он явственно обозначил того, кто должен будет сменить его в скором времени. Жданов должен был заместить, а потом и заменить Сталина на партийном Олимпе. Это свидетельствует о том, что вождь предполагал сосредоточить деятельность партии прежде всего на решении задач идеологического характера. Следующим по степени влияния в ЦК был Маленков, возглавляющий Управление кадров. Таким образом, кадровая политика становилась второй главной заботой партии.
Вместе с тем преобразования не были такими решительными, как это задумывалось до начала «большого террора». Сталин так и не реализовал свой замысел провести свободные и альтернативные выборы. Это было опасно, ибо террор пробудил нешуточные революционные страсти. Они, конечно, постепенно утихали, но отпечаток, оставленный ими, был еще очень силен. Объявлять в таких условиях о начале политического противоборства означало обречь страну на второй раунд террора…
Дальнейшей демократизации препятствовало еще и то, что страна жила в ожидании войны. Руководство пыталось ее предотвратить, но не переставало к ней готовиться. Это вызвало потребность в некотором ограничении гражданских свобод. По указу от 26 июня 1940 года работникам воспрещалось расторжение трудового договора в одностороннем порядке. Резко ужесточили ответственность за нарушение трудовой дисциплины, сделав ее уголовной. Страна перешла на восьмичасовой рабочий день и семидневную рабочую неделю. Присоединение новых территорий на Западе усилило репрессивную политику в отношении несогласных с советской властью.
Необходимость скорейшей мобилизации всех ресурсов привела к тому, что партия была вынуждена вернуться к вмешательству в хозяйственные процессы. Переход к новой системе руководства требовал времени, а война была уже не за горами. Поэтому Сталин принял решение снова задействовать организационный ресурс партийных комитетов, используя его в хозяйственных целях. Уже в сентябре 1939 года (время начала Второй мировой!) в некоторых регионах возобновляется деятельность производственно-отраслевых отделов. А 29 ноября Политбюро объявило о воссоздании их на местном уровне.
К величайшему сожалению, Сталин так и не довел свои преобразования до конца. Грянула война, которая сразу расстроила все замыслы. Стало уже не до реформ. Весьма распространена точка зрения, согласно которой при всем своем трагизме война создала некоторые условия для демократизации. Народ, выигравший войну, якобы испытал рост гражданского самосознания. Отчасти это так, но при этом забывается, что в войну гибнут в первую очередь самые смелые и решительные люди, в наибольшей степени обладающие чувством достоинства. Думается, не надо лишний раз напоминать о том, каковы были масштабы наших людских потерь. Вернувшиеся к мирной жизни люди думали главным образом о том, как оправиться от потрясения, пережитого в военное лихолетье. Им, конечно же, не было особого дела до реформ. И вряд ли их можно в этом упрекнуть…
Время работало против Сталина. Он старел, его интеллект стал давать неизбежные сбои, его реакция стала менее острой. Страна боготворила вождя, но его окружение наблюдало то, что не было видно стране — процесс естественного старения человека, стоящего во главе огромной державы. Соответственно, этот человек все больше и больше терял влияние на своих ближайших соратников.
ПАТРИОТИКА
Дмитрий Черный ИНТЕРВЬЮ С СЕРГЕЕМ УДАЛЬЦОВЫМ
Поколение, которое в «демократической» эйфории поспешно было названо «поколением next» или «pepsi», на поверку оказалось вовсе не таким политкорректным по отношению к «реформаторам». У этого поколения сознательная юность пришлась на начало девяностых, когда спешно собственность из социалистической переделывали в капиталистическую — «первоначально накапливали капитал» те, кто сегодня живет в особняках на выкупленных угодьях (где всё, от леса до реки — их частная собственность), имеет недвижимость за рубежом и там же отдыхает в любые сезоны. Казалось бы, у ровесников этих рвачей тоже не должно быть ничего общего с эпохой, откуда они родом. Но нет же: на демонстрациях и митингах левой оппозиции всё больше молодых рук несут красное знамя, принятое ими из рук отцов и дедов. Знамя почти вековой борьбы советского народа за социализм и коммунизм, знамя Октября и Победы. И словно продолжение — отблески этих знамён в повседневном уличном движении пешеходов: то тут, то там на молодых людях засияли в последние годы майки с родной аббревиатурой «СССР», с надписями «Наша родина — СССР» или серпасто-молоткастые.
Значит, не забыли? Значит, помнят! Так кто же они, эти юные советские патриоты — несущие и следующим поколениям весть о возможности другого, более справедливого устройства общества, имея в прошлом пример СССР? Спросить первого встречного, одного из тех, в майках, на улице? Или тех, кто идет в авангарде этого стихийного молодежного движения, ничего общего с обывательским понятием «ностальгия», да и со старомодной, застойной партийностью не имеющего? Пожалуй, как всегда, чтобы быть «в теме», стоит говорить с теми, кто впереди.
Аббревиатуру «АКМ», расшифровывающуюся как Авангард красной молодежи, особо представлять не стоит. За пять лет своего существования эта молодежная организация, как говорится, «сделала себе имя»: оно и на заборах по пути следования подмосковных электричек, и в СМИ встречается в последнее время всё чаще и чаще. Например, программу «Свобода слова» закрыли сразу же после того, как дважды отправной темой передач стали жандармские выходки «сторожевых псов демократии» в отношении мирных акций АКМ — в День защиты детей и 2 июля, на митинге против отмены социальных льгот.
Да, эти ребята привыкли к радикальным действиям — но, заметим, не просто ради риска или футбольно-фанатской потехи, а ради того, чтобы достучаться до современников и ровесников, которые равнодушно взирают на общую культурно-моральную деградацию и падение жизненного уровня 80 % соотечественников — да себя самих же! Но не только протестовать на митингах или акциях прямого действия умеют акаэмовцы: продолжая свой протест по поводу закона о монетизации льгот, эти ребята во главе со своим лидером Сергеем Удальцовым объявили голодовку, которая продолжалась почти неделю. Во время этой голодовки — на площади Революции, на фоне гибнущего под экскаваторами вандалов архитектурного памятника советской эпохи — гостиницы «Москва», среди толп своих ровесников, потребляющих пиво, беззастенчиво окружавших десяток голодающих членов Союза коммунистической молодежи и АКМ, я и говорил с Сергеем, начав с вопроса о его биографии.
Сергей УДАЛЬЦОВ: Да, родился я в советское время, в 1977-м. И уже с большевистской наследственностью. Мой прадед — известный профессиональный революционер Иван Дмитриевич Удальцов, член РСДРП(б) с 1905 года, это его имя носит улица, выходящая к станции метро «Проспект Вернадского». О прадеде знаю, что он стоял у истоков советской высшей школы и входил в первое руководство возрожденного советского МГУ в 20-х и 30-х, а ранее, еще до революции, не раз принимал в своем особняке на Остоженке (он ведь дворянин был) наезжавшего в Москву Владимира Ильича Ленина. Там даже мемориальная доска висит. Мои родители, тоже научные работники, воспитывали меня в лучших традициях советской интеллигенции.
Дмитрий ЧЕРНЫЙ: Cepгeй, а вот когда у тебя, благовоспитанного такого гражданина, вероятно, с возможностью дальнейшей благоустроенной жизни, стали формироваться оппозиционные и революционные воззрения?
С. У.: Ничего сверхъестественного со мной не происходило, как и с большинством представителей моего поколения, пусть даже и из интеллигентских, университетских семей. Бытие определяет сознание, как говорится. Взгляды мои формировались в период с 1991 по 1993 год — как раз тогда, когда жизненный уровень в стране и в моей семье заметно ухудшился. В 1993-м я окончательно понял, что за власть в стране воцарилась, и решил, что мне с ней не по пути. Стали облекаться в политические категории и лозунги мои впечатления от того, как «демократы», подобные Чубайсу, разваливали и грабили, становясь тут же олигархами, нашу сверхдержаву. За эти несколько лет и культурный фон, и антисоветская вакханалия в рок-музыке взбудоражили во мне (и, как оказалось, не только во мне) энергию сопротивления. Способствовало росту оппозиционного духа и музыкально-политическое движение «Русский прорыв», возглавленное рок-группой «Гражданская оборона». Оно в 94-м колесило по стране, давало концерты, пресс-конференции в Ленинграде, Москве, других городах недавнего Союза. В 94-м и 95-м я ходил на все протестные акции под красными знаменами. К 1996 году сориентировался в партийном отношении: меня привлекла «Трудовая Россия», ее стремление не к говорильне, а к практическим, уличным действиям. При этом «Трудовой Россией» не отвергались и парламентские формы борьбы с режимом.
Д. Ч.: Все наши соотечественники, видевшие тебя не раз по телевидению, отмечали, что для уличного лидера-бунтаря ты весьма интеллигентно, культурно держишься. Где ты учился, в каком вузе?
С. У.: Образование у меня юридическое, окончил юрфак Московской государственной академии водного транспорта. Сейчас же мне приходится совмещать профессиональную деятельность с революционной. Ведь нужно и семью кормить: у меня двухлетний ребенок и жена, товарищ по убеждениям и борьбе. Свои юридические знания я, конечно же, использую не только на работе, но и в повседневной оппозиционной деятельности, ведь конфликтов с властью, в которых она зачастую ведет себя вне рамок законности, у нас в АКМ случается много.
Д. Ч.: На твой взгляд, какие времена сегодня переживает левая оппозиция, подъем или спад, и есть ли надежда на победу?
С. У.: Сейчас период спада, я думаю. Он начался с приходом Путина и продолжается пока. Этот период начался в 2000 году, когда ладненький и деловой Путин пришел в Кремль после пьяного угара Ельцина, который вызывал в массах отторжение и желание сопротивляться. С Путиным — не так просто. Его имидж ввел народ в заблуждение, и мы наблюдали сначала спад протестной дeятeльнocти, усугубленный тeпepь и поражениями левых на выборах. Но в последнее время, когда президент начал, а точнее — продолжил, ельцинские «непопулярные меры» реализовывать, народная иллюзия тоже начала таять. Но лёд в России, северной стране, тает медленно — поэтому пока для сил сопротивления тяжелые времена, время подполья, аккумуляции энергии. Аполитичное большинство пока что держится за крохи — и ему нет дела до нашей борьбы. Но если мы будем правильно и развернуто, как во время нашей голодовки протеста, выражать свою позицию, то массы должны наконец понять, что мы защищаем их жизненные интересы, а это 80 % населения России.
Д. Ч.: И все же: на чью поддержку в первую очередь рассчитывает АКМ, проводя свои смелые боевые акции?
С. У.: На поддержку молодежи, конечно. У молодых чувство социальной справедливости всегда сильнее, ярче, чем у старшего поколения. Когда мы в 1999 году создавали АКМ, брали самые яркие и привлекающие молодежь лозунги и символику. Мы создали движение «рок-коммуна», чтобы через боевую музыку, выражающую социальный антикапиталистический протест, привлекать ребят. И не случайно первая группа нашей Московской рок-коммуны, которая от АКМ в декабре 1999-го и в последние несколько лет открывала концерты «Гражданской обороны» в Москве, называлась «28 гвардейцев-панфиловцев» — и здесь выразились идеи советского патриотизма, красноармейской эстетики.
Д. Ч.: Раз уж мы коснулись идеологии: какой линии придерживается АКМ сегодня, после того как расстался с «Трудовой Россией»? Я вот до сих пор под впечатлением от ваших «граффити», красных надписей на белых бетонных заборах, которые пассажиры электричек Ярославского направления читали летом прошлого года: «Наша родина — СССР», «Слава великому Сталину!», там же сообщался ваш телефон.
С. У.: Да, нас в среде левых часто считают сугубо сталинистской организацией. Вероятно, еще тянется за нами шлейф выборов 1999-го, когда «Трудовая Россия» создала «Сталинский блок», так и не снискавший поддержки народа. Но мы никогда не декларировали приверженности или предпочтения какому-то одному вождю. Сталина мы уважаем, хотя прекрасно понимаем, что и в его руководстве страной были как свои плюсы, так и минусы. Если же эти плюсы и минусы сопоставить, то плюсов окажется, очевидно, больше. Сейчас, на временной дистанции, мы понимаем, что действовать иными методами было невозможно — конкретно-исторические условия являются главной доминантой в политике любого правительства. И если бы действия были вопреки этим условиями, то советская власть просто сгинула бы.
Д. Ч.: И последний вопрос, Сергей, по поводу нынешней голодовки. Вы, АКМ, до сих пор были известны и привлекательны для молодежи как организация прямого действия: сильная, мускулистая, радикальная, революционная. Но голодовка — это вроде бы метод протеста слабых, глас вопиющего в пустыне. Каковы твои объяснения этой акции АКМ?
С. У.: Это ни в коем случае не пассивный протест. Я считаю нашу голодовку такой же «силовой» акцией, как прорыв на Красную площадь в 1999 году, с которого и началась история АКМ. Мы не на словах, а на деле показываем, что есть у страны молодые патриоты, готовые заступиться как за своих дедов, так и бороться за собственное будущее. Ведь вот парадокс: закон об отмене льгот касается и милиционеров, которые применили к нам силу и жестокость 2 июля и вот сейчас оттеснили от памятника Карлу Марксу. А мы-то и за их льготы боремся! Причем я слышал, как милиционер один, из простых, без чинов, говорил нашему товарищу: «А завтра вы придете? Держитесь, мы с вами!». Сознательность просыпается даже тут. Один милиционер сказал другому, я слышал: «Вот сейчас льготы отменят — и побежит народ из милиции». Ведь им тоже платят мало, очень мало для того, чтобы сознательно отстаивать эту укореняющуюся с каждой реформой капиталистическую систему. Думаю, впереди предстоит нелегкий путь — в первую очередь путь борьбы через пропаганду. Нужно радикально размежеваться с властью, насаждающей на нашей советской земле капиталистические порядки, с этой «элитой». Каждая реформа — шаг от социализма к капитализму, это нужно понимать четко. И только доходчиво объяснив нашим соотечественникам, что социализм не утопия, а доказанная Советской эпохой реальность, только убедив их, что социалистический порядок выгоднее им как трудящемуся большинству, мы наконец окрепнем.
P. S. В тот же день, когда бралось это интервью, Сергея прямо с площади Революции забрала милиция и доставила в Тверской районный суд на слушание «дела» о беспорядках 2 июля. Оттуда он был препровожден для административного заключения на сутки, где продолжил голодовку, причем уже «сухую».
К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ Александр Репников, кандидат исторических наук ИЗ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ
«Смерш»: Исторические очерки и архивные документы. М., 2003
В этом году исполняется 60 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Свой вклад в победу над противником внесли и сотрудники военной контрразведки.
Книга-альбом «„Смерш“: Исторические очерки и архивные документы» была подготовлена коллективом авторов (главный редактор А. Г. Безверхий, руководитель авторского коллектива B. C. Христофоров) к юбилейной дате, о которой у нас и поныне мало кто знает. 19 апреля 2003 года исполнилось 60 лет с того дня, когда в соответствии с постановлением Совета народных комиссаров СССР Управление особых отделов (УОО) НКВД было преобразовано в Главное управление контрразведки «Смерш». На основе 9-го (Морского) отдела УОО НКВД СССР было создано Управление контрразведки (УКР) НКВМФ «Смерш», а на основе 6-го отдела УОО НКВД возник Отдел контрразведки (ОКР) «Смерш» НКВД СССР.
О «Смерше» у нас и за рубежом писали и пишут разное. Пишут, подчас чрезмерно увлекаясь, случайно или намеренно мешая правду с ложью, реальность с легендами. На смену одним стереотипам приходят другие. В наши дни историки впервые получили возможность ознакомиться с текстами подлинных материалов из фондов Центрального архива ФСБ России, которые непосредственно связаны с деятельностью «Смерша». Все очерки, представленные в книге, строго документальны.
В первых главах авторы рассказывают об истории военной контрразведки. Из ее недр весной 1943 года появилась организация, название которой расшифровывалось как «Смерть шпионам!». Это название и определяло основную задачу — защиту Красной Армии от спецслужб противника. Помимо борьбы с деятельностью иностранных разведок в частях и учреждениях Красной Армии «Смерш» также решал задачи по «созданию на фронтах условий, исключающих возможность безнаказанного прохода агентуры противника через линию фронта», должен был бороться с предательством и дезертирством, заниматься проверкой военнослужащих и других лиц, побывавших в плену, а также осуществлять «выполнение специальных заданий Народного комиссара обороны». Начальник ГУКР «Смерш» В. С. Абакумов подчинялся непосредственно И. В. Сталину и назначался заместителем наркома обороны. Структура «Смерша» строилась строго вертикально, каждое подразделение подчинялось только своим вышестоящим контрразведывательным органам.
Боевое крещение контрразведчики «Смерша» получили на Курской дуге. К 60-й годовщине Курской битвы Центральным архивом ФСБ России было подготовлено специальное издание, в котором впервые были представлены материалы, связанные с участием «Смерша» в этих событиях (см.: «Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки. М., 2003). Поэтому в рецензируемой книге описание некоторых моментов, относящихся к Курской битве, дано сжато, дабы избежать повторений.
За строками ранее неизвестных материалов, приведенных в книге, можно увидеть, как война перемалывала человеческие судьбы. Например, документы свидетельствуют о том, что для осуществления разведывательных действий и проведения диверсий германские спецслужбы активно использовали детей. Отобрав несколько групп беспризорников, сотрудники абвера обучали их минно-взрывному делу и забрасывали в тыл советских войск, ставя цель — выведение из строя паровозов. Для выполнения этой задачи подросткам давали закамуфлированные под куски угля взрывные устройства. Активно использовались для проведения разведывательно-диверсионных действий и попавшие в плен красноармейцы, которых немцы перебрасывали через линию фронта. Согласно официальным данным, за годы войны контрразведкой было обезврежено 43 477 агентов немецких спецслужб.
Не является секретом, что в СССР были и те, кто ждал прихода немцев и готов был оказать им всяческое содействие. Некоторые радиоигры («Монастырь», «Янус») специально были направлены на предотвращение появления «пятой колонны» из различных антисоветских групп; другие («Разгром», «Тростники») были призваны парализовать предпринимавшиеся немцами попытки организации вооруженных выступлений против советской власти в национально-территориальных образованиях СССР. Из опубликованных источников нам сегодня стало известно о прибалтийских, туркестанских, татарских, кавказских, украинских и русских формированиях вооруженных сил Третьего рейха из числа граждан СССР и эмигрантов. В книге содержится информация о том, как немцы подготовили специальную группу, на которую возложили задачу «по объединению действовавших в Калмыкии мелких повстанческих групп и организации восстания калмыков против советской власти, а также по проведению крупных диверсионных актов в советском тылу». Часть десантировавшихся вражеских парашютистов была взята в плен, после чего удалось начать радиоигру «Арийцы», в ходе которой нашей контрразведкой были добыты важные сведения, противнику передавалась дезинформация, ликвидировались или попадали в плен его агенты, уничтожалась военная техника и т. д.
Радиоигры не только способствовали получению ценной информации, но и давали возможность дезориентировать неприятеля. Крупнейшая радиоигра, носившая название «Загадка», продолжалась с лета 1943 до апреля 1945 года и проводилась против разведоргана «Цеппелин-Норд». В годы войны советской контрразведкой было проведено 183 радиоигры, в результате чего удалось выявить и обезвредить свыше 400 агентов и сотрудников немецкой разведки.
В издании затрагиваются обстоятельства перехода на сторону противника генерал-лейтенанта А. А. Власова; описываются обстоятельства самоубийства Гитлера и приемы идеологической войны. До последнего времени это были закрытые темы. Данное обстоятельство породило немало мифов, которые и поныне продолжают волновать умы публицистов, с периодичностью, достойной лучшего применения, продолжающих выпускать книги о «трагической судьбе» предателя (по всем законам офицерской этики Власов совершил именно предательство).
Рецензируемое издание представляет собой первое основанное на документах описание деятельности самой успешной контрразведки XX века. Ее эффективность признавали не только союзники, но и противники СССР. В этом была заслуга тех, кто продумывал, возглавлял и непосредственно осуществлял спецоперации. На страницах книги мы неоднократно встречаем имя человека, чья деятельность на посту руководителя «Смерша» на долгие годы была предана забвению. Арестованный в июле 1951 года министр госбезопасности СССР B. C. Абакумов был расстрелян в декабре 1954 года. С тех пор его имя если и упоминалось, то только в негативном контексте, рядом с именами Л. П. Берия, В. Н. Меркулова и др. Пожалуй, единственной книгой, из которой можно было узнать о работе советской контрразведки и ее руководителях, для большинства советских читателей на долгие годы станет роман В. О. Богомолова «Момент истины. В августе сорок четвертого…», выдержавший около ста изданий.
Отдельная главы книги посвящена спецслужбам тех стран, с которыми СССР вел войну (Германия, Румыния, Финляндия, Япония). Подробнейшим образом показано противостояние абвера и советской контрразведки, представлена схема организационного построения германской военной разведки; приводятся информация о ее руководителях, фотографии и документы. Характерно, что деятельность вражеских спецслужб анализируется объективно и беспристрастно, без какого-либо «партийного» пафоса. Стремление к объективности вообще является одной из отличительных особенностей работы авторского коллектива данного издания.
Книга-альбом иллюстрирована редкими фотографиями, в том числе из личных архивов контрразведчиков, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Отдельная глава издания посвящена деятельности по документированию преступлений, совершенных захватчиками в оккупированных районах, а также работе по розыску и наказанию военных преступников и их пособников из числа советских граждан.
В послесловии к книге авторами перекинут мостик в современность. Хотя «Смерш» как структура и прекратил свое существование в 1946 году, военная контрразведка продолжала эффективно действовать. Краткий обзор ее работы в 60–80-е годы и далее, вплоть до наших дней, приведенный на последних страницах книги, вполне логичен и вписывается в общую концепцию издания.
Завершая свою рецензию, отмечу, что на всероссийском конкурсе журналистских и писательских произведений «Мы горды своим Отечеством» в апреле 2004 года авторский коллектив книги был награжден первой премией в разделе «Документалистика». Издание будет полезно и интересно не только профессионалам и военным историкам, но и всем тем, кому небезразлично прошлое нашей Родины.
КРИТИКА
Варвара Жданова «В МОДЕ БЫЛ НЕКОТОРЫЙ БЕСПОРЯДОК УМОВ»
(Роман Ф. М. Достоевского «Бесы» и фильм Л. Висконти «Гибель богов»)
«На исходе утра поздней осенью 187* года знаменитый писатель Кармазинов, по обыкновению, окончил завтрак и стал прохаживаться по комнате из угла в угол для моциону. Он старался завести интересный разговор с несколько неучтивым собеседником, расположившимся в кресле напротив.
Кармазинов говорил с приятностью, как человек самого хорошего тона.
— На мой век Европы хватит, я думаю. Как вы думаете?
— Я почем знаю.
— Гм. Если там действительно рухнет Вавилон и падение его будет великое (в чем я совершенно с вами согласен, хотя и думаю, что на мой век его хватит), то у нас в России и рушиться нечему, сравнительно говоря. Упадут у нас не камни, а всё расплывется в грязь. Святая Русь менее всего на свете может дать отпору чему-нибудь. Простой народ еще держится кое-как Русским Богом…».
Кармазинов с его вкрадчивой речью, с его глубоким убеждением, что самые благородные свойства души — суть «лишь старые формы», уверенностью, что «русскому человеку честь — только лишнее бремя»… Всем этим «великий писатель» напоминает персонаж из другого романа Достоевского — чёрта Ивана Карамазова.
В «Белой гвардии» М. А. Булгакова Алексею Турбину во сне Кармазинов является именно в виде чёрта. Перед сном, укрывшись за кремовыми шторами от кровавого безумия гражданской войны, булгаковский герой перелистывал «Бесов». Он засыпает, и является «кошмар», продолжая бесстыдный монолог. Даже во сне встревоженный военный врач делает отчаянную попытку одолеть зло.
«— Ах ты! — вскричал во сне Турбин. — Г-гадина, да я тебя. — Турбин во сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотел выстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал».
Монолог пустившегося в откровения «великого писателя» звучит необыкновенно актуально в переломные моменты русской истории. Вот и сейчас мы, преодолевая отвращение, напряженно вслушиваемся:
«— … Я понимаю слишком хорошо, почему русские с состоянием все хлынули за границу, и с каждым годом больше и больше. Тут просто инстинкт. Если кораблю потонуть, то крысы первые из него выселяются. Святая Русь — страна деревянная, нищая и… опасная… Тут всё обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался немцем и вменяю это себе в честь».
Кармазинову, как наблюдателю, явно кажется, что с помощью хитроумной искусительной проповеди «бесам» удастся добиться духовного разложения общества и взять его в руки.
Кармазинов совершенно уверен, что мировое зло не встретит сопротивления:
«Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где всё что угодно может произойти без малейшего отпору».
Отстаивание нетленных, вневременных идеалов человека — единственно возможная творческая позиция для создателя фильма «Гибель богов». После выхода на экраны своего фильма (1969 г.) Лукино Висконти заметил:
«Молодые должны усвоить, что непротивление злу приводит к его абсолютизации»*.
Фильм Висконти — это реалистичный рассказ о семействе и семейном предприятии. Перед нами Дом, разрушаемый изнутри темными помыслами домочадцев и снаружи — силами, обретающими власть над страной, вступившей в самый трагический период своей истории. История семейства и история государства… В «Гибели богов» перед нами Германия начала 1930-х годов.
О созревании идеи фильма Висконти говорит так:
«И если бы завтра я решил, например, снять фильм о конце дома Романовых, это тоже не было бы случайным решением, потому что я очень много читал о России, о династии Романовых, об Октябрьской революции, о Ленине, о Временном правительстве, о Керенском, Распутине, о большевиках, о гибели царской семьи. Конечно, мне пришлось бы уточнить некоторые подробности, поднабраться деталей, но в целом я для этого достаточно подготовлен. Другими словами, подобные замыслы возникают не случайно, скорее, это потребность, которая зреет в нас постепенно и в один прекрасный день выплескивается наружу, требуя своей реализации».
Это, конечно, авторский кинематограф, на всех фильмах Висконти — печать художественной индивидуальности режиссера.
Сам термин «неореализм» стали применять именно после появления фильма Висконти «Наваждение» (1942 г.). Зритель нашей страны, воспитанный на гуманистических традициях русской литературы, не мог остаться равнодушным к памятникам итальянского неореализма. Сочувственное изображение жизни «бедных людей», «маленького человека», призыв к нестяжательству, простота изобразительных средств — всё это привлекало сердца к неореалистам.
Висконти ценили в Советском Союзе как «художника социальной темы», и уже в 1965 году в Москве вышла о нем монография.
В 60-е годы культурная: ситуация в Италии стала меняться. Изменилась панорама итальянского кино. Режиссер Карло Лидзани в середине 70-х писал:
«Если смотреть на неореализм с высоты сегодняшнего дня, он может не удовлетворить наблюдателя, может показаться слишком простоватым или слишком устаревшим. Однако характерный для неореализма интерес к социальной судьбе человека мог бы послужить сегодня стрелкой компаса, указывающей выход из лабиринта самоубийственных и ностальгических настроений, которые обуревают западный мир».
Как замечалось, большинство фильмов Висконти представляют собой экранизации литературных произведений.
Из русских писателей Висконти больше всего любил Достоевского и Чехова.
Советские зрители любили фильм «Рокко и его братья» (1960 г.).
В отношениях главных действующих лиц — Рокко, проститутки Нади, Симоне угадывается любовный треугольник романа «Идиот» — князь Мышкин, Настасья Филипповна, Рогожин. Повороты сюжета картины пересекаются с сюжетными линиями «Идиота».
В «Гибели богов» нас интересует линия «Бесов». Вообще же фильм пронизан литературными ассоциациями. Критики называли «Макбет» Шекспира, «Будденброков» Томаса Манна. Очевидна отсылка и к опере Вагнера «Гибель богов».
Сам Висконти так говорил о фильме:
«Вообще в моих фильмах почти всегда можно найти литературные реминисценции. Так, например, историю Мартина и Лизы, когда он совращает девочку, а потом признается в этом и в том, что был причиной ее самоубийства, я снимал под впечатлением исповеди Ставрогина в „Бесах“ Достоевского».
Параллели между Ставрогиным и Мартином очевидны. Петр Верховенский как прообраз Ашенбаха — «злого гения» немецкого семейства — замечен критикой.
Когда к Достоевскому обратились с просьбой о разрешении на инсценировку его романа, он отвечал так:
«…Эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. <…> Для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей…».
И добавил, показав себя необычайно проницательным искусствоведом, как бы предвидя висконтиевские киноинтерпретации:
«Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет».
Итак, действие фильма происходит в Германии в начале 1930-х годов.
27 февраля 1933 года большая семья владельца металлургического концерна — старого барона Иоахима фон Эссенбека — собралась на праздничный обед. В день рождения старый барон должен огласить имя своего преемника на посту владельца концерна.
Беглый взгляд на родственное собрание.
Племянник Иоахима, Константин фон Эссенбек, с сыном Гюнтером. Константин — необузданный, грубый нацистский служака. Занимает важный пост в СА.
Юного талантливого Гюнтера вначале предполагалось вывести как единственного героя, сохраняющего «живую душу». Впоследствии Висконти отказался от этого замысла.
Гюнтер не уважает отца, его больше тянет к дяде Герберту.
Дальняя родственница Иоахима — Элизабет, ее муж — Герберт Тальман, вице-президент концерна, две их маленькие дочки. Герберт — антифашист.
Вдова погибшего на войне сына Иоахима — Софи фон Эссенбек, ее любовник Фридрих Брукман, исполнительный директор сталелитейных заводов. Сын Софи — Мартин, молодой человек 21 года от роду, законный наследник состояния.
Дальний родственник Эссенбеков — офицер СС Ашенбах. (Его играет Хельмут Гримм.)
Торжество смято неожиданным сообщением о пожаре в рейхстаге.
Преемником назначается Константин фон Эссенбек.
В интересах нацистов вообще расправиться со старым Иоахимом, и Ашенбах намекает на это Фридриху, обещая поддержку в борьбе за семейное состояние. Ночью Фридрих, заручившись одобрением Софи, убивает старика. Подозрение падает на Герберта, который в ту же ночь вынужден бежать за границу.
Родственные связи всё больше распадаются, Ашенбах умело растравляет зверя в каждом из Эссенбеков.
Константин шантажирует Мартина после самоубийства девочки Лизы, которую избалованный молодой барон совратил на квартире своей любовницы Ольги. Испуганный до беспамятства, Мартин скрывается на чердаке, где его и находит мать — Софи фон Эссенбек.
Ашенбах и Софи договариваются замять дело о совращении Лизы и убрать Константина рукой всё того же послушного Фридриха.
30 июня 1934 года, в «ночь длинных ножей», Фридрих Брукман совершает второе убийство. После безобразной пирушки в Висзее все штурмовики СА были расстреляны неожиданно нагрянувшим отрядом СС во главе с Ашенбахом. Фридрих стреляет в Константина.
Софи, забывая всё в борьбе за власть, обманом расправляется с Элизабет, женой бежавшего Герберта.
Ашенбах разжигает чувство мести за убитого отца в душе юного Гюнтера. Гуманизм, любовь к искусству — для Гюнтера это в прошлом. Он собирается вступить в нацистскую партию.
Главную ставку Ашенбах делает на Мартина, тот формально руководит концерном. Мартин готов к преступлению против матери…
Рассудок Софи не выдерживает царящей бесчеловечности.
Мартин в нацистской форме. Он устраивает новый праздник в опустевшем доме Эссенбеков, притащив сюда своих новых друзей-фашистов. Это бесовское отражение того первого семейного торжества. Софи сочетается браком с Фридрихом Брукманом.
Софи с мертвенным лицом, двигаясь как в тумане, проходит ритуал венчания. В «подарок» новобрачным Мартин приготовил ампулы с цианистым калием.
Фашистам нужен именно такой наследник Эссенбеков. Их упования на Мартина оправдались. Мартин застывает над трупами отравленных, подняв руку в нацистском приветствии.
Премьера фильма состоялась в октябре 1969 года в Риме.
Почему взят на вооружение именно этот фильм?
Почему разговор о киноинтерпретации «Бесов» в «Гибели богов» — фильме с антифашистской проблематикой — кажется нам таким актуальным в нынешней России?
Оглянемся вокруг.
Когда шельмование истины приобретает такой размах, что наиболее совестливым даже из участников «акции» становится не по себе, тут и выталкивается на сцену пугало «коричневой опасности».
Дескать, убедитесь: эти неандертальцы собираются вас, рафинированных интеллигентов, через мясорубку прокручивать. Есть желающие?
Волевое государственное строительство с верой, разумом и «милостью к падшим» никакого отношения к фашистской диктатуре не имеет.
Свободно разгулявшиеся «бесы» и фашисты равно являются порождением бездны. При определенных обстоятельствах они даже найдут общий язык.
В приемах затягивания в сети у тех и других «бесов» гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.
Этим ли мошенникам церемониться с человеческой душой!
В статье «Одна из современных фальшей» («Дневник писателя». 1873) Ф. М. Достоевский так характеризует самонадеянного Петра Верховенского и ему подобных:
«Это мошенники очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтоб уметь играть на ней как на музыкальном инструменте».
«Бесы» раскидывают сети. Даша боится за Ставрогина: «Да неужто вы не видите, что вы кругом оплетены их сетью!». Сами члены «революционной» пятерки «чувствовали, что вдруг как мухи попали в паутину к огромному пауку; злились, но тряслись от страху».
Главный «бес», Петр Степанович Верховенский, третирует и собственного отца — Степана Трофимовича.
Петр Верховенский заискивает перед Ставрогиным и именно ему однажды в упоении, как будто опьяневший, плохо владея собой, выкладывает программу «бесов».
«— Ну, Верховенский, я в первый раз слушаю вас, и слушаю с изумлением, — промолвил Николай Всеволодович, — вы, стало быть, и впрямь не социалист, а какой-нибудь политический… честолюбец?
— Мошенник, мошенник… Вас заботит, кто я такой? Я вам скажу сейчас, кто я такой, к тому и веду. Недаром же я у вас руку поцеловал. Но надо, чтоб и народ уверовал, что мы знаем, чего хотим, а что те только „машут дубиной и бьют по своим“. <…> Мы провозгласим разрушение… почему, почему опять-таки, эта идейка так обаятельна! Но надо, надо косточки поразмять. Мы пустим пожары… Мы пустим легенды… <…>… И рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное».
Первейшая задача для Петра Верховенского, «чтобы всё рушилось: и государство, и его нравственность». Народу нужно кинуть яркий фетиш на забаву, чтоб уж не вспоминал о старых идеалах и Русском Боге. Русский Бог уже спасовал пред «дешевкой». А «власть имущие» ведь только грозятся навести порядок, изловить нарушителей спокойствия, но по глупости заламывают руки своим же. И вот, если с помощью «обаятельных идеек» выпустить на волю инстинкты, тогда, вполне возможно, и рухнет ненавистный балаган — Государство Российское.
Разговор о подметных прокламациях между губернатором фон Лембке и Петром Верховенским:
«— Но, однако же, тут, например, приглашение к разрушению церквей.
— Отчего же и нет? Ведь вы же умный человек и, конечно, сами не веруете, а слишком хорошо понимаете, что вера вам нужна, чтобы народ абрютировать. Правда честнее лжи».
Петруша Верховенский приманивает призраком истины. «Правда честнее лжи» — неоспоримое суждение. Честный фон Лембке должен купиться. Святая простота!
Младший Верховенский умело и целенаправленно разделяет веру и разум. Искусственная «развилка»: либо — верующий дурак, либо — умный циник.
Кто же себя дураком признает? Уж лучше — в циники. А вера — для народа, чтобы его в стадо согнать. Ты же — над стадом, в качестве элиты.
Вера и разум, особенно когда нераздельны, представляют собой серьезную силу.
Пусть бы эти «старые формы» остались в виде красивой обертки.
Но вот беда. Когда в сиянии славы возвышает голос классическая русская литература, становится всё труднее представить разрушение актом героическим.
Удивительно, как следующие слова из статьи Л. Шестова «Достоевский и Ницше» (1902 г.) соотносятся с хитроумными подтасовками Петра Верховенского.
«Так, например, гр. Толстой, своими произведениями по крайней мере настолько же, насколько и Достоевский… продолжает превозносить превыше всего „разум и совесть“. Он обладает особым искусством произносить эти слова таким тоном, что всякое сомнение в их святости и неприкосновенности начинает казаться возмутительным кощунством. В этом отношении Достоевский никогда не мог сравниться с гр. Толстым. Однако ни тому, ни другому не удалось соединить несоединимое. Их беспокойные попытки возвратиться к старым „хорошим словам“ свидетельствуют лишь о том, что дело разрушения не только не менее, но много более трудно, чем дело созидания. Только тот решается разрушать, кто уже иначе жить не может».
В годы смуты вместо книг, «разоблачающих перед миром тайну о человеке», появляются «беззаконные бумажки».
Степан Трофимович — о прокламациях:
«— Господа! — произнес он вдруг, как бы решившись на всё и в то же время почти срывавшимся голосом. — Господа! Еще сегодня утром лежала предо мною одна из недавно разбросанных здесь беззаконных бумажек, и я в сотый раз задавал себе вопрос: „В чем ее тайна?“ <…>
— Господа, я разрешил всю тайну. Вся тайна их эффекта — в их глупости! (Глаза его засверкали). <…>… Никто не верит, чтоб это было так первоначально глупо. „Не может быть, чтоб тут ничего больше не было“, — говорит себе всякий и ищет секрета, видит тайну и хочет прочесть между строчками, — эффект достигнут! О, никогда еще глупость не получала такой торжественной награды…».
«Беззаконные бумажки» — самозванное искусство. Какие сомнительные секреты могут быть здесь сокрыты? Стоит ли втягиваться в пустую игру с их обнаружением?
Презирать общечеловеческие духовные ценности и при этом понимать, любить, беречь в сердце родную литературу — такого не бывает. Скорее возникнет желание вообще ее уничтожить.
В «Гибели богов» во дворе колледжа Гюнтера сжигают горы томов. В этих книгах перестали нуждаться новые власти.
Смута. В лучшем случае искусству отведут уголок. Пусть себе фантики коллекционируют. На «теплое местечко» могут рассчитывать только «прикормленные», им нужно покончить с поисками художественной правды. «Не прирученных» — прочь, за борт, «с парохода современности».
Научное обоснование идеологии «бесов» содержится в тетрадке некоего Шигалева.
«— У него хорошо в тетради, — продолжал Верховенский, — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом».
Шпионство — не то чтобы даже обязанность, скорее это призвание. В «Бесах» о Липутине:
«Человек этот, по-моему, был настоящий и прирожденный шпион. Он знал во всякую минуту все самые последние новости и всю подноготную нашего города, преимущественно по части мерзостей, и дивиться надо было, до какой степени он принимал к сердцу вещи, иногда совершенно до него не касавшиеся. Мне всегда казалось, что главною чертой его характера была зависть».
Зависть как движущая сила шпионства Липутина — глубокое психологическое замечание. Это именно зависть. Зависть к устройству чужой души, в котором ты ничего не понимаешь. И вот говоришь себе: «Пусть через сплетни и поклеп, пусть только расстрою этот музыкальный инструмент, но буду, буду считаться умнее, возьму верх, овладею. Или докажу, по крайней мере, вывалив чужие грехи, что все такие же подлецы, как я, ничем не лучше».
Сцена из «Гибели богов». Ашенбах и Софи в тайной канцелярии, где содержится самое полное собрание доносов.
«Здание СД. Архив. Интерьер. Ночь. Огромное помещение. По всей его высоте стеллажи с папками. Обстановка мрачная, жутковатая, почти ирреальная. Раздаются звуки шагов, потом голос Ашенбаха.
Ашенбах: Это самый полный архив, который когда-либо был задуман.
Ашенбах и Софи подходят к одному из стеллажей.
Ашенбах: Здесь собрана вся частная жизнь Германии. Есть всё. Здесь даже можно найти вашу с Фридрихом историю. Представляла ли ты себе такое?
Подходят к картотеке.
— …Видишь ли, это совсем нетрудно — проникнуть в жизнь людей…».
(В статье мы цитируем литературный сценарий фильма. Авторы сценария: Никола Бадалукко, Энрико Медиоли и Лукино Висконти.)
Что же предлагал Шигалев?
Шигалев предлагает, в виде конечного разрешения вопроса, — разделение человечества на две неравные части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. По мнению пропагандиста «шигалевщины»: «Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, — весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны».
В годы борьбы с фашизмом и после Победы деятели культуры за рубежом и у нас в стране отмечали близость «шигалевщины» и основ идеологии нацизма.
В «Гибели богов» «новую мораль» пропагандирует «кликуша-гитлеровец» Ашенбах.
«Они уже почти у порога гостиной, и Ашенбах на миг задерживает Фридриха.
Ашенбах (цитирует с иронической высокопарностью):
„Частная мораль мертва. Мы — общество избранных, которым дозволено всё…“. Это слова Гитлера, дорогой кузен… И тебе тоже следовало бы подумать над ними… (Со странной улыбкой.) Сегодня ночью, например».
Ашенбах не только допускает с точки зрения новой нравственности возможность убить Иоахима фон Эссенбека, но и провоцирует на это Фридриха. Этой ночью Фридрих убьет старого барона.
«Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом», — говорил Шигалев.
Финальная часть «Гибели богов». Новобрачные закрыты в комнате. Перед ними Мартин поставил ампулы с ядом. В доме продолжается «праздник». Свита Мартина расползлась по углам, дом Эссенбеков стал напоминать бордель. Мартин, «запрограммированно» поворачиваясь, танцует с партнершей, похожей на манекен. Он отстраняется, отходит и возвращается с двумя автоматчиками в касках. Автоматчики становятся у двери в комнату обреченных. Новобрачные не выйдут отсюда живыми.
Более или менее веселый бордель — только промежуточная стадия, коридор, а за порогом — каменное царство смерти.
Софи и Фридрих, отравленные Мартином после венчания, не были невинными жертвами. На совести этой пары — кровавые преступления.
Софи, посовещавшись с Ашенбахом, пыталась склонить Фридриха ко второму убийству. В сущности, Фридрихом двигала только любовь к Софи. Он мягкосердечен, ему не по душе «безжалостная логика» Ашенбаха. Совесть его нечиста. Софи — полностью под влиянием «умного духа, страшного духа смерти и разрушения» — играла роль искусителя по отношению к Фридриху…
После старого Иоахима Фридрих убивает Константина — отца Гюнтера…
Гюнтеру хочется даже не то чтобы отомстить убийцам отца, ему хочется справедливого возмездия. Но Ашенбах сумел направить по пути озлобленности встрепенувшуюся душу юноши. Гюнтер примкнет к нацистам. Ашенбах — а как раз именно он больше всего повинен в смерти отца Гюнтера — сумел «обольстить совесть» своей жертвы.
«Ашенбах: Видишь ли, Гюнтер, сегодня ты выиграл нечто совершенно необычайное… Жестокость твоего отца, честолюбие Фридриха, жестокость того же Мартина…
Мартин безразличной ухмылкой реагирует на эти слова.
— …ничто по сравнению с тем, что есть теперь у тебя.
Гюнтер внимательно слушает Ашенбаха, речи которого приводят его в состояние экзальтации.
— …Ненависть, Гюнтер, у тебя есть ненависть. Молодая ненависть… чистая… абсолютная…».
Простодушный прапорщик Эркель был самозабвенно предан Петру Верховенскому. Сближение его с «бесами» можно объяснить только «обольщением совести». Эркель уже после раскрытия заговора, во время начавшегося процесса «даже в самых строгих судьях возбудил к себе некоторую симпатию — своею молодостью, своею беззащитностью, явным свидетельством, что он только фанатическая жертва политического обольстителя».
В «Гибели богов»:
«Ашенбах:…Ты пойдешь со мной, Гюнтер. Мы научим тебя владеть этим твоим беспредельным богатством, использовать его как можно правильнее… Ты ведь понимаешь, не так ли?
Гюнтер механически кивает головой в знак согласия.
Гюнтер: Конечно.
Гюнтер смотрит на Ашенбаха с благоговейной признательностью.
Мартин: Гюнтер! Иди!
Гюнтер механически кивает головой: да. Идет, останавливается, поворачивается к Мартину. Кузен для него больше не враг. Гюнтер доверчиво смотрит ему в глаза, словно узнавая в нем себя».
Обратим внимание, как «механически» действует Гюнтер. Всё живое вытравляется из его души.
В «Бесах» на минуту, с помощью улыбки, Степан Трофимович привел в чувство Кириллова, убежденного в необходимости тотального разрушения.
В уездном городе, где и происходят все в подробностях описанные страшные события, инженер Кириллов собирается строить мост.
Степан Трофимович шутит:
«— …В одном только я затрудняюсь: вы хотите строить наш мост и в то же время объявляете, что стоите за принцип всеобщего разрушения. Не дадут вам строить наш мост!
— Как? Как это вы сказали… ах чёрт! — воскликнул пораженный Кириллов и вдруг рассмеялся самым веселым и ясным смехом. На мгновение лицо его приняло самое детское выражение и, мне показалось, очень к нему идущее».
Степан Трофимович многое просмотрел у себя под носом: просмотрел русскую жизнь, просмотрел процесс духовной деградации собственного сына, просмотрел нарождающихся деловитых «бесов».
В начале романа долго говорится о самовлюбленности Степана Трофимовича. Может, тот и вовсе пустоцвет? Но вдруг, с особенной серьезностью, свидетельствуется «чрезвычайная доброта его тихого и незлопамятного сердца».
Достоевский писал, подразумевая русских:
«У нас больше непосредственной и благородной веры в добро, как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте».
Буржуазное семейство Эссенбеков в лице лучших своих представителей — старого барона, например, может быть, даже не до конца сознавая это, избирает бытовой комфорт, успех семейного дела — самой высшей ценностью. Это и есть вера Эссенбеков.
Эссенбеки с их хозяйственными амбициями поддаются искушению и предают свои души тьме почти без сопротивления. Страсть к власти и деньгам делает членов семейства чем-то вроде управляемых моделей людей. Такое «механистичное» поведение совершенно устраивает Ашенбаха. Эссенбеки легко идут на убийства.
Герои Достоевского, казалось бы, способные лишь на восторженные восклицания, оказываются более стойкими духовно. Даже «пятерку» Верховенского кровь убитого Шатова отнюдь не «связала», как надеялся Петр Степанович. Почти все вскоре покаялись.
Герою русской классической литературы очень трудно переступить через человеческую жизнь. На пороге преступления одержимый злодей может одуматься, снять дьявольское заклятие. В русской литературе жизнь, бессмертная душа, данная Богом, — самая большая ценность.
Со времен «Евгения Онегина» известно, как приятно досаждать врагу.
Еще приятнее в молчанье Ему готовить честный гроб И тихо целить в бледный лоб На благородном расстоянье; Но отослать его к отцам Едва ль приятно будет вам.Важно самому не стать преступником.
Вспоминается дуэль Ставрогина, когда тот щадит противника и стреляет вверх, а потом твердо говорит, что «не хочет более никого убивать».
Идеалисты — любимое детище Достоевского. Вот только нужно, чтобы «поразительная идея» не «придавила» личность, как это произошло с Шатовым и Кирилловым.
Любовь, дружба, милосердие…
В душевном арсенале идеалиста есть понятия, которые «бесам» крайне необходимо изъять.
В черновике Достоевский набрасывает сцену диалога, похожую на киноэпизод, между Княгиней или Генеральшей (Варвара Петровна Ставрогина) и Нечаевым (Петр Верховенский). Нечаев заводит искусительные речи.
«— Вся эта любовь — одно самолюбие, — говорит Нечаев у Княгини за обедом, — чем выше любовь, тем больше, значит, самолюбие…
— Это так, — говорит Генеральша.
— Дружба, чтоб помои выливать.
— Это так, — говорит Генеральша».
Долгие двадцать лет Варвара Петровна дружила со Степаном Трофимовичем. Теперь же бедная женщина, попавшая под влияние «бесов», заявляет:
«— Вы ужасно любите восклицать, Степан Трофимович. Нынче это совсем не в моде. Они говорят грубо, но просто. Дались вам наши двадцать лет! Двадцать лет обоюдного самолюбия, и больше ничего. Каждое письмо ваше ко мне писано не ко мне, а для потомства. Вы стилист, а не друг, а дружба — это только прославленное слово, в сущности: взаимное излияние помой…».
Варвара Петровна продолжает:
«— …А что, например, говорили вы мне о милостыне? А между тем наслаждение от милостыни есть наслаждение надменное и безнравственное, наслаждение богача своим богатством, властию и сравнением своего значения со значением нищего. <…> Милостыня и в теперешнем обществе должна быть законом запрещена».
Поэтический Степан Трофимович в ужасе; он догадывается, кто «обработал» его друга Варвару Петровну:
«— Боже, сколько чужих слов! Затверженные уроки! И на вас уже надели они свой мундир!»
Намеченные жертвы «политического обольстителя» Петруши Верховенского слишком часто оказывались натурами куда более сложными, чем допускал сам не очень развитой «руководитель». Петр Степанович не мог предвидеть действия «подопытных», судил по себе и без конца ошибался.
В «Гибели богов» Ашенбах тоже судит по себе, но не натыкается на противоречия. С «мертвыми душами» стяжателей легко справиться.
«— Да уж не туда ли пошли-с? — указал кто-то на дверь в светелку. В самом деле, всегда затворенная дверца в светелку была теперь отперта и стояла настежь. Подыматься приходилось чуть не под крышу по деревянной, длинной, очень узенькой и ужасно крутой лестнице. Там была тоже какая-то комнатка.
— Я не пойду туда. С какой стати он полезет туда? — ужасно побледнела Варвара Петровна, озираясь на слуг. Те смотрели на нее и молчали. Даша дрожала.
Варвара Петровна бросилась по лесенке; Даша за нею; но едва вошла в светелку, закричала и упала без чувств». Николай Ставрогин был мертв. Он покончил с собой. В «Гибели богов» есть похожая сцена. Там Софи фон Эссенбек поднимается на чердак, чтобы найти пропавшего сына. Мартин прячется. Появилась угроза разоблачения его преступления в отношении маленькой Лизы. Мартин жив, но он сломлен, «будто под гипнозом», «дрожит», «всхлипывает на полу».
Видеть скопление грязных дел и помыслов в собственной душе и одновременно ощущать свою исключительность — в данном случае это и доводит до надлома или самоубийства.
В Ставрогине соединяются «безмерная высота» помыслов и оторванность, отделение себя от жизни родной земли, на которую герой смотрит свысока, едва замечает. Ставрогин тоже кружится, носимый темной бурей, как оторванный, мертвый листок.
Закружились бесы разны, Будто листья в ноябре…От Николая Всеволодовича все ждут чего-то, чего не ждут от других. Он сам пеняет на это Кириллову. Ставрогин предназначен и способен совершить подвиг, нести крест. Таково предначертание (Ставрогин — от греч. «ставрог» — крест). Но избранник, Князь — оказывается миражём, дьявольской приманкой. Он играет чуждую роль, противную его призванию. Герой, не в силах избавиться от своей ужасной маски, вешается на чердаке, как некогда погубленная им девочка.
Приведенные выше строки из финала «Бесов» заставляют вспомнить пророческий сон Самозванца в пушкинском «Борисе Годунове» («бесовское мечтанье», крутая лестница, тема самоубийства):
А мой покой бесовское мечтанье Тревожило, и враг меня мутил. Мне снилося, что лестница крутая Меня вела на башню; с высоты Мне виделась Москва, что муравейник; Внизу народ на площади кипел И на меня указывал со смехом, И стыдно мне и страшно становилось — И, падая стремглав, я пробуждался…Гришку Отрепьева рассмотрела в Ставрогине бедная Марья Тимофеевна Лебядкина, скрываемая ото всех жена несостоявшегося «Ивана-царевича».
«— Что ты сказала, несчастная, какие сны тебе снятся! — возопил он и изо всей силы оттолкнул ее от себя… Он бросился бежать; но она тотчас вскочила за ним, хромая и прискакивая, вдогонку, и уже с крыльца… успела ему еще прокричать, с визгом и хохотом, вослед в темноту:
— Гришка От-репь-ев а-на-фе-ма!»
Здесь, как и в сне Самозванца, появляются хохот, стыд и страх осмеянного. Марья Тимофеевна видит пророческие сны о Ставрогине как о Самозванце. Для Ставрогина действительно приготовлена роль лжецаревича в будущем царстве «бесов».
В главе «Иван-царевич» «исступленный» Петр Верховенский пытается увлечь Ставрогина грандиозностью дьявольских замыслов по разрушению государства и подрыву нравственности. В начавшейся неразберихе тоскующему по идеалу народу предполагается представить кумира — «Ивана-царевича». Этим Самозванцем нового Смутного времени и должен стать Ставрогин.
В Ставрогине есть что-то влекущее, и это заставит народ признать лжецаревича.
«— Ставрогин, вы красавец! — вскричал Петр Степанович почти в упоении. — Знаете ли, что вы красавец? В вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете. О, я вас изучил! Я на вас часто сбоку, из угла гляжу! В вас даже есть простодушие и наивность, знаете ли вы это? Еще есть, есть!».
В «Гибели богов» Самозванец, ставленник фашистов, стремящихся запустить руки в семейное дело Эссенбеков, — это Мартин. Последний кадр фильма — Мартин, вскинувший руку в нацистском приветствии. Он — победитель.
«Это лицо не из обыкновенных», — говорил князь Мышкин, глядя на портрет красавицы Настасьи Филипповны.
Пожалуй, именно внешность молодого актера, гармония в чертах Хельмута Бергера, играющего испорченного бездельника Мартина, приводит к мысли, что в душу его героя изначально было вложено нечто драгоценное, потерянное или даже специально промотанное впоследствии.
К архиерею Тихону Ставрогин приносит несколько печатных листочков своей «Исповеди» — признания в совращении Матреши. Тихон, как и пушкинский Пимен — наставник будущего Самозванца в Чудовом монастыре, пытается внушить Ставрогину представление об истинном пути. Тихон советует восстановить в себе человека долгой работой.
В фильме Висконти нет подобного исповедника и судьи. «Исповедь» Мартина — рассказ о соблазнении им маленькой Лизы, записанный на магнитофон, попадает к Ашенбаху. Ашенбах и будет судьей Мартина. Речь идет не об угрызениях совести, а только о юридических последствиях. О формальной стороне дела. Может быть, это величайшее преступление, если следовать «новой морали», и преступлением не является…
На квартире своей любовницы Ольги Мартин соблазнил девочку Лизу, живущую по соседству, иногда прибирающую в комнатах жильцов.
«Матреша сидела в своей каморке, на скамеечке, ко мне спиной, и что-то копалась с иголкой. Наконец, вдруг тихо запела, очень тихо, это с ней иногда бывало».
Висконти воспроизводит эту сцену в точности. Мы полностью погружаемся в пространство Достоевского.
Мартин впервые крадется в комнату Лизы и присаживается возле нее на корточки («Я тихо сел подле нее на полу».) Он принес игрушечную лошадку.
Довольно большая, пустоватая и темноватая комната — кухня и спальня одновременно. Свет из окна. Скудная мебель. Кровать с неубранным постельным бельем. Но здесь не так уж безрадостно.
Достоевский замечает:
«У них на окнах стояло много герани, и солнце ужасно ярко светило».
В комнате Лизы на кровати копошится ее крошечный брат, заинтересованно смотрит на вошедшего. Наивные проблески света, смешной лепет жизни, которую спешит вытеснить мрак.
Далее, по Достоевскому:
«То, что я поцеловал у ней руку, вдруг рассмешило ее, как дитю, но только на одну секунду, потому что она стремительно вскочила в другой раз, и уже в таком испуге, что судорога прошла по лицу. Она смотрела на меня до ужаса неподвижными глазами, а губы стали дергаться, чтобы заплакать, но все-таки не закричала».
Лиза вскочила.
Мартин идет к двери. Он ссутулился, подавлен. Даже прекрасный серый костюм сидит на нем мешковато. Он оглядывается на Лизу. Внешне этот неврастеник именно сейчас похож на персонажей Достоевского больше всего.
Лизу окликнула мать. Мартин стремительно вбегает к себе и запирается изнутри.
Вряд ли Хельмут Бергер смог бы так прочувствованно сыграть потрясение Мартина в следующем эпизоде, если бы не режиссерская находка.
Мартин не любил серьезного искусства и классической музыки тоже. Он не слушал и фашистских гимнов, а только легкие песенки. Сейчас он взволнован и, чтобы развеяться, конвульсивно хватается за ручку радиоприемника.
И вдруг из динамика самовластно и мощно вырываются звуки симфонического оркестра (звучит симфония № 8 Брукнера). Вечное искусство, вторгаясь в душу Мартина, вселяет веру, надежду на прощение и возрождение. Музыка напоминает о долге и чести, молит, упрашивает, грозит.
Мартин опускает голову на руку… Отчаяние, смутное раскаяние — в лице Мартина. Закусывает дрожащие пальцы.
Когда приходит Ольга, Мартин дремлет на кровати, свернувшись калачиком. Как-то уже понятно, что возрождения не будет. Мартин погубит маленькую Лизу. Его совесть спит.
Ставрогин в «Бесах»:
«Вот тогда-то в эти два дня я и задал себе раз вопрос, могу ли бросить и уйти от замышленного намерения, и я тотчас почувствовал, что могу, могу во всякое время и сию минуту. Я около того времени хотел убить себя от болезни равнодушия; впрочем, не знаю отчего».
День. Лиза подметает в комнате Мартина. Тот подзывает ее к себе…
В следующей сцене Висконти опять скурпулезно следует за Достоевским.
«Наконец вдруг случилась такая странность, которую я никогда не забуду и которая привела меня в удивление: девочка обхватила меня за шею руками и начала вдруг ужасно целовать сама. Лицо ее выражало совершенное восхищение. Я чуть не встал и не ушел — так это было мне неприятно в таком крошечном ребенке — от жалости».
Преступник сам гасит спасительные мысли, темная инстинктивная сторона его характера торжествует. Теперь герой — орудие дьявола, «соблазняющего одного из малых сих». Зачарованная пленница, действительно, будто обращается в иную, губительную веру.
«Наверное, ей показалось в конце концов, что она сделала неимоверное преступление и в нём смертельно виновата — „Бога убила“».
Перед тем как погубить Лизу, Мартин примеряет ей на шею двойную нитку жемчуга.
Перед обрядом венчания, уже решившись на убийство новобрачных, Мартин поправляет жемчужное ожерелье на шее матери.
Мать будет новой жертвой Мартина. Со дна его души поднялось теперь все самое стыдливо задавленное, низкое…
В сценарии «Гибели богов»:
«Доктор проверяет пульс Софи. Медленная панорама с рук доктора вверх на лицо Софи, на тетрадки маленького Мартина, которые раскрыты таким образом, что можно разглядеть рисунки и подписи под ними.
Мартин и мама (Martin und Mutter).
Мартин убивает маму (Martin todd Mutter).
Два детских рисунка. На одном из них нарисована женщина, пронзенная кинжалом».
Перейдя некую грань после смерти Лизы, Мартин убивает мать и ее мужа. Уже пережив самоубийство Матреши, Ставрогин оказался косвенно виновным в смерти своей жены Хромоножки и ее брата. Хромоножку и капитана Лебядкина зарезал Федька Каторжный. Ставрогин не понуждал к убийству, но и не препятствовал. Федька сразу предложил Ставрогину нож в качестве решения проблемы.
О Ставрогине:
«„Нож, нож!“ — повторял он в неутолимой злобе, широко шагая по грязи и лужам, не разбирая дороги. <…> Правда, минутами ему ужасно хотелось захохотать, громко, бешено; но он почему-то крепился и сдерживал смех».
«Праздным, шатающимся барчонком» называет Ставрогина Шатов.
Вконец изломавшись, Мартин теряет признаки человечности. Теперь — это тварь, дрожащая от неутолимой злобы.
На простодушный взгляд, Мартин делает страшный и бессмысленный выбор.
Висконти рассказывает о ходе съемок:
«Я попросил привести ребенка, умеющего рисовать. Мне нашли девочку, прямо тут же, в Чинечитта, и я сказал ей: „Нарисуй, как мальчик убивает какую-то тетю“. Она нарисовала мальчика с мамой, а нож мне пришлось дорисовать самому, она ни за что не хотела этого делать».
Набеленное лицо сошедшей с ума от людской жестокости Софи фон Эссенбек, которая, опираясь на руку Фридриха, идет к алтарю, врезается в память. Софи напоминает безумную Марью Тимофеевну Лебядкину — густо напудренную, нелепую, но со страждущим сердцем.
Замечалось, что юродивая Хромоножка в какой-то мере — образ души России. Она — трепетная, мечтательная и совершенно, до удивления, «без царя в голове». Здесь можно вспомнить тютчевское: «Умом Россию не понять…».
Софи отчасти — образ души Германии, ослепленной властолюбием.
Софи хотела, чтобы все признали Фридриха, признали ее любовь. Приходилось вселять в него решительность. «Злой гений» Ашенбах подсказал способы достичь высшей ступени в семейной иерархии. Идя на преступление, она твердит, воодушевляясь: «Ах! Власть! Ты забыл о ней? Вся власть — или ничего». И вот теперь — на руках кровь.
«Странное было тогда настроение умов. Особенно в дамском обществе обозначилось какое-то легкомыслие, и нельзя сказать, чтобы мало-помалу как бы по ветру было пущено несколько чрезвычайно развязных понятий. Наступило что-то развеселое, легкое, не скажу, чтобы всегда приятное. В моде был некоторый беспорядок умов».
В обстановке этого, узнаваемого сегодня, общественного настроения, охарактеризованного автором «Бесов» как «мода на беспорядок умов», случился в романе страшный пожар в Заречье.
Известие о пожаре прервало праздник в губернаторском доме:
«— Пожар! Всё Заречье горит!
Не помню только, где впервые раздался этот ужасный крик: в залах ли, или кто-то вбежал с лестницы из передней…».
В фильме Висконти ясно чувствуется, как «развязные понятия», легкие нравы, словом — «беспорядок умов», охватил Германию накануне установления фашистами своей власти. Весть о горящем рейхстаге нарушила семейное торжество Эссенбеков.
Рейхстаг подожгли сами фашисты. «Бесы» хотели, чтобы запылало Заречье, они мечтали «пустить пожары».
Несчастный, страдающий губернатор фон Лембке, обретя проницательность юродивого, произносит:
«Пожар в умах, а не на крышах домов».
Всё дело в духовной жизни человека. Крушение идеалов, неверие приводят к распаду личности. Бесплодный хаос в сознании провоцирует агрессивное безумие — «пожар в умах». Целостное мироощущение честных граждан противится этому.
Ашенбах тоже афористично высказывается о пожаре:
«…прежде чем пожар в рейхстаге будет потушен, люди старой Германии должны стать пеплом».
С дороги, вернее, с темных обходных путей «бесов» должны убраться те, кто верит в «старые» «хорошие слова», помнит историю, занят созидательным трудом.
Смиренный труд, семья… Но почему бы не разнообразить жизнь, не увидеть представление — красивое, как запуск фейерверка, и бесплатное (как сыр в мышеловке).
Одно дело — созерцать веселые цветные огоньки невинного фейерверка и совсем другое — губительное пламя пожара, в результате которого на месте, где кто-то жил и любил, будет лежать мертвый черный остов.
Душа содрогается от зрелища адского пламени. В зеваке, праздно глазеющем на глубокие, искренние страдания, поднимается зверь. «Вызов к разрушительным инстинктам» услышан.
«Бесовщина» — болезнь, протекающая тяжелее, чем думается. Кризис — вовсе не минутный, а продолжается куда дольше. Но Достоевский надеется, неуклонно верит в исцеление России, которая (по евангельской сцене, пересказанной Степаном Трофимовичем) «сядет у ног Иисусовых», как выздоровевший бесноватый.
Мучительная тяга к разрушению и саморазрушению, однажды проявившись, полностью захватывает героев фильма Висконти. Всё живое вбирается в себя страшной системой с помощью сетей и ловушек. Гибнут боги в душах людей, а потом гибнут лишенные идеалов люди. Мгла сгущается к финалу фильма. Мрак нависает над страной.
В то же время, что и «Гибель богов», в соседних павильонах студии «Чинечитта» снимался фильм «Сатирикон» Федерико Феллини.
Висконти говорил про одинаковое настроение этих картин (может быть, связанное с неким сломом внутри культурной жизни Италии):
«Кто-то, посмотрев мой фильм одновременно с картиной „Сатирикон“, спросил меня: „Что же это вы с Феллини сделали два таких мрачных, похоронных фильма, не оставляющих никаких надежд?“ Это не совсем так. У Феллини бесконечное, как в плутовском романе, странствие двух героев всё-таки создает ощущение движения в незамкнутом пространстве, оставляя надежду на возможность выхода за пределы этого мира. Но тогда я еще не видел фильм Феллини и ответил, что ничего не могу сказать о нем, хотя и слышал от многих, что это похороны римского духа. Что касается моего фильма, то, как я уже говорил, в нем нет даже проблеска надежды».
В «Гибели богов» либерал и антифашист Герберт подводит безрадостные итоги противостояния нацизму. Из сценария:
«Герберт: Это конец, Гюнтер. И виноваты мы сами, мы все, и я тоже. И не надо кричать, слишком поздно, даже спасению души это не поможет. (Пауза.) Мы хотели дать Германии „больную“ демократию. <…>
Нацизм, Гюнтер, — это творение наших рук, он зародился на наших заводах, он питался нашими деньгами… Я знаю, ты думаешь о том, что мне не следовало бы бежать, и, может быть, в глубине души ты презираешь меня».
Вероятно, политика либералов, к которым причисляет себя Герберт, носила соглашательский характер по отношению к «мировому злу». Зло казалось таким «ручным», домашним, неопасным. И даже, наверно, — необходимым элементом свободного общества. Таким образом выстраивалась «больная» демократия. И для неудачников всё, конечно, кончается эмиграцией.
Уместен ли беспросветно-траурный прогноз относительно будущего нашей страны?
Не будем пессимистичны.
Мы остались на своей земле, она не ушла у нас из-под ног. Мы только заглянули в бездну и теперь поднимаем глаза.
Из последних бесед Висконти (1976 г.):
«В „Гибели богов“ — да, там я не оставил ни проблеска надежды. Вообразить некое спасение для этого клубка змей — всё равно как если бы сказать: будем надеяться, что эти чудовища вернутся к жизни».
И далее, переводя разговор на современность:
«Я не пессимист. Во всякой эпохе бывают темные периоды. Осознание всегда приходит после. Вот пройдет немного времени, и станут ясны также и эти годы, которые нам кажутся такими смутными. Молодые, я надеюсь на вас. Вам принадлежит мой труд. И пусть вас объединяет солидарность. Будьте едины, насколько это возможно. Я не читаю вам мораль, но говорю от чистого сердца».
Русский мечтательный либерал Степан Трофимович говорил, обуреваемый искренним волнением (жаль, что у него не всегда хватало силы воли покинуть уютный диван):
«— Cher, — заключил он вдруг, быстро приподнявшись, — знаете ли, что это непременно чем-нибудь кончится?
— Уж конечно, — сказал я».
Планы «бесов» пугают Дашу, она, как и Степан Трофимович, говорит, что «это непременно чем-нибудь кончится». В фильме «Гибель богов» ужасный конец — смутное время и воцарение темных сил — наступает.
В романе Достоевского прежняя милая, неоцененная доселе жизнь уездного города восстанавливается. Пусть за дорогую плату крови и сломанных судеб, но с «беснованием» покончено.
Что-то просвечивает сквозь темные наслоения, героям не удается закрыться наглухо. Наваждение рассеивается, обнажая душу. Человек поднимается над собой.
8 июня 1880 года. Ф. М. Достоевский произнес знаменитую речь в честь открытия памятника Пушкину в Москве. Он склонился перед «великой тайной пушкинского творчества», говорил о Пушкине как о «пророчестве и указании».
Ни до, ни после стены Московского дворянского собрания не оглашались таким громом рукоплесканий. Слышались восторженные крики, гул голосов.
В охваченном воодушевлением зале многие заметили, что «Тургенев, спотыкаясь, как медведь, шел прямо к Достоевскому с раскрытыми объятиями».
И. С. Аксаков, волнуясь, прокричал с кафедры:
«— Господа, я не хочу, да и не могу говорить после Достоевского! После Достоевского нельзя говорить! Речь Достоевского событие! Всё разъяснено, всё ясно. Нет больше славянофилов, нет больше западников! Тургенев согласен со мною».
Так бы хотелось сентиментально замереть на этой минуте и верить, что до каждой живой души можно достучаться.
Верховенский-отец рассказывает о детстве Петруши:
«Мальчик, знаете, нервный, очень чувствительный и… боязливый. Ложась спать, клал земные поклоны и крестил подушку, чтобы ночью не умереть…».
Казалось, слова Степана Трофимовича чем-то тронули инженера Кириллова:
«— Вы серьезно, что он подушку крестил? — с каким-то особенным любопытством вдруг осведомился инженер.
— Да, крестил…
— Нет, я так; продолжайте».
Кириллов взволнован. Зреет его самая излюбленная мысль: «все люди хороши». Вот и младший Верховенский — «бес», оказывается, был наделен «живой душой».
Кириллов — атеист. Утверждая неверие, он хочет застрелиться и этим спасти человечество, открыть ему новый путь, состоящий в том, что сам человек займет место Бога. Вместо веры — своеволие, вместо страха Божия — гордыня, вместо бессмертия души — дверь, открытая в бездну. Учение ложно, но жажда искупления — истинна.
Сосед Кириллова потрясен неожиданно проявившейся добротой этого угрюмого бессребреника:
«— Кириллов! — вскричал Шатов, захватывая под локоть чайник, а в обе руки сахар и хлеб. — Кириллов! Если б… если б вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий и бросить ваш атеистический бред… о, какой бы вы были человек, Кириллов!».
Задумывая предисловие к своему роману, Достоевский набросал несколько предложений, и в частности:
«В Кириллове народная идея — сейчас же жертвовать собою для правды».
Осмелимся, позволим себе наивное суждение. Как жаль, что Достоевский не осуществил свой замысел и не предпослал своему тягостному, обжигающему роману подобного ободряющего обращения к читателю. То, что он задумывал сказать, так ясно, просто и твердо, так полно любви к людям и душевного благородства, что именно этими бесценными словами стоит, пожалуй, закончить статью:
«Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман».
Анна Баженова ПОЭМА КАЙФА И МУКИ СОВЕСТИ
В девяностые годы в России изменилось многое, в том числе и школьная программа. Программа по литературе расширилась. Школьники стали изучать шедевры Cеребряного века и русского зарубежья, смогли составить представление о советско-российском авангарде и постмодернизме. Но, к сожалению, всё то новое, что незнакомо было раньше обыкновенному ученику, да и обыкновенному учителю, никак не оценивается теперь с серьезной и четкой позиции ни в методичках, ни в учебных пособиях. Все «альтернативные» учебники ограничиваются только формальным, внешним разбором структуры произведения. О содержании чаще всего нет ни слова.
Может быть, так и нужно? Довольно нам ханжески диктовали, что хорошо, а что плохо, мы и сами можем во всем разобраться, сами все понимаем… Но понимаем ли? Понимают ли подростки, смысл жизни которых — потусоваться на дискотеках или поорать с трибуны стадиона? Понимают ли взрослые, те, для кого высшее счастье — передать привет с арены «Поля чудес», те, кто надрывается от смеха, когда с эстрады издеваются над их же святынями? И большие ли мы, если судить, скажем, с высоты духовного уровня русской классики — Пушкина, Достоевского? Не упоминая уже о духовной высоте Евангелия…
Школе нужен учебник, в котором литература рассматривалась бы с позиций русской духовной традиции. Иначе школьнику, а порой и учителю трудно бывает понять, в каком же из произведений на данную тему заключается истина. А цель русской литературы — именно истина, а не только эстетическое наслаждение или интеллектуальные упражнения. С. А. Венгеров писал: «…жизненность изображения… до последних пределов реальное воспроизведение… озарено светом идеала… Наша литература никогда не замыкалась в сфере чисто художественных интересов»*.
Действительно, у кого (и с какой позиции) правдивее раскрывается военная тематика — у Константина Воробьева или Владимира Войновича? Кто прав в своем подходе к русской истории — Булат Окуджава или Дмитрий Балашов? Кто глубже всматривается в душу русского человека, кто вернее отражает жизнь послевоенной России — Владимир Крупин или Татьяна Толстая, Владимир Сорокин или Василий Белов? Для примера сравним два произведения, включенные в «современную русскую классику». Тема одна и та же — путешествие спившегося человека по железной дороге вдоль России. И поэма Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», и рассказ Валентина Распутина «Не могу-у!» написаны вроде бы об одном и том же — «о пути правдоискательства русского народа». Но пути эти оказываются совсем разными.
Сюжеты произведений Ерофеева и Распутина на первый взгляд мало чем отличаются. И там и там алкоголик едет по железной дороге. И там и там автор описывает его душевное состояние и внешний мир, который разворачивается вокруг него. Но тем не менее беспросветно пьющие герои — совершенно разные люди: каждый по-своему смотрит на жизнь, у каждого по-своему складываются отношения с окружающими. И представление о России с ее историей, современностью и будущим у каждого из них свое.
Попробуем поверить в искренность Венички Ерофеева и допустить, что действительно «путь у всех один и тот же, путь правдоискательства, хоть и в разные стороны — из Петербурга ли в Москву, из Москвы ли в Петербург». Поверим в то, что никто не лукавит, никто от правды не бегает, не скрывает ее, не искажает. Поверим в то, что правду и только правду напряженно ищут все герои, независимо от направления следования: из европейского ли Петербурга в русскую Москву или наоборот… Но тогда как разительно отличается правда одного героя от правды другого!..
А может быть, всё-таки направление следования имеет значение? Ведь революционная мысль всегда проникала в Россию с Запада. И все, кто задумывал осуществить ту или иную масштабную перестройку в России — и ученики французских просветителей декабристы, и коммунисты-марксисты, и организаторы сегодняшних капиталистических перемен, — все они, несмотря на разительные, казалось бы, внешние отличия, начинали с того, что поворачивались лицом к Западу и спиной к России.
Речь прежде всего идет о двух разных духовных традициях, о разных религиях и культурах. Западный мир, конечно же, отличается от мира традиционной России. И, на мой взгляд, одно из главных отличий заключается в разных представлениях о рае у человека западного и человека русского. Рай и есть та правда, которую ищут. И рай человека западного — это земной Эдем, утраченный когда-то Адамом, — рай полного материального потребления, рай вечной весны, вечного плотского блаженства. Для русского же человека материальная, плотская сторона рая, к которому он сознательно или бессознательно стремится, никогда не была самоценной. Главное — духовное блаженство, которое заключается в свободе от угрызений совести, а без этого всякий плотский рай теряет смысл. Поэтому и приходилось во все времена российским строителям земного «города-сада» гнать в него русский народ дубинкой. Прельстить одним лишь богатством, изобилием, комфортом никак не получалось, поскольку всегда было «на совести пятно». Вот и «пути правдоискательства» героев Ерофеева и Распутина разительно отличаются именно потому, что у остроумно кайфующего Венички и задыхающегося в тяжелом запое бича разные представления о правде-рае.
Веничка у Ерофеева отнюдь не глуп и не наивен. Он мудрый философ, который по-своему понял жизнь и пришел к выводу, что ничего стоящего, серьезного и вечного в этой жизни (уж по крайней мере в жизни этой России) нет. Веничка подошел к правде «на такое расстояние, с которого удобнее всего ее рассмотреть». И скушна, и тошна ему эта правда. Он смотрит и видит, «и потому скорбен». Горьки оказались плоды правдоискательства — Веничка узнал древнюю истину о тщете всего сущего и суете сует, и жизнь наполнилась «скорбью, смешанной со страхом». «…Я знаю лучше, чем вы, что „мировая скорбь“ — не фикция, пущенная в оборот старыми литераторами, потому что я сам ношу ее в себе и знаю, что это такое… „Человек смертен“ — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить». И перед лицом неизбежной смерти Веничка решает пожить весело, в свое удовольствие. Вот зачем он отправляется в Петушки.
Петушки для Венички — это тот желанный земной рай, «где ни днем, ни ночью не смолкают птицы, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин». Там и «первородный грех… никого не тяготит», там встречает его «белобрысая дьяволица». В беззаботные Петушки едет он для спасения от скорби.
Но путь в этот Эдем для героя лежит только через забвение, через отрешение от реальной жизни, через винный угар. И пьянство героем оправдано. Он, познавший «мировую скорбь», пить имеет право: «Как мне не быть скушным и не пить кубанского? Я это право заслужил…». И только после того как Веничка напивается до свинского состояния, он начинает «прозревать», ему «открываются бездны» и «ангелы» показывают путь в «землю обетованную».
В свой земной рай Веничка отправляется, когда и духовная трезвость сердца, и ясность рассудка уже утеряны, когда он «на шестой день размок уже настолько, что исчезла грань между рассудком и сердцем, и оба в один голос затвердили: „Поезжай, поезжай в Петушки! В Петушках твое спасение и радость твоя, поезжай!“».
С начала и до конца в поэме постоянно пьют. Пьянство для Ерофеева даже не философская теория, пьянство — это религия, единственно верная и приемлемая в условиях скорбной жизни. Религия, которую Ерофеев то ли исповедует сам, то ли предлагает исповедовать не успевшему еще до конца спиться читателю. Вино становится своеобразным символом религии кайфа, оно «желанно, как стигматы святой Терезе». Пьют все. «Вон — справа, у окошка — сидят двое. Один такой тупой-тупой и в телогрейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто… Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: „А! Хорошо пошла!“ А умный-умный выпьет и говорит: „Транс-цен-ден-тально!“» Каждый, на своем уровне, находит истину в вине. Вино уводит от несовершенной действительности в царство иллюзий, позволяет строить виртуальные миры — или примитивные, как у тупого-тупого (символизирующего низменное животное начало), или изощренные, как у умного-умного интеллектуала, по словам которого в вине заключаются все истины, все трансцендентальные понятия.
В вагоне разворачивается беспрерывная пьяная литургия, причем сопровождается она беспрерывным ёрническим цитированием библейских и евангельских текстов и проведением кощунственных аналогий — ведь религия Христа принципиально отрицает пьянство и чревоугодие и проповедует трезвость духа и разума. Но подобное искусственное смешивание понятий религии кайфа и религии Христа, то есть оправдание и воспевание кайфа как вечной истины, встречается не только у Ерофеева.
Вот как говорит о пути к вечному блаженству через кайф и забытье герой Виктора Пелевина: «У нас внутри — весь кайф в мире. Когда ты что-нибудь глотаешь или колешь, ты просто высвобождаешь какую-то его часть. В наркотике-то кайфа нет, это просто порошок… Это как ключик от сейфа». (То есть вино, «колеса» и проч. — это и есть «ключи от рая».) Так толкуются известные слова Евангелия «Рай внутри нас». Но «открыть сейф» непросто. Пелевин пишет: «Этому всю жизнь надо посвятить. Для чего люди в монастырь уходят и всю жизнь там живут? Они там прутся по-страшному, причем так, как здесь себе за тысячу грин не вмажешь» («Чапаев и Пустота»). Лаконичное современное объяснение и рая, и того, как можно его достигнуть.
Но земной рай как кайф, когда личность позволяет себе снять все запреты с инстинктов, желаний и воображения, и суровая аскетическая жизнь в монастыре, цель которой — обретение высшего духовного блаженства в общении с Богом, — вещи разные. Кайфующие ловцы «глюков» видят истину в мирах собственного, искусственно одурманенного сознания, когда внешний мир «подстраивают под себя». Исповедующие Христа видят истину в тайне Духа Божьего, разлитого в мире.
И герой Распутина, хотя совсем иной ценой, иной кровью и болью, убедился в том, что в России рай земной на пути одного лишь материального прогресса построен никогда не будет. И, разочаровавшись в жизни, он так же пытается спасаться от «мировой скорби», погружаясь в пьяное забытье. Но веселого беззаботного кайфа у него никак не получается. Он только корчится, задыхается и воет: «Не могу-у!» И всё дело здесь в том, что спившийся распутинский герой, в отличие от героя Ерофеева, никогда не отделял себя от России, никогда от нее не отворачивался. И хотя он не упоминает постоянно о своей вере, как делает это Веничка, но он действительно верит в нечто высшее, чем всеобщее земное довольство и плотское благо. И потому не может он принять биологически-трансцендентальной веры Запада, когда зоологические инстинкты тупых-тупых в содружестве с изощренными извилинами умных-умных легко и охотно оправдывают религию-кайф и начисто отвергают религию нравственности и высших духовных истин.
Герой Ерофеева, который не раз уверяет читателя в своей любви к России и русскому народу, всё-таки стоит к России спиной. Ту Россию и тот народ, которых можно любить, Веничка не видит и видеть не желает. А то, что он, упившись, с удовольствием наблюдает, скорее всего есть желанная мечта типичного российского западника, которую он рад принимать за действительность. В глазах у всех «полное отсутствие всякого смысла, но зато какая мощь!». А какие люди ему воображаются! «…внучек — совершенный кретин… Дедушка…смотрит, как в дуло оружия. И такими синими, такими разбухшими глазами, что из обоих этих глаз, как из двух утопленников, влага течет ему прямо на сапоги. И весь он как приговоренный к высшей мере, и на лысой голове его мертво. И вся физиономия — в оспинах, как расстрелянная в упор. А посередке расстрелянной физиономии — распухший и посиневший нос, висит и качается, как старый удавленник». Ах, как же любить Веничке такой русский народ!.. А как описаны идиоты-работники, прокладывающие дурацкий кабель… Даже воображаемая русская красавица, в представлении Ерофеева, — бесцветная белесая девка с пустыми «белыми» глазами и косой до попы — «белобрысая дьяволица». Даже его собственный младенец от петушковской матери растет в «дымных и вшивых хоромах». И с таким народом, с такими детьми нет и не может быть у России будущего. Молодое поколение «дегенератов от рождения» пугает даже Веничку — пьяно-равнодушного философа: «Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Я не говорю, что мы в их годы волокли целый груз святынь — Боже упаси! — святынь у нас было совсем чуть-чуть, но зато сколько вещей, на которые нам было не наплевать. А вот им — на всё наплевать». «Святынь — чуть-чуть» — это верно. Но у всех ли — «у нас»? У всех ли в том поколении духовные ценности заменились ценностью вещей?
Если в поэме Ерофеева все могут быть только уродами, лишенными и внешней, и внутренней красоты, то Распутин в своем рассказе, напротив, даже спившемуся, пропащему, утерявшему почти все человеческие черты главному герою оставляет «сердечный просвет» в прошлом: «…десять лет честно работал… отец воевал». Автор замечает в герое былую русскую красоту и силу: «…прямые предки его, с такими же русыми волосами и незатейливыми светлыми лицами, какое чудесным и редким раденьем, показывая породу, досталось ему, — шли на поле Куликово, сбирались по кличу Минина и Пожарского у Нижнего Новгорода, сходились в ватагу Стеньки Разина, продирались с Ермаком на Урал, прибирая к хозяйству земли, на которых и двум прежним Россиям было просторно, победили Гитлера…». И те, что окружают распутинского бича в купе поезда и принимают в нем участие, — люди хотя и не «замысловатые», но вполне нормальные, приятные: с волей, с мыслью, с достоинством, с великодушием. И дети в рассказе Распутина — «симпатичные мальчик и девочка». И на них надеется старшее, несчастное поколение: «…Ты спился, я сопьюсь, а им никак нельзя: им надо нашу линию выправлять. Кто-то должен или не должен после нас грязь вычистить?!»
Веничке Россия нужна только как страна, в которой можно попользоваться раем-Петушками, чтобы покайфовать всласть. А без блаженных Петушков жить здесь было бы просто невозможно. Россия настоящая, в которой живут и работают обыкновенные люди, для героя лишь место постоянных мучений. И бежит из московской России в пьяный петушковский рай Веничка с охотой и радостью: «Да и что оставил — там, откуда уехал и еду? Пару дохлых портянок и казенные брюки, плоскогубцы и рашпиль, аванс и накладные расходы». И всё.
Веничка в поэме не раз уверяет читателя, что он в своем правдоискательстве истину нашел — нашел в вине. И Веничка собой доволен. Он любит свою прекрасную кайфующую душу и укорами себя мучить не собирается. Герой Распутина, напротив, понимает, что вино уводит его от истины всё дальше и дальше, всё больше и больше уродует его душу: «Голубые и, наверное, чистые когда-то глаза перетянуты были кровавыми прожилками и запухли, призакрылись, чтоб не видеть белого света. Белый свет они действительно видели плохо, но тем сильней и безжалостней всматривались они в свое нутро и заставляли этого человека кричать от ужаса». Хмель не спасает героя, но окончательно душит. Для него нет истины в пьяном забытьи, ему глубоко чужда потребительская идея «вечного кайфа». И, может быть, не только к трезвому демагогу-«порожняку» в трико, но и к пьяному философу Веничке можно отнести обвинения распутинского бича: «Бренчит, бренчит!.. Он всю жизнь бренчит!»
Пушкин в своей статье «Путешествие из Москвы в Петербург» в свое время осудил Радищева за слепое преклонение перед западным просвещением и презрительно-сентиментальное отношение к русскому народу. О знаменитой книге Радищева поэт писал: «…в ней есть несколько благоразумных мыслей, которые не имели никакой нужды быть облечены в бранчливые и напыщенные выражения… Они принесли бы истинную пользу, будучи представлены с большей искренностью и благоволением; ибо нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви». Похоже, и взгляд на Россию Ерофеева сродни радищевскому: взгляд отчужденный — не изнутри, но со стороны. И сам герой «Петушков» не скрывает, что его правдоискательство совсем не то, что правдоискательство глупо совестящихся работяг: «…одно дело правдоискатели от сохи, а другое — преждевременно интеллигентный Радищев или через почти двести лет интеллигентный Веничка». Именно правдоискательство героев «от сохи» и «не от сохи», от родной земли и со стороны делает произведения Ерофеева и Распутина такими разными по своей духовно-идейной направленности. Абстрагированным исканиям люмпен-интеллигента противопоставлена глубокая реальная драма русского бича. И если Веничка озабочен прежде всего собственной персоной и изо всех сил старается доказать, что «и алкоголики тоже чувствовать умеют», то загубленная жизнь распутинского пьяницы, которому только и остается в муках ехать неизвестно куда и ждать, «где выкинут», заставляет задуматься о судьбе народа. Поиск истины в вине, так талантливо воспетый Ерофеевым, — путь губительный. И рассказ «Не могу-у!» о том и написан, как утративший веру народ выбирает этот ложный путь, этапы которого — духовное обнищание, физическая деградация и гибель. Путь в виртуальные пьяные миражи — путь не в ту сторону: «Там, за окном, тянулась матушка-Россия. Поезд шел ходко… и она, медленно стягиваясь, разворачивалась, казалось, в какой-то обратный порядок…».
Так какой же «путь правдоискательства» выбирать? Жить ли в духовной трезвости и ясном рассудке или же погружаться в вечный кайф и воображать, что всё о’кей? Ну что, пойдем за «Клинским»?.. Или…
КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ
Не теряйте надежду…
В. Иванов-Таганский. Семя Отечества. М., «Московский учебник», 2004
Так получилось, что мне в руки совершенно случайно попалась эта книга. Первой моей мыслью было: «Ну что, очередной политический детектив, каких в последнее время стало достаточно много». Но, вчитавшись, я обнаружил в книге то, чего не находил во многих книгах такого жанра, — любовь к родине. Не той родине, о которой кричат на каждом углу, а той, которая потеряна не по своей воле. Как хорошо было родиться в Латвии и знать, что ты живешь в единой и великой стране, имя которой Советский Союз, но как плохо жить в стране-осколке, где проклинают твою великую родину, в которой ненавидят твоих братьев русских и превозносят фашистов, от которых эту родину защищали твои отцы и деды. Давно ли мы могли наблюдать парады латвийских и эстонских эсэсовцев в российских выпусках «Новостей», в то время когда ветераны в советских наградах не могут выйти на улицы Риги.
Но не только об этом эта книга. В ней поднимается одна из самых тяжелых проблем — проблема интеллигенции и народа, интеллигенции как части народа, интеллигенции как силы, враждебной народу. Герои задаются вопросом: кто виноват во всем том, что произошло с нашей родиной за последние пятнадцать лет, кто виноват в развале великой державы, государства, которое уважали и боялись крупнейшие страны мира? И как эхо — ответ времени строчкой одного известного стихотворения: «Споили нас — мы сами виноваты». А кто же, как не интеллигенция, больше всех радовалась развалу Советского Союза? Кто же, как не интеллигенция, громче всех кричала «Раздавить гадину!» в 1993 году? Кто, как не интеллигенция, первой закричала «Ура!» свободе слова, свободе материться в прямом эфире и со страниц печатных изданий?
Очень интересен вопрос веры. Главный герой книги находится в постоянном поиске: ищет свою веру, свою истину, свой путь — «ищите и обрящете, стучите, и откроется вам». Но только преодолев муки тяжких размышлений, можно познать свою истину, только заплатив дорогую цену, только обнажив душу, можно ответить на главные русские вопросы — «Кто виноват?» и «Что делать?»
«Семя Отечества» — книга о человеческой трагедии, о людях, которые тщетно пытаются приспособиться к жизни, в которую их загнала их же собственная власть, власть, которую они сами себе выбрали.
При том, что в книге много исторических и даже философских размышлений — она не теряет своей занимательности. Во многом это обусловлено тем, что автор большое внимание уделяет разговорной речи персонажей, разнообразит повествование большим количеством пословиц и поговорок. Речь его героев — настоящая, живая речь живых людей, очень тонко чувствующих процесс изменения своего родного языка.
He скрою, что изначально книгу читать очень нелегко, она заставляет не только задумываться над всем, что с нами происходит, она заставляет думать над вещами более глубокими, нежели просто череда событий, происходящих в романе. С прискорбием могу отметить, что за последнее время читатель наш отупел от обилия ширпотреба в русской литературе, от макулатурных развалов, от донцовых и марининых. Все попытки написать книгу для человека думающего трудны, и попытку Иванова-Таганского я считаю одной из наиболее удачных.
Книгу имеет смысл читать хотя бы просто потому, что в последнее время нам, русским, живущим в России, как и тем, кто по той или иной причине оказались оторваны от своей родины, от своих корней, не хватает живого русского слова, правдивого, чистого и честного. Слова о нашей борьбе.
В завершение могу сказать, что главная мысль книги заключается в том, что как бы тяжело нам ни было сейчас, но пока мы держимся друг за друга — победить нас не удастся, нужно только перетерпеть, пережить это безвременье. Надежду терять нельзя.
Александр Ржевский, 24 года, МоскваКонкурс молодых историков на лучшую работу по русской истории
«Наследие предков молодым — 2005»
Организаторы конкурса
1. Московское отделение Русского исторического общества.
2. Государственная публичная историческая библиотека.
3. Редакция журнала «Наш современник».
4. Редакция журнала «Молодая гвардия».
5. АНО «Киммерийский центр».
Цель
Развитие работ по истории Руси, популяризация сведений о прошлом русского народа, формирование нового поколения русских историков.
Номинации
1. История Руси (допетровская эпоха).
2. Переломные этапы русской истории.
3. Доходчиво и интересно о нашем прошлом.
4. Горное дело России.
Награждение
По каждой номинации:
I место — 20 000 рублей;
II место — 10 000 рублей;
III место — 5000 рублей.
Допущенные к участию в конкурсе получают диплом участника конкурса. Победители по номинациям и получившие поощрительные призы от спонсоров конкурса получают соответствующие почетные дипломы.
Условия
В конкурсе участвуют физические лица, возраст которых не должен превышать 33 года на момент подачи материалов на конкурс.
Конкурсные материалы подаются в машинописном и (или) электронном виде и состоят из:
— заявки;
— статьи на тему по русской истории по одной из объявленных номинаций. Допускается подавать до четырех статей (по одной на каждую номинацию). Объем каждой статьи не должен превышать 1 изд. л. (40 тыс. знаков или около 30 страниц машинописного текста). К статье должен быть приложен список используемой литературы.
Критериями оценки работ по первым двум номинациям будут новизна излагаемого материала или свежесть осмысления известных фактов, степень обобщения малоизвестных сведений по русской истории.
Критериями оценки работ по двум последним номинациям будут доступность и легкость изложения материала, социальная и духовная значимость его содержания.
Конкурсные материалы принимаются до 1 ноября 2005 года по адресу:
107066, Москва, а/я 236; e-mail: moskowia@mail.ru
Информационная поддержка
Статьи, содержание которых существенно пополнят русскую историческую науку, будут опубликованы в журнале «Вестник русской истории», а также предложены к опубликованию в специализированных исторических изданиях. Статьи, в доходчивой форме излагающие малоизвестные, но значимые факты из русской истории, будут предложены к опубликованию в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия» и иных средствах массовой информации.
Желающие разместить свои исследования на сайте , должны сделать об этом специальную пометку на присылаемых в адрес сайта (e-mail: moskowia@mail.ru) сообщениях.



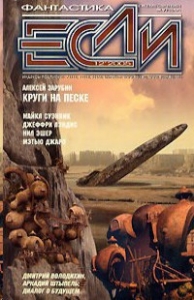


Комментарии к книге «Наш Современник, 2005 № 03», Виктор Николаевич Никитин
Всего 0 комментариев