Изобретения профессора Вагнера: Амба. Серия научно-фантастических рассказов А. Беляева.
I. Званый ужин.
Помню, в детстве у меня возникли серьезные разногласия с моим другом Колей Бибикиным, которые едва не повлекли к разрыву нашей двухлетней дружбы. Он убеждал меня бежать в Америку, чтобы сражаться с индейцами, я же ни о чем не хотел слышать кроме «Абессинии».
— Во-первых, не Абессиния, а Абиссиния, — поправил меня Коля.
— Во-вторых, пишется и Абессиния и Абиссиния. Но я считаю правильнее писать и произносить Абессиния, так как это слово происходит от местного старинного названия страны Хабешь, — возразил я с эрудицией настоящего ученого. Я прочитал тоненькую книжечку об этой далекой стране и был очарован.
— Но почему ты выбрал именно Абессинию, — не унимался Коля.
— Потому Абессинию, — отвечал я, — что, во-первых, амба. Ты знаешь, что такое амба?
Он кивнул головой.
— Отец говорил: амба — это если в лото или лотерее выходят сразу два выигрыша.
Я презрительно рассмеялся и пояснил:
— Амба — это высокое горное плато в Абессинии с такими обрывистыми краями, что жители лазят на свою амбу по лестницам, а скот поднимают на веревках. Понимаешь, как интересно. Выбрать хорошенькую амбу, недоступную человеку, взобраться на нее и жить как на воздушном острове. Или можем занять две амбы и через глубокий каньон перекинуть веревочную лестницу и ходить друг к другу в гости. Ветер будет дуть в ущелье, а лестница качаться из стороны в сторону, вот так: туда, сюда, туда, сюда.
— А индейцы, — спросил Коля, уже, видимо, начинавший сдаваться, но ему трудно было расстаться с индейцами.
— Там, в Абессинии, тоже есть дикие племена и разбойники, страшно свирепые. Ты будешь с ними сражаться.
— Да, об этом надо подумать…
— Нет, ты не можешь себе представить, что это за прелесть, — продолжал я, все больше вдохновляясь, — Абессиния — это Швейцария. Даже лучше. Абессиния в пятьдесят раз больше Швейцарии и во много раз красивее. Абессиния — это красивый остров над морем песков и болот. Абессиния — это крыша Африки. Это чудесный парк. Везде пастбища с тенистыми рощами. Даже не один парк, а сотни, с различной растительностью. Внизу — сахарный тростник, бамбук, хлопок, тропические фрукты, этажом выше — кофе, еще выше — поля нашей пшеницы. Ты любишь кофе? А знаешь, почему кофе называют кофе? Каффа — провинция Абессинии, где растут прекрасные кофейные деревья. Оттуда к нам идет лучший кофе. Там водятся гиппопотамы, гиены, леопарды, львы. Там столько птиц, что ты не успеешь стрелять. И знаешь, там замечательные деньги. Из тонких брусков каменной соли в пол-метра длиной. Это у них рубль. Если брусок треснул или облупился или плохо звучит, такой рубль не берут. А когда люди встречаются на дороге, то друг друга угощают, отламывая кусочек соли, — как у нас табачком. Каждый съедает кусочек, благодарит и уходит. Но самого главного я тебе не сказал. Там мы с тобой были бы военными. Уверяю тебя. Там берут на военную службу мальчиков девяти лет, делают их помощниками солдат. Мальчик несет впереди солдата ружье, чистит это ружье. Ухаживает за лошадью или мулом и проходит пешком много-много километров.
Коля был побежден. Он задумался, тряхнул головой и сказал:
— Да, об этом надо подумать.
Коля Бибикин скоро уехал из нашего города вместе со своими родителями, а я таки исполнил свою мечту, хотя и с двадцатилетним опозданием. Сказать по правде, в то время я и сам скоро позабыл об Абиссинии, увлекшись лыжным спортом. И вспомнил я о ней только тогда, когда мне, как научному сотруднику Академии Наук и «подающему надежды» молодому ученому метеорологу, предложили принять участие в одной из экспедиций, отправлявшихся в различные пункты земного шара для метеорологических наблюдений.
Предсказатели погоды еще совсем недавно пользовались репутацией отъявленных лгунов. «Их предсказания надо принимать наоборот», — иронически говорили обыватели. Отчасти они были правы: метеорологи очень часто ошибались. Несмотря на все синоптические карты, на взаимоинформирование по телеграфу, откуда-то в последний момент появлялись непредвиденные циклоны и портили все предсказания. И только сравнительно недавно ученые метеорологи решили обосноваться в самых очагах «производства» погоды.
— Куда вы хотели бы ехать? — спросили меня. — На родину циклонов, в Исландию или же в Абиссинию? Для этих двух пунктов еще не набраны научные сотрудники.
«Абиссиния. Коля Бибикин. Амба…» — вдруг пронеслось в моей голове, и я без колебания ответил:
— Конечно в Абиссинию.
Когда я сошел на плоский песчаный коралловый берег Красного моря и увидал на горизонте голубую стену гор с серебряными зубцами, мне показалось, что я помолодел на двадцать лет, и, удивляя своих спутников, крикнул:
— Амба!
Мы углубились в узкую страну, втиснутую между грядою скал и берегом моря, покрытую холмами, орошаемую многочисленными ручьями. Вечно зеленые тамаринды покрывали холмы.
Многое оказалось в этой стране совсем не таким, как я представлял в детстве. Но все же действительность превзошла даже мои детские грезы. В стране оказалось кое-что поинтереснее амб. Впрочем, теперь я обращал внимание на то, что в детстве мало занимало меня: на температуры, ветры, климат. А в этом отношении Абиссиния интереснейшая страна. В том уголке ее, где находится «столица-деревня» и живет босоногий негус-негушти («царь-царей»), стоит вечная весна. Самый холодный месяц — июль — там теплее, чем май в Москве, а самый теплый — чуть прохладнее московского июля. На высотах Тигре ночью коченеешь от холода, а внизу, к востоку, расстилается пустыня Афар, одно из самых жарких мест на земном шаре.
Но особенно меня интересовали периодические дожди, без которых была бы невозможна вся египетская культура. Древние египетские ученые-жрецы не помышляли о том, чтобы открыть истинную причину разливов Нила, оплодотворяющих весь бассейн реки, они умели только хорошо использовать эти разливы, создав удивительную сеть каналов, заградительных плотин и шлюзов, регулирующих запасы воды. Жрецы не знали, почему в начале разлива Нил становится грязно-зеленого цвета, а затем воды его приобретают красный оттенок. Так делали боги. Теперь мы знаем этих богов. Влажные ветры Индийского океана охлаждаются на холодных высотах Абиссинии и падают страшными тропическими дождями. Вот эти-то дожди и размывают глубокие каньоны, превращая горное плато в ряд разбросанных амб. Затем потоки устремляются в ущелья, захватывают там гниющие отбросы, червей, звериный помет, перегной и несут эту зеленоватую грязь в Голубой Нил и приток Нила, Атбар. После того как ливень вычистит эту гниль, прорвав плотину камышей, задержавших в своих зарослях воду и ил, дожди начинают размывать красноватые горные породы, и вода в Ниле становится красная, как кровь. Горе путнику, который будет застигнут ливнями в ущелье или на дне долины.
Итак, я был в Абиссинии, сидел на горном плато Тигре, курил трубку возле походного шатра и мог вволю наслаждаться видами амб. Похожие на кактусы молочаи горели как золотые канделябры в лучах заходящего солнца; рядом с палаткой стояла группа кедров, напоминавших ивы. Из соседней деревни доносились песни, не очень приятные для европейского слуха. Там вероятно был какой-то праздник. Не потому ли задержался мой проводник и носильщик-абиссинец Федор? Он отправился раздобыть для меня в деревне чего-нибудь съестного на ужин.
— Как бы он не напился галлы[1], — сказал я, чувствуя приступы голода.
Но в этот момент мы услышали приближающееся пение.
Это был Федор, и явно навеселе. Он явился с пустыми руками. Я укоризненно покачал головой и, мешая итальянские и английские слова, упрекнул его за то, что он ничего не принес и опять напился галлы. Федор начал креститься, уверяя, что он только отведал вкус галлы. А не принес он ничего потому, что «старик» (старший в роде, староста) деревни просит нас к себе на ужин.
— Большая еда! — сказал Федор и даже зачмокал губами. Его «шама» (плащ) распахнулась, обнажая крепкую грудь. Федор не носил рубашки, весь его наряд состоял из узких штанов и шамы. Только в холодную погоду он, как многие горные жители, надевал меховой плащ. Его длинное, овальное, шоколадного цвета лицо, узкий нос, курчавые волосы и реденькая бороденка, казалось, испускали лучи света. И источником этого света была мысль: «большая еда». Но я уже знал эти торжественные обеды и ужины и отклонил приглашение.
— Иди скажи «старику», что я и мой товарищ больны, не можем притти, и принеси нам лепешек.
Федор начал уговаривать нас принять приглашение. Он уверял, что наш отказ может разгневать главу рода, а это повредит нам, но я продолжал отказываться. Тогда Федор, многозначительно подмигнув, сказал:
— Ну, теперь я скажу такое, что ты не откажешься. На ужине будут гости. Белые. Один рус, один немец.
Я не поверил Федору. Он это выдумал, чтобы я согласился итти на пиршество: Федор тогда, конечно, пойдет в качестве моего слуги и получит свою долю. Встретиться в Абиссинии с итальянцем или англичанином — в этом нет ничего удивительного. Их колонии граничат с Абиссинией, отрезая владения негуса-негушти от моря. Можно встретить и немца. Но «рус». Откуда может появиться «рус» в Абиссинии? А Федор продолжал креститься и божиться, уверяя, что будет «рус», что он приехал с одним немцем из Аддис-Абеба и остановился в соседней деревне.
Любопытство мое было задето. Если Федор прав, было бы глупо не воспользоваться случаем повидать своего соотечественника. Притом голод решительно не давал мне покоя. Я не ел целый день и сделал вероятно километров тридцать по горным тропам.
— Хорошо, идем. Но если ты обманул, Федор, тогда держись…
Среди островерхих, крытых соломой хижин, на лужайке расположилось целое общество. Так как солнце уже зашло, то молодежь разложила и зажгла большие костры, ярко освещавшие картину пиршества на высоте двух тысяч метров. В центре большого круга сидел старик с морщинистым лицом, но совершенно черными волосами, — абиссинцы почти не седеют. По левую сторону от него место было свободно, а по правую сидели два европейца: один из них — красивый мужчина с каштановой бородой и нависшими усами, и другой — рыжий бледный молодой человек.
Старик — глава рода и начальник деревни — показал мне место рядом с собой, предложив сесть. Я поклонился и занял указанное мне место. Мне очень хотелось сесть рядом с европейцем, обладавшим завидным румянцем и каштановой бородой, и поговорить с ним. Но между мною и им сидел наш гостеприимный хозяин, а он, как и все абиссинцы, отличался большой болтливостью. Его звали Иван, или, как он сам выговаривал, «Иан». Кушанье к столу еще не было «приведено», и пока хозяин занимал нас разговорами, обращаясь главным образом к соседу справа. Иан, видимо, хотел блеснуть перед нами образованностью. Он говорил о том, что ему прекрасно известно, что делается в мире. Есть Абиссиния, и еще есть Европия и Туркия. Европия — хорошо, но не очень: там нет негус-негушти. Впрочем, как недавно он узнал, есть еще Греция — «самое большое государство на свете»…
Тем временем было «подано» первое блюдо. Два молодых довольно красивых абиссинца привели, держа за рога, корову. Ноги ей связали. Один старый абиссинец взял нож и, уколов корову в шею, пролил на землю несколько капель крови. Потом корову повалили. Молодой абиссинец, вооруженный острым кривым ножом, сделал надрез на коже живой коровы, отвернул кусок кожи и начал вырезать с филейной части узкие полосы трепещущего мяса. Корова заревела, как сирена гибнущего парохода. Этот рев, видимо, ласкал слух и возбуждал аппетит Иана, у которого потекли слюни. Женщины хватали трепещущие куски мяса, разрезали на мелкие части, посыпали перцем и солью, завертывали в лепешки и подносили ко рту пирующих. Европеец с каштановой бородой поблагодарил, но отклонил предложенный ему кусок. Он объяснил, что нам; европейцам, закон не позволяет есть сырое мясо, и потому мы будем есть поджареного барашка. Вдруг он обратился ко мне на русском языке:
— Если не ошибаюсь, вы мой земляк. Не ешьте и вы сырого мяса. От него все эфиопы страдают солитерами и ленточными глистами. И если бы они каждый месяц не делали себе генеральной чистки, поедая цветы и плоды местного глистогонного растения куссо, то многие из них наверно погибли бы от паразитов.
Я охотно послушался этого совета и попросил кусочек прожареной баранины. Мой земляк жевал жареную баранину и чавкал так громко, как умеют чавкать только воспитанные абиссинцы. Признаюсь, я не знал, что чавканье является признаком хорошего воспитания.
Когда все наелись, подали местный опьяняющий напиток «федзе». Иан заставил налить себе из чаши немного федзе на ладонь и выпил, чтобы показать, что напиток не отравлен, и только после этого вино было предложено гостям.
Два молодых абиссинца привели, держа за рога, корову…
Несчастное «блюдо» продолжало реветь. Этот рев разбудил тишину окрестных полей и ущелий. Из соседних деревень начали подходить гости. Предсмертный рев коровы служил для них призывным гонгом. Гостей встретили радушно, и они приняли участие в пожирании живой коровы. Скоро весь бок коровы был обнажен. Корова судорожно била ногами, но на это не обращали ни малейшего внимания не только мужчины, но и женщины. Детей же рев коровы и ее судорожные подергивания приводили в восторг.
Иан скоро опьянел. Он то начинал петь божественные песнопения, напоминавшие мотивом вой голодных волков, то тихо чему-то смеялся.
Наконец этот нудный вечер был окончен. «Рус» поднялся и кивнул мне. Я последовал его примеру. Поблагодарив хозяина, он попросил позволения взять с собой голову коровы. Иан очень охотно согласился. Он приказал одному из молодых людей отрезать голову, но «рус» взял нож из рук юноши и сам занялся операцией, при чем делал это с необычайной скоростью и ловкостью, чем заслужил общее одобрение. Несчастная корова перестала реветь, и скоро ее ноги вытянулись. Я решил, что земляк сделал это из сострадания, чтобы прекратить мучения животного.
— Будем знакомы, — сказал он, протягивая мне на прощение руку. — Профессор Вагнер. Милости прошу к моему шалашу. Вот там, видите? — И он показал на две большие палатки на краю деревни, слабо освещенные догорающими огнями костров.
Я поблагодарил за приглашение, и мы расстались.
II. Смерть Ринга.
На другой день, покончив с работой, я отправился навестить профессора Вагнера.
— Можно войти? — спросил я, остановившись у палатки.
— Кто там? Что надо? — отозвался кто-то на немецком языке. Дверь в палатку приоткрылась, и в щель выглянуло лицо рыжего молодого человека.
— Ах, это вы. Войдите, пожалуйста, — сказал он. — Садитесь. Профессор Вагнер сейчас занят, но он скоро освободится. — И словоохотливый немец начал занимать меня разговором.
Его фамилия Решер. Генрих Решер. Он ассистент профессора Турнера — известного ботаника. А Турнер — давнишний друг профессора Вагнера. Они — Турнер и Вагнер — приехали в Африку вместе. Вагнер отправился в бассейн Конго изучать обезьяний язык, а Турнер с Альбертом Рингом и проводником отправился в экспедицию в область Тигре.
— Турнер и профессор Вагнер расстались в Аддис-Абеба и там же условились встретиться, — продолжал Решер. — В Аддис-Абеба у профессора Турнера была основная база. В этом городе находился я. Ко мне Турнер отправлял коллекции растений, я делал гербарии, производил микроскопические исследования. Вагнер и Турнер обещали вернуться до наступления летних дождей, которые, как вам известно, здесь бывают в июле и августе. Вагнер явился во-время — в конце июня. Он прибыл с большим багажом и целым зверинцем… Слышите, как кричат обезьяны? Профессор Вагнер сказал, что в лесах Конго он встретил экспедицию какого-то английского лорда, который скоро умер. Вагнеру пришлось взять на себя все заботы об имуществе умершего, — он решил отправить багаж и обезьян родственникам покойного.
Дожди перепадают уже в конце июня. Если Турнер не хотел рисковать быть застигнутым страшными тропическими ливнями в горах, он должен был поторопиться. Мы ждали его со дня на день, но он не возвращался. Не являлся и Ринг, который был посредником между Турнером и мною, доставляя время от времени коллекции. Прошел июль. Дожди лили как из ведра. Даже наши отличные палатки не выдерживали и пропускали воду. Но все же в них было лучше, чем в туземных жилищах. Беспокойство за судьбу профессора Турнера, Альберта Ринга и проводника все возрастало. Неужели они погибли?
Однажды, — это было уже в начале августа, — под утро я услышал сквозь шум ливня какой-то стон или вой за брезентом палатки. Вы знаете, как много собак на улицах абиссинских городов. А ночью шакалы и гиены нередко забегают в город. Ведь они вместе с собаками являются единственными чистильщиками и санитарами этих грязных городов-деревень. Заглушенный стон повторился. Быстро одевшись, я вышел из палатки. У входа я увидал тело человека. Это был Альберт Ринг, но в каком виде! Одежда его, изорванная в клочья и испачканная, едва держалась на нем. Все лицо в синяках, а на голове виднелась глубокая рана. Я втащил Ринга в палатку. Вагнер никогда не спит и потому он тотчас же услышал, что в моем отделении палатки делается что-то неладное. Увидав раненого, Вагнер начал приводить его в чувство. Но несчастный Ринг, казалось, уже испустил дух. У него хватило силы только дотащиться до нашей палатки. Вагнер впрыскивал камфару, чтобы поддержать деятельность сердца, — ничего не помогало.
«Погоди же, ты у меня заговоришь!» — сказал Вагнер и, быстро пройдя к себе за занавеску, вернулся оттуда со шприцем. Он впрыснул Рингу какой-то жидкости, и наш мертвец открыл глаза. «Где Турнер? — крикнул Вагнер. — Он жив?» — «Жив, — еле слышно ответил Ринг. — Помощь… Он…» Ринг опять впал в беспамятство, и даже Вагнер не мог уже ничего поделать.
«Он потерял слишком много крови, — сказал Вагнер. — Положим, кровь мы могли бы накачать ему, взяв у одной из обезьян. Но у Ринга пробит череп и поврежден мозг. Больше нам, пожалуй, ничего не удастся вытянуть из него. Ну, что стоило ему пожить еще хоть пять минут. Я так и не узнал, где находится мой друг Турнер». — «Мы похороним его тело?» — спросил я. — «Разумеется, — ответил Вагнер, — только раньше я произведу вскрытие. Может быть оно даст нам какие-нибудь сведения. Помогите мне перенести труп в мою лабораторию».
Труп был так легок, что и один из нас легко перенес бы его, но неприлично труп человека таскать как тушу. Мы перенесли труп и положили на прозекторский стол[2]. Я удалился, а профессор занялся вскрытием. Родители Ринга вероятно не позволили бы вскрывать труп, — они такие религиозные люди. Но они были далеко, а Вагнер… он не послушался бы меня и все равно сделал бы по-своему.
С Вагнером я встретился в тот день только вечером, когда он вышел, чтобы взять какую-то банку из нашего склада, находившегося в соседней палатке. «Что вы узнали?» — спросил я. — «Узнал, что у Ринга рана в черепе имеет неровные края, а на волосах я нашел кусочек ила, на теле много ссадин и кровоподтеков. По всей вероятности Ринг был застигнут потоками ливня в каком-нибудь каньоне, подхвачен и унесен этим потоком. Его тело билось о камни и стены утеса. Каким-то образом ему удалось выбраться из потока, и он добрался до нас. Удивительно сильный организм. Он должен был пройти немало километров с этакой раной в голове».
«А профессор Турнер?» — «Об этом я знаю столько же, сколько и вы. Но Ринг успел сказать, что Турнер жив и повидимому ожидает помощи от нас. Мы должны немедленно отправиться к Тигре на поиски Турнера». — «Это бессмысленно, — возразил я. — Тигре — огромная область старой Абиссинии, имеющая тысячи амб, тысячи каньонов. Где мы будем искать Турнера?»
— Ведь я был прав, не правда ли? — спросил Решер, обращаясь ко мне.
— Ваш профессор Вагнер, — продолжал он, — бывает грубоват. Он резко сказал мне, что если я не желаю, то могу оставаться в Аддис-Абеба. Я, конечно, ответил, что отправлюсь с ним. И в тот же день, вернее — вечер, похоронив Ринга, мы выступили в путь. Мы оставили всех обезьян и багаж умершего лорда в Аддис-Абеба, а сами отправились налегке. Впрочем, это относительно говоря. Профессор Вагнер не может обойтись без своей лаборатории. Он взял с собой довольно большую палатку, — вы видели ее. А я захватил вот эту для себя.
— Ну, и как ваши поиски?
— Разумеемся, безрезультатны, — ответил Решер как будто даже с некоторым злорадством. Мне показалось, что он не очень дружелюбно относится к Вагнеру.
— Меня ждет дома невеста, — признался Решер, — а тут приходится бесцельно бродить по горам. Бедный Ринг! У него тоже была невеста.
III. Говорящий мозг.
В это время пола брезента, прикрывавшая дверь, приоткрылась, и на пороге показался профессор Вагнер.
— Здравствуйте, — сказал он мне приветливо. — Чего же вы здесь сидите? Пройдемте ко мне. — И обняв меня, повел в свою палатку. Решер не последовал за нами.
Я с любопытством оглядел походную палатку-лабораторию Вагнера. Здесь были аппараты и приборы, говорившие о том, что Вагнер работает в самых различных областях науки. Радиоаппаратура стояла рядом с химической стеклянной и фарфоровой посудой, микроскопы — со спектроскопами и электроскопами. Назначение многих аппаратов было мне неизвестно.
— Садитесь, — сказал Вагнер. Сам он уселся на походный стул у маленького стола, вдвинутого между большими столами, заваленными приборами, и начал писать. В то же время, поглядывая на меня одним глазом, он разговаривал со мной. К моему удивлению оказалось, что обо мне он знает гораздо больше, чем я о нем. Он перечислил мои научные труды и даже сделал несколько замечаний, удививших меня своей меткостью и глубиной, тем более, что Вагнер был по специальности биолог, а не метеоролог.
— Скажите, вы не могли бы помочь мне в одном деле? Мне кажется, что с вами мы скорее сварили бы кашу.
«Чем с кем?» — хотел спросить я, но удержался.
— Видите ли, — продолжал Вагнер. — Генрих Решер очень хороший симпатичный молодой человек. Пороха он не выдумает, но будет честным систематиком. Он один из тех, кто в науке собирает, накапливает сырой материал для будущих гениев, которые сразу освещают одной идеей тысячу непонятных доселе вещей, соединяют воедино частности, дают всему систему. Решер — чернорабочий от науки. Но дело не в этом. Всякому свое. Дело в том, что он продукт своей среды. Аккуратненький сынок аккуратненьких бюргерских родителей со всеми их предрассудками. По воскресеньям утром он поет потихоньку псалмы, а после обеда пьет кофе, приготовленный по способу его почтенной мамаши, и курит традиционную сигару. Разве я не замечал, как косился он на меня за то, что я произвел вскрытие трупа Ринга. — Вагнер вдруг засмеялся. — Если бы Решер знал, что я сделал! Я не только вскрыл черепную коробку Ринга, я вынул его мозг и решил анатомировать его. Я никогда не пропускаю такой возможности. Вынув мозг Ринга, я забинтовал его голову, и мы с Решером похоронили этот безмозглый труп. Решер пошептал на могиле какие-то молитвы и ушел с чопорным видом. А я занялся мозгом Ринга.
В Аддис-Абеба не найти льда, чтобы в нем хранить мозг. Можно было заспиртовать его, но для моих опытов мне нужно было иметь совершенно свежий мозг. И тогда я решил: почему бы мне не поддерживать мозг в живом состоянии, питая его изобретенным мною физиологическим раствором, который вполне заменяет кровь. Таким образом я мог сохранить живой мозг неопределенно долгое время. Я предполагал срезать сверху тонкие пласты и подвергать их микроскопическим и иным исследованиям. Самое трудное было придумать для мозга такую «черепную крышку», которая идеально предохраняла бы его от инфекции. Вы увидите, что мне удалось очень удачно разрешить эту задачу. Я поместил мозг в особый сосуд и начал питать его. Поврежденную часть мозга я хорошо продезинфецировал и начал лечить. Судя по тому, как рубцевалась мозговая ткань, мозг продолжал жить, так же, как живет, например, палец, отрезанный от тела, в искусственных условиях.
Работая над мозгом, я ни на минуту не переставал думать о судьбе моего друга профессора Турнера. Я отправился искать его живого или мертвого, захватив и мозг Ринга вместе с моей походной лабораторией. Я надеялся, что мне удастся найти следы Турнера. Он путешествовал в довольно людных местах. Должен был покупать продукты в деревушках, расположенных на его пути, и о нем таким образом можно было узнать у местных жителей. Я быстро продвигался вперед вместе с Решером и через несколько дней уже был на высотах Тигре.
Однажды вечером я решил сделать первый срез мозга Ринга. И когда я уже подошел со скальпелем в руке, одна мысль заставила меня остановиться. Ведь если мозг живет, то он может и испытывать боль. Не слишком ли жестока моя операция? Не обрекаю ли я мозг Ринга на судьбу несчастной коровы, которую медленно режут и пожирают местные жители на своих пиршествах, как вы это видели вчера вечером? Я начал колебаться. В конце концов научный интерес наверно восторжествовал бы над чувством жалости. Ведь в моих руках был не живой человек, а только кусок «мяса». Гуманисты возражают против вивисекции. Но разве десяток «умученных» учеными кроликов не спасает тысячи человеческих жизней? А наши мясные блюда? Да что толковать! Одним словом я опять приблизил скальпель к мозгу и вновь остановился. Какая-то еще неоформившаяся новая мысль заставила меня насторожиться и ожидать, пока она поднимется из темных бездн подсознательного на поверхность сознания. И вот какую мысль через несколько секунд регистрировало мое сознание: «Если мозг Ринга продолжает жить, то он способен не только ощущать боль. Мысль — одна из функций мозга. Что если мозг Ринга продолжает думать? И о чем он может думать? Нельзя ли попытаться узнать об этом, установить с мозгом связь? Ведь Ринг так и не успел сказать нам, где находится Турнер и что с ним. Не удастся ли мне вырвать эту тайну у мозга Ринга? Если этот опыт удастся, я убью двух зайцев одним ударом: разрешу интересную научную задачу и быть может спасу моего друга.»
«У входа в палатку я увидал лежащее тело человека…»
— Амба? — улыбаясь подсказал я. Вагнер секунду подумал, улыбнулся и ответил:
— Да, амба, только не абиссинская, а игроковская. Два выигрыша сразу. В научном отношении опыт сулил чрезвычайно много интересного, и я с жаром принялся за дело. А дела предстояло немало. Надо было изобрести способ войти с сношения с мозгом, который конечно не мог ни видеть ни слышать, разве что ощущать. Это было пожалуй не легче, чем войти в сношения с марсианами или селенитами[3], не зная их языка. Должен вам сказать еще по секрету, что Ринг, когда он был «во всей форме», не отличался умом. Однажды Турнер говорил мне, что Ринг был захвачен людоедами и вернулся из плена живехоньким, тогда как два его спутника были съедены. «Это потому, — шутливо объяснил Турнер, — что людоеды, убедившись в глупости Ринга, побоялись его съесть, чтобы не заразиться его глупостью. Ведь людоедство возникло не от голода, а от веры в то, что, скушав врага, можно приобрести его доблести».
Глазной нерв не только передает зрительные представления мозгу, он затрагивает целый ряд других нервов…
— Таким образом, — продолжал Вагнер, — мне приходилось работать над очень трудным материалом. Но трудности никогда не останавливают меня. В своих изысканиях я рассуждал так. При работе мозга происходят сложные электрохимические процессы, сопровождаемые излучением коротких электроволн. Я уже года два назад сконструировал прибор, при помощи которого мог воспринимать электроволны, излучаемые мыслящим мозгом. Я изобрел даже аппарат, автоматически записывающий кривую этих колебаний. Но как перевести эту кривую на человеческий язык? Тут были чрезвычайные трудности. Я убедился, что одна и та же мысль передавалась графически различно в зависимости от настроения человека. Очевидно, надо было научиться читать не целые мысли и даже не отдельные слова, — надо было итти другим путем: договориться с мозгом о буквах, создать особый алфавит, если только каждая буква, о которой будет думать мозг, даст четкую, непохожую на другие электроволну, отраженную видимой чертой ка моем приборе. Словом — я находился в положении заключенного в одиночную камеру, который, не зная тюремной азбуки, захотел бы установить связь с заключенными в соседней камере путем перестукиваний.
Но все это было еще впереди. Прежде всего надо было установить, излучает ли мозг Ринга какие-либо электроволны, иначе говоря, работает ли он «умственно», или вся его жизнь заключается в физическом существовании клеток. Теоретически — мозг должен был мыслить. Я смастерил очень точный приемный аппарат и соединил его с мозгом. Дело в том, что мозг излучает очень слабую электроволну. И для того чтобы она еще больше не ослабела, рассеявшись в пространстве, я решил собрать по, возможности всю излучаемую электроэнергию. Для этого я накинул на мозг Ринга тонкую металлическую сетку, от которой шел провод к моему аппарату. Ящик, на котором стоял мозг, был изолирован от земли. Электроволны, попадая в аппарат, должны были передаваться чувствительному самопишущему прибору. Тонкая игла писала на двигавшейся кинопленке, покрытой особым лаком. Кинопленку я брал просто как подходящий материал для записи. О если бы Решер увидел меня за этой работой! Он взвыл бы от негодования, видя такое кощунство.
Вагнер замолчал, а я смотрел на него с нетерпением, не решаясь вопросом нарушить ход его мыслей.
— Да, — продолжал Вагнер, — аппарат отметил излучение электроволн; игла зачертила на пленке неведомые письмена, подобно сейсмографу, отмечающему колебания почвы. Мозг Ринга думал. Но о чем он думал — для меня еще оставалось тайной за семью печатями. Вы знаете, какая у меня феноменальная память. Все, что проходило на ленте, запечатлевалось в моем мозгу. И левую — лучшую — половину моего мозга я отдал исключительно работе расшифровывания этой неведомой грамоты.
«Шамполион знал не больше меня, приступая к расшифровыванию египетских иероглифов, и однако же ему удалось прочитать их. Почему же и мне не расшифровать иероглифы мозга Ринга?» — думал я. Но они долго не давались мне. Еще не умея читать эти иероглифы, я однако уже мог установить, что некоторые знаки повторяются несколько раз. И особенно часто повторялся вот такой знак:
Что он означал, я еще не знал. Но повторяемость одинаковых знаков уже давала некоторые опорные пункты для дальнейшей работы. Я смотрел на зигзагообразные линии на ленте и думал о том, что они означают. Ни одно впечатление внешнего мира не доходило до мозга Ринга. Он был погружен в вечную тьму и тишину, как глухонемой и слепой человек. Но он мог жить воспоминаниями. Быть может этот зигзаг на ленте — воспоминание мозга о любимой девушке… Допустим, мне удастся расшифровать эти иероглифы. Для меня откроется внутренний мир мозга, — последнего пристанища «души». Это очень интересно в научном отношении. Но ведь я преследовал теперь не только научную, но и практическую цель: мне нужно было спросить у мозга Ринга, где Турнер и что с ним. Значит прежде всего нужно было добиться того, чтобы мозг Ринга научился понимать меня, но как это сделать? Я решил, что самый простой путь — это механическое раздражение мозга. Я вскрыл «черепную коробку» и начал надавливать пальцем в стерилизованной резиновой оболочке на поверхность мозга сначала коротким нажимом, а потом более продолжительным. Это должно было соответствовать точке и тире, иначе говоря, букве «а» телеграфного алфавита Морзе. Алфавита этого целиком Ринг мог и не знать. Но «точка-тире» это вероятно было ему известно. Я проделал эту манипуляцию несколько раз с промежутками, а затем перешел к следующей букве немецкого алфавита. На первый урок довольно было заучить мозгу четыре буквы: а, б, ц, д.
В то же время я наблюдал за лентой. Во время этого своеобразного урока на ленте появились какие-то новые штрихи и линии с амплитудой колебаний гораздо более нормальной. Я решил, что до мозга Ринга во всяком случае дошли мои сигналы. Быть может он был испуган нажимами, быть может воспринимал их болезненно. Так или иначе — мозг реагировал. Теперь оставалось только повторять эти уроки, пока мозг не осознает, что это не случайные раздражения. Если бы только он понял, что от него хотят! К сожалению мой необычайный ученик оказался большим тупицей, — Турнер был прав. Мне хотелось добиться одного, чтобы на мой сигнал — надавливание «точка-тире» — мозг ответил электроволной — знаком на ленте, соответствующим данному осязательному впечатлению. В дальнейшем, представляя ту или иную букву или воспроизводя соответствующее ощущение при надавливании мною этой буквы, мозг получил бы возможность самопроизвольно сигнализировать мне букву за буквой и таким образом вступить со мною в разговор.
Мозг человека.
Не буду перечислять все этапы этой трудной и кропотливой работы. Скажу лишь, что мои упорство и изобретательность подвергались огромным испытаниям. Но терпение и труд все перетрут. Мозг Ринга в конце концов заговорил. Через несколько дней Ринг начал повторять за мной буквы, — то-есть, думая о них, он излучал определенную электроволну, которая отражалась на ленте особым знаком. Я начал «диктовать» буквы в разбивку, мозг верно воспроизводил их. Дело было сделано. Но понимает ли мозг значение нажимов, связал ли он их с буквенным значением? Я «продиктовал» слово «Ринг» и ждал, что мозг повторит это слово буква за буквой. Но, к моему удивлению, на ленте оказалось написанным: «Я». Ринг очевидно ответил: «Да, Ринг — это я». Этот ответ так обрадовал меня, что в ту минуту я готов был допустить мысль, что людоеды прогадали, отказавшись от мозга Ринга. Он оказался сообразительней, чем я предполагал. Дальше пошло легче. Еще несколько испытаний, и я мог приступить к беседе. Больше я не завидовал лаврам Шамполиона, хотя о моих успехах никто не знал. Мне одновременно хотелось поскорее узнать, где находится Турнер и что думает, чувствует мозг Ринга. Однако интересы живой человеческой личности должны стоять на первом плане. И я задал мозгу вопрос о Турнере. Игла на ленте задвигалась. Мозг слал мне телеграмму: «Турнер жив. Мы были застигнуты в долине тропическим ливнем».
«Где?» — телеграфировал я мозгу, надавливая пальцем точки и тире. Мозг довольно точно указал мне направление маршрута, и по этому указанию мы добрались сюда, на эту стоянку. «Идите на север до Адуа, не доходя семи километров, сверните на восток…» — таково было главное направление. Но дальше… Увы, если бы Ринг был жив, он вероятно сумел бы провести нас на место. Но объяснить, где находится Турнер, он не сумел бы так же, как не мог объяснить теперь. Высокая амба. Крутые обрывистые края. Глубокое ущелье… Тысячи амб и ущелий походили на это описание. Я сделал невозможное — заставил говорить мозг Ринга неделю спустя после его смерти, — и тем не менее я не мог получить от мозга нужные мне сведения. Я бился с мозгом целые часы. Мозг вероятно утомился, потому что некоторое время он не давал ответов на мои вопросы, а затем задал мне сам вопрос, который смутил меня: «Где я и что со мною? Почему темно?..»
Что мог я ему ответить? Частица тела Ринга очевидно продолжала считать себя целым. Сказать остаткам Ринга, что он давно умер, что остался один мозг, я опасался. Может быть этот ответ поразит сознание Ринга, мозг Ринга не вместит этой мысли и сойдет с ума. И я решил схитрить — заменить ответ вопросом. «А что вы чувствуете?» — спросил я у мозга как врач. И мозг начал мне «говорить» о своих впечатлениях. Он не видит, не слышит. Обоняние и вкус также отсутствуют у него. Он чувствует перемену температуры. У него время от времени «мерзнет голова». (Вы знаете, что ночи в Абиссинии бывают довольно холодные, и разница в дневной и ночной температуре достигает тридцати и более градусов. Хотя я предохранил мозг от внешних влияний температуры искусственным «черепом», все же температурные колебания чувствовались мозгом.) И еще мозг чувствовал, когда я надавливал ему на «темя». Он так и сказал: «Кто-то нажимает мне на темя». — «И вам больно?» — спросил я. «Немного. У меня как будто немеют ноги».
Можете себе представить, как это интересно. Ведь Как раз в верхних долях мозговой коры содержатся нервы, управляющие движениями и ведающие ощущениями нижней части тела вплоть до кончиков ног. Таким образом я получил возможность проверить все участки мозга с точки зрения локализации в них тех или иных ощущений.
Вагнер взял книгу с полки, раскрыл ее и показал мне рисунок:
— Вот видите, здесь изображены нервные центры. Я нажимал на различные извилины и борозды и спрашивал мозг, что он ощущает. «Я вижу смутный свет», — ответил мозг, когда я нажал на зрительный центр. «Я слышу шум», — ответ на раздражение слухового нерва. Ведь вы знаете, что каждый нерв отвечает на разнообразные раздражения только одной реакцией: зрительный нерв передаст мозгу ощущение света, чем бы вы не возбуждали нерв: светом, давлением, электрическим током. Также действуют и другие нервы. Немудрено, что мои надавливания вызывали в мозгу то представление света, то шума — в зависимости от того, какой центр я раздражал. Для меня открывалось огромное поле для наблюдений.
Однако о чем думал мозг все это время? — Вот что занимало меня. Я задал мозгу этот вопрос, и к моему удовольствию он довольно охотно ответил мне. «Ринг» помнит все, что произошло с ним (мозг Ринга все время был убежден, что Ринг жив). Итак, он рассказал мне, как они — Турнер, Ринг и проводник — отправились в Тигре, как решили спуститься в глубокий каньон, где были застигнуты неожиданным ливнем. Бушующие потоки несли их по каньону. Несколько раз на крутых излучинах они сильно ударялись о скалы и наконец были вынесены к огромной запруде в широкой долине. Росший на дне долины камыш задержал приносимый потоком мусор, ветви и целые деревья, образовав огромную плотину. Путники увязли в этой гуще. Надо было выбраться отсюда во чтобы то ни стало, пока вода не прорвет плотину и не понесется дальше с еще большим бешенством. Добраться до берега было невозможно. Вода бурлила, кипела; ветки и сучья спутывали руки и ноги. А вода все прибывала и уже перекатывалась через гребень плотины. Тогда Турнер крикнул своим товарищам, что единственный путь — перелезть через плотину и броситься вниз, а затем спасаться на высокое место, пока вода не залила пространство, лежащее ниже плотины. Так они и сделали. С величайшим трудом перебрались через плотину и скатились вниз с десятиметровой высоты. Они упали на острые камни. Проводник разбил голову и был унесен ручьем, бежавшим ниже плотины, Турнер сломал ногу и с величайшим трудом пополз к берегу, и только один Ринг остался невредим. Им вдвоем удалось добраться до бедной деревеньки, лежащей на высоком уступе амбы. Турнер слег, а Ринг отправился в Аддис-Абебу за помощью. Он благополучно прошел весь путь и был всего в десяти километрах от города, когда какие-то разбойники пустили в него камнем и поранили голову. Но у Ринга, очнувшегося после обморока, хватило сил добраться до Решера. Там он и упал, потеряв сознание. Потом пришел в себя, увидел Решера и меня, сказал несколько слов и вновь забылся.
Мы решили двинуться в путь совсем налегке…
«А потом что?» — спросил я с интересом. — «Потом, — ответил мозг, — я опять пришел в себя. Но я ничего не видел и не слышал. Мне казалось, что меня бросили в темный карцер, связанного по рукам и ногам. Мне ничего больше не оставалось, как вспоминать всю мою жизнь. В этих воспоминаниях и проходило время…»
Я несколько раз просил мозг Ринга точно описать мне путь в каньон, где застал их ливень, но Ринг попрежнему так бестолково объяснял мне, что я отчаялся найти по этим указаниям моего друга. «Вот если бы я мог видеть, то привел бы вас на место», — говорил мозг. Да, если бы он видел и слышал, дело пошло бы на лад. Не удастся ли мне разрешить и эту задачу? Мозг может воспринимать только неопределенное ощущение света при нажиме на глазной нерв, также как мы ощущаем красные пятна и круги, когда нажимаем пальцем на глазное яблоко сквозь закрытое веко. Но ведь это не зрение. Как бы наделить мозг настоящим зрением?
Один план занимал меня в продолжение нескольких часов. Я думал, нельзя ли пересадить мозг Ринга на место мозга какого-нибудь животного. Сложность этой операции не смущала меня. Я надеялся сшить все нервы, сосуды и прочее, если только… найти подходящее по размеру вместилище для мозга Ринга. Но в этом-то и была вся задача. Я перебрал в памяти объемы и вес мозга различных животных, сравнивая с мозгом Ринга. Мозг Ринга весил тысяча четыреста граммов. Мозг слона весит пять тысяч граммов. Увы, череп слона — слишком большое вместилище для мозга человека. У кита мозг весит две тысячи пятьдесят граммов. Это ближе к делу. Но у меня не было под рукой кита. И что делал бы кит среди амб Абиссинии? А все остальные животные имеют слишком малый мозг по сравнению с человеком: лошадь и лев — по шестисот граммов, корова и горилла — по четыреста пятьдесят, прочие обезьяны — еще меньше, тигр — всего двести девяносто, овца — сто тридцать, собака — сто пять граммов. Было бы очень занятно иметь слона или лошадь с мозгом Ринга, Тогда он наверно нашел бы путь в долину. Но это к сожалению было мало выполнимо. Задача очень интересная, и может быть когда-нибудь я сделаю такую операцию. «Но сейчас, — думал я, — мне надо достигнуть цели возможно быстрым путем». И вот что я придумал…
Вагнер поднялся, подошел к занавеске, отделявшей угол палатки, и приподняв полу занавески, сказал:
— Не угодно ли войти в это отделение моей лаборатории?
В этот угол свет проникал только сквозь плотный брезент палатки, и потому здесь стоял полумрак. Я увидал лежащий на ящике мозг, заключенный в какую-то прозрачную желтоватую оболочку и прикрытый сверху стеклянным колпаком. На другом ящике стоял большой сосуд, наполненный какою-то жидкостью, и на дне его лежали два больших глаза. От глазных яблок шли какие-то нити.
— Не узнаете? — спросил, улыбаясь, Вагнер. — Это глаза вчерашней коровы. Что может быть проще! Я беру конец этого нерва и пришиваю к глазному нерву в мозгу Ринга. Когда нервы коровы и Ринга срастутся, мозг Ринга вновь увидит свет, пользуясь глазом коровы.
— Почему глазом? — спросил. — Разве вы дадите мозгу Ринга только один глаз?
— Да, и вот почему. Наше зрение устроено сложнее, чем вы повидимому представляете. Глазной нерв не только передает зрительные представления мозгу. Нерв этот затрагивает целый ряд других нервов, в частности тех, которые ведают мышечными движениями глаза и речевыми движениями. При такой сложности наладить зрение обоими глазами — задача чрезвычайно трудная. Ведь мозг Ринга не в состоянии будет двигать глазом в любом направлении и сводить в один фокус два глаза. Довольно того, что он сможет владеть этим органом, наводя глаз на фокус. Конечно это будет несовершенное зрение. Мне придется держать глаз и наводить его как фонарь на окружающие окрестности, а мозг будет узнавать местность и давать свои указания тем же несовершенным способом при помощи азбуки Морзе. Со всем этим будет немало хлопот. И Решер будет нам только мешать. Пожалуй он еще напортит. Помилуйте, он человек, верующий в бессмертную душу, и вдруг душа его друга в этаком заключении! Я решил поступить с Решером так. Скажу ему, что я признал бесцельность дальнейших поисков Турнера, и предложу отправиться на родину или куда он хочет. Я уверен, что Решер охотно оставит меня и уедет. Тогда у меня руки будут развязаны, если только вы согласитесь помочь мне.
Я согласился с большой готовностью.
— Ну, вот и отлично, — сказал Вагнер. — Надеюсь, что к утру мозг Ринга прозреет. Мною изобретено средство для ускорения процессов срастания тканей. К тому же времени вероятно Решер уберется отсюда, и мы с вами отправимся на поиски моего друга. Я прошу вас быть готовым выступить в поход рано утром.
IV. Необычайный проводник.
Наутро я уже был в палатке Вагнера. Он встретил меня со своей обычной радушной и немного лукавой улыбкой.
— Все вышло как по писанному, — сказал он мне, поздоровавшись. — Господин Решер выразил приличествующее случаю душевное сокрушение, повздыхал, поморгал, быстро утешился и тотчас начал собираться в дорогу. В полночь его уже здесь не было. А я тоже времени не терял даром, — вот смотрите.
Из «подлобья» мозга выглядывал большой коровий глаз. Он был устремлен на меня, и мне даже стало жутко.
— Другой глаз я держу на всякий случай. Он содержится в особой жидкости и не испортится.
— А этот видит? — спросил я.
— Разумеется, — ответил Вагнер. Он начал быстро нажимать на мозг (стеклянный колпак был снят) и потом посмотрел на ленту.
— Вот видите, — сказал Вагнер, — обращаясь ко мне, — я спросил мозг, кто находится перед ним, и он довольно точно описал вашу внешность. Теперь мы можем двинуться в путь.
Мы решили отправиться совсем налегке, даже без проводников и носильщиков. Что бы они подумали, если бы увидели коровий глаз, который руководит экспедицией! На случай встречи с туземцами Вагнер умело замаскировал ящик, в котором помещался мозг, оставив для глаза только небольшое отверстие. Лента, записывающая телеграммы мозга, была выведена наружу, и по ней мы справлялись, правильно ли мы идем. Ринг не обманул: у него оказалась довольно хорошая зрительная память. И если он не в состоянии был словесно описать дорогу, то теперь был совсем недурным проводником. Возможность видеть знакомые места очевидно самому мозгу доставляла удовольствие. Он очень охотно руководил нами.
«Прямо… Налево… Еще… Спускайтесь…»
Мы не без труда спустились в глубокий каньон. Летние ливни уже прошли. Воды на дне каньона не было. Но здесь стоял невыносимый смрад от разлагающихся трупов животных и гниющих растений. Горные жители не могут спускаться сюда из-за этого смрада.
«Вот здесь была плотина», — сигнализировал мозг. От плотины высотою в десять метров не осталось ничего кроме мусора, устилавшего сухое дно. Мы вышли на широкую поляну. Здесь как бы сходились десятки горных ручьев и рек, разливающихся лишь во время дождей и размывающих горы.
Прежде чем мы добрались до деревни, нам пришлось миновать участок леса с такой обильной растительностью, что мы принуждены были сделать несколько десятков километров кругу. Даже слоны ломают иногда клыки в этих дебрях.
Наконец мы нашли профессора Турнера в бедной абиссинской деревне, в шалаше, который не предохранял ни от ветра ни от дождя. К счастью, погода стояла теплая, и Турнер не страдал от сырости и холода. Он чувствовал себя неплохо, но ходил еще с трудом. Турнер очень удивился и обрадовался приходу Вагнера.
— А Решер, Ринг где?
К счастью «Ринг» ничего не слышал, и Вагнер рассказал Турнеру, человеку без предрассудков, о нашем необычайном путеводителе. Турнер покачал головой, задумался, потом рассмеялся.
— Только вы, Вагнер, способны на такие проделки! — сказал он, похлопывая приятели по плечу. — Где он? Покажите мне его.
И когда Вагнер приоткрыл коровий глаз, выглядывавший из ящика, Турнер раскланялся, а Вагнер протелеграфировал мозгу приветствие Турнера.
— «Что со мной?» — спросил мозг Ринга Турнера, но и Турнер не мог объяснить «Рингу» его странной болезни.
Вот и все. В Европу мы явились вместе: профессор Турнер, Вагнер и я. Решер приехал раньше нас. Простите, я забыл упомянуть еще об одном спутнике. Мозг Ринга также ехал с нами. В Берлине мы расстались с Турнером. При прощании он обещал никому не говорить о мозге Ринга.
Этот мозг, кажется, до сих пор существует в московской лаборатории профессора Вагнера. По крайней мере в последнем письме, полученном мною не больше месяца назад, Вагнер писал мне: «Мозг Ринга шлет вам привет. Он здоров и уже знает, что от Ринга остался только один мозг. Эта новость не так поразила его, как я ожидал. „Лучше так, чем никак“, — вот что ответил мозг. Я сделал много чрезвычайно ценных наблюдений. Между прочим: клетки мозга начали разрастаться. И теперь мозг Ринга весит не меньше мозга кита. Но от этого он не стал умнее…»
__________
Вагнер на рассказе написал:
«Не только ткани, но и целые органы, вырезанные из тела человека, могут жить и даже расти. Ученые (Броун-Секар, Каррель, Кравков, д-ра Брюхоненко и Чечулин, и др.) оживляли пальцы, уши, сердце и даже голову собаки. При условиях питания кровью или раствором, близким по химическому составу к крови, — так называемым физиологическим раствором, — ткани и органы могут жить очень долго, ткани даже по нескольку лет. Поэтому и оживление мозга научно вполне допустимая вещь. Но я сомневаюсь, что с таким оживленным мозгом удалось бы войти в переговоры. Мозг и нервы при своей работе действительно излучают электромагнитные волны. Это бесспорно установлено работами академиков Бехтерева, Павлова и Лазарева. Однако, мы еще не научились „читать“ эти волны. Вот что пишет академик Лазарев по этому поводу в одном своем труде: „Пока мы можем только утверждать, что волны существуют, но не можем строго выяснить их роль“. Я был бы очень рад, если бы мне удалось оживить и вступить в переговоры с мозгом Ринга, но, к сожалению, такая возможность не больше, как научное предвидение.
Вагнер».
Злая земля. Историко-приключенческий роман М. 3уева-Ордынца.
ЧАСТЬ I НЕЗНАЕМАЯ СТРАНА (продолжение).
XIV. Письма «с того берега».
Под вечер заставный капитан собрался в поселок Дьи — сговориться с индейцами относительно завтрашней поездки в Новоархангегьск. Перед его уходом траппер попросил чернил и бумаги. Получив то и другое, Черные Ноги сел за стол.
Вот что написал траппер:
«Аляска, фактория Дьи. 4 ноября 1867 года.
Михайла, дорогой мой друг, здравствуй!
Наконец-то я могу откровенно говорить с тобой. Ты уже слышал о продаже Аляски американцам. У меня из-под ног выдергивают русскую территорию. Теперь уже жандармская лапа не сможет схватить меня за шиворот: „Пожалуйте на расправу, господин Бокитько!“ А потому — вот тебе мое подробное письмо.
Ну, как же передать тебе, что я пережил за это время? Хватит ли слов?
Помнишь, Михайла, как мы расстались с тобой? В руках у меня подложный паспорт, на дворе ждут сани, а ты стоишь предо мной и плачешь. Эту картину я никогда не забуду.
Проезжая по улицам Петербурга, покидая его надолго (я не допускал мысли, что это надолго окажется навсегда), жадно я глядел на нашу Северную Пальмиру. Дома празднично освещены. Ведь был первый день Рождества. Проезжая мимо дома Аленушки, я увидел, что окна их пылают светом. У них была елка. Я был приглашен на нее…
А потом — застава. Позади — Петербург, Аленушка, любовь моя, и вы все, дорогие друзья. А впереди — ночь, метель, неизвестность…
Дорога была тяжелая. До Урала — ухабы и метели. На Урале — те же ухабы, метели и вдобавок сугробы, в которых завязала моя кибитка. Приходилось ждать по часу и более, пока вытащат ее из снежных глубин. И наконец — Сибирь.
Из Сибири я предполагал удрать за границу. Но жандармы уже основательно обложили меня, закрыв дорогу на север — в Якутск — и на запад — обратно в Красноярск. Оставался один путь — на юго-восток, то-есть в Китай.
Я и два беглых сибирских каторжника, имея на троих два ружья, перешли китайскую границу и начали спускаться к Амуру. Нам грозила ежеминутная опасность нападения со стороны гиляков, или, что еще хуже, свирепых манчжур. Но мы благополучно вышли к Амуру, в устье его притока Зеи, где видны были еще следы древне-русского Зейского острога[4].
Мы предполагали спуститься вниз по Амуру до его устья и там на морском побережье найти судно. Я решил поехать в Сан-Франциско, копать калифорнийское золото, спутники же мои облюбовали Камчатку.
Задумано — сделано. В гиляцком стойбище выкрали мы „бату“, выдолбленную из толстого ствола валкую верткую лодку. На этой-то поистине „душегубке“ проплыли мы свыше тысячи верст вниз по Амуру, до его устья. Не раз бросало нас течением на береговые скалы, грозя разбить в щепки, два раза мы отстреливались от правобережных манчжур-разбойников. И все-таки мы целыми и невредимыми добрались до устья великой реки.
Мы вошли в Амурский лиман 1 августа 1850 года, то есть как раз в тот самый день, когда капитан-лейтенант Невельский на своем „Байкале“ вошел в Амур с моря и, подняв на его берегах русский флаг, объявил весь Приамурский край владением России.
Амурское устье в те годы было безлюдно. За исключением двух-трех гиляцких стойбищ иных поселений не было. На Николаевской торговой фактории Российско-Американской компании[5], расположенной в 35 верстах от устья Амура, мы напрасно прождали корабль до глубокой осени и вынуждены были зазимовать. Здесь-то я впервые познакомился с людьми моей теперешней профессии — зверобоями-трапперами.
Среди зимы произошел случай, едва не стоивший мне жизни. Один из моих спутников показал свое настоящее лицо. Он убил траппера, прельстившись его дорогими мехами, и бежал. Но убийцу поймали на другой же день. И вот на опушке тайги, под вековой сосной трапперы устроили по калифорнийскому способу „суд Линча“. Ни о какой полиции в те годы на Амуре конечно и слышно не было. Судили нас всех троих: меня и другого беглого каторжника, смирнейшего парня, сосланного за убийство в пьяном виде, притянули якобы за соучастие по оговору убийцы. И всех троих нас приговорили к повешению…
Болтаться бы мне на суку, если бы не заведующий факторией. Он понял, что я не причастен к этой гнусной истории, и вызвался мне помочь. Фактор посоветовал мне бежать на Частые острова, расположенные в Татарском проливе, между устьем Амура и островом Сах-э-ляном[6], в 125 верстах от фактории. На Частых островах жил его друг — китаец, у которого я должен был скрываться до весны, а затем по открытии навигации покинуть негостеприимный Амур. Фактор обещал дать мне свою собачью упряжку с погонщиком, немым гиляком, которая со скоростью 30 верст в час помчит меня по замерзшему проливу на Частые острова.
Я не знал как благодарить этого доброго человека, и тут же принялся умолять его спасти и второго невинного. Но фактор был неумолим: „Или вас одного, или никого. Двое — это слишком громоздко. Я сам рискую тогда очутиться в петле“. Против такого аргумента не возразишь. И я скрепя сердце согласился бежать один.
Мой отъезд был назначен на ночь. Стражи к моей избе зверобои не поставили, решив, что без оружия и припасов я не убегу. Погасив огонь, уже одетый в дорогу, я просидел в избе пять томительных часов, ожидая упряжку. Но вот раздался слабый скрип снега под полозьями нарт и осторожный стук в окно. Не помня себя от волнения и радости, я выбежал на улицу.
Мороз был лютый, не меньше 40° по Реомюру[7]. Вызвездило. Полная луна колдовала там, в вышине, на угольно черном небе. Я стоял, затаив дыхание, полный тревоги перед новыми опасностями и приключениями. Бесцеремонный удар в спину опрокинул меня в нарты. Так немой гиляк пригласил меня садиться. Хлопнул бич, упряжка рванула и понеслась.
И сейчас перед взором моим стоит безлюдная снежная равнина Амурского лимана, а затем Татарского пролива. Ни огонька, ни строения, ни деревца, лишь бесконечная снежная гладь, брызжущая под луной мириадами холодных синих искр.
Фактор был прав, говоря, что его упряжка делает по 30 верст в час. Самое большее через пять часов молчаливый китаец, одинокий житель Частых островов, отпаивал уже меня желтым, дьявольски крепким ханшином.
На Частых прожил я не всю зиму, перекочевав еще до вскрытия Татарского пролива на Сах-э-лян, так как думал, что на этом острове скорее найду заграничное судно. И как я после каялся в этом переселении! Чистенькую фанзу желтокожего отшельника Частых островов променял я на гиляцкую юрту, где спали на полу вповалку взрослые, дети, собаки. Эта куча людей и животных наполняла юрту невыносимым зловонием. Большинство гиляков болеет какой-то ужасной болезнью, гниет заживо. Лица их зачастую представляют сплошную гнойную маску. И вот в таких то условиях провел я несколько жутких месяцев, дойдя до степени тихого помешательства. Лишь в мае покинул я Сах-э-лян, увозя на память об этом проклятом острове гнойные струпья и язвы за ушами и на шее.
„Раздался слабый скрип снега под полозьями нарт и осторожный стук в окно…“
Китобойная шхуна, забравшая меня с Сах-э-ляна, шла совсем не в Сан-Франциско. Hо я был даже рад этому, ибо, чудом спасшись от линчевания, возненавидел калифорнийские нравы. Китобой шел к берегам Аляски. И 25 июня 1851 года, то есть ровно через полтора года после отъезда из Спб., я увидел горные хребты Большой Земли, как зовут Аляску местные краснокожие.
И сюда, в этот „полярный ад“ прибыл я, человеческая песчинка, студент-первокурсник столичного университета Филипп Федорович Бокитько, по паспорту же мещанин Погорелко, а в сущности и не студент и не мещанин, а чорт знает что. Место свое в жизни, и место крепкое, я нашел уже позже, когда из Погорелко переименовался в Черные Ноги. Не таращь глаза, Михайла! Так прозвали меня мои друзья-краснокожие. А моим белокурым друзьям, англичанам и американцам, это прозвище дало право переименовать меня в мистера Блекфит. А теперь уж и сам не знаю, на какое же из этих четырех имен имею я большее право.
„Полярный ад“ не сломил меня, не погасил во мне „дум высокое стремленье“. О, нет! Наоборот. Знаешь, какие слова выгравированы на стволе моего верного шаспо? Строки из стихотворения Рылеева:
Не христианин и не раб, Прощать обид я не умею…Знаешь ли ты что-нибудь об Аляске? Уверен, или ничего или очень мало. Россия всегда мало интересовалась своей североамериканской колонией. А это удивительная страна. На севере ее бродят свирепые „лысые“ — белые медведи, а в южной половине порхают мексиканские колибри.
Но суть не в колибри. Суть в том, что Аляска — страна для мужчин в лучшем смысле слова. Главное здесь — это равновесие между мускулами и нервами. Аляска — страна инстинкта и импульса. Здесь все просто. Здесь нужно буквально цепляться за жизнь. И как здешняя жизнь непохожа на мою прошлую, на ту, которой живете сейчас и вы! У вас на первом месте мысль, здесь — дело, у вас можно убедить словом, здесь — только действием. Здесь у нас только один закон — силы, кулака, а еще лучше — оружия. И вот тут-то, перед лицом неоднократной смертельной опасности я понял, что значит жить и любить жизнь. Только здесь я научился брать жизнь большими кусками. Я научился, как волк, следить за добычей с терпеньем столь же огромным, как и мучивший меня голод. Я познал сладость бешенства и опьяняющую злобу при уничтожении врага.
Однажды я видел, как медведица-гризли учит своих медвежат. Она лупит их так, что у бедных малышей буквально трещат кости. Так же по-звериному жестоко учила меня жить Аляска. Но я благодарен ей за все те тумаки, шлепки, затрещины, которыми она меня награждала. Эта лупцовка сделала из меня другого человека.
Какого? Это долго рассказывать. Да и не передать пожалуй полностью, что сделалось со мной, с моим умом, сердцем, мыслями, верованиями за эти долгие шестнадцать лет. Но какая страшная ломка произошла во мне, какая умопомрачительная переоценка всех ценностей! Например, к ужасу своему убедился я, что наша хваленая цивилизация, как едкая кислота, может только портить, разлагать, разрушать. Вот доказательство.
У туземцев Аляски до нашего здесь появления ни один человек не имел права владеть большим, чем ему необходимо для жизни. Все лишнее он обязан был отдать нуждающемуся. Они почти не знали, что такое „мое“ и „твое“. Уж конечно они не читали Прудона. И все же основной их закон буквально по-прудоновски гласит: „собственность — кража“. У этих „дикарей“ работают все одинаково и все поровну получают за свой труд. Вот тебе и воплотившиеся фаланстеры Фурье[8] и „коммуны гармонических интересов“ Оуэна!
А что мы, русские, цивилизованная нация, сделали с этой аляскинской идиллией? Во-первых — принесли заразные болезни. Затем мы познакомили туземцев с водкой. Аляскинские „аршинники-самоварники“, которые в тысячу раз злее и жаднее лабазников Апраксина рынка[9], на водке и строют всю свою коммерцию. Мне кажется, что друг наш Алеша Плещеев[10] именно их-то и назвал „рабами греха, рабами постыдной суеты“. Эх, посмотрел бы он, нежная поэтическая душа, как здесь, не смущаясь „гонимых братьев стоном“, грабят, оскорбляют, притесняют! Способ местных негоциантов крайне прост: туземца сначала опаивают водкой, а потом обирают до нитки. Это называется „торговлей с дикарями“. И теперь, благодаря стараниям многих представителей „цивилизованной“ русской нации, туземцы Аляски, все эти тлинкиты, иннуиты, колоши, самоеды, медновцы, кенайцы превратились в лучшем случае в лентяев, воришек, пьяниц, в худшем же — в разбойников с большой дороги или в береговых пиратов. Лишь племена, отгородившиеся от всяких сношений с русскими, сохранили в неприкосновенности свою первобытную чистоту, высокую нравственность, великодушие и муравьиное трудолюбие. Среди одного такого племени, тэнанкучинов, я недавно провел целых восемь месяцев.
И я не сказал бы, что все творимые здесь гнусности объясняются только невысокой моральной ценностью русских колонистов, к достоинствам которых можно отнести лишь их неслыханную выносливость и дерзкую отвагу. Нет, нужно глубже смотреть. Просто мы оказались в культурном отношении ниже туземцев. Как это ни дико звучит, но это правда. У тэнанкучинов я видел их парламенты — „кашги“, — громадные круглые сараи. И эти парламенты существовали уже тогда, когда не было еще Вестминстера[11], когда на месте Москвы кочевали скифы. А мы принесли туземцам свои варварские полицейские порядки. И что только вытворяла здесь каждая административная тля! Впрочем хороши и верхи! Я никогда не был квасным, оголтелым патриотом, но все, что я видел здесь, нанесло окончательный удар моему национальному чувству.
И вот теперь я на бездорожье. Все пути, которые когда-то я считал верными, обманули меня. Я возненавидел своих соотечественников, я разочаровался и в фетише нашем — людей XIX столетия — в цивилизации. Да, с ней что-то неблагополучно, она гниет. В чем ее болезнь, я не знаю, едва ли поймет это и все наше поколение. Может быть дети или даже внуки наши спасут цивилизацию от разложения заживо. Этой верой и будем жить.
Как видишь, это письмо превратилось буквально в письмо „с того берега“, — да простит мне русский Вольтер[12] этот невольный плагиат!
И вот теперь, когда свежая молодая страна эта запакощена, растлена, ограблена, ее продают по самодержавно-крепостническому праву, как какую-нибудь бездоходную Березовку или Голодаевку. Продают не только землю с природными ее богатствами, но и население, как некое человеческое стадо. Я готов плакать в бессильной злобе, готов задушить тех, кому в голову пришла эта гнусная и глупая мысль. Я так люблю эту страну!
И какой чудный народ аляскинские зверобои! Большей частью это молчаливые суровые люди. Среди них нашел я характеры глубокие, сильные, прекрасные. И как радостно было под грубой корявой внешностью находить золотое содержание. Их отзывчивость, честность, великодушие, смелость на первых порах буквально подавляли меня. А их гостеприимство, перед которым все ваши понятия о гостеприимстве — ничто! Правда этика их крайне примитивна. Например — непростительное прегрешение против полярной охотничьей этики совершает тот зверобой, который, покидая зимовье, не оставит в нем сухих щепок для растопки.
Я сжился с этим народом, знаю их прекрасно и полюбил их, потому что они показали мне другую жизнь. И я доволен прожитой жизнью, и мне не в чем упрекнуть себя…»
Траппер положил перо и снова опустил голову на руки. Он не заметил даже, как в дверь высунулась сначала бобровая шапка, а потом физиономия и плечи заставного капитана. Македон Иваныч посмотрел внимательно на траппера, дернул сочувственно усом и скрылся за дверью. В соседней комнате кукушка на часах деревянно прокуковала десять, и тогда траппер снова взялся за перо.
«Когда я смотрю в прошлое, — писал он, — как живые перед взором моим проходят скорбной вереницей друзья мои и единомышленники. Вот Петрашевский, коренастый, с беспорядочной бородой, огромным лбом, угловатый, торопливый в движениях и ужасно близорукий. А его альмавива испанского покроя, его смешной цилиндр с четырьмя углами! Многие ли знали, какая пылкая, способная на самоотверженную привязанность душа и живая творческая сила скрывались под этой нелепой смешной оболочкой? Мир праху его! До тебя тоже дошла наверное весть, что в прошлом году не стало этого пылкого бунтаря и умнейшего человека нашего столетия. Мне передавали подробности его смерти. Он умер в глухом, затерянном в угрюмой тайге селе Бельском, одинокий, всеми покинутый, в грязной избе, около лохани с помоями. И какая несправедливость судьбы! Даже после смерти не было ему покоя. Труп его два месяца пролежал в крестьянском „холоднике“, — хоронить почему-то не разрешали власти.
И вот другие петрашевцы: Ахшарумов, Ханыков, Пальм, Спешнев, Европеус, Дуров, Момбелли, Алеша Плещеев, братья Достоевские — Михаил Михайлович и Федор Михайлович, имя которого уже начинает греметь по России и даже за пределами ее. Где они теперь? О многих не знаю я, живы ли, не изменили ли идеалам, за которые томились „во глубине сибирских руд“. Вижу я и себя тогдашнего — пылкого, по-телячьи восторженного.
„К плацу быстро под конвоем конных жандармов приближался кортеж…“
А забуду ли я когда-нибудь ночь с 22 на 23 апреля 1849 года, ночь полицейского набега на квартиры петрашевцев? Утром 23-го я узнал, что за меня по ошибке арестовали моего однофамильца, поручика какого-то кавалерийского полка. И я сам добровольно направился к роковому зданию у Цепного моста на Фонтанке[13]. Я помню как сейчас даже и статую Венеры Калиппиги, стоявшую в вестибюле дубельтовского[14] застенка. Тут-то, у статуи древней богини заметили меня, потрясенного и подавленного одновременно, друзья мои и отговорили от безумного поступка добровольно отдаться в лапы Леонтия Дубельта. Ах, если бы знало его превосходительство, что в двух шагах от него стоит в тяжелом раздумье один из петрашевцев, именно тот, кто по словам шпионского доноса отличался „дерзостью выражений и самым зловредным духом“, тот, по рисункам которого был изготовлен через Дурова и Достоевского типографский станок, — наверное генерал не поленился бы собственноручно арестовать меня.
И вот еще картина, которая долгие годы мучила меня в ночных кошмарах.
Туманное морозное утро 22 декабря 1849 года. Солнце, только-что взошедшее, большим красным шаром повисло низко над крышами домов, тускло блистая сквозь туман облаков. Огромный, как поле, Семеновский плац. Уродливая громада эшафота. Кругом толпа, примолкшая и испуганная. В этой толпе и я. Но вот говор и скрытое волнение как внутренняя дрожь пробежали по толпе. К плацу быстрой рысью под конвоем конных жандармов приближался кортеж — наглухо закрытые наемные извозчичьи кареты. Двадцать одна — по числу моих друзей. Двадцать второй кареты не было, потому что я, малодушный подлец, стоял в толпе, прячась за спины.
Из кареты вывели их. Многих я не узнавал, так изменило их восьмимесячное пребывание в каменных мешках русской Бастилии, Петропавловской крепости. Чтение приговора было для меня жесточайшей пыткой. И вдруг, как гром, слова: „к расстрелу“… Я не сразу понял их, а когда понял, не сразу пришел в себя. На троих — Петрашевского, Момбелли и Григорьева — надели саваны с капюшонами и длинными рукавами этих саванов привязали к столбам, вкопанным около трех вырытых ям. Я видел, как Петрашевский тотчас же сорвал с себя капюшон савана, крикнув, что он не боится смерти и может смотреть ей в глаза. Затем раздалась воинская команда: „К заряду!“, и одновременно с ней, оттолкнув какого-то почтенного старичка-чиновника, я бросился к месту экзекуции.
Теперь-то мы знаем, что кровь на Семеновском плацу не пролилась. Но тогда могли ли мы предполагать, что чтение приговора о смертной казни расстрелянием и приготовления к казни — все это лишь гнусная комедия, разыгрываемая по приказу царя? А потому все мы пережили ужасные минуты ожидания смерти наших близких.
Я хотел умереть вместе с моими друзьями, чтобы не носить потом всю жизнь клеймо подлеца и труса. Спины впереди стоявших загораживали мне путь, меня упорно отбрасывали назад, и я, вне себя от отчаяния, не видя, что происходит на плацу, каждую секунду ожидая грохота рокового залпа, закричал: „И я!.. И меня с ними!..“ Но крик мой заглушил хриплый стон военного рожка, затем стоявший впереди меня на сугробе мужик, сорвав с головы шапку, крикнул благим матом: „Помилование! Государь помиловал!“ Потом с плаца донеслась команда отбоя, и все стихло.
Царскую милость объявил генерал Ростовцев. Не было ли и это умышленным издевательством и желанием продлить муки неизвестности? Не потому ли назначили читать высочайшую конфирмацию Ростовцева, что он был заика?
Пока косноязычный генерал спотыкался на каждой букве, я кулаками пробил себе дорогу в первые ряды толпы. Теперь уже я видел все. Петрашевский слушал Ростовцева, упрямо глядя себе под ноги, и странная улыбка кривила его губы. Остальные, в особенности же Момбелли и Григорьев, только что отвязанные от столбов, были бледны как бумага и едва ли что-либо сознавали.
Но вот помилование прочитано. Странное помилование! На каторгу, в рудники, разжалование в рядовые дисциплинарных рот, в арестанты инженерного ведомства, в ссылку! На Петрашевского тотчас же надели костюм каторжника и кандалы. Осматривая себя в этом одеянии, он, как-то по-детски, растерянно улыбаясь, сказал тихо: „Как они умеют одевать! В таком костюме сам себе противен делаешься“. Но тихую его жалобу все-таки услышал генерал Греч. Подойдя к Петрашевскому, он плюнул ему, закованному в кандалы, в лицо и крикнул: „Экий ты, негодяй, сукин сын!“ Михаил Васильевич гордо вскинул львиную свою голову и, глядя Гречу прямо в глаза, ответил спокойно и медленно: „Сволочь! Хотел бы я видеть тебя на моем месте“.
Греч поспешно нырнул в толпу военных. А Петрашевского тотчас же бросили в сани, запряженные тройкой курьерских. По приказу царя его прямо с Семеновского плаца на фельдъегерских отправили в Сибирь, в свинцовые рудники. Как только сани тронулись, я сорвал с себя шубу, шапку и бросил их Михаилу Васильевичу. На нем ведь был только облезлый вонючий арестантский тулуп. А на дворе было градусов двадцать. Слышал я, будто бы полиция после долго шныряла в толпе, отыскивая человека, бросившего шубу и шапку Петрашевскому.
А Михаил Васильевич поднял на меня глаза и узнал меня. Он махнул прощально рукой и крикнул громко: „До свиданья — в парламенте!“ Тройка шагом выбралась из круга столпившихся людей, свернула на Московский тракт и скрылась из глаз.
Обряда гражданской казни над остальными двадцатью я не видел. Как в тумане, шатаясь словно пьяный, добрался я до извозчика и отправился домой. А через три дня ты выпроводил меня из Петербурга.
Ты наверное хочешь знать, думаю ли я вернуться в Россию. Нет, не думаю. Знаю я, что главного нашего ворога — Николая — нет уже в живых. Но и сын его не лучше, если не хуже. Говорили мне, что император Александр даже близких своих удивляет фельдфебельской сухостью, граничащей с жестокостью. Значит в отца пошел. Не вернусь я в Россию и потому еще, что мне там сейчас делать нечего. Другое дело, когда в стране вспыхнет революция. Тогда конечно и я и мой длинноствольный шаспо будем на баррикадах, ибо, как говорит гетевский Фауст:
Лишь тот достоин жизни и свободы, Кто каждый день за них идет на бой[15].Чувствуешь? Твой зверобой, твой „лесной бродяга“, не забыл еще стихи Гете!
Но довольно. Что-то очень уж длинно получается мое письмо. Не забывай меня, Михайла! Пиши подробнее о себе, о своей жизни, делах. Ну, до следующего письма. Целуй жену и детей.
Твой Филипп».
Окончив письмо, траппер медленно перечитал его, кое-где переправляя написанное. Затем, сложив аккуратно, всунул в синий плотный конверт, в каких посылают домой письма солдаты. За неимением сургуча залил конверт воском и припечатал железным перстнем, выдавив на теплом податливом воске бегущего оленя, пронзенного стрелой.
Потом закурил и подошел к окну, уже предрассветно посиневшему. Долго смотрел, он в ночь, в снега, и вдруг, словно что-то вспомнив, подбежал к лавке, схватил походную сумку и вытащил из нее дагерротипный[16] портрет. На светописном рисунке, бледном от времени, белело девичье лицо. Неясность выцветших очертаний не могла скрасть нежного овала лица, а большие, широко расставленные глаза глядели насмешливо и вызывающе. Над безмятежным лбом вихрился ураган непокорных волос. Руки девушки с длинными тонкими пальцами играли крошечным букетиком, приколотым к белой пелеринке смолянки[17].
Траппер подошел к столу, за которым только что писал письмо. Прислонив портрет к своей шапке, лежавшей на столе, так, чтобы он был все время перед глазами, начал писать:
«Как-то неожиданно пришло в голову решение снова написать вам, Аленушка, после трех лет молчания.
Откуда? Все оттуда же, из Аляски. Это мое письмо пойдет к вам на кругосветном корабле Российско-Американской компании, мимо Китая, Японии, Индии, вокруг всей Африки, мимо Испании, Франции, Пруссии, пока не попадет наконец в Балтийское море, берега которого покинул я давно, давно. Вообразите же, запах скольких экзотических стран, ветры скольких океанов и морей принесет вам вместе с моим письмом петербургский почтальон!
Ах, почтальон! Вот он стоит передо мной в форменном коротком сюртуке, в черной лакированной каске с гербом, с красивой полусаблей на перевязи и большой черной сумкой через плечо.
Эх, не надо было вспоминать этого проклятого почтальона! Вот уж и другие картины лезут в голову. Что, попрежнему на петербургских улицах у панелей стоят чугунные тумбы, выкрашенные в черную краску? Попрежнему ли перед большими праздниками красят их заново, причиняя тем немалый ущерб платьям столичных модниц? Попрежнему ли на Галерной улице фонари висят на высоких веревках, как китайские фонарики на елках? Эти глупые фонари и тумбы дороги мне потому, что воспоминание о них всегда связывается с воспоминаниями о вас.
Скажите еще, попрежнему ли на балконе дома Меняева, выходящего на Невский, сидит в халате, с длинной трубкой в руках, и пьет чай толстый, с грубыми чертами обрюзглого лица Фаддей Булгарин[18]? А „Отечественные Записки“[19] все еще на углу Бассейной и Литейной? А попрежнему ли… Но довольно. Чувствую, что надоел вам своими вопросами.
Впрочем, нет. Еще и только один вопрос. Существуют ли на бульваре, что направо от Дворцовой площади, масляничные балаганы, карусели и ледяные горы? И попрежнему ли привозят на эти гулянья в придворных четырехместных каретах с лакеями в красных ливреях смолянок? Я вот помню одно такое масляничное гулянье, помню молодые лица смолянок, выглядывающие из окон дворцовых рыдванов, комплименты, расточаемые мужской молодежью, и недовольные гримасы хмурых классных дам. Помню еще, как одна сероглазая смолянка уронила свой платочек, а пылкий, но неуклюжий студент бросился его поднимать, за что чуть не был раздавлен высокими колесами колымаги. Еще бы не помнить, когда сероглазая смолянка — это вы, Аленушка, а студент-медвежонок — я! Тогда, с этого гулянья унес я в сердце ваш звонкий смех и благодарную улыбку. Таково было наше первое с вами знакомство.
Теперь, если хотите, скажу несколько слов о себе. Сижу сейчас в фактории Дьи, что на берегу речки того же названия. Речка Дьи не больше нашей Лиговки, но бурливая и злая. В Петербурге сейчас наверное гнилые туманы, а у нас уже настоящая зима, необычайно яркая от ослепительных льдов и снежных просторов. Мы уже ездим на нартах. Что это такое? А вы вообразите наши петербургские извозчичьи сани на одного человека, за что их и прозвали „эгоистками“. Так вот нарты на них похожи, лишь вместо лошадей запрягают собак, и кучеров здесь обычно кличут не Ванькой, а как-нибудь вроде Громовой Стрелы.
Кто теперь я? — Зверобой. Не правда ли, звучит зверски? Но если бы вы могли меня видеть! Я с головы до ног закутан в звериные шкуры, так что видна только одна моя борода по колена, как у царя Берендея.
Чем занимаемся мы, зверобои? — Охотимся на зверей, пушнину которых продаем скупщикам Компании. В поисках зверя мы уходим далеко от крайних постов, занятых русскими, через земли диких народов и среди явных врагов и сомнительных друзей прокладываем свою путину в первобытных лесах, в лабиринте озер, рек и волоков.
И представьте себе, я очень доволен такой жизнью. Она научила меня многим прекрасным вещам, о которых я прежде не имел даже представления. Я научился например сам шить штаны из оленьих шкур, спать на камнях и снегу крепче, чем на перине, питаться целые месяцы одной солониной, а когда нет ее, то обедать… в воображении. Научился я также, когда мне делается холодно, раздеваться и садиться на несколько минут в ледяную воду. Прекрасное согревающее средство! Я научился еще управлять бешеной упряжкой из двенадцати собак, попадать росомахе в глаз из едва вскинутого к плечу ружья, поднимать десятипудовые тяжести, не спать по три ночи и разбираться в генеалогических тотемах индейских племен не хуже, чем чиновник департамента геральдики разбирается в гербах российских дворян.
Да, многому, очень многому научился я за эти семнадцать лет. Лишь одно не дается мне — забыть вас!..
В первые годы моего пребывания здесь тоска по вас была подобна режущей боли свеже нанесенной раны. Терпкая горечь вынужденной разлуки умерялась надеждой на новую встречу. В те годы вы всюду были со мной. Помню, раз мы, трое зверобоев, сидели в засаде на карибу — северных оленей. И вот, когда мимо меня пробежал вожак-самец, когда надо было спускать курок, я вдруг ощутил на губах ваш поцелуй. Ощущение было настолько ярким, что я чуть не вскрикнул. Но тут же схватился за рот и резким движением сорвал несколько сосулек с обледеневших усов. Боль отрезвила меня. И пуля моя догнала-таки убегавшего оленя.
В последующие годы тоска моя превратилась в тупую нудную боль застаревшей раны. И вдруг ваше письмо с извещением о выходе вашем замуж! Что я испытал при этом известии, невозможно описать. Мне кажется, что такую же боль испытывают лишь белые медведи, которых мы иногда убиваем следующим варварским способом: в кусок топленого сала вмораживается спираль китового уса и подбрасывается где-нибудь на месте обычного выхода медведей из воды. Натурально, медведь глотает вкусную приманку. И вот, когда в желудке его сало растает, китовый ус начинает распрямляться. Он рвет внутренности зверя — сначала одну кишку, другую, третью…
А потом пришел покой, нехороший покой трупа. С таким холодом в душе жил я все последние годы. Просто не заглядывал в свое сердце, чтобы не ворошить прошлого, чтобы похоронить его, забыть навсегда. И казалось мне, что я уже достиг этого. А вот сегодня, после трех лет молчания, снова пишу вам. Неужели же все эти семнадцать лет я так и не переставал любить вас, только вас одну?..»
Траппер устало отложил в сторону перо и, подперев голову руками, закрыл глаза. Казалось, он задремал над неоконченным письмом.
Медленно перетряхивал он прожитые дни, дни, пахнущие кровью, порохом и дымом бивачных костров. Видел ли он женщин за эти годы? Ведь он никогда не оставался в фактории, на стане, в редуте долее, чем это было необходимо для обмена мехов на съестные и огнестрельные припасы. Внезапно перед его глазами встала Айвика. Какой ликующей радостью наполнилось его сердце, когда там, на древней индейской тропе, у костра узнал он, что Айвика любит его. Ему показалось тогда, что и он сам готов зажечься ответным чувством. Но стоило взять в руки вот эту медную пластинку, увидеть эти дерзкие горячие глаза, и как дым костра рассеялось обманчивое чувство к краснокожей девушке…
— Пора ехать. Буря утихла, — легла на плечо траппера чья-то рука.
Вздрогнул и открыл глаза. В комнате плавал уже предрассветный полумрак, бледножелтый от света ненужной лампы. Стекла окон нежно голубели, отчего особенно четко выделялась на них серебряная чеканка морозных узоров. Заставный капитан, запеленутый в меха, с короткоствольным штуцером за плечами стоял около стола.
— Одевайтесь, — сказал он. — А я пойду на берег, послежу за погрузкой.
* * *
После ночного бурана утро, тихое, хрустально голубое, опрокинулось над факторией, над морем и над далекими хребтами. С берега неслись возбужденные и особенно четкие, как всегда на заре, голоса. Там, около древней часовни индейцы при свете факелов спешно грузили последние тюки шкурок в эскимосский «умиак», широкую многовесельную лодку из моржовых шкур.
А когда «умиак» отошел от берега и словно огромный стоногий паук заскользил по спящему океану, снег на вершинах угрюмого Чилькута загорелся бледнорозовым огнем, возвещающим появление солнца. И наконец первый солнечный луч багровой стрелой промчался над окровавившейся гладью Великого океана.
ЧАСТЬ II ЛОЖНЫЙ СЛЕД
Буйный ветер! Сине море! К мачте став плечо с плечом, Не один десяток трусов Отражали мы вдвоем… Джордж Стерлинг.I. В столице Аляски.
Днем, после крепкого сна в жарко натопленной комнате траппер Погорелко бродил по Новоархангельску. Путанная дорожка вывела его к порту.
Он смотрел на рейд, залитый мертвым светом бледного полярного солнца. На рейде было тесно от судов. Отдельно держались военные корабли, русские и американские. Нестерпимо блестел на солнце белый корпус парового фрегата «Манхаттан», на котором прибыл в Новоархангельск первый американский губернатор генерал Галлер. Пузатый, с крутыми щеками у носа, с коротким, массивным, приспособленным к борьбе с самыми грозными бурями такелажем, «Манхаттан» выглядел самоуверенным строгим хозяином.
Обиженно отодвинулись в глубь рейда стройные, с высокими мачтами суда, женственно изящным своим видом резко отличавшиеся от громоздких военных корыт. Это были русские промышленные шхуны, построенные по образцу судов беломорских поморов, ходившие до Магелланова пролива и вызывавшие восхищение во всех американских портах. Ближе к городу стояли компанейские суда, пакетботы и транспорты Российско-Американской компании. Их окружали лодки и шаланды, нагруженные домашним скарбом, военной аммуницией, солдатами, купцами, бабами, детьми. То были первые листья, несущиеся перед ураганом, — первые русские, покидающие проданную «асейкам»[20] Аляску.
Погорелко перевел взгляд с компанейских судов на трехмачтовую китобойную шхуну, стоявшую в гордом одиночестве. На корме ее красовалась надпись: «„Белый Медведь“. Сан-Франциско».
Трапперу вспомнились все жуткие слухи, ходившие о «Белом Медведе», о его шкипере и команде. Браконьерство, контрабанда, откровенный разбой…
— И на кой чорт я связался с этим пиратом! — пробормотал он и покачал сожалеюще головой.
А он связался с этим кочевником моря крепко… Вчера он заключил со шкипером «Белого Медведя» и даже закрепил задатком сделку, показавшуюся ему крайне выгодной. Он купил у шкипера триста шестилинейных винтовок системы Карле, выброшенных из русской армии еще в начале 60-х годов, а потому крайне дешевых. Правда, винтовки эти заряжались с дула «на восемь темпов», бой их не превышал тысячи шагов, но они стоили дешевле пареной репы. А главное, что прельстило траппера, это «франко — мыс св. Ильи» и согласие шкипера взять в уплату за ружья золото в самородках и песке.
«Пылкий, но неуклюжий студент бросился поднимать платок…»
Сделка показалась трапперу такой удачной, он так боялся упустить ее, что пошел даже на маленький вынужденный обман. Сняв для себя и для индейцев две комнаты в трактире «Москва», он не решился держать при себе в этом подозрительном притоне золото тэнанкучинов. И в одну из ночей с помощью Громовой Стрелы он зарыл его за городом, в сосновом бору горы Сан-Хасинто. А потому, не имея под рукой образцов золота, Погорелко разломал свою золотую цепочку, подаренную ему приятелем-траппером, бывшим калифорнийским «диггером»[21]. Цепочка эта состояла из пятнадцати маленьких самородков, скрепленных вместе. Несколько из этих самородков, между прочим и самый крупный из них, величиной с грецкий орех, траппер и отдал моряку как образцы золота, которым он будет расплачиваться за ружья.
Казалось бы все устроилось как нельзя лучше. Но сегодня же утром Погорелко вспомнил о темной репутации шкипера «Белого Медведя», перетрусил порядком и послал пропадающему где-то заставному капитану записку, вызывая его на военный совет. И вот в ожидании встречи с Сукачевым траппер мучился поздним раскаянием.
Он вспомнил и компаньона шкипера, француза-канадца, маркиза Шапрон-де-Монтебелло. Траппер хорошо знал и этого титулованного авантюриста, знал, что за пушистыми лисьими повадками канадского аристократа скрывается волчий оскал зубов. И все же согласился на эту злосчастную сделку…
Поднявшись на песчаный взлобок, Погорелко увидел как на ладони расположенный амфитеатром город. Все следы, даже от самых дальних окраин Аляски, сходились здесь, как спицы в центре колеса. Это была столица страны, город Новоархангельск, или Ситха, названный так по имени племени аляскинских индейцев, ибо русское название слишком трудно для произношения и среди туземцев не привилось. Столица, коммерческий порт и крепость были перенесены сюда из Кадьяка в 1804 году. Главной к тому причиной был незамерзающий Новоархангельский порт, даже в лютые зимы покрывающийся лишь легким слоем ледяного сала.
Именно сюда, на остров Ситха (теперь же Баранова) 125 лет тому назад пришло первое русское судно, бот «Св. Павел», отбившийся от Великой северной экспедиции Беринга. Это было первое путешествие русских к американскому материку. Туземцы встретили русских враждебно. «Св. Павел» потерял здесь таинственным образом две своих лодки с 15 матросами, а потому командир его, Чириков, поспешил уйти, увозя в Россию… бочку американской воды. Но эта бочка положила начало русской колонизации Америки. Спустя всего сорок лет из ситхинской бухты вышли русские корабли, увозившие в своих трюмах уже не только американскую воду, но и американские меха — соболей, бобров, котиков, а также моржовые бивни и китовый ус…
Траппер остановился на вершине холма и глядел пытливо на город. Две сотни крыш Новоархангельска можно было окинуть одним взглядом. Двести убогих хижин, сколоченных из грубых неотесанных бревен, церковь, похожая на большую избу, да на берегу длинные деревянные пакгаузы с классической красной крышей — вот и весь город, столица Аляски. С запада к городу придвинулась похожая на сторожевую башню гора Эджекомб или Сан-Хасинто, как ее назвали первые испанские мореплаватели.
Погорелко спустился на единственную Петропавловскую улицу города, прямую как выстрел и тянувшуюся на расстояние выстрела из плохонького ружья, а затем терявшуюся в сосновых борах Сан-Хасинто. Дома, лишенные физиономии, ослепленные оконными щитами от ветра и взгромоздившиеся на сваи, наводили уныние. Почти в каждом дворе высились безобразные балаганы — рыбные сушильни. Немногочисленные лавки были вечно закрыты, потому что здесь существовал крайне оригинальный порядок торговли: покупатель сам отыскивал купца на дому, тот шел, открывал лавку, отпускал товар, а затем снова отправлялся домой пить чай до нового покупателя.
Мостовых в Новоархангельске не было. Улицы заплыли жирной грязью. Даже дома до окон были залеплены ею.
У крыльца ордонанс-гауза[22] траппер увидел грубую безрессорную кибитку, запряженную парой дохлых кляч. Погорелко остановился и с откровенным любопытством начал разглядывать лошадей, до ушей заляпанных грязью. Он не видел их самое меньшее лет десять, ибо Аляска — страна собак. Даже столичный ее город был в полной власти псов. Зимой они работают, а на лето хозяева безжалостно выбрасывают их на улицу, где собаки сами должны отыскивать себе ночлег и пропитание до следующей зимы. Безработные псы громадными стаями бродили по городу, нападая на телят, свиней, детей, а нередко и на одиноких прохожих. Это они выли ночи напролет, и они же рыли посреди городских улиц ямы для ночлега, что делало ходьбу даже по главной улице затруднительной, а в темноте и опасной. Траппер заметил десятки таких собачьих нор даже на плацу, против дворца генерал-губернатора.
Близ городской тюрьмы арестанты в куртках, наполовину серых, наполовину черных, с желтым тузом на спине и с кандалами на ногах, чистили улицы. Это делалось ради завтрашнего торжества. Обычно же очистка новоархангельских улиц поручалась лишь заботам свиней и певчих воронов. Эта священная птица индейцев часто меняла свои «санитарные» обязанности на разбойничьи, нападая на новоархангельских кур и свиней, у которых вороны отгрызали себе иногда на закуску хвост.
Один из арестантов сдернул с головы бескозырку и, гремя кандалами, побежал за траппером, прося милостыню. Наполовину обритая голова придавала ему зловещий вид.
На арестантов из полосатой будки поглядывал будочник, одетый в серый мундир и вооруженный алебардой на длинном красном шесте. На голове будочника нелепо торчал кивер прусского образца, напоминавший ведро с широким дном. Старинное это обмундирование и вооружение было за ненадобностью выслано из России и дослуживало свой век в американской колонии.
Траппер бросил в бескозырку арестанта мелочь и, словно спасаясь от кошмара, перебежал улицу. Измаравшись по колена в грязи, он со вздохом облегчения поднялся на высокое крыльцо трактира «Москва».
II. Шкипер Пинк и Кº.
«Москву», забравшуюся на пятьдесят седьмой градус с тремя минутами северной широты, трактиром называли только русские. Иностранные же моряки называли «Москву» салуном и баром, а владелец ее, поп-расстрига, гордо именовал свое заведение ресторацией и шамбр-гарни.
Миновав двойные — в предохранение от жесткого «шинукского» ветра — двери, траппер сразу же очутился в большом общем зале, натопленном так жарко, что Погорелко задохся со свежего воздуха. На стенах зала как в музее были развешаны медвежьи, лисьи, тюленьи, волчьи шкуры и рога карибу. Это отнюдь не рекомендовало эстетические наклонности хозяина и его желание придать уют своей берлоге. Нет, владелец «Москвы», бывший иерей отец Петр Зубов, а теперь известный по всей Аляске под именем Петьки Зубка, сохранял таким образом пропитые у него заклады трапперов. Охотник, уплативший долг, сам снимал со стены свою вещь, как сам он и вешал ее, закладывая за пару стаканов водки.
От табачного дыма, испарений, дыхания людей в зале было мрачно, хотя три больших лампы висели под потолком. Круглые сосновые столы, как мухи блюдечки с патокой, облепили люди. И люди эти галдели, мычали, пели, ели, чокались, пили чай, водку, ром, спирт.
Погорелко с трудом отыскал себе столик, залитый только что ушедшими посетителями, и опустился на перепиленную пополам бочку, заменявшую в «Москве» стулья. Траппер долго звал прислугу. Наконец появилась толстая девица, молча выслушала заказ, и даже не вытерев залитого стола, также молча ушла на кухню. В ожидании заказанных пельменей Погорелко начал разглядывать публику.
По углам робко жались новоархангельские обыватели, смелее чувствовали себя распаренные чаем, похожие на купцов мелкой руки, скупщики мехов, и совсем уже развязно держалась «кубриковая аристократия» — писаря, фельдшера, баталеры и подшкипера с русских военных кораблей. Были здесь и мелкие колониальные чинуши, трапперы, американские солдаты в широкополых шляпах с ремнем через подбородок и американские же военные моряки в голубых беретах. Сегодня они еще были здесь гостями, а завтра будут уже хозяевами. Лишь русских солдат и матросов не было видно в зале «Москвы». Во избежание возможных, но нежелательных драк и скандалов по приказу губернатора русские и американские воины сегодня пьянствовали в разных кабаках.
Скользя взглядом по залу, Погорелко к неудовольствию своему увидел вдруг лакированную шляпу и синюю куртку шкипера «Белого Медведя» и красный бархатный жилет маркиза Шапрон-де-Монтебелло. Шкипер рассеянно листовал каталог сигар и потягивал джин, стоявший перед ним в четырехугольной бутылке.
Борода его… Впрочем нет, это неправильный метод описания внешности шкипера. Точнее будет сказать, что шкипер «Белого Медведя» был огромной бородой с привязанным к ней маленьким человечком. Из-под смолевых струй этой гигантской бороды виднелись лишь «роббер-бутсы» — высокие резиновые сапоги — да голый, красный как вареная солонина затылок шкипера, обрамленный полоской кудрявых, коротко подстриженных волос. У него был слегка курносый нос, узкий, низкий, не суливший добра лоб и уши дегенерата, похожие на крылья нетопыря. В заключение надо добавить, что шкипер несмотря на свой карликовый рост вязал узлом ружейные стволы, что ему не находилось достойных собутыльников кроме выдрессированного медведя, которого он держал у себя в каюте, и наконец, что фамилия его была коротка и стремительна как выстрел или удар ножа — Пинк.
Напротив Пинка, за одним с ним столом сидел канадский маркиз, красивый изящный брюнет с хитрыми блудливыми глазами. Де-Монтебелло был компаньоном, правой рукой, а вернее даже головой шкипера. Канадец обдумывал, разрабатывал план, а Пинк выполнял. Друг без друга они были бы что туз без короля в карточной игре. По частям их можно было побить, вместе же они сами били всех, оставаясь непобедимыми.
В маркизе де-Монтебелло чувствовался старинный, отстоявшийся аристократизм, родившийся лет двести тому назад в древних городах Канады — Квебеке, Монреале, форте Фронтенак. Одет де-Монтебелло был с неожиданной и пожалуй смелой для этого кабака роскошью и изысканностью. На нем был сюртук с широким воротником, перетянутой талией и длинными узкими рукавами, наползавшими на кисти рук. Узкие клетчатые панталоны со штрипками обтягивали его красивые ноги. Лакированные башмаки поблескивали из-под серых гетр. Ослепительную белизну сорочки и красный бархатный жилет пересекала черная широкая лента монокля, а на борту сюртука трепыхался какой-то экзотический орден.
Погорелко во время своих странствий по Аляске и территории Дальнего Севера не раз встречал маркиза во всех фортах, станах и зимовьях от устьев Юкона до истоков Поркюпайна, от мыса Барроу до Новоархангельска. Траппер готов был восхищаться его энергией, если бы не та грязь, которая вечно окружала маркиза. Хищническая торговля с аляскинскими туземцами дала ему громадную практику обманов, а высокая культура, унаследованная от предков, придавала его мошенничествам поистине филигранную отделку.
За одним столом с маркизом и шкипером сидел и третий — Ванька Живолуп, метис, или «русский креол», как называли их в Аляске. В Живолупе не было ни капли индейской крови; он был сыном потомственного сибирского конокрада и алеутской принцессы, дочери властителя какого-то островка из группы Крысиных. Но родился Живолуп в русской православной миссии Нукато, а рос в сиротском доме миссионерского стана Иногмут. В Иногмуте Ванька прожил до девятнадцати лет под строгим надзором отцов миссионеров, сажавших его на гауптвахту за непосещение церкви. На двадцатом году своей жизни Ванька Живолуп, ограбив предварительно слишком строгих отцов-воспитателей, бежал из тесной миссии на простор Аляски.
Живолуп переменил за это время немало профессий. Он считался между прочим лучшим аляскинским следопытом и неутомимым проводником. Но сейчас он занимал должность главного гарпунера на «Белом Медведе» и состоял при шкипере чем-то вроде телохранителя и личного адъютанта. На обязанности сына алеутской принцессы лежали — охрана особы Пинка и выполнение мелких и наиболее темных поручений, которые шкипер определял одной короткой фразой: «Убрать такого-то, чтобы не болтал зря», или: «Пришить этого, чтобы не пикнул».
Никто не сказал бы, что это неразрывная троица…
Русские завели в Аляске много своего и между прочим рыжие волосы и красные носы. А потому с уверенностью можно было сказать, что огненно рыжая шевелюра и красный нос достались Живолупу от папаши. Плоское же, малоподвижное, почти деревянное лицо, мясистые губы и узкие, оттянутые к вискам глаза были определенно мамашиными. И лишь острый хищный блеск в глазах Живолупа, подобный блеску волчьих зрачков, уставленных на огонь, был благоприобретенный.
Перед Живолупом стояла миска с пельменями. Ванька жадно ел, беря пельмени прямо руками и лишь изредка вытирая ладони о красную шелковую косоворотку, выпущенную из-под кожаного жилета. В морские сапоги были заправлены штаны, дорогие, плисовые, но из хвастовства запачканные дегтем.
И глядя на них, таких непохожих друг на друга, — угрюмого Пинка, глотавшего джин как воду, изящного маркиза и Жинолупа, евшего с животной жадностью и неряшливостью, никто бы не сказал, что эта неразрывная троица — Брама, Вишну и Шива преступного мира.
III. Разговор с золотым привкусом.
Траппер быстро поднялся из-за стола. Он решил уйти незамеченным. До разговора с Македоном Иванычем он не хотел встречаться с этой компанией, дабы не наделать еще больших глупостей. Но его заметил де-Мснтебелло. Бровь маркиза, приподнятая моноклем, от удивления и радости полезла на лоб. Он махнул рукой и крикнул, покрывая многоголосый шум:
— А, вас-то нам и нужно, сударь! Присаживайтесь к нашему столу!
Маркиз безукоризненно говорил по-русски и по-английски. Лишь в произношении его слышался бархатистый мягкий акцент Новой Франции.
Пришлось подойти к их столу.
Пинк, протягивая трапперу руку, пробормотал:
— Добрый день. Садитесь с нами, мистер Блекфит. — И тотчас пододвинул к трапперу бутылку джина.
Шкипер «Белого Медведя» тоже свободно говорил по-русски. Но весь дальнейший разговор велся то на русском, то на английском языках попеременно.
Живолуп, уже кончивший жевать пельмени и перешедший на табак, ловко сплюнул через стол коричневую слюну и молча кивнул трапперу головой.
— Послушай, грязное животное, — обратился к нему с холодным презрением де-Монтебелло, — когда же ты отучишься выплевывать через стол табачную жвачку? Неужели в миссионерской школе не учили тебя хорошим манерам?
— Отвяжись, суволочь! — ответил Живолуп, даже не взглянув на него.
Такой обмен любезностями между сыном конокрада и маркизом не удивил Погорелко. Он уже знал, что это ягодки одного поля.
Живолуп pacтер на ладони новую порцию табаку, скатал шарик и, сунув его за щеку, обратился к трапперу:
— Чего смурый, ваша честь? Небойсь, все обусловится.
— И правда, чего это вы напрасно волнуетесь? — спросил маркиз. — Дело будет сделано чисто. А главное — дерзость, дерзость и дерзость, как говорил якобинец Mapат.
— Я и не волнуюсь. Откуда вы это взяли? — ответил спокойно Погорелко и, обращаясь к Пинку, спросил:
— Когда тронемся, кэп?
Шкипер попытался изобразить улыбку на своем лице свирепого кобольда[23]. Но улыбка запуталась беспомощно в бороде, так и не добравшись до губ шкипера.
— Зачем спешить, молодой человек? Когда тронемся? Ровно в свое время, ни минутой позже или раньше.
— Энтони предпочитает иметь дело с отечественными законами, — сказал фамильярно, называя шкипера только по имени, маркиз. — А потому он подождет спуска русского флага над территорией Аляски.
— Не имел ни времени ни охоты знакомиться с дичью, именуемой законами Российской империи, — пробурчал Пинк. — Плюю вообще на все законы! Главное, что винтовки пойдут не на мыс Корриентес[24], куда они предназначались раньше, а на мыс святого Ильи. Когда? Когда будет можно. Я сделаю свое дело хорошо, так как и вы, мистер Блекфит, тоже платите нам хорошим золотом.
— О, золото прекрасное! — подхватил поспешно де-Монтебелло.
— Любит кошка сало! — прищурился насмешливо Живолуп.
— А кто его не любит? — рассмеялся маркиз. — Что касается меня, то я мучился из-за него с самого нежного возраста. Я рыл в поисках его песок под палящим солнцем Мексики. Я оттаивал мерзлую землю вашей Сибири, но вместо золота приобрел там цынгу. А золотая горячка сорок девятого года, когда Джемс Маршалль, роя желоб для шлюза своей лесопильни, открыл золото в Калифорнии! Смею вас уверить, что через Гольден-Гэт[25] уплыло немало и моего золота. А вы, дорогой мой, — обратился маркиз к трапперу, — не были случайно в Калифорнии в сорок девятом году?
— Нет, — ответил нехотя Погорелко. — Я в тот год был занят другим. — И в воображении его смутными видениями прошли туманное морозное утро 22 декабря, Семеновский плац, уродливая громада эшафота и саваны, белые саваны с капюшонами…
— А я старый диггер, по скрипу ворота скажу вам, какова глубина шурфа, — вмешался шкипер Пинк. — Золотая горячка в Патагонии захлестнула и меня. Я пробыл там два года.
— И много привезли? — спросил траппер.
— Золота не привез. Серебро, да, — показал он на свою седую голову.
— Видите, дорогой мой, — обратился маркиз к Погорелко, — один из нас вместо золота привез цынгу, другой преждевременную седину. И все же мы не можем отделаться от золотых чар. Поймите, что людей, видавших столько золота, сколько видели мы с Энтони, воспоминание о нем будет преследовать всю жизнь, до могилы.
— Говори только за себя, Луи! — усмехнулся Пинк. — Я другой человек. Я кроме молитвы Колумба: «Воззри на меня, всемогущий боже, и помоги мне найти золотую руду», знаю и много других молитв. Чаще всего золото лежит не там, где мы его ищем… Во всяком случае не в земле… — многозначительно подчеркнул последнюю фразу шкипер. — А ты, Луи просто сорвался с курка, потому что подцепил золотую лихорадку, вот и все.
— Пусть будет так, — ударил слегка ладонью по столу маркиз. — Пусть я болен золотой лихорадкой. А потому я буду теперь искать золото здесь, за Полярным кругом.
— Руль на борт, Луи! — сказал насмешливо шкипер. — Едва ли ты столкуешься, на этот счет с моими компатриотами — Американцами. Они сами умеют кушать пироги. Запомни это, мой красавец!
— Поживем — увидим, — ответил, загадочно улыбаясь, маркиз. — А ты, Энтони, тоже запомни, что мы, люди с кровью Новой Франции в жилах, имеем больше прав на эту землю, чем вы, чванливое племя манхаттанцев[26]. Мой герб например — это герб старой Канады — сёрый медведь, дерущийся с волками. Мои предки были в числе первых поселенцев Квебека. Они дошли и до Скалистых гор, по пути проповедуя, ведя меновую торговлю, крестя и…
— Плутуя, — докончил за маркиза шкипер.
— Может быть и плутуя. Но знамя королевской Франции, белое с золотыми лилиями, было первое знамя, которое увидели краснокожие. И если Дальний Север не принадлежит теперь французам, то уж конечно не по вине железных предков теперешних франко-канадцев. А потому я пощупаю дно Аляски во что бы то ни стало.
«Эту работу ты возложишь на других, — подумал траппер, — а сам будешь поджидать возвращения золотоискателей в узких горных проходах или здесь, в вертепах Новоархангельска».
Погорелко начал беспокоиться, хотя и не показывал этого. Разговор ему перестал нравиться. Слишком много в нем было золотого привкуса.
Траппер так погрузился в свои невеселые мысли, что не слышал вопросов, обращенных к нему маркизом. А когда он вернулся к действительности, то увидел на столе руку де-Монтебелло, а на ладони этой женственно тонкой руки лежал золотой самородок, — его самородок величиной с грецкий орех, отданный Пинку в виде задатка.
— Вы кажется что-то спрашивали у меня, маркиз? — вздрогнув, сказал Погорелко.
— Да. Я спрашиваю, откуда вы привезли это золото? С какого конца Аляски?
Траппер тяжело перевел дыхание и взглянул в упор на маркиза. Только сейчас заметил он, что глаза канадца необычно ярко блестели.
Все ждали, насторожившись, его ответа. Живолуп перестал жевать табак и искоса выжидательно смотрел на траппера. Шкипер Пинк играл рассеянно ручкой лефоше, большого морского револьвера, но глаза его жадно поблескивали под припухшими веками пьяницы.
Траппер встал, тяжело громыхнув отодвинутой бочкой.
— Это вас не касается, — сказал он спокойно.
Маркиз хотел что-то сказать, но увидел в этот момент хозяина «Москвы» Петьку Зубка, проталкивающегося к их столу. Зубок издали еще махал рукой трапперу, крича:
— Господин Погорелко, вас в вашей комнате некий старец ожидает. Глаголет — по неотложному делу видеть вас надобно.
Это мог быть только заставный капитан.
— Я ухожу, — обращаясь ко всем, но ни к кому в отдельности, — сказал Погорелко. — И, надеюсь, разговор наш окончен.
— Нет! — ответил за всех де-Монтебелло. — Отнюдь нет. Мы будем ждать вас.
IV. Разговор по душам.
Темная грязная лестница окончилась неожиданно просторным и светлым жильем. В первой из двух занимаемых траппером комнат его ждал заставный капитан.
Македон Иваныч сидел у стола и играл рассеянно божками, забытыми Айвикой, старыми индейскими божками, плоскоголовыми, со скрытными невыразительными лицами. Индейцев не было дома. Они не могли еще досыта налюбоваться Новоархангельском — «великим стойбищем руситинов». В бледно голубом выцветшем единственном глазу капитана вспыхивали недобрые огоньки.
— Выкладывайте! — не здороваясь даже, коротко приказал он. — Я хочу знать, как далеко зашли вы в своих глупостях.
Погорелко рассказал, волнуясь и робея под насмешливым взглядом Македона Иваныча.
— Вы, сопливый щенок! — сорвался вдруг с места и забегал по комнате капитан. — У вас нет нюха! Никто не должен был слышать даже шопота о наших намерениях. А вы что сделали? Что вы сделали, я вас спрашиваю? Кому вы доверились? Неужели вы не понимаете, что вас окружает страшнейшая сволочь? Ну и компанийка! Пинк — старая морская акула, пират береговой! Канадец — кошка с бархатными лапками! И наконец Живолуп — тюремная затычка! Прямо цветник! Ароматный букетец-с! Эх вы, рохля!
Траппер, стоявший с опущенной головой, вдруг обиделся.
— А что я в конце концов наделал ужасного? Не выдадут же они меня властям как военного контрабандиста, доставляющего оружие индейцам? Ведь тогда и им тоже придется отвечать за соучастие.
— Можете быть спокойным, что они выдадут вас не прежде, чем обсосут сами вашу милость до костей. Спрашивали они у вас, где хранятся ваши деньги, предназначенные для покупки оружия?
«Рано или поздно, а придется рассказать Сукачеву обо всем, — подумал Погорелко. — Так уж лучше сейчас рассказать. А иначе, не зная всех подробностей дела, сможет ли он мне помочь?»
— Македон Иваныч, — сказал траппер, кладя руку на плечо капитана. — Садитесь и выслушайте меня внимательно.
Сукачев, удивленный, опустился на табурет. А Погорелко, глядя виновато в пол, рассказал капитану обо всем: и о скелете в трапперском зимовье близ «большого Ильи», и о пещере Злой Земли, набитой золотом, и о несчастных тэнанкучинах, стерегущих это золото так же тщательно, как стерегли бы они собственную смерть, и о «Ключе к отысканию Доброй Жилы». Рассказал траппер и о том, что де-Монтебелло уже интересовался, откуда он привез золото. А когда Погорелко кончил свой рассказ, ответом ему было молчание.
Траппер украдкой исподлобья взглянул на Македона Иваныча. Капитан казалось спал с открытым глазом, поставив на стол локти и обхватив ладонями голову.
— Македон Иваныч, — несмело окликнул его Погорелко. — Что же вы молчите?
— Скажите-ка, Филипп Федорович, милейший мой, — тихо с горечью заговорил капитан. — Почему это вы, образованные люди, предпочитаете объезды, проселки да закоулки? Почему вы по прямой дороге ехать не хотите? Для чего вы скрыли все это от меня? Иль не верите мне? Так что ж, в друзья вам не набивался и не буду. Идите вы своей дорогой, а я своей пойду.
— Македон Иваныч, если можете… простите меня, — с робкой мольбой, опуская голову, сказал Погорелко. — Не потому прощения прошу, что помощи от вас жду. Нет! Я с этим делом и сам как-нибудь обернусь. Простите меня просто так, по-человечески. Ну… не знаю, как вам это сказать, — махнул с отчаяния рукой траппер и закрыл ладонями горевшее от стыда лицо.
Жилистая рука капитана тяжело опустилась на его плечо.
— Ладно уж, оглобля с суком! Два раза прощают, на третий только бьют. Эх, кавказского в вас духу нет! Да ладно, ладно же. Не сержусь я, чего там!
Траппер поднял голову. В единственном глазу Сукачева бегал насмешливый бесенок. А сам капитан улыбался светло и добродушно.
— Спасибо вам, Македон Иваныч! — сказал с радостным волнением траппер.
— Ну, хватит носом пузыри пускать! О деле давайте говорить. Заварили же вы кашу, оглобля с суком! Золото сегодня же ночью надо с Сан-Хасинто ко мне на квартиру перенести. Так-то спокойнее будет. Ставлю бобра против зайца, что они теперь под ваше золото подбираться будут. Вот увидите.
— Мне кажется, — сказал Погорелко, — что их особенно интересует источник этого золота. Не даром же канадец собирается прощупать дно Аляски. Он видимо уже подозревает, что золото местное.
— Это-то само собой. Но я им зубы в глотку вобью, а до этого золота не допущу! Ну, а теперь пойдемте-ка потолкуем с ними по душам, — потащил Македон Иваныч траппера к дверям.
* * *
Попрежнему все трое сидели за столом. Перед Живолупом стоял теперь штоф водки, он потягивал ее и быстро пьянел. Появление Сукачева было встречено холодным враждебным молчанием. Они хорошо знали заставного капитана, как хорошо знал и он их. И Пинку с компанией отнюдь не нравилось, что в игру их вмешивается «мистер Мак-Эдон», аляскинский патриарх.
Самородок в виде грецкого ореха лежал теперь на столе. И указывая на этот кусочек блестящего металла, маркиз обратился к трапперу без всяких предисловий:
— Продолжаем наш разговор. Доверие ваше, которое мы имеем нахальство считать заслуженным, дает нам смелость говорить с вами откровенно. Вы нашли здесь, в Аляске, золото, в этом мы уверены. Не пытайтесь отрицать. И мы хотели бы знать, где именно нашли вы его. Выражаясь тривиально — хотите ли вы делиться с нами?
— Если я вас правильно понял, — сказал, возбужденно улыбаясь, Погорелко, — вы предлагаете мне войти в компанию с вами. Так? Вас трое и я четвертый, да?
— Вы не четвертый, вы первый, — галантно поклонился маркиз. — Вы будете президировать в нашем маленьком содружестве. Во всем остальном вы поняли меня правильно. Итак — согласны?
— Конечно, нет! — улыбаясь насмешливо, ибо присутствие заставного капитана давало ему небывалую уверенность и спокойствие, сказал Погорелко. — Конечно нет, милостивые государи! Я, как вы знаете, траппер Российско-Американской компании, интересуюсь только мехами, а в золоте ни черта не смыслю. И почему это вы решили, что я набрел на золотую жилу, не знаю.
— Не виляйте хвостом, дорогой мой! — с вежливой, но злой улыбкой бросил де-Монтебелло.
— Вы мне не верите? Жаль, — продолжал траппер. — А так как дело наше, — вы понимаете конечно, о чем я говорю, — может держаться только на взаимном доверии, то я к сожалению вынужден от него отказаться. Э, к чорту экивоки! Ваши ружья мне не нужны! Задаток мой лопайте, желаю вам подавиться им! Ну, вот и все. Понятно?
Шкипер, качавшийся в это время на табурете, медленно опустил на пол передние его ножки и внимательно исподлобья взглянул на Погорелко.
— Твой паппи видимо ударил тебя в детстве головой об стенку, — грубо сказал он трапперу, — А ты знаешь, что знакомство с синим мундиром дяди Сама оплачивается очень дорогой ценой?
— Не грозите, шкипер! — отмахнулся небрежно Погорелко. — Мы, все одной веревкой связаны. Потону я, потяну и вас с собой.
— Напрасно вы так думаете, мой дорогой друг, — попрежнему с изысканной вежливостью обратился к трапперу канадец. — Иногда за всех отвечает один.
— Все понятно, почтенный! — заговорил впервые заставный капитан. — Знаем мы хорошо, что ты был вхож к русскому губернатору князю Максутову, слышали мы, что ты уже успел забежать и к американскому губернатору генералу Галлеру. А только нам наплевать на это. Беги! Доноси!
В этот момент, гремя саблей, шпорами и оправляя аммуницию, появился в зале русский полицейский чин.
— Да чего и бегать-то? Вот видишь? — кивнул Сукачев на полицейского. — Кричи караул, городовой прибежит, ну, и цапай нас!
Маркиз молча, с сожалеющей улыбкой пожал плечами, словно хотел сказать этим: «И как вы могли подумагь обо мне такую гадость! Стыдитесь!»
— Молчишь? — спросил Сукачев. И вдруг, потрепав его по плечу с недоброй лаской, добавил: — И хорошо, парень, делаешь. Рта бы не успел открыть, как на сажень в землю ушел бы. Ну-с, милые господа, а пока до свиданья. Спать пора.
— Покойной ночи, — склонился в почтительно вежливом поклоне маркиз. — Покойной ночи, господа!..
— Ну, вот и поговорили по душам! — смеялся заставный капитан, поднимаясь вместе с траппером по лестнице в его комнату. — А теперь кулаки готовь, оглобля с суком. Скоро они на нас как бешеные бросятся. До сих пор они только шипели, а теперь начнут жалить.
V. Последние минуты.
Климат Новоархангельска — отвратительный. На хорошую погоду можно рассчитывать лишь тогда, когда вершина горы Хорошей Погоды на севере, на материке ясно видна с улиц Новоархангельска. А вершина эта триста пятьдесят дней в году окутана туманами.
Но утром 11 ноября 1867 года вершина Хорошей Погоды четко поблескивала на горизонте вечными своими льдами. День занимался ясный, хотя и холодный. Солнце, безлучное, бледное, плоским диском повисло в безоблачном, зеленом как шелк небе.
В этот ясный морозный день должна была состояться официальная передача дотоле русской Аляски Северо-Американским Соединенным Штатам. Российское императорское правительство, убедившись в своей неспособности управлять отдаленной американской колонией, решило избавиться от Аляски. В строевом лесе и пушнине после присоединения Амурского края недостатка не ощущалось, для ссыльно-каторжных хватит места и в Сибири, а управление Аляской стоит очень дорого. Поэтому русский посол при президенте Соединенных Штатов предложил вашингтонскому правительству купить Аляску вместе с ее недрами, лесами, реками, рыбами и населением. Американцы с готовностью согласились на это предложение. На другой же день после переговоров, 30 марта 1867 года, был написан и заключен в Вашингтоне договор, по которому вся территория полуострова Аляски и всех северо-американских русских островов переходила во владение Соединенных Штатов за ничтожную плату в семь миллионов долларов, ничтожную потому, что американцы за пятьдесят только лет владения выкачали из Аляски четыреста миллионов долларов, то-есть сумму в пятьдесят один раз большую той, какую они заплатили сами. Правда русские уполномоченные выторговали еще двести тысяч долларов и возмещение убытков Российско-Американской компании и частных лиц. 28 мая договор был ратифицирован обеими сторонами, сенатом Штатов и императором Александром II. А на 11 ноября была назначена фактическая передача Аляски американцам — событие, возбудившее мировой интерес, которому газеты всех стран отвели немало места в своих передовых и корреспонденциях с «места происшествия»…
От крепкого мороза ломило дух, трещали бревенчатые стены домов, прокаленный морозом снег визжал и пел на разные голоса под ногами. Но Погорелко, погруженный в невеселые думы, шагал к центру города, не замечая лихого мороза. Глядя на столбы дыма, поднимавшиеся вертикально из труб, траппер думал: «Дым отечества, который нам якобы и сладок и приятен! Сегодня будет продан и этот дым. Он уже наполовину американский».
По улицам торопливо шагали люди, закутанные в меха. Неопытный глаз в этих ходячих меховых тюках не отличил бы мужчин от женщин. К центру города, туда, где виднелись красные крыши присутственных мест, устремилось все новоархангельское население из 900 человек.
На одном из перекрестков Погорелко догнал заставный капитан, одетый в лимонно желтый дубленный полушубок. Они молча поздоровались и так же молча двинулись дальше.
Вот наконец и единственная городская площадь, посреди которой высился дворец губернатора, известный в Новоархангельске под названием «замка Баранова», двухъэтажный дом из дикого черного камня с белыми оконными наличниками. Отсюда открывался просторный вид на весь город и бухту. Погорелко невольно отыскал глазами «Белого Медведя». На передней палубе шхуны дымилась огромная печь для вытапливания китового жира, смрадная вонь которого доносилась даже сюда, на площадь. Шкипер Пинк этой бестактностью словно хотел показать новоархангельцам, что он, американец, уже чувствует здесь себя хозяином.
Поперек бухты вытянулись в два ряда расцветившиеся флагами военные суда обеих наций — винтовые американские корабли и русские трехпалубные парусные фрегаты. Берега бухты были унизаны индейскими челноками, желтая кожа которых сочно блестела на солнце.
Флангом к «замку Баранова» выстроилась рота американцев, широкоплечих мужественных северян, переброшенных сюда с канадской границы. Американские офицеры, чистенькие, прилизанные, будто отлакированные, курили, собравшись в кучку, и весело болтали с корреспондентами американских, европейских и даже австралийских газет.
Шумно было и на особо огороженной площадке близ крыльца губернаторского дома. Там собралась избранная публика: чиновники коронной службы, чиновники Российско-Американской компании, сменяющие их служащие организованной на-днях Северо-Американской Аляскинской компании, купцы побогаче, духовенство и какие-то дамы, повидимому американки. Погорелко показалось, что среди этих избранных мелькнула и стройная фигура маркиза де-Монтебелло.
Угрюмо и тихо стояла русская рота Нижнекамчатского батальона. Солдаты молча смотрели в землю, словно чувствовали за собой какую-то вину. Посреди их фронта высился флагшток, на котором плескался русский трехцветный флаг. Невдалеке от флагштока стояли пушки на походных лафетах, снятые с новоархангельской крепости. Эта русская батарея должна была первой приветствовать звездный флаг новых хозяев страны.
Площадь живым колыхающимся кольцом облепили зрители из простых. Тут были и жители новоархангельские, и моряки с коммерческих судов, и люди сурового вида, с ружьями в руках, на стволах которых болтались подстреленные белки. Это были русские трапперы, кормившиеся ружьем.
Погорелко знал, что многие из них пришли в Новоархангельск из далекой Канады, где их застала весть о продаже Аляски. Они шли дикими лесами Новой Англии, через земли враждебных племен альгонкинцев и ирокезов, они миновали Озерный Архипелаг провинций Манитоба и Онтарио, они пересекли жуткие, бесплодные баррен граундс[27] земель Компании Гудзонова залива, они изголодались по табаку, муке и спирту, а все же добрались до Новоархангельска, чтобы убедиться в справедливости слухов о продаже их родины, ибо эта суровая, злая для некоторых земля была для них действительно горячо любимой родиной. Завтра на рассвете их уже не будет в Новоархангельске. Они снова разбредутся по своим зимовьям, станам, трапперским линиям, может быть более угрюмые чем всегда, но как всегда спокойные. Что же, если на то пошло, для бедняка там родина, где ему лучше!
Отнюдь не хмурились американские трапперы, празднично одетые, в мокассинах с бахромой, в новеньких кожаных куртках и меховых шапках с орлиным пером. Они горласто хохотали и хором пели «Янки-Дуддль» и «Знамя, усеянное звездами». Но эти парни с суровым и чистым сердцем отнюдь не подчеркивали свое хозяйское превосходство. У них находились ласковые слова и для русских трапперов. Они хлопали крепко, с грубой лаской по плечу своих русских коллег и в чем-то горячо и страстно их убеждали.
Позади белых толпились индейцы, бесстрастные и невозмутимые как всегда. По их лицам нельзя было прочесть, какие чувства волнуют их в эту напряженную минуту.
Никогда наверное Новоархангельск не видел на своих улицах такого количества туземцев. Представителей почти всех своих племен послала сюда Аляска, несчастная Большая Земля. Были здесь конечно алеуты, с ногами, согнутыми в коленях от постоянного сидения на корточках, одетые в непромокаемые «камлейки» из рыбьих кишек; и свирепые колоши или тлинкиты — жители архипелагов и побережий, тоже одетые в камлейки или парки, но из тюленьих кишек бледно желтого пергаментного цвета. Гайдасы с островов королевы Шарлотты сидели по-жабьи у костров, с неизменными шерстяными одеялами на плечах и неожиданно русскими военными фуражками на затылке. Мешками отправляли тогда русские купцы в Аляску цветные военные и чиновничьи фуражки, до которых особенно падки были индейцы, любящие все яркое и пестрое. Вороватые атна-таны, или медновцы, с лицами, распестренными татуировкой, ветвистой как оленьи рога, кутались в свои вшивые меха. Угрюмые чилькуты, красивый и ладно сложенный народец, тоже послали своих представителей. Даже дикие из диких, ингалиты, или «непонятные», спустившись со Скалистых гор на границе Британской Колумбии, пришли в Новоархангельск посмотреть как «руситины» будут продавать «нувукам» их Ала-эш-ку.
Женщина испуганно попятилась назад от бегущего на нее бородатого человека…
Только тэнанкучинов, гордых, непобедимых, после 125 лет русского владычества оставшихся независимыми, не было видно в этой пестрой толпе туземцев. Правда, Летящая Красношейка и Громовая Стрела находились в городе. Но Погорелко разрешил своим друзьям только вечерами выходить на улицы города.
Смеялись и шутили офицеры-янки, корреспонденты пытались руками, запеленутыми в меха, черкать что-то в свои блокноты, щебетали эксцентричные американки, пели хором американские трапперы. Но молчали хмуро русские, таили загадочное спокойствие индейцы.
Последние минуты русского владычества над Аляской уходили в вечность.
VI. Как ее продавали.
Когда стрелки часов на зеленой как кочерыжка, единственной в городе колокольне показали ровно двенадцать, когда куранты (подарок иркутского купечества), пугая индейцев, сбросили вниз, на площадь, двенадцать медных ударов, на крыльце «замка Баранова» показалась толпа пестро и богато одетых людей. Они задержались минуту на ступенях, словно давая возможность зрителям полюбоваться ими, а затем спустились на площадь и направились к флагштоку.
Здесь были и штатские, закутанные в дорогие меха, и офицеры, русские — в шинелях светло серого сукна с пелеринами, американские — в коротких шубах. Первым шествовал князь Максутов — последний русский губернатор Аляски, человек замечательный только тем, что за время своего губернаторства загнал сотни собак. Максутов ездил в больших санях, устроенных в виде домика, в которые запрягалось до сотни псов. Гнал же он так, что на каждом перегоне бедные животные дохли десятками. За это и получил князь Максутов кличку «Собачья Смерть». Пестрые перья на его треуголке победно развевались, ярко красные с золотыми лампасами брюки ослепительно сияли, нагоняя благоговейный ужас на ингалитов, гайдасов и атна-танов.
За Максутовым шел главный приказчик Российско-Американской компании, протектор Аляски, вице-король американских колоний, ибо компанейский приказчик, а не губернатор был истинным и самодержавным повелителем земель и народов между 57 и 72 градусами северной широты и 130 и 173 градусами западной долготы, включая острова Алеутской гряды.
За русскими властями по пятам следовала власть американская в виде пехотных и морских офицеров. Один из них, изможденный старик с громадным носом, нес в руках шелковое звездное знамя Штатов. Одет носатый старик был крайне скромно, и никто из толпы не подумал, что это и есть новый хозяин Аляски, американский губернатор генерал Галлер, герой войн — мексиканской и за освобождение негров, два года тому назад нанесший страшное поражение южанам на реке Миссури.
— Македон Иваныч, видите, — вцепился вдруг Погорелко в рукав капитанского полушубка, — видите, маркиз-то чортов с американцами шествует! Уже присватался, снюхался с новыми хозяевами, волчья сыть!
Действительно де-Монтебелло, одетый в щегольскую оленью куртку, в дорогой котиковой шапке, шел в свите генерала Галлера, фамильярно болтая с высоким как жердь морским офицером.
Но Македон Иваныч не ответил, не шелохнулся даже. На сердце его было смутно и тяжело. Он чувствовал, он понимал лишь одно, что любимую им страну с ее беспредельной свободой и ширью, его страну, обвеянную трагической романтикой, сейчас продадут. Щеки старика горели, словно кто-то угостил его парой пощечин.
Около флагштока вся эта толпа, блещущая галунами, орденами, позументами, пуговицами, остановилась и разбилась на две кучки — русских и американцев. Те и другие переглянулись, как бы не решаясь начинать тягостную церемонию.
Со стороны русских выдвинулся вдруг толстый румяный морской офицер. Это был командир русской эскадры Пещуров. На плечах его жирно лоснились адмиральские эполеты, а потому он как старший в чине заменял отсутствующую особу русского императора. От американцев тотчас же отделился представитель Соединенных Штатов генерал Руссо. Они встали друг против друга в напряженных позах, как два бойца, вышедших подраться на кулачках.
Свинцовое молчание придавило толпу. Лишь неумолчный плеск волн да взвизги дерущихся на берегу собак нарушали его.
— По повелению его величества императора всероссийского, — загонорил вдруг громко и отчетливо Пещуров, — передаю вам, уполномоченному Северо-Американских Соединенных Штатов, всю территорию, которой владеет его Величество на американском материке и на прилегающих островах, в собственность Штатов согласно заключенному между державами договору.
Пещуров отступил шаг назад, ожидая чего-то поглядел конфузливо по сторонам, но не дождавшись, сделал вдруг страшные глаза и шопотом, слышным на всех концах площади, обратился к офицеру, стоявшему наготове у флагштока:
— Чего же вы рот-то разинули? Спускайте флаг!
Офицер испуганно встрепенулся и быстро потянул линь. Русский трехцветный флаг пополз вниз. Чиновники и все поголовно зрители сняли шапки. Русская и американская роты взяли на караул. Зарокотали барабаны. Американская эскадра начала салют спускаемому русскому флагу. Торжественно и мощно, раскатываясь по заливу и трескучим эхом отдаваясь в горах, гремели пушки американцев. Облачка дыма, словно выплевываемые, отскакивали от бортов суден и тихо нехотя таяли в воздухе. Многие из индейцев попадали на землю, прикрывая в ужасе руками голову. Для них эти выстрелы были гневным голосом нового их повелителя.
А русский флаг полз вниз, сдаваясь, уступая… И вдруг на середине флагштока остановился. Офицер уже повис на флаг-лине. Но флаг не шел вниз. На помощь офицеру бросились двое чиновников. Но флаг, словно прибитый, не двигался. Длинное и широкое его полотнище обвилось вокруг флагштока, испуганно прильнув к дереву.
— Эх! Не хочет! — бурно крикнул вдруг Македон Иваныч и до боли стиснул руку траппера.
Погорелко понимал чувства, обуревавшие заставного капитана. Для Сукачева, узнавшего этот край не через стекла присутственных мест, ощущавшего жизненный пульс Большой Земли не через посредство канцелярских бумажек, тяжела и унизительна была эта церемония.
Но чувства чиновников, стоявших у флагштока, были несколько иные, чем чувства старого аляскинского траппера. Они ощутили только конфуз. Действительно пахло скандалом. Американская эскадра правильными паузами бездушной машины салютует спускаемому русскому флагу, а он не спускается. Как же выйти из глупого положения?
Князь Максутов подбежал к фланговому русскому солдату и крикнул истерично только одно слово:
— Лезь!
Но солдат сразу понял, что от него требуется. Он передал винтовку соседу, подбежал к флагштоку, поплевал деловито на ладони и полез. Быстро он добрался до флага, но тут растерялся и нерешительно посмотрел вниз. В этот момент американская эскадра окончила свой салют.
— Рви! — бросил исступленно в наступившую тишину «Собачья Смерть».
Солдат рванул. Ясно донесся треск рвущейся материи. Флаг отделился от флагштока. Солдат зажал в зубы тяжелое полотнище и медленно начал спускаться.
Неожиданно налетел порыв сильного ветра. Он прилетел издалека, с необъятных просторов Аляски. Флаг, висевший бессильно в зубах солдата, встрепенулся, рванулся как живой, и освободившись, помчался по воздуху большей цветастой птицей. Его несло в сторону избранных зрителей. Многие из них уже протянули руки, чтобы поймать наконец строптивую эмблему русской империи.
Но флаг сам решил сдаться. Он замер на секунду в воздухе, колыхнулся и тихо опустился на штыки русских солдат. Лишь после этого он был передан Пещурову[28].
Адмирал сердито сунул флаг за борт шинели. Он откровенно нервничал и злился. Как сообщить обо всем происшедшем его величеству? Не произведет ли это скверное впечатление? А главное не взгреют ли за все это его, адмирала Пещурова? Ведь об этом скандале газетные писаки раструбят по всему земному шару.
Генерал Галлер подошел к флагштоку, привязал к линю флаг и сам вздернул его. Американские «звезды и полосы» легко и горделиво взмыли кверху. На половине пути флаг развернулся, громко и отчетливо хлопнув, а на конце флагштока замер, напряженный и буйный, всплескивая упруго под ударами ветра.
Умеющие глядеть увидели бы в этом развевающемся звездном флаге молодой, полнокровный, смелый и жадный американский империализм.
Русская эра в Аляске кончилась. Началась американская.
Русская батарея начала салютовать американскому флагу. Коротконогий штабс-капитан в потрепанной шинелишке и ржавых сапогах со сладостным замиранием в голосе выкрикивал:
— Первое, пли! Второе, пли! Третье…
А после каждого выстрела ради сохранения ровных пауз он отсчитывал про себя до пятидесяти, закатив глаза и помахивая рукой как дирижер в оркестре.
Погорелко невольно улыбнулся этому самозабвенному усердию. Но взглянув на Сукачева, траппер удивился и испугался той ненависти, которая тяжело лежала на лице заставного капитана. В глазах Македона Иваныча, цепко следивших за перебегавшим от орудия к орудию артиллеристом, пылала ярость.
И трапперу стало понятным и близким это чувство страстной злобы. В этом штабс-капитанишке Сукачев видел винтик той машины, называемой Российской империей, которая бездушно и жестоко распоряжается судьбами как отдельных людей, так и целых стран.
— Пойдемте. Больше нечего смотреть, — взял траппер Сукачева за рукав полушубка. — Кончено!
— И то пойдемте, — тяжело перевел дух заставный капитан. — Лучше уйти от греха, а не то боюсь, врежу кому ни на есть в ухо…
VII. «Ты хотел этого, Жорж Дандэн!»
Но уйти им не удалось. Толпа, промерзшая и уставшая, тоже хлынула с площади по домам. Образовалась толчея. И перед траппером внезапно, словно из-под земли выросший, появился маркиз де-Монтебелло. Погорелко заподозрил, что канадец давно уже следил за ними, а теперь разыграл сцену неожиданной встречи.
— Добрый день, господа! — приветливо крикнул маркиз, поднося руку к своей котиковой шапке. — Рад встрече с друзьями. Не правда ли, тягостная церемония? Особенно этот ужасный случай с флагом. Как хотите, господа, но это некий символ. Русская нация сама, собственными руками сорвала свой флаг, свое достоинство. Ужасно!
Челюсти Сукачева судорожно содержались. Накопившийся гнев наконец-то нашёл выход.
— А при чем тут русский народ? — с недобрым спокойствием спросил он. — Если один мерзавец…
— О, да, да, — поспешил согласиться маркиз. — Видимо я не совсем ясно выразился. Поверьте, господа, что я очень уважаю русских, сынов нации, спалившей пороху больше чем какая-либо другая, за исключением конечно нас, французов. Во всем виноват только ваш бесталанный император.
— Пойдемте, Филипп Федорович, — взял Сукачев порывисто под руку траппера.
— Стойте! — повелительно сказал де-Монтебелло.
— Не о чем мне с тобой говорить! Проваливай! — заорал грубо бессильный бороться со своей злобой Сукачев.
— Мне тоже с вами не о чем говорить, — колко ответил канадец. — Господин Погорелко, вы мне нужны на пару слов……..
Маркиз быстро и резко изменился. Исчезла его приветливая вежливость, веселое многословие. Перед траппером, остро поблескивая глазами, стоял совсем другой человек. И было в этом человеке что-то холодное, безличное и такое неумолимое, что даже обыденные его слова начали приобретать оттенок угрозы, пугая и настораживая. По мнению Погорелко таковым и должен был выглядеть законченный тип бессовестного и опасного негодяя.
— Ну? — коротко и сухо спросил он.
— Я хотел бы услышать от вас ответ на один мой вопрос, — сказал маркиз. — Не передумали ли вы за ночь по поводу наших вчерашних предложений? Я говорю о золоте и о ружьях также.
— Не передумал! — отрывисто кинул траппер. — И никогда не передумаю! Больше ничего?
— Больше ничего! — кивнул головой маркиз. И плавно повернувшись на каблуках, уходя, он бросил через плечо с коротким смешком:
— «Ты сам хотел этого, Жорж Дандэн!»[29]
И подошел к женщине, одетой в тяжелую меховую шубу, в круглой барашковой шапочке и в белом, с золотой кистью башлычке на голове. Женщина эта стояла спиной к трапперу и повидимому рассматривала с любопытством индейцев, толпившихся у костров. Маркиз с почтительной фамильярностью взял ее под руку. Погорелко только что хотел отвернуться, чтобы последовать за ушедшим уже Сукачевым, как в этот момент повернулась женщина. Траппер увидел ярко алевшее от мороза лицо, оживленнее и красивое.
Но эти широко расставленные серые глаза, насмешливые и вызывающие?.. Но этот ураган непокорных волос, выбившихся из-под шапочки?..
— Аленушка!.. Это вы, Аленушка? — дико закричал Погорелко и с протянутыми руками, спотыкаясь, побежал к женщине.
Но женщина с насмешливыми серыми глазами испуганно попятилась назад от бегущего на нее бородатого, дикого вида человека, одетого с ног до головы в меха.
— Вы не узнаете меня, Аленушка? — с отчаяньем крикнул траппер. — Да ведь это я!..
Глаза женщины широко открылись. Что-то прошло в них легкой дымкой.
— Это вы, Филипп… — она запнулась и добавила нетвердо — Федорович?
— Ну, конечно! — ликующе взмахнул руками Погорелко. — Ну, конечно я! Наконец-то узнали!
Он, забывшись, тискал ее руки, смотрел жадно на ее ресницы в бахроме инея, на пряди светлокаштановых ее волос, усеянных кристаллами снега, и как в бреду повторял:
— Наконец-то я вас снова увидел!.. Какое счастье!.. Наконец-то снова!..
И вдруг, вздрогнув, он выпустил из своих ручищ маленькие слабые руки женщины. Из-за ее спины смотрел на траппера маркиз де-Монтебелло. Глаза его, прищуренные нето от солнца, нето от скрытого смеха, поблескивали как два маленьких лезвия.
— Как вы попали сюда? — с трудом выговорил Погорелко, смотря не на нее, а на канадца. — Давно ли приехали, Аленуш… — Но он тотчас же поправился: — Елена Федоровна?
— Не более недели из Петропавловска. Хотелось посмотреть, как будут передавать американцам Аляску. Говорили, будет очень интересно. Не нахожу. А знаете что, Филипп Федорович, — вдруг обрадованно вскрикнула она. — И чего это мы на морозе будем разговаривать? Приходите-ка лучше ко мне. Я живу в переулочке против церкви. Красный дом с черепичной крышей. Знаете? Буду ждать вас в семь. Видите, я еще не изменила своим институтским привычкам — принимаю только после семи. Придете?
— Приду! — обрадованно, снова загораясь, крикнул он. — Обязательно приду. Спасибо вам.
— Ну, вот и прекрасно. До вечера, — протянула она ему руку, затянутую в мягкую лайку. Погорелко инстинктивно наклонился, чтобы поцеловать ей руку, но сконфузился неожиданно и выпустил, лишь пожав крепко.
А она, сделав по-былому насмешливую гримаску, рястягивая певуче слова, сказала вдруг:
— По-смотрите, господа, да посмотрите, господ-a, на-а-а зверя морского-о!..
А затем рассмеялась и, повернувшись, быстро убежала.
Он долго смотрел ей вслед, на золотую кисть ее башлычка, качавшуюся при ходьбе, и думал, что означают эти слова. А вспомнив, захохотал.
Так кричали в Петербурге шарманщики, бродившие по дворам с морскими свинками.
* * *
На единственной Петропавловской улице, иллюминованной сальными плошками и китайскими фонарями, разукрашенной флагами, вечером гуляли жители, солдаты, поселенцы и арестанты. Тюрьма по случаю торжества была открыта на всю ночь. В «замке Баранова» играл оркестр, снятый с фрегата, и пели церковные певчие. «Собачья Смерть» чествовал американцев банкетом. Около церкви перепившиеся солдаты палили из пасхальной пушки до тех пор, пока пушку и пушкаря не разорвало…
(Продолжение в следующем, номере)
-
Три месяца в Московском зоопарке. Очерк и зарисовки художника Б. А. Зенкевича.
I
Рука в носке. — Охота рисовальщика. — Назойливые зеваки. — Зрители-вредители. — Пеликаны на льду. — Безрогий Колька. — Лосиная идиллия.
В начале октября прошлого года, я получил от художественного издательства АХРР предложение исполнить в Московском зоопарке серию рисунков для открыток. Работа показалась мне интересной. До сих пор единственными моими натурщиками из мира животных были мой кот и зеленый амазонский попугай без имени, просто Попка. Натурщиками они были идеальными. Попка приходил в восторг от диких звуков, испускаемых мной, и нахохлившись, не двигаясь, часами слушал мои музыкальные упражнения. Вероятно в его представлении я был необычайным певцом и музыкантом. Что касается Котьки, то с ним дело обстояло проще. Двести граммов вареной колбасы, до которой он страстный охотник, приводили его в состояние, близкое к трансу.
Теперь мне предстояла более интересная, увлекательная работа: рисовать диких зверей, непрерывно двигающихся, не подчиняющихся никаким приказаниям.
«Рисует»… «Нет, торгует пеналами»…
Переговоры затянулись, наступили холода, а я опрометчиво полагал, что зарисовка зверей не будет представлять для меня затруднений. «Три недели, — думалось мне, — только три недели, и все будет окончено».
На самом деле вышло иначе, Вместо тропических зверей издательство предложило мне рисовать зверей СССР, как назло великолепно переносящих холод и зимующих на воле. Правда, список зверей составлял я сам, но не мог найти среди них ни одного, не способного переносить холод.
В смысле выбора одежды дело было просто: валенки, свитер, малахай. Но руки? Что делать с руками? Я пробовал рисовать без перчаток. Невозможно. Через две-три минуты пальцы отказывались служить.
Один из моих друзей-художников дал мне добрый совет:
— Я всегда работал зимой, и нет лучшего средства от замерзания рук, как хороший шерстяной носок.
— Но позвольте, ведь я рисую не ногой, — робко заметил я.
— Ну, так что же, наденьте на руку носок, в отверстие вставьте карандаш или кисть. Чудесно!
Совет оказался добрым только наполовину. Пальцы были вместе и переносили холод легче. Однако мне пришлось вследствие морозов работать только сангиной и карандашом. Свисавший с руки носок упорно волочился по рисунку и пачкал начатые работы. А концы пальцев не чувствовали бумаги и не слушались.
Несколько дней я работал без перчаток, то-и-дело оттирая снегом окоченевшие руки. А потом вдруг вспомнил о трамвайных кондукторах. Как и они, я отрезал пальцы у перчаток, и дело пошло на лад. Правда, часто, когда зверь сидел в нужной мне позе, руки теряли чувствительность. Приходилось оттирать их снегом. А когда снова хватался за сангину, было уже поздно: зверь менял позу.
Работа рисовальщика вообще похожа на охоту. А зарисовка зверей напоминает мне стрельбу по движущейся цели. Приходится приспособляться. Клетки слишком малы. Звери мечутся по ним, от холода часто свертываются, засыпают. Словом, вместо спокойной работы пришлось караулить около каждой клетки, перебегать от одной к другой, ловить зверей «на лету». Приспособления мои не блистали сложностью: фанерный ящик для бумаги, складной стул и пенал. На стул я клал ящик, а сам с фанерным листом и бумагой, укрепленной на нем, бегал вдоль клетки, «охотясь» за зверем. При появлении экскурсии или значительной группы посетителей я складывал свои принадлежности и мерно вышагивал по аллее, стараясь быть похожим на служащего или сторожа зоопарка.
За сторожем Колька плелся, волоча больную ногу…
Это не всегда мне удавалось. Однажды группа детей окружила меня и, заметив пенал, лежащий на стуле, долго обсуждала вопрос о том, что я делаю.
— Рисует, — говорили одни.
— Нет, торгует пеналами, — возражали другие.
На вопросы детворы я молчал, загадочно ухмыляясь. Так и ушли ребята, не решив, кто я — рисовальщик или торговец пеналами.
Для художника зеваки самый страшный враг. Стоит ему сесть где-нибудь работать, как сзади словно грибы вырастают пять-шесть человек, упорно смотрящих ему в спину. На просьбу не мешать они обыкновенно отвечают:
— Мы не мешаем, мы только смотрим.
Практика научила меня кротко отвечать таким людям:
— Граждане, приходите через полчаса. Я кончу и покажу вам.
Ласковый тон. заставляет их уходить, но стоит ответить резко, и разгорается спор. А тогда прощай покой, а главное пропадает охота работать.
В зоопарке я делил посетителей на несколько групп. Экскурсанты, — они деловито переходят от клетки к клетке, делая записи, заметки. Мешают мало, потому что торопятся и ходят скопом. Рабочие, — те ходят семьями, стыдясь своего невежества, коверкая надписи на клетках: «Кузаур, казаур, казар», — по складам читают они и робко поглядывают на вас. Так же робко заглядывают они и на рисунок, вежливо извиняясь, стараясь не мешать. Мне кажется, они частенько принимали меня за учёного сотрудника зоопарка.
О детях я и не говорю: от них нет спасения. Разве только сделать выражение лица как у мертвого судака и с видом директора зоопарка прогуливаться вдоль клеток, пока они как саранча не пронесутся мимо. Еще опаснее казалось мне сочетание родителей с малыми детьми. Издали завидев меня, они говорили: «А вот и дядя, который рисует». Затем приближались, брали ребят на руки и становились за моей спиной.
Один раз я отделался от такого любвеобильного родителя, язвительно заметив ему, что в плату за помещение не включена стоимость наблюдения за работающим в зверинце художником. Он ушел, раздраженно бормоча: «Нельзя и посмотреть детям как рисуют». В другой раз это средство не произвело никакого впечатления. Наоборот, разъяренная мамаша долго стояла в отдалении, потрясая руками и крича мне: «Хорош художник! Боится показать свои работы».
Забыл упомянуть еще об одной категории зрителей. Это пьяницы и вредители. Пьяниц я видел всего два раза. Один из них долго стоял передо мной, убеждая меня в том, что он любит искусство. А потом стал жалеть запертых в клетке зверей. В другой раз подошла пара молодых людей в форменных технических фуражках с дамами под ручку. Остановившись рядом со мной, спугнули ястреба, которого я рисовал, и закричали:
— Улетела птица, ха-ха-ха!..
Вредителей я не встречал. Сторожа рассказывали мне, что есть люди, дающие зверям вместе с едой разного рода предметы: осколки стекол, гвозди, камни. Раз будто бы кто-то из посетителей, оставшийся неизвестным, дал слонихе французскую булку со вложенным внутрь лезвеем бритвы жиллет, и будто бы умная слониха отказалась есть такую булку.
Не знаю, правда ли это. За все время лишь дважды я видел хулиганов-зрителей. Оба раза в помещении львов. Какой-то мальчонка приспособился к загородке и харкал в рычащих на него черных пантер. Сторож выгнал его из помещения. Черные пантеры вообще противны, злы, рычат на посетителей. Я думал, что в этом крылось объяснение плевков. Но вскоре увидел другого мальчишку лет четырнадцати, который старался оплевать презрительно смотрящего на него льва.
Вредители более безобидного типа — это те, которые испытывают желание коснуться зверей, поласкать их, накормить. Говорят, что до запрещения давать зверям корм медведи летом к вечеру так обжирались, что не в состоянии были двигаться. Сказать по правде, я так свыкся за три месяца со зверями, так близко принимал их интересы к сердцу, что обрушивался на нарушителей правил зоопарка, угрожая им штрафом.
Суровые холода, наступившие сразу, необходимость ловить зверей в нужных мне позах, а главное — множество новых впечатлений — заставили меня вместо трех недель провести в зоопарке три месяца.
Сможете ли вы спокойно рисовать, если увидите перед собой клетку с надписью «барсук», а в клетке ни малейших следов ее обитателей. Не остановитесь ли вы, так же как и я, перед такой клеткой и не будете ли ждать лихорадочно появления нужного вам животного? Барсуки, как и все спящие зимой звери, в зоопарке от усиленного питания зиму проводят без сна. Но зато прячутся в нору и показываются лишь во время раздачи еды, чтобы быстро схватить кусок мяса и снова спрятаться.
Мой первый приход в зоопарк. Морозное утро. Дымящееся озеро, наполовину затянутое гладким как зеркало, льдом. Всюду снег. И вдруг на льду я вижу группу… пеликанов. Спокойно и важно, иногда останавливаясь, чтобы почистить перья, они прогуливались по гладкой поверхности льда. Начинаю искать в памяти: «Пеликаны, пеликаны. Кажется иногда зимуют в Астрахани. Нет. Это фламинго иногда залетают к берегам Каспийского моря. Тогда почему же пеликаны и почему на льду?» А пока я раздумываю, некоторые из них взлетают над озером, размахивая крыльями. При посадке они сгибают ноги в голенях, сдвигают их вместе, растопыривают пальцы и несколько метров скользят по льду на подошвах лап. Совсем как аэропланы на лыжах. Оказывается, в зоопарке пеликаны остаются на воде, пока не замерзнет все озеро, а тогда их ловят и переводят в зимнее помещение.
Колька лежит.
В этом зимнем помещении я иногда грелся. Там тепло и страшная вонь. Редкие посетители, забредшие туда, убегают, затыкая нос. За решоткой стоят группой, перебирая перья, пеликаны. Плевком выбрасывают они из-под хвоста вонючую жидкость. Между ними шныряют утки, гуси, чирки. Как будто мирно уживаются вместе. Но несколько раз я видел, как пеликан, раскрыв огромный клюв, схватывал поперек туловища утку или гуся и упорно тянул к себе. И так же неожиданно отпускал свою жертву. Та спасалась с криком. Присмотревшись, я увидел, что и гуси и утки были основательно пощипаны. «Ну, — подумал я, — сожительство не из важных. На месте уток и чирков похлопотал бы о перемене жилплощади».
Пеликан свободно проглатывает полуторакилограммового леща. Сторож говорил мне, что если его не кормить, он с голоду может проглотить и чирка. В зоопарке несколько раз так и случалось.
В клетке розовых пеликанов я обратил внимание на двух птиц, несколько напоминающих гусей, но только черного цвета. С криком носились они по бассейну в вечной погоне один за другим. Внимательно присматриваясь, я уловил их игру. Один из них хватал перо и, держа его в клюве, быстро уплывал от другого. Если тому удавалось догнать и вырвать перо, роли менялись. Начиналась новая возня, новое преследование. Игра сопровождалась громкими криками, плесканием, нырянием…
* * *
Первым моим натурщиком, за которого я наконец серьезно взялся, был лось Колька. Помещался он в загоне, влево от большого озера при входе. Колька был виден через изгородь еще с улицы и собирал толпу зевак. Меня он покорил своим нелепым видом. Начать с того, что у него не было рогов. Оказывается рога всего лишь брачное украшение лося и появляются только на время брачного периода.
Безрогий, с огромными ушами, горбоносый и губастый, Колька походил скорее на осла или на горбатую лошадь. При поимке ему повредили ногу, и он все время лежал в снегу, поглядывая на прохожих печальными глазами. Изредка он вставал, хромая подходил к решотке, щипал какие-то веники, подвешенные к ней, потом снова ложился. Иногда шел ко мне, чтобы с грустным видом ткнуть меня в пальцы горбатой губой, и тогда, каюсь, я забывал строгие правила зоопарка и гладил Кольку по бархатному носу. За усатым сторожем, входившим к нему с ведрами и кормом, Колька плелся как корова, волоча больную ногу.
Подтянутый живот, стройные длинные ноги, горб и большая безрогая носатая голова делали Кольку необычайно интересным натурщиком. Меня бесило лишь его постоянное лежание и необходимость ждать на холоде, когда ему вздумается встать.
Лисы на наблюдательном пункте.
Наконец рисунок был окончен.
— Что это за зверь? — спросили меня в издательстве.
— Как что за зверь! Лось, — ответил я.
— Лось? А где же у него рога?
Пришлось объяснить, что их нет, что они появляются позднее, что лось хорош и без них.
— Что вы! — возразили мне. — Какой же это лось без рогов, да еще на открытке! Приделайте ему рога от себя,
а то подождите, когда отрастут.
Приделывать от себя мне не хотелось, а ждать казалось безнадежным. Видя на лбу Кольки гладкое место, я не особенно верил в скорое появление рогов.
— Нет у Кольки рогов, — сказал я однажды приятелю-сторожу.
— Не растут. Все болеет, — ответил тот.
Как-то, возвращаясь со старой территории, я увидел на льду озера пару верблюдов, запряженных в сани. Позвякивая бубенцами, они торопливо трусили по кругу.
Подойдя к загону лося, я заметил, что он пуст.
«Как, — подумалось мне, — значит Колька так и не вылечился»… Мне стало грустно.
— Где же Колька? — спросил я проходившего сторожа.
— Перевели в другое помещение. Как завидит верблюдов, так и бьется.
Горе всегда сменяется радостью. В новом помещении Колька перестал быть одиноким: в парк привезли молодую лосиху, цветом похожую на белку. Долгое время они бродили врозь. А весной, проходя по зоопарку мимо знакомого загона, я увидел Кольку и его подругу, мирно возлежавших на зеленой траве. Верблюдов уже не было. По озеру как броненосцы тихо плыли гуськом пеликаны, с трудом удерживая на тонкой шее огромную голову.
II
Звери-попрошайки. — Ворон копит гривенники. — Картавый приятель. — Свирепый филин. — Предобеденное волнение. — Рыжие наблюдатели. — О пользе лисьего хвоста. — Человек не видавший лис. — Находчивая старушка. — Живые чучела. — Подражаю «туркмену». — Оклеветанные могильники. — Гриф вместо орла. — Нежная дружба.
-
Утром я вставал рано и бежал к трамваю. Вот и Кудринская площадь. Торопливо направляюсь к зоопарку. Там, вправо от входа — ряд клеток, в которых помещаются почти все нужные мне птицы и звери СССР: филины, лисы, орлы, барсуки, волки… даже полярная сова. В противоположность нашим совам она великолепно видит днем. Еще издали, заметив меня, она начинает свистеть и шипеть, забавно раскрывая клюв. Как снежный комок перекатывается она с одной стороны клетки на другую, стараясь остановить на себе мое внимание.
Звери в зоопарке получают достаточный паек, но это не мешает им попрошайничать. Попрошайничают все, даже гордые орлы. Приемы зверей мало отличаются от приемов людей. Каждый из них изобретает свой трюк. Лисы бегают вдоль клетки, становятся на задние лапы и умильно заглядывают вам в глаза, медведи делают вам «ручкой», складывая при этом сердечком губы. Ворон, каркая, скачет вдоль решотки. Как настоящий профессионал он не брезгует и… серебряными монетами. Получив гривенник, он подолгу играет с ним, а потом прячет в укромном месте.
«Так это лиса!..»
Про этого ворона рассказывают любопытную историю. Наигравшись вдоволь, он обыкновенно закапывал монеты в землю. Однажды сторож решил воспользоваться накопленными вороном деньгами. Без труда отыскав клад, он унес его. Через некоторое время, заметив, что посетители продолжают давать птице гривенники, сторож снова решил воспользоваться «сбережениями» ворона. Он тщательно обыскивал клетку, но не нашел ничего. Повторные обыски долго не давали никаких результатов, а между тем ворон продолжал принимать монеты, каждый раз пряча их неизвестно куда. Что же оказалось? Наученный горьким опытом, ворон решил прятать деньги в щель, за деревянную обшивку стены.
Мне хотелось проверить эти рассказы. Я дал ворону гривенник, но, подержав его некоторое время в клюве, он бросил монету в снег и затоптал ногами. Зато я видел, как ворон стащил перчатку с руки зазевавшегося на него мальчика и долго летал по клетке, ища укромного места. А затем уселся со своей добычей под самой крышей, не обращая внимания на плач ребенка и гневные восклицания родителей. Пришлось звать сторожа.
— Отдай, цёлт! — кричал он, гоняясь по клетке за вороном. Наконец тот бросил надоевшую ему перчатку, и все успокоилось.
Со сторожем «моего отделения» я скоро сдружился. Небольшого роста, курносый, картавый и подслеповатый, он сразу взял меня под свое покровительство. При встрече говорил: «Цёлт его знает. Сто-то холёдно», — и показывал руки в волдырях от морозных ожогов.
Он же сообщил мне, что я не один рисую зверей.
— В плёслом году плиходил один с дилектолом. Только тот знаменитый[30].
Очевидно без директора я мало что значил в его глазах.
Утром он подметал около клеток, потом исчезал и появлялся к трем часам, неся большое оцинкованное ведро, наполненное мясом. Присев на корточки, он долго ковырялся в ведре голыми руками, сортируя мясо. А потом шел из одной клетки в другую и ловко разбрасывал куски своим питомцам.
— Не боишься? — спросил я его.
— Нет, они не тлогают.
Действительна, при его появлении волки жались в глубину клетки, лисы тоже отбегали. За исключением одной. Но та была совсем ручная. Она хватала лучшие куски из рук сторожа, вертелась у его ног, ласкалась и, став на задние лапы, лезла мордой в карман за семячками. Птицы не обращали на него внимания. Они или сразу бросались на еду или, как филины, спокойно ждали наступления темноты.
«Это папагай…»
«Дело не сложное войти в клетку», — думалось мне. Но однажды, желая получше рассмотреть филинов, я перешагнул через проволоку и, нагнувшись, приблизил лицо к решотке. И вдруг филин с каким-то особым свистом устремился на меня и вонзил клюв и когти в решотку рядом с моим лицом. Я испуганно отпрянул назад. После этого случая я стал относиться с большим уважением к моему невзрачному покровителю-сторожу.
О времени его появления, вернее о наступлении трех часов, я научился узнавать по зверям. Первыми начинали волноваться орлы. Вытянув шею, расправив крылья, они громко клохтали. Волки нервно бегали по клетке. Более сильный отгонял слабого в глубь, стараясь занять место у решотки. Но занятнее всего были лисы. В глубине их клетки вертикально поставлены стволы деревьев с ободранной корой. Один из этих стволов дважды, в середине и у самой крыши, разветвляется, а в самом низу имеет выступ от отрубленного сука. Этот ствол и служил лисам своеобразным наблюдательным пунктом. Поочередно вспрыгивали они по уступам до самой крыши и там, навострив уши, с горящими глазами застывали неподвижно в ожидании появления сторожа. Иногда на стволе размещались сразу три лисицы. А в это время четвертая — ручная — лихорадочно бегала вдоль решотки, отгоняя товарок зубами. В клетке она была диктатором — храбро бросалась к сторожу, хватала лучшие куски и быстро прятала их в нору.
Лисы едят жадно, постоянно дерутся и при этом хрипло тявкают друг на друга. Насытившись, они ложатся спать, свернувшись клубочком, уткнув нос в пушистый хвост.
При появлении экскурсии я уже предугадывал коварный стереотипный вопрос руководителя.
— А как вы думаете, граждане, — растягивая слова, спрашивал он, — для чего лисе нужен такой длинный пушистый хвост?
— Заметать следы, — быстро и убежденно отвечали обыкновенно посетители.
— Попробуйте взять метлу и замести на снегу ваши следы. Что у вас выйдет? — И следует объяснение о том, что лиса пользуется во время бега хвостом как рулем на поворотах и что он служит ей одеялом во время сильных морозов, согревая самую чувствительную часть тела — нос, то-есть сохраняет ей необычайно острое обоняние, в котором она так нуждается в борьбе за существование.
У клетки с лисами, я увидел однажды необыкновенного человека. С виду это был самый заурядный человек. Небольшого роста, лет пятидесяти, рыжеватый блондин, в пенснэ, в обыкновенном пальто и каракулевой шапке. Он долго молча смотрел на лис и вдруг обратился ко мне с вопросом:
— А скажите, гражданин, что это за зверь?
— Лиса, — недоверчиво ответил я, полагая, что посетитель шутит.
— Лиса! — изумленно воскликнул он. — Так это лиса!
И поправив пенснэ, он нагнулся к клетке и стал внимательно разглядывать лис, приговаривая вполголоса: «Так это лиса…»
Мне посчастливилось: я встретил человека, никогда не видавшего лис.
Впрочем это не единственный курьез. В отделении была свободная клетка. Не помню почему, в нее поместили черного грифа. Однажды мимо проходила с внучком старушка в платочке.
— Бабушка, это кто? — спросил внук.
Находчивая старуха нагнулась к клетке, внимательно осмотрела видимо незнакомую ей птицу и вдруг ответила:
— Папагай.
— Это глиф — цольный глиф, — наставительно поправил возмущенный сторож.
И растерявшаяся старушка быстро зашагала вдоль клеток, не останавливаясь больше для ответов на вопросы внука.
В другой раз в помещении антилоп вошла хорошо одетая женщина, ведя за руку мальчика лет шести.
— Мама, это кто? — воскликнул ребенок, увидев зебру.
— Это? Это тигр, — ответила мать и потащила ребенка дальше.
Обернувшись, она заметила мое удивление и поправилась:
— Ах, нет! Это зебра.
* * *
Любопытна была работа с филинами. Нужно сказать, что они произвели на меня необычайное впечатление. В яркий солнечный день я остановился перед их клеткой. В глубине, на перекладине неподвижно сидели четыре огромных ушастых филина. Глаза их были закрыты. Ветер играл пушистыми перьями.
«Чучела», — подумал я и вспомнил, как в детстве часами простаивал перед витриной охотничьего магазина, любуясь выставленным чучелом филина.
Но нет, я ошибся. Чучела двигали ушами, как лошади, порознь и вместе. Один из них вдруг открыл большой круглый оранжевый глаз, уставился на меня и снова зажмурился.
Спящие филины.
Такую же ошибку сделал я в другой раз, но уже в помещении террариума. Есть такая змейка, носящая громкое наименование «степного удава», величиной с небольшого ужа. Поровнявшись с ней, посетители обыкновенно презрительно восклицают:
— Ну уж и удав! Какой он маленький!
Этот, с позволения сказать, удав так неподвижно висит на тоненькой веточке, что долго нельзя уловить в нем ни малейшего признака жизни.
— Как вы думаете, это чучело? — обратился я к стоявшему рядом рабочему.
— Эх, товарищ, — укоризненно ответил тот, — потому и зоопарк, что здесь все живое. — И, нарушая правила, он стукнул пальцем по стеклу. К моему стыду змейка задвигалась…
С поднятыми кверху ушами филины, как четыре зажженные свечи, так и проторчали на перекладине во все время моей работы. Лишь однажды один из них сдвинулся с места, да и то для того, чтобы броситься на меня.
Рисовал я перед другой клеткой немного подальше. В ней было десять филинов разных пород. Среди них выделялся красавец, если не ошибаюсь, туркменский филин. Приземистый, с длинным пушистым оперением беловато-охристого цвета, весь в черных крапинах, он всегда сидел на виду, вызывая восклицания восторга у посетителей.
«Он нам покою не дает…»
Нужно сказать, что с первого взгляда филин не производит впечатления страшной птицы. Днем, зажмурившись от яркого света, втянув шею и склонив набок голову, он большей частью спит. Его структура скрыта плотным оперением, лап не видно. Продолговатое тело кажется набитым ватой. Вот откуда ощущение чучела. Поражает лишь постоянная игра ушей и огромные кошачьи глаза, попеременно открывающиеся и закрывающиеся. Не то в движении. Когда филин чешется, опустив голову, он похож на большую кошку или рысь. Он делается еще страшнее, когда, повернувшись спиной, закинет назад голову и, нахохлившись, отряхивает перья.
Когда наступают сумерки и в зоопарке остаются лишь запоздавшие посетители, филины оживают. Бесшумно летают они вдоль клетки, опускаются на замерзшее мясо и вонзают в него изогнутые когти. Тогда вы увидите их страшное «вооружение»: лапу, величиной с лапу собаки, снабженную длинными острыми когтями, и невольно вспомнятся рассказы о том, что, ухватившись одной лапой за сучок или толстую ветку, филин может другой схватить на полном ходу бегущего зайца.
Туркменский филин казался мне особенно интересным в тот момент, когда он широко раскрывал глаза, вытягивал шею, прижимал уши и раскачивался головой и верхней частью туловища, всматриваясь в какой-нибудь незнакомый предмет. К сожалению такую позу принимал он очень редко.
Однажды я задержался в зоопарке. Было уже поздно. Пошел сильный снег, стало темно, и я решил отправляться домой. Перед уходом захотелось посмотреть на филинов. Когда я поровнялся с их клеткой, снег перестал падать. В сумерках «туркмен» вдруг спустился вниз, сел около решотки, уставился на меня и протяжно заукал.
Тогда мне пришла в голову гениальная мысль. Схватив бумагу и сангину, я присел против «туркмена», заукал и закачался как он. Не знаю, похож ли я стал на филина, сумел ли укать как он, или прельстили его мои очки, но только он продолжал покачиваться и укать, пока я не окончил рисунка.
Довольный, я гордо рассматривал свое произведение. Мимо проходили двое мальчиков, видимо торопившихся домой.
— Дяденька, покажи картинку, — попросил один из них.
— На, посмотри, — против обыкновения согласился я.
— Хорошо рисуешь, — одобрил он, — Подари его мне.
Польщенный, я спросил:
— Да зачем он тебе?
— Как зачем! А я его поверх раскрашу.
И я с грустью понял, что произведение искусства никогда не бывает совершенным… по крайней мере в глазах объективного зрителя.
* * *
В план моей работы были включена орлы. В зоопарке их имеется несколько разновидностей: степные, беркуты, могильники, и я колебался, на ком остановить свое внимание. Быть может отчасти благодаря названию выбор мой пал на орла-могильника. Могильник никогда не питается трупами, не разрывает никаких могил, а лишь любит сидеть на холмах и курганах, чтобы скорее заметить в степи добычу. А между тем много раз я слышал, как посетители, гадливо морщась, говорили:
— Ах! Это тот, что разрывает могилы и питается трупами.
Орел — хищник по преимуществу. В движении он необычайно пластичен и скульптурен. Когда он бегает по клетке, клохчет или рвет брошенные куски мяса, он кажется отлитым из бронзы.
К сожалению по мере наступления холодов орлы мои все меньше и меньше стали походить на бронзовые изваяния. Съежившись, дрожа от холода, они скорее напоминали огромных кур или ворон. А затем один за другим стали исчезать из клетки.
Заинтригованный этим таинственным исчезновением, я спросил однажды у сторожа:
— А куда же деваются орлы?
— На целдак уносу, там теплее, — отвечал он.
— Ну, а на чердаке можно рисовать?
— Нет, там темно, — последовал ответ. И мне пришлось думать о замене орла какой-нибудь другой хищной птицей.
За маленьким озером с лебедями — ряд клеток. Там помещаются белоголовые сипы, живущие в зоопарке более двадцати лет, беркуты, камчатский орел, с клювом похожим на клюв тукана, и кондор. Кондор зоопарка вряд ли сможет поднять в воздух овцу, но тем, не менее он настоящий живой кондор, водится, как гласит надпись, в Кордильерах. А в правом углу ряда, в последней клетке, на гладких валунах сидит огромная зловещая черная птица. Это гриф, черный гриф.
Всматриваясь в карту распространения грифов, я заметил два маленьких черных пятна на месте Кавказа и Урала. Водится, залетает, значит — птица СССР, и я вправе его рисовать. В смысле неподвижности натурщик идеальный, уступает разве только филину. Над ним задержался недолго, всего два-три дня, но зато в самые морозы. Было 20–22° ниже нуля. Отвлекался мало, потому что сильно торопился. Запомнилось лишь как жрут грифы. Они жадно хватают мясо, широко расправляют крылья и, волоча их по земле, бегут каждый в свой угол. Повернувшись спиной, как веером закрыв подачку крыльями, они опасливо оглядываются и жадно глотают куски. А иногда устремляются друг на друга и долго упорно дерутся.
Греться я бегал к морским львам, по дороге любуясь белыми лебедями. В противоположность вечно загаженным грифам лебеди поражали меня заботами о своем туалете. Для них на озере вырубается прорубь. В морозы, когда вода в проруби дымится от холода, они продолжают спокойно плавать. А выйдя на лед, тщательно перебирают каждое перышко. Даю слово, они были белее снега.
У морских львов оставался подолгу. Нравилось смотреть, как они быстро плавают по бассейну, ныряя и гоняясь друг за другом. Иногда они выскакивали на асфальтовый борт бассейна, блестящие от воды, как будто облитые жиром. Пробежав на ластах вдоль барьера, они с ревом бросались в воду, обдавая снопом брызг зазевавшихся посетителей.
Раза два для разнообразия уходил греться в птичий павильон, к попугаям. Там теплее, зато много беспокойнее. Еще при входе слышатся возгласы:
— Попка дурак, попка дурак!..
Не думайте, что это кричат попугаи. Это детвора — главные посетители павильона — на разные голоса повторяют сакраментальное «попка дурак» в надежде вызвать ответную реплику у попугаев. Тщетно! Шум окончательно сбивает этих птиц с толку, и они лишь дико хрипло кричат.
«Миша, ш-ш-ш!..»
Там есть пара чудесных желтосиних ара. Самец сидел на сучке, а самка примостилась ниже его на оконной решотке, жадно ловя всем телом слабые лучи зимнего солнца. Зажмурив глаза, она подставила голову супругу, а тот нежно перебирал клювом перья.
Мишка скучает…
В клетках попугаям устроены гнезда, там возникают романы, заключаются браки. Но кажется до сих пор еще не было потомства.
Мне удалось быть свидетелем возникновения трогательной нежной дружбы. В клетке зеленых амазонских попугаев мое внимание привлек маленький попугай необыкновенного вида. Желтая голова, зеленое туловище, синие перья на крыльях. Клюв несколько похож на клюв попугайчиков-неразлучников.
Он все время упорно прижимался к одному из «амазонцев», подставлял ему голову, требовал ласки. Зеленый подчинялся, но иногда, потеряв терпение, клювом отгонял его от себя. Попугайчик с жалобным криком отпрыгивал в сторону, а через несколько секунд снова приближался и снова получал побои.
— Что за порода? — спросил у сторожа.
— На Смоленском за пятьдесят рублей купили, — охотно ответил тот. — Неизвестной породы. Две недели определяют, все не могут определить.
— Что же, дружит он с зеленым?
— Да, вот поди ты! Как привезли в клетку, пристал и не отстает. Видно полюбился ему зеленый.
Мы разговорились. Словоохотливый сторож провел меня по птичьему павильону, а при прощании, конфузливо улыбаясь, вдруг сказал:
— Вы, я вижу, любите птиц, гражданин. Нет ли у вас кого, кто собирается ехать за границу?
— А зачем вам?
— Да все хочу попросить канарейку оттуда привезти.
— А разве у нас нет?
— Ну, какие это канарейки! Дудочные все, — презрительно протянул он.
Весной мне пришлось видеть и окончание этого романа. На самой нижней перекладине той же клетки спал зеленый попугай, а рядом с ним, тесно прижавшись всем телом, дремал желтозеленый попугайчик…
Гриф окончен. Нужно переходить к медведям. На старой территории их только пара: бурый и белый. Оба в тесных клетках, к ним трудно подступиться, и я перенес работу на новую территорию.
III
Иллюзия свободы. — «Остров зверей». — Несуразные олени. — Злосчастная парочка. — Мишка тоскует. — Гостинец из Художественного театра. — Медвежонок с ледокола. — Косолапые борцы. — Медвежий юмор. — Почтение к старшим. — Камень вместо хлеба.
По сравнению со старой новая территория кажется огромным пустырем. В ней нет отгороженных уголков и закутов. Звери расселяются по принципу предоставления им, если не свободы, то возможной иллюзии свободы.
Идя по аллее вдоль озера, вы подходите к «горе животных». За решоткой бродят яки, дагестанские туры и олень-марал. А на вершине скалы почему-то сидит одинокий черный гриф. Напротив «горы животных», за рвом — белые медведи и песцы. В глубине парка — «остров зверей». Большая искусственная скала. Внутри ее террариум, зимой почти все время закрытый, и еще какие-то помещения. А снаружи, за рвами, летом наполненными водой, помещаются тигры, волки, медведи, лисы, барсы. Друг от друга они отделены высокими гладкими бетонными перегородками, от зрителя — только рвом и невысоким барьером. Все рассчитано на невозможность для зверя преодолеть эти казалось бы незначительные преграды.
На новой территории кроме террариума нет закрытых помещений. Мне пришлось основательно мерзнуть, но зато довольно долгое время я действительно прожил в обществе только диких зверей. Утром, если не считать двух сторожей да проходящих сотрудников, я был совершенно один. Редкие посетители появлялись не раньше двенадцати. Утомленные осмотром, они быстро обходили вокруг «острова зверей», в надежде погреться тыкались носом в запертый террариум и спешили покинуть мало гостеприимную территорию.
Не все звери находятся однако в огороженных помещениях. Издали в тумане были заметны не то лани, не то козули, свободно бродившие по парку. При моем, приближении они бросались в сторону. А по аллеям ходили какие-то неизвестные мне животные. Ростом с теленка, бесхвостые, тупорылые, с большими ушами, они стадом голов в десять свободно расхаживали по территории парка. Сухожилия их ног издавали странный сухой треск, когда животное шагало. На лбу вместо рогов какие-то обломки причудливой формы, у некоторых в виде длинного карандаша, с лоскутьями окровавленной кожи. Часто они подходили ко мне, останавливались и, наклонив голову, сердито смотрели на меня выпуклыми, налитыми кровью глазами.
Это были северные олени. Что за убогие существа по сравнению с оленем-маралом, у которого рога расположены правильным полукругом над головой! Один марал лежал у решотки «горы животных», в самом низу, у аллеи. При моем появлении он раздраженно пищал, Вставал и шел за мной, протягивая морду. Давал долго гладить себя, а потом вдруг наклонял голову и бил рогами в решотку, пытаясь меня достать.
Однажды я рисовал белого медведя. Издали я заметил мужчину и женщину, шедших по аллее по направлению к выходу. За ними плелся северный олень. Полагая, что он попросту из любопытства увязался за посетителями, я продолжал рисовать, как вдруг услышал крик.
— Ради бога, помогите нам, гражданин! — вопила дама.
Тащит Зойку вниз…
Обернувшись, я увидел необыкновенную сцену. Испуганная женщина отпрыгнула в сторону. А посреди аллеи спокойно и методически олень долбил рогом ее спутника в… зад. Ухватившись рукой за рога и нелепо изогнувшись, гражданин тщетно старался отклонить голову оленя от удачно выбранной мишени.
— Он нам покою не дает! — захлебывалась посетительница.
— Пристал с самого конца парка и не отстает. Замучил совсем.
— Пошел вон! — заорал я изо всех сил.
Попрошайничает…
Испуганный олень метнулся в сторону, а спасенная мной парочка поспешила к выходу. С тех пор я чувствовал себя не совсем спокойно, когда олень останавливался позади меня и начинал упорно разглядывать мою спину.
* * *
Над северными оленями мне не пришлось работать: без рогов они не представляли для издательства никакого интереса. Поэтому я перешел к белым медведям. Их было тогда двое. Самец, пожалуй такой же огромный, как тот, что сидит в тесной клетке старого зоопарка, и самка — значительно меньше ростом. Длинная густая шерсть на снегу казалась желтого цвета. Белый медведь питается исключительно мясом и обладает необычайно острым зрением. Об этом не трудно догадаться, если сравнить его строгие глаза с подслеповатыми, похожими на пуговицы глазами бурого медведя. Отличные пловцы, зимой они вынуждены были обходиться без воды. Они подолгу играли, а потом на подошвах, как на полозьях, сползали в ров. Там, засунув лапы по самое плечо в щель между льдинами, они, фыркая, ковырялись во льду, поочередно заглядывая в отверстие. Я так и не мог догадаться, чего они искали.
Вскоре отсадили самку, и мишка остался один. Распластавшись на брюхе, склонив голову на переднюю лапу, он часами лежал на возвышении посреди площадки, всем своим видом выражая непритворную грусть. Только отдаленный шум голосов или скрип полозьев выводили мишку из состояния оцепенения. Тогда он поднимался на задние лапы, вытягивал шею и внимательно всматривался вдаль. При этом нижняя губа его, сложенная лодочкой, как-то по-детски оттопыривалась, а пальцы сведенных вместе передних лап судорожно двигались: мишке хотелось есть.
Однажды часов в девять утра к клетке мишки приблизились сотрудник зоопарка и четверо сторожей. Двое из них поставили на землю деревянный ящик, а один стал взбираться на верхнюю площадку, откуда можно открыть железную заслонку, ведущую во внутреннее помещение.
— Готовься, — тихо сказал сотрудник.
Сторожа нагнулись, что-то взяли из ящика и разместились на равном расстоянии друг от друга вдоль рва.
— Угостим сейчас мишку, — сказал один из них.
— Что вы делаете? — тихо спросил я сторожа.
— Сейчас будем самок впускать — одну новую. Боимся, как бы не задрал ее.
— А что у вас в руках
— Гостинец из Художественного театра.
Оказывается, в дерущихся зверей, чтобы разнять их, бросают театральные петарды, с виду напоминающие ручные гранаты.
— Открывай! — раздалась команда сотрудника. — И в отверстии стены, осторожно высовывая голову, одна за другой появились белые медведицы. Сверх всякого ожидания соскучившийся мишка не обнаружил желания драться. Лишь один раз он, вдруг ощерившись, с ревом бросился на испуганную новую самку.
— Миша, ш-ш-ш! — как-то особенно выкрикнул сторож. И под брюхом у медведя разорвалась брошенная петарда. Поджав зад, звери разбежались в разные стороны. Медведи так боятся взрыва, что иногда от одного лишь окрика: «Миша, ш-ш-ш» с ними делаются приступы «медвежьей болезни». Часа два около клетки бродил оставленный на карауле сторож с петардой в руках, а потом удалился, так и не пустив в ход своего оружия.
Капетдагский баран.
Последующие дни я с интересом наблюдал, как мишка неуклюже ухаживал за своей новой супругой. Он не отходил от нее ни на шаг. А когда, утомившись, она засыпала, ложился невдалеке и начинал катиться по направлению к ней. Докатившись, некоторое время делал вид, что спит, а потом кокетливо подталкивал ее плечом и будил. Тогда снова начинались игры. Напрасно первая жена старалась обратить на себя внимание мишки. Его оскаленные зубы и сердитый рев держали ее на почтительном расстоянии.
* * *
На «острове зверей» было еще одно помещение, отведенное для белых медвежат. Их было четверо. Младший, с большой головой на тонкой шее, курносым носом и лохматой спутанной шерстью, походил скорее на белого шпица. Самый взрослый напоминал настоящего белого медведя. Он все время стоял в четырех-пяти шагах от посетителей, у самого края неширокого рва. На лбу его я заметил над правым глазом косой глубокий шрам.
— С ледокола он, — сказал подошедший сторож.
— С какого ледокола?
— Ледокол «Седой» с экспедиции привез.
— Ну, а шрам откуда?
— А это он вырвался раз, да и бросился на палубе на команду. Разбежались все кто куда. Спасибо кочегару, не растерялся, выскочил из трюма, схватил топор и уложил замертво. Насилу отходили… Потом отдали нам, — заключил сторож свой рассказ.
В полдень медвежата волновались в ожидании еды, а пообедав, все четверо вповалку укладывались спать, издали походя на одного большого белого медведя.
Помещение рядом казалось пустым. Плотники, производившие в террариуме ремонт, выбегали наружу и, наклонившись над барьером, протяжно кричали:
— Ми-и-ша! А Ми-и-ша! Поборись!
На зов их из глубокой ямы в снегу поднимался огромный бурый медведь. Оглядев кричавших маленькими заспанными глазками, он неторопливо подходил к краю рва и некоторое время, казалось, раздумывал. А потом вдруг хватался передней лапой за локоть другой и с каким-то замысловатым движением головы и плеч делал вид, что кладет себя на обе лопатки. Исполнив номер, он так же неторопливо удалялся вглубь и, потоптавшись на снегу, укладывался спать.
Дагестанские туры.
Перед клеткой, находящейся несколько далее, рядом со входом в террариум, я провел довольно долгое время. В ней, как в общей камере, помещаются разного рода медведи: бархатно-черный уральский, бурые, несколько маленьких кавказских и, к моему удивлению, белый медведь. Нисколько не стесняясь неподходящим казалось бы для него обществом, он чувствовал себя превосходно, со всеми дружил, играл. В противоположность бурым медведям, всеядным, белый медведь — чистый хищник. Мне показалось странным такое мирное сожительство. Оказывается, медведи воспитывались вместе и с детства привыкли друг к другу.
Играя одинаково добродушно со всеми товарищами, белый медведь видимо только одного большого бурого медведя считал равным себе. С ним он не брезгал вступать в единоборство. Борьба велась по всем правилам искусства. Противники становились на задние лапы, обхватывали друг друга, пыхтели и кружились на месте как заправские борцы. Запрещенных приемов видимо не было. Даже «двойной нельсон» иногда пускался в ход, и крепкие медвежьи позвонки без труда выдерживали его. К зубам прибегали редко, разве только для того, чтобы подтянуть к себе убегающего противника. По силе бурый медведь уступал белому, но зато он более устойчиво держался на ногах. Ловкость у обоих была одинаковая: медвежья. Под хохот собравшихся зрителей борцы поочередно клали друг друга на обе лопатки.
Уральский медведь не принимал в борьбе никакого участия. Он предпочитал лежать отдельно, напоминая большого черного пса. По временам он вскакивал, подбегал к кавказской медведице, толкал ее боком и, делая вид, что убегает, мчался по площадке галопом, описывая большие круги. Медведи, несмотря на свой неуклюжий вид, в скорости бега не уступают самой резвой лошади.
Москвичам не приходится описывать кавказских медведей. Это их водят по площадям и бульварам поводыри, собирая толпы зевак. Кавказские медведи смышлены и смирны. Одну из медведиц зовут Зойка. Еще недавно Зойка свободно гуляла по парку и подпускала к себе сторожей. По пословице «с кем поведешься, от того и наберешься», она быстро переняла нравы медвежьего общества, в котором теперь находилась.
— Не войдешь, — уверенно говорит сторож, — задерет…
В еде Зойка не совсем аккуратна: она постоянно забрызгивала себя кровью. Тогда белый медгедь подходил к ней и усердно вылизывал ее густой мех. Эта забота о Зойкином туалете была не лишена некоторых корыстных расчетов: облизывая Зойку, белый пользовался кровью, до которой он такой охотник.
Медведи не лишены чувства юмора. Однажды я видел, как Зойка карабкалась вверх по обледенелому склону рва. Нужно сказать, что по этому склону медведи непрерывно скатывались вниз и так укатали его, что он стал похож на настоящую ледяную гору. Зойка карабкалась с трудом, скатывалась и снова карабкалась. Сидящий невдалеке бурый медведь с любопытством следил за ней. Когда Зойка казалось совсем достигла цели, бурый поднялся, схватил Зойку зубами за заднюю лапу, стащил вниз… и отошел в сторону. Глаза его лукаво блестели. Так повторилось несколько раз, пока Зойка с ревом не кинулась на обидчика.
Жили медведи дружно. За все время я ни разу не наблюдал серьезной ссоры, даже при раздаче пищи. Правда, хватали куски, ревели что было сил, но не дрались. Раз одна из кавказских медведиц подошла к бурому медведю, жравшему утробину, зарычала и отняла у него большой кусок. Тот даже не подумал прибегнуть к силе, чтобы защититься.
Если медведи разного возраста, такую уступчивость можно еще объяснить. Звери вообще питают большое уважение к старшим. Особенно это заметно у собак. Однажды вечером в цветнике Арбатской площади я видел, как маленькая толстая белая собачка с лаем кинулась из-под скамейки на проходившего мимо большого дога. И дог, который одним взмахом челюстей мог бы перекусить наглую собачку пополам, с визгом обратился в позорное бегство. В чем дело? — Очень просто: собачонка старше, и дог молчаливо признал за ней полное право кусаться.
Так же как и у людей, правом этим часто злоупотребляют. Редкая курица, например, если вы кормите ее вместе с цыплятами, сможет удержаться от искушения долбануть какого-нибудь из них в голову. Делается это не потому, что цыпленок виноват, а просто из принципа, из желания «поучить» молодежь. Бывают такие старухи: встретив детей, они обязательно скажут им что-либо неприятное, чтобы поучить, как нужно жить.
Медведей кормят по норме, что нисколько не мешает им попрошайничать, и надо сознаться, что делают они это мастерски. Становятся на задние лапы, машут вам «ручкой» или же садятся на снег и, ухватившись передними лапами за задние, раскачиваются как кресла-качалки. Растроганные зрители редко удерживаются от нарушения правил. Начинают бросать кусочки белого хлеба или конфеты прямо в бумажках. А некоторые, с умилением сказав: «Эх, надо бы ему что-нибудь дать», — нагибаются, ищут камешки и, нацелившись, стараются попасть в открытую пасть медведя. Что называется, вместо хлеба дают камень. Таких нещадно штрафуют.
Раз утром сквозь покрытые инеем ветви деревьев я увидел густой черный дым. Горел Поленовский музей. Пожар уже близился к концу. По обгорелой крыше бегали пожарные, отрывая листы железа. Шум привел медведей в необычайное волнение: они столпились у края своего помещения и с любопытством наблюдали за происшествием.
Через ворота рядом с домом Поленова каждый день на дровнях привозили мясо. Перед тем как въехать, возница долго и громко разговаривал с привратником. Вот почему мне казалось, что медведи попросту столпились в ожидании еды, принимая пожарных, бегающих по крыше, за поваров, готовящих для них ранний и вкусный обед.
IV
Дружба с маралом. — Любовь и решотка. — Бой на рапирах. — Беда от нежного сердца. — Туры дразнят яков. — Полосатая Надя. — Шайтан и Амба. — Олень бастует. — Юннаты в зоопарке. — Загадочное сходство. — Кормление оранга. — Обезьяньи характеры.
Я уже рассказывал о моей дружбе с маралом. Каждый день бежал к нему здороваться. Если он стоял далеко от решотки, я кричал:
— Марал! Маральчик!
От одиночества или потому, что принимал меня за нового сторожа, он подходил на звук моего голоса.
— Здорово, маральчик! — говорил я ему и ласково трепал его мокрую морду.
Впрочем я был осторожен, потому что марал иногда с сердитым писком начинал бить рогами о решотку. Ветвистые рога он носил легко, а между тем они должны были представлять значительную тяжесть. Как и у лося, они отпадают после брачного периода. Защищается марал не ими. Он становится на задние ноги, вздымается кверху и копытами бьет врага по голове.
Марал яростно бросался на яка… Начинался бой…
Через дорогу, против «горы зверей» помещается большой, огороженный решоткой загон для оленей. Там бродил хромой самец марал и несколько самок. Они старались держаться вдали от посетителей. Мой одинокий друг всегда ложился в углу напротив этого загона. А завидев самок, вставал, вытягивал голову вверх, так что рога его касались спины, и, оскалив зубы, хлюпал, втягивая воздух. Одна из самок, стройная высокая красавица, подходила к решотке и смотрела на марала, раздувая тонкие ноздри. Так любовались они друг другом.
Мне вспомнилась царская тюрьма. Две решотки, отделенные узкой асфальтовой дорожкой, по которой ходят тюремные надзиратели. Арестанты сплюснувшие носы о железную сетку. А по другую сторону родственники и друзья, пришедшие на свиданье. В толпе как маралы молча глядят друг другу в глаза близкие люди.
И я понимал, почему марал вдруг яростно бросался на проходящего яка. Начинался бой, настоящий бой на рапирах. Бойцы, склонив голову, становились друг против друга, и каждый удар, нанесенный рогами одного, отражался встречном ударом рогов другого. Иногда сходились вплотную, клали рога на рога. Лишь налитые кровью глаза и волнообразные движения шеи позволяли угадывать напряжение мышц противников. Мне нравилось смотреть на эти сражения. Я охотно прислушивался к стуку рогов и вмешивался только тогда, когда бой заходил слишком далеко. Если не помогали крики, я хватал куски льда и бросал их в дерущихся. Но обыкновенно бой кончался отступлением яка. Да оно и понятно: у него было несколько жен, и он не имел основания впадать в беспричинную ярость. Мой воинственный друг победоносно теснил врага по загону или шел сражаться с другим.
Яки — их было двое в загоне — никогда не заступались один за другого. Только раз издали я видел, как они вдвоем сражались с маралом.
— Беда! Яки забодают марала, — сказал пробежавший сотрудник.
А другой бросил в дерущихся случайно находившуюся в руках петарду. Взрыв, облако дыма, и яки, задрав хвост, галопом помчались в гору.
Шайтан и Амба.
К двум часам все население загона толпилось у ворот в ожидании сторожа. В ведрах он приносил нарубленные овощи и насыпал корм в низкие деревянные корыта. Марал и здесь отличался. Он старался боднуть сторожа в спину. А когда тот уходил, шел к дагестанским турам, разгонял их и рогами опрокидывал все корыта, расшвыривая корм по снегу. Делал это он почти каждый день, очевидно из простого озорства.
Потребность в ласке у него была необычайно сильна. Он нередко провожал меня вдоль всего загона, требуя к себе внимания. А когда наступили ясные дни и туры стали греться на солнышке с подветренной стороны горы, марал мешал мне работать. Он становился передо мной, подставлял морду, а туловищем загораживал от меня остальных животных. Приходилось заманивать его в угол, к корыту, а потом быстро бежать вниз и оканчивать начатый рисунок. Как видите, дружба с маралом, как и всякая дружба, имела свои неудобства.
* * *
По загону, мелко перебирая тонкими ногами, бродил желтый поджарый баран с огромными четырехугольными витыми рогами. На рогах поперечные насечки как на сайках. Внизу он появлялся редко, а большей частью стоял где-нибудь на горе или бил рогами о защищенные сетками стволы деревьев. Подходя к решотке, он иногда снисходительно позволял мне гладить себя, а иногда провожал меня вдоль загона к корытам с кормом. Однажды, забыв о его присутствии, я делал набросок с самки тура. Для удобства я глубоко просунул в отверстие решотки носок валенка и оперся на поднятое колено. Внезапно баран наклонил голову и изо всех сил ударил рогами в решотку, целясь прямо в носок моей ноги. К счастью я во-время успел отдернуть ее.
Милиционер, дежуривший в зоопарке, уверял меня, что туры свободно перепрыгивают через высокую металлическую решотку загона. Не знаю, насколько это верно. При мне они не делали никаких прыжков. Самки мирно бродили с козлятами, а самцы иногда фехтовали друг с другом по всем правилам искусства, а иногда отправлялись дразнить яков. Они становились перед ними и, мотая головой, делали вид, что хотят ударить рогами. Видимо, то была простая игра, и турам нравилось заставлять яков принимать оборонительные позы.
* * *
Оставались тигры. На новой территории их четыре. Помещение для них отведено большое, и вы можете вдоволь налюбоваться их свободными движениями, играми и прыжками. В противоположность персидскому амурский тигр снабжен густой длинной шерстью и плотным подшерстком, так что свободно переносит самые суровые холода.
В зоопарке на ночь их запирают в закрытое помещение, а утром, часов в десять, когда появляются ранние посетители, выпускают наружу. К вечеру озябшие тигры сами охотно уходят в тепло, а утром не менее охотно выбегают на открытый воздух. Сторожам не приходится прибегать к услугам железных прутьев. Вот почему здешние тигры относятся к ним гораздо терпимее, чем тигры старой территории. Может быть даже есть какое-то чувство привязанности. По крайней мере, когда сторож подходил к барьеру, и наклоняясь, начинал кричать: «Надька, Надюша, пойди сюда!» — одна из тигриц отделялась от своих подруг, прыгала в ров и, став на задние лапы, тянулась к сторожу.
Тигры держались все время на большом расстоянии или быстро шагали вдоль рва. И я решил возвратиться на старую территорию к Амбе и Шайтану.
Шайтан и Амба, два амурских тигра, помещались вместе в одной из клеток. Брат и сестра. История их пленения не сложна. Где-то на Амуре охотники убили тигрицу, их мать. При попытке захватить живьем один из тигрят был смертельно ранен, а двое — Шайтан и Амба — взяты в плен. Маленьких, их доставили в зоопарк. Сейчас им около двух лет, на вид — это уже совсем взрослые тигры.
Когда я увидел их в первый раз, они спали на соломе в глубине клетки. Амба нежно обнимала передними лапами Шайтана. Я сделал с них несколько набросков.
* * *
Некоторое время я не ходил на зарисовки в зоопарк. За мое отсутствие мало что изменилось на старой территории. В полном разгаре был сезон зимнего катания. По кругу бегала пара шотландских пони, запряженных в сани. За ними трусил, потряхивая бубенцами, тоже запряженный ослик. Рядом со сторожем — толпа детей, желающих покататься. Езда на представляла затруднений, ибо умные животные привычно бежали по проторенной в снегу дорожке. И тем не менее, как испуганно плакали дети, когда из рук их выпадали бесполезные вожжи! На верблюдах иногда катались и взрослые.
Впрочем некоторые из верблюдов упорно отказывались работать. Один из них, особенно ленивый, вызывал возмущение моего картавого приятеля-сторожа:
— Цёлт его знает! Хоть бы плодали его, — говорил он.
У павильона, где зимой помещается мастерская художника, трое юных натуралистов учили ходить в упряжи большого сенбернара. Немного дальше мне повстречалась румяная комсомолка в ковбойской шляпе. Она вела на цепочке… енотовую собачку.
Кружок юных натуралистов повидимому очень многочислен в зоопарке. По крайней мере мимо меня то-и-дело шныряли ребята с тетрадями и альбомами в руках. Они заходили в зимние павильоны, а особенно часто к обезьянам. Потом уж я узнал, что под руководством художника они занимаются рисованием зверей.
Стоит ли говорить о всем известном сходстве обезьяны с человеком, тем не менее, когда старый оранг чисто человеческим движением раз приподнял край одеяла и посмотрел, лежат ли под ним спрятанные фрукты, мне стало как-то не по себе.
Мне всегда казалось, что климат откладывает одинаковый отпечаток на внешний облик людей и зверей. Так, оранг напоминал мне малайца. К тому же он желтоватого цвета и смотрит на вас как-то раскосо. Черный шимпанзе походил на негра. Если вы внимательно всмотритесь в дагестанского тура, особенно в его профиль, вас поразит несомненно восточный тип его «лица». У одного из моих товарищей-художников я видел сиамскую кошку, она была похожа на китайца. А в союзе Рабис я раз видел артистку с африканской собакой. Глядя на редкие пучки волос, торчащие кое-где на ее черной, как бы покрытой перхотью коже, я вспомнил о кудрявых, растущих пучками волосах негров.
Шайтан с диким ревом бросался на решотку…
У меня был один знакомый, страстный охотник. Лицом он походил на грека или перса. Однажды, когда мы сидели с ним вечером у зажженного костра на берегу Волги, взгляд мой упал на лежавшего рядом пойнтера в черных подпалинах. Я чуть не вскрикнул от удивления: Фегас — так звали пойнтера — смотрел на меня такими же выцветшими глазами, как и его хозяин. Сходство было удивительное. «Люди выбирают себе животных по своему образу и подобию», — подумал я. И с тех пор старался всегда проверять свое наблюдение.
Помню, в Париже, в зоологическом саду я видел двух тюленей. Они ныряли в бассейне, ловя брошенную рыбу, а появляясь из воды, отчетливо произносили: «Па-па! Ма-ма!» За ними ухаживал плотный усатый сторож. Тюлени часто вылезали наружу и подползали к нему. А когда он говорил им: «Поцелуйте меня», — обнимали его ластами и тянулись мордой к его лицу. И тогда разительное сходство сторожа с тюленями бросалось в глаза всем посетителям. Может быть в силу этой предвзятой мысли мне казалось, что есть какое-то неуловимое сходство между морскими львами, находящимися в нашем зоопарке, и сторожем их павильона.
* * *
Под навесом павильона обезьян толпятся зрители. То-и-дело раздается взрыв хохота. Это они любуются на молодого opaнга и шимпанзе. Обе обезьяны здоровы, веселы и повидимому без труда переносят суровый климат. Помещение, где они находятся, конечно хорошо отапливается. Ухаживает за ними пожилой сотрудник с седой бородой. Одетый в синий халат, он похож на больничного сторожа.
По развитию и психике обезьян вполне можно приравнять к маленьким детям. Они так же капризны, раздражительны. Настроение их резко меняется. При еде рассеянны, и их приходится уговаривать или развлекать как ребят, чтобы накормить досыта. При мне их кормили печеньем, фруктами, супом, а с ложки давали пить какой-то желтый сироп. Процедура кормления ничем не отличалась от кормления ребенка. Старик садился на табуретку, брал к себе на колени молодого оранга и кормил его с ложки, ласково уговаривая и развлекая. Оранг ел, рассеянно поглядывая по сторонам. Старик салфеткой обтирал губы питомцу, а иногда оранг сам брал салфетку из рук старика и быстро проводил ею по своим губам. Старика оранг часто целовал, вытягивая далеко вперед губы, и тогда был похож на маленького ребенка, собирающегося чмокнуть кого-нибудь в щеку.
Старик терпеливо обучал оранга хорошим манерам: давал ложку и заставлял есть самого. Оранг неуверенно подносил ее к губам, иногда пронося мимо рта. Но все же он довольно быстро усваивал урок. Один раз старик, дав ему в руки пузырек, показал, как надо держать бутылочку, чтобы пить прямо из горлышка, и оранг тотчас перенял движение На десерт он получал что-нибудь сладкое и тогда срывался с колен и ловко взбирался вверх по решотке, чтобы показать подарок отцу, сидящему отдельно в задней клетке. Сначала я думал, что он попросту дразнит отца, но потом понял, что только хвастается полученным десертом.
По сравнению с шимпанзе оранг меланхоличен и мало подвижен. Видимо, он очень послушен. Однажды шимпанзе утащил у сторожа, чинившего решотку, кусок проволоки и забрался с нею на верхушку клетки. Сквозь окно я видел, как сторож, несколько раз повторив какую-то фразу, рукой указал орангу на шимпанзе. Оранг медленно поднялся наверх, отнял у шимпанзе проволоку и отдал сторожу.
Они рисуют зверей.
Шимпанзе вел себя иначе. Однажды каким-то образом ему удалось стащить у зазевавшегося старика ключ от клетки. Зажав его в руках, обезьяна металась по всему помещению, ловко уклоняясь от преследования и не обращая внимания на уговоры. Тогда старик протянул ей какое-то лакомство. Шимпанзе принялся за еду, положив ключ на доску, а когда вспомнил о нем — ключа уже не было.
Оранг и шимпанзе иногда помещались вместе, и в клетку к ним заходила хорошенькая девочка лет четырнадцати. Разница в характере двух обезьян сказывалась сразу. Оранг, играя с гостьей, обходился с нею нежно, часто целовал, а шимпанзе норовил изловчиться и оттаскать ее за волосы.
При виде играющей с обезьянами девочки мне невольно захотелось войти в клетку. Впрочем, когда я узнал, что по временам старый оранг впадает в дикое бешенство и нещадно лупит палкой подвернувшихся сотрудников, желание мое исчезло бесследно.
V
Тигры на охоте. — Пузатый «гималаец». — Медвежье рукопожатие. — Ненавистный сторож. — Суровое ремесло. — Роковое движение. — Самый большой лев в Европе. — «Друг человека». — Бывалая девица. — Полезная пустельга. — Кормление хищников. — Ястреба на закуску. — Зоопарк летом. — Меня не узнали. — Кормилица тигрят.
Однако вернемся к тиграм. Шайтан и Амба, мирно спавшие на соломе, казались сначала просто гигантскими кошками. Когда они садятся по естественной надобности в углу клетки и смотрят на вас с выражением какой-то наивной сосредоточенности, это сходство особенно бросается в глаза. Но стоило невдалеке показаться маленькому ребенку или собаке — тигры преображались. Припав на брюхо, от нетерпения перебирая ногами, они жадно всматривались в приближавшуюся жертву. А потом бесшумно крались вдоль решотки. Глаза их горели, пасть раскрывалась, обнажая острые клыки. Кошка становилась страшным зверем.
Рядом через стенку помещался гималайский медвежонок. Прелестное пузатое существо! Гималайские медведи — абсолютные вегетарианцы, и кормят их исключительно ржаным хлебом. Вероятно поэтому глаза их светятся необычайным добродушием.
Медвежонок большей частью сидел у решотки, взяв в лапы кусок хлеба. Сначала он внимательно разглядывал его, а потом начинал медленно жевать. Обглоданные корки отбрасывались в сторону, и пол клетки был усеян ими.
Гималайские медведи очень общительны. При посетителях оживляются и всячески стараются обратить на себя их внимание. Оставаясь одни, заметно скучают.
Тонкая перегородка отделяла пузатого медвежонка от взрослого медведя той же породы. Соскучившись, мишки прижимались к стенке и старались просунуть лапы навстречу друг другу через решотку так, чтобы коснуться ими. А когда это удавалось, они застывали в позе здоровающихся людей.
Невольно я вспомнил рассказ одного моего товарища о том, как однажды, будучи заключен в одиночную камеру, он нашел в темном углу ее узкое отверстие. Через это отверстие нельзя было ничего увидеть, но можно было просунуть руку навстречу соседу по камере.
— И я, — говорил приятель, — часто пользовался этой возможностью поздороваться с товарищем по несчастью…
Раз, когда я внимательно рассматривал Шайтана, я услышал за спиной чей-то топот. Быстро обернувшись, я увидел, что медвежонок пытливо смотрит на меня. Встретив мой взгляд, мишка сразу на четырех лапах подпрыгнул вверх, забавно мотая при этом головой. А потом сделал паузу, чтобы судить о произведенном на меня впечатлении. Так повторилось несколько раз. Поняв наконец, что соскучившийся мишка зовет меня к себе, я подошел к клетке. Тогда медвежонок радостно стал метаться по ней и, подбрасывая носом вверх солому, делал вид, что ловит ее на лету.
Шайтан и Амба повидимому не обращали никакого внимания на сотрудников зоопарка. Только раз, когда один из них, проходя к собакам, ласково крикнул: «Шайтан, Шайтанчик!» — мне показалось, что тигр готов был откликнуться на зов.
Мимо клетки часто проходил молодой сторож в кожаной куртке, постоянно ухаживающий за хищниками. При его появлении тигры приходили в бешенство. Амба, рыча, забивалась в угол, а Шайтан с диким ревом бросался на решотку, стараясь допрыгнуть до ненавистного сторожа. Впившись зубами и когтями в железные прутья, он тряс их судорожными рывками в тщетной надежде сломать или разогнуть.
Временами оранг нещадно лупит палкой подвернувшихся сотрудников…
От рева тигров гималайский медвежонок приходил в ужас. Быстро взбирался он по решотке к потолку своей клетки и там забивался в темный угол с выпученными от страха глазами.
— Миша, слезай! Слезай, голубчик, — ласково говорили ему посетители.
И только после долгих уговоров бедный мишка осмеливался спуститься вниз, чтобы через несколько минут испугаться снова.
Мне казалась необъяснимой такая ненависть Шайтана и Амбы к ухаживающему за ними сторожу. Ведь он каждый день распределяет им пищу. Разве за одно это не должны бы они питать к нему чувство самой элементарной благодарности? В обращении сторожей со зверями я не заметил ни малейших следов грубости.
Оказывается перед кормлением Шайтана и Амбу загоняют во внутреннее помещение. Сторож подходит к клетке с длинным шестом, на конце которого имеется ключ. Этим ключом он отпирает дверцу, ведущую внутрь, и если тигры не уходят добровольно, гонит их ударами шеста. Тигры подчиняются неохотно. Они пытаются ухватить зубами шест, бросаются на сторожа. Вот почему сторож становится им ненавистен даже тогда, когда он проходит мимо клетки.
Как видите, профессия сторожа зоопарка не лишена некоторого риска. Что же удивительного в том, что вам резко бросится в глаза разница в характере и поведении сторожей павильона хищников в сравнении со сторожами других отделений. Оба они суровы и молчаливы, на вопросы отвечают нехотя, сквозь зубы. Некоторый отпечаток накладывает вероятно характер самих хищников, находящихся на их попечении. Помимо сознания личной опасности играет немалую роль сознание ответственности за безопасность посетителей. Во время кормления в павильон набивается множество народу, и сторожам приходится глядеть, что называется, в оба, чтобы не случилось какого-нибудь несчастья. Вкрадчивыми движениями и бесшумной походкой хищники часто заставляют публику забывать об опасности…
Собака со своими приемными детьми — тигрятами.
Все вероятно читали в газетах сообщение о несчастном случае в зоопарке, когда тигр оторвал руку одному из сторожей. Позвольте мне рассказать об этом событии так, как мне передавал мой картавый приятель, не беря на себя ответственности за точное описание события.
Обыкновенно куски мяса проталкиваются хищникам железным прутом в щель между полом и решоткой. Мясо застряло. Неосторожно сторож-латыш решил протолкнуть его рукой и не успел еще отдернуть ее назад, как тигр ухватился зубами за палец. От боли сторож невольно сунул руку в глубь пасти и этим дал возможность ухватиться тигру за кисть руки. Сторож закричал. А когда прибежали сотрудники, тигр уже тащил его за локоть. На крики и угрозы зверь не обращал никакого внимания. Пришлось схватить сторожа за туловище и тащить его в обратную сторону. Так и тянули в разные стороны, пока рука не оторвалась совсем. А сторож умер в больнице от заражения крови…
* * *
Павильон хищников. Два ряда клеток, посреди — широкий коридор. Пара великолепных львов со львицами. Один из них, черногривый, действительно гигантских размеров.
— Самый большой лев в Европе! — с гордостью рекомендуют его сотрудники зоопарка.
Перед этим львом я подолгу стоял как загипнотизированный. Мне нравилась его гордая голова, и становилось как-то не по себе, когда он устремлял на меня внимательный взгляд: глаза его смотрели мимо меня, куда-то вдаль.
Две клетки с пятнистыми леопардами. Жуткий зверь, хищник из хищников. Не боится даже льва. Рядом две черные пантеры. Противные черные кошки с желтыми глазами. Достаточно приблизиться к ним, как они начинают рычать и бросаться на вас. В самом углу пума.
— Пума — друг человека, — слышите вы голос руководителя. — До сих пор еще научно не объяснена ее странная любовь к человеку.
Следует ряд рассказов о том, как пума защищает человека от нападения других хищников.
— В диких местностях, где водятся пумы, испанцы спокойно отпускают своих детей в школу, — продолжает руководитель и, довольный произведенным эффектом, проводит экскурсию дальше.
А «друг человека», забившись в темный угол тесной клетки, поблескивает оттуда одним высохшим глазом, и мне начинает казаться, что он давно уже разочаровался в людях и что если его выпустить наружу, он кинется на них и начнет кромсать направо и налево.
Забыл упомянуть о пятнистой гиене. Вонючее уродливое животное с выпученными как у больных Базедовой болезнью глазами. Она все время вертится, пытаясь поймать себя за хвост, или рыдает как маленькое дитя.
* * *
Я несколько раз бегло упоминал о руководителях экскурсий. Экскурсионное дело — дело новое. Массовый зритель появился у нас лишь после Октябрьской революции. За один солнечный день в зоопарке успевают побывать десятки тысяч посетителей, то-есть в несколько раз больше, чем их могло перебывать в царское время в течение целого года. Мне нравилось слушать простые бесхитростные рассказы про зверей. Без сомнения здесь есть трафарет, но этот трафарет не беспокоит вас.
Когда румяная здоровая девушка лет девятнадцати, в защитной одежде и ковбойской шляпе, подводит вас к клетке со львами и спокойным уверенным голосом сообщает вам, что «обыкновенно лев бросается на быка и ударом лапы перешибает ему спинной хребет», вы чувствуете себя в безопасности под охраной такой бывалой девицы.
Руководители, подводя посетителей к животным СССР, старательно разъясняют степень пользы или вреда, приносимых ими. При громадной посещаемости зоопарка эти объяснения несомненно имеют большое воспитательное значение. Ведь ни в одной стране мира не истребляется столько полезных животных, как у нас. За примером ходить недалеко. Есть такая птица — пустельга. Крестьяне принимают ее за ястреба и беспощадно истребляют. А между тем птица эта чрезвычайно полезна. Питается она полевыми мышами и уничтожает их в огромном количестве. Перед клеткой пустельги сотрудники зоопарка любят рассказывать, что в Германии существует обычай ставить на полях для этой птицы высокие шесты. На этих шестах отдыхает и дежурит пустельга, зорко следя за появлением вредителей на своем участке.
Недавно в газете промелькнула заметка о том, что где-то за Волгой один крестьянин поставил такие шесты на своих полях. Мне хочется думать, что здесь дело не обошлось без влияния зоопарковских разъяснений.
* * *
Но вернемся к хищникам. Кормят их в три часа, и к этому времени павильон битком набивается посетителями. Хищникам дают сырое свежее мясо, по виду превосходного качества. Задолго до появления сторожей звери начинают выказывать признаки нетерпения. Бьют хвостом по полу, рычат, кидаются друг на друга. Взоры их устремлены на дверь, откуда должны появиться сторожа. Заметно волнуются и зрители, особенно женщины. Глаза их возбужденно блестят, губы полуоткрыты. Они жадно устремляются от одной клетки к другой на рев зверей. При появлении сторожей с ведрами, наполненными мясом, волнение достигает апогея. Рыканье львов мешается с ревом тигров и пантер. Пронзительно рыдает гиена. Сторожа проходят вдоль клеток и быстро проталкивают железными палками куски мяса беснующимся зверям. Только пума спокойно лежит в темном углу своей клетки. Сторож бросает ей окровавленные почки. «Друг человека» как-то брезгливо принимается за еду.
Сожран последний кусок. Звери начинают дремать. Удовлетворенная публика валом устремляется к выходу, и шумный павильон затихает. В один из моментов такого затишья я и окончил рисунок тигра. Я устал. Захотелось бросить работу совсем, чтобы не возвращаться больше в зоопарк, но я вспомнил, что еще не нарисовал ястребов, и решил притти на другой день в последний раз, чтобы поработать над ними.
Ястреба помещались в том же порядке, что и филины. В клетке их было кажется три. Вероятно потому, что так же жадны и хищны, они напоминали мне леопардов. Из-за рубленного мяса ястреба подолгу дерутся, так что не редкость видеть их окровавленными. Жрут еще дольше. Жрут до тех пор, пока не начнет раздуваться шея. Мясо, как и орлы, закрывают крыльями.
Нарисовал их быстро, за один прием. Сдал работу и тут же на радостях уехал домой, в провинцию. Так и кончилось мое трехмесячное пребывание в зоопарке.
* * *
Летом я получил от редакции «Всемирного Следопыта» предложение поделиться с читателями моими впечатлениями. Я согласился. Пришлось снова отправиться в зоопарк, чтобы возобновить в памяти забытое. Сразу я не узнал зоопарка. Весь в зелени. Толпы народа. На аллее, где я так долго работал, ряд перемен. Нет четырех филинов, пуста клетка лис. Оставшиеся обитатели перетасованы заново.
— Где же лисы? — спросил я картавого сторожа.
— Пелевели на новую толлитолию, — ответил он.
Я толкнулся в дверь павильона хищников. Но и тут неудача. На двери висела надпись: «Павильон закрыт».
Мне захотелось увидеть моего приятеля-марала. Он лежал на горе, в углу загона, за грудой камней. Виднелась только его голова с ветвистыми рогами.
— Марал! Маральчик! — неуверенно позвал я.
Но мой друг даже не повернул ко мне головы.
Около белых медведей — густая толпа народа. Протиснувшись вперед, я увидел своих старых знакомцев. Они похудели, но были так же веселы и подвижны, как и зимой. Лето принесло им новое удовольствие. Ров был наполнен водой, и мишки с наслаждением купались. Самец то-и-дело выскакивал на берег и бросался в воду вниз головой. Делал он это не хуже самого искусного пловца.
Я направился к «острову зверей». Помещение белых медвежат было пусто.
— Продали мишек в Германию, — сообщил мне сторож.
Попугаи сдружились…
Меня заинтересовало совместное купанье бурого и белого медведей. Бурый плавал тяжело, стараясь держать голову повыше, чтобы не замочить ее. Так плавают обыкновенно неумелые люди. Белый все время нырял под него с таким расчетом, чтобы подбросить приятеля вверх и погрузить его с головой, в воду. Под смех зрителей бурый спасся наконец на берег.
Почти все звери зоопарка линяли и имели далеко не презентабельный вид. Песцы, например, ходили наполовину покрытые шерстью, наполовину голые. Исключение составляли северные олени. Вместо огрызков карандашей на голове их красовались ветвистые рога, как будто обтянутые сукном. Глаза казались обведенными черным бархатом, и не было видно красных белков. Олени заметно пополнели и бродили по парку, пощипывая траву.
На обратном пути я снова зашел на старую территорию. Недалеко от грифов увидел сидевшую на песке посреди клетки небольшую рыжую суку с глазами навыкате. Около нее бродили щенки, ростом и видом напоминавшие лохматых фоксов. Какой-то фотограф снимал рыжую суку. А потом вместе со сторожем зашел внутрь и долго нацеливался аппаратом на суку и ее щенят. Видимо его интересовал семейный портрет. Щенята разбегались, а сторож подталкивал их к суке. Только тогда я сообразил, что передо мною молодые тигрята и их кормилица. Мне показалось, что сука не особенно охотно подпускала к себе тигрят, по крайней мере она как-то конфузливо отворачивала от них голову.
Оттого ли, что парк теперь был совсем не похож на зимний, или оттого, что для зверей я стал совсем чужой, мне стало немного грустно. На площади, у главного входа толпились все новые и новые посетители. «Чепуха! Сентиментальная чепуха! — подумал я. — Роль зверей теперь гораздо почетней и значительней. Они обслуживают не меня одного, а массового зрителя».
Полярные трагедии: Смерть боцмана Бегичева. Очерки Ал. Смирнова.
I. За песцами.
Осенью 1926 года Бегичев стал собираться в устье Пясины на промысел за песцами. Исследуя побережье Полярного моря во время поисков норвежцев, он обратил внимание на изобилие в прибрежной тундре полярных мышей — верный признак того, что там должны были водиться песцы. Полярная мышь составляет главную пищу этого драгоценного зверька. Ехать надо было на всю зиму, и требовались хорошие товарищи, У Бегичева были на примете несколько видавших виды охотников, но вышло так, что в нужную минуту под рукой их не оказалось, и артель пришлось составить из случайных людей. В нее вошли Натальченко, Семенов, Горинов, Сапожников и долган[31] Береговой Орды Николай. Бегичеву очень хотелось захватить с собой своего друга Егора Кузнецова, совершавшего с ним поход к Таймыру, но тот, ссылаясь на плохое здоровье, отказался ехать. Он и Бегичеву не советовал связываться с этими людьми.
— Кроме долгана среди них нет ни одного надежного человека, они будут выезжать на твоих плечах.
— Морозы заставят их работать, приспособятся, — возражал Бегичев. — Когда я в первый раз пошел в экспедицию с Толем, я тоже не имел понятия о том, что значит зима во льдах.
— Ты — дело другое, а этих людей я вижу насквозь: им только бы из добычи свою часть получить. А вот Натальченко уж совсем тебе не ко двору, ты с ним держи ухо востро.
— Ну, кто-кто, а Натальченко беспокоит меня меньше всего, он парень дубовый, для него зимовка будет пустяк.
— Зимовку он выдержит, это верно, а все-таки было бы лучше, если бы он с тобой не ехал…
— Это почему? — удивился Бегичев.
— Неподходящий он для тебя человек, — уклонился от прямого ответа старый охотник, — У таких людей, как он в голове совсем не то, что на языке.
Бегичев знал, что Натальченко вообще не пользовался расположением Егора, а потому и не придал его словам особого значения. Честный и прямой, он всегда старался видеть в людях только хорошее, и ему не казались странными ни дружба, которой Натальченко вдруг воспылал к его дому, ни настойчивость, с какой тот добивался попасть к нему в артель. Дело в том, что во время формирования артели Натальченко где-то отсутствовал. Артель первоначально была составлена из пяти человек, включая сюда и ее начальника, и это было то число, превышать которое Бегичев считал нецелесообразным, так как для шестого человека потребовалось бы брать лишнюю упряжку собак. Поэтому, когда Натальченко, вернувшись в Дудинки, заявил о своем желании вступить в артель, ему было сначала отказано. Но не таков был парень, чтобы отступать от задуманного предприятия. Он не отставал от Бегичева до тех пор, пока тот не согласился его принять.
Но скептическое отношение Егора к Натальченке было вызвано не только его антипатией к этому человеку с хитрыми бегающими глазами. Для неприязни имелись у него и другие причины. О них старый охотник не решался прямо сказать своему другу, но в Дудинках ни для кого не было секретом, что Натальченко во время отлучек Бегичева слишком часто посещает его жену. И кое-кто утверждал, что это им делалось не из-за одних прекрасных глаз жены боцмана. Его ухаживание за ней началось после возвращения Бегичева из Таймырской экспедиции, именно тогда, когда стало известно, что в скором времени Бегичев будет богатым человеком: получив от норвежского правительства за розыск матросов с судна «Мод» прекрасные золотые часы, он должен был получить еще и крупную денежную награду. Официальное сообщение об этом уже было получено в Дудинках.
— Боцману уже шестьдесят лет, а жена у него молодая. Натальченко хочет прибрать к рукам боцманшу, чтобы она не досталась другому, когда овдовеет, — говорили досужие языки.
Совать сбой нос в чужие дела — занятие не очень похвальное, но в этом случае было бы пожалуй лучше, если бы Егор, предостерегая боцмана в отношении Натальченки, прямо сказал в чем дело. Но разве он мог думать, что этот поход для его друга будет последним?
II. Зимовье в устье Пясины.
Переход из Дудинок в устье Пясины был совершен на собаках, которые для промысла более пригодны чем олени. Упряжка в пять-шесть собак может везти груз в пятьсот кило, то-есть столько же, сколько и упряжка оленей; но с оленями больше хлопот, так как за ними требуется присмотр, когда они пасутся в тундре. Иногда, спасаясь от снежных бурь, они убегают от мест своих пастбищ на сотни километров.
Прибыв на место, охотники прежде всего приступили к устройству зимовья, и это была не легкая работа. Леса плавника на побережье было вполне достаточно, но его надо было вырубать и выкапывать из-под снега и льда. С первых же шагов этой работы Бегичев убедился, насколько был прав Егор, говоря, что артель будет выезжать на нем. Спутники боцмана оказались менее пригодными для суровой жизни в полярной пустыне, чем это можно было предполагать. Кроме долгана никто из них не знал, как взяться за дело, во всем требовалась опытная рука боцмана. Но, работая изо всех сил, Бегичев не жаловался и даже ни разу не упрекнул товарищей в их непригодности для дела, за которое они взялись.
Наконец после упорных трудов боцмана, жилье было готово. Бревенчатые стены, заваленные снаружи снегом, могли противостоять самым яростным напорам бурь, которые уже время от времени гуляли по снежной пустыне, а очаг из камней дал возможность охотникам в первый раз после долгих дней снять с себя верхнюю одежду. Затем немало труда потребовало устройство хранилища для съестных припасов и ожидаемой добычи. Оно было необходимо, потому, что хозяева полярной страны — белые медведи — любят посещать стоянки человека и присваивать все, что плохо лежит. А когда с кладовой было покончено, начали подготовляться к промыслу.
Промысел песца — один из выгоднейших промыслов крайнего Севера. Песцовая шкурка расценивается в среднем в пятьдесят рублей, но попадаются экземпляры, оценивающиеся в несколько сотен, — это так называемые голубые песцы. Таким образом даже обыкновенный песец уже является некоторым капиталом, но добыть его не так-то просто. Кроме труда, который к этому надо приложить, нужно знать характер, повадки и образ жизни зверька. Бегичеву и в этом деле принадлежало первое место — некоторые участники артели охотились за песцами впервые.
Покончив с хозяйственными работами, охотники при свете северного сияния отправились на разведку и вскоре убедились, что боцман завез их сюда не даром: тундра была покрыта узорами песцовых следов. Начинать промысел однако было еще рано, так как стоял лишь конец ноября. С апреля по конец декабря песец линяет. Грязно бурый цвет его шерсти переходит в сентябре в более светлый, с ярко выраженной формой крестца на спине («крестовики»). В октябре крест постепенно исчезает, и шерсть окрашивается в серый тон с синеватым отливом («синяки»). И лишь в конце декабря песцы приобретают тот белоснежный наряд, который делает их шубки особенно заманчивыми для охотника.
Время до начала промысла прошло в устройстве слопцов и заготовке песцовой приманки, для которой годилось мясо любого зверя, в том числе и тюленя, потому что песец не очень разборчив в пище. Летом ему живется привольно — пернатое население тундры должно быть всегда настороже, чтобы не попасть на его острые зубы. Но зимой, когда тундра пустеет, полярному хищнику приходится туго: ему остаются лишь полярные мыши, но добывать их из мерзлой земли дело не легкое. Вот тут-то он и не брезгует ничем, что попадается на пути, а потому идет на всякую приманку.
Начало было удачно, чему способствовала предварительная разброска в определенных местах приманки в виде кусков мяса белого медведя, которого удалось застрелить Бегичеву. Голодные песцы с жадностью набросились на пищу и стали посещать эти места целыми стаями. В конце концов они так осмелели, что перестали бояться людей, а завидев их, немного отбегали и рассаживались на снегу в ожидании, когда те уйдут. В это время их можно было бы стрелять из ружья, но пуля портит шкуру, значительно уменьшая ее ценность, а потому охотники ловят их капканами.
Первая установка ловушек — пяти капканов и трех слопцов — дала промышленникам семь песцов, то-есть только одна ловушка была пуста. Это произошло по вине росомахи — большой любительницы производить осмотр охотничьих ловушек раньше их хозяина. В этом капкане охотники нашли лишь клочья шерсти и несколько костей. Особенно было обидно, что, судя по шерсти, росомаха сожрала голубого песца.
Ловушек было недостаточного с этим ничего нельзя было поделать. Для слопцов требовались доски, которых взять было негде, а привезти с собой больше капканов было невозможно ввиду их значительного веса. Впрочем обилие нужного зверя обещало вознаградить охотников за этот недостаток.
III. Натальченко нервничает.
Кое-кому из товарищей Бегичева вначале казалось, что после того как они устроятся на новом месте, у них будет не много работы. В действительности же было далеко не так. Свободного времени оставалось ровно столько, сколько нужно было для еды и сна. Осмотреть и насторожить ловушки, снять с добытых песцов шкурки, исполнить ряд хозяйственных работ, из которых самой трудной была заготовка топлива, и наконец охотиться на белых медведей, тюленей и оленей, чтобы иметь мясо для себя и для приманки, — такова была их ежедневная работа. Все это надо делать во мраке полярной ночи, на дьявольском морозе, от которого захватывает дыхание и становится опасным стрелять: ствол ружья не выдерживает нагревания при выстреле и лопается как стекло. Такая жизнь по плечу только сильным людям с крепкими нервами, а потому Бегичев не удивлялся, когда его товарищи начинали подчас хныкать и ныть.
— Это и хорошо, что у нас много работы, — говорил он в таких случаях. — Бездеятельность в условиях полярной зимовки — самая опасная штука.
Были впрочем у них и дни отдыха, — это когда тишина снежной пустыни сменялась дикими завываниями пурги. Бури достигали страшной силы, и тогда уже ничего не оставалось, как целыми днями лежать на нарах, задыхаясь от дыма задуваемого очага. В бурю опасно было удаляться от зимовья даже на десяток шагов: не успеешь опомниться, как собьет с ног, завертит, закрутит, и пропал, — замерзнешь раньше чем найдешь жилье. В такие-то дни даже самые спокойные люди начинали нервничать. Одним из таких Бегичев считал Натальченко, но скоро убедился, что ошибся. В одну из таких бурь, когда охотники уже пять дней не покидали зимовья, их жилище было атаковано двумя белыми медведями. Наткнувшись на полузанесенную снегом хижину, любопытные звери очевидно хотели узнать, что находится под бревнами; в то время как один из медведей, забравшись по снегу вверх, стал пробовать прочность крыши, другой пошел прямо в лоб, стараясь высадить дверь избушки. Охотники в этот момент спали, но неистовый лай собак, находившихся в передней части зимовья, тотчас же поднял их на ноги.
1) Егор не советовал Бегичеву связываться с Натальченко. 2) Упряжки группы охотников, отправившихся за песцами. 3) Зимовка охотников. 4) Охотники на разведке. 5) Росомаха, съевшая песца, попавшего в капкан. 6) Полярная мышь — главная пища песца.
Взявшись за ружья, они распахнули дверь и столкнулись с непрошенном гостем. От неожиданности медведь попятится, став на всякий случай на задние лапы. Три выстрела один за другим уложили зверя на месте, а другой бросился наутек. Не желая упускать ценной добычи, Бегичев погнался было за зверем, но тот скоро скрылся. Боцман повернул назад, а когда он приблизился к избушке, навстречу ему неожиданно прогремел выстрел.
— Эй, стойте там! — крикнул он, но в это время мимо его уха просвистела вторая пуля.
— Да перестаньте стрелять, это я! — снова закричал он и подбежал к стрелявшему в него человеку. — Ты что, парень, ослеп что ли?
— Фу ты, чорт! — начал оправдываться тот. — Совсем разнервничался… Я принял тебя за медведя…
— Да я же тебе кричал.
— Ну, что же, что кричал, говорю — развинтился.
— Действительно развинтился, в десяти шагах не видит, в кого стреляет.
— А ты не шатайся, — вдруг ни с того ни с сего разозлился парень. — Уложил бы, вот тебе и был бы медведь. Чорт!.. — И он разразился потоком ругательств.
Таким образом Бегичев оказался виноват в том, что его чуть-чуть не подстрелил этот человек.
Это был Натальченко.
Возможно, что полярная ночь и дикие завывания пурги начинали действовать и на этого крепкого парня, превращая его нервы в тряпки, но все же выражать свою нервность стрельбой в людей было пожалуй немного странно — так ведь можно было перестрелять всех обитателей зимовья.
Но как бы то ни было, с этого момента Натальченко резко изменил свое отношение к Бегичеву. С виду доброжелательный раньше, теперь он не скрывал своей неприязни к нему. Он придирался к каждому слову, сказанному Бегичевым, критиковал его поступки, не стесняясь при этом в выражениях. Остальным охотникам было ясно, что Натальченко умышленно ищет ссоры с Бегичевым, чтобы свести с ним какие-то счеты. Но какие счеты могли быть у Бегичева с этим человеком, которому он не сделан ничего плохого?
Не придав никакого значения случаю во время охоты на медведя, Бегичев не обращал внимания на выходки парня. Когда же Натальченко становился особенно невыносимым, стараясь так или иначе вывести Бегичева из себя, тот спокойно говорил:
— Ты сегодня нервничаешь, мне лучше уйти.
Брал ружье и куда-нибудь уходил.
IV. Подозрительные случайности.
Полярная ночь наконец кончилась. В конце февраля в первый раз показалась солнце. Сначала оно выглянуло лишь одним краешком, на другой день — до половины, а затем выкатилось все — огромное, багровое, словно только что вымытое свежей кровью. С каждым разом оно поднималось все выше, и дни стали быстро нарастать. Полярная пустыня вдруг повеселела, как веселеет угрюмое лицо, осветившееся улыбкой; сверкая алмазными брызгами, она уже не казалась такой холодной и мepтвой, как при таинственном свете северных сполохов.
С приходом солнца изменилось и настроение людей в зимовье. Морщины на лицах разгладились, глаза смотрели бодрей, исчезла беспричинная раздражительность. Даже Натальченко прекратил свои выходки, превратившись опять в уживчивого добродушного парня. Можно было подумать, что на него и в самом деле так подействовала беспросветная тьма полярной ночи, но долган Николай, судивший о людях по первому впечатлению, меньше всего доверял этой перемене.
Оставшись как-то с Бегичевым наедине, он сказал ему:
— Слушай, боцман, будь осторожен с этим рыжим…
— В чем дело? — удивился тот.
— Ты думаешь, что это все так, случайно, как бывает иногда на охоте, а по-моему у этого человека не чистая совесть.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Натальченко хочет твоей смерти.
— Вот так раз! — рассмеялся Бегичев. — Чем же это я ему помешал? У меня нет с ним никаких счетов.
— Этого я уж не знаю, а только верно говорю: берегись. На охоту вдвоем с ним не ходи…
Случайности, о которых говорил долган, были следующие. В одной из них снова играл роль медведь. Это было уже в начале апреля. Возвращаясь с осмотра песцовых ловушек, охотники заметили на прибрежных льдах трех медведей. Один из них был убит ими наповал, а другой, раненый, попытался было уйти, но несколько выстрелов вдогонку свалили его. Первыми к медведю подошли с одной стороны Бегичев, с другой Натальченко. Думая, что зверь мертв, охотники подошли к нему шагов на двадцать, но в это время медведь поднялся на ноги. Ближе к нему находился Бегичев, а потому зверь и пошел прямо на него. Для боцмана в этом не было ничего страшного, потому что он достаточно на своем веку имел дела с белыми медведями, и он спокойно поднял ружье к плечу. Но когда Бегичев нажал спуск, выстрела не последовало — в замке случилась какая-то порча.
— Стреляй, у меня испортилось ружье! — крикнул он Натальченке, который в это время находился сбоку. Ему ничего не стоило свалить зверя, но выстрела с его стороны почему-то не доследовало. Медведь между тем находился от Бегичева в каких-нибудь пяти шагах. Не понимая причины медлительности товарища, Бегичев уже взялся было за нож, чтобы вступить со зверем в рукопашную, но в этот момент выстрел уже с левой стороны уложил медведя. Это стрелял, подоспев на помощь Бегичеву, долган Николай.
— Почему ты не стрелял? — спросил потом Бегичев Натальченку.
— Не понимаю, что такое, затмение какое-то нашло… Смотрю на медведя, а что надо делать, не знаю. Выходит, что струсил…
Другая случайность, также едва не стоившая жизни Бегичеву, произошла несколько дней спустя. В вечерние часы, если была ясная погода и не было работы, Бегичев любил иногда посидеть на скалистом мысу неподалеку от зимовья. Тут, на одном из выступов, под нависшими камнями имелась небольшая терраса, с которой открывался далекий вид на Полярное море. Погода уже стояла теплая, то-есть морозы не превышали пятнадцати-двадцати градусов. Иногда к Бегичеву присоединялся кто-нибудь из охотников, чаще других Николай, любивший поговорить с боцманом о том, как живут люди в других краях, но в этот вечер он тут сидел один. И вот, когда боцман уже собирался уходить, над его головой раздался грохот. А в следующую минуту рядом с ним шлепнулась скатившаяся сверху каменная глыба. Сначала Бегичев подумал, что камень упал сам собой, подточенный временем, но взглянув вверх, увидел на скале человеческую фигуру. Это был Натальченко.
— Что ты там делаешь? — спросил он, когда тот спустился вниз.
— Сделал нескользко снимков льдов. При закате солнца они очень красивы, — невозмутимо отвечал парень, показывая на висевший через плечо фотографический аппарат. Натальченко не чужд был этому занятию.
— Но твои снимки едва не стоили мне жизни. Сдвинутый тобой камень свалился мне прямо на голову.
— Да что ты говоришь! Это было с моей стороны большой неосторожностью. Впрочем, я же не знал, что ты там сидишь…
Таковы были эти «случайности». Задуманы они были очень тонко, в них трудно было усмотреть злой умысел. В самом деле, разве не может растеряться иногда и храбрый охотник при встрече с таким зверем, как белый медведь? Разве не может камень упасть случайно именно там, где сидит человек? Но все же тут было нечто, что невольно наводило на некоторые размышления. А именно: все это случалось не с кем другим из охотников, а всегда с Бегичевым, и каждый раз тут играл роль не кто другой, как Натальченко.
1) Когда Бегичев приблизился к избушке, навстречу ему прогремел выстрел… 2) Над головою Бегичева раздался грохот… 3) Медведь находился в пяти шагах от Бегичева… 4) Натальченко жестоко избивал вожака бегичевской уиряжки… 5) Груда камней, а над ней простой крест…
Поэтому после разговора с Николаем Бегичев решил присмотреться к Натальченке. Но что нужно было от него этому человеку? Этого боцман никак не мог понять. Может быть он завидовал популярности, которой пользовался Бегичев среди населения? Нотки зависти действительно приходилось иногда подмечать в некоторых словах Натальченки. Но не мог же он, добиваясь его смерти, переложить этим на себя его популярность!
V. Могила на скале.
Дни шли за днями. В тундре ничто как будто не говорило о скором наступлении теплых дней, но весна уже чувствовалась в воздухе. Первыми сигнализировали о ней песцы: разделывая как-то их пушистые шубки, охотники обнаружили на своих руках белые шерстинки. Это были первые признаки начинающейся линьки.
— Пора шабашить, ребята.
— Пора. Время по домам…
Добыча была богатая: три сотни песцов да несколько медвежьих шкур. Это значило, что за покрытием всех расходов по промыслу на долю каждого охотника придется не меньше двух тысяч. О такой удаче никто и не мечтал. Ради этого стоило провести полгода в смежной пустыне.
— Это мы должны благодарить тебя, Никифор, — сказал Натальченко, обращаясь к Бегичеву. — Без тебя мы не прожили бы тут и месяца.
С этим все согласились.
Отъезд был назначен через неделю, а пока занялись усиленной кормежкой ездовых собак и сортировкой шкур. Бегичев мало принимал участия в сборах — он за последнее время чувствовал себя не совсем здоровым. Тяжелые условия жизни, усиленная работа — иногда за других, — однообразное питание, наконец поведение Натальченки — все это не могло не сказаться на нем при его возрасте. Было вообще удивительно, как он вынес все трудности, сохраняя неизменную бодрость духа.
В этот день Николаю и Горинову было поручено доставить в зимовье два оставшихся в тундре капкана. На это они должны были потратить около суток. Когда они вышли из зимовья, погода была ясная, — снежная равнина искрилась под лучами солнца. Но около полудня картина переменилась: по небу поползли темноватые облачка, с моря подул ветер, тундра сразу насупилась. В отдалении нарастал глухой шум — это сердилось море, передвигая и кроша льды. В воздухе замелькали снежинки, и не прошло и часа, как земля и небо слились в один крутящийся вихрь, — над тундрой распушила свой хвост северная пурга.
Это была одна из тех бурь, когда даже звери не решаются покидать своих логовищ. Снег слепил глаза, ветер сбивал с ног, захватывал дыхание. О возвращении в зимовье нечего было и думать, и охотникам ничего не оставалось, как вырыть в снегу яму и в ней дожидаться окончания пурги. Долган был достаточно опытен, а потому еще задолго до того, как разойтись пурге, присмотрел в прибрежной расщелине укромное местечко, натаскал плавника, и убежище было готово. Возможность развести из плавника костер оказалась очень кстати — метель продержала охотников в снежной пещере три дня. Разыскав после этого свои ловушки, они отправились в обратный путь.
Уже вечерело, когда увидели впереди очертания знакомой скалы. У ее подножья было расположено их зимовье. Его полузанесенный снегом сруб был уже виден, когда Николай вдруг остановился и, показывая на один из выступов скалы, сказал:
— Смотри, что это делали наши ребята? Этих камней там не было.
— Это вероятно боцман устроил какой-нибудь знак, — ответил Горинов, — он всегда так: где побудет, там обязательно сделает какую-нибудь oтметку.
— Может быть и так… А только зачем же крест?
— Какой крест? Не крест, а просто веха. Это тебе кажется.
— А по-моему там стоит крест.
— А я тебе говорю — веха.
Чтобы разрешить этот спор, охотники оставили лыжи и стали подниматься на скалу. Добравшись до вершины, они сразу увидели предмет их разногласий.
Это была совсем свежая могила, сделанная очевидно лишь несколько часов тому назад. Комья мерзлой земли, груда камней, а над ними простой деревянный крест из плавникового леса. На кресте затес и на нем надпись химическим карандашом. Горинов подошел вплотную и прочитал:
Под сим крестом покоится прах известного путешественника и организатора промысловой артели Никифора Алексеевича Бегичева.
— Ты, парень, не шутишь? — вытаращил глаза Николай.
— Хотел бы шутить, да такими вещами не шутят.
— Что же тогда это значит?
— Значит-то оно одно: пока мы отсиживались от пурги, боцман умер, и вот тут его похоронили… А как же все это произошло? Вот что скажи…
— Ну брат, тут дело не чисто. Вот вспомни мое слово, — сказал Николай и быстро зашагал по направлению к зимовью.
VI. Они рассказывают…
Никифор Алексеевич умер от невзгод полярной зимовки. Ведь ему было шестьдесят лет, а это не такой возраст, чтобы могли безнаказанно пройти те трудности и различного рода лишения, с которыми приходилось бороться. А потом и характер его: он не мог оставаться без дела, не любил, чтобы дело делалось кое-как, за все брался сам. Между тем здоровье его было не важное, с первых же дней экспедиции он стал жаловаться на общую слабость, донимал его также ревматизм, а тут этот случай с продуктами. В середине зимы на их склад продуктов напали белые медведи и почти уничтожили все припасы. Питались поэтому исключительно мясом, а это не могло не сказаться на слабом организме — Бегичев заболел цынгой. Последние дни он почти не покидал зимовья, но все же прямой опасности не было, и товарищи надеялись, что они благополучно доставят Бегичева домой.
Однако развязка пришла совсем неожиданно: за три дня до отъезда, восемнадцатого мая, когда Горинов и долган Николай были на охоте, Бегичеву стало вдруг плохо, а на следующий день он умер. Он погребен на левом берегу Пясины, при впадении ее в Ледовитое море…
Так было рассказано Натальченкой о смерти Бегичева, когда охотники вернулись в Дудинки. Остальные охотники — Сапожников и Семенов — говорили то же самое; только Горинов хранил молчание. Николай еще в пути отделился от товарищей и, взяв свою часть добычи, поехал прямо к себе домой, не заезжая в Дудинки. В рассказах о смерти боцмана не было ничего необычного: всем было известно, что здоровье Бегичева за последние годы пошатнулось, а тут он связался с такими товарищами… Охотники, и главным образом Натальченко, не жалели себя, указывая, что все они ввиду своей неопытности действительно были для Бегичева плохими товарищами. В этом отношении они как бы считали себя виноватыми в смерти Бегичева.
— Самую трудную работу приходилось делать ему, а это такой человек, который, как бы ему ни было тяжело, слова не скажет. Даже больной, он отказывался от лучших кусков пищи в нашу пользу. Без него мы бы пропали…
А в заключение всех этих рассказов были показаны фотографические снимки, сделанные Натальченкой в дни отсутствия из зимовья Горинова и Николая. Снимков было три: «Труп Бегичева», «Бегичев в гробу» и «Похороны Бегичева»[32]. После этого какие могли быть сомнения в правдоподобности рассказанной выше истории? Ей поверил даже Егор Кузнецов, относившийся, как мы знаем, вообще подозрительно к Натальченке и считавший его способным на все.
Полярная пустыня любит легенды, и вот легенда была готова. Больше того — она была всеми принята за истину. Получив за мужа его долю в промысловой добыче, вдова Бегичева покинула Дудинки и переехала на жительство в Красноярск, а вскоре туда же перекочевал и Натальченко. Не прошло однако и полугода, как к дудинцам стали доходить странные слухи.
Впрочем в первом слухе, шедшем с юга, из Красноярска, ничего странного не было: Натальченко женился на вдове боцмана, носит золотые часы, полученные Бегичевым в награду за розыск норвежцев, а также распоряжается теми восемью тысячами, которые она получила за мужа от норвежского правительства. Это было то, что и предвидели некоторые дудинцы. Но второй слух был несколько неожиданного свойства. И шел он не с юга, а с севера, из тундры.
— Бегичев умер не естественной смертью, его убил Натальченко…
Но мало ли возникает слухов, когда человек умирает на краю света? Установился взгляд, что если кто умер за Полярным кругом, то тут обязательно нужно искать какую-нибудь трагедию. Так именно подумали в Красноярске, когда этот слух докатился и туда. А что же охотники? Их присутствовало при смерти Бегичева, не считая Натальченки, двое. Не могли же все они принимать участия в убийстве?
Но беспочвенные легенды скоро умирают в забвении, а эта не только не умирала, а становилась все упорней. О ней говорила вся тундра. Наконец настал день, когда уголовному розыску Сибири уже нельзя было отнестись к этому слуху как к беспочвенной легенде. В полярную пустыню поскакали представители власти. А через год сибирские газеты сообщили о предстоящем судебном процессе над Натальченкой и Кº по обвинению их в умышленном убийстве боцмана Бегичева. На этом процессе и выяснилась картина отношений Натальченки к Бегичеву, а также и то, что произошло в зимовье во время отсутствия Горинова и долгана Николая.
VII. Тайна охотничьего зимовья.
Это было в тот самый день, когда Горинов с Николаем ушли за капканами. Натальченко очевидно чувствовал, что Николай никогда и ни при каких обстоятельствах не будет на его стороне, а потому и решил воспользоваться его отсутствием, чтобы привести в исполнение свои гнусные замыслы.
Из трех собачьих упряжек одна принадлежала Бегичеву, и он очень любил своих четвероногих друзей, постоянных участников его зимних походов. В особенности его расположением пользовался вожак — прекрасный пес, отличавшийся почти человеческой понятливостью. Хорошие вожаки собачьих упряжек в тундре наперечет, и Бегичеву нередко предлагали большие деньги за его вожака, но он говорил, что не расстанется с собакой до самой смерти. Зная как ревниво относится Бегичев к своему вожаку, Натальченко решил этим воспользоваться.
Бегичев лежал на нарах, когда Натальченко вышел из зимовья. Тут же находились и остальные охотники — Сапожников и Семенов. Не прошло и минуты после ухода Натальченки, как снаружи послышался отчаянный собачий визг. Бегичев тотчас же узнал голос своего любимца.
— Что это он делает с собакой! — воскликнул он и выскочил наружу. За ним вышли и остальные.
Их глазам представилась следующая картина. Вооружившись бичом, Натальченко жестоко избивал вожака бегичевской упряжки. Пес был привязан, ему некуда было деваться от сыпавшихся на него ударов. После каждого удара он бросался на избивавшего его человека, но цепь удерживала его на месте.
— Стой! — вне себя закричал Бегичев, бросаясь между Натальченкой и псом. — За что ты избиваешь собаку?
— Она будет кусаться, а я смотреть? — вызывающе закричал тот, снова опуская бич.
— Врешь! Она никогда не кусалась без причины…
— А я говорю, укусила.
— Значит сам виноват. Бросай бич.
— Ах, я же и виноват!.. Так получай за нее ты!
И размахнувшись, он изо всех сил хлестнул бичом Бегичева по лицу…
— Это произошло так неожиданно, что мы ничего не успели предпринять, чтобы его остановить, — оправдывались на суде свидетели этой гнусной сцены.
Положим, предотвратить удар они действительно не могли, но что они делали потом, когда Натальченко сшиб Бегичева с ног и принялся избивать лежачего как попало и чем попало? На это им нечего было сказать, потому что избиение продолжалось не минуту и не две, а по крайней мере полчаса. Это было обдуманное, хладнокровное убийство. Бегичев, как мы уже говорили, в это самое время был болен, он не мог поэтому защищаться. Залитый кровью, он скоро потерял сознание, а человек-зверь продолжал топтать его тяжелыми сапогами с железными подковами. Он прекратил это только тогда, когда сам выбился из сил.
— Пусть тут издыхает, — сказал он охотникам, когда они хотели внести полумертвого человека в избушку. И те беспрекословно подчинились. Так, на снегу, при двадцатиградусном морозе и свирепом ветре, Бегичев пролежал несколько часов. Наконец его внесли в жилье, но тут уже было ясно, что минуты его сочтены. Не приходя в сознание, на следующий день он умер.
Так было выполнено это черное дело. Тут одно может показаться странным: убивая Бегичева, Натальченко преследовал вполне определенные цели, ну, а почему остальные — Сапожников и Семенов — допустили совершиться этому злодеянию? У них кажется не было никаких счетов с Бегичевым, чтобы желать его смерти. Свою пассивность они объяснили боязнью связываться с Натальченкой. Как бы то ни было, а не шевельнув пальцем в защиту невинного человека, они тем самым приобщили себя к преступлению. Следовательно им ничего не оставалось, как потом вместе с Натальченкой рассказывать легенду о естественной смерти Бегичева.
Каждый из них получил возмездие по заслугам.
* * *
Никифор Алексеевич Бегичев являлся крупнейшей самобытной фигурой на фоне нашего крайнего Севера. Это подлинный следопыт, исследователь и путешественник по призванию. О результатах его многочисленных путешествий, а равно и о нем самом, мы знаем до сих пор очень немного. Скромность была отличительной чертой его характера. Один из наиболее крупных и известных результатов его путешествий по полярным странам — это открытый им остров в Ледовитом море, в Хатангском заливе, приблизительно под 113° восточной долготы и 74° северной широты. Этот остров назван островом Бегичева и нанесен теперь на все географические карты.
Галлерея колониальных народов мира: Патагонцы.
(К таблицам на 4-й стр. обложки)
Еще за много тысячелетий до того, как европейцы, благодаря путешествиям Колумба и Магеллана, узнали о существовании Америки, этот громадный материк уже имел свою культуру, которая в некоторых местах достигала высоты, не уступающей древним культурам Старого Света. Человек заселил Америку с древнейших времен. Свой путь из Старого Света он совершил по суше, так как в третичный геологический период Америка соединялась с Азией и Европой. Во всяком случае находки скелетов человека и его утвари с несомненностью говорят о том, что он заселял как Северную, так и Южную Америку в теплый период, предшествовавший ледниковой эпохе в Европе (эта эпоха имела место также и в Америке). Надвинувшийся с севера ледник оттеснил человека к югу и отрезал для него сообщение с Азией. Образование Берингова пролива также способствовало изоляции американского человека, который образовал особую американскую расу, выработал языки, глубоко отличные от языков Старого Света, и своеобразную культуру.
Кожа «краснокожих»-индейцев в действительности не имеет того красного цвета который по недоразумению чаcто считают отличительным признаком американских рас. «Краснокожими» их назвали потому, что они часто раскрашивают тело красной краской. Естественный цвет кожи индейцев следует определять как всевозможные, преимущественно светлые, оттенки коричневого. Отличительными чертами американской расы являются черные прямые волосы, грубее европейских, большой нос с горбинкой (орлиный), стройное тело с прекрасно развитой мускулатурой, маленькие красивые руки и ноги. Черты лица на наш взгляд большей частью интересны и приятны, часто красивы. Эти физические черты способствовали бракам между европейцами и туземцами и образованию помесей (креолов). Красота креолов и креолок прославлена в романах Фенимора Купера и Густава Эмара. Не следует однако думать, что в Старом Свете мы не находим типичных черт американской расы. Так, среди сибирских тунгусов, а также среди некоторых монгольских племен встречаются типы, удивительно близкие к типу северо-американского индейца.
Карта распространения патагонцев.
Южная Америка была заселена из Северной. Самая южная ее оконечность — Патагония к Огненная Земля — сохранили ко времени завоевания Южной Америки испанцами, а отчасти и до настоящего времени, черты первобытной культуры (бродячий, пеший, охотничий образ жизни, лук и стрелы, каменные орудия и т. д.), которые были свойственны также и другим индейским племенам в ту эпоху, когда они продвигались с севера на юг, заселяя американский материк.
Лингвисты насчитывает в Южной Америке до 83 самостоятельных наречий. Главная масса туземных индейских племен приходится на тропические лесные области гигантского бассейна Амазонки. Южную оконечность Америки, расположенную к югу от Рио-Саладо (приток Параны), занимают конные племена индейцев Пампы и Патагонии. К югу от Рио-Саладо начинается область пампас, то-есть обширных травяных степей, лишенных стока, местами покрытых солончаковыми болотами. На юге пампасы постепенно переходят в высокие плоскости Патагонии, а на западе, у подножия цепи Анд раскинулись саванны, покрытые цветами, рощами диких яблонь и густыми лесами.
Пампасы еще недавно по ночам освещались зловещими сигнальными кострами, которыми индейцы сигнализировали друг другу о движении испанских войск. Днем сигнализацию кострами заменяли звуки рожков и трещоток. В неравном и безнадежном бою с колонистами индейцы проявляли необычайную отвагу и хитрость, каждая пядь их исконной территории дорого доставалась завоевателям. Племя индейцев вуэльче вплоть до конца XIX века не складывало оружия перед аргентинскими войсками. Буэнос-Айресу не раз угрожала опасность поджога горючими стрелами; ежегодный угон скота у колонистов исчислялся в среднем в 40 000 голов; количество женщин и детей, взятых в плен, достигало нескольких сотен.
До прихода в Америку европейцев индейцы не знали лошади, их единственным домашним животные была собака. Когда Магеллан впервые в 1520 году высадился на берегах Патагонии, он застал пеших охотников, гонявшихся с луком и стрелами за гуанако (вид ламы). Шестьдесят лет спустя, то есть через пятьдесят лет после того, как на Лаплате появились кони, испанец Сармиенто видел индейцев уже верхом, вооруженных вместо лука и стрел боласом. В течение пятидесяти лет индейцы превратились в типичный конный народ и переняли у испанцев их вооружение — длиннее копье, меч, кинжал, кожаный панцырь и шлем. Одно лишь племя «она» сохранило до настоящего времени быт пеших охотников, вооруженных луком. Отдельными семьями вместе с женщинами и детьми они бродят по Огненной Земле, одетые в старый костюм индейцев — плащ из шкуры гуанако — и в обувь из коленного куска шкуры того же животного. Громадные следы, оставляемые на земле обувью этого покроя, побудили первых испанцев прозвать население Магелланова пролива, патагонцами, что значит «большая лапа». «Большим лапам» соответствовал впрочем и весьма высокий рост патагонцев. Мужчины племени техуэльче («южные люди») достигают 192 сантиметров в высоту.
Основу хозяйственной жизни индейцев Пампы и Патагонии составляет охота. Главным предметом охоты, а также питания, являются гуанако и страус. Способ охоты за страусами был ранее вполне подобен бушменскому способу, то-есть охота производилась переодетыми охотниками, которые с луком и стрелой подкрадывались к птицам. При охоте на гуанако употребляется болас с тремя шарами. Шары эти делались раньше из камня (теперь железные) и зашивались в кожаные футляры; веревки всего снаряда приготовлялись из сухожилий гуанако или страуса.
Любимый способ жарить мясо заключается в том, что цельную тушу гуанако зарывают в горячую золу; внутрь туши кладут раскаленные камни. Из сшитых по 50 штук шкур гуанако сооружается палатка индейцев. Из этих переносных палаток-толдо раньше образовывались целые деревни с населением в 3000–4000 человек.
Индейцы передвигаются в пампасах под предводительством вождя, на обязанности которого лежит давать каждое утро указание направления и руководить совместней охотой. Времена могущественных кациков, — вождей, объединявших тысячи индейцев для похода против «бледнолицых», — прошли безвозвратно. При встрече двух отрядов индейцев происходит посылка герольдов, организуется церемония встречи, а затем устраиваются конные состязания, бои петухов; процветает игра в карты и в кости.
Пампасы и Патагония, которые входят в состав Аргентинской республики, в настоящее время сохранили мало чистокровных индейцев. Там значительно больше метисов, полудиких скотоводов-гаучосов, которые как внешностью, так и обычаями незначительно отличаются от чистокровных индейцев.
Б. В.
Следопыт среди книг: Книги об Октябре.
ОТ ОКТЯБРЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Дать в беглой заметке сколько-нибудь связную историю литературного движения от Октябрьского переворота до наших дней конечно немыслимо. Напомним вкратце читателям о наиболее важных этапах, прейденных нашими пролетарскими писателями и писателями-попутчиками в эти годы. За гранью Октябрьской революции русской литературе суждено было пережить такие удивительные перемены и превращения, подобных которым не найти ни в один столь же краткий исторический период. Революция разрушила тот социальный базис, на котором вырастала буржуазная литература. Представители ее частью отошли в сторону и умолкли, частью очутились в стане эмигрантов (Бунин, Андреев, Куприн, Шмелев). Наряду с этим, революция вызвала к жизни и влила в литературу представителей новых социальных слоев — рабочих и крестьян.
В первые годы революции страна была лишена возможности по-настоящему строить и созидать, она созидала и строила лишь в той мере, в какой это было необходимо для успешного окончания гражданской войны. Мы были тогда свидетелями быстрого распада старой культуры и постепенного нарождения новой. Робкие голоса первых пролеткультовских поэтов говорили об абстрактном новом человеке, перестраивающем чуть ли не всю вселенную. Космическое мироощущение поэтов «Кузницы» (Герасимов, Кириллов и др.) страдало расплывчатостью и неопределенностью. «Пролетарская поэзия того времени подчеркнула социальность, коллективную устремленность новых борцов к новым берегам, она предвосхитила и новую строительную эпоху, но сделала все это она в схематической, общей и слишком отвлеченной форме. Иначе и быть не могло — ибо старый быт тогда ломался, а новый, лишь неясно намечался, восстановительные годы пришли поздней».
По окончании гражданской войны, в связи с первыми успехами в области хозяйственного строительства начали оформляться и новый быт и новая культура. Наступила полоса литературного оживления. Постепенно окрепла проза пролетарского сектора нашей литературы (Гладков, Ляшко, Фурманов, Неверов, Либединский и др.) и выросла целая плеяда молодых писателей-попутчиков (В. Иванов, Сейфуллина, Яковлев, Леонов и т. д.). Несмотря на многие серьезныe недостатки, наша художественная литература уже тогда вступала в полосу несомненного роста. В противовес узкому индивидуализму предреволюционной литературы творчество новых писателей было насыщено общественностью. Hа первом плане стояли темы большого общественного значения — гражданская война, классовая борьба в деревне, партизанское движение, переход к мирному строительству и т. п.
С особенной силой выразительности удалось художникам того времени отобразить незабываемые годы героической борьбы ка фронтах («Железный поток» Серафимовича, «Чапаев», «Мятеж» Фурманова, «Бронепоезд» Вс. Иванова и т. д.). Темы гражданской войны долго продолжали занимать внимание наших писателей и главенствовать в ряду других тем. Из более поздних произведений того же порядка надо назвать «Конармию» Бабеля. Литература и теперь продолжает еще обогащться новыми произведениями, посвященными гражданской войне. Укажем хотя бы на «Разгром» Фадеева, «Тихий Дон» Шолохова, «Россию, кровью умытую» Арт. Веселого.
Переход к мирному строительству, период восстановления разрушенного хозяйства также нашел себе яркое выражение в творчестве многих пролетарских писателей. Наиболее интересными из таких книг являются: «Цемент» Гладкова, «У фонаря» Никифорова и «Доменная печь» Ляшко.
В последующие годы пролетарская литература неизменно крепнет и растет, все дальше уходя от схематизма и агиток, освобождаясь от наносных и чуждых влияний, с невероятными усилиями вырабатывая свой стиль, расширяя свой кругозор и углубляя тематику. Наличие роста пролетарской и крестьянской литературы позволило наконец нашим издательствам выполнить директиву партии и приступить к изданию массовой дешевой литературы многотысячными тиражами. Этого требовали задачи культурной революции в стране. Литература, отражающая новую жизнь, новые формы быта, гигантский размах строительства в городе и в деревне, становится достоянием широких слоев рабоче-крестьянских читателей.
Письмо в редакцию «Всемирного Следопыта»
Любимым местом досуга ребят Ливадийского детского дома им. Батурина является причудливая беседка в Верхней Ореанде. Она была построена известным в свое время архитектором Штаккешнейдером в 1843 году. С нее открывается чарующий вид на волнообразную зелень парка, синеву моря и ялтинский берег. Здесь ребята собираются вокруг руководителя клубной работой и слушают занимательные рассказы «Всемирного Следопыта». И невольно окружающая их местность — горы, отвесные скалы, развалины дворца и безграничная синева моря сплетают вокруг них вереницу приключений и борьбы человека с природой.
Слушая рассказы про современных следопытов, ливадийские ребята вспоминали, как они сами подобно следопытам пробирались по глубоким зарослям Ореанды, отыскивая между камнями ежей и желтобрюхов, или гонялись за редкими экземплярами бабочек. Мимо беседки проходили узкими тропинками тысячи советских туристов. И нередко та или иная группа туристов натыкалась на ливадийских ребят, сидевших на перилах беседки за чтением «Всемирного Следопыта». В память своего времяпрепровождения за рассказами любимого журнала ливадийские ребята решили переименовать Ореандовскую беседку в «Уголок „Всемирного Следопыта“».
27 августа с. г. на собрании культкомиссии Лавадийского детского дома было постановлено назвать Ореандовскую беседку «Уголком „Всемирного Следопыта“» и просить Ялтинский горсовет закрепить за нею это название. В воскресенье, 1 сентября, сочными мазками эмалевой краски ребята написали на цоколе беседки: «Уголок „Всемирного Следопыта“» и сфотографировались там всем коллективом.
От горы «Всемирного Следопыта», из далекой страны мертвого леса, где лежит диковинный гость неба, до чарующего уголка «Всемирного Следопыта» на южном побережьи Крыма проведена невидимая линия и, надо думать, что в недалеком будущем будет соткана целая паутина между уголками «Всемирного Следопыта» по всей территории нашего необъятного Союза.
А. Сорокин.
Крым, Ливадия, Ореандовское шоссе, детский дом.
Примечания
1
Галла — род пива из одуряющего растения гэш.
(обратно)2
Стол, на котором производятся вскрытия.
(обратно)3
Селениты — воображаемые лунные жители. У древних греков Селена — богиня Луны.
(обратно)4
На месте теперешнего города Благовещенска.
(обратно)5
Теперь город Николаевск-на-Амуре.
(обратно)6
Сахалином.
(обратно)7
Градус Реомюра (°R) — единица измерения температуры, в которой температура замерзания и кипения воды приняты за 0 и 80 градусов, соответственно. Предложен в 1730 году Р. А. Реомюром. Шкала Реомюра практически вышла из употребления. — прим. Гриня
(обратно)8
Фурье — французский социалист; учение его представляет смесь идей чисто социалистических с индивидуалистическими; фаланстер — идеальная форма трудового общежития будущего.
(обратно)9
Апраксин рынок — в б. Петербурге.
(обратно)10
А. Н. Плещеев — видный поэт. За участие в обществе петрашевцев приговорен к расстрелу, а по царской конфирмации — к лишению прав и определению в рядовые Оренбургского линейного батальона.
(обратно)11
Западная часть Лондона, где находится старейший в мире английский парламент.
(обратно)12
Русский Вольтер — А. И. Герцен. «С того берега» — известное произведение Герцена, в котором он высказывает полное разочарование цивилизацией и безнадежный взгляд на ее будущее.
(обратно)13
В те годы у Цепного моста помещалось знаменитое Третье отделение — центр тайной политической полиции.
(обратно)14
Генерал Дубельт (при Николае I) — начальник штаба корпуса жандармов и управляющий Третьим отделением.
(обратно)15
В. Гете, «Фауст», часть II.
(обратно)16
Дагерротипы — первые фотографии на металлических пластинках.
(обратно)17
Смолянка — воспитанница Смольного института для благородных девиц в б. Петербурге.
(обратно)18
Ф. Булгарин — Известный в свое время издатель, жестоко эксплоатировавший писателей.
(обратно)19
«Отечественные Записки» — популярный в свое время литературный журнал…
(обратно)20
«Асейки», «асеи» — простонародное русское прозвище англичан и американцев; от английского «I say» (я говорю, послушайте), часто употребляемого в разговоре.
(обратно)21
Диггер (буквально: копатель) — золотоискатель.
(обратно)22
Комендантское управление.
(обратно)23
Кобольд — гном.
(обратно)24
В Мексике.
(обратно)25
Золотые Ворота — пролив, ведущий к бухте Сан-Франциско; назван так в честь вывезенного через него калифорнийского золота.
(обратно)26
Манхаттан — центральная часть Нью-Йорка, расположенная на острове того же названия.
(обратно)27
Баррен граундс — северные пустынные области, схожие с нашими сибирскими тундрами.
(обратно)28
Исторический факт.
(обратно)29
Известные слова из комедии Мольера, сказанные по поводу одного опрометчивого поступка.
(обратно)30
Речь идет об известном московском художнике-анималисте В. А. Ватагине, сотрудничающем, как знают наши читатели, в «Следопыте».
(обратно)31
Долганы — племя, обитающее в северо-восточной части Туруханского края.
(обратно)32
Эти снимки были приобретены потом одной из кинофирм.
(обратно)



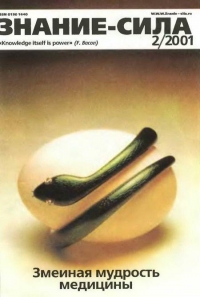
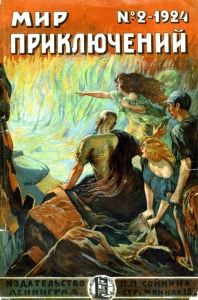


Комментарии к книге «Всемирный следопыт, 1929 № 10», Александр Романович Беляев
Всего 0 комментариев