Столица пчел. Рассказ Д. Мак-Муллен.
— Вы говорите о Столице Пчел? Какая ерунда!
— Однако это факт, — возразил Сетон.
— Повторяю, это фантазия, и я не верю ни слову из всей этой истории. Удивляюсь, как вы, ученый человек, можете утверждать такие невероятные вещи. Будто и опиума не курили, а бредите наяву, — с некоторым раздражением сказал Райт.
— Но вспомните пятерых исследователей, которые говорили об этой загадочной Столице Пчел так же, как и я.
— Да, но ведь все их попытки открыть эту столицу окончились неудачей, и их постигла печальная участь.
— Совершенно верно, все пятеро пропали без вести в районе реки Чиндвин. А что из этого следует?
— Почем я знаю!
— То, что они напали на след чего-то необычайного и вместе с тем опасного.
— Открыли Столицу Пчел? — спросил иронически Райт.
— Может быть.
Так разговаривали двое англичан, сидя в городском клубе в Сингапуре. Один из них — Райт — был местный коммерсант, другой — Сетон — натуралист и страстный путешественник.
— Вот уж ни за какие сокровища мира не пошел бы я открывать пчелиную столицу, — сказал Райт. — В детстве меня так часто жалили пчелы, что я стараюсь избегать их соседства. Когда жужжит над головой одна пчела, и то делается жутко, воображаю, какое удовольствие быть в окружении миллионов пчел, да еще диких! Я скорее согласился бы жить среди красных муравьев.
— Красные муравьи… Почему вы упомянули о них? — спросил Сетон, выпрямляясь на стуле, на котором он полулежал.
— Потому что они кусаются так же больно, как и пчелы, если не больнее. А почему это вас так заинтересовало?
— Странная вещь, — сказал Сетон. — Сегодня, думая о пчелах, я вспомнил о красных муравьях. Интересные насекомые. Своего рода аристократия среди муравьев. Так как их челюсти слабы, они не могут прокормить ни самих себя ни своих личинок. Им нужны даровые рабочие руки. Но добровольно в кабалу никто не идет, даже муравьи, поэтому эти насекомые-эксплоататоры устраивают целые организованные военные походы для ловли рабов. Захватив муравьев меньших размеров, они с триумфом возвращаются в свое жилище. Рабы кормят их, ухаживают за ними. Тех из рабов, которые пробуют убежать, они быстро нагоняют и уничтожают. Красные муравьи опасны для многих видов животных. Однако есть животное, которое свободно может жить среди них. Это панголин, или чешуйчатый муравьед… Жаль, что вас не интересует Столица Пчел, — добавил Сетон, уловив зевок Райта. — Мне пора. Всего хорошего.
Сетон вышел из клуба и направился вниз по улице к лавке китайца Лин-Тзи-Сина. Он хотел было поделиться с Райтом своими предположениями и планами будущих путешествий, но теперь был доволен, что промолчал. Райт не понял бы его и пожалуй счел бы его планы больной фантазией. «Ну что же, попытаюсь осуществить мою мечту в одиночку, — размышлял по пути Сетон. — Лин-Тзи-Син поможет мне. Странный человек этот старый Лин. Всех и все знает. Живая энциклопедия. Он никогда ничему не удивляется, по крайней мере до тех пор, пока в его карман льется золото. Отличается своеобразной честностью, но надо держать с ним ухо востро и не спускать с него глаз.»
Лин-Тзи-Син сидел в глубине своей небольшой лавочки и курил манильскую сигару — не совсем обычное занятие для китайца. Это был пожилой человек с довольно темным прошлым, но державшийся с большим достоинством. Много лет назад он приехал в Сингапур из Пекина и открыл небольшую лавочку, в которой торговал слоновой костью, старинным шелком и другими восточными редкостями. Покупатели его — иностранцы — обыкновенно упорно и долго торговались с ним и уходили, довольные, что удалось дешево купить ценную вещь. Но Лин-Тзи-Син был не глуп: уступая покупателям, он всегда оставался в большом барыше.
К Сетону Лин-Тзи-Син относился весьма доброжелательно, встречал его как близкого приятеля и оказывал ему особые знаки внимания: жал руку, усаживал в кресло и угощал душистым китайским чаем. За чаем и сигарой разговаривали о погоде, затем хозяин справлялся о здоровье гостя; Сетон в свою очередь должен был осведомиться о здоровье хозяина. Только после всей этой церемонии и нескольких чашек ароматного чая можно было приступить к деловому разговору.
— Ну, как дела? Узнали? — спросил Сетон.
За чаем и сигарой разговаривали о погоде, затем хозяин справлялся о здоровье гостя.
— Да. Я был у мастера, видел его работу по металлу, показал ему ваш чертеж и рисунки. После недолгого размышления он согласился сделать копию в месячный срок.
— Металл будет легкий, не так ли?
— Наилегчайший — алюминий, — ответил Лин.
* * *
Сетон был человек небольшого роста, худой. Темные брови срослись у переносья и придавали лицу угрюмый вид. Черные глаза слегка косили. Несмотря на хрупкое сложение, он был необычайно силен, вынослив и обладал прекрасным здоровьем. К тридцати годам приобрел богатый жизненный опыт. Сетон отличался бодрым и веселым характером. Терпение и настойчивость были его основными чертами.
Услышав от Лин-Тзи-Сина, что заказанная им вещь будет готова только через месяц, Сетон стал терпеливо ждать, так как по опыту знал, что местные мастера не отличаются аккуратностью. И действительно, прошло два месяца, а заказ еще не был готов.
В это время Сетон получил из Мельбурна заказанное им снаряжение для экспедиции. Если бы кто-нибудь увидел эти странные вещи, то недоумевал бы, зачем понадобились они Сетону для путешествия по диким неисследованным областям Бирмы. Так, в числе присланных вещей находились: небольшой стальной баллон для кислорода, толстые резиновые перчатки и такие же наколенники.
Заперев двери и сдвинув мебель на середину комнаты, Сетон надел перчатки и наколенники. Он и не подозревал, что в щелку двери подглядывали его слуги — Лазумкам и Машато.
Лазумкам — высокий худой туземец, вытянувшись на цыпочках, прильнул глазом к дверной щели. Машато — маленький кругленький бирманец — прилег на пол и старательно заглядывал в щель между полом и дверью. Их лица выражали удивление и страх. Тихонько отойдя от двери, они изумленно посмотрели друг на друга.
— Быть может саиб получил солнечный удар и теперь не в себе, — прошептал Лазумкам.
— Или в него вселился злой дух, — добавил Машато.
— Молчи, — зашептал Лазумкам. — Давай еще раз посмотрим. Может нам только показалось.
Зрелище, представившееся их глазам, было настолько странным, что поразило бы и более развитого человека, чем туземцы. В комнате на полу вдоль стен ползал на четвереньках Сетон с резиновыми перчатками на руках и в наколенниках; он старался подражать в ползаньи какому-то животному. Потом он сделал нечто еще более необъяснимое: приблизившись к сваленной в кучу мебели, стал карабкаться на столы и шкафы подобно большой ящерице.
Лазумкам и Машато в ужасе убежали к себе в комнату. Возбужденные, дрожащие, шопотом обсуждали они только что виденное. Если бы Сетон подслушал их разговор, он посмеялся бы от души. Но он и не подозревал, что за ним подглядывали. Окончив лазанье, он расставил мебель по местам, выкупался, переоделся и, взяв шляпу, зашагал к китайскому кварталу — в лавку Лина.
Напившись чаю и поговорив о погоде и о здоровье, Сетон выложил Лин-Тзи-Сину двадцать пять золотых монет.
Обратно он шел в сопровождении кули, который нес на широкой спине довольно внушительный пакет, завернутый в непромокаемую шелковую материю. Дома Сетон бережно положил пакет в чемодан, который старательно запер. С первым же отходящим пароходом он уехал вместе со своими слугами из Сингапура в Рангун, откуда по железной дороге направился в бывшую столицу королевства Бирмы — Мандалай.
Друзьям Сетон говорил, что хочет исследовать бассейн реки Чиндвин, но еще не избрал окончательно маршрут.
Чтобы скрыть истинную цель своего путешествия, он добавлял, что быть может изменит решение и поедет по железной дороге до Тигянга, или посетит Тагунг с целью изучения фресок на старинных пагодах, или же направится в северо-западную часть Бирмы, где обитает дикое племя нангасов.
С Лазумкамом и Машато он был более откровенен: они уже несколько лет служили ему честно и преданно, следовательно на них можно было положиться. В жилах Лазумкама текла кровь нангасов, Машато был родом из Верхней Бирмы. В Мандалае Сетон заявил слугам, что намеревается пересечь местность, лежащую между рекой Чиндвином и границей Ассама. Они вольны выбирать: оставаться ли на месте или следовать за ним. Он не считал нужным скрывать, что экспедиция опасна.
— Мы пойдем с тобой, саиб, — не задумываясь, ответил Лазумкам за себя и за Машато.
Сетон решил, что для начала трех человек вполне достаточно. Если же потребуются носильщики, их всегда можно будет найти в пути. Он хотел сохранить экспедицию в тайне, так как по опыту знал, что на Востоке не следует распространяться о своих намерениях. Нередко экспедиции, о которых широко оповещалось население — случайно или нет — кончались неудачей. Сетон вовсе не желал последовать примеру пропавших без вести исследователей Столицы Пчел и принял все меры предосторожности.
Спустившись по реке из Мандалая в Пакоку, он взял лодку и поплыл со своими слугами по Чиндвину. В Канни он нанял шесть человек носильщиков-туземцев и направился на юго-запад, к невысоким холмам, служившим водоразделом рек Чиндвина и Маитны. Путь был весьма тяжел. Приходилось пробираться через густые заросли магнолий и рощи хлебных и каучуковых деревьев. В лесах жили дикие звери. Надо было быть настороже.
Наконец вдали показались очертания хребта Чин. Они вступили в область равнин, изрезанных глубокими оврагами и покрытых лесистыми холмами, которые издали казались красивыми темносиними шатрами. Солнце клонилось к западу, и в воздухе чувствовалась вечерняя прохлада. Взойдя на ближайший холм, Сетон увидел, что он близок к цели: вдали, возвышаясь над горизонтом, в зареве заходящего солнца купалась огненно-красная верхушка скалы, которая должна была послужить ему ориентировочным пунктом для разыскания Столицы Пчел.
Разбив лагерь и оставив в нем носильщиков, он в сопровождении Лазумкама и Машато отправился дальше, держа направление на вершину красной скалы. Продвинулись еще на двадцать километров. Был разбит второй лагерь. Целый день Сетон знакомился с местностью, осматривая ее в полевой бинокль и стараясь угадать хотя бы приблизительно местоположение таинственного и заброшенного города, который легенда назвала Столицей Пчел.
Когда наступила ночь и яркое пламя костра оранжевыми языками взвилось вверх, к Сетону подошли Лазумкам и Машато.
— Саиб, — начал Лазумкам, — мы идем по этой сумрачной местности целые сутки, а лес остается все таким же мертвым. Только деревья и высокая трава тихо шуршат, колеблемые ветром. Мы не видим ни птиц, ни зверей, ни насекомых. Даже наш господин тав-син[1] избегает этой страны.
— Потому что это Страна Мохок[2], Страна Смерти, — коротко вставил Машато.
Лазумкам показал рукой на запад, где над верхушкой красной скалы ярко сияла большая звезда. Он говорил нараспев, уверенным голосом:
— Повидимому саиб не знает этой страны, иначе он не пошел бы сюда. Я тоже не бывал здесь, но знаю только одно, что это Страна Смерти. Моя мать была родом из племени кахи, которое обитает недалеко от китайской границы. Когда я был ребенком, она рассказывала мне об этом крае, куда даже слон и тигр не осмеливаются пробраться в поисках добычи. Самое лучшее будет, если мы уйдем отсюда пока еще не поздно и возвратимся той же дорогой, какой пришли.
— Я не заставляю вас итти со мной. Можете возвращаться обратно или оставаться здесь. Я же завтра утром иду вперед один, — твердо сказал Сетон.
— Воля саиба, — разом откликнулись туземцы.
Постояв немного в нерешительности, как бы набираясь храбрости, Лазумкам продолжал:
— Это Страна Смерти, где нет жизни, где ничто не движется кроме ветра и воды и кроме тех, кто правит этой страной из своей таинственной столицы. Но не всегда так было. Если саиб позволит, я расскажу ему то, что слышал от своей матери.
— Рассказывай, — сказал Сетон.
Машато присел на корточки у костра. Искры блестящим фейерверком вспыхивали в темном небе и рассыпались бриллиантами над заснувшим лесом. Лазумкам немного помолчал, затем, как бы припоминая что-то, выпрямился и начал:
— Давным-давно, в те времена, когда берега Иравади еще не видали белого человека, этой страной управлял старый царь. Умирая, он оставил престол своей единственной дочери. Народ звал ее Золотой Царицей, потому что она ходила в затканной золотом одежде. Она была прекрасна как заря, но сердце ее было холодно как золото. Головы ее приближенных падали одна за другой как спелые плоды гранатов. Народ трепетал при одном ее имени. Даже птицы и животные боялись ее и скрывались при ее приближении. Только пчелы, которые водились в этих краях в огромном количестве, любили жестокую царицу. Безбоязненно ходила она среди пчел, брала их за крылышки, сажала себе на ладонь. Смеясь, называла их своим войском. «Когда нападут на меня враги, я кликну клич, и верные воины грудью станут на защиту своей царицы», — шутила она.
Военачальники покоряли ей страну за страной. Далеко гремела о ней грозная слава. Всемогущей считала себя царица. Но вот нашлись смельчаки, которые решили свергнуть ее золотое иго. Заговорщики убили стражу, проникли во дворец и стали искать царицу. Она была в то время в саду. Когда заговорщики бросились на нее с оружием, царица кликнула клич. И в одно мгновение, как прорвавший плотину бурный поток, хлынули со всех сторон пчелы, облепили заговорщиков и острыми жалами впились в их тела. Жители города в страхе разбежались, скот покинул поля, все живые существа оставили леса, даже птицы улетели, гонимые несметными полчищами пчел. Пчелы посадили свою Золотую Царицу на трон в зале дворца, и она царствует и поныне в Столице Пчел. Никто не может приблизиться к царице. Пчелы зорко охраняют ее, саиб. Только одни пчелы и живут в Мертвом городе, где царствует Золотая Царица. Они заполнили все улицы, дома, поля. Вот почему я еще раз повторяю, что самое лучшее будет для нас немедленно повернуть обратно. Многие пытались проникнуть в Столицу Пчел, саиб, многие. Но никто из них не вернулся. Слон — бесстрашное животное, но ни голод ни жажда не побудят его проникнуть в Мертвый город. Послушай совета, саиб, ведь эта история, которую рассказывала мне мать, не выдумка, а правда. Там, в Мертвом городе — царство одних пчел, для других же живых существ — смерть.
— Я слышал эту легенду, — ответил Сетон. — Обещаю подумать, а теперь идите спать.
* * *
Лазумкам и Машато завернулись в одеяла и затихли. Сетон задумчиво смотрел на потухающее пламя костра. Мертвая тишина расстилалась вокруг. Казалось, они попали в страну молчания, где даже ветер старался пролетать тайком, крадучись. К югу от высокой красной скалы должно было находиться то место, куда стремился Сетон. Никто из смельчаков не вернулся оттуда, чтобы рассказать о разрушенном городе и о пагоде, называемой легендой Пчелиным Ульем. Быть может и его ждет там гибель. Пусть так, но он не отступит от задуманного. Лучшее время для выступления — ночь. Зачем ждать наступления дня?
Сетон взял лодку и поплыл со слугами по Чиндвину.
— Лазумкам, — тихо позвал Сетон.
Туземец очевидно не спал, так как тотчас же отозвался на зов. Черные с монгольским разрезом глаза нангаса блестели при свете костра.
— Ты и Машато останетесь здесь. Ждите меня три дня, — сказал Сетон. — Если я не вернусь на третий день, вы возвращаетесь в первый лагерь, где остались носильщики, и ждете меня там еще три дня. Если же и тогда я не вернусь, не пытайтесь разыскивать меня, а тотчас же возвращайтесь обратно в Мандалай и сообщите властям о моей смерти. Это мой приказ, понял?
— Понял, саиб. Я ел хлеб и соль саиба и получал от него жалованье. Я служил саибу много лет. Воля саиба будет исполнена.
Спокойствие, с каким Лазумкам отнесся к его возможной смерти, как-то успокаивающе подействовало на англичанина. Не спеша, собрался он в путь. Взял с собой пищи на три дня, немного воды, бинокль, баллон с кислородом, маску и таинственный, завернутый в непромокаемый шелк, сверток, который он получил за двадцать пять золотых от Лин-Тзи-Сина. Ружье и револьвер оставил Лазумкаму, так как оружие излишне в этой стране, где не водятся дикие звери. Окончив приготовления, он взвалил на спину вещи и, еще раз повторив инструкции, двинулся в темнеющую гущу леса.
Накануне, оглядывая окрестности в полевой бинокль, он обратил внимание на какую-то возвышенную точку к югу от высокой красной скалы. До скалы было восемь-десять километров. Следовательно он мог достичь ее к утру. Бояться было нечего. Ночь была хорошей защитой. Правда, ночью итти труднее и медленее, но зато безопасно от пчел. Сетон взял направление по компасу.
Расчеты Сетона оправдались, и на рассвете он стоял на вершине красной скалы, которая конусообразно возвышалась над равниной. На узкой каменной площадке рядом с грудой камней темнело круглое углубление. Сетон сложил ношу в расщелину скалы, улегся в углубление, завернулся в непромокаемый плащ, взглянул на небо, где тусклые звезды гасли одна за другой, и заснул.
* * *
Его разбудили солнечные лучи, которые начали сильно обжигать лицо и руки. Сетон поднялся, огляделся. Кругом однообразная холмистая равнина, на севере — черная кайма лесов. Взяв бинокль, он стал внимательно смотреть на юг. Километрах в пяти над густой зеленью леса возвышалось какое-то странное сооружение, значительно меньших размеров, чем огромный естественный монолит, с которого он смотрел. Строение блестело розовато-красными отливами и казалось висящим в воздухе. Вскоре Сетон разглядел сквозь сети ветвей зубчатые стены Мертвого города. Он был у цели… Большинство европейцев говорили об этом таинственном городе как о выдумке, басне. Другие же считали существование Столицы Пчел фактом. Ведь Бирма изобилует подобными разрушенными и забытыми городами, и то обстоятельство, что про многие из них сложились интересные легенды, доказывало, что некогда они играли видную роль.
Когтистые руки Сетона наткнулись в темноте на человеческий скелет.
Сетон направил бинокль на розовато-красное строение. Это была пагода в форме пчелиного улья, стройно возвышавшаяся над разрушенной стеной. Стена неправильной овальной формы окружала город. Издали вся площадь Мертвого города казалась густой чащей колючих акаций и дикой сливы.
Дворцовый двор, где возвышалась пагода, был весьма обширен. Стены домов здесь лучше сохранились чем в самом городе и были более тщательной конструкции. Сетон разглядел даже старую дорогу, ведущую в город.
Пока он оглядывал окрестности, стараясь разобраться в хаосе каменных груд и отличить естественные образования от обломков разрушенных домов, над городом поднялось небольшое темное облачко, которое медленно стало приближаться к тому месту, где стоял Сетон. Странное облако походило скорее на отдаленный дождь. Оно двигалось медленно на запад и вскоре скрылось, вернее расплылось между низкими холмами, за которыми находились обширные поля желтых цветов, диких слив и акаций. За первым облачком появилось второе. Это были пчелы, которые совершали свой обычный путь на луга, усеянные медоносными цветами.
Одно огромное облако пронеслось всего в ста метрах от Сетона. Резкий шум наполнил воздух, словно сотни аэропланов низко неслись над землей. Темная туча пчел закрыла солнце. Судя по плотности этой живой тучи, Сетон мог составить понятие о количестве пчел, обитающих в Мертвом городе. Неудивительно, что туземцы называют эту местность Страной Смерти. Сетон вспомнил, как несколько лет назад в Нербаде он видел целое стадо свиней, разбежавшееся от пчел, а их вожак, огромный боров, был зажален насмерть. Теперь Сетону нужно было принять меры для маскировки своего местонахождения от пчел. Если он выдаст себя каким-нибудь неосторожным движением, туча пчел набросится на него и расправится с ним так же, как пчелы Нербада расправились с кабаном.
Ему пришла мысль, что быть может так погибли исследователи-натуралисты Картрайт, Растиньяк и остальные. Обычные способы защиты от пчел — в виде плотной одежды и сетки на голове — беспомощны в борьбе с этой ужасной пчелиной лавиной. Они задушат жертву своей тяжестью, если не зажалят ее насмерть. Ведь это не домашние пчелы, работающие на человека, а дикие злые насекомые, наводящие ужас на все живое.
Сетон закрылся с головой в непромокаемый плащ, цвет которого сливался с окружающими камнями, подложил руку под голову и вновь заснул. Он знал, что его единственное спасение — в неподвижности.
Проснулся он, когда солнце склонялось к западу. Подкрепив себя пищей, стал выжидать сумерек. Когда стемнело, Сетон спустился со скалы и медленно, осторожно продвинулся на полкилометра вперед. Дальше итти открыто было небезопасно, так как он мог каждую минуту наткнуться на спящих пчел.
Он уселся на землю, развязал узел и вынул из него странный, похожий на кольчугу костюм, состоявший из множества маленьких алюминиевых пластинок, укрепленных на тонкой коже в виде рыбьей чешуи. Это было изумительное по тонкости и художественности работы изделие. Однако кольчуга эта отличалась от других, подобных ей, тем, что сделана была по форме животного, известного в Азии под названием панголина или ящера. Это чешуйчатый муравьед — млекопитающее из отряда неполнозубых. Он очень древнего происхождения, подобно носорогу, слону и гиппопотаму. Продолговатое его тело с короткими ногами и длинным хвостом покрыто твердыми роговыми чешуйками. Морда заостренная, зубов нет, язык чрезвычайно длинный. Защищаясь от нападения, панголин свертывается в клубок, чешуйки его оттопыриваются, и тогда ни одно животное не может его уязвить. Водится он преимущественно в Средней Африке и Южной Азии. Главной пищей панголина являются муравьи всех пород и видов. Панголин может свободно прокладывать себе путь в муравейники и подолгу оставаться в них. Муравьи бессильны в борьбе с ним, благодаря его чешуе. Это обстоятельство и заставило Сетона избрать панголина моделью для кольчуги.
Сначала Сетон надел тяжелые резиновые перчатки и наколенники. Потом укрепил на спине баллон с кислородом таким образом, чтобы он не мешал его движениям. Упругая металлическая трубка, прикрепленная к одному концу цилиндра, была перекинута через плечо и сообщалась с надетым на нижнюю часть лица респиратором. Затем он надел и панцырь. В этой одежде Сетон выглядел огромным панголином. Костюм надежно защищал его от нападения пчел. Алюминиевые пластинки так плотно прилегали одна к другой, что никакое пчелиное жало не могло быть опасно. Воздух проникал сквозь решетчатые отверстия в длинном рыльце маски, походившем на клоунский колпак. Добавочные отверстия в искусно сделанном хвосте панголина служили для выхода использованного воздуха. Глаза были защищены маленькими толстыми линзами. Таким образом Сетон мог видеть землю, по которой он полз, и смотреть по сторонам, но ничего не видел прямо перед собой.
Сетон полз на четвереньках вперед. Панголин передвигается медленно, и англичанин подражал ему. Не даром он долго упражнялся в ползании на четвереньках. Он боялся только одного — попасть по пути в какой-нибудь глубокий погреб. Однако он надеялся избежать и этой опасности, стараясь держаться старой дороги, которую исследовал в бинокль еще утром. Дорога вела почти по прямой линии к пагоде — конечной цели Сетона.
Вскоре Сетон убедился, что по этому пути уже кто-то проходил: его когтистые руки наткнулись в темноте на человеческий скелет, покрытый лохмотьями одежды. Скелет был в полной сохранности. На пальце правой руки блестело кольцо с агатом, который переливался при свете ярких звезд. Сетон вздрогнул. Он вспомнил, что видел точно такое же кольцо на руке натуралиста Растиньяка, когда они вместе обедали в Сингапуре полтора года назад. Нет сомнения, перед ним скелет Растиньяка. Итак, исследователь был уже почти у цели, когда погиб ужасной смертью…
Сетон отполз от скелета назад, обогнул его так, чтобы не задеть, и продолжал осторожно ползти вперед. Эта встреча неприятно подействовала на него, однако не охладила его пыл. Наоборот, в нем еще сильнее укрепилось желание во что бы то ни стало пробраться к пагоде. Неуклюже продвигался он, натыкаясь на камни, которые все чаще попадались на дороге.
Еще полчаса пути, и Сетон понял, что он приближается к городским стенам. По обеим сторонам дороги стали вырисовываться группы разрушенных, заросших травой домов. Сетон продолжал медленно ползти по направлению к пагоде Пчелиный Улей, которая находилась в центре города.
Тяжелый кисловато-сладкий запах бил в нос. Сетон догадался, что где-то поблизости должно было находиться колоссальное количество меда. По мере продвижения вперед запах этот становился все более удушливым. Вскоре к нему присоединился терпкий пчелиный запах. В ту же минуту Сетон увидел пчел, черной занавесью свисавших с полуразрушенной стены. Пчелы спали, но не были спокойны. Слышалось тихое жужжание. С живой занавеси то-и-дело отрывались маленькие существа. Они падали на несколько сантиметров, потом снова взлетали и прилипали к блестящей завесе смерти. Со всех сторон на других стенах висели такие же черные ковры из пчел. Из трещин скал, из старых цистерн и глубоких погребов — отовсюду несся тихий гул миллионов пчел, напоминавший шум отдаленного водопада.
Тысячи лет обитали пчелы в этом древнем городе, который управлялся когда-то царями, давно забытыми историей. Слухи о Столице Пчел и о несметных сокровищах, скрытых в ней, давно уже ходили среди прибрежных жителей реки Иравади. Медленно продвигаясь вперед, Сетон подмечал в развалинах Столицы Пчел сходство с развалинами Тагунга и Старой Пагоды.
Последнее усилие — и он очутился на вершине холма, где прямо перед ним выросло изящное строение, которое он наблюдал в полевой бинокль сутки назад. Оно стояло на высоком фундаменте; по углам его высились конусообразные башенки. К главному входу вела широкая лестница, по обеим сторонам которой как стражи лежали два каменных льва. Сетон взобрался по лестнице и проник в пагоду. Он добрался сюда как раз вовремя. Начинался рассвет, и пчелы вот-вот должны были пробудиться. Сетон чувствовал себя разбитым. Кости его, казалось, были налиты свинцом, глаза вспухли от напряжения. Съежившись насколько возможно, он забился в нишу и крепко заснул.
Его разбудил гул пчел, которые огромной стаей кружились в пагоде. Лежа на боку, Сетон мог видеть сквозь линзу внутренность пагоды. Свет проникал сюда сквозь множество мелких отверстий в потолке. В золотых лучах носились потоки пчел. Их жужжание странно резонировало в пустом здании и напоминало шелест сосен, колеблемых ветром. Пчелы двигались стройно, словно по команде кружась по пагоде и непрерывной лентой то влетая, то вылетая из нее. Сетон заметил, что они кружились над какой-то фигурой, сидящей на троне посреди пагоды.
Когда стало совсем светло, он мог более детально рассмотреть фигуру на троне. Это была бронзовая женская статуя. Она величаво сидела под высеченным из камня балдахином, на внутренней стороне которого было изображено цветущее дерево. Подобные же фрески украшали внутренность пагоды. Краски были еще свежи, хотя в некоторых местах были уничтожены временем и непогодой. Цветистые виньетки из белых слонов, голубей и еще каких-то странных птиц переплетались с геометрическим орнаментом и изображениями погруженного в нирвану Будды. Очевидно пчелы не жили в пагоде, так как нигде не было видно сотов с медом.
Огромной массой пчелы набросились на Сетона.
Забыв об опасности, Сетон покинул нишу и пополз к подножию каменного трона. Вдруг он с ужасом заметил, что пчелы обнаружили его присутствие. Их жужжание из легкого шелеста ветерка перешло в дикий рев тайфуна. Огромной массой набросились они на Сетона, и свет померк для него, так как пчелы облепили стеклянные линзы. Сетон не свернулся в клубок, как поступил бы настоящий панголин, но затаил дыхание и застыл на месте.
Он чувствовал, как груды пчел давили на его тело. Дышать становилось все труднее. Задыхаясь, Сетон попытался проколоть зубами дульце трубки от баллона с кислородом, которым он запасся на всякий случай. В цилиндре, прикрепленном между лопатками, было достаточно кислорода, чтобы прожить несколько часов. Струя была пущена и регулировалась давлением зубов на клапан. Респиратор, плотно прилегавший ко рту и ноздрям, не давал кислороду расходоваться напрасно. Сетон дышал медленно, вытянувшись на мозаичном полу под натиском разъяренных насекомых. Ему казалось, что прошло много часов, когда давление стало постепенно уменьшаться, и сквозь линзы начал пробиваться тусклый свет; потребность в кислороде уже не ощущалась.
Возможно, что неподвижность Сетона убедила пчел в том, что он мертв. Сквозь линзу он видел, что над ним все еще кружилась стая пчел, сердито жужжа. Казалось, пчелы поставили стражу, которая должна была стеречь дерзкого пришельца. Когда погасли последние лучи солнца, стража улетела спать. Наконец-то Сетон мог размять онемевшие члены и подняться на ноги, чтобы взглянуть на Золотую Царицу.
Голова бронзовой женщины была украшена диадемой, переливавшейся разноцветными огнями при слабом свете догоравшего дня. Сначала Сетону показалось, что диадема состоит из живых пчел, потом он разглядел, что пчелы искусно сделаны из бриллиантов, рубинов и изумрудов. Одна рубиновая пчела довольно внушительных размеров лежала на полу, совсем близко от Сетона. Неуклюже протянул он руку и взял драгоценность на память о посещении Мертвого города, куда до него не мог проникнуть ни один человек.
«Какие богатства таит в себе этот город! — думал Сетон. — Судя по украшениям статуи царицы, этот район должно быть изобилует драгоценными камнями. Настанет время, когда английское правительство обратит внимание на этот город богатств, отравит пчел газом и сметет Столицу Пчел с лица земли».
Сетон вспомнил об опасности, которая подстерегала его со всех сторон, и поспешил в обратный путь.
Злая земля. Историко-приключенческий роман М. Зуева-Ордынца. (Окончание).
ЧАСТЬ II ЛОЖНЫЙ СЛЕД (Окончание).
XVI. «Приказываю отступать».
Снова сидели у камина, грели назябшие за день руки и перекидывались невеселыми фразами.
— Выход из положения только один, — говорил Сукачев, — отступать. Не сдадитесь же вы на милость победителей. Если вы и уничтожите план, то Пинк и маркиз будут вас по индейскому способу на костре поджаривать, лишь бы выпытать тайну Злой Земли.
— Сдаваться в плен я не думаю, — ответил Погорелко. — Я должен вернуться к тэнанкучинам, чтобы сообщить их вождю причину смерти Айвики и Громовой Стрелы, причины потери взятого мною с собой золота и полного краха порученного мне дела. Кроме того я думаю повторить попытку с закупкой оружия для индейцев. Но куда же отступать? Вы же сами сказали сегодня утром, что отступать некуда.
— Через Чилькут в Британскую Колумбию или Канаду, — ответил Сукачев. — Подадимся к форту Селькирк хотя бы. Места мне знакомые. Лет шестнадцать назад бродяжил там. Чай еще кое-кто из знакомцев в живых остался. А от форта Селькирк по Юкону нетрудно снова в Аляску пробраться, но только с заднего крыльца, так сказать. Ну-с, милейший мой, а ваше мнение о Чилькуте каково?
Чилькут. Овеянный снежными бурями грозный Чилькут… Погорелко от многих уже слышал о нем, хотя сам и не ползал ни разу по его черным базальтовым скалам. Перевал через Чилькут зимой почти невозможен. Зимой Чилькут засыпан снегом, скрывающим обрывы и пропасти. Подъем на эту обледеневшую горную вершину так же опасен, как и спуск. Здесь нет ни дорог, ни даже пешеходных тропинок, за исключением узких, как нитка, козьих троп. Через Чилькут не пробраться ни лошади, ни горному мулу, ни даже собаке. Лишь воля и упорство человека смогут преодолеть этот каменный барьер. А после перевала — мучительно трудный шестисоткилометровый путь до форта Селькирк. Итти приходится малонаселенными снежными пустынями северо-западной территории под угрозой голода и даже скальпирования, так как путь лежит через земли враждебных белым индейских племен стиксов и так-гиш. Но Погорелко понимал, что в игре, которую он ведет, ничьей быть не может, кто-нибудь да должен выиграть. Поэтому надо рисковать хотя бы даже и жизнью.
— Что я думаю о Чилькуте? — сказал он. — А ничего. Бывают вещи и хуже.
— Хороший ответ! — улыбнулся заставный капитан и добавил, почесывая в раздумье подбородок: — Это дело выгорит, нужно только взяться за него с верного конца. Как вам уже известно, я однажды пересек Чилькут зимой. Это было в сорок девятом, когда я увез Марию из форта Нельсон. Чилькут и заставил ее кашлять кровью, а потом свел безвременно в могилу. Но мы-то с вами ведь мужчины, и спать на снегу для нас не диковина.
Больше не было произнесено ни слова. Но и без того оба почувствовали, что завтрашняя ночь застанет их на скалах Чилькута.
Сукачев встал, снял со стены пистолет и вышел во двор. У камина остались лишь Погорелко да Хрипун, неустанно поводивший ушами, прислушиваясь к звукам, уловимым для него одного.
На дворе хлопнул вдруг пистолетный выстрел. Погорелко испуганно вскочил, инстинктивно потянувшись к ружью. Но тотчас же сел, закрыв ладонями уши. И все-таки он слышал. Вслед за выстрелом завизжала собака. Это был жуткий вопль, предсмертная мольба о пощаде. Вопль подхватила другая собака, третья… И вскоре целый собачий хор выл, стонал. А выстрелы щелкали холодно и бездушно. И после каждого выстрела тотчас же смолкал один собачий голос.
Хрипун давно уже трясся всем телом, в глазах его были безумие и страх. Он на брюхе подполз к человеку и, ища спасения, втиснул свое тело между ногами господина. Погорелко опустил успокаивающе руку на его голову.
— Нет, нет, Хрипун. С тобой этого не случится.
Скрипнула дверь. Вошел Сукачев и повесил на стену пистолет. Лицо Македона Иваныча стало жестким, в уголках рта появились недобрые морщинки.
— Я перестрелял своих собак, — сказал он. — Через Чилькут они не пройдут. Не оставлять же их Пинку. Они у меня пять лет прожили.
Взгляд его остановился на притихшем Хрипуне.
— А этот? Если сами не можете, давайте я…
— Ни за что! — решительно ответил траппер.
Заставный капитан молча сел к камину, погрел руки, растопырив пальцы, и вдруг рассмеялся отрывистым невеселым смехом.
— Я по-кутузовски рассудил: с потерей этого дома, для меня родного и дорогого, не все еще потеряно. Поэтому «приказываю отступать»…
* * *
Когда вышли, темная зимняя ночь, настоящая волчья ночь, лежала над факторией и бухтой. Было холодно, но тихо. Каждый нес на себе багажа килограммов по шестьдесят. И все-таки захвачено было только самое необходимое — оружие, туго скрученные спальные мешки, провизия. Взяли и те два ящика золота тэнанкучинов, которые они успели вывезти из Новоархангельска. Золото увязали в один общий тючок, нести который решено было по очереди.
До озера Беннет, лежащего уже по ту сторону Чилькутского хребта, от фактории Дьи насчитывалось шестьдесят километров. На сегодняшний день решено было дойти только до озера Линдермана, то-есть сделать всего двадцать шесть километров. Но на этом небольшом переходе между озерами Долгим и Лин-дерманом лежал главный перевал через Чилькут.
Сразу же от ворот фактории спустились в долину реки Дьи, вверх по течению которой извивалась между валунами узкая тропинка. В Большом ущелье, из каменных тисков которого и вырывалась на простор долины бурная Дьи, надо было переправляться через реку по примитивному мосту — неочищенным бревнам секвойи[3]. Дьи дымилась морозным туманом, как запаленная лошадь, и лизала бревна жадными языками. Хрипун, непривычный к таким переправам, струсил на половине моста. Погорелко нагнулся, чтобы протащить пса за собой на ошейнике, и, поглядев вниз, на дымящуюся быстрину, был поражен дикою хищной красотой горной реки.
После переправы от самого моста начинался подъем, уходивший вверх по скользким скалам. Погорелко уперся каюром, заменявшим альпеншток, в обломок скалы, подтягивая вверх тело, и тотчас испуганно подался назад. Страшный грохот, повторенный стократным эхом в ущельях, больно ударился в уши. Черные угрюмые скалы на один короткий миг осветились багрово-красным заревом. Внизу, там, где стояла фактория, медленно забирал силу пожар. А над пламенем повисло странное, похожее на громадное кольцо, дымовое облако, казавшееся от света зарева медно-красным.
— Что это такое? — удивленно воскликнул траппер.
— Фактория взорвалась, — ответил спокойно Сукачев. — Я к пороховому сараю фитиль проложил, а уходя, подпалил его.
Теперь траппер понял, что означали слова заставного капитана «с потерей этого дома»…
— Однако надо спешить, — деловито сказал Македон Иваныч. — Янки скоро сюда бросятся, будут искать, не спрятались ли мы где-нибудь в скалах.
Сгибаясь под тяжестью тюков, шли, вернее карабкались по бездорожью, по глухим горным тропам, висящим над пропастями. Часто тропы обрывались, и нужен был поистине звериный нюх, чтобы найти твердую опору для следующего шага, который мог стать и последним.
Когда добрались до озера Глубокого, начало светать. На востоке в бледных очертаниях, как первые легкие эскизы художника, вырисовались скалы, обрывы, ущелья и ледники близкого уже Чилькута. На берегу озера Глубокого— вулканической впадины, залитой водой, — сделали небольшой привал. Отсюда начинался особенно крутой подъем на собственно Чилькут. Дорога исчезла, приходилось карабкаться по отвесным почти скалам. Задыхавшегося, выбившегося из сил Погорелко охватывала тупая безрассудная злоба. Эти скалы, ущелья и сам хмурый Чилькут казались ему одушевленными существами, враждебными и злобными, отбрасывающими его обратно на запад. А дальше, насколько хватал глаз, — новые толпы каменных врагов.
Озеро Долгое встретили вздохом облегчения. Крутизна кончилась, дальше подъем будет отлогий.
— Ну и места! — сказал, отдышавшись, Погорелко. — Здесь сам чорт ногу сломит.
— Да, местечко не для дачников, — согласился Сукачев. — Ну, давайте подниматься, а то нам сегодня до Линдермана не дойти.
После Долгого подъем был почти незаметен. Но зато начиналась другая беда — глубокий рыхлый снег. У Долгого кончалась линия лесов, дальше расстилалась слегка покатая равнина — промерзшее болото, засыпанное хотя и сухим, но рыхлым снегом, которому вершинные ветры не давали возможности слежаться. Приходилось буквально пробивать себе дорогу в сугробах, доходивших до пояса.
Погорелко чувствовал, что он выбивается из последних сил. Ноги его дрожали от противной хлипкой слабости. Пот катился из-под шапки теплыми едкими струйками, заливая глаза и замерзая на щеках. «Сейчас лягу, — подумал Погорелко. — Пусть смеется или, что еще хуже, жалеет меня Македон Иваныч…» По свистящему захлебывающемуся дыханию Сукачева траппер понимал, что и заставный капитан расходует последние силы. И он ловил себя на чисто детском ожидании, что Македон Иваныч вот-вот выдохнется и предложит привал. Гордость не позволяла Погорелко первому заговорить об отдыхе.
— Перевал! — крикнул неожиданно заставный капитан.
Погорелко остановился, покачнувшись и огляделся. Ничто не напоминало здесь о перевале. Та же голая снежная равнина кругом. Лишь невдалеке виднелась одинокая траурная глыба базальта с грубо высеченным на ней крестом.
После перевала снежное поле тянулось не более чем на километр, а затем начался спуск, крутой и гладкий, как искусственная ледяная гора. К удивлению Погорелко Сукачев снял со спины тюк и пинком ноги послал его вниз, а затем, сев на лед, и сам отправился за ним. Траппер, поколебавшись, последовал примеру Македона Иваныча, но с тою лишь разницей, что не снял с плеч тюка. А потому благодаря двойной тяжести он, перекувыркнувшись раз пять через голову, пулей слетел к озеру Линдермана, — узкому горному ущелью, наполненному ледяной водой.
Сукачев уже распаковывал свой тюк и встретил траппера лукавым вопросом:
— Где это вы научились так лихо через голову кувыркаться?
Через полчаса под защитой скалы свистел и постреливал костер. Но не хотелось думать о еде, ни о чем кроме сна. И лишь только голова траппера прикоснулась к меху спального мешка, он полетел в сон словно в черную дыру…
* * *
Спускались в овраги, поднимались на холмы, обходили, если можно было, озера, реки, болота, а если нет — переправлялись по льду. Ничто не могло остановить этих трех упрямцев — двух людей и собаку. Они упорно двигались вперед, на север, грудами захолоделых углей отмечая свой путь.
Вскоре повстречались они с Юконом, который берет начало на Чилькутском хребте, и пошли по его течению. В своих верховьях — это порожистая горная речка, так не похожая на спокойного гиганта равнин среднего и нижнего течения. Миновав озеро Лабарж, прошли по льду, рискуя провалиться в полынью, пороги Юкона — Пять Пальцев и Ринк. И лишь после этого увидели они открытую равнину. Полярный мир в своем блистающем великолепии лежал перед ними. Белый покров снега, в ложбинах мягкого как пух, а на вершинах спрессованного ветром до крепости мрамора, расстилался без конца, без края.
Погорелко, хватив ноздрями вольного равнинного ветра, крикнул:
— Вот он, мой Север! Мой суровый могучий Дальний Север!..
Да, они были уже на территории Дальнего Севера, в канадской провинции Юкон.
Но чем ближе они подходили к форту Селькирк, тем угрюмее становился Сукачев. Его беспокоило, почему он не видит многочисленных санных, лыжных и просто пеших следов, обычно густой сетью окружающих каждый форт — эти аванпосты цивилизации среди равнин Великого Севера. Вот и Пелли, младший брат Юкона, показался из-за холмов и наконец слился с ним. Теперь до форта Селькирк было рукой подать. Вон с того плосковерхого бугра увидят они строения форта, дымок, вьющийся из труб, и гордый флаг, плещущий по ветру. Собрав остатки сил, они взбежали на плосковерхий холм и…
Погорелко долго помнил этот жуткий момент. Они не увидели ни строений, ни дымка, ни, наконец, красного с синими полосами знамени Британской империи. Ничего — кроме груды развалин. Заставный капитан промахнулся: он не знал, что за шестнадцать лет до их прихода форт Селькирк был сожжен, разрушен, а гарнизон и население его перебиты[4]. Зимой 1851 года аляскинские индейцы шилкаты перешли Скалистые горы и, соединившись с канадскими такгишами, напали на Селькирк. Старинный форт этот, помнивший комендантов в париках, полярных конквистадоров в кружевных жабо поверх звериных мехов и гимны гугенотов[5] при свете северного сияния, давно уже был бельмом на глазу этих двух племен, стесняя свободу торговли между ними. Морозной ночью палисады Селькирка были атакованы толпами индейцев. Форт не продержался и одной ночи, был взят и разрушен.
* * *
Они спустились к форту. Отрывки крепостных стен, выглядывающие из порослей ивняка, — вот все, что осталось от Селькирка. Проходя мимо одного из разрушенных бастионов, они спугнули стаю молодых тонконогих волков. Там, где они рассчитывали найти людей, тепло и пищу, — звериное логово…
— Это моя вина, — сказал сразу ослабевший, потерявший от неожиданности всю свою кипучую энергию Сукачев. — Я старый дурак и больше ничего. Ведь надо же было предполагать, что за шестнадцать лет много воды утечет.
— Ничего страшного пока нет, — ободрял его Погорелко. — Мы еще держимся на ногах, дня три легко протянем. А за это время далеко можно уйти, и многое может измениться. Ну, бодрее! Вперед!
И они снова пошли на север, шатаясь от усталости и голода, питаясь крохами провизии, захваченной из фактории.
Каково же было их изумление и радость, когда на третий день этого голодного похода, в полдень, впрочем более похожий на белесые сумерки, они вышли из лесной чащи на просеку. В конце просеки темнели многочисленные строения, над которыми развевался английский флаг, ослепительно яркий на фоне снегов. Они не могли конечно знать, что это был форт Реляйенс, выстроенный для Гудзоновской компании известным исследователем севера Франсуа Мерсье вместо разрушенного форта Селькирк.
Погорелко инстинктивно подался вперед, словно собираясь броситься бегом к этому алому знамени, обещавшему долгий заслуженный отдых, пищу, табак и сон в натопленной комнате. Но Сукачев схватил его за плечо.
— Не спешите. Не доверяйтесь этой красно-синей салфетке. По канадским законам человек, совершивший преступление на территории другого государства, пользуется правом убежища только три дня. А мы топчем землю Канады уже более недели. На всякий случай будем держаться подальше от красномундирников. А потому пойдемте-ка вон туда. Там хоть и не так удобно, но зато более безопасно.
И Погорелко, понявший, что он лишь бродяга без роду и племени, обвиняемый в убийстве, покорно последовал за Сукачевым. Они свернули с просеки снова в лес и направились к замерзшему ручью, на берегу которого виднелась прокопченная черная хижина, вернее куча бревен и камней, с дырами, затянутыми вместо стекол оленьей брюшиной…
XVII. Только два патрона.
Хозяином хижины оказался индеец из племени Собачьи Ребра. Этому канадскому гражданину, носившему длинное и франтоватое имя — Хорошо Одетый Человек, — от роду было около ста лет. Но волосы его были черны как смоль, без единой серебряной ниточки, и он до сих пор еще охотился, добывая ружьем для себя, для двух своих молодых жен и двух сыновей пропитание, а для английской королевы — подати. Лицо его так обезобразил медведь, что на Хорошо Одетого жутко было смотреть: гризли снес ему нос, губу и вырвал левый глаз.
Хорошо Одетый не преступил священнейшего закона Севера — закона гостеприимства — и принял очень радушно двух незнакомых белых. Но, боясь нето за своих молодых жен, нето за добытые меха, он не пустил белых в хижину, а поставил для них в лесу «тупи», коническую палатку, крытую оленьими шкурами. В этом-то «тупи» Погорелко и Сукачев прожили два дня, отдыхая после трудного похода. Лица их, исполосованные морозом и ветром словно ножами, покрылись струпьями, и кожа при малейшем надавливании кровоточила.
На третий день они заговорили с индейцем о деле. Они уже заметили, что Хорошо Одетый имеет упряжку из восьми гудзоновских собак. После совместного обеда, когда мужчины вышли на улицу покурить, Сукачев обратился к индейцу по-английски, прося продать им собак. Но Хорошо Одетый, важно запахнувшись в неописуемую рвань из вшивых мехов, ответил, что «он не слышит по-английски». Тогда Сукачев, говоривший на всех диалектах Аляски и Дальнего Севера, обратился к нему на языке атабасканцев, похожем на монотонное бормотание дикобраза.
Выслушав его просьбу, индеец вдруг рассмеялся:
— О-ке-ке-ке! Чудной белый! Зачем тебе паршивые псы индейца? Иди в форт, там ты купишь хороших жирных псов. Хочешь ешь, хочешь езди.
Сукачев посмотрел с невинным видом на мелкий сухой снег, крутившийся на крышах хижин, и с видимым спокойствием ответил:
— Нет, дружище, фортовые собаки мне что-то не нравятся. Твои лучше.
— Не лги, — сказал индеец. — Ты не был в форту. А мои собаки плохие.
— Очень хорошие собаки, — даже чмокнул от восторга губами заставный капитан.
Так, разговаривая, они дошли до «тупи», и здесь Македон Иваныч поставил вопрос ребром:
— Слушай, Хорошо Одетый, хочешь сто долларов за весь потяг? По десять долларов за пса и двадцать за сани с упряжью?
— Нет.
— Ты славный малый, сейчас я тебе отсыплю сто пятьдесят. Но только не пропивай денег, а купи своим мальчишкам хоть какие-нибудь штаны. Стыдно смотреть!
— Нет, — сказал индеец. — Ты лживый человек. Почему ты не идешь в форт покупать собак? Кто ты такой? А мои собаки не продаются.
И, повернувшись, он зашагал к своей хижине.
— Арестант вшивый! — послал ему вдогонку по-русски Сукачев и посмотрел растерянно на траппера. — Что же теперь делать? Хоть воруй у него собак! Ведь надо же как-нибудь выбираться из этой дыры.
В этот момент они заметили Хорошо Одетого, поспешно шагающего обратно к ним.
— Никак передумал индюк, — встрепенулся Сукачев. — Чорт с ним, дадим ему двести, лишь бы уступил.
— Там прошли двое людей, — сказал, подходя, индеец, — и спрашивали меня, не проходили ли мимо моей хижины двое русситинов? Вы кто — русситины?
— А кто они такие? — насторожился Сукачев.
— Один белый, другой полукровка, — ответил индеец и начал подробно и образно описывать их наружность. Сукачев и траппер переглянулись с недоумением. Без труда по описаниям индейца узнали они маркиза дю-Монтебэлло и Живолупа. Значит и они проделали тот же жуткий путь. Ведь не на крыльях же перенесло их через Чилькут, через равнину и плоскогорья Британской Колумбии. Но как, руководствуясь каким наитием, нашли они их заметенный вьюгами след?
— Вот оно, золотишко-то, что делает! — обалдело покачал головой Сукачев. — Впрочем чего же удивляться! Они оба люди бывалые, настоящие северяне. Маркиз-то, не смотри, что на бабу похож, а его и на мысу Барроу видели.
— Напрасно мы торчали здесь два дня, — сказал траппер. — Мы сами им фору дали. А теперь они увяжутся за нами, как хвост за лисой.
— Да, есть тут и наша промашка, — согласился Сукачев и обратился к Хорошо Одетому: — А давно они прошли?
— Не знаю, — нехотя ответил индеец. — Вот их след, смотрите сами.
Тут только русские заметили в нескольких шагах от себя лыжные следы. Лоснящаяся двойная лыжница шла из глубины леса, осторожной дугой огибала «тупи», подходила к самым дверям, — так, что человек мог бы заглянуть внутрь шалаша, — и вновь блестящей змеей уползала в лес, но в обратном уже направлении, в сторону хижины индейца.
— Сострунили, как молодых волчат-несмысленышей, — с досадой сказал Сукачев. — Словно затмение на нас нашло. Мы тут жданки да глянки устраивали, а они нас и накрыли. Ну, теперь унеси бог тепленькими!
И он снова обратился к индейцу:
— А что они про нас говорили, эти двое?
— Откуда ты берешь так много вопросов? Может быть они у тебя за пазухой насыпаны? — с раздражением сказал Хорошо Одетый. — Они ничего не говорили ни про тебя ни про этого белого. Они сказали: «Здесь, в лесу, в тупи живут два человека. Кто они такие? Если это двое русситинов, то ты, цветной пес, не должен продавать им ни пищи, ни пороха, ни собак. А если продашь, то „красные куртки“ из форта вздернут тебя на сук.» Вот и все. Что же еще кроме ругани могут говорить индейцу белые?
Сукачев посмотрел на его мертвый профиль и с отчаянной решимостью, как игрок, ставящий последнее на ненадежную карту, сказал:
— Хорошо Одетый, ты честный парень, мы верим тебе, так вот слушай: нас преследуют «красные куртки». Они хотят нас повесить, хотя мы ни в чем не виноваты. Мы должны бежать. Но как бежать без собак? Если ты не продашь нам своих псов, мы погибли. Говори теперь ты. Что скажешь?
Хорошо Одетый судорожно проглотил табачную жвачку, которую он от волнения забыл выплюнуть.
— Почему же ты раньше не сказал, что вы бежите от «красных курток»? — с упреком спросил он. — Видишь вон то дупло? Положи туда пятьдесят долларов, — я знаю, что мои собаки больше не стоят, — и забирай их. И торопись. Нето придут из форта «красные куртки». Я скажу, что не видел вас. Пусть будет путь ваш легок и спокоен, и да будет в делах ваших удача. Прощайте!
Сукачев посмотрел оторопело ему вслед.
— Ну и ну! Видимо красномундирники когда-то здорово насолили этому Хорошо Одетому голяку. Однако, Федорыч, собирайте вещички.
Они быстро увязали тюки, вскинули их на плечи и остановились в испуге. Где-то близко хлестнул ружейный выстрел, звонко раскатившись по лесу.
— Собаки! — крикнул в отчаянии Македон Иваныч. — Наших собак бьют!
Тут только русские заметили в нескольких шагах от себя лыжные следы.
Они выбежали из «тупи» и, поднявшись на ближайший холм, увидели, что заставный капитан не ошибся. В полукилометре, в небольшом овраге, защищенном от ветра, привязанные на коротких ремнях к палкам, расположились двумя длинными рядами собаки Хорошо Одетого. Один из псов уже ползал по снегу с перебитым хребтом, скребя лапами в предсмертных конвульсиях. Хлестнул второй выстрел, и еще один пес ткнулся пробитой головой в снег. Снова выстрел — и крупная сука потащилась на передних лапах, волоча парализованный пулей зад. Собаки рычали от страха, рвались с привязей, пытались перегрызть толстые ремни. Но пули укладывали их одну за другой.
— Да откуда же они стреляют? — крикнул в недоумении Погорелко.
— С провизионного амбара. Видите, дула торчат.
Недалеко от хижины Хорошо Одетого, на полянке виднелся своеобразный провизионный склад, необходимая принадлежность каждого трапперского зимовья. Это был небольшой амбарчик, выстроенный на двух гладко обструганных стволах толстых сосен. Стволы эти обливаются водой, и по их обледеневшей скользкой поверхности не взберется ни один четвероногий вор.
— Ничего нам с ними не сделать, — сказал Погорелко. — Они в амбаре словно в крепости, а мы на этом холме как на ладони.
В этот момент упала последняя собака, подбитая пулей Живолупа.
— Больше не для чего торчать здесь, — воскликнул решительно траппер. — Бежимте, благо у нас есть лыжи.
— Живо, берите только самое необходимое, — сказал Македон Иваныч, — патроны и спальные мешки. Провизию по дороге найдем, а нет — настреляем. Эту же дрянь, — ударом ноги сбросил он с холма тючок с золотом, — к чорту! Пусть им подавится Пинк и его шайка! Нам в пустыне золото не нужно…
Взбросив на плечи маленькие полегчавшие мешки, они стали на лыжи и быстро спустились в лес. Вдогонку им хлопнуло несколько выстрелов, но пули пропели поверху, сбивая с ветвей пушистый снег.
— Меня одно радует, что я успел положить в дупло сто долларов, — сказал Погорелко, когда они выбрались из леса на просеку. — Ведь Хорошо Одетый потерял своих собак из-за нас.
На просеке, где снег был примят многочисленными следами, русские развили полный ход. Надо было положить между собой и преследователями как можно больше километров снега и леса. Не убавляя хода, они поднялись на поросшую лесом горку и на вершине ее задержались на миг — передохнуть и бросить последний взгляд на форт.
Реляйенс лежал у них под ногами. Десяток бревенчатых строений, маленькая каменная церковь да полсотни «тупи» индейцев, приехавших в форт для сдачи мехов, — вот и все признаки культурного центра. А вокруг — грозная стена северного леса. Близ настежь открытых ворот форта горели длинные индейские костры, у которых грелся пяток оборвышей, закутанных в меха и одеяла. Тут же стоял великолепный потяг. В легкие узкие сани с медными подрезами было впряжено двенадцать псов маккензиевой породы, самой сильной на севере, — двенадцать широкогрудых высоконогих пожирателей пространства.
Погорелко вздохнул завистливо и безнадежно. Сукачев ответил ему таким же вздохом. Затем они переглянулись, как бы спрашивая друг друга глазами, и вдруг, не сказав ни слова, откинулись всем корпусом назад, расставили ноги и птицами понеслись с горки к форту.
Затормозив у ворот с полного хода так, что снег столбами взлетел из-под пыж, русские двумя ударами бича, валявшегося рядом, подняли псов, ляпнулись в сани, гикнули и понеслись. Один из гревшихся оборванцев, поняв видимо в чем дело, уцепился было за задок саней, но Погорелко ударом ноги отбросил его назад. Оборванец упал прямо в костер, завопив от ужаса и боли. На его крик и звон собачьих колокольчиков из ворот форта выбежал высокий бритый мужчина. Под распахнувшимися полами его дохи алел мундир северо-западной королевской конной полиции. Увидав мчавшийся потяг, он опустился на одно колено, вскинул к плечу ружье и выстрелил. Пуля взрыла снег где-то впереди собак. Второй раз ему выстрелить не удалось. Сани скатились с горы в болото, поросшее редкими кедрами.
— Не поверят, если сказать, что кавказский офицер, весь «в язвах чести», вдруг ворует полицейских собак! — грохотал пушечными залпами Сукачев. — Зато мы теперь как на фельдъегерских катим, с колокольчиками. Эх, милые, царапайся!..
А на первой же стоянке они обнаружили, что у них у двоих на тысячекилометровый поход имеется только два патрона, оставшихся в казенниках их ружей. Все остальные патроны, около четырехсот штук, Сукачев сбросил ударом ноги с холма, когда они бежали из стойбища Хорошо Одетого. Патроны были упакованы точно в такой же тючок, как и золото. Поэтому Македон Иваныч впопыхах пренебрежительно отшвырнул патроны, а бесполезное в пустыне золото захватил с собой…
XVIII. След в след.
Снег падал медленно, и хлопья его таяли над костром. Хрипун облизывал обмерзшие усы и нервно стриг изуродованными в драках ушами. Чайник пел на треноге, и когда, вскипев, начал поплевывать с шипеньем в костер, Сукачев потянулся привычно к сумке. Но тотчас же отнял руку и даже отплюнулся с досадой.
— Опять забыл, что кофию ни синь порошинки нет. Ну, что ж, похлебаем горячей водички. Не привыкать стать.
Не отрывая взгляда от пляшущего пламени, Погорелко в сотый раз задавал себе вопрос: «Не отказаться ли от дальнейшей борьбы? Не сдаться ли, пока в теле осталась еще хоть искра жизни?..» Но он тотчас же сам разрушал тот мостик, который перекидывал на пути к своему спасению… «Неужели я способен на подлость ради сохранения своей никому не нужной жизни? Значит на смарку пойдет вся борьба, которая ведется вот уже много недель с нечеловеческим напряжением воли и мускулов. Значит все муки, физические и нравственные, были перенесены даром?..»
И эти мысли были для него, как ветер для костра. Исчезла минутная слабость, и проснулось в сердце древнее пещерное желание — бороться за жизнь. Он испуганно щупал на груди, за мехами, не потерял ли план Злой Земли, и лишь только пальцы его касались березовой коры, он ощущал в себе приток новой первородной силы, которая зовется человеческой волей к жизни и победе. Нет, этот кусок березовой коры не попадет в руки Маркиза и Живолупа, которые неотступно идут за ними, по их следу. Он или довезет в целости этот ключ от полярного Эльдорадо до берегов Тэнаны, или перед смертью уничтожит его…
Вот уже две недели, как они покинули форт Реляйенс, украв собак у сержанта северо-западной конной полиции. Вот уже две недели, как продолжается эта удивительная борьба четырех человек между собой и с грозной природой Дальнего Севера. Вот уже две недели, как они идут без единого патрона (последние два были потрачены на волков, напавших на их собак) пустынями Дальнего Севера. Где они сейчас находятся? Этого Погорелко не мог бы сказать. Какие-то глухие места Северной Канады, места еще не исследованные, не положенные на карту. Траппер уверен был лишь в одном, что кругом на многие сотни километров расстилается снежная пустыня.
В санях сержанта они нашли очень немного провизии — мешочек муки и несколько банок мясных консервов, полбанки кофе и тринадцать кусков сахару. Кроме того — небольшой запас рыбы для собак. С этим запасом, разделив его на голодные пайки, они протянули двенадцать дней. Но сегодня четырнадцатый день их похода, а следовательно они не ели уже два дня. В минуты острых приступов голода в мозгу траппера возникало желание убить одну из собак и съесть ее. Но — меньше одной собакой, значит меньше одним шансом на то, что они уйдут от тех двух, преследующих их. Нет, лучше потерпеть еще день.
Для собак сохранился еще один дневной паек. Но что это был за паек! У них животы втянулись, и к ним небезопасно было подходить. Псы ждали лишь мгновения, когда люди свалятся от слабости, чтобы растерзать их. А более злобные не хотели даже ждать. Позавчера собаки напали на Погорелко. Он разбросал им крошечные куски мяса — их суточную порцию — и хотел уже было уйти. Траппер не заметил, что бывший вожак-потяга сержанта, громадный, с теленка, и злобный как волк пес, пробирается к нему крадущимися боковыми движениями. И лишь только Погорелко повернулся, став к нему боком, он оторвался от снега и очутился на груди у человека. Страшными зубами пес разодрал меховую куртку и нижнюю кукланку, словно они были из бумаги, и оставил на груди траппера кровавые шрамы. В этот момент и вторая собака, длинная тощая сука, напала на него сзади, пытаясь свалить и перекусить жилы на его ногах.
Сукачев был далеко, собирая хворост для костра, и если бы не Хрипун, ослабевший от голода траппер был бы растерзан собаками. Хрипун напал на бывшего вожака, вцепился ему в загривок и подмял под себя. А Погорелко от одной суки отбился легко, отогнав ее ножом. Так Хрипун не в первый да наверное и не в последний раз спас жизнь трапперу.
Македон Иваныч, шесидесятилетний старик, все мучения похода переносил удивительно терпеливо, а внешне как будто даже и легко, не уступая молодому крепкому трапперу. Но Погорелко знал, каких усилий стоило это заставному капитану. Его пустяковая рана на лбу от мороза разболелась. Лицо Сукачева вспухло. Но он молчал, ни разу не пожаловался и боялся лишь одного — не разболеться бы серьезно, не свалиться бы с ног и не стать обузой для товарища. И все же пенистая жизнерадостность, особая сукачевская веселая энергия била в нем ключом. Он второй день питался кипятком, но не переставал отпускать по этому поводу пару-другую незатейливых шуток. А главное — Сукачев верил в благополучный исход их путешествия и в победу над пинковскими парнями. Он верил, что не сегодня, так завтра им встретится трапперское зимовье. К чорту еду, лишь бы достать патронов к штуцеру! Тогда можно было бы прекратить это позорное, по его мнению, бегство и потягаться с Живолупом и маркизом.
На каждом ночлеге Македон Иваныч говорил с уверенностью:
— Завтра в это время мы наверное уже устроим небольшую перестрелку с теми двумя. Вот увидите, оглобля с суком!
Уверенность его была так велика, что ее хватало даже на двоих. Начинал твердо верить в успех и Погорелко.
Так и шли они четырнадцать уже суток, помогая и поддерживая друг друга нравственно и физически. И след их саней на протяжении сотен километров ушел в глубь равнин Дальнего Севера.
* * *
Живолуп потрогал обгорелые головни. Одна из них была теплая.
— Часа четыре как прошли, не боле, — сказал уверенно метис. — Теперь заарканим их, небось. Ну, ты, рвань хранцюзская, иди за хворостом. Ночевать будем.
Маркиз посмотрел на него взглядом презрения и злобы. Живолуп перехватил этот взгляд и расхохотался.
— Все косишься, что волк. Косись, косись, все равно скоро подохнешь, мзгля!
Канадец напоминал сейчас Живолупу волка после болезни от отравленной приманки, худого как скелет, с оскаленными зубами и злого на весь мир. Жалкий вид дю-Монтебэлло радовал метиса, так как они за эти четырнадцать дней пути успели остро и глухо, по-звериному, возненавидеть друг друга.
Впрочем маркиз ненавидел не одного только Живолупа. Дю-Монтебэлло был переполнен злобой. Он ненавидел бесконечные черные ночи, порождающие безумие, отрывистый пронзительный лай маленьких белых лисиц, вой полярных волков, похожий на хохот умалишенных, тоскливый, жутко звенящий. Вой этот настигал канадца всюду, наполнял его мозг безумием ненависти, а сердце — древним косматым ужасом. Как живые существа ненавидел маркиз свои лыжи, канадские лыжи в виде овальной рамы, переплетенной сетью тонких ремней. Этими лыжами должен был дю-Монтебэлло пробивать в снегу след для собак. Работу эту, самую трудную в мире, Живолуп целиком свалил на маркиза. Этим он мстил канадцу за его презрение.
Дю-Монтебэлло больше всего боялся, что метис бросит его. Тогда ему конец. Живолуп умел делать все: складывать просторные теплые хижины из снега, нечто вроде эскимосского «иглу», а за недостатком времени устраивать снежные берлоги, так называемые «баррабора», залезать в которые надо было по трубе-отдушине. Живолуп умел находить топливо там, где, казалось бы, и щепки не найти, разжигать костер при самом сильном ветре, разнимать дерущихся собак, чинить часто рвущуюся упряжь и сниматься со стоянки или останавливаться на ночлег каждый день в одни и те же часы, с точностью до одной минуты, словно необходимость сделала из него живой хронометр. Но главным достоинством Живолупа было его умение отыскивать часто пропадающий след бегущих впереди. В минуты черного отчаяния, когда маркиз терял всякую надежду, когда не было никаких примет или указаний, Живолуп, благодаря инстинкту, который был у него шестым чувством, снова ставил их сани на верный след.
Так шли они уже четырнадцать суток, ненавидя друг друга, готовые ежеминутно схватиться за ножи или ружья и в то же время неразлучные, как два раба, скованные одной цепью…
Глядя на Живолупа, уже заснувшего глубоким, без сновидений, сном, маркиз вспоминал день за днем, час за часом весь этот мучительный пробег.
В форту Реляйенс полицейские дали им бесплатно упряжку из двенадцати великолепных псов, помеси волка с собакой, черных, без отметины, с диким блеском в глазах. Этот потяг вполне мог соперничать в быстроте и выносливости с потягом, угнанным русскими. Мало того, конная полиция, разозленная дерзкой кражей собак, дала дю-Монтебэлло ордер на арест Сукачева и Погорелко. Теперь каждый канадский гражданин был обязан помочь ему при аресте русских, теперь маркиз олицетворял собой закон.
Зная, что русские бежали без провизии, а главное без патронов, маркиз и Живолуп не захотели отягчать сани излишним запасом провианта и взяли провизии для себя и собак только на пять дней. Это была большая ошибка, которая могла их погубить. Веселые и заранее торжествующие победу, выехали они из форта. И началась эта волнующая острая игра, лихая скачка через тысячи препятствий.
Лишь только на востоке показывалась холодная оранжевая полоса, что в этих широтах означает рассвет, они поднимали собак и мчались на север, все время на север, по сугробам, то нежно фиолетовым, то темносвинцовым. Они вскоре напали на следы русских и со второго дня пошли с ними след в след. Вначале след русских был старый, не совсем ясный. Его пересекали то ровная, как по линеечке стежка златобрюхой лисы, то двойная цепочка песца, а то и многочисленные следы волчьей стаи. Это значило, что беглецы прошли здесь давно. Но с каждым днем след становился свежее. И тут так некстати в игру вмешался голод.
Уже на третий день преследователи спохватились и разделили оставшуюся двухдневную порцию на голодные пайки. Но ничего страшного в этом маркиз не увидел. Ведь след русских становился яснее с каждым днем. Не сегодня — завтра они их нагонят. В сердце маркиза еще оставалось место восхищению русскими, которых не могли сломить ни холод ни голод. Дю-Монтебэлло, в чьих жилах текла кровь конквистадоров, сам-десять покорявших провинции величиной с Францию, ценил храбрость. И он великодушно решил даровать русским жизнь, конечно в обмен на ту золотую тайну, которой они владели.
Но это было на четвертый день пути. А преследователи не нагнали русских ни на пятый, ни на шестой, ни даже на седьмой день. Местность между тем становилась все глуше и глуше. Найти пищу — надежды не было. Скорее можно было потерять жизнь. Теперь они делали не более восьми-десяти километров в день вместо, прежних шестидесяти. Только теперь маркиз понял, что значит свирепый, скручивающий в узлы внутренности, голод. Он ни на минуту не переставал думать о еде. Бывало так, что, глядя на пламя костра, он видел в нем поджаривающийся кусок сала. Он видел, как приплясывают синеватые язычки, слизывая сочащиеся жирные капли. Но опадала с шумом какая-нибудь головня в костре, и дивное видение исчезало.
А однажды, обессиленный от голода, лежа на снегу, он вдруг ясно ощутил запах ресторана, аромат вкусно приготовленной пищи, услышал шум голосов, звон посуды, стук ножей и вилок. Галлюцинация была настолько отчетлива, что он бессознательно повернул голову и качал искать место, откуда шли запахи и шум.
Теперь дю-Монтебэлло даже мысленно не великодушничал, он уже не думал дарить русским жизнь. Нет, за те муки, которые он терпит, маркиз готов был разрубить их на куски. И теперь (как условно все на свете!) он с большим вожделением думал о собаках русских, мясом которых можно будет набить ссохшийся вопящий желудок, чем о ключе к золотому кладу…
На одиннадцатый день они были близки к полной победе. Русские, видимо, окончательно вымотавшись и не имея сил на утаптывание снега, пустили собак прямо по целине. Псы проломили тонкий наст и как ножами порезали себе лапы. Поэтому след русских был отмечен кровавыми отпечатками собачьих лап. Эти кровавые следы возбудили не только маркиза и Живолупа: псы их, почуяв кровь, остервенели и с диким воем бросились вперед. И вскоре они увидели русских. Два человека, падавших на каждом шагу от слабости, впрягшись в лямки, помогали собакам тащить в гору сани. Глядя на них издали, можно было подумать, что эти два взрослых человека шутят и дурачатся как маленькие ребятишки — настолько их движения были неуверенны, нелепы и полны какого-то жуткого комизма. С отчаянием и ужасом на лицах, изгрызанных морозом, они барахтались в снегу как два клоуна.
Маркиз посоветовал бросить потяг, на лыжах подойти к русским на ружейный выстрел и перебить их собак, а если понадобится, уложить и их самих. Разве мало мук они перенесли из-за этих двух негодяев? Но Живолуп не согласился на этот план. Он не хотел оставлять собак без присмотра даже на минуту, боясь за упряжь и за жалкие остатки провизии, лежавшей в санях. Русские завязли основательно, никуда не уползут, поэтому можно подойти к ним на выстрел вместе с собаками. Маркиз не мог не согласиться с метисом, и они погнали свой потяг.
Тогда русский отставной офицер, этот сумасшедший старик, бросил вдруг свои завязшие сани и, пошатываясь словно пьяный, один пошел навстречу приближающимся врагам. В руках он держал два пистолета — свой собственный и товарища — единственное их огнестрельное оружие, впрочем бесполезное в северной пустыне.
Сукачев один пошел навстречу приближающимся врагам, держа, в руках по пистолету.
Маркиз презрительно усмехнулся, увидав эти спринцовки, бьющие на пятьдесят-семьдесят шагов. Он из своего спенсеровского карабина с полутора тысяч шагов уложит русского как куропатку. Они смеялись от души, видя, как ослабевший русский упал, пополз на животе и, потеряв окончательно рассудок, с трехсот шагов открыл пальбу сразу из двух пистолетов. Дю-Монтебэлло схватился уже за карабин, чтобы положить конец этой комедии, но был сбит с ног собственными собаками. Пистолетные выстрелы русского, на этой дистанции безопасные как елочные хлопушки, все же перепугали псов. В полудиких животных заговорил инстинкт отцов-волков, привыкших обращаться в бегство при звуке выстрела. Псы панически метнулись в сторону, сбили с ног маркиза, и пятеро из них провалились в «каргут».
На равнинах Дальнего Севера и Аляски, в местах, где нет ни малейшего намека на какую-нибудь речушку, можно увидеть вдруг бьющий среди снегов родничек. Эти родники, вероятно минеральные, благодаря присутствию в них газов, не замерзают даже и зимой, лишь покрываясь сверху легким хрупким снежным сводом. Достаточно бывает даже птице сесть на это тончайшее — в лист бумаги — покрытие, чтобы оно провалилось.
В такой-то незамерзающий минеральный родник (по-индейски — «каргут») и провалились их собаки. Тут уж было не до русских. Потерять пять великолепных псов, почти половину потяга, значило навсегда остаться здесь, в сердце неведомых северных пустынь. Ведь не известно еще, в каком состоянии собаки русских, — а вернее всего, судя по кровавым следам, в очень плохом. Забыв обо всем, Живолуп и маркиз бросились спасать животных. Поблизости оказался сугроб рассыпчатого, зернистого снега, в котором собаки смогли тотчас же осушить лапы, не дав воде замерзнуть. Затем Живолуп и маркиз, скинув, несмотря на лютый мороз, рукавицы, начали вытаскивать из окровавленных собачьих лап ледяные иглы. Умные животные сами помогали людям в этой операции, Выгрызая кусочки льда, застрявшие между пальцами. Но и этого еще было мало. После ранения лап и начавшегося кровотечения нельзя пустить собак «босиком». Надо было сшить для них мокассины. На это ушло ровно полдня. Русские за это время скрылись из глаз.
И снова перед маркизом — бесконечная санная колея и двойной след лыж. Но Живолуп сказал сегодня, что русские опередили их только на четыре часа. Так ли это? А если нет — конец. Тогда маркиз признает себя побежденным, ибо больше одного дня ему не выдержать. Тогда он ляжет на снег, и пусть Живолуп делает с ним что угодно: оставляет одного на голодную смерть или, сжалившись, пристреливает… Но если они сегодня догонят русских — тогда… О! тогда маркиз знает, что ему делать. Теперь уж он все предусмотрит. Он оставит Живолупа при собаках, а сам подойдет к беглецам на двести-триста шагов, всласть поиздевается над ними, умышленно делая промахи, а потом хладнокровно пристрелит их.
Маркиз поднял голову. На востоке чуть светлело. Окрестные холмы четко вырисовывались на слегка посиневшем небе. Снег стал сиреневым. Упряжные собаки вылезли из своих снеговых нор, глухо рыча и встряхиваясь. Пора сниматься. Надо будить Живолупа.
Но метис сам вскочил, словно подброшенный пружиной.
— Трогаем! — сказал он. — И знай, барин, что я сегодня буду гнать тебя, как собака крысу. Иль сдохнем, иль повиснем у русских на вороту…
XIX. Провал.
Погорелко шел впереди и, согнувшись от усталости, бороздил снег широким следом лыж, в котором не увязали ни собаки ни сани. Сукачев, помогая псам, впрягся в лямку и тянул так, что пот струился по всему его телу.
— Стойте, милейший мой! — крикнул он, когда сани поровнялись с одиноким деревом. — Отдохнем немного.
Они остановились. Прекратился легкий шум, похожий на треск разрываемой шелковой ткани, который производят лыжи, скользящие по снегу, и великое безмолвие пустыни повисло над снегами. Невдалеке виднелись горные вершины, безымянный хребет, последний северный отрог Скалистых гор. Глядя на эту желто-бледную, словно выкрашенную охрой зубчатую стену, заставный капитан сказал:
— Только бы до гор добраться. Там легче будет. Там в долинах снег неглубокий. По льду как на курьерских покатим.
— Да, там дорога легче будет, — как эхо откликнулся Погорелко. — Можно будет на сани по очереди присаживаться. Только до бурана не быть нам, кажется, в горах…
Сукачев окинул внимательным взглядом небо и горизонт. Странный желтый свет дрожал и струился над белой равниной. Потеплело так, что с блестевших мокрых сучьев дерева, под которым они остановились, капало. Снег стал липким и тяжелым. В свинцовом безмолвии под желтым низким небом было что-то затаенно угрожающее. Длинные белые космы вьюги уже ползли по сугробам. Тонкая порошистая пыль, поднимаемая с вершин «застругов» — снежных гребней, наструганных прошлыми буранами, — свивалась в миниатюрные смерчи и уносилась ввысь.
— Пожалуй, что и не быть. Попробуем все-таки. Не подыхать же здесь, оглобля с суком! — мрачно сказал, впрягаясь в лямку, Сукачев. Но тотчас природное необоримое чувство юмора взяло верх, и он рассмеялся. — Эх, и тяжело же в пристяжные итти, когда в пузе пусто, а кишки к спине присохли!
Они снова потянулись по глубокому отмякшему снегу. Темнота надвигалась с запада, и вместе с ней шел какой-то странный шум, вначале похожий на жужжание комариной стаи, а затем разросшийся до четкой дроби огромного барабана. И лишь только русские сползли с глубоких сугробов на дно горной долины, покрытой твердым, как свинец, спресованным снегом, налетела буря. Воздух, насыщенный мелкими камнями и песком, ударил им в лицо. Ветер с ревом шарахнулся в стены утесов, словно пытаясь их проломить. Огромные камни сорвались с вершины и полетели в долину. Обломок скалы упал в десятке шагов от саней, заставив собак испуганно метнуться в сторону. Но порыв ветра стих так же неожиданно, как и налетел. Буран пробовал свои силы. И тишину разорвал громкий отрывистый удар.
— Что это? — удивленно взглянул на небо Сукачев. — Гром что ли? Зимой-то!
— Гони! — крикнул вдруг неистово Погорелко, ударом в спину опрокинул Македона Иваныча в сани и одновременно ожег кнутом собак.
Псы взвизгнули и помчались. Заставный капитан привстал в санях и недоуменно оглянулся. Близко, до жути близко увидел он стоявший потяг, а около него маркиза и Живолупа. В руках Дю-Монтебэлло тонко курился карабин, из которого он только что выстрелил по русским.
«Нагнали-таки, дьяволы!» — с отчаянием подумал Сукачев. Падая снова в сани, он увидел, что потяг преследователей сорвался с места и тоже помчался по дну долины.
Теперь Погорелко лежал в санях, растянувшись во весь рост, а заставный капитан бежал рядом, держась за короткую веревку невдалеке от коренника. И лишь на спусках, когда сани, набегая, толкали собак, грозя раздавить их, Сукачев присаживался, действуя ногами и каюром как тормозом. Вьюга крутила возле саней снежные вихри. В этом белом хаосе траппер едва различал заставного капитана, бежавшего в двух шагах.
Сукачев что-то крикнул, но вьюга сорвала слова с его губ и унесла их в горные пропасти. Она шипела змеей, рычала, охала, выла безостановочно и жутко, словно где-то рядом давили человека.
— Те… далеко?.. — крикнул снова Македон Иваныч.
— Молчите! — тоже закричал в ответ Погорелко. — Берегите дыхание!..
Он не ответил на вопрос Сукачева, не желая расстраивать старика. Минут пять уже слышал траппер прорывавшиеся иногда сквозь рев метели лай догоняющих собак и крики людей, ободряющих животных.
Погорелко привстал в санях, гикнул на собак и хлопнул бичом. Но псов не надо было понукать. Когда они услышали шум погони, возбуждение их дошло до состояния исступления. Они неслись с яростью и неутомимостью истых волков. Обессилевшие на голодном пайке, они подохнут после этой безумной скачки, но не позволят догнать себя.
Запряжка врезалась в тесное ущелье. Веер потяга сам собою сомкнулся. Теперь сани неслись по узкой тропинке. Слева была пропасть неизвестной глубины, справа — отвесная стена. Здесь, в каменной щели вьюга бесновалась, как попавший в западню зверь. Сверху, с утесов сыпались лавины снега, обломанные сучья деревьев, целые стволы, вырванные с корнем. Ветер подхватывал сани и гнал их так, что они то-и-дело налетали на собак, а затем вдруг швырял их в сторону, валил, бил о скалы, грозя сбросить в пропасть. Собаки под ударами вьюги шатались в постромках, шарахались от летевших сверху камней и, напуганные воем ветра, ослепленные колючим снегом, рвались вперед, обезумевшие, разъяренные.
Пора однако было сменить Сукачева. Старик, видимо, окончательно выдохся. Траппер выпрыгнул на тропинку, и Македон Иваныч свалился в сани. Он лежал на шкурах ничком, неподвижный как труп, держась обеими руками за передок. Погорелко понял, что теперь он должен рассчитывать только на свои собственные силы. Прилив необыкновенной дерзкой энергии почувствовал вдруг траппер.
— Эй, дьяволы, быстрее! — крикнул он, взмахнув каюром. — Хрипун, родной, наддай!..
В этот момент раздались собачий лай и крики двоих людей так близко, что трапперу показалось, будто потяг врагов мчится бок-о-бок с ними. Держась рукой за веревку, он на бегу оглянулся. То, что увидел траппер, напугало его своей неожиданностью.
В каких-нибудь ста шагах сзади мчался потяг из двенадцати громадных псов, которым набившаяся в шерсть снежная крупа придавала вид летящих по воздуху белых привидений. Глаза собак горели недобрыми зелеными огнями. Волчьи души, неистовые и злобные, чувствовались в этих огненных зрачках. Погорелко понял, что если распаленные погоней животные нагонят его, то, прежде чем вмешаются люди, он будет разорван в клочья. За санями преследующего потяга бежали два человека. Траппер разглядел даже, как порывы ветра парусом вздымали доху одного из них. Погорелко отвернулся. Он увидел достаточно, для того чтобы понять близость конца. В этот момент прилетел человеческий крик, странно гармонировавший с воплями вьюги:
— Стойте! Стрелять будем!
— Стреляйте!.. Стреляйте!.. — заревел вдруг поднявшийся Сукачев. — Стреляйте, подлецы!.. Вы знаете, что нам нечем отвечать.
И, повернувшись снова к собакам, Македон Иваныч сделал еще одно усилие оторваться от преследователей. Он встал на колени и, придерживаясь за передок только одной левой рукой, крича и гикая, начал осыпать ударами кнута обезумевших животных. Собаки подхватили с такой силой, что Погорелко начал отставать и, задыхаясь, упал на задок саней.
Вдруг одна из собак потяга судорожно дернулась и упала: тащась за остальными на постромке. Животное сломало ногу, попав в каменную трещину. Траппер выбросился из саней, чуть не сорвавшись в пропасть, двумя ударами ножа отсек постромки, соединявшие искалеченную собаку с остальной упряжкой, и кинулся снова к саням. К нему метнулась, словно прорвав полог темноты, оскаленная рычащая морда вожака преследующей упряжки.
— Гони!.. Скорее гони!.. — крикнул траппер, снова падая в сани.
Потяг помчался, но рычащая собачья морда уже не исчезала. Пес был настолько близок, что в безумной ярости грыз на бегу задок саней. Погорелко поднял каюр и, метя железным концом его в голову животного, ударил со всей оставшейся в мускулах силой, но промахнулся. Это еще более разъярило пса. С хриплым задавленным воем он рванулся вперед, и зубы его лязгнули у самого лица траппера.
— Пропасть!.. — закричал вдруг Сукачев. — Тормози!..
Погорелко оглянулся и увидал провал в двух метрах от морды Хрипуна. Быстро воткнул каюр в снег, навалившись на него всем телом, и тотчас же откинулся назад, тормозя сани. Собаки, неожиданно остановленные, отлетели назад. Но каюр с треском, похожим на выстрел, сломался. Сани снова медленно двинулись вперед.
Воспользовавшись этой секундной остановкой, неприятельский вожак, почти таща на себе всю упряжку, чудовищным броском выкинулся далеко вперед и вцепился зубами в горло подвернувшегося Хрипуна. Остальные собаки обоих потягов, подражая вожакам, тоже бросились друг на друга. Образовался какой-то рычащий, воющий клубок собачьих тел. Сани траппера налетели на дерущихся псов и опрокинулись. В них тотчас же ударились вторые сани с двумя что-то кричащими людьми. А затем люди, собаки, сани сорвались с тропинки и понеслись вниз, в провал, в черную бездну под выкрики и уханье метели, среди белых ее смерчей…
Погорелко крепко ударился обо что-то спиной. Падение кончилось. Ошеломленный ударом, он с минуту лежал без движения, бессознательно поеживаясь от сползающих по спине холодных струй воды. А затем, поднявшись рывком, сел. Траппер чувствовал, что он скоро, может быть сию же минуту потеряет сознание. Голова его уже кружилась замедляющейся каруселью близкого обморока.
— Нет, нет! — прошептал он. — Нельзя! Сначала план, план надо спрятать!..
Он стащил зубами рукавицы с обеих рук и пальцами начал разгребать сугроб рядом с собой. Вырыв яму, Погорелко положил в нее план и обнаженными руками заровнял снег. И когда работа его уже была кончена, рядом раздался тяжелый прерывистый вздох. Траппер протянул испуганно руку и нащупал что-то лохматое и теплое. Это была собака. Пес встряхнулся, сел на задние лапы и вдруг завыл тоскливо и мрачно как по покойнику. «Выдаст, — мелькнуло в мозгу Погорелко. — Найдут и меня и план…»
Он бросился на собаку и, стиснув ее шею, начал душить. Но животное вырвалось, рыча и щелкая зубами. Погорелко, поднявшись, сделал шаг вперед, снова шаря собаку. Но к удивлению заметил, что лежит и смотрит в звездное небо. «Обморок, — подумал он. — Не замерзнуть бы…» — и с этой мыслью потерял сознание.
XX. Последняя схватка.
Траппер пришел в себя от прикосновения чего-то теплого к щекам. Он открыл глаза и увидел морду Хрипуна, облизывавшего его лицо. Перехватив благодарный взгляд хозяина, пес радостно завилял пушистым волчьим хвостом.
— Ты тоже жив, Хрипун? — улыбнулся слабо Погорелко. — А где Сукачев? Ты не видел его?
Хрипун мел хвостом снег и смотрел на человека так, словно хотел что-то сказать. Погорелко, перевалившись со спины на бок, огляделся.
Метель утихла, и траппер, в памяти которого остались еще вопли и уханье бурана, был поражен наступившей тишиной. От этого глубочайшего белого безмолвия в ушах его звенела по-комариному кровь. Над сугробами стлался струистый морозный дым. Солнце, уже цепляясь низом за горизонт, висело на небе, большое и холодное. По обе стороны его виднелись два солнца, маленьких и бледных.
— Ложные солнца… — прошептал с горечью Погорелко. — Лживый мираж…
Солнечный свет искрился и дробился, отбрасываемый нависшей над траппером ледяной стеной, испещренной голубыми и зелеными натеками. Это водопад размыл горную тропинку, по которой они вчера ехали, разорвав ее посредине узкой пропастью. Подняв голову, Погорелко увидел высоко над собой, на гребне скалы, у подножья которой он лежал, провал, прервавший вчера их бешеную скачку. На краю провала, на острых камнях висели обрывки упряжи и запутавшийся в них замерзший труп собаки. От краев пропасти до водопада расстилалась свежая снежная осыпь с торчавшими из нее обломками скал, сучьями и стволами деревьев. Видимо, падая вчера, они потревожили снежную лавину, которая, срыв на своем пути целую рощицу, сползла сюда, к подножью скалы. Сколько ни разглядывал траппер окрестности, он не увидел ни одного человеческого следа, ни малейшего признака, людей. Значит все засыпаны снежной лавиной. Значит только он да Хрипун остались живы…
Погорелко с болезненным стоном откинулся снова на спину и увидел ствол живолуповой винтовки, торчавший из рыхлого снега осыпи. Траппер быстро и обрадованно протянул к ружью руки. Может быть найдутся и патроны. Тогда он спасен.
К удивлению своему Погорелко не почувствовал прикосновения к ружейному стволу и тогда только заметил, что руки его обнажены. Ведь рукавицы были сброшены им вчера, когда он зарывал план. Жуткая догадка мелькнула в мозгу траппера. Он попытался изо всех сил сжать пальцы в кулаки. Но кисти обеих рук остались неподвижными, несмотря на все усилия. Плоские и твердые как доски, руки отказывались повиноваться. Погорелко не чувствовал их до локтей. Он бил ими изо всех сил о колени, тер крепко о снег, кусал пальцы — ни малейшего болевого ощущения. Руки были отморожены. Пока он лежал без рукавиц, полярный мороз отгрыз их. Траппер закусил губы, удерживая крик, и повалился на спину, снова теряя сознание.
Живолуп молился сразу двум богам.
Но этот второй его обморок был полон образов и звуков. Он слышал вначале свирепый лай Хрипуна, перешедший затем в хруст снега под чьими-то ногами. Снег визжал долго и надоедливо, а затем раздражающее визжание его разрослось в стройное колыхание музыкального мотива. Мелодия была знакома Погорелко. Играли из «Вильгельма Телля». Он дважды слышал эту музыку: первый раз в Петербурге, когда играл Коля Кашевский, а вторично в Новоархангельске, в комнате Аленушки. Но кто играл сейчас, она или Кашевский? Этот вопрос мучил Погорелко. Он пытался заглянуть в лицо игравшего, но тот с хриплым удушливым хихиканьем отворачивал голову.
— Покажись же! — крикнул в отчаянии Погорелко. — Кто ты?
Тогда только игравший поднял голову, и траппер увидел холеное бакенбардистое лицо генерала Дубельта. «Как попал Дубельт в Аляску? — удивился Погорелко. — Ловить меня? Неправда! Меня ловят дю-Монтебэлло и Живолуп. А Дубельт меня даже и не знает. Тогда при чем же здесь Дубельт?..»
Траппер взглянул робко на жандармского генерала. Но Дубельт уже исчез, а на его месте появился Ванька Живолуп. Рядом с зверским лицом метиса мраморно белел прекрасный античный лик Венеры Калиппиги, возле которой он когда-то стоял в вестибюле Третьего отделения. И вдруг Живолуп пропал. Осталась одна Венера. Мраморный лик ее начал медленно теплеть и превратился в разрумяненное морозом лицо Аленушки под круглой каракулевой шапочкой… «Давайте же простимся, как следует,» — говорила Аленушка, жала руку траппера и брезгливо морщилась, касаясь его твердых как кость мозолей. Погорелко сердито отдернул свою руку. По Аленушка, не выпуская, еще крепче сжала его ладонь, причиняя ему нестерпимую боль в пальцах. Траппер, собрав все силы, дернул руку и открыл глаза.
Исчезли бредовые видения. Он смотрел в темное высокое небо, запорошенное звездной пылью. Потом, обеспокоенный близким присутствием чего-то ослепительно яркого и горячего, он скосил удивленно глаза. В двух шагах от него горел большой костер, а сам он лежал уже не на снегу, а на раскинутом спальном мешке. Отмороженные пальцы, отогретые огнем костра, невыносимо болели.
Погорелко с усилием приподнялся на локте, — в висках его при этом лихорадочно застучало, — и огляделся. Невдалеке от костра стояли сани в полной исправности, сани маркиза и Живолупа. Тут же рядом, привязанные к одному общему ремню, лежали шесть собак. Глаза их, уставившиеся на костер, ярко блестели. Траппер перевел взгляд правее и замер, пораженный странным зрелищем.
Близ черного базальтового обломка скалы, тоже на раскинутом спальном мешке, сгорбившись, сидел Ванька Живолуп. Рядом с метисом на снегу стояла красная, перевитая сусальным золотом, пасхальная свеча. Она горела в застывшем морозном воздухе ярким неподвижным пламенем. Живолуп, сидя на шкуре лицом к свече, делал какие-то странные жесты рукой и часто кланялся, касаясь лбом снега. Траппер вгляделся внимательно и понял: Живолуп молился. Свеча, зажжена была перед плосколицым костяным идолом алеутов и маленькой медной иконкой-складнем. Метис молился сразу двум богам — древнему охотничьему богу матери-алеутке и могущественному, таинственному, живущему на небе богу русских. Рука Живолупа то клала кресты, то дергалась в магических жестах идолопоклонника. Губы его шептали вперемежку шаманские заклинания и обрывки христианских молитв, вбитых когда-то в голову отцами миссионерами. А затем он клал по поклону тому и другому богу. Но о чем молился Живолуп, что он выпрашивал у богов с такой неистовой страстностью?
— Живолуп, что ты делаешь? — окликнул, не утерпев, Погорелко.
Метис взглянул растерянно на траппера и ответил испуганным шопотом:
— Молчи… Не кричи пожалста… — Лицо Живолупа так заиндевело, что он едва растягивал губы. — Видишь вот, молюсь. Давно уж молюсь. Пропали мы с тобой оба, пропали! У тебя, ишь, руки озноблены, а мне ноги деревом перешибло. Когда падали мы оттуда, сверху, меня сосна прикрыла. Обе ноги ниже колен в муку истерла. Не оправиться мне теперь…
Живолуп молчал, глядя с мольбой на своих богов, а затем опять зашептал лихорадочно:
— Слышь, браток, несчастные мы с тобой, оба несчастные. Ты начисто без рук остался, а я без ног. Погибнем мы теперь, чую я. Не возьмет он нас, здесь оставит на голод и холод. Меня-то он рад будет бросить, не люб я ему. Мы с ним все время как псы грызлись… Да только и он далеко не уйдет, сгибнет. Видишь, шесть собак у него осталось, а харчей нет совсем. Придется ему собак жрать. Слопает последнюю и сдохнет. Он ничего не умеет. Вот ежели бы меня взял, я бы его вывел. Да разве возьмет? Ну, и пусть! И сам сдохнет, сдохнет, сдохнет!.. — с палящей ненавистью выкрикнул метис.
— Послушай-ка, Живолуп, а где Сукачев? — с трепетной надеждой спросил Погорелко.
— Сгиб твой приятель. Снегом его занесло. Вот от него что осталось, бери, — перекинул он через костер трапперу какую-то небольшую вещь.
Погорелко узнал коротенькую солдатскую трубку Сукачева. Вспомнилось суровое, точно из стали вылитое лицо заставного капитана. Траппер упал ничком, ткнувшись лицом в мех спального мешка. То, что испытывал он, нельзя было назвать печалью по умершем. Это была и глухая мучительная тоска ребенка, у которого отняли мать, и боль друга, лишившегося друга, и мука ученика, потерявшего учителя…
— Слышь, приятель, — тихо окликнул его Живолуп, — ты чай знаешь — скажи, какому русскому богу надо молиться, чтобы спастись, чтобы взял меня Конфетка с собой, Научи, браток!
— Не знаю, — поднял голову Погорелко. — Я двадцать лет уже не молюсь. Да ты не бойся, он тебя возьмет, вот увидишь, возьмет, — утешал траппер своего недавнего врага. — А где он сейчас?
— Все бродит, сани ваши ищет. Золото ведь там и твой план золотого рудника. Баит — пока не найду, не тронусь отсюда. Чтоб ему ни дна ни покрышки!.. Идет сюда, никак. И то…
Живолуп погасил свечу, спрятал ее вместе с богами под мешок и лег, повернувшись к костру спиной. Маркиз подошел, весело и приветливо улыбаясь словно они только вчера расстались после приятной беседы. Мелкая снежная пыль осыпи, в которой купался маркиз, покрывала его с ног до головы серебряной дохой. Лицо его мало напоминало человеческое. На него было жутко смотреть. Это была сплошная язва кроваво-черного цвета, с трещинами, обнажавшими сырое красное мясо. Левый глаз, подбитый при падении, почернел и закрылся. Один из рукавов его куртки был изодран собачьими клыками и покрыт черной запекшейся кровью.
Погорелко, взглянув на дю-Монтебэлло хрипло рассмеялся.
— Досталось-таки и вам, господин маркиз. Мороз ловко вас разукрасил. Но я не сказал бы, что это вам к лицу.
— Что делать, — беспечно отмахнулся канадец. — Наша увеселительная прогулка обошлась кое-кому из нас дорого. Я лично перебрался через Чилькут не затем только, чтобы полюбоваться северным сиянием. Поэтому и пришлось поплатиться, но все же меньше чем вы. А вот вы теперь не сможете принимать своих друзей, как говорится, с распростертыми объятиями. Без шуток, я крайне опечален постигшим вас несчастьем. Как жаль, что я не натолкнулся на вас раньше — ваши руки были бы спасены.
У Погорелко вырвался короткий отрывистый смех.
— Я не благодарю вас за то, что вы не дали мне окончательно замерзнуть. Я бы хотел этого. Кто перетащил меня к костру? Вы?
— Я. Но не перетаскивал, а развел около вас костер. Даже и это стоило мне не дешево. Видите? — указал он на разорванный и окровавленный рукав. — Работа вашего пса. Он не позволял прикоснуться к вам, пришлось оглушить его дубиной и привязать.
Тут только Погорелко заметил, что Хрипун привязан к дереву толстым ремнем невдалеке от костра. В мозгу траппера мелькнуло подозрение, что маркиз привязал пса к дереву из каких-то других, более важных соображений.
Дю-Монтебэлло, исподтишка внимательно следивший за траппером, вдруг решительно пододвинулся к нему и сказал:
— Вы, кажется, чувствуете себя немного лучше. Давайте же серьезно поговорим о деле.
— Ни о чем я не буду говорить с вами! — резко ответил Погорелко. — И оставьте меня в покое. Я устал, и мне хочется спать.
Маркиз выдрал из бороды ледяную сосульку, посмотрел на нее внимательно и, бросив в костер, заговорил:
— Вы не будете отрицать, что игра велась с обеих сторон честно. Мы, то-есть вы и я, в одинаковой степени мучились, страдали и рисковали. Оглянуться на прошлое — жутко делается. Я за время этой погони утратил в себе человека. Со мной произошло что-то странное. Я никогда не буду уже прежним, что-то ушло навсегда…
Погорелко посмотрел на маркиза и заметил, что глаза его утратили присущее им дерзкое, вызывающее выражение. В глубине их притаился темный страх, который не исчезнет уже никогда. То был ужас пережитых бесконечных полярных ночей, а может быть ужас человека, почувствовавшего, что в сердце его шевелятся жуткие косматые инстинкты далеких предков.
— Странно, не правда ли? — продолжал дю-Монтебэлло. — Но это так. Я теперь все время буду думать, как бы не сойти с ума. И вот теперь, когда я победил, заплатил за победу очень дорого, вы отказываетесь платить свой проигрыш. Скажите, где план, и мы в расчете. Не хотите? Но ведь это же подлость, это грабеж самого низкого сорта. Ведь я же честно вел игру…
Траппер, поднявшись, сел. Его колотила лихорадочная дрожь. Зубы его стучали, и он с трудом мог ответить дю-Монтебэлло:
— Не знаю, о какой игре вы говорите. Я никакой игры не хотел, а вы гонялись за мной как за зверем. Может быть на языке воров и убийц погоня за жертвой и называется честной игрой, но мы называем это иначе. Вы просто жулик, грязный лживый вор! Как вы смеете говорить о честности! Вспомните Новоархангельск, вспомните вашу жену, такую же грязную авантюристку, как и вы сами. Зная, что у меня осталось к ней большое чувство, вы воспользовались этим, с ее помощью пытались оплести меня тонкой сетью лжи и подлости…
— Это была своего рода шахматная игра с ее неисчерпаемым разнообразием и сложностью комбинаций, — спокойно прервал его маркиз. — Вот и все. Однако довольно. Оставим эту метафизику. Будем говорить о деле. Мы, французы, покладистая нация, а потому предлагаю вам следующее: я не брошу вас здесь на верную смерть, заберу вас с собой и сдам на первом жилом пункте. Но вы за это отдаете мне план золотого рудника тэнанкучинов, о котором рассказывала нам Айвика. Хорошо?
— Может быть это и не плохо, но ведь вы же все равно не сможете довезти обоих нас — Траппер кивнул в сторону Живолупа.
В глазах маркиза появилось выражение страшного, холодного юмора.
— Я отнюдь не говорил про обоих. Я захвачу с собой только одного вас, ибо мосье Живолуп передал мне свое желание остаться здесь навсегда. Ему, видите ли, понравились местные живописные окрестности. Я тоже нахожу, что здешний воздух будет полезен для его здоровья.
Метис ничем не выдал своего волнения. Он попрежнему лежал, повернувшись к костру спиной, но Погорелко знал, что Живолуп с ужасом слушает слова канадца.
— Вы подлец, Монтебэлло! — ответил брезгливо траппер. — Вы подлец, каких еще не видала земля. И нам больше не о чем разговаривать. Я тоже останусь здесь, а плана вы не получите.
— Не будьте дураком, дружелюбно сказал маркиз. — Донкихотство теперь не в моде. Говорите скорее, где план, и мы сейчас же трогаемся в обратный путь.
— План? Вы все-таки хотите получить план? — поднявшись на локтях, крикнул Погорелко. — Хорошо, я скажу вам, где он. Он в сумке Сукачева. Вот! Ищите его теперь!
Маркиз опустил безнадежно голову и сказал глухо:
— Это похоже на правду. Если бы вы хотели солгать, вы сказали бы, что план спрятан, например, в ваших санях. А там его нет.
— Откуда вы это знаете? — удивился траппер. — Ведь наши сани засыпаны обвалом.
— Я отрыл их и нашел там два небольших кожаных мешка, наполненных вот этакими штучками.
Дю-Монтебэлло протянул руку, и при свете костра теплым светом засиял золотой самородок, величиной с крупную картофелину.
«А плану этому вот где место! — крикнул дю-Монтебэлло…»
— Два мешка таких вот безделушек, — продолжал маркиз. — Но мне этого мало, очень мало. Мне нужен план. Вы говорите, что он находился у Сукачева. Повторяю, это похоже на правду. Но кто мне поручится, что план не был спрятан вами где-нибудь здесь, может быть даже на том месте, на котором я сейчас сижу. Мы останемся здесь до рассвета, и я всю ночь буду искать труп вашего друга, — поднялся маркиз. — А если не найду, то у меня с вами иной разговор будет, — с угрозой закончил он, глядя в упор на Погорелко.
Траппер ответил ему взглядом, в котором не было ни испуга, ни тоски, ни ожидания. Канадец смутился, увидев эти глаза, полные смертельной усталости, и быстро зашагал от костра во тьму ночи.
Лишь только затих скрип снега под его шагами, Живопуп поднял голову.
— Молодчина парень! — улыбнулся он трапперу. — Ловко ты отшил этого хранцюза! Так ему и надо. Любит, дьявол, чужими руками жар загребать, рубли глотать, пятаки выплевывать. Метис поглядел на зеленую злую луну и добавил равнодушно: — А только сумлеваюсь я, что плант у твоего приятеля был. Это ты нарочно сказал, чтобы Конфетку со следу сбить. Правда ведь?
Погорелко молча улыбнулся.
— Ну вот и угадал я, — оживился вдруг Живолуп. — Ты схоронил плант, да? Скажи, где схоронил?
И, скатившись вдруг со спального мешка на снег, он пополз к трапперу, волоча перебитые ноги.
— Браток, ты только послушай меня! — выкрикивал Живолуп. — Ежели я заполучу плант в свои руки, то Конфетка возьмет меня с собой. Понимаешь? Твое-то дело конченное, у тебя того и гляди антонов огонь начнется. А мои ноги, ежели в лубки их положить, может еще и выходятся. Пущай и ноги пропадают, на культяпках буду ползать, лишь бы не сдохнуть здесь собачьей смертью. Родимый ты мой, — обнимал Живолуп ноги траппера, — вызволи, не дай крещеной душе погибнуть! На что тебе теперь золото? На тот свет его не возьмешь ведь. А меня ты спасешь, коли плант отдашь…
Погорелко посмотрел на обезображенное лицо Живолупа, по которому катились крупные слезы, и ответил спокойно:
— Ты дурак, Живолуп. Вырос с Ивана, а ума с болвана. Не спастись тебе, даже если и план в свои руки заполучишь. Канадец пристрелит тебя, заберет план и уедет один. Понятно?
— Так не дашь? — спросил коротко метис, медленным, крадущимся движением вытаскивая из-за пазухи нож.
Погорелко взглянул на клинок, сыпавший зеленые лунные искры и подумал, что это конец. Вспомнился почему-то вдруг шест с зарубками, который он дал Красному Облаку. Скоро вождь тэнанкучинов срежет последнюю зарубку, но русситина Черные Ноги он так и не дождется…
— Не дашь? — повторил Живолуп.
— Нет, — решительно ответил Погорелко.
Живолуп поднялся и в безотчетном полузверином порыве всей тяжестью тела рухнул на лежащего траппера. Погорелко ударом обеих ног отбросил было метиса к костру, но тот снова навалился, выбирая момент для удара ножом. Это была кошмарная борьба двух калек, из которых один владел только руками, а другой только ногами. Но преимущество было явно на стороне Живолупа и не потому только, что он владел руками, — метис кроме того был сильнее физически.
— Хрипун, помоги!.. — крикнул траппер, делая последнюю отчаянную попытку сбросить с себя навалившегося Живолупа. В ответ, ему прилетел бешеный вой Хрипуна, рвущегося с привязи. Тотчас же Погорелко почувствовал ледяное прикосновение стали, уже пропоровшей меха. А затем горячая, углубляющаяся боль просверлила его левый бок. Погорелко вскинулся, в предсмертном усилии сбросил наконец метиса и, повернувшись, упал ничком, широко раскинув руки.
Живолуп посмотрел внимательно на убитого и тяжело переводя дух, прошептал злобно:
— Жадюга! С собой не унес и другим не дал…
И вдруг насторожился. На снегу, изрытом во время борьбы, чернел какой то продолговатый предмет. Метис наклонился и быстро его схватил. Это был футляр, сшитый из мехов. Нож быстро вспорол швы. Большой кусок березовой коры, свернутый в трубку, заставил Живолупа вздрогнуть. Руками, ставшими вдруг непослушными, он раскатал свиток, и первое, что увидел, была крупная надпись, выведенная затейливой славянской вязью, знакомой Живолупу еще по миссионерской школе:
Ключъ къ отысканiю Доброй Жилы.
— Нашел! — крикнул ликующе метис. — Нашел!..
XXI. Ложный след.
Послышались торопливые шаги, и маркиз остановился в свете костра, глядя удивленно на хохочущего Живолупа и на траппера, лежащего неподвижно, с раскинутыми, словно обнимающими землю руками.
— Ты убил русского? — спросил дю-Монтебэлло.
— Шут с ним! — отмахнулся метис. — Я знаю, где плант золотого рудника. Слышь, Конфетка, знаю!
— Слышу, — спокойно ответил маркиз. — Где же он?
— Шалишь, барин! — грозя пальцем, возбужденно захихикал Живолуп. — Вези меня обратно, тогда скажу.
— Можешь положить этот план себе под голову, когда будешь подыхать здесь, — с усмешкой холодной злобы ответил дю-Монтебэлло. — А мне он не нужен.
— Не нужен? — вскрикнул метис. — Почему не нужен? Иль ты спятил, барин?
— Мы оба с тобой спятили, полукровка. Знаешь ли ты, что мы все — и я, и ты, и Пинк — шли по ложному следу? — спросил маркиз, усаживаясь поближе к костру. — Мы обмануты как глупые щенки. Впрочем этот человек, — указал канадец на труп Погорелко, — не виноват. Он и сам обманывался. Слушай же, головешка, я расскажу тебе все по порядку. Когда час назад я ушел на поиски трупа Сукачева, то первым делом направился к отрытым мною саням русских:. Я хотел подсчитать, как велико то, сокровище, которое уже попало мне в руки. Перебирая самородки, я вдруг почувствовал сомнение. Мне показалось, что с этим золотом что-то неладное. Блеск у него правда красивый но не совсем настоящий. «Дурной цвет и скверный вид», — подумал я, но тотчас попробовал успокоить себя примерами из прошлого. Я на своем веку держал в руках немало этого дьявольского металла и знаю, что если взять десять-пятнадцать образцов золота, то почти каждый из них будет иметь нечто особое. Это выражается главным образом в цвете, зависит от почвы, а потому редко можно встретить два самородка одинакового оттенка. «Наверное это золото с большой примесью железа, — подумал я, — а потому у него такой нездоровый вид».
— Да не тяни ты! — умоляюще выкрикнул Живолуп. — Бей сразу уж!
Маркиз посмотрел внимательно на него и сказал спокойно:
— Мне еще рано сниматься. Могу еще часок поболтать с тобой. Итак, начались мои сомнения с цвета золота, а в следующую минуту мне уже показалось, что и вес его легок и что оно слишком твердо для настоящего золота. Оставалось одно — протравить это золото, что я и сделал тотчас же, так как пробирный камень и азотную кислоту всегда держу под рукой. Ты, головешка, знаешь, как испытывают золото? Вот смотри. Об этот кусок твердого базальта, так называемый пробирный камень, трут испытуемый металл. Видишь, на пробирном камне остается желтая полоса от легкого слоя металла. Теперь на желтую полосу я наливаю несколько капель азотной кислоты, и если данный металл золото, то он остается без изменения, так как золото растворяется только в ртути, цианистом кали и царской водке[6]. А если это не… Впрочем, гляди. На пробирном камне уже нет металлического слоя. Он превратился в голубоватую жидкость. Следовательно, металл этот не был золотом.
— А что же это? — выдавил метис.
— Колчедан, известный под названием «ложного золота». Цена ему — грош. А теперь дай-ка мне этот план. Я, кажется, начинаю кое о чем догадываться.
— Ложное золото… — прошептал как в бреду Живолуп, машинально передав маркизу план. — За что же мне ноги-то переломило?..
— Ну, так и есть! — вскрикнул дю-Монтебэлло, едва взглянул на кусок березовой коры. — Здесь изображена долина реки Медной, которую индейцы называют Читтинией. По обоим берегам этой реки расположены богатейшие месторождения меди. Я слышал не раз, что туземцы обрабатывали находимые там медные самородки даже без плавки, подвергая их ковке в холодном виде ударами камня. Повидимому какая-то часть индейцев была введена в заблуждение, приняв самородки меди за золото. Индейцы эти, сами того не подозревая, обманули вот этого русского, а он обманул нас. Мы шли по ложному следу, зашли слишком далеко, и тебе, Живолуп, уже не вернуться обратно. А плану этому вот где место! — крикнул истерично дю-Монтебэлло, швырнув в костер «Ключъ къ отысканiю Доброй Жилы».
Маркиз долго смотрел, как карежилась в огне сгорающая береста, как синим дымком таяла в воздухе его золотая мечта. Глухие, сдавленные всхлипывания вернули его к действительности. Он оглянулся. Живолуп судорожно рыдал, уткнувшись лицом в снег. Маркиз вздернул брезгливо плечами и, встав, пошел молча к саням.
— Уезжаешь? — вскинулся Живолуп.
— Уезжаю, — ответил холодно канадец, запрягая собак.
— Возьми меня! — рыданием вырвалось у метиса. — Что хошь потом со мной делай, только не бросай тут!
— Нет! — жестко бросил дю-Монтебэлло. — Ты останешься.
— Пристрели тогда, волчья твоя душа! — крикнул Живолуп. — Зачем на муку оставляешь?
— Конец скоро наступит, — усмехнулся дю-Монтебэлло, указывая на Хрипуна, яростно пилившего зубами привязь. — К рассвету он перегрызет ремень и расквитается с тобой за своего хозяина. Как видишь, оставляю тебя в приятном соседстве. Прощай, Живолуп, до нашей встречи в аду.
Хлопнул бич, и собаки влегли в постромки.
— Бросаешь?.. Бросаешь меня?.. — прохрипел Живолуп с лицом искаженным ужасом и злобой. — Будь ты проклят, сатана!.. И сам сдохнешь, сдохнешь, зверь ненасытный!..
Ему ответил издали насмешливый посвист маркиза…
XXII. Земля-мать.
Зимою 1867 года глухими горными тропами в среднем течении Поркюпайна пробирались, направляясь на восток, десятка два усталых людей. Это шла экспедиция инженера-капитана Раймонда, которому правительством Соединенных Штатов поручено было точно определить границу между Канадой и бывшими русскими владениями в Новом Свете.
У замерзшего водопада, ледяными потоками сползавшего со скал на тропинку, экспедиция остановилась для производства триангуляционных работ. По приказанию чиновников рабочие, в большинстве русские трапперы, вытащили из саней рулетки и теодолиты. Работа закипела. Вскоре найдена была точка для пограничного столба; начали расчищать для него место.
Внезапно один из рабочих, разгребавших снег, споткнулся обо что-то и упал.
— Братцы, да ведь это человек! — закричал он испуганно. — Замерз, сердешный.
— Отмаялся, бедняга! — закрестились собравшиеся вокруг трупа рабочие. — Эх, жизнь наша охотская! На каждом шагу смерть.
— Братики, да он не замерз, он убит! — крикнул вдруг кто-то, указывая на левую полу меховой куртки, почерневшую от крови.
К рабочим подошли американские чиновники.
— Не понимаю, — сказал один из них, — кому понадобилась смерть этого человека. Судя по внешнему виду, это самый обыкновенный зверобой.
— А вот и все его имущество, — поднял рабочий почти пустую раскрытую сумку, лежавшую рядом струпом. Из нее выпала небольшая медная пластинка. Инженер Раймонд поднял ее. Пластинка оказалась дагерротипным портретом. На светописном рисунке белело девичье лицо. Над безмятежным лбом вихрился ураган непокорных волос.
— Что за чертовщина! — пробормотал удивленно инженер. — Готов поклясться, что я видел, и не очень давно, такое же лицо в Новоархангельске. Ну, конечно. Да ведь это маркиза дю-Монтебэлло, помолодевшая лет на десять. Впрочем… Что за чушь! Как могла попасть к этому лесному жителю карточка маркизы.
— А вы заметили, капитан, как странно лежит этот человек? — обратился к Раймонду его помощник. — На самой границе: туловище — в Канаде, а руки его, широко раскинутые, словно обнимают землю Аляски.
— Обнимают землю? — улыбнулся хмуро Раймонд. — Эту землю? Да ведь это именно та страна, которую бог дал в наказание Каину. Злая каинова земля…
Инженер Раймонд конечно не мог знать что человек, обнимавший последним объятием вечно мерзлую почву Аляски, называл ее когда-то второй родиной, землей-матерью.
— Господин капитан, — подошел к Раймонду переводчик. — Рабочие просят у вас разрешения зарыть в землю найденный труп.
— Излишняя сантиментальность! Это похоже на русских, — буркнул капитан. — Впрочем, пусть: если не справятся с почвой кайлами, выдайте им динамит.
Когда могила была вырыта, солнце малиново-красным диском выкатилось из-за горизонта, окрасив снег нежно-розовым тоном. Не больше двух-трех минут оставалось оно неподвижным, а затем пошло на убыль и скрылось. Десятиминутный день кончился. А капитану Раймонду, хмуро, но внимательно наблюдавшему за похоронами, показалось, что злая земля солнечно в последний раз улыбалась зарываемому в ее недра человеку…
* * *
Лишь только смолк шум удалявшейся экспедиции, из узкой расщелины вышел огромный сизо-черный волк, великолепный зверь, мощный и ловкий, со смелым взглядом бойца и ушами, изорванными в многочисленных битвах. Но, странно, на шее волка болтался ремень с обгрызанным концом.
Волк подошел к могиле, окинул ее тоскующим взглядом и, бесшумно взобравшись на верхушку насыпи, растянулся там во весь свой могучий рост. Он лежал на могильном холме, тихий и чуткий, ушедший в свои думы, до тех пор, пока не взошла луна. А тогда поднялся и завыл. Это был печальный, жалующийся вопль, тоскливое прощание с другом.
Откуда-то издалека прилетел ответный вой. Волк с ремнем на шее смолк и прислушался. Выла волчья стая в горных долинах. Громадный зверь встал на могиле, похожий на памятник из темного металла, напружинил мускулы и черной беззвучной молнией ринулся вниз на тропинку. Продравшись сквозь заросли молодого ельника, волк остановился, взглянул в последний раз на залитую лунным светом могилу и пропал за выступом скалы…
Слоновий дедушка. Рассказ-быль А. Романовского.
I. Первые следы.
Пароход словно в прятки играл с дальним городом, скрываясь в речных излучинах и забегая за дубовые рощицы. Сож, как и все малые реки, вертляв и поэтичен: то над самым омутом свиснет сочно зеленая шапка леса, то в реку врежется желтый нож косы, и на ней, сонно нежась, застынут цапли и аисты, то широким фартуком округлится песчаная отмель с паутиной просушивающихся сетей и рыбачьими биваками. И оттого, что берега были близко и на палубу доносилось мычание коров и голоса береговой жизни, на пароходе казалось уютнее. Да и сам пароход вел себя немного по-домашнему: возьмет, да и ткнется кормой прямо к обсыпающейся береговине. Капитан кричит: «Живо!», и неизвестно кому: причальщикам ли матросам или пассажирам, суетливо пробегающим по перекинутой доске. А на берегу — пестрые толпы встречающих и любопытствующих. Мальчишки-шутники после отвала подхватят конец причальной веревки и потянут ее вперед, на толпу, подрезая и сваливая людей. Гомон, взвизги, смех…
Мы со спутником сидели наверху, на открытой палубе. Рядом с нами, на скамье примостился смоленский бородач с мешком и плотничьими инструментами, лезвия которых были закручены соломой и тряпками. Он ехал очевидно на заработки. Уж несколько раз, жмурясь от воды и солнца, он порывался заговорить с нами. На его озабоченном лице без слов был написан вопрос: «А что слышно про заработки?» Наконец, поправляя мешок, он как бы вскользь спросил:
— Далече едете, товарищи?
— Да вот куда охота заведет, — говорю я.
— По бекасу али по утям ходите? — допытывается он.
— Нет, мы за мамонтом, — улыбаюсь ему. Он недоуменно глядит.
— Это где же он — спод Киевом, али на низу?
— Нет, дядя, он в земле. Тысячи лет в земле лежал, — объясняю я.
Бородач смотрит на меня долгим испытующим взглядом, потом надвигает картуз, отворачивается и недоверчиво косит глазами, словно хочет сказать: «Чудные люди! То ли в глаза смеются, то ли взаправду чудят. А толку от них пожалуй ни на грош». — И он отодвинул от нас свой мешок.
К вечеру пароход добежал до Днепра. Впереди, на полыхающем фоне заката четко обозначилась линия высокого правого берега. Горным гнездом наверху сгрудилась кучка домиков. Это Лоев. Пароход словно обрадовался большой воде: загудел, задымил, встрепенулся и весело нырнул в вечерние речные дали, навстречу кое-где мерцающим сигнальным огонькам.
Спустилась ночь, и берега утонули во мраке. Мир упростился: над головой была бездонная чернь с бисером звезд, под ногами — площадка, уходящая вперед, а в теле — одно чувство мягкого движения. После разнообразия дня не хотелось расставаться с этим полудремотным ускользающим ощущением. Неожиданно справа, из темноты донеслись слова, которые вмиг расшевелили потухавшие мысли. Как на охоте, внимание сразу обострилось, и слух не проронил ни одного звука.
— Мы и отвозили эти самые кости в Киев, — слышалось оттуда. — В шестнадцатом году было. Я тогда в матросах служил. Почитай, ящиков с десять погрузили, а были из них такие, что длиной с телегу. Вот это зверь был! И как только мать сыра-земля носила таких? Мало-мало не с пароход, Уж и шуму он тогда понаделал! Каждым пароходом подвозили мы к Табурищу десятка по четыре — по пять пассажиров: тут и профессора, и студенты, и военные. Только и разговору на палубе: «Мамон, мамон!» А в народе слушок пошел, будто там клад нашли, потому от приезжих и отбою нет. Люди тоже пустились копать. Начали с запорожских могил. Один солдат нашел золотого оленя. Офицер узнал, отнял у него оленя, а самого послал на фронт. Много тогда кое-чего болтали в народе. Еще вот сказывали, что мамон тот в Днепре застрял и отвел реку почитай километров на пять вбок…
Неторопливо и размеренно лился из темноты негромкий сказательский говорок. Мы притаились, напав на след зверя. По сторонам в потемках неясно вставали сутулые очертания холмов и обрывов, будто неслышно проходили по берегам древние ожившие чудовища. И долго еще в тот вечер мы «охотились» за невиданным зверем.
II. В гостях у «дедушки».
«Дедушка» живет теперь в Киеве, в одном из зданий современного кубически-бетонного стиля. Когда мы вошли в вестибюль, нас встретил маститый старец с белоснежной бородой — сторож, достойный своего тысячелетнего жильца. Он показал нам на стеклянную запертую дверь. Позвонили. Где-то во внутренних покоях продребезжал звонок. К нам вышел человек с землистым и будто пропыленным цветом лица и повел нас широким светлым коридором. По сторонам выстроились застекленные этажерки и столики с минералами. Кругом стояло безмолвие кладбища. Наконец слева перед нами открылась дверь. Мы перешагнули порог и остановились…
— Вот он, — сказал человек с серым лицом. — Обыкновенный мамонт является предшественником современного слона, а этот — предшественник позднейшего мамонта. Его условно можно назвать дедом современного слона. Это единственный в мире полный экземпляр, и над которым мы тут и работаем[7].
Серый человек поднял на руки метровую кость.
Вся комната была тесно уложена костями. Они лежали прямо на полу. Могучий костяк! Вот берцовые кости, как обрубки жердей, бивни по два с половиной метра длиной, громадная челюсть с зубами, ребра, лопатки… Подумать только — десятки, а может быть и сотни тысяч лет назад эти разъятые кости были живым существом! Земляной музей отлично сохранил эту древнюю тайну, а вот человеческие музеи едва не погубили ее. Впрочем людям в эти годы было не до мамонтов, а больше до Мамонтовых и Деникиных. Увидевший свет в 1916 году костяк этот начал скитания из учреждения в учреждение, из музея в музей, со склада на склад. Его спасла только хорошая упаковка. Теперь он нашел свою резиденцию — геологический музей — и заботливые руки. Нежнее чем няня из консультации к ребенку, наклонился серый человек к метровой костище и поднял ее на руку. С улыбкой, смахнувшей пыль с его лица, он сказал:
— Вы видите?
Мы ответили утвердительно. И он так же заботливо опустил кость на пол. Потом, обведя глазами комнату, набитую костями, и будто угадывая наши мысли, он продолжал:
— Наука, граждане, великая очистительница умов. Даже при помощи этого мусора она восстанавливает истину. Известно например, что в средние века кости мамонта считались остатками титанов, когда-то якобы населявших землю. Греки одну кость мамонта приняли за кость своего древнего героя Аякса. А позднее преклонялись перед скелетом другого мифологического героя — Ореста, который оказался четырехметровым ископаемым верзилой. Этим невежеством как всегда воспользовалась церковь. В храме Христофора в Валенции зуб доисторического животного с человеческий кулак долго выдавался за зуб святого. А в Вене еще недавно остатки мамонта переданы из церкви Стефана в музей Венского университета.
Человек с серым лицом преобразился: его глаза засверкали, речь убыстрилась, и даже пергамент лица слегка заалел.
— Находки необычайных костей на Западе почти всегда сопровождались шарлатанством, а на Востоке — курьезнейшими легендами. Если угодно, я познакомлю вас с парой документов. — И ученый повернулся к шкафу, отыскивая какую-то книгу.
— Вот… — продолжал он через минуту, — вот как говорится о мамонте в одном китайском сочинении: «Животное, называемое тиен-чу, называется также фин-чу, что значит: „мышь, которая прячется“. Это животное, обитающее в подземных пещерах, походит на мышь, но величиной с буйвола или быка… Фин-чу посещает темные и уединенные места. Он умирает, как только его коснется луч солнца или луны… Животное это глупо и лениво». А вот что рассказывает русский путешественник конца семнадцатого столетия: «Об этом звере говорят разное. Язычники в Якутске, тунгусы и остяки, сказывают, будто мамонты[8] постоянно или только в суровые морозы живут в земле и ходят там взад и вперед. Сказывали также, будто часто видели, как земля приподнимается, когда зверь этот ходит в болоте. Видели также, что когда он пройдет, земля на том месте опускается, и остается глубокая яма. Еще говорили те язычники — если мамонт подойдет столь близко к поверхности мерзлой земли, что почует воздух, он немедленно умирает. Вот почему так много этих зверей попадается мертвыми в высоких обрывах рек, куда они нечаянно вышли из-под земли». Вы понимаете: огромный зверь, блуждающий под землей? Что может быть наивнее этого образа? — И ученый, улыбаясь, взглянул на нас. Он вправе был гордиться победой науки, которую она одержала лет сто назад, когда на смену мамонтовым легендам пришли строго научные факты.
Из комнаты с костями нас провели в маленькую лабораторию. Здесь стояли корыто и ведро с клеем. Чтобы закрепить трухлявые кости, их опускали в клей, а потом высушивали. На полу был разложен могучий позвоночник. Тысячелетние кости отогрелись в клее и обдавали тошнотворной затхлостью. Глотая густой зловонный воздух, мы внимательно осмотрели музейную «кухню».
Когда костяк будет проклеен, его скрепят пластинками и поставят в одном из вестибюлей здания. Нам показали то место. Это будет достойное стойло для гиганта. Четыре белых колонны возвышаются по сторонам. У одной из них уже стоит старший собрат мамонта — окаменелый кряж третичного дерева.
III. Мамонтоискатели.
Однажды великий Кювье[9] обрадовался как ребенок: ему прислали из России грубый рисунок скелета мамонта, который полностью подтвердил его гипотезу. Этот научный праздник имел перед собою длинную вереницу будней. Ученые того времени не знали мамонта и считали его кости слоновыми. В подтверждение своей догадки они ссылались на римские легионы, которые-де заводили своих слонов не только в Германию и Францию, но случалось и в Англию. Кювье, имевший в своем распоряжении отдельные кости мамонта, утверждал, что это древнее животное никак нельзя отождествлять с современным слоном. Шли годы.
Тем временем ка крайнем севере далекой Сибири медленно подготовлялись события. Однажды летом скромный тунгус-охотник Шумахов после неудачной охоты в устье Лены переехал на Тамутский полуостров. Бродя по берегам озера Онкуля, он заметил в глыбах льда какую-то бесформенную массу. Охотник заинтересовался и ежегодно заглядывал в эти места. Прошло два года и из обтаявшей глыбы стали выступать бок зверя и клык, а еще через два года вся туша свалилась на прибрежный песок. Это был мерзлый мамонт. Шумахов впоследствии взял из него самое ценное — бивни, а тушу бросил на месте. Между тем мамонт продолжал обтаивать. Доисторическое мясо так хорошо сохранилось в сибирском леднике, что было даже съедобно: охотники-тунгусы в глухие голодные месяцы не раз кормили мамонтом своих собак. Не брезговали им и белые медведи, волки, лисицы. Вся туша была разворочена, кругом валялись клочья шерсти, и во все стороны расходились тысячи звериных следов.
И только в 1806 году, через семь лет после первого прихода Шумахова, в эти места приехал сотрудник Академии Наук Адамс. Он нашел вместо туши вонючие следы многолетнего пиршества. Тем не менее трофеи Адамса были ценны: он увез почти целый скелет животного и кожу, покрытую густой шерстью и настолько тяжелую, что десять человек едва дотащили ее до места погрузки.
Слух о находке прокатился по всей Европе, а через некоторое время в музее Академии Наук встал трехметровый гигант. Кювье торжествовал, а мамонт, как особь, получил полное признание…
* * *
Перед вечером мы сидели с приятелем на вековых киевских горах. Внизу дымили заводы Подола. За ними струился голубой конвейер Днепра. И дальше — курчавые сгустки зелени, огромные посады и поля, поля… Находясь под впечатлениями дня, мы старались вообразить себе то время, когда в этих местах бродили мамонты. Это почти не удавалось. Мы только что вспоминали историю онкульского мамонта. Внезапно меня осенила соблазнительная мысль. Я начал осторожно:
— Послушайте. У каждого мамонта есть своя история…
— Пожалуй, — согласился приятель. — Но что вы хотите сказать?
— Ничего особенного… — отступил я на шаг, а помедлив немного, спросил: — Вас удовлетворил музей и эти кости?
Мой спутник замялся. Тогда я пошел в атаку.
— А вероятно и табурищенский мамонт при втором рождении на свет имел свою историю.
Приятель сделал вопросительное лицо. Я пошел напрямик:
— А не махнуть ли нам на его могилу?
— В Табурище?
— Да, в Табурище.
Мы недолго размышляли. И не успели на Подоле загореться цепочки огней, как решено было продолжить длинный ряд мамонтоискателей еще двумя фигурами. Предстояло спуститься вниз по Днепру километров на триста.
И вот на другой же день мы снова сидели на палубе. На этот раз она в несколько рядов уставлена корзиночками с клубникой. В воздухе носится сладко-пряный аромат слегка закисающей ягоды. Днепр солнечно ясен. У берегов, медлительные и трудолюбивые, скрипят колеса-самокаты. Это кустарные мельницы и сукновалки. Обгоняем плоты. Их мокро убогий обиход весь как на ладони. Вот двое повисли на загребном весле, третий сидит около соломенного шалаша и внимательно ищет в снятой рубахе. Пучок подмокшего сена, какая-то рванина, разбухшие лапти, скучающий пес… Суровый быт тяжелого труда! Но нередко на плотах красуются кокетливые фанерные домики. Это — забота Украинлеса. Целыми караванами тянутся плоты вниз, на Днепрострой. Там, за порогами — лихорадка, борьба и напряжение. А здесь — мирные речные картины. И кажется, будто около этих плотов и колес-самокатов даже время идет по-иному: медлительнее, с развалкой и ленцой.
Километрах в пятнадцати от Кременчуга из Днепра вылезают первые каменные клыки — предвестники порогов. Здесь-то, против острова Пеньщикова, на правом берегу и раскинулось село Табурище. Около него, как цыплята около клуши, сгрудились поселки; Городец, Черноморивка и Скубиивка.
Пароход остановился в полукилометре от села. Надо было пройти каменистый пустырь. Какой-то «дядько» с мешком за плечами и связкой железных труб спереди оказался нашим попутчиком. Он «чичеронил»:
— Оце наша скала! У Днепропетровски будет первий гранит, а у нас — вторий.
И в самом деле, на пустыре из-под верхнего покрова тут и там выпирали замшелые граниты. В одном месте подземная скала была разворочена и вынута по кускам, получилась огромная каменная яма. А кругом по полю были разбросаны гранитные бруски, одни из них были еще бесформенны, другие наполовину уже приняли изящные геометрические очертания. В строгих серых тонах и простых линиях угадывались составные части будущего городского ландшафта: обтесанные плиты лягут в мосты, фундаменты, облицуют дома, бордюром обведут дороги. На каменоломне было тихо — праздновали.
«Дядько» повернул влево, а нам показал вперед, на бугор:
— Оце сельрада!
Шумаков заметил в глыбах льда какую-то бесформенную массу.
У сельрады был суматошный день. Весь пригорок за хатами заставлен был подводами. Шел ветеринарный осмотр. Мы едва протискались в комнатушку председателя. Он глянул на нас пристальными ярко голубыми глазами. Но серьезный, с морщинкой на лбу, взгляд никак не вязался с белокурым молодцеватым вихром, который задорно выпрыгивал из-под фуражки. Мы сказали, что ищем могилу мамонта, и просили у председателя содействия и указаний. Его лицо постепенно расплывалось в улыбку, которая откровенно говорила: «Ах, вот что! А я думал, что у вас что-нибудь серьезное». И он крикнул:
— Семен, коли у нас було це… с мамутом?
— А як дорогу строили — послышалось из толпы.
— Хто бачив його?
— Та дядька ж Прокопий знае, вин був там.
— Слышь, Семен. Кажи ему, щоб пришев сюда.
После этого вся толпа начала деятельно обсуждать вопрос о мамонте, строя догадки и давая советы. А вскоре к нашему общему удовольствию явился Прокопий Конько, и мы отправились. Прокопий был подвижной и болтливый мужичонка. Несмотря на жару, он был одет в поддевку и огромные сапоги. То обгоняя нас, то оборачиваясь, то заходя с одной стороны, то с другой, он, не переставая, болтал.
— Мамут! — восклицал он — Ох, як же тогда було: и на коних и з пароплаву сила народу понаихало. Мы ж вси тогда робили на дорози. О-о, за цим горбуком вина. Степан и копав його. Вин знае усе.
Прокопий егозил, и мы не знали, куда он нас ведет: к Степану или к мамонтовой могиле. Село растянулось километра на два. Мы шли из улицы в улицу. По сторонам уткнулись в зелень хатки-белянки. Около некоторых красовались вместо плетня гранитные пояски и скамейки. У оград томились белена и дурман. За хатами и плетнями переплетались вишенники и шелковицы. Каждый уголок выглядел игрушечным, опрятным и уютным. Иногда широкая улица от края и до края преграждалась необъятной лужей, и тогда нам приходилось, цепляясь за плетень, виснуть над разводьем.
Наконец мы остановились около одной хаты. Прокопий скрылся за углом. А через минуту ой привел к нам Степана. Это был молодой крестьянин, красавец, гоголевский Левко. Горячие глаза, щеки как спелые персики, и тонкие, будто шелковые шнурки, усы. Но в разговоре он был скуп на слова, холодноват и серьезен. Мы быстро сговорились. Перед отходом он зазвал нас выпить чаю. Приветливо встретила нас молодайка. Горница была прибрана рушниками и шитьем. Пахло вялыми травами, которыми был усыпан пол. Неожиданно мы услышали московскую песню — зашумел примус.
— Та у нас в кажной хати примус, — отозвалась хозяйка на наше удивление. — Приидешь из степу — не до пичи, а його загорнуешь — скоришенько зваришь.
Начались разговоры про крестьянство, про труды и думы. И словно пепел сдуло с угольков — загорелся Степен.
— Ще циим литом ладили, як лучше. Хлиб на степу сием, за пьятнадцать километрив.
— Что же вы думаете сделать? — спросил я…
— В гурток[10] треба, в культурно дело! — убежденно отозвался Степан. — Взять ба и горку пид сад…
И он начал развивать перед нами свой план. А когда мы все вместе выходили из хаты, Степан коротко, как бы про себя, закончил:
— К тому литу уйду в обще дело.
Он сказал это негромко, но так решительно, что трудно было не поверить.
IV. По древнему дну.
Мы вышли из села на широкую низменную луговину. Сначала тянулись проплешины обнаженных песков, а дальше пошли более темные наносы, затянутые мелким дерном и промокшие от недавней грозы. Луговина упиралась в крутые склоны высокой террасы, которая тянулась параллельно Днепру, километрах в трех от него. Было очевидно, что эта терраса и представляет собой древний, матерой берег Днепра. С веками река уклонилась вправо, но возможно, что она просто усохла. Мощные ледники, отступая к северу, давали начало величайшим рекам дилювиальной (ледниковой) эпохи, и кто знает, быть может и эта низменность, и село Табурище, и нынешний Днепр, и за ним правый берег вплоть до такого же уступа — все это представляло собой единое русло грандиозной реки! По этим береговым возвышенностям разгуливали тогда гигантские бескрылые птицы, подходили к воде мегатерии — исполинские млекопитающие тихоходы — и семиметровые мамонты… По мере того как мы вникали в окружающий ландшафт, старушка-Земля рассказывала нам увлекательнейшие были из своих тысячелетий.
Мой спутник просто и умело говорил о прошлом Земли, путешественниках, мамонтах и расшевелил у наших проводников жилку интереса.
— В Сибири, товарищи, есть места, где находят огромное количество мамонтовых костей. Целые мертвые стада! Например — на островах Новой Сибири и Ляховых. Там даже мамонтовый промысел завелся. И плохой год, если не соберут по всей Сибири сотен трех бивней. Раньше в Туркестане продавали их прямо на базарах. А вот недавно во Франции была выставка — так там были наши изделия из мамонтовой кости. Чтобы мамонты так сохранялись, нужен суровый климат с вековечной мерзлотой в почве. Часто людям даже не верится, что зверь пролежал в земле десятки тысяч лет. А это несомненно так. Был например такой случай с одним путешественником…
Рассказчик приостановился, будто припоминая что-то. Наши проводники превратились в слух. Прокопий даже споткнулся, потому что неотрывно глядел в рот моему приятелю. А тот неторопливо продолжал:
— Лет восемьдесят пять назад некий Бенкендорф занимался исследованиями в устьях Лены и Индигирки, недалеко от моря. Лето было жаркое. Солнце пекло почти круглые сутки. И реки вздулись небывало. Индигирка хлынула в тундру и разлилась целым морем. Она, видимо, так увлеклась весенней беготней, что забыла даже, где ее русло. Поэтому, когда вода стала спадать, Индигирка очутилась совсем в другом месте, далеко от прежнего пути. Бенкендорф и его спутники, заинтересованные этим явлением, отправились на новые берега. Воды еще клокотали. Река рвала целину, углубляя и расширяя свое ложе. Размокшая тундра не сопротивлялась: громадными глыбами она отваливалась в реку и раскрывала свои тысячелетние недра. Вдруг один из команды Бенкендорфа вскрикнул. Все повернулись к нему и увидели недалеко от берега чудовищную массу, похожую на груду деревьев. Груда хлюпала в воде, производя какие-то движения, но вперед не подвигалась. И каково же, товарищи, было удивление людей, когда они увидели в воде огромную слоновью голову с хоботом и бивнями. Животное, когда-то выбиваясь из сил, закатило глаза и делало хоботом судорожные движения, будто искало выхода из бурной воды. Один из охотников, присмотревшись, крикнул: «Мамонт! Сюда! Скорее цепь!»
Мамонт с глыбой земли ухнул в реку.
А животное все сильнее раскачивалось вверх и вниз. Всем стало ясно, что мамонт держался только на задних ногах. Люди быстро опутали его цепями и веревками и закрепили их на берегу. Река не заставила себя долго ждать: вскоре она окончательно подмыла мамонта, и его вытащили на берег. Это было чудовище метров пяти длиной. Его дикий вид, открытые глаза и длинная шерсть произвели на людей жуткое впечатление. Когда-то, в незапамятные времена мамонт очевидно вышел из лесной полосы в тундру. Случайно он попал на зыбкое место. Верхний покров не выдержал огромной тяжести и раздался. Мамонта засосало в торфяное болото, а вскоре и сковало льдом. Быть может первое же половодье принесло на это место слой песку, который не дал оттаять болоту, и оно погрузилось в вечную мерзлоту. Вы знаете, сохранился даже последний завтрак этого мамонта. Когда у животного вскрыли желудок, то в нем оказались молодые побеги ели и сосны и пережеванные еловые шишки. Вы понимаете? От тех времен, когда люди были еще похожи на обезьян!
Но Индигирка очевидно спохватилась, что выдала людям слишком много тайн. Она незаметно подмыла берег, и мамонт вместе с глыбой земли ухнул в воду. Люди едва успели отскочить на несколько шагов. У них в руках остались только бивни, которые они незадолго перед тем отрубили. Вы видите, товарищи, сколько интересного находится у нас под ногами, в земле! — И мой приятель повел глазами на своих слушателей.
Степан по натуре был молчалив, его выдавали только глаза, которые говорили об упругих мыслях и внутреннем горении. Прокопий же не сводил глаз с рассказчика. Из его рта непроизвольно вылетали отрывочные слова:
— Та як же вин?.. Мабуть це… Ой же який!..
Вообще Прокопий, несмотря на свою болтливость и хаотичность, оказался тоже незаурядным мужиком. Обо всем-то он подумал, многое взвесил, осмыслил по-своему окружающий мир и составил на все свои оригинальные суждения. Поэтому, когда разговор перекинулся на вопрос о начале Земли и всего живого, он развил свою теорию.
— По-моему Адамив було не один, а много, — размахивал руками Прокопий. Исть на земли арапи, исть китайцы, японцы… Як же так? Значить був и черный и желтый Адам? Исть ласточки, а то щурки. Породи разные! И у каждой породи свой Адам був.
У Прокопия выходило как-то так, что вся живая природа — и ласточки и китайцы — представляли собой одну большую семью, происшедшую от родных братьев — Адамов. В этом любовном отношении ко всему живому было много наивного, трогательного и человечного.
За разговорами мы незаметно подошли к откосу. Нам не сразу пришлось подниматься на крутой склон: дорога пролегала по дну широкого оврага, буйно заросшего зеленью. При входе стояли две хатенки, рядом желтело пшеничное поле; такие засеянные площадки встречались и выше по оврагу. Человек хотел построить здесь свое благополучие на водяном стоке, но овраг жестоко мстил ему. Через все посевы шла широкая полоса смятой и размытой пшеницы, будто по ней проехал вал дорожной трамбовки и вмял колосья в глину. Это были следы недавней грозы. Вода с высокой береговины ринулась в овраг, сметая все на своем пути. Говорят, бывали случаи, когда после ливней находили в низине кавуны и копны хлеба.
Дорога медленно шла вверх. Бузина, калина, дубки и липы теснились по сторонам, словно радуясь укромному местечку. Овраг был полон ароматами цветов и трав: тут и лобода выкидывала свои желтые свечи и красноголовый будяк стоял словно сторож, медово благоухали синяки, мерцали чернобривки и красавки. У Прокопия ни одна травка не была забыта: каждой — имя, каждой — внимание. Он шел впереди, немного закинув голову, так что клочки его сивой бороденки отлепились от шеи. Видимо ему приятно было подставить лицо встречным струям ветра. Время от времени он взмахивал руками, будто хотел обнять душистую зелень. И шаг его был легок, несмотря на его огромные сапоги. В Прокопии чувствовался большой природолюб. И природа очевидно платила ему тем же: она наделила его веселым нравом и острыми чувствами.
Между тем овраг мелел и наконец совсем сгладился: мы поднялись на матерой берег. Прямо перед нами виднелась низинка, которую пересекала железнодорожная насыпь со сквозной гранитной трубой для проточной воды. Мы повернули влево, к тому месту, где линия дороги упиралась в холмистую гряду.
V. На мамонтовой могиле.
Железная дорога прокладывалась здесь во время европейской войны. Она была почти закончена: оставалось только положить шпалы и рельсы, но постройка была почему-то заброшена. И странно было видеть железнодорожную насыпь, по которой пролегала колесная дорога и росли цветы. Возвышенность, пересекавшая путь дороге, была прорезана выемкой, похожей на овраг. Мы вошли в эту расщелину. По мере нашего продвижения стены по бокам росли. По более отлогим местам пополз кустарник. На обрывах обнажились породы, среди которых четко выделялся дилювиальный пояс — желтовато-бурая железистая полоса, которую оставила органическая жизнь эпохи. На самом дне этих отложений, в шести метрах от теперешней поверхности гряды и найден был скелет мамонта. Мы сели у его могилы и слушали рассказ Степана. Восемнадцатилетним парнем он работал на дороге и первый наткнулся на костяк. Дело происходило приблизительно так.
Однажды к вечеру, перед самым окончанием работ Степан устало накладывал последнюю тачку земли. Вдруг заступ уперся во что то твердое. Степан сначала не обратил на это внимания — камни часто попадались в земле. Он только поглубже вогнал ногой лезвие и, нажав на заступ, хотел приподнять камень. Но заступ скребнул обо что-то неподвижное. Степан начал окапывать место. И вот из земли постепенно вылезла кость, похожая на заточенную жердь. Это окончательно озадачило Степана. Он окликнул соседей и показал им на диковинку, торчавшую из земли. Подошедшие тоже недоумевали и строили догадки. Одни говорили:
— Это, Степа, отметка на кладу — ты запорожскую могилу откопал.
На противоположной стороне выемки кто-то шел, крадучись по-за кустами, а справа мелькал красный огонек папироски.
Другие предлагали еще более легендарное объяснение:
— Нет! В земле, в середке живет козерог, он давно хочет пробиться на белый свет — душно ему там и жарко. Вот он и пробивает землю рогом. Самому бы ему еще долго трудиться, а Степан ему и помог.
Старики решили сразу:
— Люципирь! — и, чураясь этого места, отошли поскорее прочь.
Пришли техники, инженер. Они осмотрели находку и на два дня велели прекратить работу около этого места.
Тем временем сумерки наполнили выемку до краев. Надо было итти домой, а Степана словно цепью приковало к находке. Взбудоражила его догадка товарищей: «А вдруг это указка на кладу?» Молод был, быстрого счастья хотелось. Вышел Степан из выемки, боком-боком — и в кусты. Пополз на бугор и смотрит с откоса. Внизу пусто — последние расходятся. Только дед Стуконож что-то захромал, трет ногу, отстает от других. Вот присел, перематывать лапти начал на ночь глядя. Да в дальнем углу выемки какой-то усердный продолжает копать — напала охота не ко времени. Но Степан думает: «Все равно пережду».
Стемнело. Из-за дальних бугров луна выглянула огневым лицом. «Это хорошо, — думает парень, — светлее будет копать.» Подождал еще немного и поднялся. Идет вниз, пригибается. Сердце колотится воробьем. Нашарил заступ в кустах, окинул взглядом окрестность… да так и замер на месте. На противоположной стороне выемки тоже кто-то шел, крадучись по-за кустами. Мелькает в бледном свете лохматая голова… «А ведь это дид Стуконож! — всполошился Степан. — Ах старый бис! И не хромает». А дед тоже пригнулся за кусты. Взглянул Степан вправо и… что за навождение! — внизу, прячась за тачку, мелькает красный глазок папироски. «Это тот ретивый копарь», — негодует Степан и в отчаянии смотрит налево. И кажется, ему в неверном свете, что из-за насыпи перед бугром лезет еще чья-то голова.
А луна уже заглянула в яму. Вот сейчас и место с кладом осветится. «Теперь бы только копать да копать», — скрипит зубами Степан. Но только он поднимет голову — зашевелится в кустах напротив дед Стуконож, вспыхнет папироска справа и голова лезет из-за насыпи. Все, мол, тут — видим… «Ах ты, нечистая сила!» — ругается Степан.
Так и просидели до свету, глаз не смыкая. Когда стали собираться копари, Степан окольными путями пробрался к себе домой, завалился спать, на работу не вышел.
К вечеру надвинулись ленивые тучи, заморосил дождь. Степан радуется — в такую ночь только и копать! Поднимается оврагом — зги не видать… Решил подойти к месту не по насыпи, а сверху, с бугра: были там на срезе ступеньки понаделаны. Прислушался — тихо. Только дождик легонько шепчет в кустах. Нащупал Степан первую ступеньку, потянулся ногой, да не рассчитал. А ступеньки — глинистые, оплыли от дождя. Поскользнулся Степан да со всего откоса кубарем вниз и отмерил. А на дне во что-то ткнулся, кто-то крякнул около него. Закружилась голова у Степана, ничего не соображает. Вскочил как полоумный и ринулся куда-то в темноту. А по сторонам — топот, стук, одышка… Сорвался Степан в какую-то яму и что-то потянул за собою. Над ним загрохотало и навалилось на него всей тяжестью. Лежит он ни жив, ни мертв, проклятый клад ругает.
Прошло полчаса, потом час. Утро уже сереть начало. Опомнился Степан, ощупал вокруг себя, видит — тачкой накрылся. Выглянул из ямы — обомлел. Под самыми ступеньками у откоса дед Стуконож сидит и по-настоящему ногу растирает. Из-за тачек и из канав еще две-три головы показались. Вылез Степан и, не глядя ни на кого, отправился восвояси.
А в обед того же дня приехали сведущие люди. Понаехало много и любопытных из Кременчуга и Новогеоргиевска, кольцом стояли они около находки. Сгрудились вокруг и рабочие. Степану с товарищами велели окопать это место и осторожно углублять канаву. Он работал усердно и молча, не отрывая глаз от заступа. Получилась огромная глыба земли, вся насыщенная костями неожиданного пришельца из отдаленных эпох. Смерть гиганта очевидно была мучительна, потому что его костяк был скрючен и бивни торчали кверху.
* * *
…Давно, еще за много тысячелетий до исторического рассвета, из Скандинавии поползли ледники и закрыли пол-Европы. На льду жить нельзя, все живое сгрудилось в южной половине: и носороги, и пещерные медведи, и мамонты, и человек-гориллоид. Стало тесно, стал обезьяноподобный враг донимать. И потянулось зверье на восток. Пошел и наш «дедушка». Был он стар. Кожа на его голове будто просмолилась и походила на кору старого дуба. Шуба была изношена: почти до земли свисала редкая черная шерсть, из-под нее виднелся свалявшийся и пролысевший красновато-бурый подшерсток. Шел он через горы и леса, гонимый судьбой. Летом питался травами и дикими бобами, а зимой наклонял могучими бивнями деревья и общипывал мелкие побеги и кору. Леса стояли под небо — можно было укрыться. Но вот старик вышел на высокую береговину. Перед ним бушевала река и скалила навстречу зверю подводные каменные клыки. Понял «дедушка», что не те годы, что не сладить ему с бурным течением, не дотянуть до другого берега, который стлался впереди синей лентой. И стал он одиноко бродяжить у берега. А обезьяноподобный враг уже выслеживал его, строил козни, но встречи избегал и прятался от зверя в свои пещеры.
И вот однажды на заре обычной своей тропой старик понуро плелся на водопой. Север дышал холодными струями. Суровым, мрачным строем остановились на берегу дубы и ясени. От века они глядели на речные просторы. Уж мелькнул впереди просвет, сейчас тропа пойдет вниз, к воде. И вдруг совершилось непонятное. Земля расступилась под «дедушкой», и передние ноги ухнули вниз. Но он успел зацепиться бивнями за корни у противоположного края и, вытянувшись, начал карабкаться передними ногами. Но в этот момент сорвались задние, и старик рухнул вниз. Яма была глубокая и тесная. «Дедушка» сидел на заду, а хоботом делал отчаянные движения. Он попробовал упереться в стенку, но земля была плотна. А вверху виднелись далекие просветы в лесном шатре. Почуял старик свой конец и, вытянув хобот, взревел трубой.
Но не пришли люди на этот зов, не осыпали злосчастного пленника градом камней и кремневыми копьями, — видно и их звериную судьбу настигла какая-нибудь беда. Через несколько дней «дедушка» весь, скрючился и затих. А вскоре прошла жестокая буря и натворила много беспорядков в девственных пущах. Огромный дуб, который стоял около ямы, вывернуло с корнем и глыбой земли навсегда закрыло мамонтову могилу…
* * *
После осмотра люди начали постепенно разбирать мамонта и складывать его кости по соседству с ямой. Потом их запаковали в ящики и увезли на трех подводах.
Старики не верили, что это зверь, и впоследствии доказывали:
— Хиба ж це не люципирь? Лег поперек дорози — так усю и загородив. С циих пор ее и забросили…
Прокопий со своей жилкой натуралиста конечно не мог пройти мимо такого исключительного явления, не объяснив его.
— Это вин потому оказався тут… — размахивал он руками. — Як Ной пистроив коучег, посадив туда всякой твари по пари, а мамут не вместився. Так вин и остався и погиб от потопу. Его и скрючило…
Мы поднялись. Закат обвел края оврага кровавым бордюром. Дилювиальный пояс потух, посерел. По низу поползла сырость. Я на минуту оглянулся и подумал: «Вот тут, в двух шагах от нас, в тяжелом смертном одиночестве когда-то умирал мамонт…» Но ни умом ни чувством почти невозможно было преодолеть тысячелетия, которые отделили от нас глубокую древность земли.
Лебединое озеро. Очерк Бенгта Берга.
I. Озеро диких лебедей.
В южной Швеции, среди множества больших и малых озер есть одно озеро, где с ранней весны и до поздней осени диких лебедей бывает больше, чем в каком-либо другом месте земного шара. Почему лебедям полюбилось именно озеро Тоокерн, окрестные жители не знают. Но так водится с незапамятных времен. Прилетают лебеди вместе с первыми весенними бурями, ломающими лед на озере, а покидают они Тоокерн только тогда, когда с Ледовитого моря тянут на юг последние дикие гуси и в тихие осенние вечера над далекими горами полыхает северное сияние. Они радостно поют, завидев весной из облаков свое излюбленное озеро, и тоскливой жалобой звучит их крик, когда наступающая зима гонит их прочь. Много преследований видели они здесь от людей, которые грабят их гнезда, убивают птенцов, и все-таки каждый год лебеди возвращаются.
Озеро Тоокерн тянется на семь километров с востока на запад и на добрых три километра с юга на север. Но в летнюю пору оно так мелко, что его едва ли можно назвать озером. Целые поля водяных растений появляются на поверхности, всюду виднеются островки и мели, колышутся камыши, и в любом месте лебедю достаточно вытянуть шею, чтобы сорвать со дна побег или корень, а дикой утке достаточно чуть-чуть нырнуть, чтобы разыскать себе поживу в тучном иле на дне.
Впрочем озеро Тоокерн не всегда было таким мелким. Не далее как лет сто назад в самый разгар лета по нему свободно можно было плавать на лодках, а лебеди только у самого берега могли доставать клювом дно. Им приходилось гнездиться около берега, где они постоянно подвергались опасности, и в те дни едва ли на озере водилось столько лебедей и других птиц, как теперь.
Однажды окрестным жителям пришла мысль осушить озеро, чтобы превратить его в тучные нивы: они знали, что на дне озера находится такая плодородная почва, какой нет во всей округе. Жители соседних селений собрали вскладчину деньги, и сотни рабочих дружно принялись за дело. Но шли недели, месяцы, лето уже подходило к концу, собранные деньги тоже, а дело подвигалось медленно. Тем не менее крестьяне надеялись, что к концу осени озеро навсегда исчезнет и весной можно будет начать сев на новых полях. Однако надежды их не осуществились. Зима в том году наступила необычайно рано. Она явилась с бурями и наводнениями и начисто смела все дренажные работы. И когда наступила весна, крестьяне увидели, что затраченные деньги пропали даром. Несколько жалких полосок земли они себе отвоевали, но озеро осталось, только сделалось гораздо мельче прежнего, так что после спада весенней воды нельзя было больше плавать на лодках. Зато для водяных птиц наступило раздолье.
II. Лебедь-кликун и лебедь-шипун.
В светлую весеннюю ночь являются лебеди на Тоокерн — как раз к тому моменту, когда озеро освобождается ото льда. Многие из них перед этим собираются стаями на озере Веттерн и оттуда посылают разведчиков, чтобы узнать, вскрылось ли их озеро. Другие прилетают прямо с юга.
Тоокерн встречает их не очень гостеприимно. Это капризное озеро. Оно быстро вскрывается под ударами весенних бурь, но так же быстро снова подергивается льдом при заморозках. То вдруг вода выходит из берегов и отнимает у лебедей полоску земли, на которой они расположились, то снова появляется лед и отнимает у них открытую воду. А без открытой воды лебедь не может жить. Правда, середина озера свободна ото льда, но в весеннее половодье там слишком глубоко для лебедей и невозможно достать пищу. Поэтому ранней весной лебедь должен держаться ближе к берегу.
В иные весенние вечера, когда в безветренном воздухе чувствуется приближение мороза, на лебедей нападает страх. Они начинают тревожно перелетать от полыньи к полынье, словно желая удостовериться, что есть еще открытая вода. Металлически звенят их крылья, и крик их, громкий и пронзительный, разносится далеко кругом. Люди слышат его в окрестных селениях и говорят, что лебеди поют на Тоокерне.
В эти дни на озере можно видеть почти исключительно лебедя-кликуна, или певчего лебедя, как его окрестили в Швеции. Целые стаи певчих лебедей плавают среди льда по водам еще глубокого Тоокерна, и лишь изредка среди них появляется лебедь-шипун, в большинстве случаев старый самец.
Лебедь-шипун сильнее певчих лебедей. Гневно приподняв щитом над спиной крылья, он с шумом опускается среди их стаи, и случается, что он выгоняет их всех ка лед, чтобы иметь полынью в своем распоряжении. Лебедя-шипуна не трудно отличить от певчего лебедя. Вблизи отличительным его признаком служит клюв: у певчего лебедя он совсем гладкий, а у лебедя-шипуна имеет у основания бугорок, при чем у молодых лебедей этот бугорок весь черный, а у лебедей постарше приобретает сверху красный оттенок, тем более яркий, чем старше лебедь. Издали всякий без труда различит оба вида лебедей по их повадкам. На воде певчий лебедь обыкновенно держит шею вытянутой прямо вверх без всякого изгиба, а голову наклоняет под острым углом к шее.
Лебедь-шипун этого никогда не делает. Осанка его гораздо более смелая и горделивая. Он словно сознает сбою красоту. Шея почти всегда изящно изогнута в виде буквы S крылья приподняты над спиной, они служат ему парусом, когда он плавает, и щитом, когда он нападает. В минуты боя он их выгибает большой дугой и далеко откидывает назад шею, придавая голове такое положение, чтобы можно было в любой момент ударить клювом, и с такой стремительностью рассекает воду, что брызги и пена взлетают чуть не выше его головы.
Лебедь-шипун и одной секунды не может пробыть среди певчих лебедей, чтобы не быть узнанным. Ему не по себе среди них, как и певчему лебедю вероятно не по себе среди стаи лебедей-шипунов. Они стараются избегать друг друга. На Тоокерне им это легко удается, потому что ранней весной, когда на озере не много доступных мест, туда слетается множество певчих лебедей, но зато очень мало лебедей-шипунов. А позднее, когда и лебеди-шипуны тысячами слетаются на озеро, там хватает места для всех, тем более, что певчие лебеди к концу мая покидают Тоокерн.
Как только Тоокерн окончательно освободится ото льда, лебеди-шипуны выбирают себе в камышах места для гнездования. Певчие же лебеди никогда не гнездятся на Тоокерне и вообще в южной Швеции. Дождавшись теплых дней, они тянут в Лапландию и там, среди болотистых озер устраивают себе гнезда в таких местах, куда человеку не так-то легко добраться. На Тоокерне певчий лебедь — только временный гость. Он проводит там раннюю весну, а затем снова прилетает осенью, уже с птенцами, чтобы насладиться его изобилием и чтобы «петь». Собственно говоря, звуки, которые издает каждый певчий лебедь в отдельности, нельзя назвать пением. Они напоминают короткий ясный звук рога. Но тон этого звука различен у самцов и самок, у молодых и старых птиц. Поэтому, когда в стае множество лебедей начинают кричать одновременно или один за другим, действительно получается что-то вроде песни с чередованием низких и высоких нот.
В течение мая на озере Тоокерн можно слышать пение певчих лебедей. Но с наступлением тепла они снимаются и улетают стая за стаей. К этому времени тысячи лебедей-шипунов уже гнездятся на озере.
III. Лебедь-шипун устраивает гнездо.
Как только пара лебедей выбирает себе место (что иногда бывает уже в марте), она принимается за постройку гнезда. Обычно это место находится в камышовой заросли; человеку в лодке не добраться до гнезда, но сам лебедь легко может подплыть к его краю. Лебеди приближаются к гнезду и покидают его только вплавь. Правда, иногда при внезапной опасности самка взлетает с гнезда. Но это случается очень редко. К гнезду же лебедь никогда не подлетает.
Когда место выбрано, лебеди начинают обкусывать камыш, стебель за стеблем и строят из него гнездо. Впрочем слово «строить» не совсем подходит в данном случае, потому что лебеди не переплетают стебли и даже не кладут их в определенном порядке, а бросают их один на другой как попало, пока не получится большая куча. Потом самка выдавливает посредине небольшое углубление и кладет в него большое серовато-зеленое яйцо которое она тщательно прикрывает камышом, покидая гнездо. Затем, с промежутками в сутки и больше она кладет остальные яйца, всего штук пять или семь.
В дни кладки яиц можно постоянно видеть самку вместе с самцом. Иногда они часами стоят рядышком на бугорке и чистят себе перья; утром и вечером они летают вдвоем, но главным образом они плавают вместе, тесно прижавшись друг к другу.
Но когда все яйца снесены, в течение пяти-шести недель самец тщетно поджидает свою подругу. Ей некогда. Она сидит на яйцах, покидая их лишь на самое короткое время для еды. Но с того места, где самец стоит или плавает, он может видеть самку, — отсюда он караулит гнездо. Пусть другой лебедь и не пытается приблизиться к границам его владений. Если это молодой лебедь, еще не сменивший серое одеяние на белоснежное, ему быть может и позволят безнаказанно проплыть мимо. Но если это взрослый белый самец с горделиво выпяченной грудью — горе ему! Впрочем в большинстве случаев незванный пришелец сам спешит удалиться, едва завидит приближающегося разгневанного хозяина.
Чаще всего самцу приходится иметь столкновения с собственным соседом, владения которого соприкасаются с его владениями. Твердо установленной пограничной линии у них нет, поэтому постоянно то один, то другой заплывает в чужие владения. Но к соседу у лебедя отношение все-таки иное чем к чужаку. На чужака он бросается без всяких церемоний и беспощадно гонит его прочь. С соседом он чаще всего проделывает «военный танец» лебедей, который не всегда сопровождается сражением.
Завидев друг друга, оба приходят в ярость, и гнев их тем сильнее, чем ближе они к гнезду и самке. Оба стараются принять как можно более грозный вид. далеко откидывают назад изогнутую шею, приподнимают щитом крылья и стремительно мчатся навстречу один другому. Столкновение повидимому неизбежно. Но в тот момент, когда они уже подплыли друг к другу так близко, что грудь почти касается груди, и когда вся их осанка, все движения говорят о самой пылкой ярости, — один из них вдруг делает поворот и описывает на воде круг перед носом противника. Другой проделывает то же самое.
Так они поочередно вертятся друг перед другом. Всякий раз, когда они снова повернутся друг к другу грудью, вы уверены, что в следующее мгновение они кинутся один на другого, нанося удары тяжелыми жесткими крыльями. Но не тут-то было. Они снова начинают кружиться. Мне случалось наблюдать, как лебеди делали по двадцать-тридцать таких туров и в конце концов отплывали в разные стороны, гордо выгнув шею. Каждый из них словно хочет показать другому свою силу и устрашить его, чтобы сосед не вздумал вторгнуться в его владения. А вдосталь наглядевшись друг на друга, они заключают своего рода вооруженный мир.
По отношению к другим птицам лебедь беспощаден. Какой у него мирный и кроткий вид, когда он скользит по воде! Но в действительности это далеко не безобидное существо. Лебедь силен и любит властвовать. И он это показывает всем птицам, даже тем, которые не могут причинить никакого вреда ни его яйцам ни птенцам. Правда, такой пичужке, как болотный воробей, разрешается безнаказанно присаживаться на край лебединого гнезда. Она уж слишком ничтожна. Но если к гнезду приблизится птица покрупнее, которая почему-либо не понравится самцу, — будь то лысуха или беспомощный утенок, — вы никогда не можете быть уверены, что в следующий момент темный глаз лебедя не засверкает гневом и его клюв не опустится для меткого удара.
В зоологических садах ручной лебедь может быть прямо бичом для птиц помельче, обитающих вместе с ним на обнесенных решоткой прудах. Вот мирно плывет утка со своим выводком. Утята почему-то возбудили гнев лебедя — и спустя мгновение на том месте, где они только что плавали так резво и мирно, остается несколько трупиков. А лебедь спокойно и горделиво удаляется, словно не он совершил это злодеяние.
Зато у самого лебедя врагов не много. Лисица иногда ухитряется подкрасться к спящему на берегу лебедю, но удастся ли ей удержать добычу, это еще большой вопрос. Орел и даже беркут иногда нападают на молодых лебедей, но редко на старых. Они конечно сильнее лебедя, но он для них слишком тяжел. Птенцам опасны камышевая лунь и другие мелкие хищные птицы, но лишь в тех случаях, когда поблизости нет родителей, чтобы их защитить. В общем самый опасный враг лебедя — человек. Недаром дикий лебедь всячески старается укрыться от человека. Едва завидев вдали лодку, он спешит уплыть или улететь. Так поступают на Тоокерне и кликун и шипун, с той только разницей, что первый еще более осторожен чем второй.
И все же мне удалось пробраться с камерой так близко к парочке лебедей, что я мог их заснять в домашней обстановке — с гнездом, яйцами и птенцами.
IV. Как я снимал лебединое гнездо.
Весна была в полном разгаре, озеро очистилось ото льда, и лебеди начали строить гнезда. Вопрос был только в том, как перехитрить зоркую, бдительную птицу и поставить камеру достаточно близко от гнезда, не возбудив ее подозрений. Много разных уловок перепробовал я, но все они ни к чему не приводили, пока меня не осенила мысль, оказавшаяся удачной.
Я купил старый челнок, замаскировал его камышом так, что он стал похож на бугор, провел его в камышовую заросль и оставил там на расстоянии выстрела от намеченного мною гнезда. Затем в течение двух недель я почти каждый день приезжал туда в другой лодке и, пока вспугнутые лебеди не возвратились к гнезду, передвигал замаскированный челнок немного ближе к гнезду. После экспериментов с челноком я обыкновенно отъезжал на такое расстояние, что лебеди не могли меня видеть, и наблюдал за ними.
В первый день, когда лебедиха увидела наполненный камышом челн, она отнеслась к нему более чем подозрительно. Несколько раз она оплыла вокруг него, потом привела супруга, и они вдвоем стали проделывать то же самое. Но в конце концов оба успокоились, и самка вернулась к своим яйцам.
На другой день я не трогал челнока и лишь на третий день пододвинул его немного ближе к гнезду, прикрыв его несколькими связками камыша. Снова такое же подозрительное исследование со стороны лебедей. И так почти каждый день. Тем не менее по прошествии двух недель мой челнок стоял на достаточно близком расстоянии от гнезда, а я лежал на дне под камышом, направив на гнездо объектив камеры.
Не скажу, что бы я желал часто повторять этот опыт, принимая во внимание онемение членов, колючий камыш и мучительные укусы всевозможных насекомых. О ревматизме, который мне пророчил мой помощник Фредерик, я предпочитал не думать. Почти час пролежал я неподвижно в своей засаде, поджидая возвращения лебедей, которые покинули гнездо при появлении лодки, доставившей сюда меня и камеру. И за свое терпение я был вознагражден снимками, каких у меня еще никогда не бывало.
Передо мной расстилалась камышовая заросль, сильно опустошенная и оголенная зимними бурями. Вокруг гнезда весь камыш был обкусан на несколько метров, но я знал, что пока самка высиживает яйца, вырастут новые стебли, так что камыш опять будет стоять плотной стеной к тому времени, когда птенцы вылупятся.
Наконец я услышал характерный звук, который лебедь производит, когда хлопает крыльями по воде. Немного погодя среди камышей засверкало что-то белое. Лебеди возвращались. Они разумеется видели, что Фредерик уехал обратно в лодке, увозя с собою чучело, сделанное из подставки камеры, рубахи и шляпы. Они наверное следовали на некотором расстоянии за ним, зорко следя, куда он держит путь. Удостоверившись, что лодка увезла двух людей, они, успокоенные, возвращались домой.
Самке видимо не терпелось снова сесть на яйца. Она плыла впереди супруга по извилистому каналу среди камышей. Следя за ней глазами, я поражался тому, как трудно ее разглядеть. Лебедь — крупная птица, а между тем то-и-дело случалось, что она вдруг исчезала у меня из глаз: желтоватая шея сливалась с фоном сухого белесоватого камыша, белоснежное туловище — с отражениями в воде белых весенних облачков.
Лебедиха находилась уже близко от гнезда, когда выглядывавший из камыша глазок камеры привлек ее внимание. Она остановилась и, не спуская с него блестящего черного глаза, долгое время оставалась на одном месте, лишь слегка передвигаясь на воде то в ту, то в другую сторону. Самец исчез из поля моего зрения. Вероятно он отплыл подальше.
Наконец самка повидимому успокоилась. Мягким движением она наклоняет шею и быстро плывет к гнезду. Доплыв, она на секунду останавливается. Гнездо было построено, когда вода была выше, а теперь вода спала, и самке не так легко взобраться наверх. Могучие крылья делают несколько шумных взмахов — и лебедиха стоит на краю гнезда, которое чуть-чуть опускается под ее тяжестью. Крылья быстро складываются, грузное туловище слегка покачивается из стороны в сторону, шея втянута и изогнута. Но вот шея снова настороженно вытягивается во всю длину. Лебедиха зорко озирает свои камышовые и водяные владения: нет ли какой-нибудь опасности?
Повидимому нет. Самец взобрался на старое заброшенное лебединое гнездо в камышах и преспокойно чистит свои перья. Самка наклоняется над яйцами, словно считая их, потом снова бросает подозрительный взгляд в сторону моей засады. Из-под этого странного камышового бугра как будто раздался какой-то звук… Но нет, вероятно она ошиблась. И во всяком случае здесь нет ничего опасного.
Успокоенная, принимается она за церемонию, которую проделывает всякий раз, когда возвращается в гнездо. Первым делом она проводит клювом по нижней части туловища, выжимая воду и удаляя приставшие к перьям водоросли и грязь. Покончив с этим, она вытягивает во всю длину шею, сладко зажмуривается, полураскрывает крылья и отряхивается с такой силой, что все гнездо качается. Таким способом она сушит перья. Затем она начинает по всем правилам искусства чистить перья, приглаживает их и вообще приводит в порядок свой туалет. Длинная стройная шея извивается как змея, клюв быстро скользит вдоль туловища, укладывая на место каждое растрепавшееся перышко. Вот он зарылся под крыло. Потом вонзился глубоко в грудку, где что-то ее щекочет. Если клюв не может куда-нибудь добраться, на помощь приходят лапы.
Стоя на одной ноге и осторожно балансируя туловищем, лебедиха в последний раз змеевидно изгибает шею над спиной, а свободная нога приподнимается, чтобы оправить перышки вокруг клюва. Туалет окончен. Величавая красавица стоит передо мной в своей белоснежной чистоте, и мне почти стыдно, что я подглядывал за ее интимным туалетом.
Однако она еще не сразу садится на гнездо. Несколько мгновений она стоит и разглядывает яйца, потом делает шаг вперед и начинает их переворачивать словно никак не может найти для них положения, которое бы ее удовлетворяло. Она знает, что яйца нельзя согревать только с одной стороны, что их надо переворачивать. И она это делает долго и старательно.
Наконец яйца лежат в таком положении, которым она остается довольна. Теперь можно опуститься на гнездо. Туловище еще шевелится, принимая более удобное положение, клюв еще подбирает соломинки и слетевший с нее пух и засовывает между яйцами, чтобы они не стукались друг о друга, но вот лебедиха сидит совершенно спокойно. Шея высоко поднята и слегка выгнута, белые перья раскинулись над гнездом словно горностаевая мантия.
Но спокойствие продолжается недолго. Вдруг птица поднимается, ерзает, как собака, которая хочет поправить свое ложе, бросает взгляд в сторону моей камеры, отворачивается, наклоняется вперед, вытянув шею через край гнезда Я недоумеваю. В чем дело?
Лебедиха начинает вытаскивать из воды камыш. Захватив сразу несколько стеблей широким клювом, она поднимает их над гнездом и швыряет от себя так резко, словно сердится. Я замечаю, что она бросает камыш в мою сторону, словно воздвигая перед собой заслон. Но я все еще не могу понять ее намерений.
Мне известно, что большинство птиц, строящих пловучие гнезда, в течение всего времени, пока сидят на яйцах, имеют обыкновение снова и снова поправлять свое гнездо. Однако действия лебедихи не были похожи на простую поправку гнезда. Они явно имеют какую-то особую цель. Может быть она это делает из-за ветра?
Но когда я снова ловлю ее подозрительный взгляд, мне становится ясно, что дело в моей камере. Птица вероятно услышала щелканье затвора, но главным образом ее тревожит стекло, сверкающее из-под камыша. Не настолько тревожит, чтобы это ей помешало сидеть в гнезде, но во всяком случае этот направленный на нее и на гнездо глаз ей не нравится, и она хочет от него укрыться. Вот почему она начала воздвигать между ним и гнездом заслон из камыша.
Все следующие дни лебедиха продолжала относиться нервно и подозрительно к моей камышовой засаде, пока я однажды ночью не убрал челнок в другое место, по ту сторону гнезда, откуда я мог заснять и ее супруга. С этих пор ее поведение стало более спокойным. Быть может она в конце концов убедилась, что странный камышовый бугор не страшнее любого другого бугра. Попрежнему она каждый раз тщательно удостоверялась, что лодка, пришедшая с двумя людьми, удалилась тоже с двумя.
Однажды случилось, что Фредерик, оставив меня в засаде, забыл сделать чучело, и в тот раз лебедиха так и не вернулась к гнезду. Прождав ее целый час, я убрался во-свояси, опасаясь что иначе яйца застынут в гнезде.
* * *
Прошло несколько недель. Новый камыш вырос и окружил гнездо высокой зеленой стеной. С озера уже не видно сидящей на гнезде самки, и самец прячется в камышах.
Однажды утром, прибыв на место, я вижу, что два птенца сидят в гнезде, а писк третьего доносится сквозь дырочку в пробитой скорлупе. Часть пожелтевшего камыша, маскирующего мой челн, развеяна ветром, и подозрительно выглядывает нос лодки. Но все окрестные птицы давно привыкли к этому предмету. Лысухи не обращают на него внимания. Трясогузки и дикие утки спокойно садятся на него.
Я лежу в пригретой солнцем камышовой засаде. Кажется, комары со всего света собрались сюда, чтобы изводить меня. Но так заманчива перспектива заснять лебедиху вместе с ее птенцами, что я мужественно терплю. Много раз я наблюдал из засады, как она приближалась к гнезду, и всякий раз она это делала с большими предосторожностями. Но сегодня она приближается еще тише и осторожнее чем когда-либо. Она то-и-дело останавливается и долго медлит среди камышей, лишь едва скользя взад и вперед по воде.
Птенцы, усевшись рядышком на край гнезда, видят ее и возбужденно пищат. Наконец мать решается приблизиться к гнезду. Наклонив голову к воде, она быстро подплывает, и лишь у самого гнезда снова поднимает голову и зорко озирается по сторонам. Из камышового холмика опять глядит на нее странный блестящий глаз, не раз вызывавший в ней тревогу. Но сейчас ей не до него. Птенцы ждут ее. Миг — и она уже стоит на гнезде, вытянув шею как можно выше, чтобы можно было видеть поверх камыша, не приближается ли откуда-нибудь лодка с людьми.
Я знаю, что сегодня вероятно в последний раз вижу ее, и мне почти грустно от этой мысли. За эти недели я привязался к моей гордой белоснежной красавице. Не пройдет и двух дней, как мать и отец уведут своих пушистых серебристых птенцов в самую гущу камышовых зарослей. Однако и там им придется встречать грудью немало опасностей, чтобы защитить и охранить свой выводок. Скоро настанут грозные дни, когда с окончанием запретного времени в камышах затрещат выстрелы. Правда, на бумаге запрещено стрелять лебедей и ловить их птенцов. Но в действительности птенцам не раз придется торопливо нырять, спасая свою жизнь.
Спустя некоторое время птенцы превратятся в молодых лебедей с серым оперением. И когда над Тоокерном зазвучат крики тянущих на юг певчих лебедей, они тоже испустят короткий тоскливый крик, и крылья понесут их в стремительном полете через моря и земли к далекому югу.
До будущей весны, белоснежные красавцы!
Из дневника охотника. Очерк Алексея Толстого.
Европа круто обрывается с правого берега. Налево — Азия. На правом берегу — казачьи поселки, налево — киргизские аулы и юрты. Хотя все это — разговор: оба берега пустынны, редкие селения где-то в степях, за горячей мглой. Урал вьется по ровной как стол пустыне. Яры и светло-песчаные отмели, неширокие заросли ивы и тополя. Течение подмывает берег, песчаные обрывы с шумом рушатся в реку, обнажая веревки солоцкого корня (до сотни тысяч тонн лакрицы), сваливая в Урал целые леса. Из воды торчат пни и коряги (бедствие для судоходства).
Бледное небо тронуто в бесконечной высоте пленкой перистых облаков. На эту страну за четыре летних месяца не упало ни капли дождя. Зной. На круче, на фарватерных вехах сидят орлы, коршуны плавают неспеша над отмелями, дрожит крыльями пустельга. На песочке у воды — кулики-сороки, кулички-воробьи, чибисы, длинноногие кривоклювые кроншнепы. Летит серосизый вяхирь через реку, стаями с полей на озеро мчатся дуры-утки. Пустыня. Лишь редко заметишь наверху яра отверстие землянки бакенщика. Сам бакенщик — уральский казак — и помощник его (непременно киргиз) сидят под ветлой. Рыбу ловить им запрещено. Курят, глядят на излучину реки, на вешки, на голые пески.
Тишина здесь доисторическая. Раз в две недели проходит пароход. Прежде уральские казаки так берегли Урал, что за крик, — если кто шумел на берегу, беспокоя ленивую рыбу, — били и штрафовали. Теперь по руслу наколотили фашинных заграждений, сбивающих струю в фарватер, шлепают пароходные колеса. Осетр, любя выходить из омута на отмель кушать и нежиться, недоволен шумом. Время заповедного Урала ушло безвозвратно. Иные старые казаки грозят покидать с кручи всех водных инженеров, бакенщиков и капитанов, поломать фашины. Но думается, что осетр в конце концов привыкнет к культуре — обойдется. Тем более, что пароходное движение не слишком здесь бойкое: ночью пароходы становятся на якорь, днем — маятся на перекатах. То вдруг поперек Урала вброд едет казак на волах, и нужно давать задний ход, чтобы не задавить человека. «Ты, трах-тарарах, — кричат в рупор с парохода, — проезжай скорей!» Но не торопится бородатый казак, бредя по пояс в воде за возом. Или зашуршало днище о песок, — сели. Команда и добровольцы вылезают с лопатами в воду и разгребают песок, на закинутом якоре пароход протягивается по нескольку сантиметров в час. Желающие могут купаться или поохотиться на озерах.
Здесь не Миссисипи. И вот бакенщик и помощник-киргиз видят — идут по реке две лодки. В передней — три нездешних человека, наполовину голые, на носу жмурится собака, на корме — женщина с папироской и в рыбачьей соломенной шляпе, одета в розовую ночную рубашку. На задней лодке — пять человек, тоже нездешние, голые, облупленные, гребут лениво, — жарко, торопиться некуда. В лодке — куча мешков, чемоданов, ведер, удочек, ружей. На мачте висит кусок вяленого осетра. (Это я настоял на том, чтобы из пойманного на перемет осетра сделали балык. Шумели, спорили, голову и хвост все-таки съели в ухе, а потом за балык благодарили.)
Год сиди под ветлой на круче — ничего подобного не увидишь. Бакенщик и киргиз (у этого на косоглазом лице гладко натянута кожа, — ни удивления, никакого впечатления, азиатское равнодушие, сидит как Будда) думают: «Эти едут неспроста, этим чего-то здесь надо»…
В передней лодке поднялся человек в подштанниках, заколотых спереди английской булавкой.
— Эй, казак, озера здесь есть?
Бакенщик, подумав, отвечает, что есть.
— А уток много?
— Много…
— А гусей видал?
— Гусей-то?
И не спеша, отвечает конечно, что и гусей видал, гусей тоже много.
На лодках совещаются, курят, лодки медленно уносятся течением вдоль яра. Бакенщик спрашивает вдогонку:
— Чьи будете?
— Из Ленинграда…
— Из Москвы!.. — доносится с лодок. Женщина в розовой ночной рубашке кричит из-под шляпы:
— Охотничья экспедиция!
Так и поверил казак, что охотничья экспедиция… Хотя — везут бабу… Оглядывается на киргиза. У того сердоликовые глаза — ни удивления, ни впечатления.
— А сазаны здесь есть?
— Вон под тем яром — много…
Лодки унесло. Ошпаренные солнцем члены охотничьей экспедиции лениво (вам, северянам, городским, такой лени не понять) берутся за весла. Четвертый час. Нужно выбирать место для лагеря. Подгребают к песчаной отмели, где валяются сухие коряги — дрова. Сзади — светлозеленые талы. За ними — степь, озера. Один, в соломенной шляпе (из-под нее блестят веселые зубы), по пояс голый, в плотных, с вырванным задом галифе, запевает романтически:
Костер — очаг, и степь — наш дом. Пой песни, пой! И город стал далеким сном. Пой песни, пой!..Пристали. На еще горячий песок летят из лодок мешки, чемоданы. Младший член экспедиции уже торчит с ружьем на бугре, безумно глядя в сторону озер. Этот молодой человек дичал с такой поразительной быстротой, что было жутко подумать: чорт возьми, далеко ли мы отошли от каменного века, если консультант-сценарист на фабрике Совкино в несколько дней обвихрел по-беспризорному, спит в патронташе и в непросохших от болота штанах, перестал членораздельно отвечать на человеческую речь, в глазах — окровавленные призраки дуплетом «шарахнутых» уток, и вблизи весь он как бы пахнет мамонтовой шерстью.
В лодке три человека, наполовину голые.
Ему кричат:
— Какого чорта, Липатов, идите-ка собирать дрова сначала!
Глухо рыча, повинуется. Костер уже дымит. Трое — рыбаки, наши кормильцы, — ловят бреднем наживку для переметов. Шагов десять пройти бредышком и — целое ведро подпрыгивающей на песке серебряной рыбешки. Охотники, хвастаясь еще не убитым, ссорясь принципиально, уходят в озера. У костра остается Сейфуллина.
Девятый из экспедиции, рыжий, без кожного пигмента, погиб в первые же дни для охоты: солнце сразу обожгло его по второй степени. Он сидит с распухшими ногами на песочке, ловит удочкой на утиные кишки, что бог пошлет, преимущественно подлещиков и дрянь вроде селедки.
Солнце уходит за ивовые заросли, оранжево пылает за ветвями. Река в тени. Всплескивается большая рыба на отмели. Доктор-психиатр скрипит уключинами, завозя перемет. Брат его на той стороне, под яром, закинул три удочки на сазана. Червей здесь не найти, насаживают тесто, сдобренное мятным маслом: сазан падок до мятного запаха. Ах, сазан, сазан кило на восемь, золоточешуйная мечта, проснись, деточка, в омуте, клюнь. Хвати. Потяни как дьявол. Вымахни из пучины на водное зеркало. В Москве, на пятом этаже, всю зиму ты снился рыбаку по ночам, — бешено брал, звенела леса, и леса и сердце — вот-вот оборвутся…
И сидит рыбак в сазаньей мечте, тихо, смирно, но в душе у него тот же омут, и страстей у него может быть даже и больше, чем у ружейного охотника. Этот весь во вранье, в хвастовстве, в болотной тине, в репьях, но — весь на ладошке. А рыбак — с копытцем…
Бух, бух, — на озере, — бух!.. — Неслышно, без свиста летят утиные стаи из степи в воду. — Бух… Бух-бух!.. Степной закат, лиловый, багрово тихий, безоблачно разливается за рекой… Теперь видно только, — у костра двигается Сейфуллина, варит макароны. Прохладно. Звезды. Голос с того берега:
— Коля, что у тебя?
С этого берега — негромкий ответ (человека не видно, слышно, как шлепает по воде):
— Сом.
— Здоровый?
— Ничего себе…
На бугре мелькнуло белое пятно — собака. Охотники возвращаются. Правдухин (младший — распорядитель охоты) бросает у огня добычу — уток — и молча валится у разостланного паруса, где приготовлены деревянные чашки, ложки, хлеб.
Позже других является консультант-сценарист — взъерошен, грязен, мрачен. Сообщает: убил восемь кряковых, нашел только одну.
— Хотите, чтобы вам поверили… — презрительно говорят Правдухин.
Девятый член экспедиции удит на утиные кишки что бог пошлет.
И вот ведро с дымящимися макаронами снято с огня. Голод — свирепый, стержневой, доисторический — сворачивает челюсти. Случалось, что собаки отказывались кушать то, что мы пожирали (случай с кашей «номад», сваренной в мое дежурство). Голод эпохи переселения народов, голод как историческая сила, голод как основа оптимизма. Потом — чай с ежевикой, под звездами, — но это уже скачок в культуру, восхитительное излишество. В костре догорают угольки. Девятый час. Стелешь плед на песке — где понравится, на голову — вязаный колпак, завертываешься в одеяло. Еще взгляд на звезды и — последний штрих охотничьего дня — мгновенный, легкий как в детстве, сон…
* * *
Вот уже неделя, как мы покинули Уральск. Приходилось видать много скверных мест, но «Яицкий Городок» может привести в отчаяние. Безнадежное место. Вспоминаются рассказы вавилонских таблиц, чистилище… Серая пыль, мухи, зной, ни дерева, ни кустика, одноэтажные домишки кругом обвеваются пыльными облаками. Хотя местные патриоты говорят, что где-то близ Астрахани, в солончаковой степи, еще хуже.
Когда подъезжаешь к Уральску по выжженной степи, видны бойня, жиденькие сады на реке Чагане да облезлые колокольни. Три, пять, семь бурожелтых смерчей бешено крутятся между садами, бойней и городом. Так и нас встретила эта веселая пляска смерчей. Вот один побрел к городу. Свирепый дым, казалось, клубился под его широкой ногой, нависшее воронкой небо высасывало пыль.
Удовлетворены этой обстановкой одни допотопные звери с лебедиными шеями: выше страстей и суеты, идет такой верблюд, впряженный в воз, — где человек закрыл глаза обеими руками, — идет как в калошах по горячей пыли и стонет хриповато: «аах-аах…»
Вокзал — в поле, где ни пятнышка тени. Извозчик везет через равнину, поросшую телеграфными столбами. Вырастают мазаные домишки, широкая улица, посредине — канава, на углах продают квас и папиросы. Облупленные соборы. Здесь была столица богатейшего края, но — ни намека на украшение жизни, на благоустройство: приплюснутые голые домишки, осенью — месиво грязи. Только — колоннады соборов. Водопровода, канализации нет. Мыться ходят на Чаган. Электричество (в центре) проведено за последние годы, да разбит чахлый бульварчик, где под тощими опаленными деревцами валяются консервные банки. Население живет натуральным хозяйством. Здесь почиет семнадцатый век, со скрипом, едва-едва раскачиваемый современностью.
Проводим здесь двое суток по случаю литературного вечера. День и ночь дует восточный ветер. Маленькие — полметра от земли — окошки затянуты марлей, за ними в облаках пыли проходят силуэты стонущих верблюдов, редко — прохожий: низенький киргиз с больными глазами, большеголовая, измученная веками киргизка, бородатый казак в надвинутом на прямой нос картузе. Здесь выходят лишь по неотложному делу на улицу. Теперь в соборном саду устроена открытая сцена и играет музыка, но пробраться туда сквозь пыль — нужно мужество. В семье преподавателя русского языка, где мы пили чай (в Уральске пьют чай стихийно), детей совсем не водят на улицу. И так здесь было испокон. Богатые казаки-скотопромышленники не только мирились с этим преисподним местом, но и разделяли весь мир на уральских казаков и на все остальное, которое называлось «иногородними», «трубокурами» (сюда входило население пяти земных материков). За свой Уральск, за степи, гурты скота, за рыбу в заповедном Урале шли на красноармейские пулеметы, надев на шею иконы древнего письма.
Итак, погостив два дня в Уральске, погрузились на лодки и поплыли — восемь охотников и Сейфуллина.
Как друга встретит нас река… Пой песни, пой…Первая остановка — в тот же день на острове, который был нами назван Островом Любопытного Верблюда.
* * *
Просыпаюсь от треска сучьев. Мы на острове. Черный-черный берег, за ним проступила мрачная полоса утренней зари. Луна по-осеннему забралась высоко за перистые облачка, и свет ее уже не светлый. Затихшая перед утром река будто обмелела. В палатке храпит кто-то, как великанья голова. Гляжу на бледное в рассвете созвездие и минуту размышляю…
Вот в чем дело: цивилизация задела в нас только корочку, а сердцевиной мы еще дикари. В охоте нас влечет не спорт, а первобытная свобода. У костра под звездами мы возвращаемся на прародину, отдыхаем как усталые дети на груди матери. Другое дело — нужно ли это? Через три тысячи лет, когда куропатки, кроншнепы и тетерева будут домашними птицами, Уральск — элегантным городом, и верблюды останутся только на картинках, — тогда человек, урвавший три недели отдыха, будет проводить его в каком-нибудь электрическом инкубаторе… Ну, и ладно. До этого так еще далеко, как вон до той звезды. За три недели шатаний с удочкой и ружьем я вберу в себя все шорохи земли, все голоса жизни. Плеснется рыба на утренней заре, хриповато просвистел, пролетая, кроншнеп, загоготали на отмели гуси, ветер напевает песни в сухой полыни, — все звуки во мне, и во мне — огромный покой. Нужно быть охотником, чтобы открылись глаза и уши. Попробуйте-ка прогуляться так просто, с тросточкой: вы — это одно, природа — другое, между вами — непроходимая стена. Природа для вас только декорация, где вы живо схватите насморк.
Треск в кустах сильнее. Крик Сейфуллиной. В разных местах из-под одеял высовываются головы.
— Что случилось?
— Он мне наступил на голову.
— Кто?
— Да верблюд же…
— Ничего, — спокойно говорит психиатр. — Верблюды вообще очень любопытны.
За кустами верблюжья голова — выше страстей и суеты — жует. С вечера мы его прогнали вглубь острова, но он хитер к любопытен, — подобрался к самому стану. Кажется, еще не успел наступить Сейфуллиной на голову. Натравливаем на него собак. Величественно уходит. Засыпаем.
3а кустами — верблюжья голова.
И вот — светло. Река снова — широкая, играющая солнцем. Из-под одеяла — прямо в воду, купаться, чистить зубы. Прохлада, свежесть. На перемете — два судака. Наскоро завтракаем, грузим лодки, отчаливаем, чтобы за день подальше отъехать вглубь пустыни. Верблюд сейчас же появляется на месте стана, глядит на нас, входит по брюхо в воду — глядит. Посылаем ему привет…
* * *
Плывем пятые сутки, а настоящая охота — гуси, дудаки и куропаточьи степи — еще впереди. С лодок стреляем по кроншнепам. Они — на плоском песке, чуть дымящемся от ветерка. Против солнца их кривоносые силуэты похожи на египетских священных птиц ибисов. Задняя лодка без промаха истребляет хищников. Зной. Неприкрытые места кожи шипят под солнцем. Так бы и выпил весь Урал кружкой. Но — вперед, вперед!
Дудак в степи зовет на бой… Пой песни, пой…* * *
«Ятовь» — место, где багрят осетра. Шестое декабря в прежнее время было великим днем. Съезжалось все казачество, в присутствии наказного атамана служили молебен. Стреляла пушка. И казаки верхами и на тройках мчались к ятови, в угон кидали тройки со всего скока с кручи на реку, в сугробы, ломали шеи и хребты, — но охота была в том, чтобы первому вскочить на лед под яром на ятови, пешней пробить прорубку и опустить багор с острым крюком. Сонный осетр, потревоженный, всплывет и ляжет на этот крюк. Тогда тащи.
На одной из старых ятовей нам неожиданно «подперло». Весь день был неудачный. Кроншнепы исчезли (21 августа они снимаются с отмелей и летят на низ, к Каленому и Гурьеву). Подходящих озер для утиной стрельбы не нашли, — то-есть небольших, круглых как тарелка, или длинных и узких, которые можно прострелить с берега на берег. Здесь утиный край. Но без челнока на больших заросших озерах ничего не сделаешь. На восьмерых — одна собака, другая — стерва Леди — только вертит хвостом и в болото не лезет. Консультант-сценарист в этих случаях разыскивает близ озера старый окоп (здесь они повсюду) и из глубины его ворочает воспаленными белками. Вот несется стая кряковых… Пиф-паф!.. Одна отделилась от стаи. Кажется, падает. Подхватив патронташи на боках, он прыжками устремляется за ней в темнеющую степь…
— Липатов, куда вы к чорту!
На стану он рассказывает:
— Стреляю дублетом. Два кряковых селезня, перья так и брызнули… наповал… Слышу — ударились о землю… Бегу — лежат… Подбегаю — ожили, фрр!.. Я сую, понимаете, патроны. Улетели…
— Фу ты, чорт! — с досадой говорит Правдухин (младший), — да вы врете.
— Я вру?..
Случай горячо обсуждался и признается неправдоподобным. Одна Сейфуллина вступается за Липатова:
— А, все хороши, наслушалась я вашего вранья.
— Мы врем?
Тогда, как из мешка, сыплются охотничьи рассказы — «истинные» случаи… Про лису, у которой под кожей поперек туловища была обнаружена проволока от капкана. Про филина, который мчался на зайце, хватаясь одной лапой за кусты, другой за заячий загривок, и был разодран пополам. Про знаменитый дублет «в штык» по кряковым: бац, бац, обе наповал и, как два снаряда — одна проносится мимо левой щеки рассказчика, другая мимо правой, — хорошо, что не в лицо… (Мрачно): «Я бы с вами сейчас не разговаривал»…
Итак, день неудачный. Сидим кружком на парусе. Вечерний ветер разносит искры из костра. И вдруг — шагах в десяти от берега, на отмели, откуда был заведен перемет, — точно человек колесом выскочил из воды. Кидаемся к реке. Неужели? Невероятно!.. Снасть перемета натянута как струна. Ее осторожно подтягивают. Над водой выходит серозеленая спина с шипами. Осетр! Общий длительный вопль первобытной радости. Осетр глянул злыми глазками из воды и — снова колесом, плеск на всю реку, хочет разрезать поводок. Рыбаки бегут с бреднем. «Заводи, заходи, осторожнее!» Постукивают зубами. И в бредышке рыба — в метр с лишком — легла на-бок, показывая янтарное пузо. Ему, голубчику — веревку сквозь жабры. Терпит. Но когда Липатов взваливает его себе на спину (кило двадцать если не больше), осетр дает такого леща по заду консультанту-сценаристу, что тот летит на песок, а осетр в воду. Наваливаемся, ловим, сажаем на прикол под лодку.
Утром приплывают в бударке (похожей на индейскую пирогу) бакенщик с помощником-киргизом. Пьют чай. (Здесь киргизы за четвертку чая дают барана.) Бакенщик лицом и говором — народный артист Москвин.
— Это вам большая удача, охотники. Вы его разнимите, посолите, три дня держите, чтобы его солью хватило, и — на солнце. Вот тогда будет балычок.
От него узнаем, что в степях под поселком Коловертным — дудаки.
* * *
Заранее оговариваюсь, — дудаков видели только одного и то за километр, замахал крыльями, тяжело ушел за миражные волны горизонта. Степь — сожженная солнцем. Посевы, окопанные канавами от сусликов, сгорели, пропали. Плетемся на двух телегах по жаркой соломенной равнине (поехало только шестеро). Смотрим в бинокли. Редко на горизонте — стога. Кое-где — две-три глинобитных построечки без крыш, без кустика зелени — это хутора. Трудно представить — где тут ютится жизнь. Но здесь еще приволье: хутора стоят по берегу степной реки. После спада вешних вод она превращается в цепь озер, зарастающих камышом и кугой. А есть хутора на безводье, у колодца, откуда руками два раза в день нужно вытянуть несколько сот ведер для скота. Чорт знает до чего непроизводительно растрачивается человеческая жизнь! Вот уж где азиатская обреченность: жить долгие годы на таком хуторе, среди навоза и мух, бушующих раздольно метелей, волчьего завывания… Какие же черепа должны быть у этих одиночек-хуторян, богатеев, владевших бывало десятками тысяч голов скота! Обычно в станице гуляет с гармошкой удалой мальчишка, голосист, проворен на руку, весел взором, звенит в кармане деньгами, вся жизнь — простор!.. И вот — на Покров женят. Отгуляли. И — как пропал человек, погас как свеча: посадили его километров за полсотню на хутор с молодой женой, и полетели степные года до могилы… Жестоко и кроваво дрались бородачи в девятнадцатом году за эти доисторические хутора!
* * *
Берег озерца. Вытоптанное поле в коровьих следах. Вой, визг, клубком грызутся собаки. Увидали нас, бросили междоусобицу, подбегают, голенастые, худые — скелеты, все три хромают, клочья шерсти — дыбом, какие-то собачьи призраки. Неподалеку от воды — юрта, деревянные ребра ее наполовину открыты. Видны ситцевые подушки и огромный помятый самовар. Молодая, худая, в серых холщовых штанах, киргизка чешет бок привычным движением. Другая сидит на бугорке, на скамейке и обеими руками, точно защищая, обхватила младенца с большим лицом, неподвижным, как у китайской куклы. Так сидят столетия, глядя в степь. С облегчением вспоминаю, что в Уральске видел таких же киргизок в зеленой форме комсомольского юнгштурма. Те уже сюда, на помет, не вернутся…
— Дудаков видали?
— Йок, — тихо отвечает тонкая киргизка.
Проколесив весь день без толку, на вечерней заре постреляли уток, разбили в степи палатку, зажгли керосиновый фонарь; повесив на оглоблю чайник, подложив под него коровьих лепешек, вскипятили чай. В темноте дул холодный ветер, под пеплом раздувало угли. Печально свистела полынь. Все притихли, улеглись тесно в палатке.
Осетр дает такого леща по заду Липатова, что тот летит на песок.
Проснулся я от какой-то тревоги, отогнул полог. Лохматая как шкура, между звезд неслась черная туча. Там, где в ночной синеве терялся ее след, одна за другой падали молнии где-то за Уралом. Мощные столбы огня, но — ни звука, только посвистывал ветер в траве. Я почувствовал, как удивителен был прыжок из современного города в глухую глубь тысячелетий — как на «машине времени» Уэллса.
* * *
С утра кружили без дорог. Неожиданно на кургане торчат два голенастых серостальных журавля. Подбираемся — снялись. Гляжу — впереди весь край горизонта колышется, будто живой. Что это?
— Утки, — говорит возница.
Со второй телеги также заметили астрономическое скопление птиц. Подъезжаем к заросшему озеру. Утиные стаи — десятки тысяч — тучами уносятся в степь. Но знаем, что немало и осталось. Кидаемся с головой в чернозеленую кугу. Здесь и матерого охотника забьет лихорадка. Консультант-сценарист — голова ушла в плечи, затылок ощетинился — нагнувшись, бежит, сел за кочку. Бах, трах, тах! — Утки носятся со всех сторон стаями и в одиночку… Дрожащими пальцами суешь патроны, кряковые просвистывают над головой… Утки сошли с ума… Стволы раскалились… Мы сошли с ума. Патронташи пусты… У Грайки в собачьих глазах желтое безумие…
Наконец утки покидают озеро, те, что остаются, крепко садятся в куговых зарослях. Зной нестерпим. Подбираем добычу, ложимся на полынь под телеги. Липатов возвращается из степи с четырьмя утками, губа — в клочьях кожи, отвисла. Требует, чтобы его сфотографировали. Вот где сказался человек — индивидуалист, честолюбец.
* * *
Вечером возвращаемся в Коловертное. Широкая улица — мазаные заборы, сараи с плоскими крышами, редко расставленные крепкие четырехскатные дома на подклетях. Кое-где развалины. Во всем поселке — ни кустика. Отовсюду видны выжженная степь, уходящие телеграфные столбы. Черные крылья мельницы. Тусклый закат. Тишина, безлюдье, трещат кузнечики. Спотыкаясь, прошел подвыпивший казак, запел было и оборвал. И снова — глушь, ни огонька, только далеко где-то скрипит воз, степенно стонет верблюд.
Консультант-сценарист — голова ушла в плечи — нагнувшись, бежит.
Наутро в безоблачной синеве летят, растянувшись в три линии, караваны гусей.
* * *
Весь день несемся на парусах — торопимся доплыть до семьдесят пятого яра, где, по расспросам, гусиная сидка. За дублет по гусям назначен приз. Настроение на лодках приподнятое. Семьдесят пятый яр! Стоянка превосходная — на высоком песке, среди кустов. Разведка находит поблизости озеро с гусиным пухом на песках. Торопливо закусываем недожаренной дичью, и еще до заката Правдухин разводит нас на номера.
Трава здесь по плечи, местами выше головы. Тополевый, ивовый живописный лес. Сквозь прибрежные ветви зеркально блестит озеро, — широкая, на много километров «старица». То-и-дело из-под ног вылетает тетерев, ошалело путаясь в кустах, с сухим фырсканьем снимаются куропатки, непуганные вяхири перелетают в двадцати шагах. Но стрелять запрещено по уговору.
Группы деревьев раскиданы как в роще. Безлюдно и девственно. По Уралу много таких пышных уголков. Раз в год здесь, в старице, ловят рыбу сетями, косят траву, собирают ежевику и тёрн. Но жить предпочитают в степи, в пыли.
Сидим на номерах, наломав перед собой ветвей, очистив место для стрельбы. Оранжевое солнце уходит вдалеке за ивы. Начинает играть рыба. Потянули поодиночке утки. Иные садятся возле самых номеров, охорашиваются, нежатся на теплых бликах воды. Жужжат комарики. Просвистали низко кулички стайкой. Пулей, вытянув шею, несется чирок, над ним, не отставая, падая, примеряясь, — проворный хищный сокол… Ох, чешутся руки!.. Солнце село. Опустились на озеро береговые тени. Сухое степное зарево заката сияет за ветвями. Утки, садясь, бороздят воду. Громче плещется рыба — это щуки бьют хвостами по отмели, гоняясь за рыбешкой. Лиловая мгла густеет над закатом, в ней замерцала звезда. Темнеет. Резко, тонко кричит ночной хищник. Где же гуси? Плохо видно мушку на стволах…
Что это?.. «Го-го-го!..» Сильный, торжественный, весенний крик. «Го-го-го!» Ближе, из-за леса… И на угасшем закате — очертания трех больших птиц — разведчики-гусаки… Пронеслись над озером, вернулись и с плеском где-то сели в тени… Минута — и гоготом, шумом крыл полнится небо. Садятся стая за стаей. Веселый крик. Озеро кипит от всплесков. Кажется — вот, вот они, но ничего не видно — садятся в тень… Справа — длинная вспышка огня, сейчас же — вторая. Грохот выстрела… Плеск и шум снимающихся стай… Мне на стволы несется огромная черная тень. Сердце остановилось. Нажимаю скользко-холодную гашетку…
Смерть орла. Рассказ Павла Низового.
Помор-полярник Степан Иваныч Фролов второй месяц чувствовал недомогание. Сначала ослаб желудок, потом началась дрожь под коленками и появилась ломота в пояснице, а вскоре пропала твердость рук. Это последнее было хуже всего. Пошел он с Владимиром по берегу к озерку, где во время перелета задерживалась крупная дичь, вскинул, как бывало, привычным движением ружье, щелкнул, — и вытянулся в изумлении: красноклювый лебедь, будто из-под холостого заряда, снялся и полетел.
Не может этого быть! Степан Иваныч заглянул в дымящийся ствол, вытащил гильзу. Заряд самый настоящий, двухнолевой дробью. Странно.
Шедший неподалеку Володя с сожалением промолвил:
— Жалко, промазал.
Степан Иваныч долго смотрел на озерко в то место, где плавал лебедь и, ни к кому не обращаясь, тихо высказал:
— Первый раз почти за тридцать лет.
— Что первый раз? — переспросил Володя.
— Первый раз вижу такого лебедя, — схитрил Фролов. — Такого большого.
Дальше он не пошел. Было стыдно мальчика, мутило в груди, и опять почувствовалась дрожь под коленками. Возникал целый ряд неприятных, совершенно новых мыслей. Он пытался доказать себе, что ничего особенного не случилось. Мало ли люди промахиваются! Может заряд неправильный, или дробь высыпалась из гильзы. Наконец, ведь дробовое ружье — не винтовка: чуть побольше пороха — и осыпь будет ни к чорту не годна… Да и самые ружья эти — сволочные: метишь в дичину, а попадешь в овчину.
Перед вечером, после починки сетей совместно с Володей, Степан Иваныч взял незаметно охотничью винтовку и направился к морю, — за откосом, на камнях всегда копошились стаи больших и малых чаек. Перепрыгивая по валунам, спустился вниз, прикинул глазом расстояние до первой группы небольших чаек-крачек, хозяйски расположившихся на мокрых после отлива камнях, — шагов сто-сто пять. Расстояние для пули малое, хотя не велика и цель. Неторопливо гарпунерским приемом принял винтовку, нашел глазом мушку и цель: руки и корпус — точно из металла. Со спокойной уверенностью и некоторым охотничьим шиком нажал спуск.
От выстрела чайки с криком поднялись и, отлетев недалеко, снова опустились.
Опять промах!.. Степан Изаныч окидывает взглядом по сторонам и назад — вдруг кто увидал? Но вокруг — никого. Он порывисто вешает ружье на плечо и с огромной серьезностью начинает мерить шагами расстояние.
Сто двадцать семь шагов!
Ударило в пот. С минуту стоит непонимающий, потом повертывается и с прежней сосредоточенностью шагает в обратную сторону.
Опять то же число!
Глаз ошибся на целых двадцать семь. Это для помора-охотника начало охотничьей смерти. Тридцать слишком лет винтовка и глаз не изменяли. Один из лучших стрелков — и вдруг промах. Как же после этого брать в руки ружье? Каждый мальчишка будет смеяться.
Степан Иваныч устало опустился на камень и долго сидел, упершись взглядом себе в ноги. Не хотелось никуда итти, хотелось думать. Когда поднялся, то сразу ощутилась слабость во всем теле. Руки и ноги были точно чужие, сердце едва билось. Он почувствовал, что ему больше не придется ходить ни на охоту, ни на звериные промыслы. Степана Иваныча Фролова, как зверобоя, как охотника-промышленника, замечательного стрелка, больше нет. И не будет. Кончился навсегда.
Больной, словно кем избитый, с трудом потащился к дому.
С этого дня Степан Иваныч стал медленно угасать. Кое-что делал по дому, иногда ходил в море, но слабы были руки и ноги, притуплялось зрение. Прежняя живость характера исчезла, теперь больше молчал, вяло смотря потухшим взглядом на окружающее. Мало, ел и нередко засыпал сидя.
Красноклювый лебедь снялся к полетел.
Стояли теплые осенние дни. По ночам, длинным и темным, над океаном вставали холодные туманы. Иногда они кипели и пенились, как быстрые горные реки, гнал их вдоль берегов свирепый норд-ост. Тогда становилось знобко, и на бортах рыбачьей посуды выростала ледяная бахрома. Но поднявшееся солнце нагревало воздух, и туманы таяли или уплывали к горизонту.
Таким теплым розовым утром Степан Иваныч и собрался в далекий последний поход. Положил себе в дорожную кожаную сумку ржаных сухарей, сунул смену чистого белья, четвертку табаку и коробку спичек, на плечи вскинул ружье и незаметно, окольной тропой, спустился к бухте. Поплыл по тихой воде в голубую даль, где туманным пятном намечался. пустынный каменный островок.
Плыл он до заката по голубым ленивым волнам, глядя на медленно удаляющийся берег, последний раз насыщая глаза видом земли, по которой неугомонно метался в продолжении шестидесяти трех лет. И не было жалко ее и оставшихся на ней близких людей.
Пристав к островку, он робким, тревожно взволнованным шагом поднялся на кучу вечных камней, которых возможно впервые касались человеческие ступни, посмотрел на восток, оглянулся на запад. На земле и на море была благостная тишина; воздух застыл в предвечерней дреме. Степан Иваныч поднял над головой смоченный слюною палец, ловя дыхание ветра. «Скоро как будто должен подняться полунощник». Не спеша, опять спустился к шлюпке и с усилием оттолкнул ее от берега. «К утру прибьет к земле. Если унесет, то… то стоит же он, Степан Иваныч, этой старенькой шлюпки!..»
Выбрав себе место под большим нависшим камнем с южной стороны, — чтобы от северного ветра была защита, чтобы видно было море и землю, — он бережно опустил мешок. На море провел больше полжизни, оно — близкое и любимое. А на земле он родился. Последний взгляд человека всегда должен быть обращен к земле… Так же аккуратно поставил рядом ружье и облегченно вздохнул. Теперь — дома. Теперь можно отдохнуть по-настоящему: не нужно ни о чем заботиться, некуда спешить — пришел к последней земной точке.
Степан Иваныч сел и прислонился к замшенному куску гранита, немного тепловатому, такому приятному, своему, и почувствовал, как все окружающее — и море, и небо, и нагретые солнцем камни, и непоседливые птицы — все входит в него, как материнская ласка, как солнечная благодать в выздоравливающего. И благодать эту он пьет без жадности, без возбуждения. Она — для него. Заслужена многолетней тратой чувств: горя, тоски, радости, страданий…
Неторопливо плывут-курчавятся белесые облачка, посылая человеку радость или угрозу. За ними воздушным шагом торопится синяя тень. И вдруг — нет одного, другого… И тени нет — смылась. На земле и на воде. Будто никогда не бывало. Океан так же гонит тяжелые, медлительные валы. Ему, вечному, совсем некуда спешить. Он всегда дома. Справа, с отвесной скалы доносятся крики чаек. Там их город. В общем шуме привычным ухом можно уловить отдельные выкрики гагарок, кайр, маленьких чаек-моейвенок, крачек…
Жизнь, яркая, хлопотливая, беззаботная жизнь. Жизнь!..
А он, Степан Иваныч Фролов, моряк, идет навстречу смерти. Он не хочет умереть, как дряхлая, беззубая, ни на что негодная собака, на пороге, под пинками. Свободолюбивый дух его не может мириться с этим…
Солнце уже коснулось воды и раздумывает, можно ли окунуться с головой. Небо побледнело, будто из него выпили голубую кровь. На западе у горизонта возник фантастический город. Видны башни, фабричные трубы, красивейшие дворцы, великолепные рощи, деревья с золотыми плодами. Может быть это апельсиновые рощи? У дворцов крыши покрыты блистающей медью, из фабричных труб пышет пламя. Все эти странные, колеблющиеся, рыхлые постройки движутся, меняются местами, тают и вновь появляются. И Степану Иванычу они почему-то напоминают далекую юность. Походить бы по этим зеленым рощам… Над городом полыхает пожар. Из огня плывут прозрачные розовые корабли… «Степан Иваныч!.. Степа!..» В женском голосе всегда слышится что-то птичье. Голос этот давно позабыт. И смех женский — тоже…
Конечно это кричит и сумасшедше хохочет морская чайка.
Степан Иваныч отгоняет минутное видение и поднимается, делает несколько шагов. Солнце нырнуло в воду, позабыв на небе розовый плащ, облака налились темным и сырым, с востока докатилась холодная соленая струя ночного ветра. Он опять опустился и стал развязывать мешок с сухарями…
Усталый и немощный, забившись в глубину каменной щели, привычной звериной полежкой всю ночь недвижно пролежал помор Фролов. Проснулся с первым криком птиц. Из-под ног доносился ленивый говор прибоя, на каменных позвонках скал играли первые лучи, море безмятежно покоилось, как и вчера. Только чайки не садились по-вчерашнему на воду, а высоко кружились и казались беспокойнее. Глядя на них, Степан Иваныч определил: «Погода изменится; как бы шторм не надуло». В маленьком пресном озерке он умыл лицо и задумчиво уставился на запад. Там, где вчера рисовались дворцы и рощи, теперь простиралась голубая солнечная пустыня. Сверху неожиданно хрустальным звоном рассыпалась осенняя птичья печаль. Совсем низко, держа курс на землю, тянулся клин гусей, с тоской и жалобой покидавших родные места.
Повинуясь охотничьей привычке, Степан Иваныч машинально схватил ружье, но сейчас же устыдился: убивать теперь… Для чего? Да и вообще не нужно было брать его сюда, незачем оно теперь. Он долго провожал гусей потерянным виноватым взглядом. Подчиняясь неведомой силе, птицы с великой печалью летели в неизвестность. Для многих путь этот будет мучительным: иным несет он страданья и голод, иным гибель от истощения, от океанских смерчей, от человека. Но это не останавливает. Крепок и нерушим железный закон природы.
И вдруг Степан Иваныч ощутил мучительную тоску по иным, нехоженным местам, где нет трехмесячных мертвых ночей и ледяных метелей, где раскинулись, благоухая, цветущие луга в плодоносных рощах, по зарям поют птицы с желтыми, малиновыми, синими перьями. Хоть на день, на час попасть бы туда!
Он опустил голову на ладони рук. Не бывать ему в этой чудесной стране. Нигде больше не бывать. Теперь ничего не увидит. Никогда!
И не нужно…
И стало легко, как раньше. Припомнился один старый капитан, с которым несколько лет плавал на промысловом паруснике. Любопытный и умный был капитан. Все знал: разные страны, всяких людей, животных, верил всяким приметам. Он страдал морской болезнью, и, чтобы меньше мучила, ел с якоря землю. Чтобы пóветерь пала, скреб ногтем мачту с той стороны, откуда хотелось ветра. А если поднимался шторм, то бросал за борт мелкие предметы: пуговицу, шейный крест, табакерку. По приходе на факторию, вновь накупал этих вещей в изрядном количестве…
И океан относился к нему милостиво. Но погиб капитан все-таки от воды. Пьяный, на берегу упал в лужу и захлебнулся.
Степан Иваныч сидит, задумавшись над своим прошлым, старательно отыскивая в нем все любопытное, достойное внимания. Попутно замечает, что поднялась рябь и чайки с криком устремились к берегу. Вон уже ветер отбросился на солнце. Значит близок шторм… Не все ли равно теперь — будет шторм или нет? Он — на суше. Да и вообще ему теперь все равно…
Берега лежащего вдали материка кажутся жилистыми и костлявыми. Что это: море начало волноваться или заколебалась земля? Солнце задернулось серым и стало похожим на огромнейшую бесформенную медузу.
Степан Иваныч опустился к ручью, начал размачивать и жевать сухари…
Фролов долго провожал гусей потерянным взглядом.
…Океан гудел, гнал на камни тяжелые железные валы, они взрывались, катились с рокотом назад, но, подхваченные новым валом, опять устремлялись на берег, лизали его, били, взлетали вихрями брызг.
Фролов лежал неподвижно, подобрав ноги и втянув голову в старую заплатанную малицу. По верху со свистом гулял сырой мозглявый ветер, с темнокаменного неба падала, как обрывки студня, снежно-талая знобящая слякоть. Холод настойчиво сочился по жилам, покалывал под сердцем, ломотой переливался в костях.
Может быть не нужно было сюда… В доме, в тепле, на людях?..
Но это минутное — от слабости духа — мелькнуло и растворилось в одном огромном, которое несет он с юношеских лет.
— Нет!..
Вечер сменился ночью, ночь перешла в день. Океан рычал взбесившимся зверем, стонал и плакал. Свирепствовал ветер-полунощник, буйствовал ветер с востока, крутил и плясал побережник. Смерть выстилала человеку последнее ложе нежнейшим серебряным пухом. Расточительно сыпала снежные сверкающие цветы.
Но в полдень набежал шалоник и гневно разорвал, разбросал студенистые тучи, смял клубы крутящейся белой паутины, очистил солнцу дорогу, и оно бросило в каменную долину охапку ярчайших лучей. По впалой щеке побежала холодная капелька, подмочила снежные пушинки на усах и в белой бороде, и борода сразу потемнела, сделалась маленькой, щипаной и мокрой. Степан Иваныч открыл глаза, слабо повернул голову.
В этот день, в минуты короткого больного полузабытья, Степан Иваныч Фролов видел странный сон, сотканный его многознающей памятью из тысяч ниточек жизни.
В горах, у моря жил орел. Птиц он бил на лету, падая на них свистящим, брошенным из пращи камнем, вонзая в голову и спину стальные когти. Удар могучего клюва довершал дело.
Молодость орла прошла в скитаниях по свету, в весенних брачных боях, в поисках подруги. Спарившись, он прочно основался в облюбованном месте — на вершине суровой скалы.
Сменялись весны. На свет появлялись молодые орлята, росли, мужали и, почувствовав зов к неизвестному, улетали в далекие странствия. А родители готовились к следующим, шли навстречу новым родительским радостям и заботам.
Каждая новая весна клала свою печать. Медленно и неуклонно рыжело оперение, в хвосте появлялись одно за другим белые старческие перья. Но у орла величественнее делалась осанка и росла крепость крыльев.
Первый удар был нанесен смертью подруги. Сердце на минуту окаменело, потом мышцы дрогнули, глаза загорелись небывалой злобой, ему хотелось ненавистной земле, отнявшей у него радость, закричать свое птичье проклятье. Орел метнулся со скалы. Он убил в этот день много больше того, что ему нужно было для пищи: в груди горела ненависть, а взгляд был попрежнему еще остр…
Все так же шумело море, земля в положенные сроки меняла свои одежды, прилетали и улетали птицы. Орел жил на своей скале, одинокий, всеми ненавидимый, на все живое нагонявший страх. Казалось, конца не будет его владычеству.
Радостную весть сообщил птичьему народу может быть его младший собрат по разбоям — ястреб, может об этом прокричала по всему побережью всезнающая чайка:
— Орел начинает стареть! Вчера от его смертельных когтей увернулась краснозобая гагара!..
Здесь еще не было осознанной трагедии приближающегося бессилия. Орел только почувствовал — с ним что-то случилось. Почему-то обмануло зрение, изменила мощь крыльев. Этого никогда не бывало.
Второй промах громко заявил, что старость уже здесь, рядом, подползла незаметно противной ядовитой гадюкой и цепко обвивается вокруг ног. Не улететь от нее, не укрыться…
Промахи раз от разу становились чаще. Орел вынужден был теперь охотиться на слабую и медленно летающую птицу, ловить глупых сусликов и неуклюжих лягушек. А еще немного спустя пришлось выискивать только сидящую дичь. Тогда он собрал все свои силы, расправил старческие побуревшие крылья с поломанными перьями и, припоминая свою молодость, взнесся за облака в последний орлиный полет. Опустился вдалеке от гнезда, на вершину мертвой скалы, куда ни одна птица не залетает, куда незачем ей залетать. Там орел забился в каменную расщелину и стал ждать солнечного восхода. Когда солнце вспыхнуло над щелью, он взглянул на него последний раз немигающим орлиным взглядом и закрыл глаза. Закрыл навсегда…
Солнце ушло к морю, камни остыли, остыло и тело, в котором еще недавно билось свободолюбивое сердце…
Весь этот день в душевном смятении пролежал Степан Иваныч, не поднимаясь и не притрагиваясь к пище. Все хотелось что-то вспомнить, подумать о чем-то ином, чего еще не касался памятью, — но память была как дырявая корзина.
Еще миновала ночь — сухая, без ветра, с морозом. Океан продолжал злобствовать и кипеть, хотя внутренние силы его уже истощились. Смерть к Фролову все не приходила, — она бродила где-то по окрестности, дожидаясь своего часа.
Под утро шторм утих; на птичьей горе снова закричали чайки. Они стаями летели к воде и садились на тающие гребни. Остатком гаснущего сознания Степан Иваныч отметил:
«Чайки садятся на воду — будет хорошая погода».
Ему, как и вчера, хотелось что-то вспомнить, но было уже некогда: срок жизни его наступал. Смерть подходила медленными шагами, суровая, неотвратимая. Степан Иваныч смотрел на нее без страха и без радости, смотрел как на неизбежность, спокойным усталым взглядом, пока ледяная рука ее не коснулась его старческих глаз.
Но то, что он силился вспомнить, так и не всплыло на поверхность памяти.
Это была его первая любовь…
Эпопея Страны Советов. Очерк Ник. Шпанова.
«Страна Советов» — не последнее слово советской авиационной техники. Это лишь первый опыт создания советского многомоторного цельнометаллического самолета больших размеров, рассчитанного на поднятие значительного груза и на полет с этим грузом на большое расстояние.
23 августа самолет «Страна Советов» вылетел с Московского аэродрома.
Не спеша перетянула «Страна Советов» Средне-русскую равнину, не задержавшись ни у петлистых, заросших яблонями берегов Оки, ни на волжских заливных лугах, ни на колосистых золотых полях Камы. Пошли предгорья Урала, и зазеленели под самолетом пади и разлоги насыщенных ископаемыми богатствами уральских кряжей.
Далеко внизу извивалась бесконечными петлями желтая насыпь Великого Сибирского Пути, а «Страна Советов» все шла и шла, гудя двумя моторами над головами прокопченных дымом домн уральских рабочих. Потом к поблескивающим в пасмурном небе алюминиевым крыльям стремительной птицы стали поднимать головы суровые таежники темных дебрей западно-сибирской тайги.
До обоняния летчиков стал иногда доноситься едва слышный угарный запах «палов» — лесных пожаров. Чтобы не нюхать этот кружащий голову угар, Шестаков сильно дул своим коротким носом, Болотов только пофыркивал, а рыжий Стерлигов — аэронавигатор — пытался подслеповатыми глазами, выпученными от напряжения без привычного пенснэ, приглядеться к земле, чтобы разобрать, откуда это несет запахом курной бани. Но близорукие глаза Стерлигова были бессильны разобрать что-нибудь в волнующейся тайге. Обрывки сизого тумана мешались с такими же клочьями голубоватого дыма. Стерлигову некогда было особенно раздумывать над происхождением неприятного запаха — самолет шел с сильным боковым ветром, его сносило с курса, и нельзя было терять времени на праздные размышления, нужно было непрестанно производить счисление пути, чтобы не сбиться с заданного курса. Нельзя было повторить ошибку прошлого полета, когда пришлось садиться невесть где и ломать самолет. Поди найди мало-мальски приемлемое место для посадки в таком районе!
Так незаметно для себя «Страна Советов» долетела до Новосибирска, столицы советской Сибири. К этому времени у Стерлигова уже рябило в глазах от карты и во сне мерещился круг навигачета[11] Шестакову и по ночам, после сухих банкетов, устраиваемых провинциальными исполкомами в местах ночовок, казалось, что на ладони ему жмет рукоятка управления, а Фуфаев успел так пропитаться маслом и собственным потом от постоянной возни с моторами, что потерял всякую надежду отмыться в ближайшие месяцы. Только морской летчик Болотов страдал по ночам бессонницей, так как успевал отлично выспаться во время полета на очередном этапе — его очередь держаться за управление еще не настала, и машину почти все время вел один Шестаков.
Из Новосибирска летчики двинулись дальше, воспользовавшись первым хоть сколько-нибудь подходящим днем. Правда, погода и в этот день была такая, что на Московском аэродроме наверняка не был выпущен в полет ни один самолет, но Шестаков не хотел слышать никаких доводов Стерлигова о готовящейся полосе затяжных циклонов и уверял, что он проскочит у этих циклонов под самым носом, не замочив крыльев. Но нос у циклона повидимому оказался очень длинный, и надежды Шестакова не оправдались.
В районе Байкала «Страну Советов» стало так вертеть и бросать, что у Стерлигова то-и-дело летели со столика все его приспособления. Седые волны пресного сибирского моря с бешеным ревом кидались на обомшелые темные скалы. Ветер свистел в вершинах высоких сосен и сбивал целым дождем спелые ноздрястые шишки. На берегах Байкала люди, запахнув полы, старались скорее забраться под защиту стен, чтобы избавиться от валящего с ног урагана. А высоко над равнодушными скалами, в сумрачном небе вертелась серебряная птица, упрямо боком как-то пробиваясь против ветра к востоку.
Иркутские метеорологи слали в Москву тревожные телеграммы о разыгравшейся над районом очередного этапа непогоде. Москва слала телеграммы, предупреждая о необходимости следить за полетом «Страны Советов» и в случае аварии подать ей помощь. Собственно, в аварии уже никто не сомневался, погода не оставляла надежд на благополучный исход полета. Но упрямая птица обманула погоду, иркутян и москвичей и благополучно села в Верхнеудинске.
Скоро под широкими крыльями «Страны Советов» прошли невзрачные домики Читы, и Стерлигов задал Шестакову новый курс, резко повернув к северу. Внизу, в непроглядных лесных дебрях запенилась бурная Шилка, несущая свои холодные воды к могучему Амуру. Широкая блестящая лента величайшей из восточно-сибирских рек Амура плавно изгибается среди массивов бесконечных лесов. Изредка среди этого темнозеленого моря промелькнет желтый островок переселенческой заимки, или пронзительно забелеет узкая длинная полоска корейской плантации опиумного мака. Наконец засерели вдали постройки Благовещенска, около которого Китай вплотную подходит к пределам Советского Союза. Шестаков дал от себя рукоятку, и, попрыгав по нескладному благовещенскому аэродрому, «Страна Советов» сделала посадку.
За Благовещенском последовал Хабаровск, последний пункт сухопутного этапа перелета. Прилетев в Хабаровск сухопутной машиной
с колесным шасси, «Страна Советов» должна была улететь отсюда, имея под корпусом поплавки. От Москвы до Хабаровска «Страна Ссветов» проделала 6805 километров, пробыв в воздухе 45 часов 25 минут.
Много времени ушло на установку сложного поплавкового шасси, но наконец на рассвете 12 сентября Болотов забрался на место Шестакова. Настала очередь Шестакова дремать в безделии рядом с пилотом, ведущим машину.
Схема полета «Страны Советов» из Москвы в Нью-Йорк.
Из-под поплавков забрызгали пенистые фонтаны Амурской веды, и «Страна Советов», преодолевая сильный встречный ветер, пошла на Николаевск-на-Амуре. Временами ветер достигал такой силы, что самолет, как непослушную парусную шлюпку, сносило с курса. Машина летела так медленно, что Стерлигов по два раза проделывал вычисления с навигачетом, не веря, что «Страна Советов» может так плохо преодолевать расстояние. Но в тот момент, когда Стерлигов стал уже сомневаться в правильности курса, широкое русло Амура начало двоиться у него в глазах. Стерлигов протер глаза и посмотрел снова вниз. Русел стало уже три. Это была дельта Амура с городом Николаевском. Стерлигов залез в кабинку, стянул с головы шлем и отер пот со лба.
* * *
«Страна Советов» оставила Николаевск-на-Амуре, направляясь к Петропавловску-на-Камчатке, откуда ей предстояло перейти уже на американскую территорию.
Отчаянные ветры бушевали над всем пространством Охотского моря. При этом Стерлигов никак не мог даже понять, в какую собственно сторону сносит самолет. Каждые полчаса направление ветра менялось.
Отчаянный шторм делал полет почти невозможным для «Страны Советов» и в то же время исключал возможность посадки на расходившееся тяжелыми серыми волнами море. Летчики не могли ни сесть на воду ни повернуть вспять, — им оставалось только лететь вперед, борясь со штормом. Они летели семь с половиной часов и добрались до Петропавловска-на-Камчатке. При этих совершенно нелетных условиях «Страна Советов» пролетела 18 сентября 1200 километров одним духом!
Все было против перелета. Осень быстро охватывала север Тихого океана. Постоянные штормы с дождями заставляли выжидать полетных дней целыми неделями. Но люди не теряли бодрости. Их надежда на окончание перелета росла вместе с настойчивостью и желанием во что бы то ни стало привести «Страну Советов» в страну доллара.
По мере того как росла уверенность летчиков в своих силах и успехе, надежды наших американских «доброжелателей», с досадой следивших за продвижением дерзкой птицы, угасали. Американские газеты сообщали, что несмотря на отчаянные метеорологические условия большевики рискнули итти вдоль рассыпанных в самой бурной части Тихого океана Алеутских островов. При слабом свете приполярных сумерек, в полночь с 20 на 21 сентября «Страна Советов» покинула Петропавловск, имея намерение пройти над океаном 1100 километров без посадки до острова Атту, самого западного из группы Ближних островов (западная часть Алеутского архипелага). Алеутские острова, разграничивающее Тихий океан и Берингово море, представляют собой самый неприветливый из архипелагов, входящих во владения САСШ. Мало того, что они расположены в наиболее бурной части, с глубиной, достигающей порой семи с половиной тысяч метров, они изобилуют вулканами и высокими вершинами, — например гора Шишальдин на острове Унимак (2700 метров). Кроме того на Алеутах разбросано до сорока восьми действующих вулканов. Наиболее деятельный из них расположен как раз на острове Уналашка, куда «Страна Советов» направила полет после посадки на острове Атту. От Атту до Уналашки — 1300 километров.
23 сентября в газетах появилось лаконическое сообщение о том, что «Страна Советов», покинув Атту, исчезла в тумане. Американские буржуа не могли допустить, что этим безрассудным людям удастся то, что все авиаторы-янки считали несуразным и невозможным.
А в действительности в это время один из «безрассудных людей» спокойно клевал носом за вторым управлением; другой внимательно прислушивался к указаниям навигатора, а сам навигатор пыхтел над трубой Цейса, силясь разобрать внизу в тумане приметные пункты, по которым можно было бы засекать путь. Но внизу ничего не было видно кроме сизого плотного тумана. Однако на борту у «безрассудных людей» оказался радиопеленгатор, не позволивший им сбиться с курса. Как бы там ни было, но и Уналашка и Сьюард и Ситка остались у «Страны Советов» за хвостом вместе с 6700 километрами, пройденными от Хабаровска в таких условиях, когда ни один американец не стал бы даже отрываться от газеты, чтобы говорить о возможности летать.
Покинув Ситку 3 октября, «Страна Советов» не прилетела в Ситтль…
* * *
Но каково было разочарование буржуа, когда в газетах появились целые столбцы разноречивых сообщений о том, что летчик Шестаков и навигатор Стерлигов прибыли на пост американской береговой охраны Грэг и заявили, что самолет их благополучно сел около водопада на острове Долл из-за порчи одного из моторов.
Американское правительство приняло энергичные меры к тому, чтобы доставить на остров Долл новый мотор для «Страны Советов». Сторожевые суда привезли туда машину из Ситтля, и экипаж самолета под непрерывным проливным дождем без всякой посторонней помощи принялся за смену поврежденного мотора. Люди не спали, не ели — они стали походить на тени прежнего экипажа и шатались от усталости, — но через три дня мотор был поставлен. Шестаков облегченно вздохнул и заставил Болотова на целый день и целую ночь лечь спать.
13 октября Шестаков посадил Болотова за левое управление, и самолет снова пошел в воздух на преодоление последней части морского этапа. Стерлигов покачал головой — ветер был встречный и такой силы, что возникала сомнение, хватит ли бензина, чтобы преодолеть расстояние в 1 200 километров до Ситтля. Но бензина хватило, и через десять часов полета «Страна Советов» спустилась в Ситтле. Здесь самолет снова был лишен поплавков и установлен на колеса. Вторая часть его маршрута Хабаровск — Ситтль в 8000 километров была закончена, и за управление снова сел Шестаков. Путь лежал над гористыми берегами далекого Запада.
18 октября пронзительный стук молотков Ситтльского порта умолк на несколько мгновений — три тысячи портовых рабочих подняли голову и проводили взором уходившую к югу ширококрылую птицу, за рулем которой сидели какие-то легендарные люди, про которых пишут в газетах, будто они ничего не умеют делать, не умеют ничего строить, презирают науку и не признают ничего кроме митингов. Эти сведения о большевиках странно не вязались с видом уверенно летящей серебряной птицы.
Птица летела уверенно до тех пор, пока снова не начали появляться перебои в моторе. Немецкие моторы не выдерживали того, что было нипочем советскому самолету. Над городом Ванкувэр один из моторов окончательно стал, и пришлось садиться на аэродроме, чтобы его исправлять. Фуфаев выбивался из сил, но неполадку устранил, и Шестаков снова нетерпеливо повел машину на взлет. Остались за хвостом Скалистые горы штата Вашингтон, и зазеленели сочные леса Орегоны.
«Страна Советов» жужжала моторами над зелеными лесами Калифорнии. Вправо расстилались залитые ярким солнцем, сверкающие воды Тихого океана. В этом месте он был так мало похож на тот сумрачный серый океан, который делал все возможное, чтобы погубить летунов над Алеутскими островами. В лучах ослепительного солнца сверкали высокие стены домов Окленда. Разрисованные всеми цветами радуги рекламы кричали о лучших фруктах мира и предлагали прохожему не заходить ни в чью лавку кроме специального фруктового магазина Джемса Крик.
* * *
Отсюда как в калейдоскопе замелькали жемчужины Соединенных Штатов, цитадели доллара. Цветистый, залитый золотым калифорнийским солнцем Фриско, сумрачный Чикаго — столица мясного короля Бутлера, бесконечные столицы стальных, железнодорожных, шляпных и сапожных королей. И наконец Детройт — единственная в своем роде резиденция мирового автомобильного короля, а за ним и Нью-Йорк — столица короля всех королей — его величества доллара.
30 октября на дороге, ведущей от Нью-Йорка к Кертисс-фильд, в большем числе чем обыкновенно, замелькали форды и шевроле. Двадцать тысяч рабочих Нью-Йорка мчались на своих машинах к аэродрому для того, чтобы приветствовать упрямых большевиков, покрывших на «Стране Советов» 20 500 километров в беспримерно трудных условиях. 136 часов в воздухе. 150 километров в час — средняя скорость. 540 километров в день. Это лучше Пельтье Дуази, это лучше Аррашара, это лучше де-Пинедо. Сердца рабочих, привыкших к сенсациям, бились на этот раз несколько чаще, потому что для американских рабочих не привычны были такие сенсации, героями которых являются разгуливающие на свободе большевики.
Когда, сделав несколько кругов над аэродромом, Шестаков отвел от себя штурвал и машина, попрыгав со звоном по ровному полю, остановилась перед замершей толпой, над сплошной массой человеческих голов взвились полотнища красных флагов и вытянулись сотни тысяч рук, репортеры защелкали кодаками, фиксируя каждое движение вылезавшего из самолета экипажа. Широкое улыбающееся лицо Болотова первым попало на пленку, за ним — серьезный, сосредоточенный Шестаков, за Шестаковым показалась из стеклянной навигаторской кабинки огненно-рыжая голова Стерлигова, и последним был подхвачен десятками протянутых рук нью-йоркских рабочих чумазый, с серым от усталости лицом механик Фуфаев. Репортеры наставляли объективы кодаков в упор на лица живых большевиков…
Из великой книги природы.
ПЕРНАТЫЕ СПОРТСМЕНЫ.
Одно время на улицах Ленинграда не редкость было встретить зимой спортсменов, которые в пиджаке и трусиках тренировались вприпрыжку босыми ногами при пятнадцатиградусном морозе. Любопытно, что среди пернатых также существуют в своем роде спортсмены, бодро переносящие сильнейшие холода.
В хвойных лесах таежной полосы СССР и в горной части Крыма гнездятся оригинальные птицы — клесты, по своим повадкам очень напоминающие попугаев[12]. Обращает внимание массивный клюв этих птиц. Верхняя и нижняя его половины загнуты и перекрещиваются в роде лезвий ножниц. Подобное строение клюва позволяет клестам выщелачивать сосновые и еловые шишки и доставать находящиеся в них семена[13]. В зависимости от наличия корма клесты выводят птенцов в различные времена года, но главным образом в зимние месяцы. В годы с большим урожаем шишек, семян и ягод клесты гнездятся два раза.
Интереснее всего, что в самый разгар зимы, когда от морозов деревья трещат, словно залпы выстрелов, или тоскливыми напевами завывают февральские вьюги, хлопотливая чета клестов бывает занята высиживанием будущего поколения пернатых спортсменов. Жизнь в лесу в это время совершенно замерла, снег повис пушистыми хлопьями на густых ветках, однообразное оцепенение зимнего ландшафта сковало местность, и только клесты беспечно распевают песенки. Когда же при тридцатиградусном морозе появятся неоперенные птенцы, то чувствуют они себя, повидимому, великолепно. Несмотря на суровые условия зимнего периода и на необходимость сидеть в гнездах, молодые клесты-спортсмены не только не замерзают, но даже не знают, вероятно, наших насморков и гриппов…
А ведь немного, пожалуй, найдется среди нас таких «неоперенных» спортсменов, которые смогли бы героически перенести трескучие морозы, подобно молодежи у клестов.
И. Б.
САМОЕ БЫСТРОЛЕТНОЕ СУЩЕСТВО В МИРЕ.
Обыкновенно думают, что самое быстролетное существо следует искать в мире пернатых; в широких читательских массах господствуют преувеличенные понятия о быстроте полета птиц. Отчасти это зависит от того, что относительно быстроты птичьего полета до сих пор имелись лишь данные отдельных исследователей и знатоков птиц. Только за последнее время измерения быстроты птичьего полета стали производиться строго научным путем. Не более десяти лет назад еще считали, что ласточки пролетают до 250 километров в час, а касатки даже до 300. Подобные цифры мы встречаем во многих таблицах, которые опубликовываются и до сих пор. Но посредством систематических наблюдений установлено, что быстрота полета в 70 километров уже относится к рекордным достижениям европейских птиц. Такой быстролетностью обладают, например, скворцы; почтовые голуби летают быстрее, но и они не могут пролететь более 80 километров в час.
Самые быстролетные из известных нам птиц — это альбатросы и обитающие на Тихом океане фрегаты. Для первых установлена быстрота полета в 100 километров, для вторых— в 120. Эта цифра является уже пределом быстроты птичьего полета. Более высокие цифры, которые иногда приводятся, относятся к области вымысла.
Но было бы ошибкой думать, что более быстролетных созданий чем птицы не существует. Мы знаем, например, насекомое, которое летает быстрее всех известных нам птиц. Это насекомое заслуживает, по нашему мнению, звания самого быстролетного существа в мире; оно представляет собою небольшую муху, носящую в науке название cephenomyia, и встречается в некоторых частях Европы, а также в Южной Америке. Более близким знакомством с этим чрезвычайно интересным насекомым мы обязаны исследованиям американского ученого Ч. Таунсэнда, которому удалось точно установить, что cephenomyia может пролететь в минуту почти 22½ километра, или 1 300 километров в час! Следовательно, для полета вокруг света этому насекомому понадобилось бы не более 17 часов.
Тайна сверхбыстролетности cephenomyia еще не раскрыта, потому что при развиваемой этими насекомыми скорости нет ни малейшей возможности делать над ними наблюдения во время полета. Во всяком случае установлено, что насекомое в течение секунды поднимает и опускает крылышки несколько тысяч раз. Насколько далеки наши летательные машины от этих достижений можно видеть хотя бы из того, что пропеллер самого быстролетного аэроплана делает всего две-три тысячи вращений в минуту.
Конечно, cephenomyia должна обладать мускулами исключительной величины и силы. Измерения показали, что около 60% общего веса тела этого насекомого приходится на мускулы, в то время как у обыкновенной мухи на них приходится лишь 25% веса. Для чего природа наделила это насекомое такими удивительными способностями — вопрос, на который пока еще нельзя ответить. Может быть эта особенность отчасти обусловлена способом размножения данной мухи, которая не кладет яиц, а откладывает живые личинки в ноздри оленей, антилоп и других животных. При помощи исследования этих личинок надеются добыть интересные сведения и о самом насекомом.
E. Т.
О ПОЛЬЗЕ ВОЛКОВ.
Известно, что волки ежегодно берут двадцатимиллионную дань с союзного животноводства, — казалось бы, дико говорить о пользе этих зверей. А между тем последние крымские волки лет двадцать-двадцать пять назад оказывается приносили больше пользы чем вреда. Об этом интересном факте рассказал съезду по охране природы крымский ученый проф. И. И. Пузанов.
В довоенное время крымские леса, которые имеют для края огромную ценность, потому что служат хорошей защитой для рек и ручьев, стекающих с Яйлы, вырубались в огромном количестве и без всякой системы. На лесосеках быстро вырастала молодая смена. Пастухи редко загоняли в заросли порубок стада коз, баранов и коров, которые сильно вредят подросту, объедая нежные побеги. Они боялись волков, выбиравших убежище в гуще молодых кустарников. Хотя волков было и очень мало, но страх перед ними по традиции сохранялся у хозяев стад. Благодаря этому, срубленный лес в те времена возобновлялся довольно хорошо. Теперь же крымские волки окончательно уничтожены. Хозяева скота решили, что он может пастись везде, где ему заблагорассудится, даже без пастухов. Овцы, козы и коровы нагрянули на молодой подрост, и в результате сейчас мы имеем громадные пространства лесосек, на которых лес или совсем не возобновляется или же растет хилым и изуродованным.
Конечно, из сказанного не надо делать вывода, что необходимо было бы снова заселить Крым волками. Метод культурной пропаганды среди скотоводов, агитация за бережное отношение к природным богатствам — вот что сейчас стоит в порядке дня у общественных и государственных организаций, имеющих отношение к естественно-производительным силам Крыма.
В. С.
Следопыт среди книг.
ПЛАВАЮЩИЕ КОНТИНЕНТЫ.
В научной серии «Современные проблемы естествознания», выпускаемой Госиздатом под редакцией наших виднейших ученых, появилась чрезвычайно интересная книга английского геолога Джона Джоли, излагающего своеобразную гипотезу жизни земли, построенную на радиоактивности горных пород и изостазии[14].
Сущность теории изостазии связана с воззрением, что «материковая кора (континенты, горы) плавает на слое субстрата, состоящего из более тяжелого материала (базальта) и распространенного по всей земле». Материки являются «гранитной пеной, поднявшейся из громадного базальтового океана, имеющего в глубину около ста километров». Эта гранитная пена образовала «скопления в виде пятен, которые мы называем Европой, Азией, Африкой и т. д. На площадях, свободных от этой пены, покоятся океаны».
«Материки плавают, — согласно Архимедову закону, — вытесняя лежащее под ними базальтовое вещество. Океаны же покоятся на поверхности последнего, как масло на поверхности воды, содержащейся в сосуде с ограниченной площадью».
Подобно тому, как большие тяжелые суда неизбежно имеют более глубокую осадку, чем суда легкие, так и более высокие части рельефа материков «компенсируются» вытеснением большего количества лежащего под ними слоя. Вычисления, основанные на разнице плотностей, показывают, что погруженная часть материкового слоя простирается в глубину на расстояние в 8 раз превышающее высоту выступающей сверху части (горного хребта).
Изостазический слой, на котором плавают материки, состоит из базальта, или «базальтовой магмы», тестообразного (вязко-твердого) вещества, температура которого близка к точке плавления.
Через некоторые промежутки времени (исчисляющиеся миллионами лет) совершились грандиозные вертикальные поднятия материков или их частей. Эти поднятия сопровождались излияниями на земную поверхность огромных масс (до сотен тысяч кубических миль) сильно нагретого жидкого базальта, выходившего из недр земли по трещинам.
Граниты, гнейсы и другие выходящие на поверхность земли горные породы, из которых сложены материки, равно и базальт, — все без исключения радиоактивны. Это значит, что они содержат такие элементы, которые непрерывно превращаются в вещества все меньшего атомного веса и при этом превращении выделяют теплоту.
Правда, этот приток тепла очень мал, всего около 3–4 калорий на 1 г базальта в течение миллиона лет. Так как утечки тепла «великой базальтовой постели» почти нет, то происходит постепенное накопление тепла. За 25–30 миллионов лет на 1 грамм базальта накопление тепла достигнет 90—100 калорий, а этого тепла уже совершенно достаточно, чтобы базальт начал плавиться.
По мере того, как происходит плавление, базальтовый слой расширяется и подымается вверх вместе с океанами и материками. Но, вследствие уменьшившейся из-за нагревания плотности базальта, материки, и особенно те их высокие части, которые поддерживаются глубокими «компенсационными» выступами (горные хребты), должны погрузиться в базальтовую магму. На месте погрузившихся гор возникают впадины, заполняемые морями, в которых вслед затем начинают отлагаться морские осадки. При окончательном расплавлении базальта скорость утечки тепла начнет возрастать в огромной степени через ставшее более тонким дно океанов.
Вследствие утечки тепла начинается снова постепеннее отвердевание базальта, а вследствие этого сжимание базальтового слоя, и величественные события следуют в обратном порядке. Опустившиеся материки, бывшие под морями, вновь поднимаются. Этим, между прочим, объясняется нахождение осадочных пород (морских раковин и пр.) на вершинах гор.
Один гигантский цикл, длившийся около 40 миллионов лет, закончен, и снова происходит медленное накопление радиоактивного тепла для нового цикла. Таких изумительных изменений, «революций земной коры», геологи уже насчитывают от 4 до 6.
Благодаря радиоактивности земли, — «наш мир обладает даром омоложения: с течением веков он возвращается почти к одному и тому же исходному состоянию. И человечество, если оно проживет в будущем еще много миллионов лет, увидит, как непреодолимые силы отнимут его владения, и оно лишится может быть более половины той суши, где оно теперь господствует. Однако эти неизбежные события будут надвигаться с неумолимой постепенностью»… И тогда человечество, полное чувства коллективной спайки, сумеет встретить бодро земные потрясения и с помощью научных достижений приспособится к новым условиям жизни на нашей планете.
Рассматриваемая книга Джона Джоли несомненно представит большую ценность для всех читателей, уже достаточно знакомых с основными научными положениями и интересующихся новейшими достижениями мировой мысли.
Для рядового же читателя книга эта является еще крайне трудной по своему научному языку и терминологии, и надо поэтому выдвинуть настоятельную необходимость одновременного издания дешевых книг с возможно популярным изложением современных научных открытий и гипотез.
Вас. Ян.
Галлерея колониальных народов мира: Эскимосы. Очерки к таблицам на 4-й странице обложки.
ЭСКИМОСЫ
(К таблицам на 4-й стр. обложки)
Эскимосы — один из древнейших полярных народов. Подобно многим другим малокультурным народам, они называют себя просто «люди» («инуит»). Эскимосами их прозвали индейцы племени алгонкингов, их соседи на Лабрадоре. На языке индейцев это прозвище означает: «люди, которые едят сырое мясо». Эскимосы расселены на громадном протяжении по берегу Северного Ледовитого моря. Поселения эскимосов имеются в СССР на Чукотском полуострове (86 человек), затем в Америке на берегу Аляски, Северной Канады и Лабрадора, а также на Баффиновой Земле и по восточному и западному берегам Гренландии. Местами их поселения достигают 82° северной широты.
В доисторические времена эскимосы были вытеснены какими-то другими племенами из более южных областей и прижились на новой родине благодаря обилию дичи и морского зверя. С эскимосами европейцы познакомились до открытия Америки. Еще в X веке норманны встретились с эскимосами в Гренландии. Норманнская колония в Гренландии (из 229 селений) поддерживала торговые связи с Европой, моржовыми бивнями платила за десятину римским папам и просуществовала до XIV в. В XIV веке «скрелынги» (то-есть карлики), как называли эскимосов рослые норманны, напали на норманнские колонии в Южной Гренландии и уничтожили их.
Количество эскимосов в настоящее время исчисляется в 40 000 человек. Алеуты, о которых читатели «Следопыта» знают по очерку, помещенному в № 3 за 1928 год, также причисляются к эскимосам, хотя язык их значительно отличается от эскимосского.
Хозяйство эскимосов теснейшим образом связано с морем: на западе — с лососевой рыбой, далее на восток — с тюленем и китом. Кроме того они охотятся на северного оленя, мускусного быка и белого медведя. Погоня за стадами оленей, которые, спасаясь от волков и лисиц, бегут к северу, часто заставляет эскимосов продвигаться все в более северные широты.
Карта распространения эскимосских племен.
На суше эскимосы пользуются упряжкой из собак, при чем имеют особый тип нарт, отличный от азиатских. Приручать северного оленя они не научились, что вполне понятно, тек как Северная Америка не знала лошади до прихода европейцев; между тем в Азии северный олень был приручен (вероятно впервые тунгусами) именно под влиянием южных степных коневодческих культур.
С весны эскимос уже сидит в своем каяке, остов которого сделан из «пловунца» (прибитого к берегу морем леса) и обтянут кожей тюленя. В каяке имеется сверху небольшое отверстие, в которое может пролезть один человек. Садятся прямо на дно. Каяк приводится в движение одним веслом. На каяке производится охота на тюленя с гарпуном в открытом море.
Охотник, вонзив в тюленя острие гарпуна, держит в правой руке ремень, за который раненое животное, тянет каяк, а левой рукой правит лодкой. Когда тюлень обессилит, его закалывают копьем, рану затыкают, чтобы не потерять кровь, между мясом и шкурой надувают воздух, так как иначе мертвый тюлень камнем идет ко дну. Надутого воздухом тюленя пришвартовывают с левой стороны каяка и тащат к берегу. Опасность опрокинуться при такой охоте на тюленя очень велика. Вообще нужно сказать, что 11% эскимосов умирают от разных несчастных случаев. Охота на тюленя происходит также с пловучих льдин, при чем здесь является опасность быть унесенным при внезапной перемене ветра в море и погибнуть голодной смертью или замерзнуть.
Ранней весной для охоты на тюленя используют крайнее любопытство этого животного. Тюлень очень интересуется песнями и всякими шумами и часто, забывая об опасности, высовывает голову из воды и большими умными глазами внимательно смотрит на человека. Чтобы возбудить любопытство тюленя, царапают по льду особым скребком из лапы медведя.
Весной и летом эскимосы живут в палатках, крытых шкурами, с начала зимы переходят в зимние дома, которые вырываются в земле и имеют куполообразную кожаную крышу, покрытую землей. В это тесное жилище входят узким длинным подземным ходом: пробираться приходится на четвереньках. Этот тесный проход защищает помещение от выхолаживания. В проходе обычно ютятся собаки.
Во второй половине зимы, когда начинается зимняя охота, эскимосы строят новые дома изо льда в местах своей охоты. Постройку начинают с того, что на ровной поверхности снега очерчивают круг; внутри его снег вырезается плитами, которые пойдут на постройку стен. Снеговые плиты вырезаются до тех пор, пока не доберутся до промерзлой земли, которая и служит полом ледяному дому. Обычно ледяной дом имеет два-три купола, сделанных из тех же снежных плит. При возведении купола работают два человека, один стоит внутри помещения, другой снаружи. Плиты прикрепляют одну к другой, проводя по спайкам горячим ножом; на полярном холоду они мгновенно смерзаются. Один купол служит помещением для собак и прихожей, второй — жильем и третий — помещением для утвари и складом запасов еды. В таком куполообразном ледяном доме человек среднего роста может стоять во весь рост.
Для дневного освещения служит ледяная пластина в потолке. Впрочем и без этого «окна» ледяной купол пропускает мягкий полусвет, достаточный для повседневных занятий обитателей. Нары внутри жилища против двери также вырезаны из снега. На них спят, покрыв их шкурами. Из снега же сделаны и подставки в виде столбов для каменных ламп, которыми обогревается помещение. Лампа вырезается из рыхлого камня, заправляется ворванью, фитилем служит пучок шерсти или травы. На лампах греют воду, в каменных сосудах. Эти же лампы употребляются для так называемой «сухой бани». За недостатком воды парятся всухую, поставив лампу между ног под меховую одежду. Грязь удаляется таким образом вместе с усиленным потом.
Живя зимой в своих домах в большой скученности, эскимосы тем не менее почти никогда не ссорятся между собой. Всеми путешественниками единогласно отмечается их исключительное добродушие, веселость, любовь к шуткам. Вообще полярным народам свойственны жизнерадостность и добродушие. Эскимосы не имеют ругательных слов. В случае каких-либо столкновений между собой они не прибегают к драке или оружию, а устраивают так называемые «песенные поединки». Каждая из спорящих сторон высылает от себя певцов, которые и состязаются друг с другом. Обиженный излагает свою обиду в песне, другая сторона приводит свое оправдание также в песне. Песня сопровождается игрой на бубне. Слушатели-сородичи решают, кто из состязующихся прав, выражая этой стороне свое одобрение.
Эскимосы большие любители разных игр, а также спорта. Они занимаются борьбой, прыжками, метанием копий. Распространены танцы, заимствованные у европейцев. Эскимосские женщины часто очень миловидны. Свою одежду они украшают разноцветными кусками кожи, вырезанными в форме кружков, треугольников, квадратов. Свои черные волосы они собирают в узел на макушке и связывают лентой. Девушки употребляют ленту красного цвета, замужние женщины — голубого, вдовы — черного и старухи — белого. Связанные лентой волосы должны стоять на голове как можно прямее.
Положение женщины в общем тяжелое, так как на ней очень большая работа. Пластование рыбы и морских животных, сбор ягод и трав, вытапливание ворвани, шитье одежды, гребля в больших женских лодках при перекочовках, обработка кожи. Для размягчения кожа пережевывается зубами (способ, известный также и алеутам при приготовлении непромокаемых плащей из кишок тюленя). Поэтому к старости зубы у женщин обычно стираются до самых десен.
Дети общие баловни. Для них приготовляются прекрасные резные из кости игрушки, которые можно видеть в музеях. Маленьких детей эскимосы носят за спиной в специальном «кармане» своей меховой одежды. Такой способ ношения освобождает им руки для работы.
Содержание годового комплекта «Всемирного Следопыта» за 1929 г.
РОМАНЫ И НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА.
(Стр.)
Баиро-Тун. Фантастический рассказ М. В. Волкова (Премирован по литконкурсу «Всем. Следопыта»). (94)
Злая земля. Историко-приключенческий роман М. Зуева-Ордынца. (563, 643, 739, 821 и 893)
Изобратения профессора Вагнера. Материалы к его биографии, собранные А. Беляевым. (273, 662 и 723)
Маракотова бездна. Фантастический роман А. Конан-Дойля. (345 и 470)
Остров гориллоидов. Научно-фантастический роман Б. Турова. (243, 365, 450, 528 и 612)
Предки. Фантастический рассказ С. Соломина. (48)
Столица пчел. Фантастический рассказ Д. Мак-Муллена. (803)
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ И СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ.
Бессчастные мирикля. Рассказ из жизни кочевых цыган А. Германа. (Премирован на литконкурсе «Всем. След.»). (3)
Современные викинги. Норвежский рассказ Иоганна Бойера. (170)
Жемчужный паук. Японский рассказ Б. Рустам-Бек-Тагеева. (499)
Месть Шашибушана. Индийский рассказ Леонида Соловьева. (671)
На повороте. Тунгусский рассказ И. И. Макарова. (Премирован на литконкурсе «Вс. Следопыта»). (196)
Письмо из скифского стана. Рассказ Василия Яна. (37)
Подарок Сулеймана. Казахстанский рассказ Вл. Ветова. (163)
Под звуки гамеланга. Яванский рассказ В. Херрона. (431)
Под Млечным Путем. Рассказ П. Орловца. (547)
Последний тур. Рассказ Б. Турова. (803)
Смерть орла. Рассказ Павла Низового. (945)
Советская машина времени. Лопарский рассказ A. М. Линевского. (Премирован ка литконкурсе «Всем. Следопыта»). (22)
ПУТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
За тунгусским дивом. Очерки Ал. Смирнова, участника экспедиции Академии Наук в помощь Л. А. Кулику. (58, 113, 215 и 259)
Горные слезы. Рассказ Валентина Воронина. (144)
В снегах Лапландии. Очерки В. Белоусова. (Рейд оленьей упряжки «Следопыта»). (323, 403, 483 и 602)
Загадка озера Кара-нор. Рассказ Василия Яна. (513)
Изгнанник джунглей. Рассказ А. Демезона. (680)
На гранитном корабле. Рассказ М. Петрова-Груманта. (205)
Осада маяка. Рассказ В. Ветова. (582)
Подводный клад. Рассказ П. Аникстера. (522)
Полярные трагедии. Очерки Ал. Смирнова:
Тайна двух норвежцев. (692)
Смерть боцмана Бегичева. (787)
Приключения трех натуралистов. Серия юмористичесских рассказов В. Воронина:
Страшный зверь. (705)
О солнечнике пятнобоком. (708)
Сазан с озера Нурие-Гель. Рассказ Валентина Воронина. (232)
Сердце львицы. Рассказ А. Демезона. (354)
Уточка. Рассказ-быль П. Казанского. (65)
Чернопегая в румянах. Юмористический рассказ B. Ветова из серии «Необычайные приключения Боченкина и Хвоща». (289)
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЕ И БИОГРАФИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ.
Бобровые истории. Очерки из жизни бобров:
Бобр Микэ. Г.-И. (387)
В бобровой стране. В. А. Сытина. (390)
Герберт Джордж Уэллс. (Его биография и творчество. Очерк). (875)
Из дневника охотника. Очерк Алексея Толстого. (937)
На журавлином острове. Рассказ Бенгта Берга. (130)
Лебединое озеро. Очерк Бенгта Берга. (923)
Следопыт мира животных. Биографический рассказ Н. Н. Плавильщикова. (К столетию со дня рождения А. Брэма). (83)
Слоновий дедушка. Рассказ-быль А. Романовского. (917)
Эпопея «Страны Советов». Очерк Ник. Шпанова. (954)
Три месяца в зоопарке. Очерк А. Зенкевича. (765)
Черепашьи истории. Рассказы из жизни черепах и об охоте на них:
Охота на черепах на Амозонке. Рассказ З. Заневицкого. (301)
Черепахи на Цейлоне. Рассказ Джона Гегенбека. (304)
КАК ЭТО БЫЛО.
В плену у овчарки. Рассказ-быль Г. Месинева. (141)
Пятнадцать лет назад. Воспоминания о войне с Германией:
Победа. Эпизод из империалистической войны Р. Доржелеса. (629)
Рассказы врача. Из книги Ж. Дюамеля. (634)
Самый старый человек на свете. Очерк Анри Барбюса. (308)
Со щитом за горными курочками. Рассказ-быль Керима. (61)
Тайна Кузькина острова. Рассказ-быль А. Линевского. (866)
Хозяин Мустага. Рассказ-быль Леонида Потапова. (139)
ОТДЕЛЫ:
Из великой книги природы (151, 239, 313, 477, 558, 713, 877 и 954)
Обо всем и отовсюду (155,397,476 и 554)
Следопыт среди книг (639,715 и 799)
Игра «Следопыт» (718)
Шахматы (159, 238, 319, 399, 479, 559 и 719)
ГАЛЛЕРЕЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ НАРОДОВ МИРА
Австралийцы (75)
Бушмены (395)
Кафры (317)
Лесные индейцы (716)
Масаи (475)
Негры Западной Африки (638)
Папуасы и меланезийцы (157)
Патагонцы (798)
Полинезийцы (236)
С.-американские индейцы (879)
Туареги (553)
Эскимосы (957)
Фото-иллюстрации (87, 119, 231, 555, 556 и 557)
Отчеты, сообщения, мелкие заметки редакции и др. (36, 64, 78, 112, 138, 148, 150, 237, 240, 318, 344, 353, 396, 480, 670, 717, 797, 800, 958 и 959)
Объявления.
Почта «Следопыта»
В отделе «Почта „Следопыта“» ответы даются исключительно по вопросам, связанным с присылаемым литературным материалом. Рукописи должны быть написаны на пишущей машинке или в крайнем случае очень четко от руки, подписаны автором, с указанием точного его адреса, фамилии и псевдонима. К переводному произведению должен быть приложен иностранный оригинал. На возврат рукописей надо прилагать почтовые марки. Рукописи сохраняются три месяца, потом уничтожаются. Сообщать каждому автору оценку его произведения редакция не в состоянии. Названия непринятых рукописей сообщаются в конце настоящего отдела.
Н. X. (Бийск). Интересная сама по себе экскурсия трех туристов по реке Бие (на Алтае), жизнь в тайге, подъем на дикие горные вершины, охота на медведя и т. д. — все это изложено так многословно, с таким ненужным нагромождением мелких подробностей, что заметки не могут быть использованы. Займитесь серьезной их проработкой.
М. Ц. (Москва). Такого же рода недостатком страдают ваши записки, озаглавленные «Даргках-Алагир», об экскурсии по Военно-Осетинской дороге. Вы не умеете находить сжатые яркие образы, — описание растянуто и разменялось на мелочи.
О. С. (Ташкент). Ваши заметки об экскурсии на Тянь-Шань «Там, где спят седые великаны» хотя передают несколько интересных моментов, — например перебежка орлят, встреча с кабанами, — но все это смазано крайне высокопарным описанием «красот природы». Например: «Все радостно приветствует нарождающийся день»; или: «Ущелья погружены в сладкую предутреннюю дрему» и т. п. Попробуйте писать проще, без напыщенности.
Г. Ф. (Андижан). В присланных вами «Заметках бойца» имеются красочные моменты из жизни красноармейца в Средней Азии, — например, приручение дикого коня, — но все это сырой материал, требующий большой переработки. Займитесь этим.
К. С. (Свободный). «Я желал создать не столько художественный рассказ, сколько популярно изложенный очерк по начальной химии». Это и заметно по выполнению вашего «Химического приговора», который оказался ни тем ни другим.
П. Ш. (Харьков). Вам приходилось охотиться в Центральной Африке на самых редких зверей — гиппопотамов, львов, антилоп и т. д., но ваши «Воспоминания охотника» написаны весьма поверхностно, непонятно, почему вы записали только беглые незначительные моменты анекдотического характера. Чтобы сделать «Воспоминания» заслуживающими напечатания, следует их углубить, взяв за образец, например, записки об охоте в Африке Рузвельта или других авторов, давших обстоятельные наблюдения за дикими зверями.
Г. О. (Воронеж). Интересная тема — встреча с ушедшим из заповедника речным бобром, которого вы непростительно застрелили, — изложена в неряшливо грубой форме. Если бы вы описали самый заповедник и жизнь его своеобразных обитателей, вы бы этим дали ценный материал из жизни редких у нас и вымирающих животных.
Кл. П. «Серия юмористических рассказов из китайской жизни» заставляет напомнить простую истину, что писать о стране можно только изучив ее. Прочтите какие-либо сочинения о Китае, например Коростовца, Рода, Макгавана, и сравните настоящих китайцев с придуманными вами.
А. Б. (Кисловодск). Вышеуказанное замечание относится и к вашему рассказу. Не изучив местности, быта, условий жизни, вы описываете «ужасные» переживания героя, плывущего в челноке по реке в Бразилии(?) и умирающего от желтой лихорадки.
Н. Л. (Лыкошино). Рассказы из американской жизни вы повидимому написали под впечатлением кино: ваши герои списаны с Пата и Паташона. Конечно нелегко писать об Америке, находясь в Лыкошине.
И. В. (Сватово). Описывая Индию, вы уверяете, что вождем восставших рабочих-текстильщиков является «богатый раджа, полулежащий на софе, с трубкой и с обычным у индусов неподвижным выражением лица», владелец диковинного дворца, автомобилей и т. п. Но что его могло связать с рабочим движением? Это для нас осталось такой же загадкой, как и появление в подвале дворца удава, «поглотившего» английского полковника.
М. С. (Казань). Увлекшись старыми рассказами Стивенсона о пиратах, вы создаете «Тайну погибшей шхуны», но когда дело дошло до мертвеца с лунной жемчужиной на груди, привязанного к мачте покинутой шхуны, то ваша фантазия почему-то иссякла, и вы предлагаете редакции самой закончить рассказ. Проблема, конечно, трудная. На судне оказался один человек, да и тот мертвый. Редакция раскрыть тайну погибшей шхуны при всем желании не может.
Н. М. (Сорока). Ваш рассказ «Прогулка», несмотря на большие шероховатости стиля, привлекает свежестью переживаний моряков, выехавших на лодке и захваченных бурей на пустынном острове Ледовитого моря. Живя среди поморов, вы можете написать интересные очерки из их быта. Присылайте еще.
И. М. (Кременчуг). Вы беретесь описывать «Охоту на Украине», но так как личных впечатлений у вас нет, то вы передаете чужие охотничьи рассказы. Какая же цена вашей «охоте»? Приходится сказать вам, как и другим авторам: наблюдайте сами, изучайте и пишите только о том, что вы хорошо знаете.
А. Л. (Москва). Описывая ураган исключительной силы, который вы наблюдали будто бы «за Полесьем» летом этого года, вы уверяете, что вместе с градом с неба падали «небесные медузы величиной с голову, которые дымились как ракеты». Очень сомнительны эти «медузы», о которых до сих пор не слыхала наука. Какую ошибку вы сделали, что не привезли в Москву хотя бы одну из таких «медуз»!
Ю. К. В рассказе «Кочевники» вы описываете очень интересный пример сообразительности раков, живших в пруду, которые вследствие эпидемии перекочевали по суше в другой пруд, где все выздоровели. Одно только нас смутило. Вы заметили эту перекочовку раков, увидев на дорожке свою собаку, которая «завизжала, держа в зубах что-то красное…» С каких пор вареные раки стали ползать по дорожкам? Не пригрезилось ли это вам, как и весь ваш «случай из жизни»?
ОКАЗАЛИСЬ НЕПРИЕМЛЕМЫМИ: «Тайна крови», «Масан старого Али», «На воздушном шаре», «Скупщик», «У костра», «Роковой выстрел», «Охота», «Будущее Земли и человечества», «Загадка природы», «Что нужно знать начинающему туристу», «Дикари», «Нападение», «Колбаса и окорок», «В безмолвии», «Монашье озеро», «Зверь в тайге», «Витязь лесов», «Силь», «По Кандинскому краю», «Через леса и льды», «Волки», «Каменноугольный лес», «По Африке», «Молния-спаситель», «Пит Горемыка», «Гречино место», «Одесские катакомбы», «Большое великодушие», «Нарыбачился», «Выкуп Моа», «Рукой народа», «Чудесный магнит», «Тушкан-спаситель», «Контрабандисты», «Гнездо волков», «Приключение рыболова», «Два охотника», «В глубь веков», «Последний чемпион», «Чудовищный карашкыр», «Восхождение на Кастэль», «Анапа», «Свободолюбивая река», «Город седой старины», «Псеашхо», «Как это было», «Около моста», «За фунт пороха», «Поражение Фузайли», «В джунглях», «Умны ли насекомые», «Свидетель мой», «По бурунам», «Психо-аппарат», «В глуши лесов», «Месть волчихи», «Попался», «Подпаровозный машинист», «Перелет птиц», «Вокруг света до рассвета», «Северное сияние», «Муравьиная война», «Ограбление склада Итака», «Зимней ночью», «По орбите», «Ущелье смерти», «Два парня», «Драма в камышах», «По рецепту врача», «В тайге летом», «Процесс стоячего озера», «Плен в Ак-тоше», «Сокровища Екатерины II», «В стране шейхов», «Легенда», «Убийца белая мышь», «Из жизни ласточек», «Как путешествовать по Японии», «Пятнистый зверь», «Золотоносные птицы», «Сом», «По следам Ермака», «Я был лысым», «Моментальный снимок», «Триумфы предков», «Месть Матоу», «Тулуп спас», «Работа», «Первое путешествие вокруг света», «Монголка», «Дикая любовь», «Сын гор», «Круг смерти», «Дельфин», и «Лесной дед».
Примечания
1
Тав-син — слон.
(обратно)2
Мохок — мрак.
(обратно)3
Секвойи — гигантские сосны Северной Америки.
(обратно)4
Форт Селькирк был восстановлен в 90-х годах прошлого столетия, а во время золотой лихорадки 1897 года его прочили даже в столицу золотоносного района. Но золотой столицей сделался расположенный в центре приисковых участков молодой город Даусон-Сити.
(обратно)5
Гугеноты — так называли во Франции протестантов.
(обратно)6
«Царская водка» — смесь одной части азотной кислоты с четырьмя частями соляной кислоты; растворяет почти все металлы, превращая их в хлористые соединения.
(обратно)7
Латинское название более близкого к нашей эпохи мамонта — elephas primigenius, а более древнего, о котором здесь говорится, — elephas trogontherii.
(обратно)8
Предполагают, что название «мамонт» произошло от татарского слова «мамма», что значит «земля».
(обратно)9
Ж. Кювье (1769—1832) — знаменитый естествоиспытатель, основоположник сравнительной анатомии, палеонтологии и естественной системы животных.
(обратно)10
Гурток — колхоз.
(обратно)11
Навигачет — прибор для производства навигационных вычислений.
(обратно)12
В Ленинградской губернии клеста называют «чухонским попугаем».
(обратно)13
Смолистые вещества, входящие в состав пищи, употребляемой клестами, предохраняют их мясо от процесса разложения, поэтому убитые клесты могут не загнивать по нескольку лет. Известны такие мумии клестов, насчитывающие десятки лет. Конечно, для этого необходимо, чтобы клесты питалась исключительно семенами хвойных деревьев.
(обратно)14
Джон Джоли — «История поверхности земли». Перев. с англ. Давиташвилли под редакцией акад. А. Д. Архангельского. С иллюстрациями и картой. («Совр. пробл. естеств.», кн. 43). Гиз. 1929.190 стр. Цена 2 руб.
(обратно)




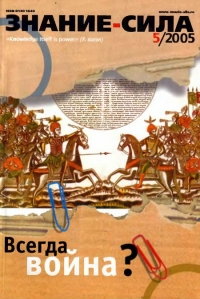


Комментарии к книге «Всемирный следопыт, 1929 № 12», Алексей Николаевич Толстой
Всего 0 комментариев