Вижу сквозь землю
Хребет поднимался к небу уступами, как древняя пирамида инков. А мы искали сокровища — золото и серебро, скрытые в этой пирамиде сотни миллионов лет назад.
Вертолет взлетал с маленького пустынного аэродрома и уходил на юг, в горы. Желто-бурые каменистые холмы сменялись зелеными предгорьями, выше начинались разноцветные альпийские луга с темными пятнами приземистых сосен, а на пирамидальных вершинах ослепительно белел снег.
Вертолет был не простой, а геофизический, иначе говоря, он был битком набит электронной аппаратурой, а на его хвосте висел похожий на торпеду датчик магнитометра. Воздушный разведчик должен был «залетать» выделенную для поисков площадь, пересечь ее многочисленными маршрутами. Понемногу на карте в переплетении линий проступала сложная мозаичная картина, позволявшая понять, как рассеяны радиоактивные элементы в горных породах и как ведет себя магнитное поле.
Надо знать, что радиоактивные элементы находятся буквально всюду. В любой горной породе имеются атомы калия, тория и урана — «трех китов», на которых держится радиоактивность. Y-излучение каждого из них обладает определенной энергией, а поэтому радиоэлементы как бы светятся в породе разными цветами. Только свет этот невидим для человеческого глаза.
Специальная аппаратура, установленная на борту вертолета, не только «видела» этот свет, но и различала «цвет» излучения. Вертолет представлял собой как бы летающую химическую лабораторию, анализирующую горные породы целого района на уран, торий, калий.
У читателя может возникнуть вопрос: «А где же золото?» Действительно, к золоту аппаратура оставалась совершенно равнодушной. Зато на карте можно было выделить участки с особыми, свойственными золоторудным месторождениям соотношениями радиоактивных элементов.
Отработка метода проводилась нами раньше на коренных месторождениях северо-востока СССР. Мы знали, что рудное золото нередко приурочено именно к тем участкам земной коры, где накапливается калий и выносится торий. Ведь отложение золота происходит в глубинах земли из очень горячих растворов, и эти растворы, просачиваясь сквозь трещины горных пород, откладывают здесь золото, серебро, калиевые минералы и в то же время растворяют и уносят торий. Аппаратура четко отмечала такие перспективные участки. Но подтвердится ли эта закономерность здесь, в Средней Азии?
Автор аппаратуры, кандидат технических наук Э. Я. Островский, не пропускал ни одного полета. Аэросъемка позволила быстро установить содержание радиоэлементов в горных породах на площади поиска, и теперь требовалось на этом фоне найти участки с аномальным, необычным, «поведением» калия и тория.
Поиск. Вертолет идет на бреющем полете, не выше 50—70 метров от поверхности земли. Подняться над скалами выше нельзя, слой воздуха экранирует, гасит излучение. Тяжелая 7-тонная машина ныряет в провалы, как бы повторяя рельеф местности.
Наш пилот Слава Морокин очень серьезно следит за нарастающей громадой горного склона. И ветеран авиации штурман Павел Григорьевич Леонидов тоже не сводит глаз с черной стены. Немного, еще немного... Но вот появляется макушка вершины, значит, все нормально. И вертолет падает в следующий провал...
Все-таки в предгорьях съемка была сравнительно легкой. А потом маршруты пошли по настоящим горам. Летать здесь «по линейке» невозможно.
И вот началась работа, о которой трудно забыть: полеты по горизонталям. Павел Григорьевич рисовал на карте жирные горизонтали, виляющие по крутым склонам. А Слава, как слаломист, повторял эти линии в воздухе, бросая вертолет в узкие ущелья, закладывая головокружительные — с борта на борт — виражи... В иллюминаторах мелькали то синее небо и белые облака, то — совсем рядом — мрачные зубчатые гребни. Очень, очень близко и до земли, и до неба...
В кабине сумрачно. Самописцы чертят графики содержания тория, урана и калия. Мерно стучит перфоратор — это кодируются данные для ввода информации в вычислительную машину. Только ЭВМ может правильно обработать десятки тысяч измерений, полученных в воздухе. Идет обычная работа, и впереди еще три часа полета...
Наконец получены первые результаты. Найдены какие-то зоны с высоким содержанием калия, необходимо наземное изучение перспективных участков. И мы уезжаем в горы.
Земля с земли выглядит совсем иначе, чем с воздуха. Вертолет за 10 минут пересекает весь участок из конца в конец, а пешком его не успеешь пройти и за день.
Май месяц, лето началось вроде бы недавно, но ртутный столбик градусника уже добирается до 35 градусов в тени. В глухих узких саях-оврагах неподвижно стоит раскаленный воздух.
Точь-в-точь как в финской бане. А под камнями лежат разморенные жарой змеи.
...Маршруты, маршруты, одна аномалия, вторая, третья. Да, все правильно. Сквозь трещины в этих горных породах когда-то текли нагретые, как в котле высокого давления, глубинные растворы. Очень давно все это происходило, но следы воздействия растворов сохранились до сих пор. Розовые граниты изменяются, светлеют и переходят, наконец, в белую, похожую на плотный мел породу, внешне ничего общего не имеющую с гранитами. Но рудные минералы здесь не отложились. Почему? Неизвестно. И растворы текли, и калий накопился, а золота нет. Один ручей пройден от истоков до устья, второй, третий... Пусто!
Наконец остался большой ручей на краю участка. Иду вверх по ручью, осматривая валуны. Попался какой-то бурый окатанный камень... Железная руда? Надо иметь в виду. Нет, брать его не надо. И снова попадается бурый окатыш. Какой-то он необычный, похож на шлак. Может быть, строители или дорожники выбросили здесь груду мусора? Нет, не надо брать его. Идти далеко, солнце палит...
Как хорошо лечь в ручей и потом почувствовать ветер с далеких вершин! Проходит час, другой, ущелье сужается, а ручей, уходящий в камни и пересыхающий в устье, здесь зашумел, стал глубже, шире, холоднее. Набираем высоту. И опять — бурый обломок. Это шлак, определенно шлак. Пузыристый, с натеками, тяжелый. Рудный... А что, если это шлак древних плавильных печей?
Какие только расы, народности и племена не проходили через эти районы! Время шло, исчезали государства, менялись правители, а следы человеческого труда остались навсегда.
С древнейших времен работали рудокопы в горах Средней Азии. Они добывали здесь золото, серебро, медь, железо, сурьму, бирюзу... Неведомые люди, жившие тысячу лет назад, по неизвестным нам признакам находили даже «слепые», то есть не выходящие на поверхность рудные тела. И безошибочно закладывали горные выработки, ведущие к наиболее богатым рудным жилам. Может быть, шлак станет путеводной нитью и в этом глухом, безлюдном ущелье?
Я наклонился и положил увесистую глыбу в рюкзак.
А потом мы все шли и шли, и солнце уже садилось, и ноги не шевелились, и голова отупела от усталости. Но обломки шлака встречались все чаще и чаще, целые глыбы его лежали на отбеленной солнцем гальке, и до истоков ручья оставалось не так уж много...
И вот наконец в береговом обрыве я увидел то, что искал: бурые железистые пласты древнего шлака лежали глубоко под почвой, шумный ручей размывал рыхлый грунт и уносил бугристые пузыристые обломки вниз по течению.
Теперь вверх по склону, к водоразделу, сквозь кусты и заросли арчи и можжевельника. Ну конечно, здесь лежат глыбы измененных пород, а вот долгожданный жильный кварц. Молочно-белый, с потеками ржавчины, и в нем чернеют пятнышки каких-то минералов...
Я вернулся на базу. Островский уже ждал меня. Он был очень возбужден.
— Мы нашли в горах отличную аномалию! Она должна быть около большого развилка.
Ранним утром мы вновь вылетели в горы. Слава мастерски посадил вертолет на крохотный пятачок у вершины горы. С первого же взгляда нам стало ясно: шлаки и рудные зоны расположились в том же месте, что и аэроаномалии.
Сейчас уже получены результаты анализа проб. Кварцевые жилы содержат серебро, золото... И немало золота!
Л. Портнов, кандидат геолого-минералогических наук
Сполохи над Кольским
Кольская атомная — ударная комсомольская стройка. Среди сопок уже вырос современный город, четко вырисовывается контур самой электростанции. Скоро первый ток ее вольется в систему «Колэнерго».
Так уж мы устроены, что, возвращаясь в места, где однажды побывали, ищем запомнившиеся детали и подробности такими, какими видели их несколько лет назад. Отлично понимая, что через несколько лет все, естественно, должно измениться, невольно ищешь взглядом старую сосну среди ельника или деревянный сруб, сквозь щели которого наблюдал взрыв, или перевернутую лодку с вырезанным якорем на борту. Но когда наконец понимаешь, что маленькая в те дни строительная площадка стала теперь городом, начинаешь сомневаться, что встретишь среди тысяч людей тех, кто начинал эту стройку...
Выйдя полярной ночью на той же станции, что и несколько лет назад, и увидев за зданием вокзала сквозь лесок огни города, я решил, что сошел не на той станции, и, посмотрев на уходящий поезд, поплелся вслед за приезжими по утоптанной снежной тропинке в сторону больших огней. Я был совершенно уверен, что проводница высадила меня не там, и сразу вспомнил, как, пробегая в соседний вагон, она небрежно обронила: «Следующая ваша», а в конце концов даже забыла вернуть мне билет. Миновав редкий ельник, я сразу же оказался в квартале новых домов, на ярко освещенной шумной площади, В центре ее, на катке, галдели ребята, и со всех сторон неслась музыка. Все смешалось: музыка катка, песня Муслима Магомаева из дальнего динамика. Стоило сделать несколько шагов в сторону, как откуда-то с верхних этажей уже доносились отчаянные девичьи голоса: «Может, ты мечта моя, может, ты любовь моя...» В свой первый приезд я долго ехал на машине, чтобы добраться до поселка строителей, а теперь от станции прошел всего каких-нибудь пять-семь минут. Неожиданно на одном из подъездов прочитал успокоившую меня табличку с надписью: «Гостиница Кольской АЭС». Значит, все правильно? Пройдя еще несколько шагов, увидел надпись: «Нивский проспект» и понял окончательно, что нахожусь в том самом городе, где шесть лет назад возле нескольких фундаментов стояли дощечки с названиями будущих улиц и на одной из них было написано «Нивский проспект». Тогда в этом было что-то трогательное и романтическое. На «пятачок» строительства нового города люди приезжали из старого поселка, грелись у костров. Костры были повсюду: на обочинах дорог, в лесу, на стройплощадках, внутри стен будущих домов.
В гостинице немолодая женщина, дежурная, спросила у меня направление. Я ответил, что направления нет, что мне нужно пока переночевать, а направление будет завтра. Женщина, не переставая вязать, помолчала, разглядывая меня.
— Вы не знаете кого-нибудь из тех, кто работает здесь с самого начала стройки? — спросил я.
Не знаю, за кого она меня приняла, но ответила:
— Я здесь всего два месяца. — Замолчала, не торопясь устроить меня на ночлег, и вдруг подняла голову от вязания и спросила: — Хотите чаю с дороги? — Она неторопливо вымыла кружку, налила чаю. — Хочу с вами посоветоваться, — неожиданно сказала женщина и, достав фотографию, протянула мне. На фотографии она выглядела старше своих лет — в черном платке, с ребенком на руках, а рядом еще пятеро: две девочки и три парня, один из которых в форме пограничника. Дождавшись, когда я рассмотрю фотографию и начну пить чай, заговорила: — Старший мой, Валерий, ему двадцать три года, газосварщиком работает на главном корпусе станции; средний скоро должен демобилизоваться, а младший учится на шофера в Апатитах. Жили мы под Донбассом, но, когда Валерка уехал и написал нам, мы решили всей семьей переехать на Север. Муж, хоть и болел тяжело, а настоял, чтобы вещи контейнером отправить. Я, говорил, вылечусь и приеду. Но не суждено, видно, было, помер. Мы уж фотографировались после смерти его. Я вот думаю: соберу всех ребят вокруг себя, деньги получают немалые, избалуются, присмотр за ними еще нужен. Приехала, но еще не привыкла, сомневаюсь... Квартиру нам должны дать, а среднего еще нет, в армии. Жить-то вместе собираемся, а вдруг на него не дадут жилье? Может, написать ему, чтобы в армии бумажку взял, что, мол, собираюсь сюда? Вот я и думаю: не зря ли с места сорвалась?
— Не зря, — ответил я.
— Я уже говорила с Огурцовым, но фотографию не показывала. Может, показать?
— Обязательно покажите, — посоветовал я женщине и улыбнулся, вспоминая человека по фамилии Огурцов... А вслед за ним и взрывника Михайлова, и Плохих, и паренька в солдатской шапке — Николая.
Дежурная отвела меня в одну из комнат, окинула ее взглядом все ли в порядке, пожелала спокойной ночи и, уходя, добавила:
— А насчет направления не бес покойтесь. Думаю, обойдется.
В памяти моей Огурцов остался как человек, на долю которого выпали трудности довольно своеобразные.
По всем хозяйственным вопросам шли к нему. Кому нужно жилье, кому что-то другое... С утра у него выстраивалась очередь. Стройка только начиналась, были кое-какие перебои с доставкой, не успевали снабженцы — и на долю Огурцова выпало, пожалуй, самое трудное: отказывать людям. В эти минуты он, казалось, испытывал физическую боль и поэтому болезненно отворачивал голову и, не глядя на человека, четко и зло выговаривал: «Не-ту у ме-ня э-то-го!» Но были и у него радостные минуты, когда человек приходил с просьбой о выдаче валенок и полушубка. Он улыбался этому человеку, как близкому другу, все понимающему, и с удовольствием выписывал ему валенки и полушубок. Их тогда было в избытке, но самое главное — не надо было отвечать «нет». Мне он готов был выдать валенки в вечное пользование как какой-то символ на память о стройке...
Утром в кабинете начальника строительства Андрушечко я застал несколько человек и среди них Огурцова, Михайлова и Молдаванцева
Все они сидели вдоль стены и ждали, когда Андрушечко окончит междугородный разговор. Видимо, начальник строительства говорил уже давно, на лбу выступила испарина, а он громко, с хрипотцой настаивал на сроках, говорил о нержавейке, трубах, алюминии, называл какие-то немыслимые цифры, а иногда, если разговор касался кого-то из присутствующих, разворачивался в его сторону и кивал. Я подсел к Огурцову.
— Наверное, гостиницу будешь просить? — спросил Огурцов, но, услышав, что я устроен, посмотрел на меня и рассмеялся.
Кажется, за эти годы Виктор Молдаванцев не изменился. Тогда он казался человеком случайным на стройке, командировочным. Несмотря на мороз, ходил в городской одежде, в туфлях, и всем казалось, что он долго не выдержит, уедет. А если останется, то придется-таки ему надеть тулуп и валенки. Но Виктор и сейчас был все тем же ленинградцем. Я вспоминаю, как однажды ночью он пригласил меня прогуляться, посмотреть сполохи над старым поселком и среди еще необжитой тундры читал стихи Луговского:
Пощади мое сердце
И волю мою
Укрепи,
Потому что
Мне снятся костры...
Пока Андрушечко говорил по телефону, Виктор написал мне свой адрес, номер телефона и сказал:
— Заходи, посмотришь дочку...
Андрушечко окончил разговор и обвел всех присутствующих усталым взглядом. Я сказал, что хотел бы побывать на главном корпусе атомной станции.
— Там, где был бункер, когда взрывали? — хитро улыбнулся он и добавил: — «Мастер взрывников» как раз собирается туда. Подбросит.
Мы едем с Михайловым к главному корпусу, и я вспоминаю, как готовил он к взрыву участок, на котором должно было вырасти главное здание станции. Со стороны озера тогда прокладывали подводящий канал. К моменту взрыва бульдозеры и экскаваторы, стоящие возле озера, отвели к самому берегу и развернули спиной к взрыву. С дорог, ведущих на стройплощадку бетонного завода, угнали всю технику. Закончив свое дело, стоят в стороне три бульдозера и бурмашины. И только паренек в солдатской шапке осматривает площадку, нервничает и гонит ребят в укрытие, кричит и машет рукой кому-то на дороге...
— Помнишь Колю? Солдата? — неожиданно спросил Анатолий Григорьевич, словно думал о том же, — Сын у него...
Впереди среди лесистых сопок показалась полосатая труба атомной станции. Справа уходит вдаль и сливается с морозным небом замерзшее белое озеро. Мы с Михайловым стоим на обрыве скалы. Перед нами внизу главный корпус. Он занимает низину размером с футбольное поле, а ведь это лишь машинный зал, реакторная и аппаратная — сооружение первой очереди атомной станции, Это строение соединяется закрытым мостиком со спецкорпусом. Сквозь арматуру, глубоко в толще переборок, видны белые емкости...
— Скала, которую мы взрывали, была там, где сейчас реакторная, — говорит Михайлов, — а бункер, в котором укрывались от взрыва, вон там, где спецкорпус... А помнишь, как ты тогда замерз?
Я отлично помнил, как после всех приготовлений мы укрылись в блиндаже со смотровыми щелями, в небо взлетела красная ракета, и Михайлов, посмотрев на часы, сказал: «Приготовились». Он покрутил рычаг — вспыхнули красные сигнальные лампы — и неожиданно предложил мне произвести взрыв, указав на черную кнопку. «Нажимай», — сказал он. Я нажал кнопку — ничего. Тишина. Пальцы рук так замерзли, что не хватило сил. Время шло, и Михайлов нажал сам. Раздался мощный толчок, и было такое ощущение, будто смещаются подземные пласты и ты стоишь в самом центре оглушительного взрыва. Я бросился к щели в стене. «Не сюда! В угол!» — закричал Николай. Отскочив в угол и приникнув к щели, я увидел пламя во всю ширину смотровой щели высотой в несколько метров. И вдруг сверху на блиндаж обрушился град камней, бревенчатый потолок задрожал и треснул от удара каменной глыбы. Черный сноп породы, поднятый взрывом, стал опадать и загасил пламя. Но вместо него вверх устремился поток дыма и пепла...
И вот сейчас, стоя с Михайловым на обрыве скалы, я отчетливо вспоминаю тот взрыв, и меня не отпускает немножко фантастическое ощущение.
Я не видел всего процесса стройки и поэтому, как бы заново пережив момент взрыва и смещения земных пластов, вижу, как из-под земли поднялось гигантское сооружение из металлических конструкций...
— Тогда,— говорит Михайлов,— мы подняли на воздух всего шесть тысяч кубов породы, а самые крупные взрывы были после... — Он обвел рукой пространство, охватывающее всю стройку, — Отсюда мы выбрали всего около семисот тысяч кубов породы. — И, указав на возвышающуюся часть строения главного корпуса, заключил: — Реактор уходит на несколько метров в глубину от нулевой отметки стройплощадки... Пойдем внутрь корпуса?..
Когда смотришь на главный корпус изнутри, подетально, понимаешь, что основная работа сейчас здесь. Все, что было раньше, — дороги, костры, взрывы, строительство нового города, железнодорожных путей — было лишь прелюдией основного. Человек, сойдя с поезда, удивляется, что не видит строительства, что стройки вроде бы и нет... Она есть, но ушла от жилых кварталов, с дорог и сконцентрировалась на главном корпусе атомной электростанции. Здесь, внутри корпуса, теряешься в лабиринтах трапов и ярусов — столько смонтировано оборудования. Металлоконструкции, парогенераторы, турбогенераторы — и все это в сложном переплетении трубопроводов... Побывав в этих лабиринтах, выносишь ощущение невероятной сложности сооружения. Когда позже я встретился еще с одним человеком — Александром Плохих (сейчас он начальник управления «Спецатомэнергомонтаж»), он сказал, что разобраться во всем этом нетрудно — надо просто пройти школу у прораба Колодяжного: «Он приехал к нам с Нововоронежской атомной станции. Поскольку он знает технологический процесс, то иногда устраивает для ребят, как мы в шутку называем, «ликбез». Просто однажды ребята попросили его показать им станцию, а то, говорят, строим, строим и сами не знаем что... Так что, если поживешь у нас пару месяцев, пройдешь «ликбез» — в общих чертах станет все понятно. Обычная стройка...» Это он теперь так говорит: «обычная стройка». А я хорошо помню, как этот человек с выбивающимися из-под шапки курчавыми волосами, с большими грустными глазами носился с чертежами домов, когда только закладывали город, и все придумывал: как сделать, чтобы дома вышли не скучными и кирпичи были не одного цвета, и чтобы в школе были большие окна, и чтобы лес сохранить. Многим в то время было не до этого. Поджимали сроки, надо было строить, строить... а он не унимался: «Ведь сами жить будем...» И все же сейчас я частенько слышу, что Александр Дмитриевич Плохих вложил душу в этот, город.
Этот город моложе многих из тех, кто живет в нем. У города словно бы и нет прошлого, только какие-то штрихи, понятные и знакомые тем, кто строил его. Многие, кто здесь начинал, все так же ездят из города на промплощадку, где теперь атомная станция. Она как бы дала начало городу и росла вместе с ним, чтобы потом, спустя несколько лет, ее энергия разбежалась по разным уголкам этого северного края, зажигая огни новых строек... Подросло поколение, которое шумит и хохочет в автобусах и на улицах. Один из таких хохотунов — паренек лет пяти — привлек мое внимание, и вдруг в сидящем рядом с ним отце я узнал Николая, того самого, в солдатской шапке, о котором напомнил Михайлов. Мы вместе вышли, пошли по улице, хотели зайти в кафе, но оно оказалось закрытым. Я спросил почему, а Николай улыбнулся.
— Переходят на новую форму обслуживания. Теперь у нас в кафе будут официантки. Я их видел, молоденькие девушки, все в белых фартучках, в униформе... Да, ты обязательно зайди ко мне, — сказал Николай и тут же написал свой адрес.
Всего несколько лет назад мы встречались с этими людьми у костров, на дорогах, а теперь каждый называет свою улицу, свой дом…
Надир Сафиев, наш спец. корр.
Кольский полуостров, январь 1973 г.
Шпреевальд
Ганс Гюрнт, глава шпреевальдских гондольеров, долго и придирчиво выбирал шест и теперь стоял у воды, поджидая еще кого-то, поглядывал время от времени назад, на пустынную улочку, отходящую от пристани.
Солнце опускалось над островерхими, такими немецкими, кровлями Люббенау, и Ганс все нетерпеливее постукивал шестом о каменные плиты. Щербатые края плит в зеленой глубине воды заросли прядями легких шелковистых водорослей.
Наконец Гансу надоело ждать.
— Ладно, — сказал он. — Поехали. Я вас лучше с русалками познакомлю. — И он передал мне шест, а сам начал подтягивать за рыжую цепь ближайшую гондолу.
Шест у него был хорош. Длинное — метра четыре — древко из прямослойного ясеня, в меру упругое, венчала небольшая лопасть. А на самом конце торчала стальная вилка, двузубая и острая. Шест-весло, темное, отполированное ладонями до лакового блеска, на вид тяжелое, точно литое, оказалось легким и прикладистым. Наверное, ходить на лодках с ним одно удовольствие. И я сказал об этом Гюрнту.
Ганс ухмыльнулся,
хмыкнул и прыгнул в гондолу. Ловко так прыгнул — лодка и не качнулась, лишь два-три желтых листа слетели в воду.
И лодки с резными белыми скамейками, и причал, и горбатый мостик невдалеке — все густо засыпано опавшими листьями. Осень. Оттого тихи и малолюдны улицы средневекового города, пусты и каналы — бесчисленные рукава рек Шпрее и Мальксе.
Люббенау отдыхал, упиваясь покоем после схлынувшего летнего нашествия туристов со всей ГДР. Лишь изредка показывалась на улицах повозка угольщиков, которую тянули ленивые битюги. Резкий цокот подков по мощеным мостовым сухо отскакивал Шарлотту Штиллер, когда часа три-четыре кружили по водным дорогам Шпреевальда. А сейчас во все глаза глядели на ее костюм — фантастическое, сказочное, элегантное хитросплетение жестких, как металл, накрахмаленных кружев, платков, лент, бантов, передников и прочее, и прочее...
Впрочем, нет особой нужды описывать всю от стен желтых, розовых, белых домиков, таял вдали.
Наступало время, когда три сотни шпреевальдских гондольеров начинали подыскивать на зиму иную работу; и наши берлинские друзья Лютц и Рози в один голос говорили, что ехать в эту пору в Шпреевальд — пустой номер, что лодочников теперь уж не найти, а ходить пешком по берегам каналов — какой интерес?
Но мы все же отправились... И первый, кого мы увидели на окраине Люббенау, был трубочист. Он стоял, привалившись к стене старой мельницы, сложенной из дикого камня и увитой плющом по самый конек. Стоял без дела, блаженно прищурившись, подставив чумазое лицо лучам нежаркого уже солнца.
Рози обрадовалась и сказала: теперь все в порядке! Раз уж попался трубочист — все будет в порядке! И через полчаса мы нашли Гюрнта...
Человек семь вместе с нами стояли на причале и ждали, когда Ганс кончит возиться в гондоле. Наконец он разогнулся, смахнув со скамеек последние ворохи листьев, приглашающе махнул рукой, но вдруг прислушался. Кто-то, невидимый пока, постукивая каблучками, приближался к пристани.
Лукавая физиономия лодочника преобразилась, стала нарочито возмущенной И когда из-за угла показалась женская фигура, Ганс неожиданно громоподобно гаркнул — эхо покатилось под мостами:
— Шарлотта! Где же ты пропадала? Мы уже вернулись! — Несомненно, он был доволен, что она все-таки подоспела.
Это уже потом мы как следует разглядели саму эту красоту, потому что есть фотографии. Лучше один раз увидеть...
Во всяком случае, Ганс заметно повеселел. Шарлотта пришла, солнце стояло еще достаточно высоко, и можно было трогаться в путь. Мы свободно разместились в гондоле, Гюрнт встал на корме в лихо заломленной тирольской шляпе. Он вогнал шест в дно, бицепсы под тонким сукном пиджака налились тугими мячами. Но гондольер наш по-прежнему беспечно улыбался, потому что это была его профессия — толкать гондолу и улыбаться. И он сказал: «Попрошу закрыть глаза — скорость сейчас увеличится чрезвычайно». Наша гондола тихо скользнула под первый мост...
Неизвестно, почему шпреевальдские лодки именуют гондолами. Скорее они походят на старинные челны-долбленки, плоскодонные и тупоносые, что еще можно встретить на наших глухих речках и озерах; на этих челнах так удобно, срезая путь, проскальзывать над заливными травянистыми мысами, через заросли стрелолиста, кувшинок и куги.
Возможно, сходство не случайно, потому что окрест, от Оберлаузицких гор и до Шпреевальда, разбросаны селения сорбов-лужичан — славянской народности, живущей в ГДР в области Лаузиц.
Так или иначе, но лодки, что покойно стояли у причала Люббенау, да и наша тоже, были вылитыми ,челнами, разве что побольше размером. Конечно, они уже не долбленые — где же теперь отыскать подходящие лесины. Борта и днища набраны из досок, проконопачены и густо просмолены.
А вскоре мы увидали и небольшую верфь, прямо тут же, на берегу канала. Несколько мужчин мастерили шпреевальдские лодки. Начатые челны стояли на разлапистых козлах, а почти готовые — на земле, у самой воды, готовясь отправиться в первое плавание. В воздухе висел вкусный густой запах горячей смолы, пеньки и пиленого дерева.
Мы вплыли в собственно Шпреевальд — Лес Шпрее, или, как его еще называют, Волшебный лес. Дебри, но не лесные — речные — протоки, рукава, старицы, ручьи, каналы сплетались, окружая нас.
С полчаса Ганс уверенно гнал лодку, гнал молча, давая возможность пассажирам в тишине насладиться созерцанием окружающих пейзажей. Но вечно молчать он не мог. Просто не в его характере было отмалчиваться, да и устав не позволял.
Устав товарищества шпреевальдских гондольеров был утвержден в 1890 году. И среди многочисленных пунктов там было записано, что член товарищества должен как минимум: а) уметь плавать и б) обладать чувством юмора. Слава богу, нам не пришлось убедиться, насколько соответствует Ганс первому условию...
Гюрнт начал с информации, и одно за другим постепенно мы узнали, что:
— Шпреевальд — заповедник, любимое место отдыха населения Берлина и его окрестностей. Но не только берлинцев — едут сюда со всей республики, да и из-за границы тоже. Прошлым летом, к примеру, побывало восемьсот тысяч туристов. А в июле 1973 года ждем пятнадцать тысяч гостей — участников X Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Шпреевальд делится на Нижний и Верхний. И наиболее известен Верхний, который, как видите, ничем не уступает Венеции. Площадь чудо-земель — около двухсот квадратных километров, а протяженность водных дорог, по которым идут почти все перевозки и переезды, — 540 километров, так что за сегодня мы, к сожалению, все не объедем...
А вот знаменитей ресторан «Веселая щука». Название получил за то, что почти всегда там подадут жареных цыплят, а изредка даже и маринованную селедку. Да, еще есть в Шпреевальде комары, один, кстати, у вас на щеке. Убивать его нельзя: во-первых, здесь заповедник, а во-вторых, на его похороны слетятся сотни приятелей...
Ганс прерывал свой монолог лишь изредка, на особенно трудных участках пути, где ему приходилось пускать в ход все свое умение, и тогда паузы заполняла Шарлотта. Она тоже по праву носила звание шпреевальдского гондольера. Наконец Гюрнт добрался до своей любимой, вероятно, темы — о проказах местных русалок. Ганс утверждал, что только он знает все омуты, где скрываются эти особы А что они вытворяют!..
Так мы и плыли, пригибая головы под рублеными мостами и мостиками, мимо низких берегов, кое-где оплетенных лозой от оползней, вдоль главной улицы Шпреевальда. Слева и справа надвигались на нас идиллические дома в зарослях тюльпанов и лилий, а то и редкие поселки, спрятавшиеся в ольховых рощах, поднятые на песчаные насыпи над топкими низкими землями.
Мы повернули назад, когда над лугами уже выплывали вечерние космы тумана. Остались позади и Леде — музей под открытым небом, и маленький кабачок, что уютно устроился под лиственницами — там мы выпили по стакану горячего грога, потому что Гюрнт твердо сказал — будет холодно. Он был прав. Промозглая стылая сырость затягивала Шпреевальд. Навстречу не торопясь двигались грузовые челны, наполненные с верхом тыквами, связками хрена, огурцами, луком. Черная лодка угольщика, почти не различимая в сумерках, чуть не налетела на нас из-за поворота. А желтый, яркий челн шпреевальдской почты долго шел рядом — почтальон оказался старым приятелем Ганса, и им было о чем поговорить.
Мы простились на причале, и Ганс сказал нам «чу-ус!», как говорят в Берлине, прощаясь со старыми друзьями. А потом прыгнул обратно в лодку и оттолкнулся веслом.
В. Арсеньев, наш спец. корр.
Идущие с черного хода
Едва ли кто-нибудь сомневается в том, что жители Вены любят искусство, особенно музыку. Однако не менее бесспорно и то, что они знают цену труду и сами умеют работать и напряженно и основательно. И все же новые обитатели, появившиеся в доме № 15 по тихой Зайлерштедте, заставили невозмутимых венцев удивленно качать головами. До поздней ночи не гас свет в окнах второго этажа, где разместилась необычная организация с длиннющим названием: «Постоянная комиссия Международного подготовительного комитета VII Всемирного фестиваля молодежи и студентов». Впрочем, если бы те же венцы могли представить, сколько разных дел и забот обрушивалось на ребят с Зайлерштедте, они перестали бы удивляться их ночным бдениям. Ведь к своему празднику готовилась молодежь всего мира: 18 тысяч юношей и девушек из ста с лишним стран должны были приехать в Вену в июле пятьдесят девятого. Но к VII Всемирному готовились и...
Молчаливые службы
В восьми милях от Вашингтона в стороне от широкого бетонного шоссе, уходящего на запад, находится лесистое место, носящее название Лэнгли. Именно здесь расположена штаб-квартира Центрального разведывательного управления США. «Это массивное восьмиэтажное здание из сборного железобетона оставляет впечатление какой-то холодности, — пишут американские журналисты Д. Уайз и Т. Росс в своей книге. «Невидимое правительство».— Окна-ниши на нижних этажах забраны густой сеткой... Кругом стоит полнейшая тишина, нарушаемая лишь гудением аппаратов для кондиционирования воздуха, стрекотом сверчков и пением птиц. Зимой не слышно и этих звуков, и глубокое безмолвие производит жуткое впечатление».
Многие тысячи профессиональных разведчиков, работающих в этом серовато-белом здании, предпочитают окружать свои операции густой завесой тайны. «Молчаливая служба» не любит, когда о ней просачивается что-либо за пределы узкого круга посвященных. И все же многое из того, что тщательно скрывается ЦРУ, рано или поздно становится достоянием гласности. Так, например, известно, что самое важное подразделение ЦРУ — оперативное управление, прозванное журналистами «департаментом грязных проделок». Оно занимается заграничным шпионажем, а также тайными подрывными операциями.
В 1957 году его возглавил Ричард Биссел, высокий человек в очках, с необыкновенным даром красноречия. Одним из первых шагов этого «бесшабашного, обожающего риск» выпускника Гротонского колледжа был приказ активизировать работу 5-го отдела по делам молодежных и студенческих организаций. Отдел ведал всей подрывной работой в молодежном движении, начиная от вербовки агентуры среди турецких или либерийских студентов и кончая организацией выступлений «недовольных» где-нибудь в Латинской Америке. Причем Биссел специально поручил своему заместителю Трейси Барнсу проследить за разработкой плана контракций в связи с намеченным на 1959 год Всемирным фестивалем в Вене.
Порой эти операции крупнейшей разведывательной службы капиталистического мира принимали совершенно неожиданный характер. Так, накануне фестиваля в помещении фонда Карнеги в Нью-Йорке стали устраиваться бесплатно лекции-семинары для молодых американцев, намеревавшихся поехать в Вену. Обычно в подобных случаях в Америке для чтения «корректирующего курса» приглашаются солидные университетские профессора. Однако на сей раз лекторами были сверстники-студенты из разных стран: ганец Кофи, индийская девушка Мохини, тунисец Мохаммед, француженка Аннет. Эти «простые парни и девчата» рассказывали много любопытного о том, с какими поразительными примерами «коммунистической клеветы» на Штаты и «американский образ жизни» сталкивались они у себя на родине. Кое-кто верил рассказам «очевидцев», пока не обнаружилось, что весь штат лекторов состоит из двух человек — агентов ЦРУ Леонарда Бебчика и журналистки Глории Стейн.
За несколько месяцев до фестиваля стало ясно, что, несмотря на все запугивания со стороны госдепартамента и прессы, прогрессивные организации молодежи Америки все же пошлют в Вену свою делегацию. Тогда-то и 5-й отдел ЦРУ решил отправить туда собственную «контрделегацию». На его деньги была срочно создана так называемая Служба независимых исследований (ИРС), директором которой стала Глория Стайн. Эта «частная студенческая организация» позднее послала в Вену группу из 180 «патриотически настроенных молодых американцев». На фестивале ее так и называли «чикагской делегацией» в противоположность «нью-йоркской», среди которой было немало честных американских юношей и девушек. Их-то и решили до отъезда обработать «активисты» из ИРС Стейн и Бебчик.
Но все это случилось позднее. А пока шеф оперативного управления ЦРУ Биссел, его заместитель Варне и сотрудники 5-го отдела занялись разработкой совместных действий с европейскими коллегами...
Штаб-квартира старейшей в мире английской разведки, известной как Сикрет интеллидженс сервис (СИС), внешне мало напоминает американское Лэнгли. Это обычный девятиэтажный дом на тихой улочке Куин-Эннс-Гейт, всего в одном квартале от зеленого очаровательного уголка Лондона — парка Сент-Джеймс. Нет ни скопления машин, ни таблички у входа в здание, а начальник разведки даже в служебных документах обозначается только индексом «С». Между тем, по словам Уайза и Росса, он «один из самых могущественных людей Англии». В невзрачном же здании из красного кирпича со старенькими белыми тюлевыми шторами на окнах обосновалось глубоко засекреченное Управление специальных политических акций (СПА). Функции этого английского двойника оперативного управления ЦРУ США включают, согласно официальной директиве СИС, «...организацию переворотов, тайных радиостанций, подрывных мероприятий, издание книг и газет, срыв международных конференций или же руководство ими, оказание влияния на выборы» и многие другие вещи.
К числу «очень многих других вещей» относится проникновение в молодежные и студенческие организации, союзы и ассоциации многих стран с тем, чтобы подчинить их негласному контролю английской разведки. Например, в совершенно секретном пятилетнем плане работы резидентур СИС в Европе, ставшем достоянием гласности, на сей счет содержатся весьма недвусмысленные указания:
«I. Студенты в Швейцарии. Предпринято следующее:
А) Резидентурой СИС в Швейцарии составлены списки всех студентов-иностранцев, которые учатся в университетах Берна, Цюриха, Лозанны и Женевы.
Б) ...В результате обсуждения решено определить степень важности для нас каждого факультета. Для работы на факультетах направляется имеющаяся агентура...
II. Работа среди студентов в Германии.
А) Созданное по инициативе резидентуры во Франкфурте общество диспутов в Гейдельберге достигло ужг некоторых результатов...
Б) Резидентура в Мюнхене надеется повторить удачный опыт франкфуртской резидентуры, используя небольшое студенческое общество диспутов в Мюнхенском университете…»
Словом, Сикрет интеллидженс сервис вполне подходила на роль второго члена антифестивального альянса. Однако впереди старейшую разведку мира ждало фиаско —
Невыполненная директива
...Любой физиономист, которому предложили бы определить профессию герра Загнера, спокойного, начинающего полнеть мужчины с добродушным лицом и мягкими манерами, сделал бы вывод, что скорее всего он преподаватель. Действительно, на различных молодежных семинарах и конференциях, устраивавшихся НАТО для «воспитания атлантического духа» у юного поколения Европы, мало кто мог сравниться с ним в умении быстро расположить к себе, войти в доверие и ненавязчиво узнать все, что его интересовало. А интересовало герра, точнее майора Загнера, весьма многое, ибо он был одним из ответственных сотрудников Совета по делам молодежи в Комитете по вопросам информации и культурных связей НАТО. Несмотря на невинное название, этот орган занимался тем же самым, что входило в функции 5-го отдела ЦРУ и СПА в отношении молодежи. При этом опытный разведчик Загнер был убежденным противником грубых силовых методов и поэтому с неодобрением слушал то, что с непререкаемым апломбом излагал представитель ЦРУ.
— ...Нет необходимости объяснять вам, господа, что Вена открывает перед нами небывалые возможности. До сих пор мы вынуждены были ограничиваться лишь засылкой наших людей да пассивными мерами, чтобы не пустить молодежь «свободного мира» к коммунистам, — рокотал мистер Ланн, высокий детина лет тридцати, с грубым мясистым лицом. — В Вене мы должны расколотить коммунистов вдребезги...
Гарри Ланн, представлявший 5-й отдел ЦРУ на этом совещании, тоже не был новичком в разведке. Через два года после того, как американская Национальная студенческая ассоциация (НСА) пошла на содержание к ЦРУ, Ланн стал ее президентом. В 1955 году по заданию из Лэнгли он перебирается в Международную студенческую конференцию (МСК), оттуда в разведуправление министерства обороны и, наконец, в американское посольство в Париже в качестве «специалиста по проблемам молодежи». Теперь ему предстояло руководить всеми антифестивальными акциями с американской стороны. В помощь ему выделен Роберт Кили, очередной президент НСА, которому в недалеком будущем суждено стать начальником 5-го «молодежного» отдела ЦРУ.
От Управления специальных политических акций СИС на совещании присутствуют двое: мистер Джон Темпл и мистер Чарлз Гал, оба поджарые, неулыбчивые, в строгих деловых костюмах.
— Этика нашей работы основывается на том, что «свободный мир» не собирается быть агрессором. Да, мы занимаемся безнравственными, а порой и незаконными вещами, но это вынужденная мера, — сухо, словно зачитывая биржевой бюллетень, начал Темпл. — Но нельзя же подходить слишком упрощенно, сравнивая профессиональные методы с высокими идеалами...
К концу третьего дня, когда были обсуждены и стратегия предстоящих антифестивальных операций, и методы их проведения, и высокоморальные принципы, на которых следует строить все подрывные акции против VII Всемирного, участники совещания перешли к подсчету сил и средств. И тут роскошный кабинет с обшитыми дубовыми панелями стенами стал удивительно похож на зал аукциона.
— Хорошо, мистер Ланн, значит, от вас — Служба независимых исследований и Мюнхенский институт по изучению СССР (Мюнхенский институт по изучению СССР был создан ЦРУ в 1950 году под вывеской «Свободной корпорации научных работников-эмигрантов». Шеф «института» — кадровый офицер ЦРУ Краули.). — Майор Загнер, председательствовавший на заседании, смахивал на настоящего аукциониста, не хватало только молотка и традиционной формулы: «Кто больше, господа?»
— Мы готовы подключить колледж святого Антония, Среднеазиатский исследовательский центр и Институт советских и восточноевропейских исследований при университете в Глазго, — посланец СПА окинул присутствующих победоносным взглядом.
Вопрос о согласии «научных учреждений» даже не поднимался: все три были замаскированными филиалами английской разведки.
Задетый за живое «специалист по проблемам молодежи» не захотел уступить пальму первенства английским коллегам:
— Народно-трудовой союз, Союз борьбы за освобождение народов России, Эстонский и Латвийский центральные комитеты, Венгерское центральное объединение... — названия эмигрантских организаций, существовавших на деньги ЦРУ, посыпались как горох.
Все складывалось к взаимному удовлетворению присутствующих. По приблизительным подсчетам, в Вену можно направить не менее шести тысяч специально подготовленных людей, если фестиваль все же состоится. Ими будет руководить... И вот тут-то Гарри Ланн показал, что такое настоящий «таф бой» — «крутой парень». Он рассчитывал сделать карьеру на этой операции и вовсе не собирался уступать лавры каким-то «лайми» (Лайми — презрительная кличка англичан в Штатах.) . Представители же СПА считали, что по части опыта проведения столь сложных и масштабных операций ЦРУ далеко до старейшей разведки в мире. Следовательно, вопрос о руководстве решается однозначно. После длительных споров сошлись на компромиссном варианте: Ланн берет на себя оперативное руководство в Вене. Общий же штаб под началом майора Загнера разместится во Франкфурте-на-Майне.
Итогом трехстороннего совещания явился секретный циркуляр СИС NTC U (99573) Р от 10 марта 1959 года, который был разослан всем резидентурам английской разведки за границей. В преамбуле говорилось:
«В настоящее время в Вене проводится широкая кампания пропаганды, имеющая целью убедить австрийские власти отказаться от разрешения на проведение фестиваля в Вене...»
А поскольку надежды на это у ЦРУ, СИС и НАТО к тому времени были не слишком велики, циркуляр переходит к деловитому перечислению задач, стоящих перед английской — так же как американской и натовской — разведкой: собрать сведения о руководителях национальных делегаций; установить фамилии всех делегатов из содружества и других стран Азии и Африки...
Циркуляр СИС до предела откровенен, ведь он же предназначен только для посвященных, для тех, кто будет выполнять его: «Нам необходим любой материал, который мы можем использовать для того, чтобы запятнать и опорочить подлинных организаторов фестиваля. Наша цель — изводить их каверзными вопросами, устраивать обструкции, провоцировать критические выступления и активизировать лоббизм... Нам необходимо обличить и дискредитировать фестиваль не только в глазах правительств, но также и перед общественным мнением».
Да, это был обстоятельный документ, в котором до мелочей расписывалось, казалось, абсолютно все. Уже за несколько месяцев до фестиваля против него началась ожесточенная кампания в прессе. Эдвард Крэнкшоу из английского «Обсервера» назвал фестивали «опасной игрой», цель которых лишь «развратить друг друга». Правда, в отношении Вены он нашел более или менее безопасный выход: «Пусть англичане развращают русских нашим славным рок-н-ролом и остерегаются улыбок и дискуссий с русскими!» Такая «мягкость» журналиста Крэнкшоу объяснялась тем, что он давно уже был агентом СИС с кодовым номером БИН-120.
Католические священники служили антифестивальные мессы. На тихую Зайлерштедте, 15, в адрес МПК фестиваля приходили угрожающие письма: «Мы не спускаем с вас глаз. Советуем побыстрее исчезнуть из Вены вместе с вашим фестивалем. Иначе будет плохо». По городу в «марше молчания» шествовали юнцы, которых антифестивальный комитет «Молодая жизнь» и священники обманом привезли из провинции под предлогом посещения гастролей... советского цирка. Короче, все шло по заранее разработанному плану.
На Рузвельтплац, 2, где разместилась штаб-квартира оперативной группы ЦРУ, съезжались кадровые разведчики Шварц, Мартин, Винц, Андерсен, Ралис, Стюарт, поступавшие в распоряжение Гарри Ланна. На Ринге, в Мессегеленде, поблизости от парка Пратер, где на острове посреди голубого Дуная раскинулся фестивальный городок, спешно ставились «контактштеллен» — оклеенные пестрыми плакатами павильончики, в которых намечалось обрабатывать делегатов да и самих венцев. Завозились тонны различных пропагандистских брошюр, журналов, листовок. Однако главную ставку майор Загнер во Франкфурте и мистер Ланн в Вене делали на парней из спецотрядов, прибывших из Западной Германии и Италии. Кроме 60 шиллингов суточных, им платили по 70 шиллингов на «оперативные расходы», и можно было не сомневаться, что за эти деньги они устроят из коммунистического фестиваля ад кромешный.
...С утра 26 июля Гарри Ланн начал нервничать. День обещал быть отличным, значит, нечего было рассчитывать, что погода испортит торжественное шествие и праздник на стадионе. Оставалось надеяться, что «мальчики» не подведут...
Но они подвели.
...Пронзительный звонок телефона заставил Ланна поспешно схватить трубку. Судя по времени, колонны делегаций уже вышли из аллей Пратера на венские улицы. Что ж, сейчас они узнают вкус гнилых помидоров и запах тухлых яиц. И того и другого заготовлено с лихвой...
«Контрольные пункты по пути следования сообщают, что участники фестиваля идут в сплошном коридоре вышедших на улицы жителей Вены. Осуществить намеченную акцию по пути к стадиону нет возможности».
...Руководитель оперативной группы в бешенстве бросает трубку. Ничего, они получат свое на стадионе. Ланн отдает распоряжение стянуть освободившиеся и резервные группы к стадиону. Когда там начнется паника, они должны быть в полной боевой готовности...
Часы на стадионе показывают 17.30, Внизу под трибуной для почетных гостей пятеро членов фестивального комитета. На поле выбегают дети с цветами. В распахнутых марафонских воротах показывается открывающая шествие колонна мотоциклистов.
...Гарри Ланн, бывший президент Национальной студенческой ассоциации США, ныне кадровый разведчик, не отрывает глаз от экрана телевизора. Наконец-то. «В воротах стадиона появляется делегация молодежи Советского Союза!» — объявляет диктор. Ну же, ну...
До отказа забитый людьми стадион встречает делегацию громом аплодисментов. Тысячи букетов летят на поле с трибун. И ни одной крысы, которых должны были выпустить из чемоданов парни из спецотрядов.
...«Все, это поражение», — Ланн резко нажимает на клавиш телевизора и устало откидывается на спинку кресла...
Да, это было поражение, нанесенное молодежью всего мира опытнейшим разведчикам ЦРУ, СИС, НАТО. И пусть в течение последующих дней агенты из спецотрядов Ланна еще пытались кого-то обрабатывать в своих информационных пунктах, завязывать провокационные споры во время встреч, подбрасывать всевозможные фальшивки, итог был ясен: дискредитировать фестиваль, как того требовала директива, не удалось. А среди делегатов родилась веселая поговорка, подхваченная венцами: «Аллес гут, антифестиваль капут».
Увы, те, кому это адресовалось, не извлекли урока, решив в следующий раз устроить...
Бойкот из подворотни
Обычно в облике улиц каждого города есть своя неповторимая и поэтому особенно запоминающаяся «изюминка». В Осло — это ярко раскрашенные почтовые ящики, в Амстердаме — фургончики торговцев маринованной селедкой, в Лондоне — «даблдекеры» — двухэтажные красные автобусы. Есть «изюминка» и в Хельсинки: мальчишки— чистильщики ботинок, устроившиеся под пестрыми зонтиками в похожих на модернизированные троны креслах. Летом 1962 года, во время VIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, эти финские гавроши стали настоящими справочными бюро: казалось, они знали абсолютно все и о Хельсинки, и о самом фестивале.
Да, этим бойким ребятам была известна вся программа фестиваля, занимавшая сорок страниц убористого текста. Но они не ведали, что еще в 1960 году VIII Всемирному было посвящено специальное заседание — нет, теперь уже не представителей ЦРУ, СИС и К°, а Совета НАТО. Как и перед Веной и предыдущими фестивалями, составлялись подробные планы, подбирались люди, ассигновывались деньги, и немалые: для антифестивальной «программы» в Хельсинки только по линии НАТО было выделено 250 тысяч долларов. На них в Копенгагене в специальном лагере усиленно натаскивали юнцов из западногерманского «югебунда» («Югебунд» — молодежная организация Христианско-демократического союза.) , эмигрантов, группку шведов.
Не оставили без работы и Службу независимых исследований, директором которой теперь стал агент ЦРУ Д. Шауль. Ей были даны 40 тысяч долларов и приказ подготовить «группу активистов» специально для участия в политических дискуссиях, в Хельсинки план подрывных мероприятий предусматривал как главную цель массированное воздействие на советскую делегацию, причем не только психологическое и пропагандистское, но и силовое. Общее руководство всеми акциями возлагалось на американских разведчиков Макса Ралиса и Джека Стюарта, которые, по мнению 5-го отдела ЦРУ, лучше других проявили себя в Вене. В помощь Ралису, официально числившемуся «корреспондентом газеты «Мюнхен курир», и Стюарту, обходившемуся без прикрытия, были выделены опытные агенты ЦРУ Авро Хорм — ему предстояло заниматься «силовыми акциями»; негр Буй для работы против делегатов из стран Азии и Африки; А. Милитс и Рейно Сепп, постоянно сидевшие в Швеции; группа кубинского эмигранта Педро Сальвата; «специалист по ГДР» Гейнц Липпман, в прошлом уголовный преступник, бежавший в Западную Германию с двумя миллионами марок, да плюс еще десятка два агентов «со специальностями», не считая мелкой шушеры. Все это весьма разношерстное антифестивальное воинство было громко названо «Фридом дайнемикс» — «Движущие силы свободы».
История не сохранила ни точного дня, ни тем более часа прибытия в Хельсинки авангарда «движущих сил» в лице Милитса, Сеппа и Липпмана. Известен лишь номер их машины — K-EV-183. Зато последствия данного «события» дали себя знать очень быстро: по Хельсинки поползли слухи один страшнее другого. Самые оптимистические утверждали, что с прибытием делегатов в городе исчезнет молоко и хлеб. Менее оптимистические — что на улицах начнутся рукопашные бои. И, наконец, совсем уж пессимистические — что фестиваль лишь предлог для вторжения русских.
К двадцатым числам июля в Хельсинки стянулись и остальные «движущие силы свободы». Раньше времени они старались не привлекать к себе излишнего внимания, пакостили по мелочам: заляпанные грязью или изрезанные финками фестивальные плакаты, несмелые крики «Хайль Гитлер!» в спину членам Международного подготовительного комитета и приехавшим советским туристам. Да и то по вечерам, откуда-нибудь из темных закоулков. «Корреспондент» из «Мюнхен курир» решил начать бой, когда в Хельсинки придет теплоход «Грузия» с советской делегацией.
...В тот день по обычно малолюдным улицам города к набережным и порту потянулись вереницы людей. Шли уже приехавшие делегаты фестиваля в красочных национальных костюмах и празднично приодетые хозяева-финны. До прибытия теплохода оставалось еще не меньше часа, а у стенки не протолкнуться. Тесно и в заливе до самого маяка Хармая от вышедших встречать «Грузию» белокрылых яхт, юрких катеров и степенно режущих иззелена-синюю воду моторных лодок. Вот, наконец, и громада теплохода, воздух сотрясается от приветственных криков, на палубу «Грузии» низвергается целый водопад букетов. Едва только закончилась швартовка, как тут же у причала на небольшой эстраде начался импровизированный концерт, зазвучали восторженные здравицы на многих языках. В Хельсинки пришел Фестиваль.
Начались и первые «разведывательные» вылазки «Фридом дайнемикс». В автобусы с советскими делегатами полетели камни, зазвенели разбитые стекла. Но Ралис и Стюарт остались недовольны: по всем законам психологии, уверяли специалисты там, в Лэнгли, резкий переход от праздничного веселья к угрожающей враждебности должен вызвать растерянность, страх, даже эмоциональный шок. Но русские почему-то не впали в панику — доносили контролеры-наблюдатели — пожалуй, лишь посерьезнели. Зато «движущим силам свободы» пришлось поспешно уносить ноги: хельсинкцы — свидетели инцидентов — высказали явное желание намять им бока.
«Что ж, посмотрим, в каком настроении они будут завтра...» — в словах Ралиса не чувствовалось и тени сомнения в непогрешимости «профессоров психологической войны».
...Почти в центре Хельсинки, недалеко от вокзала, есть парк Кайсаниеми, любимейшее место молодежных гуляний. Говорят, лет сто назад здесь, на небольшом мысу — по-фински «ниеми», вдававшемся в Телеский залив, стоял кабачок, где гостей встречала красавица Катя — по-фински Кайса. У нее частенько собирались студенты Хельсинкского университета, которые и назвали это место по имени прекрасной шинкарки. Еще перед фестивалем в Кайсаниеми выросло просторное полотняное «шапито» — клуб «Спутник». Рядом — кинопередвижка под открытым небом, танцплощадка, столики, легкие удобные стулья, детские игры. С утра до позднего вечера в «Спутнике» и вокруг него толпился народ; но завтра — открытие фестиваля, к нему нужно как следует приготовиться, и часам к десяти вечера парк затихает. Собираются домой, на «Грузию», ребята из «Спутника», для которых завтрашний день особенно ответственный.
И вдруг ночная тишина взрывается дикими воплями, свистом, улюлюканьем. Из темноты летит град камней, сучья, пустые бутылки. «Ноу — фестиваль! Ноу — коммунизм!» — пьяно коверкая слова, надрываются мальчишеские голоса. Полотняный павильон мигом окружает цепочка советских ребят. А из аллей, из кустов со всех сторон лезут шатающиеся, растрепанные фигуры. Нужно выстоять. И ребята держатся. Не отвечая на оскорбления, не обращая внимания на «легко опознаваемые летящие предметы», впрочем, шефы «Фридом дайнемикс» явно просчитались: от щедрой даровой выпивки руки «движущих сил свободы» не стали более твердыми. Но вот уже заплясали по аллеям яркие лучи фар. «Движущие силы» мигают, пытаются закрыть лица ладонями, спрятаться от слепящего света. Из автобусов бегут рослые парни в спортивных костюмах с буквами «СССР» на груди...
Чуть позже, завывая сиренами и мигая красными лампочками на крышах, примчались полицейские машины. Площадка вокруг «Спутника» и парк быстро очищаются от непрошеных визитеров.
...Почти не спавший в ту ночь, Ралис с утра устроил разнос своим помощникам. Им пришлось терпеливо выслушать уникальный набор цветистых выражений, популярно разъясняющих их полную профессиональную некомпетентность. Особенно досталось «специалисту по силовым акциям» Авро Хорму. Набычившись, тот угрюмо пообещал, что сегодня возьмет реванш, время приближается к 17.00. Сейчас начнется фестивальное шествие. Уже с середины дня все улицы то пути к олимпийскому стадиону забиты народом. В небе, деловито рокоча мотором, серебристый самолетик тащит полотнище со словами: «Фестиваль, здравствуй!». В Вене в это время такой же самолетик буксировал плакат «Фестиваль без нас», который затем сменил призыв «Пейте венское пиво». Впрочем, до этого был и другой призыв: «Читайте «Венские новости». Но этот листок не читали.
По рядам людей, выстроившихся вдоль улиц, шелестом прокатывается: «Пошли!» Пританцовывая, выступают латиноамериканцы в сомбреро и, конечно, с гитарами, улыбаются финнам индийцы, словно плывут в своих блестящих одеждах гибкие негритянки. Знамена, барабанщики, песни, пляски. А если кубинцы на ходу и выкидывают из своей колонны пристроившихся «мальчиков» агента ЦРУ Педро Сальвата, у которых под куртками топорщатся пистолеты, то это так, мимолетный эпизод, не портящий общего праздника.
Возле здания почтамта, неподалеку от Маннерхейминтие, главной улицы Хельсинки, прижался к тротуару белый «форд» с номером EN-NT-49. В кабине Ралис и Стюарт. Оба заметно нервничают.
На главную улицу торжественно выплывает огромный макет: серп и молот. Острие серпа переходит в стремительно мчащийся спутник. Идет советская делегация, семьсот парней и девушек под алым флагом. Звучит веселая, задорная мелодия, улыбаются и аплодируют зрители, впереди на постаменте три мускулистые фигуры с молотами — памятник трем кузнецам, внизу, на тротуаре, молчаливая толпа, ухмыляющиеся лица, покрасневшие глаза.
Смолкли песни, посуровели, подтянулись парни и девчата. Над улицей повисла напряженная тишина, и лишь асфальт чуть шуршит под ногами. Это уже не праздник, а передний край, где можно ожидать всего: булыжников, слезоточивых бомб...
Бомбу в ту ночь бросили во двор школы, где разместились советские туристы. А на Маннерхейминтие... на Маннерхейминтие стоявшие в задних рядах инструкторы — профессионалы из ЦРУ и СИС — принялись хотя и незаметно, однако чувствительно «напоминать» подопечным, зачем их сюда привезли. И те ошалело завопили: «Гoy эуэй!» — «Убирайтесь прочь!» Шепелявя, с акцентом, вразброд, но зато на английском.
И вдруг вся колонна в. едином порыве властно и звонко кидает в воздух: «Фе-сти-валь! Фе-сти-валь! Фе-сти-валь!» Этот клич подхватили тысячи людей, стоявших на улице, и в нем бесследно утонули вопли на ломаном английском.
После поражения на Маннерхейминтие Ралис и Стюарт решили играть ва-банк. Силовые провокации продолжались: еще один неудачный налет на «Спутник», взрыв бомбы у школы, где после всех треволнений крепко спали советские туристы, наконец, попытка пронести пластиковую бомбу на «Грузию». Семнадцатилетний Алпо Хайкола признался, что ему было обещано большое вознаграждение.
— Кто обещал? — допытывались в полиции.
— Какой-то американец. Среднего роста. Лет сорока. Еле говорит по-фински...
И лишь официальное заявление президента Финляндии Урхо Кекконена положило конец безрезультатным, но тем не менее весьма опасным акциям сборной «делегации» разведывательных служб. Борьба перешла в другое измерение.
«Художник» Лайонел Либсен, «американец» Леонид Денисюк, «журналист» Гулл и другие «активисты» из Службы независимых исследований под командой белобрысого верзилы в темно-зеленом пиджаке и мятых белых штанах с утра до вечера «сражались» в клубе «Дружба», затевая бесконечные споры с гостями и хозяевами. Верзила же по имени Ренс Ли, выдававший себя за студента, в действительности сотрудник разведотдела госдепартамента, при этом демонстрировал — явно для начальства — редкостное самопожертвование: он даже не ходил обедать, ограничиваясь тем, что изредка прикладывался к «хип-ботл» — фляжке с виски. Автобусы с рекламными щитами зазывали делегатов и финнов на выставку «Молодая Америка показывает». Возле «Спутника» и «Грузии» постоянно вертелись десятки юнцов и солидных господ, нагруженных всевозможной макулатурой, в избытке заготовленной «молчаливыми службами». В порту бросила якорь шхуна «Матильда», где открылось в основном пустовавшее «Интернациональное кафе», в котором потчевали пивом и кофе с обязательной приправой из антифестивальных листовок, брошюр, журналов...
Шефы «Фридом дайнемикс» не стали ожидать конца фестиваля. Когда белый «форд» Макса Ралиса и Джека Стюарта пробирался по улицам к выезду из города, его провожал дружный свист хельсинкских мальчишек-чистильщиков на каждом перекрестке...
Английский журналист Крэнкшоу писал после VII Венского фестиваля: «Я считал, что последним будет Московский фестиваль, и ошибся». Ошибся не только агент СИС БИН-120 Эдвард Крэнкшоу. Ошиблись Центральное разведывательное управление США, Сикрет интеллидженс сервис, НАТО, святые отцы католической церкви и многие другие. После Москвы были VII всемирный в Вене, VIII Всемирный в Хельсинки, IX всемирный в Софии. Скоро начнется X Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Берлине.
С. Милин, П. Смоленский
Кининлад, сын Тналхута и другие
Веселая и радушная была у них бригада, мне нравилось у них. И в один год я провел в этом стаде все время отела.
Кининлад стоял тогда на южных склонах Ильпиная — «горы с плечами». Чтобы попасть к нему, нам пришлось подняться на высоченный отрог. Чуть отдышавшись на перевале, мы — я ехал с отцом Кининлада стариком Тналхутом — выпрягли оленей, привязали их сзади к нарте (у них копыта покрепче наших ног — тормозить будут на спуске) и заскользили вниз. Лучше бы сказать помчались. Спуск шел узким ущельем, снег на его дне слежался до плотности льда, и наши бедные олени тормозили больше лежа, просто волочась за нартой. Еще ниже появился настоящий лед, отсюда, видимо, начинались истоки реки. Можно было натерпеться страху, если бы хватило времени на испуг. Ущелье виляло с удивительным проворством, и я едва успевал рулить ногами. Уже внизу я обнаружил, что оставил на спуске обе подошвы своих торбасов. Где отстал старик, я не знал. К счастью, олени успевали, где снег был помягче, вскочить на ноги и тормознуть. А на одном из поворотов и вовсе остановили меня. Не удержавшись, я скользнул по нарте, словно пирог с лопаты, но падать уже было некуда, я приземлился тут же. Через минуту ко мне лихо подкатил Тналхут.
— Молодой человек быстро ездит, часто падает, а нарту старик чинит, — сказал он назидательно. Была у старика страсть к поучениям. Судя по белой спине, Тналхут тоже падал, но я не задавал неуместных вопросов.
Было уже темновато, мы быстро запрягли оленей и тронулись. Старик хорошо знал эти места, уже через несколько минут мы наткнулись на свежую нартовую дорогу и по ней быстро выскочили к палатке. С опозданием залаяла собака, но, обнюхав старика, сменила лай на визг. Старик тоже обрадованно огладил ее: «Мальчик, Мальчик». Из палатки вышла женщина.
— Амто, мей! — окликнул я ее.
— И-и-и, Миронов! — Кечигвантин засеменила к нам, на мгновение прижалась к своему свекру, потом подала мне руку.
— Како, како, Миронов етти. (Ой-ей-ей, Миронов приехал.)
Она называла меня по отчеству.
— Минки пастухен? (Где пастухи?) — спросил я.
— Утку нелла. (В стаде.)
— Э. (Понятно.)
Мы быстро распрягли оленей и отпустили их по направлению к табуну на отдых. Хорошенько выбив снег из одежды, нырнули в теплый сумрак палатки.
Вокруг снова была милая мне табунная жизнь. Как хорошо завалиться на шкуру, отоспаться, завтра пойти в табун. Старик Тналхут однажды так объяснил мне смысл жизни: «Немножко работай, устал — отдыхай, поешь и снова работай. Так хорошо жить».
Я отвалился на шкуру, но рядом со мной что-то взвизгнуло, и через мгновение оказалось Прохой, а потом и ее трехлетним сыном.
— О, Проха, что же это ты гостей не встречаешь?
— Я спала.
Кечигвантин у печки что-то сердито заворчала.
— Что она говорит, Тналхут?
— Проха все спит и спит, ничего не помогает. Всегда так молодой человек, — заключил старик. Он вообще любил обобщать.
Кечигвантин поставила перед нами маленький столик, положила несколько пластин юколы, и мы, замолчав, принялись есть. Старик протянул по пластине Прохе и ее сыну, так что возможность разговаривать осталась только у Кечигвантин, и она воспользовалась ею в полной мере. Я понимал ее быструю речь плоховато, но исправно прерывал еду для вежливого «Э, э», вроде нашего поддакиванья. Вдруг снаружи послышались голоса, потом в палатку заглянул Кининлад.
— Здравствуйте, с приездом.
— Здравствуй, Коля, — отвечал я. Кининлад всегда отличался вежливостью. Но вслед за ним всунулся Тынытегин и закричал:
— Здорово, Леша!
— Здравствуй, Сережа! — в тон ему отвечал я.
— Здорово, старик!
Но Тналхут ограничился «Э». Он относился к Сергею критически и не упускал случая выразить это.
Постучав сколько положено выбивалками по одежде, оба втиснулись в палатку, начались рукопожатия и расспросы. Я вылез наружу и, развязав на своей нарте груз, достал свечки, галет, сахару... Кечигвантин то и дело напевала «Миронов, Миронов». На столике появилось мясо. От разогревшейся печки стало тепло, мужчины сбросили кухлянки. Все разговаривали, рассказывали что-то, разговор, как обычно, шел на корякско-чукотском языке (Тынытегин и Проха были чукчи, а Тналхут и Кининлад с Кечигвантин — коряки). Часто примешивались и русские слова.
Кечигвантин упорно дергает меня за руку: «Миронов — одинаково сын, Миронов — все равно сын. Я — одинаково мама. Миронов хороший, всегда веселый. Так надо, одинаково наши люди». Она говорит что-то еще. Тынытегин мне переводит: «Она говорит, что сошьет вам хорошую шапку». Кечигвантин с воодушевлением подтверждает: «И, и, и». Потом она снова произносит целую речь, и все, бросив свои разговоры, слушают ее, часто смеются. С трудом я улавливаю, что она вспоминает, как вышла замуж за Кининлада.
Кечигвантин рассказывает, каким смешным был Кининлад, когда она увидела его впервые.
— Ага, ага, — с удовольствием подтверждает Николай. В голосе Кининлада звучит гордость за жену, она невольно передается мне. Я с уважением гляжу на пухленькое личико Кечигвантин. А она, как ребенок, радуется вниманию, смеется, старается еще чем-нибудь меня заинтересовать, что-то быстро говорит.
Наверное, очень трудными кажутся их имена — Кининлад, Кечигвантин. Но это не так. Достаточно лишь раз услышать, что они значат. Кининлад по-корякски «бросил сына», друзья зовут его просто «Кинин». Странное имя дал Кининладу отец. А я зову его просто Коля, Николай Николаевич. Все у них в семье Николаи Николаевичи. Русские имена жители этого совхоза получили перед выборами в 1936 году, когда здесь регистрировали избирателей. Наверное, у секретаря была слабая фантазия. Половина мужчин в нашем совхозе — Николаи Николаевичи.
Имя Кечигвантин перевести сложнее. Ближе всего — это «вход в юрту». Но надо вырасти в юрте, чтобы понять такое имя. Входная дыра — это главный источник света. Это чистое, светлое пятно, к которому ползет ребенок, когда его уже держат коленки. Да, Кечигвантин и впрямь пятнышко, вся какая-то теплая, светлая, круглая, как колобок.
Я начинаю разбирать свои вещи. Кечигвантин что-то оживленно пытается мне объяснить. Я не понимаю ее и лишь меланхолично поддакиваю на чукотский манер: «Э, э, э». Вдруг она резко дернула меня за рукав и, повернув к себе, с удвоенной энергией закричала мне прямо в лицо: «Э-э-э!» Не понимая, в чем дело, я смотрел на нее, пока мужчины не пришли нам на помощь. Оказывается, Кечигвантин просила меня дать и ей русское имя.
О, это была трудная задача! Я вглядывался в ее пухленькое личико с расплюснутым носиком и не находил ничего, за что можно было бы зацепиться. В конце концов я нарек ее Ириной с обычной, как я уже говорил, для их семьи Николаевной в заключение. Она осталась очень довольна и остаток вечера употребила для заучивания «Ирины Николаевны». На радостях Кечигвантин выудила из потайных запасов мешочек «юппина», то есть пережаренной с жиром муки, и мы, навалив ее в кружки с чаем, с удовлетворением разъели лакомство.
Следующие несколько дней пролетели незаметно. Пастухи работали в две смены. Днем дежурили Кининлад с Тынытегином, ночью Федя Мерхини с одноглазым Гиклавом, все молодые, веселые ребята. Старого Тналхута мы на другой день снарядили за продуктами.
В десяти километрах от нас два пастуха держали быков. На время отела быков отделяют от важенок, чтобы они не мешали им кормиться. Рядом с бычьим табуном находилась меховая палатка, где жила жена Гиклава. После ночного дежурства вместе с Федей Мерхини он часто уезжал туда с утра. Там они отдыхали, а Федя еще успевал съездить на беговых оленях в соседнюю бригаду к своей невесте.
Я проводил весь день в табуне и бывал в палатке только ночью. Первое время непривычным было ощущение спокойствия, какое бывает только на отеле. После бесконечной езды на оленях зимой, после мартовских отбивок, разбивок стада вдруг тишина, солнце, горы и табун: медлительные, отяжелевшие важенки. От солнца обгорают лицо, руки, от солнца обтаивают, словно обугливаются, гребни хребтов; на речном льду всюду голубеет вода; и над всем миром голубое небо. В полдень задремлешь, подставляя лучам то один, то другой бок, сквозь дрему слушаешь и никак не поймешь: капель стучит, а где? Кругом ни крыши, ни деревца, а она стучит, звенит. Вдруг с шорохом осел подтаявший сугроб, и замерла капель, придавил ее снег.
Ночью солнце сменяет луна — отельная луна. Это ей суждено заглянуть в глаза новорожденных телят, первой из длинного ряда лун, которые они увидят. Каждый час мы обходим табун и то тут, то там встречаем новеньких обитателей земли, вежливо поднимающихся нам навстречу на дрожащих ножках. Иногда кто-нибудь рождается в несчастливый час, и луна не только встречает, но и провожает олененка. Поздним вечером, положив такого страдальца на плечи, я спускаюсь вниз к палаткам, где Кечигвантин или Проха лишают его единственного богатства — пушистой шкурки, по-русски — пыжика.
Обязанности у зоотехника, выехавшего на период отела в стада, довольно разнообразны. Мне приходилось обсуждать с Кининладом и оргвопросы: куда перегнать стадо, можно ли послать Тналхута на помощь соседней бригаде; и оказывать ветеринарную помощь оленухам; и просто помогать пастухам в их повседневной работе.
Женщины целые дни проводили в одиночестве. Ночные дежурные, если и не уезжали в бычий табун, не были склонны к долгим разговорам. Попив чай, они моментально заваливались спать, и Кечигвантин с Прохой снова оставались одни, если, конечно, не считать ребенка. Впрочем, дел у них было много: они шили и чинили одежду и обувь, готовили «юппин». Каждая женщина имела красивую и, главное, длинную песню, а это в тундре очень важно. Каждый чукча и коряк имеет свою личную песню и обижается даже, если кто-нибудь попытается ее «карабчить», то есть украсть.
Уже в сумерках мы возвращались из табуна. Обессиленные пастухи, по пояс мокрые и дрожащие от холода, хотели только одного — есть. Кечигвантин мигом втаскивала мясо в деревянном корыте. Пока мы орудовали ножами (чукчи говорят: зубами рвут мясо собаки, а у человека есть нож), уже бывал готов суп. Только после еды мы разувались и переодевались в теплое и сухое, а для Кечигвантин и Прохи наступало долгожданное время человеческого общения. Они стрекотали без умолку, не забывая тем временем расставлять чашки и разливать чай. Никто не перебивал женщин, хотя и слушали не очень внимательно, тем более я, понимавший с пятого на десятое. Как правило, сначала выпаливались все новости. Вторую часть программы занимали жалобы. Их всегда приберегали на конец, особенно главные.
Кечигвантин чаще жаловалась, что ушибла что-нибудь: руку или ногу. Проху волновал куда более широкий круг проблем. Уж на что Сергей был от природы развеселым парнем, но жена допекала и его. Все же на конец у него всегда было припасено одинаковое: «Ну, ты привыкай как-нибудь».
Вообще Проха была фигурой особенной. Они с Сергеем считались молодоженами. До замужества она работала в школе и в табун попала впервые. Она очень любила рассказывать мне, видимо надеясь на большее понимание, как она одинока и несчастна в табуне, где и кино привозят редко, и поговорить не с кем. Кроме того, она очень гордилась своей неприспособленностью к тундровой жизни. Впрочем, в глазах Сергея все это придавало ей некоторую необычность и привлекательность. Он охотно мирился со своей непочиненной одеждой, терпел разные неудобства, но всегда повторял: «Ну ничего, научишься, ты привыкай, ты старайся».
Прямо сказать, я не очень верил в «привыканье». Достаточно было вспомнить, как мы ехали вместе в феврале в табун. Был страшенный мороз, крикнешь — и звук не летит, словно замерзает. Сколько ни машешь руками, сколько ни стучишь ногами по полозьям нарты, часа через три ни тех, ни других не чувствуешь. На чаевку остановились — в пору резать уздечки: пальцы одеревенели, никак не могу распрячь оленей. Одно спасение: бросай рукавицы — голыми руками распрягай. Не знаю почему, но, когда обнажишь на морозе руку, она немножко разогревается. Потом не ленись, веди оленей кормиться на сопку. Пока по рыхлому снегу наверх вылезешь, не то что согреешься — вспотеешь.
Так и тогда, мы уже и дров принесли, и мясо сварили, и чай вскипятили, а Проха сжалась в комочек и от нарты ни шагу.
— Проха, иди чай пить.
— Не хочу.
— Проха, иди кушать.
— Не хочу.
Что делать? Запрягли оленей, поехали дальше. Через полчаса Проха говорит Сергею: «Вот вы сами поели, а мне не дали». Сергей молчит. «Вам все равно, хоть я с голоду помру. Ты меня никогда не любил». Сергей остановился, мы тоже. Достал мясо. «Ешь». — «Нет, не буду. Вы небось горячее мясо ели, а мне хоть зубы поломай?» Сергею, конечно, стыдно перед нами, но молчит. А во мне прямо ярость, но тоже молчу. Никому неохота останавливаться: распрягай, запрягай, собирай дрова, вари чай — хорошего мало, день короткий — получается, не столько ехали, сколько чаевали. Все же остановились, напоили Проху чаем.
После такого знакомства я ей, конечно, не обрадовался. Но встречался я с ней мало, в палатке в отел не засидишься — только поспать да поесть.
30 апреля, когда я вечером пришел из стада, в нашей палатке было непривычно чисто и торжественно. Только через мгновение я понял, что Кечигвантин застелила пол свежим кедровым стланцем. И сразу и запах и свежесть. На другой день, быть может, под впечатлением этого я решил испечь пироги. Для первомайского праздничного пирога было все необходимое: мука, сухие дрожжи и банка яблочного варенья. Замесив тесто, я подвесил котелок с ним возле трубы под самой крышей палатки, в самое теплое место. «Ирина» внимательно следила за моими действиями и, вероятно, очень сожалела, что я перевожу понапрасну такие дорогие в тундре продукты.
Я освободился к полудню, пообедал и ушел в табун. Он был виден в бинокль из палатки — черные точки-олени медленно передвигались на самой вершине Ильпиная. День был безветренный, теплый, и лишь небо не такое синее, как обычно, немного белесое. Раза три по дороге передохнув, я, наконец, выбрался на левое плечо Ильпиная. Здесь нашел нарты, чайники, погасший костер, но пастухов не было: они перегоняли часть стада на соседнюю вершину, на свежие пастбища. Я собрался было идти к ним, но Кининлад жестами остановил меня и через несколько минут установил на переседлине маяк, то есть палку с какой-то одежкой. Это был вполне понятный сигнал. Связав нарты и увязав на них все хозяйство, я начал спускать весь «стан» на новое место. И когда пастухи закончили свое дело и пришли к маяку, чайники уже закипели, мясной суп сварился, и я от всего этого сидел весьма довольный. Мы подкрепились, почаевали и как-то незаметно задремали; сонливость сегодня носилась в воздухе.
Очнулся я только через час, от ощущения холода на лице. В полной тишине шел снег. Не игривые снежинки, а сонные и тяжелые хлопья тихо лепили вокруг, мы уже все были погребены под довольно толстым слоем.
— Снег, — сказал я. От моего голоса очнулись ребята и тоже тихо повторили: «Снег». Подниматься, куда-то идти не хотелось. Наконец, Тынытегин, отряхнувшись, пошел к вершине сопки — к оленям. Мы остались на месте. Легкий ветер дул нам в спину, ничуть не беспокоил, наоборот, успокаивал, усыплял. Потом комок снега попал мне в лицо, я сонно мотнул головой и проснулся. Сразу вскочил.
— Пурга, Коля... Вставай, пурга!
Словно не было ни сна, ни покоя, ни дня. Только снежный вихрь и снежная пыль со. всех сторон. Где-то горы вокруг... Где табун? Где все? Только пурга. В какие-то мгновения мы уложили груз на нарты, поставили их торчком, связали, чтобы не унесло и не засыпало. Надо было спешить к табуну. Очень скоро мы разделились. Впрочем, незачем было держаться вместе, и не нужно было особых команд — всякому понятно: в такую пору нужно скорее спустить табун вниз.
Свистом, криками я сгонял важенок с лежек, поднимал сонных, пригревшихся под снежной шубой телят, брал вправо, влево, спотыкался, скользил и постепенно привел все стадо в движение, погнал под склон. Потом я снова поднялся вслед за четырьмя важенками, зовущими телят. На их меканье никто не отзывался, я попытался им помочь, но безуспешно. Снег залепил лицо плотной маской, я проковыривал щелочки для глаз, наклонившись к земле, пытался что-нибудь увидеть, но не знал даже, куда ступаю: то зарывался в уже надутые сугробы, то скользил на обледеневших камнях. Постепенно я потерял надежду найти телят, отчаялся, мечтал, чтобы пришел Кининлад, только что не кричал — в такую пургу от этого было бы мало толку.
Николай пришел сам. Мы сошлись, он приблизил лицо к моему, улыбнулся: «Пурга». Еще с полчаса мы лазили по снегу, раскапывали его ногами. Вдруг Кининлад закричал, подзывая меня, он таки нашел одного. «Я думал, камень, палкой ударил, а это кончик уха торчит. Спал, не хотел даже головы поднять. Тепло под снегом», — смеялся он.
Которая из важенок была матерью теленка, мы разбираться не стали, выкопали его из снега, и я положил его себе на плечи. Спасти остальных уже не было надежды. Все же Коля остался еще побродить. Но вдогонку Кининлад вдруг крикнул мне, чтобы я остановился. Он догнал и с легкой осторожностью в голосе сказал:
— Миронович, может быть, спустишься к палаткам? Может, плохо там что-нибудь?
— А Мерхини с Гиклавом?
— Наверное, заблудились, пурга. Все равно их дорога через табун.
Вокруг была пурга, ничего знакомого — ни гор, ни речки.
— Может, заблужусь?
— Наверно, нет, — отвечал Кининлад. — Иди прямо вниз, до речки, по ней тоже только вниз.
Теленка я оставил у приметных кустов, присыпал снегом, чтобы не замерз, будет день — найдется и мать. Едва видя на шаг вперед, я действительно выбирал дорогу, как сказал Кининлад,«только вниз». Немножко пугали возможные обрывы на пути. Но делать было нечего, я навряд ли заметил бы их, иначе как свалившись вниз. Я держался левого берега реки и скоро нашел нужное место. Немного дальше я свернул вверх по склону и вышел на знакомый бугор. По всем признакам это было место стоянки. Но где палатка?
Я упрямо пахал снег вдоль и поперек, силился разглядеть что-либо вокруг, свистел, кричал, но ни палаток, ни людей не было. Ветер, рвавшийся по ущелью речки, здесь завихрялся, толкал то в спину, то в лицо, я стоял в снежной толчее и, казалось, заблудился. Уже часа три я быт один. Можно было отчаяться. Но выработавшееся за годы чувство: тундра — наш дом — не покидало меня. Я знал, что где-то бродит Кининлад, собирая табун, где-то пробираются к перевалу Мерхини с Гиклавом, сидит на вершине сопки Тынытегин. На всей огромной территории нашего совхоза, растянувшейся от Охотского до Берингова моря, сейчас работали в пургу наши пастухи.
Но где же женщины, где ребенок? Этого я не знал и бродил, и бродил кругами. Уйти я не решался. Уже начало темнеть. Я пошел, теперь уже выбирая дорогу только в гору. Стало душно. Это всегда так — в пургу душно. Хотелось есть. И главное, некуда было уйти от печальных мыслей. Темнота и снег окружили меня, словно заперли. Ощупывая ногами и палкой дорогу, я шел вверх, пока какая-то важенка в испуге не шарахнулась от меня.
Попасть в табун — это было почти то же, что попасть в родной дом. Я снова обрел свое место в мире. К тому же и Кининлад с Тынытегином нашлись довольно быстро.
— Наверное, кочевали, — было первым, что сказал Кининлад на мое сообщение.
— Наверное, кочевали, — подтвердил Сергей. — Старуха в тундре не пропадет.
Такого спокойствия я не ожидал. Оставалось только жалеть о погибших пирогах. Навряд ли пурга помогла тесту подняться. Закопавшись поглубже в снег, спинами к ветру, сидели мы в первомайскую ночь и ждали рассвета.
Около четырех утра ветер чуть стих, но снег еще шел. Тынытегин отправился к палатке, а мы оставались в табуне. Еще через час подъехали на оленях Мерхини с Гиклавом, они ночевали на той стороне горы, под перевалом Мы сели к ним на нарты пассажирами и через полчаса спуска по сугробам были у стоянки. Первый, кого я увидел, был Тынытегин. Он быстро раскапывал снег лопатой, что-то искал. Сердце екнуло в моей груди. Соскочив с нарты, я подбежал к нему, он вскрикнул и схватил меня за плечо. В то же мгновение я увидел у ног здоровенную яму, до самой земли, а на дне ее Кечигвантин. Она преспокойно жарила на костре лепешки. Пошли в расход мои пироги.
— Коле, коле, мей, — закричал я. — Минки е ёённа? (Где палатка?)
— Вон в кустах. Кечигвантин туда кочевала, чтобы было теплее, — ответил мне Тынытегин.
Я не поленился добрести туда. Между кустов, метрах в ста от стоянки, как крыша над снежной ямой, была натянута палатка, борта ее закопаны в снег. Судя по надвое разорванному потолку, наскоро сшитому толстой белой ниткой, женщинам досталось в пургу. Я сунул в эту снежную нору нос: там на ветках безмятежно спала Проха вместе со своим сыном.
О! Напрасно же я волновался за Кечигвантин. Действительно, как говорит Тналхут, «старые люди в тундре все знают».
Не переодевшись в сухое, не наводя порядка, мы накинулись на еду. Как положено: поработал — поешь, отдохни — снова можно работать.
Леонид Баскин, Фото А. Маслова
Северная Камчатка
Хождения за три века
Москва XVII иска не поскупилась оставить о себе память в архитектуре. Но предоставим слово памятникам иным — далеко не столь эффектным и впечатляющим, а для первого взгляда и вовсе скучным. Предоставим слово казенным бумагам XVII века.
Московская городская перепись 1620. года — самая обыкновенная и самая необычная. Обыкновенная потому, что перечисляла всех, кто жил в городе, платил любые налоги и подати, владел оружием и имел оружие на случай военного времени. Необычная потому, что она была первая после пожаров и разрухи Смутного времени, когда самые благожелательные из иностранных наблюдателей вынуждены были признать гибель русской столицы. «Таков был страшный и грозный конец знаменитого города Москвы», — шведский купец Петрей Ерлезунда написал эти слова в 1611 году, глядя на бушевавшее по всему городу огненное море.
Всего каких-нибудь девять лет — и снова те же улицы, те же церковные приходы — основная территориальная единица средневекового города. Дворы остались в их старых земельных границах. Если хозяин и не успел отстроить дома, земля оставалась его собственностью. А не успевали отстроиться разные люди.
На Драчовой улице продал кафтаннику свой неотстроенный двор рожечник Ивашко. Осталось пустовать тяглое место ушедшего «кормиться в миру» гусельника Богдашки...
Профессий было множество — перепись называла их около двухсот пятидесяти. Были здесь железники, котельники, сабельники, игольники, были харчевники, блинники, пирожники, медовщики. Были заплечных дел мастера и денежные мастера. Были и печатники, словолитцы, книжные переплетчики, переводчики. Был и «перюшнова дела мастер» — парикмахер, выделывавший парики. Вот и суди тут о привычном представлении, что появились парики в русском обиходе в петровское время, да и то привозившиеся из-за рубежа!
Да что там перепись. Описи имущества в боярских домах тех же лет подтверждают: «накладные волосы длинные» встречались нередко. И разве не говорит само за себя то, что был «перюшнова дела мастер» местным, русским, хотя, возможно, и единственным в городе. Впрочем, единственным в Москве, судя по переписи, оставался и лекарь — иноземец Олферий Олферьев. Единственным среди рудометов, которые «отворяли кровь», специалистов по лечебным травам — зелейщиков. Имел он свой двор «в Казенной улице от Евпла Великого по другой стороне на праве» (так определялся тогда точный московский адрес) и врачевал не царскую семью, а обращавшихся к нему горожан.
Так было с медиками в 1620 году, а спустя каких-нибудь 18 лет лекари появляются на многих улицах Москвы и все в собственных дворах, иначе говоря, обосновавшиеся на долгое житье. К 1660-м годам их можно найти по всему городу и в том числе докторов — звание, которым отмечалась высшая ступень медицинских знаний, причем половину лекарей составляли русские специалисты. На Сретенке, в Кисельном переулке, имеет двор лекарь Иван Губин, у Мясницких ворот «аптековские полаты лекарь» Федот Васильев и лекарь-иноземец Фрол Иванов. От Сретенки до Покровки располагаются лекари Карп Григорьев и Дмитрий Микитин, на Покровке «дохтур» Иван Андреев и лекарь Ортемья Назарьев, и так по всему Белому и Земляному городу.
Откуда могла возникнуть эта неожиданная тяга к медицине и доверие к ней? О чем это говорит — о неких национальных русских особенностях или совсем о другом — о прямой связи с процессами, происходившими в жизни народов всех европейских стран, будь то Франция, Голландия или Англия? Ведь именно в эти десятилетия анатомия и физиология становятся предметом всеобщего увлечения; слишком наглядны и понятны каждому их успехи. Имена врачей начинают соперничать по своей популярности с именами государственных деятелей, а собрания анатомических препаратов составляют первые публичные музеи.
И вот в Москве не только стремительно растет число ученых медиков, но и уменьшается число рудометов. Становится значительно меньше даже зелейщиков. Зато ширится Аптекарская палата, где лекарства изготовлялись под «досмотром» врачей.
Если кто и мог соперничать с врачами по стремительному росту численности, то это только мастера печатного книжного дела. За восемнадцать лет после первой переписи их число увеличивается без малого в семь раз. И косвенное свидетельство уважения к профессии: земли под дворы им отводятся не где-нибудь, а рядом с московской знатью и именитыми иностранцами, в устье Яузы.
Но все равно потребность в печатниках опережает любое строительство, так что на первых порах многим приходится селиться скопом, лишь бы была крыша над головой.
Соотношение профессий — словно барометр того, как и чем жила Москва. В 1620 году печатников здесь столько, сколько иконописцев, а музыкантов столько же, сколько певчих.
К концу 1630-х годов певчих становится вчетверо больше, музыкантов впятеро, печатников в семь раз, а вот иконописцев всего только втрое. Их число останется неизменным вплоть до петровских лет, и это при том, что население Москвы беспрестанно увеличивалось. Значит, все более явственно давала о себе знать потребность в каком-то ином виде изобразительного искусства.
Еще через четверть века певчих станет вдвое больше, зато в четыре с лишним раза увеличится число музыкантов. А ведь это действительно поразительно! Если даже придерживаться привычной точки зрения, что певчие связаны только со строем церковной службы, это никак не позволяет делать вывод о некоем росте религиозности. Ведь перепись приводит огромное число и тех музыкантов, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не связывались с православным богослужением. Значит, можно сделать предположение о резком росте светских, «мирских» настроений и потребностей.
Загадки возникали одна за другой. В какие только стороны, в какие приказные дела и архивные хранения не уводили размышления над переписями!
Шаху Персидскому — Государь Московский
В который раз московский государь отправлял послов в Персию с заманчивыми предложениями и богатейшими подарками. До сих пор предложения выслушивались, подарки принимались — шах и сам не оставался в долгу, — но договора, к которому стремились москвичи, по-прежнему не было. Теперь сокольничий Ф. Я. Милославский вез Аббасу II среди других подношений «для соблазну» и вовсе необыкновенную вещь — орган. И не какой-нибудь маленький, портативный, а настоящий, большой, с редкой тщательностью и искусством отделанный инструмент. В описании имущества посольства сказано следующее:
«...Органы большие в дереве черном немецком с резью, о трех голосах, четвертый голос заводной, самоигральной; а в них 18 ящиков, а на ящиках и на органах 38 травок позолоченых...»
Идея подарка принадлежала самому Алексею Михайловичу. Но главное осложнение заключалось не в условиях отправки, хотя везти инструмент можно было только в разобранном виде на особой барже — путь посольства на Исфагань лежал по Москве-реке, Оке, Волге и Каспию. Все упиралось в мастера, который не мог его не сопровождать, чтобы на месте собрать и «действие показать». По случаю особенной ответственности дела пришлось поступиться лучшим из мастеров, к тому же музыкантом Симоном Гутовским, и царь беспокоился: не будет ли из-за его отъезда задержки в «строении» других инструментов — как-никак путь в одну только сторону занимал без малого год.
Документы не оставляют ни малейших сомнений: орган был «построен» именно в Москве, в мастерской, которая располагалась в Кремле, имела много мастеров и была завалена заказами. «Строились» здесь и органы, и клавесины для царского обихода — каждому из царских детей клавесины, например, делались по возрасту: от самых маленьких, полуигрушечных, до обычных инструментов. Делались они и для заказчиков со стороны. Нередко служили подарками.
Царевна Софья заказала для своего любимца Василия Голицына сложнейшее по конструкции бюро-«кабинет», в одном крыле которого помещался маленький клавесин, в другом — такой же небольшой орган. Но здесь уже была дань моде.
Успех посольства Ф. Я. Милославского превзошел все ожидания. Осенью 1664 года, через два с лишним года по выезде из Москвы, оно возвращается с полной победой: шах Аббас разрешил русским купцам беспошлинно торговать на всех принадлежащих ему землях. Какую роль сыграл в этом неожиданном решении московский орган — неизвестно. Но известно, что особой просьбой шаха было прислать ему второй такой же инструмент. Больше того — Аббас готов был заплатить за него любую цену. Немедленно последовавшим указом Алексей Михайлович распорядился начать «строить» новый орган на этот раз на 500 труб и 12 регистров. Шах не удовлетворился и этим. Спустя несколько лет персидские послы разыскивали в Москве уже для покупки частным порядком еще один орган.
Был ли московский орган первым в азиатских странах? Вполне возможно. И во всяком случае он принес московской мастерской громкую славу на Востоке. В ожидании посольства от русского царя бухарский хан в нарушение принятого дипломатического этикета заранее заказывает себе подарок: ему нужен орган и органист. В 1675 году русские послы увозят в Среднюю Азию и инструмент, и «игреца». На этот раз выбор пал на «Кормового двора подключника» Федора Текутьева.
Федор Текутьев не был городским музыкантом. Против его имени никогда не встречалось пометки об этой профессии. А ведь игра на органе требовала не только специального обучения — она предполагала возможность упражнения на инструменте. И если сегодня органами располагают только крупнейшие концертные залы страны (да и так ли их много всего!), то на что же мог рассчитывать рядовой чиновник триста лет назад?
И вот в промежутке между посольствами в Персию и Бухару, в 1671 году, московская городская хроника отмечает ничем не выдающийся случай. Сторожа остановили несколько подвод, на которых ехали из Немецкой слободы музыканты со своими инструментами — органом и клавесином. Музыканты назвались холопами Воротынских и Долгоруких, которые с разрешения своих господ играют по разным домам «в арганы, и в цимбалы, и в скрипки и тем кормятся». Объяснение было принято без возражений...
Составлявшиеся в тот же период описи имущества боярских домов — иногда в связи с наследованием, иногда из-за конфискации «мения» по царскому указу — говорят что орган был обычной частью обстановки столовых палат, по примеру Грановитой палаты Кремля, где происходили все торжественные «государевы столы».
Средняя стоимость органа колебалась от 100 до 200 рублей (столько же стоил и двор с надворными постройками зажиточного московского ремесленника) — цена вполне доступная для бояр и служилого дворянства.
И тем не менее дорогими и сложными инструментами располагала не только московская аристократия. Органы составляли собственность многих городских музыкантов, не связанных ни с царским двором, ни с боярскими домами, находивших слушателей-заказчиков среди гораздо менее состоятельных горожан.
Органист — частая профессия для московских переписей. Были среди них иностранцы, но гораздо больше русских, вроде проживавшего на Ильинской улице Китай-города Юрья, он же «цынбальник» — клавесинист.
Но вот использовался орган совсем не так, как в наши дни. Случалось, звучал он и один, но гораздо чаще несколько органов составляли своеобразный оркестр. На одной только свадьбе шута Шанского в первые годы XVIII века играл двадцать один органист, из них четырнадцать русских и семь иностранцев, и все со своими органами. Так же часто с органом выступали литаврщики и трубники, но только трубниками открывалась совсем особая страница московской жизни.
От рожка до фагота
В том, что гусельник Богдашка и рожечник Ивашка с Драчовой улицы так и не отстроили своих дворов, не было ничего удивительного: мало ли как складывались у людей судьбы. Но вот почему не восстанавливали своих домов другие московские гусляры и рожечники? К середине века становится их в городе совсем немного. Может, решили уехать из Москвы, может, не сумели заработать нужных денег и из хозяев дворов превратились в «соседей», «подсоседников», а то и вовсе «захребетников», как назывались те, кто пользовался домом на чужой земле, частью снятого дома или жил в одном помещении с хозяйской семьей. К тому же бессемейных — бобылей — было в то время в русских городах множество, иногда больше половины мужчин.
Как бы там ни было, верно одно — спрос на такого рода музыку в Москве явно падал. Зато все больше становится среди городских музыкантов трубников, которые играли не на каких-нибудь примитивных инструментах, но на... гобое и валторне. Иначе говоря, Московия одновременно разделила с Европой увлечение музыкальными новинками.
Независимые, достаточно зажиточные — у каждого свой двор — некоторые на военной службе («трубники рейтарского строю» имелись в каждом полку задолго до появления музыкантов Преображенского и Семеновского полков при Петре I), трубники чаще всего «кормились от горожан». Были среди них и признанные виртуозы — трубные мастера. Были специалисты-педагоги, у которых жили ученики. Для духовиков была создана и первая государственная музыкальная школа — «государев съезжий двор трубного учения», памятью о котором осталось название переулка у нынешней площади Восстания — Трубниковский.
Переписи сохранили еще одну, казалось бы, несущественную подробность, которая тем не менее ярче любых примеров говорит, каким уважением пользовались среди остальных музыкантов именно трубники. Гусельников и рожечников называли всегда уничижительными именами без отчеств и тем более фамилий. Органисты заслуживали полного имени, но и только. Зато трубников величали обязательно по имени-отчеству, а нередко и фамилии. Такую честь в XVII веке надо было заслужить.
Как раз трубников охотно приглашали из-за рубежа — способ познакомиться и с новой музыкой, и с совершенствовавшимися инструментами, и с модной манерой исполнения. Ради этого не скупились на плату, чтобы задержать хоть ненадолго и тех музыкантов, которые приезжали в составе самых пышных посольств.
А вот рожечники продолжали исчезать. К 30-м годам XVIII века их уже нет ни в Москве, ни в окрестных селах. Несмотря на строжайший, грозивший всеми карами приказ Анны Иоанновны, их удалось разыскать для потешной свадьбы всего только четырех, да и то «в летах». Гусельники же к этому времени останутся только в числе придворных музыкантов. Городские переписи забудут об этой профессии.
Но все-таки самым удивительным было то, что никогда, ни в какой связи с органистами или духовиками в документах не называлась Немецкая слобода. А ведь это с ней, и только с ней, принято связывать появление в Московии всего «западного», значит, и этих инструментов.
Легенда о Немецкой слободе
«Общеизвестно, что...» — без этой формулы не обойтись, обращаясь к хрестоматийной истории Немецкой слободы. Действительно, слишком известной, слишком заученной со школьных лет.
Общеизвестно, что существовала слобода весь XVII век. Что селили в ней всех приезжавших в Москву иностранцев. Что составляла слобода свой особый, старательно отгораживаемый от московской жизни мирок. Что предубеждение против «немцев» было слишком сильным и контакты с москвичами всегда могли для них оказаться опасными. Что, наконец, близость к слободе помогла в свое время Петру познакомиться и освоиться с запрещенным Западом, да и не только Петру.
Все так. Но как быть, если на самом деле на протяжении почти всего XVII столетия Немецкой слободы, той самой, на Яузе, неподалеку от села Преображенского и любимого дворца Петра, попросту... не существовало? Сгоревшая дотла в пожарах 1611 года, она оставалась пепелищем вплоть до 1662 года.
Как быть, если среди 200 тысяч жителей, которых насчитывала Москва в середине XVII века, было 28 тысяч иностранцев, и ведь это до восстановления Немецкой слободы? Могла ли седьмая часть города оказаться за эдакой китайской стеной и где такая стена проходила?
А чего стоят одни сохранившиеся в городских документах челобитные с просьбами ограничить то число иностранцев в центре Москвы, особенно английских купцов, — не хочется русским купцам с ними тягаться, — то их число в отдельных районах.
Никаких мер по челобитным не принималось. Да и какие могли быть меры, когда в основном законодательном документе времен Алексея Михайловича — «Уложении» — глава XVI прямо гласила, что внутри Московского уезда разрешен раз и навсегда обмен поместий «всяких чинов людей с московскими же всяких чинов людьми, и с городовыми дворяны и детьми боярскими и с иноземцами, четверть на четверть, и жилое на жилое, и пустое на пустое...». А ведь, помимо всего остального, эта глава утверждала, что владели этими землями иноземцы...
Больше того. Городские документы свидетельствуют, что жили иностранцы по всей Москве, селились в зависимости от рода занятий — где удобней, где удавалось купить двор. И это одновременно с тем, что «немецкие» — иноземческие — слободы существовали еще задолго до XVII века, разбросанные по всему городу и никакими стенами или заставами от него не отделенные. Между нынешними улицами Горького и Чехова (Тверской и Малой Дмитровкой) располагалась испокон веку слобода собственно Немецкая. У Воронцова поля — Иноземская, которая еще в 1638 году имела 52 двора. У старых Калужских ворот (нынешней Октябрьской площади) — Панская. На Николо-Ямской — Греческая. В Замоскворечье — Татарская и Толмацкая, где издавна селились переводчики. А в появившейся после взятия Смоленска Мещанской слободе, где селились прежде всего выходцы из польских и литовских земель, уже в 1684 году — через 12 лет после основания — насчитывалось 692 двора.
Посольский приказ подробно отмечал приезд и выезд из Московии каждого иноземца, и, судя по его делам, ехали в Москву охотно — и по приглашению на царскую службу, и по своей воле. Не говоря о хороших условиях, богатых заработках, была еще одна важная для того столетия причина, из-за которой тянулись со всех сторон в русское государство, — его известная по Европе веротерпимость.
Тогда как отзвуки религиозных войн, постоянные столкновения между католиками, протестантами, лютеранами, кальвинистами, магометанами наконец делали для многих невозможной жизнь в родных местах, русское правительство интересовалось только профессией. Хорошему мастеру никто не мешал жить по-своему.
(Другое дело, что для самих москвичей все выглядело совсем иначе Православная церковь своих позиций уступать не собиралась. «Чужих» церквей в центре города строить не разрешалось. В иноземческих слободах тоже принуждены были обходиться своего рода молельными домами, безо всякой внешней декорации богослужений, без колоколов и музыкальных инструментов, особенно органов. И уж во всяком случае, речи не могло быть об иноверческой проповеди. Появившийся в Москве с этой целью известный на всю Европу и повсюду преследовавшийся мистик и «духовидец» Кульман из Бреславля был сожжен в срубе вместе со своим товарищем купцом Нордманом в 1689 году за то, что «чинили в Москве многие ереси и свою братию иноземцев прельщали».)
Кто только не жил в Москве! Англичане, итальянцы, датчане, французы, греки, шведы, голландцы, немцы, персы, турки, татары и считавшиеся почти своими, несмотря на все войны, кончившиеся и продолжавшиеся, поляки. Зато круг профессий был значительно более ограничен.
С самого начала столетия постоянно требовались военные специалисты. Затруднений с приглашением их на русскую службу не было, поскольку после только что закончившейся в Европе 30-летней войны осталось их без дела много. Приезжали строители, архитекторы, инженеры, врачи, музыканты и очень редко художники, даже прикладники. Так же сложился состав и Новонемецкой слободы на Яузе, иначе — на Кокуе.
На две трети состояла вновь отстраивавшаяся слобода из офицеров. Ремесленники селились в Новонемецкой слободе очень неохотно. Художников и музыкантов не было совсем, как не было, впрочем, и органов. Местных жителей это не смущало. Они вполне удовлетворялись услугами городских музыкантов.
Что ж, фактов собиралось так много, что оставалось признать: легенда о Немецкой слободе проверки ими не выдерживала...
«Еще не знаем — уже знаем». Между этими рубежами естественно укладываются знания изо всех почти видов наук, кроме истории. Для исторической науки возникает еще одна, промежуточная ступень: как будто знаем. Доказанность факта и, следовательно, вывода из него по мере развития науки становится проблемой все более сложной и острой. «Общеизвестно, что...» — этого мало. Откуда известно, как, каким образом установлено, чем именно подтверждено и доказано — иначе в канву знаний неизбежно начнет вплетаться легенда. Путешествие в прошлое только тогда и может стать настоящим путешествием, если в нем «общеизвестное» будет документально установлено, выверено без малейших поправок на домысел и догадку. Если все будет соответствовать действительности, отделенной от нас столетиями, послужившей почвой для бесчисленного множества фантазий и легенд и все же возрождающейся перед нашими глазами в своем подлинном бытии.
Центральный государственный архив древних актов (ЦГАДА), фонд Министерства юстиции, «Перепись московских дворов в 1620 году», «Переписная книга г. Москвы 1638 года», «Переписные книги г. Москвы 1665—1676 годов».
Н. Молева, кандидат искусствоведения
Арктика и Антарктика
Ледовый караван
Это был обыкновенный рейс Дудинка — Мурманск, сделавшийся, однако, уникальной экспедицией-экспериментом. Впервые взломали панцирь Арктики в январе. Пять ледоколов во главе с атомоходом «Ленин» провели четыре, транспорта — «Индигирку», «Пушлахту», «Палангу» и «Памир».
Флотилии помогали летчики, связисты, гидрологи, ученые Арктического и Антарктического института. Однако задержки все-таки случались. «Остановились всем караваном в ожидании рекомендаций ледовой разведки» — таково было содержание большинства радиограмм, отправляемых из Карского моря.
Отныне доказана возможность зимних рейсов по Северному морскому пути, а это означает, что решена серьезная народнохозяйственная задача — в северных портах не будут залеживаться на зимний период никель, медь, уголь, лес. Наконец, собраны и научные данные, которые помогут исследователям в их работе над ледовым прогнозом.
«Беринг» в Беринговом море
«Беринг» — это название первой советско-американской экспедиции. Она вела работы в феврале — марте этого года. Собственно, исследования еще не закончены, хотя участники — команды и научный состав двух кораблей советского «Прибоя» и американского «Стейтен айленд», трех самолетов и двух вертолетов — разъехались по домам. Еще предстоят совместные совещания, обмен материалами наблюдений, подведение итогов.
Конечным результатом экспедиции должны быть рекомендации, как вести со спутников ледовую разведку, как с них же определить степень и характер волнения в океане и состояние атмосферы. Для этого надо найти и проверить надежные методы, доступные автоматам; Например: от характера земной или водной поверхности зависит количество излучаемого ею тепла. Вода излучает его меньше, чем лед, лед старый — меньше, чем молодой и т. д. Непосредственной задачей экспедиции и было определить с помощью самолетов, как конкретно будут вести эти и подобные измерения спутники.
Советскому и американскому самолетам помогал американский метеоспутник «Нимбус-5», с кораблей же и со льда контролировали, насколько точно и тонко ведутся измерения «вслепую», приборами, Были у каждой «транспортной единицы» и свои частные задания. Самолетам было поручено, например, изучение состава и строения атмосферы, специальная аппаратура измеряла размеры облачных капель, количество в облаках воды.
Все работы — это было главным в эксперименте — велись синхронно, чтобы можно было уточнять и контролировать получаемые сведения тут же, «не сходя с места». Научная ценность их, таким образом, во много раз повышалась.
В конечном итоге эксперимент должен послужить улучшению прогнозов погоды и ледовой обстановки, что особенно важно для судов, курсирующих в высоких широтах.
Стартовая площадка «Кергелен»
Кергелен — французский остров на 48 градусе южной широты. Население там в основном — геофизики: на нем находится субантарктическая научная станция, где проводятся метеорологические и геофизические исследования.
Двадцать седьмого февраля сего года с острова стартовала первая советская метеорологическая ракета, за нею последовали (в течение трех месяцев) еще девятнадцать.
Смысл совместного советско-французского эксперимента станет ясен, если сначала представить себе расположение других, стартовых площадок для ракет советских метеорологов. Одна из них находится на острове Хейса в Арктике, другая на 48 градусе северной широты под Волгоградом, третья — на юге Индии, четвертая в Антарктиде. Наконец, пятая — кергеленская — замкнет собою меридиональное полукольцо.
В западном полушарии есть такое же полукольцо, его образовали станции нескольких стран. В результате земной шар охватывает круг станций, позволяющих исследовать стратосферу одновременно на разных широтах, что очень важно для прогнозов погоды. С помощью ракет исследуют и солнечно-земные связи, результаты будут использоваться в опытных прогнозах. Наука получила новое средство, чтобы определять их на недели и месяцы вперед.
Русская станция
Южный материк заселен учеными неравномерно — самый пустынный пока на нем западный берег. Отсутствие сведений из этих мест сильно путает карты исследователям, материк оказывается «не охваченным» полностью наукой.
Чтобы уменьшить это белое пятно, было намечено создать на побережье Западной Антарктиды станцию Русскую. Задача эта стоит перед восемнадцатой советской антарктической экспедицией 1973 года.
Участники предыдущей, семнадцатой, экспедиции провели разведку, выяснили, что пробиться к западному берегу можно. Найдено и место для станции — мыс Беркс. Дизель-электроходу «Обь» выпала задача выгрузить, подойдя к мысу, запасы и снаряжение и основать научный городок — седьмой по счету советский городок за Южным полярным кругом.
Раковины-убийцы
Марсель Изи-Шварт — широко известный во Франции кинооператор, постоянный автор телевизионной программы «Познание мира». Он снимал свои фильмы в Бразилии, Перу, Панаме, на островах Тихого океана, в Австралии и других местах земного шара. Одним из первых в конце 40-х годов М. Изи-Шварт начал заниматься подводными съемками.
Меня давно уже не оставляла идея одного фильма; возникла она после просмотра в Париже видовой картины Уолта Диснея «Живая пустыня». Речь там шла о знаменитой пустыне, лежащей в штате Техас и известной под именем Долины смерти. Дисней показал, что под покровом безжизненности пустыня скрывает целый мир, в котором кормятся, дышат, производят себе подобных, сражаются и умирают интереснейшие существа. Вдохновленный этим прекрасным сюжетом, я задумал снять под водой фильм и назвать его «Живой риф».
Для своего шедевра Диснею понадобилось несколько сот километров пленки, отснятой десятком операторов; в титрах «Живой пустыни» числилось восемнадцать человек. Мне же предстояло действовать одному.
Вначале я думал снимать свой сюжет в Австралии, на Большом Барьерном рифе, который сам по себе является чудом света. Но бюро путешествий в Париже снабдило меня таким ворохом рекламных буклетов, живописующих «дивные виды», «шелковистый песок» и «шепчущиеся пальмы», что я призадумался. Горький опыт тут же добавил к этому пейзажу толпу туристов в шортах... Нет, надо искать что-то получше, то есть побезлюдней.
Прилетев на Новую Каледонию, я отправился за консультацией к моим старым друзьям — семейству Риверсе. За несколько десятилетий, проведенных в этих широтах, им удалось собрать одну из лучших в мире коллекций морских раковин. Нужно только видеть, как семейство, растянувшись цепочкой, шествует по мелководью. И там, где неискушенный глаз не видит ровным счетом ничего, они то и дело нагибаются за находкой и отправляют ее в пластмассовую сумочку. После прохода Риверсе ни одному добытчику в этом месте делать нечего.
Вечером сокровища раскладывают на террасе, чистят, обмеряют, описывают, обсуждают. Конхиологи (специалисты по раковинам) во всех странах знают коллекцию Риверсе.
Успех надо отнести на счет их упорства и добросовестности. Но не надо сбрасывать со счетов и удачу. Удачей Риверсе стал розовый конус, весьма редкая раковина длиной в шесть-восемь сантиметров, которая встречается в Коралловом море только возле острова Бурай. У Риверсе, живших некоторое время на Бурае, скопилось довольно много этих редкостей, в обмен на которые они получали из разных мест земного шара интересующие их экземпляры.
Риверсе подтвердили мои опасения насчет Австралии.
— Насколько я слышал, — осторожно сказал Пьер Риверсе, — в районе Большого Барьера сейчас больше консервных банок и бутылок из-под кока-колы, чем раковин... Конечно, Барьер тянется на две тысячи триста километров, и кое-где там еще можно найти укромные уголки, но на поиски у тебя уйдет не меньше трех-четырех месяцев. А здесь — мы, что уже хорошее подспорье. Большой Барьер к тому же удален на сорок-пятьдесят километров от берега, а здесь, на Новой Каледонии, до рифов рукой подать.
Аргументы вполне убедили меня, и в тот же вечер мы начали готовиться к экспедиции. Раковины в каледонской столице Нумеа — всеобщая страсть. О них здесь говорят куда чаще, чем о политике и даже о деньгах. Раковины — связующее звено между семьями, которые дружат и даже враждуют (!) между собой. Раковины есть в каждом доме, в каждой квартире, а часто и в машине. Их взвешивают и оценивают, ими любуются, их владельцам завидуют. О них рассказывают тысячи историй. Ими торгуют, ими обмениваются; случается, даже воруют.
Едва где-нибудь в публичном месте заходит разговор о раковинах, все смолкают — а вдруг человек проговорится и назовет тайное местечко? Весть о находке тут же облетает город. В субботу можно наблюдать, как машины долго крутятся по улицам, стараясь оторваться от погони, или же едут в заведомо ложном направлении, отрядив одного из членов клана в «верный уголок». Здесь есть секреты, которые уносят с собой в могилу. И естественно, здесь есть свой рынок секретов. В порту опустившиеся субъекты готовы за стаканчик рома указать вам место на берегу, «где они еще есть».
Каждое, утро передачу последних известий по радио начинают не с мировых событий, а с прогноза погоды. Приятели, встретившись на улице, перешептываются: «Слыхал? Сегодня в 12.07 будет 02, а завтра — 03». Это значит, можно будет вместо обеда съездить в перерыв в лагуну. Большой отлив (01) случается редко; 02 — чаще. При 03 еще можно что-то пытаться искать. 04, 05, 06 и далее оставляют без внимания.
То же относится и к чтению. Наибольшим спросом на Новой Каледонии пользуются книги о моллюсках, особенно с рисунками — нужно ведь уметь различать раковины. В газетах публикуют фотографии коллекционных редкостей. Под снимками непременно стоит цена, иногда в миллионах старых франков. Счастливые обладатели позируют точно так же, как в других местах охотники фотографируются с убитым львом.
Раковины — это не только удачи, но и трагедии. На местном кладбище немало памятников жертвам лагуны. С морем шутки плохи; смерть ожидает человека, неосторожно зашедшего далеко. Кроме того, есть риск напасть на раковину-убийцу, или боевую раковину, как называют ее каледонские туземцы. Цифры свидетельствуют, что эти безобидные на вид моллюски опаснее акул. В бассейне Тихого океана от акул погибает в среднем один человек в два года; жертвами же раковин-убийц становятся двое-трое ежегодно!
Неизвестно, чего опасаются больше. Я прочел, что не так давно акула растерзала подростка, который нырял за раковинами-трохус. Их очень много вокруг Новой Каледонии; в прежние времена, когда в ходу был перламутр, они пользовались спросом. Но по мере развития химической промышленности перламутр упал в цене. Лет сорок назад ловцы трохуса были самыми частыми жертвами акул: раковины эти водятся не в лагуне, а в проходах между рифами — излюбленном прибежище акул.
Но вернусь к раковинам-убийцам. Позволю себе процитировать документ, озаглавленный «Ядовитые моллюски Новой Каледонии»: «В октябре 1962 года Пастеровский институт в Нумеа провел исследование ядов моллюсков, явившихся причиной смерти нескольких лиц на Новой Каледонии. Следует отметить, что ядовитые свойства раковин были издавна известны коренным жителям островов южной части Тихого океана. Точный перечень смертных случаев установить трудно, поскольку на многих островах нет врачей».
Далее говорится, что на ядовитые свойства раковин обратил внимание еще в 1705 году нидерландский натуралист доктор Румфиус, засвидетельствовавший смертельный случай в Молуккском архипелаге. В документе приводится подробный рассказ доктора Эрмита о недавнем случае с конусом географус среднего размера, подобранным одним коллекционером на Сейшельских островах. Раковина была покрыта слоем водорослей, человек взял ее в руку и стал очищать ножом; незамедлительно последовал укол. Рана была крошечной, ее не было видно. Человек побрел к берегу, с трудом переставляя ноги. Взор его замутился, подступила тошнота, язык распух, он с трудом двигался. «Наличие врача предопределило счастливый исход этого случая», — резюмирует доктор Эрмит.
«Сборщики раковин часто складывают их в купальники или держат в руке, что чревато серьезными последствиями, — продолжает он. — Особенно опасны брюхоногие моллюски. Их величина варьируется от пяти до десяти сантиметров. Отдельные экземпляры достигают 15 сантиметров».
Пастеровский институт разработал несколько вариантов противоядия, которое получают все аптеки острова. Привожу список наиболее опасных раковин: роллус географус Линне — два смертных случая; тулипариа тулипа — один случай; дариконус текстиль — два смертных случая.
Документ заканчивается патетическим призывом: «Собирая раковины, помните: вы шагаете по минному полю. Если какая-то «мина» отсутствует в вашей коллекции, ее следует брать с превеликой осторожностью».
Закончив приготовления, мы отправились к рифам снимать заветный фильм. Пятнадцать дней кряду мы лазали по окрестным лагунам. Мое состояние трудно было назвать нормальным. Иногда при виде дивного зрелища я принимался танцевать на мелководье посреди лагуны или выводил рулады тем баритоном, который появляется у мужчин в ванной. Все было внове. И все было трудно. Я мучительно силился представить сюжет будущего фильма. Все было настолько интересно, что любой выбор, любое ограничение казалось святотатством. Нет, это надо обязательно вставить, и это, и это тоже. Наконец-то я понял сеньора Арле, с которым мы шли в свое время через джунгли Амазонии. Он искал там насекомых и каждый день, забираясь в гамак под москитную сетку, показывал мне дневной урожай. При этом сеньор Арле со вздохом изрекал:
— Сегодня опять только семь новых насекомых.
— Как? — безмерно удивлялся я. — Неужели на свете еще есть неведомые насекомые?
— Боже! В одной Бразилии их несколько сот подвидов...
Раковин тоже существуют тысячи разновидностей, хотя неизвестных среди них — единицы. Но ведь я не коллекционер, для меня все они были лишь форма, цвет, рисунок. Риверсе учили меня обращению с природой. Каждый камень нужно класть на место, терпеливо говорили они; если бросить маленький риф в разоренном состоянии, он умрет.
Вечером, когда мы курили под звездами, я узнавал от Риверсе множество подробностей, не сделавших меня завзятым конхиологом, но все же восполнивших существенные пробелы в моем образовании. Свиток «музыка»? Водится только возле Новой Каледонии и в Японии. «Зигзаг»? На Соломоновых островах. А вот из этой мурекс трункулус финикийцы добывали царский пурпур такой яркости, что, по свидетельству Плутарха, он не выцветал и за столетия.
Лично меня больше всех привлекали порселены, напоминающие формой кофейные зерна. Их называют еще «раковины Венеры». Когда смотришься в их зеркальную поверхность, ясно видишь свою деформированную физиономию. Китайские ювелиры в древности заставляли своих учеников подолгу гладить их, чтобы развить в пальцах чутье.
Большими порселенами обитатели Соломоновых островов украшали свои хижины и пироги, а в Микронезии они служили монетой.
Едва ли не самая известная раковина — это каури. В прошлом веке европейские купцы наживали целые состояния, обменивая на каури у вождей негритянских племен Западной Африки слоновую кость, золото и рабов. В архивах Ливерпульской купеческой гильдии сохранилась запись за 1849 год, свидетельствующая, что только из Англии в Африку было вывезено больше трехсот тонн каури!
И естественно, разговор заходил о каледонских редкостях. Риверсе объяснял редкую форму и окраску местных раковин присутствием в морской воде специфического микроба. Другое объяснение — обилие никеля на острове, часть которого попадает в лагуну и воздействует на моллюсков.
В Нумеа действует единственный в мире черный рынок раковин, и богатые коллекционеры регулярно приезжают сюда для сделок.
Самая редкая на свете раковина — ципрей лейкодон. Насколько известно, существуют только два экземпляра в мире — один в Британском музее, второй — в музее Гарвардского университета в Штатах. Обе находки окружены бесчисленными легендами, так что трудно с уверенностью сказать, где они были обнаружены. Полагают — у побережья Южной Африки.
Редки и гигантские кропильницы, раковины-жемчужницы, живущие по сто лет и более. Иногда они рождают жемчужины величиной с шарик для пинг-понга. В Париже в соборе Сен-Сюльпис хранятся две гигантские кропильницы, подаренные Венецианской республикой королю Франциску I. По моим прикидкам, такая раковина с содержимым должна была тянуть не меньше полутонны!
На Новой Каледонии кропильницы встречаются часто, но, конечно, не столь сенсационных размеров. Ловят их весьма простым способом — в раскрытые створки запускают конец веревки, завязанный узлом. Едва веревка касается нежного мясца, створки тут же захлопываются, и охотник вытягивает свою добычу на берег. Кстати, именно эти раковины породили множество легенд о несчастных пленниках, чья ступня или рука попадали между створками. Но, честное слово, нужна недюжинная ловкость, чтобы умудриться просунуть туда руку или ногу...
С Риверсе можно было говорить бесконечно, как со всяким знатоком-любителем, но, боюсь, эти рассказы рискуют утомить читателя. Пожалуй, пора перейти к собственному приключению, причиной которого стала глория марис — слава морей.
Раковина эта заканчивается спиралью, оранжевое «платье» покрыто множеством треугольничков, причем рисунок выглядит словно вытканный. Она не числится среди особо редких, ее имеют три десятка коллекционеров. Тем не менее цена раковины на Нумейском черном рынке баснословна: 20 000 долларов. Рассказывают, что некий американец, у которого оказались две одинаковые раковины, самолично раздавил каблуком одну, чтобы остаться обладателем уникального экземпляра.
На Новой Каледонии один из поклонников глория марис по имени Турес рассказал мне, что он нашел осколки раковины в брюхах трех рыбин, пойманных недалеко от острова Сен-Фаль, так что если искать королеву моллюсков, то только там.
А что, если?.. Нет, конечно, я не буду заниматься столь неблагодарным делом, как поиски сокровища. Но заснять рифы у Сен-Фаля — неплохая идея. К сожалению, Риверсе не мог сопровождать меня, потому что коллекционирование раковин не освобождает его от необходимости зарабатывать на жизнь. Но по возвращении в Нумеа он пустил слух: «Марсель ищет лодку для поисков глория марис у Сен-Фаля». Этого было достаточно.
Три дня спустя меня нашел рыжеволосый англичанин по имени Рон Карри, владелец двенадцатиметрового шлюпа с заманчивым названием «Искатель приключений». У него были два хобби, как нельзя лучше подходивших к моему предприятию: приготовление пищи и подводная охота. Что касается цены, которую он запросил с меня за поездку, то о ней лучше не говорить... Но в конце концов у меня был шанс найти глория марис, после чего мои денежные дела должны были резко пойти на поправку.
Кроме меня с Роном, на борту был еще матрос по имени Тафи, носивший в судовой роли гордый титул «помощника капитана».
«Искатель приключений» вышел в море. Нам с Роном пришлось довольно долго лазать по карте, прежде чем мы обнаружили крохотную точку с названием Сен-Фаль.
Своим именем этот клочок суши обязан шкиперу Сен-Фалю с корвета «Альсимен», который умер здесь в 1850 году. Сегодня остров почти безлюден. На нескольких пальмах свили гнезда морские орлы, птицы осторожные и разборчивые. Тишина.
Рифы лагуны Сен-Фаля подарили фильму множество новых кадров. Никогда прежде не доводилось мне видеть столь красивых морских звезд! Что касается раковин, то они лежали здесь пластами. Мы бродили целыми днями по колено в воде, а вечером продолжали работу при свете факелов. Попытаться описать раковины? Напрасная затея. Мы собрали по нескольку десятков ночных гребешков, леопардовых свитков, кошачьих глаз и мраморных наутилусов...
Барометр застыл на «ясно». Лагуна, казалось, погрузилась в дремоту. Мы рассчитывали провести на Сен-Фале, по крайней мере, еще неделю, втайне надеясь на милость удачи.
На следующее утро, когда мы отошли на два километра от берега, чтобы покопаться в запасниках этого громадного морского музея, я нырнул к большому кораллу. Сунув руку под камень, я вдруг почувствовал сильный укол, похожий на тот, который случается при прикосновении к оголенному электрическому проводу. Я выскочил как ошпаренный и закричал: «Рон! Тафи!» Те решили, что я нашел заветную глория марис.
Действительность оказалась куда менее радостной. Судя по всем признакам, я схватился за одну из раковин-убийц. Быстрое онемение подтверждало диагноз. Боль была такой невыносимой, что пришлось сжимать зубы.
В панике я выхватил нож и сделал глубокий надрез вокруг места ожога. Рон и Тафи полезли в воду посмотреть на виновника несчастья, но под камнем было пусто.
Внезапно Тафи закричал:
— Рыба! Рыба-скорпион!
Выходит, я ошибся: меня уколола рыба-скорпион, птероис волитан — для тех, кто интересуется ихтиологией. Что ж, ее яд вполне способен составить конкуренцию раковине-убийце. На счету этой рыбы шесть смертных случаев, последний из которых произошел в 1965 году с одним рыбаком в проливе Торреса. Бедняга умер через несколько часов после укуса в ужасных мучениях, потеряв до этого зрение (что особенно отрадно сознавать кинооператору)...
Спутники наложили мне на левую руку жгут, и мы побрели к яхте. Рон надеялся, что на острове Пум сыщется доктор.
Пум лежит рядом, если смотреть на крупномасштабной карте. На самом деле ушло пять часов, прежде чем мы подошли к его закрытой рифами лагуне. С каждым часом мои надежды гасли все больше, взор затягивала пелена. Рука онемела полностью.
Рон по рации связался с берегом и спросил, на месте ли врач. Ему ответили, что он два дня назад уехал за лекарствами на Новую Каледонию...
Это известие, вместо того чтобы окончательно добить меня, неожиданно улучшило самочувствие. Пелена перед глазами начала рассеиваться, я уже видел, что происходит в метре, потом в двух метрах от себя. Врача нет, надеяться надо только на себя. А поэтому спокойно, спокойно... Такое впечатление, что рука обрела чувствительность. Да, я шевелю пальцами! Вот я взялся за доски палубы, они шершавые...
— Тафи, — сказал я. — Сыграй-ка что-нибудь не очень похожее на похоронный марш.
Тафи обрадованно помчался в каюту за гитарой. Жизнь продолжается! Он взял несколько аккордов и заиграл «Когда святые маршируют». А я, все еще лежа, стал легонько отбивать такт пяткой...
Марсель Изи-Шварт
Перевела с французского И. Борисова
«Обогнуть землю»
Полевые исследования я начинал в геологической экспедиции на Печоре и приполярном Урале. Составляли геологические и геоморфологические карты, вели поиски олова и вольфрама. Потом участвовал в выборе направления Урало-Печорской железнодорожной трассы. Но этот проект, как известно, не был осуществлен: дорога пошла значительно восточней — прямо по болотам, потому что там нашли нефть...
Но вы скажете, была же какая-то причина, почему моя жизнь превратилась в кочевую... Дело в том, что я родился в очень глухом районе уральского Севера, с детства мечтал заглянуть за горизонт: манило неизвестное, заветной целью было попасть в Новую Зеландию.
— Почему именно в Новую Зеландию?
— Потому что она географический антипод моему родному Приуралью, и, чтобы попасть в нее, надо обогнуть почти всю Землю. А я ведь хотел путешествовать... По-моему, стоило там побывать. Страна вулканов, гейзеров и ледников, спускающихся прямо в субтропические леса, — все это, в сущности, на «пятачке» земли...
— И удалось?
— Пока мечта не сбылась...
— А как же ледники?
— Это само собой получилось. Вначале на Урале случайно обнаружил несколько небольших ледничков. Как раз там, где об их существовании никто не подозревал. Вообще считалось, что на Урале ледников нет и быть не может, а я позже нашел их там несколько десятков. Это меня заинтересовало. Сначала ледники были моим хобби, а затем увлекся ими настолько, что отправился с нашей первой Антарктической экспедицией на самый дальний и самый большой ледник планеты.
Кстати, отправился туда из Арктики. Узнал об экспедиции в сентябре 1955 года, а через четыре месяца, в январе, корабли «Обь» и «Лена» уже подошли к берегам Антарктиды.
Все дальнейшее не раз описано в книгах, расскажу, как мы ушли в глубь Антарктиды, чтобы основать станцию Пионерскую.
...Вышли на двух тракторах. Они тащили наши балки и сани с горючим. Двигались в сплошной серой мгле против сильнейших стоковых ветров, постепенно поднимаясь по ледяному куполу все выше и выше. Солнце и звезды проглядывали редко, но как только они показывались, поезд немедленно останавливался, и наш «астроном» Конон Павлович Синько спешил определить координаты. Все остальное время приходилось двигаться, ориентируясь с помощью шлюпочного компаса. Обычно это делали мы с Александром Михайловичем Гусевым. Связанные веревкой, уходили на несколько десятков, а иногда и сотен метров вперед, чтобы железо тракторов не мешало показаниям компаса. А за нами тянулся весь поезд. Точность такой ориентировки была, конечно, весьма приблизительной, но помогал ветер: он с завидным постоянством дул нам прямо в лоб. Более чем за месяц удалось пройти триста семьдесят пять километров, поднявшись при этом на три тысячи метров над уровнем моря. Непогода держала нас иногда на месте целыми сутками. Работать приходилось много, но, скажу прямо, от жары мы не страдали: температура колебалась между минус тридцатью и пятьюдесятью градусами. Когда мне приходится рассказывать об этом переходе, я привожу одну цифру, и почему-то всем сразу становится понятным, как мы шли. Андрей Петрович Капица, который выполнял тогда обязанности и сейсмика, и тракториста, потерял во время похода шестнадцать килограммов веса — пуд!
— А вы сколько?
— Мне терять особенно было нечего. Одно время меня там называли: новый вид млекопитающего с наружным скелетом...
— Вы ведь улетели несколько раньше?
— Да. На двадцатые сутки пути стало совершенно ясно, что пройти в глубь материка на все четыреста километров и вернуться своим ходом в Мирный не удастся. Мы оказались перед альтернативой: или бросить поезд и вывезти участников самолетами, или на базе этого поезда попытаться создать внутриматериковую станцию. Приняли второе решение. И мы с Сомовым вылетели в Мирный для подготовки и организации этой станции. А восьмого мая поезд остановился окончательно.
— А вы?
— Тут скорее надо спрашивать о них... Они построили станцию, и вскоре почти всех их вывезли в Мирный. Мне же предстояло зимовать на Пионерской. Но туда еще надо было попасть, а попасть было не так просто.
Вылетали туда трижды. Первый раз сесть не удалось — посадочную на Пионерской готовили, но заструги изуродовали ее настолько, что даже такой ас, как Иван Иванович Черевичный, не решился сесть. Во второй раз началась такая пурга, что мы попросту не нашли Пионерскую. И радиосвязь разладилась. Снова пришлось вернуться в Мирный, да и его-то нашли с трудом, когда горючее было уже на исходе.
Представьте мое настроение, когда вновь прибежал кто-то из летного отряда с распоряжением срочно собираться на третью попытку. Но на этот раз против моего ожидания мы все-таки сели. Как сейчас помню лиловую, прямо как чернила, пелену — она окутывала покрытую застругами антарктическую равнину — и лица подбежавших к самолету... Капица, он уже начал гляциологические наблюдения, под шум самолетных моторов прокричал, показывая куда-то в полярную ночь: «Там станция... там! А вон, метрах в двухстах, гляциологическая площадка... А в общем, Гусев все знает и все расскажет!» Гусев оставался на зимовку.
Обнялись, и самолет почти с места взмыл в воздух. Мы остались вчетвером.
Предполагалось, что через два-три месяца нас сменят, но погода испортилась, и мы застряли на Пионерской на всю полярную ночь. Это была вообще первая зимовка на ледяном куполе восточной Антарктиды.
— Как она проходила?
— Первое, что сделали, с помощью примитивного ручного бура пробурили во льду скважину почти на шестнадцать метров... Приведу еще одну цифру, чтобы было понятно все. В середине августа на поверхности снега минимальная температура достигла минус шестидесяти семи и шести десятых градуса. И это при ветре около десяти метров в секунду. Такой температуры до нас еще не отмечала ни одна экспедиция. Помню, французы в радиограмме пожелали нам одного: благополучно вернуться на родину. Никто не верил, что такая зимовка возможна... А мы не прекращали наблюдений ни на один день: ни метеорологических, ни гляциологических.
Каждый день я отправлялся к той скважине. Сверху вогнал в нее деревянную трубу, чтобы не осыпались края, — эти трубы были предназначены для вентиляции в нашем домике. Потом на автономных шнурах опустил в скважину заленивленные термометры. Да, это именно от слова «ленивый»: температура на поверхности и в глубине ледника была слишком различной, и эти термометры, когда оказывались в другой среде, долго сохраняли свои показания, ленились изменяться... Верхнее отверстие в трубе заткнул кошмой, чтобы холод не проникал внутрь. А на самый верх, чтобы ветер не сквозил, надевал консервную банку. Все записи приходилось делать не на бумаге, а на фанерке — ее я тоже специально вырезал, она была с острой ручкой... Снимал банку, вытаскивал кошму, доставал самый верхний термометр и быстро вгонял кошму на место. Тут же записывал на фанерке показания термометра, обязательно карандашом. Вот у меня и фанерка та сохранилась — в столе, как память, — могу показать... Потом фанерку втыкал рядом с собой, чтобы не унесло, для этого специально и ручку острой сделал...
— Сколько же занимала вся эта процедура?
— У меня — часа два-три каждый день. Были же и другие измерения. Гусев вел полный цикл метеонаблюдений, Кудряшов обеспечивал наше моторное хозяйство, а Женя Ветров — радиосвязь... Все это были ценнейшие наблюдения. А если учесть загадочность, если можно так выразиться, внутренней жизни ледников, то их ценность осталась такой и до сих пор.
— Но ведь прошло немало времени с тех пор. Чем вы занимались потом? И сейчас?
— В последние годы я перекочевал на ледники Тянь-Шаня и Памира. Там со своими коллегами изучал возможности искусственных воздействий на ледники, чтобы увеличить сток с них. Занимался ледниками, которые периодически очень быстро наступают, и это может привести к катастрофическим последствиям. Эти ледники с моей легкой руки стали называть пульсирующими. Один из таких—Медвежий, на Памире. За ним мы ведем наблюдения вот уже десять лет. Наша цель — выяснить закономерности его движения и возможности прогнозирования катастрофических подвижек.
По моему глубокому убеждению, наука — я говорю о любой науке — должна, просто обязана на любом уровне своего развития заниматься и прогнозированием. Не следует ждать какого-то высшего уровня развития науки, когда, дескать, только и возможно прогнозирование...
— А что происходит с Медвежьим?
— Быстро движущийся ледник представляет собой жуткое зрелище. Это огромная, сплошь шевелящаяся масса льда, грязи, камней. Все меняется прямо на глазах: глыбы наползают друг на друга, проваливаются, всплывают опять, исчезают трещины, появляются новые. Но хотя сама подвижка ледника производит весьма сильное впечатление, опасна не столько она, сколько озера в подпруженных ледником долинах. До апреля 1963 года Медвежий, вернее лед в нем, двигался довольно спокойно: со скоростью около пятидесяти-семидесяти сантиметров в сутки. Но в конце апреля его скорости резко возросли: до пятидесяти-ста метров в сутки. Ледник покрылся трещинами, конец его вздулся гигантской каплей и стал продвигаться вниз по долине. Руша на своем пути все, он прошел около полутора километров и остановился. Но запрудил долину реки Абдукагор, и в ней начала скапливаться вода. Образовалось озеро, и наконец подгруженная вода промыла туннель в ледяной толще и хлынула в Ванчскую долину, вызвав мощный паводок и разрушительный сель. К счастью, обошлось без жертв.
— Как же можно изучать ледник, когда он в таком состоянии?
— В этом все и дело. Чтобы изучать ледник, лучше всего находиться на нем, но это невозможно во время подвижки. Мы смогли ступить на Медвежий только через год. И то это был риск. Приходилось спускаться в трещины на глубину чуть ли не в тридцать метров. Это когда полутонные глыбы вот-вот обвалятся: висят над тобой, сбоку, снизу...
После того как подвижка закончилась, нижний конец ледника стал быстро разрушаться, а в верховьях вновь началось интенсивное накопление снега и льда. Оно и должно в будущем привести к новой подвижке. Это неизбежно.
— Когда же это произойдет?
— Наблюдения, которые нам удалось провести, позволяют с достаточной долей вероятности предположить, что очередная подвижка может наступить в ближайшее время. И к ней нужно готовиться.
— Ваша следующая экспедиция, конечно, связана с Медвежьим?
— Да, мы намерены продолжить исследования. А затем попытаемся составить каталог ледников этого класса и более полно разобраться в механизме и причинах катастрофических подвижек.
— А, извините, Новая Зеландия?.. Как с ней?
— Ну, у меня еще есть время...
Леонид Дмитриевич Долгушин, гляциолог, доктор географических наук
«Увидеть гнездо стерха»
Это было весной в прошлом году. В Береляхе, на Индигирке, где я уже бывал раньше. Удача такая случается редко. Не рассчитывал я, что найду его. И все получилось неожиданно: приехал якут-пастух Ваня Горохов, мой знакомый, сказал, что видел каталыков — якуты так называют стерхов: наверное, мол, у них там гнездо. Я спросил, почему он так думает. Иван ответил: «Ведут себя странно, не улетают, наверняка там гнездо». В карте он не больно разбирался, но описал по ориентирам, по сопкам, как и куда ехать. Выходило километров сорок по тундре.
Мы были вдвоем — со мной студент Паша. Добыли лошадь, взяли нарты, потому что ехать надо было со всем хозяйством: палатка, спальные мешки, посуда, продукты, даже дрова. Начало июня, но еще холодно было. Местами снежок лежал. А иногда и свежий подсыпал. Нехорошая, в общем, весна.
Двигались ночью. Солнышко все равно в небе, а птиц лучше видно. Они если уж вылетают, так прямо из-под ног.
Первый переход у нас был До избы на озере Бюгючен. Летом там рыбаки живут, но, сейчас, конечно, никого не оказалось. Да весной в ней и не переночуешь: избушка маленькая, сложена из дерна, еще и осела, снегу в ней, льда набито — так что мы просто рядом палатку поставили... Куропатка прилетела. Самец. Они любят возвышенные места для обзора — вот и прилетел: сидел на избушке и кричал. Пока до избы шли, два раза видели стерхов. Но далеко пролетали, не гнездовые. Отдохнули мы, поспали, только начали собирать палатку и лошадь седлать — и тут в упор налетела пара... Они шли прямо на нас, при ярком солнце! Я вскинул аппарат: взводил и щелкал, раз за разом. Последний раз щелкнул, когда стерхи проносились прямо надо мной. Они чуть-чуть не укладывались в видоискателе. Я нажал спуск... Я точно слышал щелчок. Это был прекрасный кадр! Я даже успел отрегулировать резкость. Все остальное было пустяк в сравнении с этим кадром...
Но не буду вас интриговать. Снимка потом не оказалось.
— Как?
— Не оказалось, и все! Что-то я сделал не так, хотя до сих пор не могу понять точно, что именно.
— А гнездо? Вы нашли его тогда? И почему вы вообще увлеклись птицами?
— Я убежден, что такая любовь к животным, которая определяет затем весь жизненный путь человека, свойство врожденное. Может быть, наследственное. Как любовь к музыке, или к математике, или к стихам.
Отец у меня кристаллограф, но был он охотник и страстный любитель природы. Мы с братом учились читать по книгам Брема, Сетон-Томпсона, Мензбира, Формозова. Потом начались голуби, певчие птицы... Дома, на Ордынке, комнаты были маленькие, но я держал до сорока клеток. Весь потолок, стены, подоконники...
— А сейчас? Я слышу пение.
— Это у ребят чиж поет. Я уже не держу птиц — времени не хватает. Птицы — дело хлопотное.
— Ну и как же дальше было с птицами?
— Про них пришлось забыть. Дальше была война. Я ведь до самой Германии дошел. А после демобилизации все снова вернулось в правильное русло: поступил на биофак — и не жалею ничуть. Дипломная работа была по гаге. Но потом специально птицами заняться не удалось: попал в Академию медицинских наук. Стал охотником за вирусами. Казахстан, Тува, Бурятия, Туркмения. А потом Кольский полуостров, тундра. Тундры становилось в моей жизни все больше и больше: Врангель, Таймыр, Индигирка. И сейчас, кстати, скоро туда поеду. Летом я люблю свободу, безлюдье, а края там...
— Что значит охота за вирусами?
— Ну вот на Кольском... Матросы стали заболевать какой-то странной болезнью. Подозревались, если можно так выразиться, птицы. Дело в том, что матросы брали яйца с птичьих базаров. Вот нам и пришлось обследовать сотни и тысячи убитых птиц.
— Согласитесь, это все-таки немного странная форма любви к птицам — охота за вирусами...
— Возможно. Но, как правило, работу я свою в экспедициях выполнял быстро, остальное время занимался птицами для души. Смотрел, слушал... Я коллекционер по природе. Собрал прекрасную коллекцию яиц. Конечно, сугубо научную, и она сейчас в Зоологическом музее, здесь, в Москве. Когда-нибудь я напишу книгу «В поисках птичьих гнезд».
— И там будет о белом журавле?
— Да. И о нем.
— Расскажите, как вы нашли тогда его гнездо.
— Это чудо — белый журавль! Что вы знаете о нем?
— Ничего.
— А вообще о журавлях? Ведь их становится все меньше и меньше. Большие, броские — прекрасные птицы. Представьте огромную птицу, очень осторожную, которая не любит людей, прячется от них, а сама заметна — она почти в рост человека...
Только серый журавль еще, пожалуй, удержится долго. И то на севере Европы... А такие, как красавка, исчезают прямо на глазах. Но есть еще и редчайшие — их исчисляют чуть ли не десятками. Например, гнезда черного журавля не видел никто и никогда. А гнездо даурского за всю историю русской орнитологии найдено, пожалуй, одно.
Бывает, что саму птицу увидишь случайно, мельком, быть может, раз в жизни. А уж гнездо и подавно! Его ведь прячут. А крупные птицы особенно осторожны у гнезда. Журавль, например, мало того, что выбирает место для гнезда с хорошим обзором, но при появлении опасности непременно отбежит. Бежит согнувшись метров на сто в сторону и только потом поднимется. Найди такое гнездо!
— А белый?
— На всем земном шаре он гнездится только в двух районах. Это кусочек тундры между Яной и Ализеей с центром в Береляхе, и второе пятно — низовья Оби. Но о втором никаких сведений у орнитологов давно нет. Это вообще одна из загадочных птиц нашей фауны. Каталык, белый журавль, он же стерх. Мало кто видел не то что гнездо, а вообще живого стерха. Их замечают редко, когда они летят осенью с Оби в Афганистан через Тургайскую депрессию. Я видел стерхов на весеннем пролете один раз на Байкале. Недаром стерх внесен в знаменитую «Красную книгу» — международный список вымирающих животных. Предполагается, что стерхов сейчас осталось около четырехсот пятидесяти пар. Я считаю, что их гораздо меньше. Гнездящихся — не более ста двадцати пар.
Всего два человека видели их гнезда с кладкой: Владимир Иванович Перфильев, якутский зоолог, — он нашел гнездо первым. И второй — я: впервые в 1965 году и потом совсем недавно, весной 1972 года...
Вот почему я тогда не сразу поверил Ване Горохову: не поверил в свое счастье. Не может быть такой удачи дважды в жизни.
— И как это было?
— Тогда, у охотничьей избушки, я еще не знал, что снимка не будет. Настроение было отличное: снять стерха так близко — это уже удача.
На втором переходе я опять шел пешком. Идти по тундре трудно: на ходу жарко, а сесть отдохнуть нельзя — сразу мерзнешь. Так я и шел не спеша, глядел в бинокль, иногда посматривал, где Паша. Опять я отстал сильно, но не огорчался. Впереди уже был виден бугор, около которого, если верить описанию, ждали нас стерхи. Паша должен был разбить там лагерь. Оставалось пересечь залитую водой низину. Когда я посмотрел на бугор в бинокль, Паша был уже там, ставил палатку. Только я тронулся... и тут услышал их голос-Глубокий голос белых журавлей. Они кричат так же, как и обыкновенные серые. От неожиданности мгновенно присел: не спугнуть бы! Я почти сидел в воде, а они сделали круг, другой, стали загибать на третий — плавно, красиво... Значит, все правильно! Есть гнездо! До Паши было не так уж далеко, и я поспешил к нему: хотелось скорей узнать, не видел ли он, откуда они слетели. Нет, он не заметил.
Стерхи пошли на посадку. Большие, они красиво садятся! Опустились далеко, постояли, потом один пошел... Ну, думаю, на гнездо... Я уже стал замечать ориентиры, чтобы потом искать гнездо, но он все шел. И взлетел. Так уж сразу-то гнезда не показал. Зашли мы за бугор, залегли, подождали с полчаса. Потихонечку, медленно я высунулся из-за бугра... Один стоит. Повел биноклем немного налево — и что б вы думали? Сидит на гнезде! Сидит самым наглым образом!
Никто и никогда не снимал белого журавля на гнезде. А тут — вот он. Сидит! Но далеко... Хотя в бинокль я видел его прекрасно. Сразу вспомнил, что говорил Иван. Мол, лошадь каталык подпускает чуть ли не на двадцать метров. Надо попробовать.
Взял я аппарат, сел на нашего коня и поехал. И что вы думаете? Не подпустил меня журавль. Тут же улетел! Правда, сел близко и беспокоился страшно, но на выстрел не подпускал. Ну, думаю, надо хоть гнездо посмотреть. Сразу-то не нашел, проехал правее. Развернул коня, еду назад и увидел его. Да, два яйца. Как и должно. Лежат не рядом, а на небольшом расстоянии друг от друга. Но как сфотографировать саму птицу на гнезде?! С лошадью ничего не вышло. Что делать?
Мы еще в Москве придумали вот что: из материи сшили чучело оленя — туловище, шею. Голову сделали фанерную, с рогами, все как надо. А ноги не делали, ноги наши. Но в сапогах они получались у нашего оленя очень уж толстыми, не оленьими. Поэтому провели по сапогам мелом жирную черту — вдоль. От этого наши ноги должны были казаться тоньше. Так мы превратились в оленя и пошли.
Но не тут-то было! Все шло хорошо, пока мы не влезли в мешок. Во-первых, ни черта не видно сквозь щелочку. Да и неудобно оказалось идти в мешке вдвоем-то! А тут еще сильный ветер, и мешок наш надуло как парус. Так что не в оленя мы превратились, а в какое-то другое животное — и, наверное, очень уж странное. Что должен был думать о нас стерх, не знаю. Думаю, он должен был удивиться... Это сейчас смешно. Тогда нам было совсем не до смеха. Ничего не видя, мы плелись в своем троянском олене и тут услышали голос стерха. Уже прямо над собой! Кричал он довольно испуганно... Ничего, короче, не вышло!
Бросили мы этого «оленя». Рога даже сожгли в сердцах на костре, вместе с головой.
Что делать? Остался испытанный уже способ: делать засидку и ждать. Я взял свой спальный мешок, Паша вел лошадь — загораживал меня, и мы отправились. Остановились метрах в восьмидесяти от гнезда, на бугорке. Ближе нельзя, вода, мешок не положишь. Снял я сапоги и залез в мешок. Высунул трубу-телевик и стал ждать. А Паша с лошадью ушел в лагерь.
Ждал я недолго. Буквально минут через десять посмотрел. Сидит! Сидит на гнезде! Навел объектив: трава... Трава совсем загораживает журавля. Медленно, едва-едва я стал поднимать телевик — и вот бы еще полсантиметра, и я бы щелкнул, только бы эти полсантиметра! Посмотрел в видоискатель, а стерх улетел.
Ничего, думаю. Время у меня неограниченное, полежу.
На этот раз прошел час, не меньше. Я выглянул. Журавль опять сидел. Но о том, что было в прошлый раз, можно было лишь мечтать. Едва я чуть-чуть шевельнул" трубой, птица поднялась. Наверное, она следила уже только за мной. Все было бесполезно. Я вылез из мешка и встал не таясь. Паша привез мне сапоги. Скрываться не имело смысла, мы отправились к гнезду, сфотографировали его, обмерили. Надо было уезжать...
Но мы с Пашей теперь уж все продумали. Снимем в этом году стерха. На гнезде.
Владимир Евгеньевич Флинт, зоолог, кандидат биологических наук
«Взойти на Эверест»
На полках перед книгами лежали камни. Очень невзрачные, и, значит, был какой-то другой смысл в том, что они лежат тут, в доме Божукова.
Я брал любой, первый попавшийся камень... Это сланец с пика Коммунизма. А это белый мрамор с Хан-Тенгри. Дело не в красоте камня, важно, что он с покоренной вершины, с самой верхней точки.
— И все берут?
— Это ведь тоже мода. Но если подумать... Два года человек ходит за инструктором. След в след. Не имеет права на шаг в сторону. Два года видит впереди, себя только спину и ноги инструктора. И потом твой первый самостоятельный подъем. Буквально теряешься от счастья и неожиданности: иди куда хочешь, сам выбирай дорогу... И тогда ты вдруг понимаешь, что отвечаешь за свою жизнь сам. Нет больше инструктора. Поднимаешься и изо дня в день думаешь только об одном: стоять твердо. Перед тобой лишь одна стена. День, два, три... Когда выходишь наверх, становится хорошо.
Если бы я мог описать это чувство точно — когда ты уже наверху, — то, наверно, не надо было бы подниматься в другой раз... Стоишь, смотришь вниз... Тут каждый думает в меру своей фантазии. Ни один альпинист не осмелится предполагать, что думает в эти мгновения другой. Я лично чувствую, что мне хорошо. Фотографирую, беру камень. Любой. Другие ищут только красивый, некоторые не берут никакого.
— Кажется, теперь понятно, как глупо задавать «вечный» вопрос: «Зачем же вы все-таки поднимаетесь на вершину? С таким трудом?»
— Да, альпинисты, одни из немногих, всегда в странной ситуации: вопрос, зачем мы лезем вверх, преследует нас...
Только в наших горах тысяч двадцать человек восходит на вершины ежегодно. Мне незнаком большой альпинист, в окружении которого или с ним самим не случилось бы ничего драматического. И все-таки на следующий год по горам бродят те же двадцать тысяч.
Я уже не говорю о той радости, когда ты на вершине. Во-первых, альпинизм — это спорт. И как спорт он в какой-то мере необходим каждому. Но главное, человеку все равно надо осваивать горы. Их слишком много на земле, чтобы не обращать на них внимания. А раз туда надо идти, то следует быть готовым к суровости гор. Даже такие люди, как геологи или гляциологи, с горами на «вы». Кстати, известно из прошлого, что страсть альпинистов к нехоженым местам звала за собой и их. Так открыт был молибден на Кавказе, свинец в Средней Азии... Мы, альпинисты, уже становимся нужны.
— Где?
— Пока, насколько я знаю, нас вызывают в аварийных ситуациях. Например, работа Олега Космачева, кстати, сильнейшего скалолаза и альпиниста в Союзе. Я не был, в его группе, в ней работали казахские альпинисты.
На одной стройке построили трубу: кирпичную, сто пятьдесят метров высотой. А потом что-то случилось — несчастье, пожар, кажется... Труба выгорела. Наверху конструкция металлическая была, так там и осталась, того и гляди рухнет... Тут не то что лезть — не по чему — подойти близко и то нельзя. И ветер ураганный. Вертолет бросает, опасно! Ребята лезли по наружной стенке. Мороз под тридцать, ветер... Поднимались, били крючья, монтировали лестницу. Потом уж рабочие за ними поднялись.
В прошлом году, правда, и без аварии нас вызывали. В Ясную Поляну. Но такой один только случай, больше не помню.
Щекинский химкомбинат выдыхает свой дым — сейчас, правда, реже, — и его тянет прямо на усадьбу: такая там роза ветров. Деревья сохнут, и мертвые ветки надо было спилить. А они все больше наверху. И странно, никогда до этого не видел и не знал даже: дубы, оказывается, бывают низкие, с громадной кроной, широкой — тот самый толстовский дуб, а есть в Ясной Поляне еще другие — элитные. Эти высокие. Внизу веток нет, а крона на самом верху. Вот тут мы и пилили. Пришлось полазать...
Хорошо, кстати, там, в Ясной Поляне. Особенно ночью. Выйдешь — тихо... Снег под ногами, наверху звезды. Идешь по аллее, туда пройдешься, оно само будто тянет — к его могиле...
— Но ведь это экстренная работа. Горы — только летом. Как можно весь год находиться в городе, работать инженером, как вы, и не потерять форму?
— Бегаем кроссы, на лыжах много ходим, по развалинам лазаем, по стенам... Под Москвой есть развалины, есть старые заброшенные каменоломни. Приезжаем туда, раздеваемся. Тридцать минут разминка — и на стену... Полчаса по вертикальным стенам ползаешь. Где обвалено, перепрыгиваешь, переходишь на руках. Потом футбол, баскетбол — и опять на стену. Только уж на скорость. Кто-нибудь с секундомером внизу стоит. Раз двадцать сбегаешь вверх-вниз — а там метров двенадцать высота — хорошо получается, если сложить.
Так два раза в неделю. А в воскресенье — большая тренировка. Часов на шесть туда едем. Все то же самое, только еще бег. Это уж до упаду. Потом — на деревья... Сосны есть метров по тридцать пять, выше нету, — вот по ним: вверх-вниз, вверх-вниз... Наверху прилично качает.
Так что если летом хочешь идти серьезно, то тренируешься на совесть. Зарядка — это уж само собой. В шесть выскакиваешь, до семи бегаешь, плаваешь. А я еще на четырнадцатом этаже живу... Возвращаешься с зарядки — раза два по лестнице пробежишься. Рукам побольше внимания. Это когда лазаешь...
— Чем же руки альпиниста отличаются от рук «обыкновенного» человека?
— Ну вот! Мне стало даже неловко... Я уж каким-то необыкновенным человеком стал! Нет. Тут дело все в том, что было бы впереди хорошее восхождение, тогда и тренируешься без принуждения. А так я ведь и зарядку пропускаю иногда... А насчет рук, руки у Вити Маркелова — это да! У хорошего скалолаза они каждую трещинку чуют, тут уж и глаз не нужен. Например, по гладкой колонне лезть, если есть хоть какая-то возможность прихватить ее руками, тут и делать нечего! Витя вроде только поглаживает стену, а руки уже сами прилипают... Это все равно как есть люди, которые ходят, а есть, которые не могут ходить.
Вообще же в альпинистской группе люди очень разные. Один хорошо тактически разбирается — лучше выбирает маршрут. Непревзойденный в этом мастер наш тренер, заместитель главного инженера Гидропроекта — Кирилл Константинович Кузьмин.
Кстати, об альпинистском возрасте. Кузьмину за пятьдесят, а на высоте, когда другим молодым дыхания не хватает, он вроде бы только начинает идти. Хоть бы что идет! А другой лучше ходит по льду, третий по сложным скалам, но кому-то и примус надо разжигать... В группе все распределяется сразу, всем и все тут же видно, каждый как на ладони — еще по прошлому. А разница бывает громадная. В Крыму, например, на Крестовой горе каждый год бывают соревнования скалолазов. Вот это полноценный спорт! Они там буквально бегают по отвесной скале. Правда, с верхней страховкой. Так что если кто и упадет, то просто сходит с соревнований; у альпинистов другой риск — и ставка побольше. Но как отличаются люди! Сильнейшие — тот же Маркелов или Саша Губанов — поднимаются на Крестовую за три-четыре минуты, а последний — за двадцать. Большинство же вообще не проходят маршрут — срываются...
— Как относятся альпинисты к тому, что они все больше становятся необходимыми? Это я и про трубу, и про Ясную Поляну.
— Хорошо. Прекрасно относятся. В Нуреке мы лишний раз доказали это. Это случилось на «камне». Так мы сразу назвали тот кусок скалы весом в пять тысяч тонн. Глыба нависла над створом плотины, отошла от основного массива и осталась лежать на нижних пластах породы. Ни у кого не было уверенности, что при сильном землетрясении она не сойдет с места и не обрушится вниз. И это с четырехсотметровой высоты! Взрывать ее нельзя: при падении осколков могли быть слишком большие разрушения внизу. Тогда и решили, ее закрепить: притянуть тросовой «авоськой». Вот здесь и выяснилось, что легче обучить альпиниста сварке и бурению, чем не искушенного в скалолазании человека — альпинизму
Тут еще дело в полном доверии друг другу. Все гораздо тоньше, чем можно думать. Существует инстинкт доверия, и если спортсмен-альпинист стоит, например, на страховке, то он уже знает все узлы, он их не спутает, и работающие внизу уверены в этом, они не сомневаются в этом ничуть. Короче, сборная «Буревестника» выехала в Нурек, и за два дня мы обучились работе на перфораторе. Профессии сварщика и бурильщика были некоторым из нас знакомы, но работать надо было на отвесе, и вот тут-то удалось выдать весь свой альпинистский арсенал.
Каждое утро мы поднимались затемно, часа в четыре. Первые ходки — с водой, каждый нес по ведру. Это и пить, и для работы, и облиться, если уж очень плохо станет. Все-таки сорок—сорок пять градусов... Работать можно было только часов до одиннадцати-двенадцати, пока солнце не приходило на «камень». Потом оно начинало печь жутко. К этому времени мы уже изнемогали. Надо учесть, что все, что не удавалось сбросить на «камень» с вертолета, таскали на руках. Поднимались по крутой тропе на триста метров и в каждой руке тащили по пруту анкерного железа, каждый по двадцать килограммов весом и длиной в два с половиной метра. За две-три ходки поднимали очередные две-три тонны груза. А Миша Петров и Толя Иванов, например, за одну ходку умудрялись втащить наверх по шестьдесят килограммов железа.
В восемь уже начиналась сварка, бурение... Вечером, с четырех до восьми, опять поднимались на «камень».
Всего пришлось поднять восемьдесят три тонны груза. А однажды целый день затратили на подъем сварочного трансформатора. Весил он почти четверть тонны, и затаскивали его тоже на руках. Кроме всего этого, для бурения и сварки на отвесах пришлось сконструировать и тут же изготовить специальное снаряжение: платформы, лесенки, шлямбурные крючья... Работу мы закончили в срок, и у нас приняли ее с оценкой «отлично».
— Что вас ожидает в этом году?
— На Памире добывают горный кварц. Выработки на высоте четырех тысяч метров — где больше, где меньше. Есть уже совсем пройденные выработки, и надо искать новые. Наверное, я буду там. Надо походить по отвесным стенам, поискать друзы — они ведь в пещерах. Иногда такую пещерку и не заметишь, если буквально не наткнешься на нее. И до них еще попросту никто не добирался.
Но есть еще и чисто альпинистская мечта, идефикс: обязательно подняться на восьмитысячник. К примеру, взойти на Эверест.
Валентин Михайлович Божуков, альпинист, мастер спорта
Беседы записал Ю. Лексин
Город под холмом
Там, где воды Кафирнигана сливаются с Амударьей, на землях, некогда подвластных Кушанскому царству, издавна было приметно городище, которому местные жители дали название Шах-и-Тепа — Шахский холм. Эти земли около ста лет назад (в 1877 году) подарили науке один из удивительнейших кладов — 180 золотых и серебряных изделий, — который в историю мировой науки вошел под названием «Амударьинский клад».
Советские археологи в 50-е годы сделали здесь немало интересных открытий.
И вот в 1971 году Академией наук Таджикской ССР была организована большая экспедиция для дальнейших исследований этого района. В прошлом году мы решили проникнуть в недра Шах-и-Тепа.
Одно здание, второе, третье... Появляются каменные базы колонн, кушанские монеты, терракотовые статуэтки. Холм скрывал, оказывается, остатки небольшого города с дворцом в центре. Возможно, здесь в первых веках нашей эры был перевалочный пункт и место отдыха караванов, отправлявшихся в Афганистан и далекий Индостан. Среди руин города было найдено большое количество ювелирных изделий и скульптур. Особенно нас порадовал фрагмент одной алебастровой скульптуры — часть торса изящного юноши, держащего в руке букет цветов: конечно же, это известный персонаж буддийской мифологии — Сумедха, бросающий цветы к ногам Будды.
В окрестностях городища мы обнаружили странные холмики, на поверхности которых были человеческие кости. Оказалось, это были наземные погребальные сооружения. На полах погребальных камер лежали в полном беспорядке кости и черепа и богатые погребальные дары: монеты, бронзовые, серебряные и золотые украшения, остатки текстильных изделий, керамика, великолепные терракоты, алебастровый идол... Это был городской некрополь.
Находки экспедиции — в городе и его некрополе — впервые в кушановедении «представили» твердые доказательства того, что часть бактрийско-кушанского населения придерживалась норм и установлений, связанных с зороастризмом. Для истории Бактрии это открытие имеет исключительно важное значение.
«Эти находки, — так сказал президент Академии наук Таджикской ССР Мухамед Асимов, — воссоздают новую страницу жизни мировой культуры».
Б. Литвинский, заведующий сектором Института востоковедения АН СССР
Тасадай Манубе год спустя
Больше года прошло с того времени, когда страницы печати всего мира облетела весть: в непроходимых горных джунглях филиппинского острова Минданао обнаружено самое отсталое на Земле племя (Две публикации на эту тему дал и наш журнал: во 2-м и 4-м номерах за 1972 год.).
По мнению специалистов, занимавшихся языком тасадай манубе, племя прожило в изоляции от остального мира от пятисот до тысячи лет. Этим вопросом занимались именно лингвисты, потому что язык племени относится к той же малайско-полинезийской языковой группе, что и наречия других племен острова, и изменения в словарном запасе могли показать, с какого времени языки начали развиваться отдельно.
Жили тасадай манубе отдельно тысячу лет или «всего» пятьсот — в любом случае эти цифры не сопоставимы с цифрой один: один год. Ибо этот год настолько отличался от предшествующих ему сотен лет, что на весах истории мог бы их перевесить.
Каковы же изменения, происшедшие за этот год в жизни затерянного в джунглях племени?
Немедленное воссоединение племени тасадай манубе с остальной семьей человеческой могло бы закончиться для племени катастрофой. Тому в этнографии мы сыщем множество примеров, достаточно вспомнить южноамериканских индейцев, австралийских аборигенов, влачащих более чем жалкое существование в слепленных из хлама хижинах за окраинами больших городов. Потому и было — по рекомендации открывателя тасадай манубе доктора Мануэля Элисальде — принято решение об объявлении района, где живет племя, заповедным. Это означает, что никому не дано право вступать в контакты с людьми джунглей иначе, чем под контролем специалистов из Президентского совета по делам национальных меньшинств, того самого Панамина, которым руководит Мануэль Элисальде.
Тем не менее, за прошедшие полтора года гостями племени побывали несколько групп журналистов и антропологов. И даже эти короткие визиты оставили в жизни племени свои следы. Так, необычайно понравились тасадаям консервные банки. Именно сами банки, а не их содержимое. Тасадай манубе расплющивают банки камнями и складывают пластины в специально отведенное место. Из них делают потом наконечники для палок, которыми выкапывают съедобные корни, или острия для ловушек-самострелов на мелкую дичь. Впрочем, тасадай манубе ничего не имеют против консервов, едят их с удовольствием, но относятся к консервам несерьезно. Это, мол, вкусно и сытно, но с настоящей едой несравнимо. А настоящая еда тасадай манубе почти не изменилась. Весь этот скудный рацион вы можете увидеть на снимке: корни, водяные луковицы, лягушки. Еще сюда надо добавить мелких пресноводных крабов, ракушки и время от времени небольшую обезьяну или мелкого кабана. Последние два блюда появились в тасадайском меню совсем недавно: еще до прихода Элисальде, после встречи тасадаев с охотником Дафалом из племени манобо-блит. Как вы, очевидно, помните по нашим прежним публикациям, Дафал по прозвищу Птица был вообще первым чужим человеком, который встретился с тасадай манубе. Он научил их ставить силки и мастерить самострелы.
Врачи, осматривавшие тасадаев, предположили, что вымирание племени (у тасадай манубе очень мало детей) связано со скудным и крайне однообразным питанием. Как быть? Привозить пищу и раздавать ее? Но это привело бы к новым проблемам: тасадай манубе прекратили бы нормальный для них образ жизни. Доктор Элисальде решил действовать иначе. Тасадаям понравился рис, значит, нужно попробовать научить их его выращивать. Нескольких мужчин из леса отвезли в деревню племени манобо-блит. Манобо-блит выращивают рис самым примитивным и, по мнению ученых, вполне для тасадай манубе доступным способом: выжигают участок леса и несколько лет используют удобренную золой почву. Потом — когда почва истощится — деревня переселяется на новое место и снова выжигает в лесу участок. Тасадай манубе внимательно знакомились с жизнью и работой манобо-блит. Но они не могли взять в толк: зачем зарывать в землю зерно, которое можно съесть? Зачем нужно столько трудиться и ждать, когда можно накопать в лесу съедобных корней, которые совсем не хуже риса?
Вздохнув, ученые оставили попытки превратить тасадай манубе в земледельцев. Видимо, разрыв между собирательством и земледелием — пусть даже самым отсталым, подсечно-огневым, — слишком велик, чтобы его удалось преодолеть за краткий срок.
Некоторое изменение претерпела одежда тасадай манубе (если можно назвать одеждой ее отсутствие). Сейчас все взрослые в племени хоть чем-то прикрывают тело, по крайней мере, при встречах с посторонними людьми. В остальном материальная культура племени не изменилась. Тасадай манубе с интересом могли смотреть на различные забавные и непонятные предметы, которых у пришельцев полно, но не выражали при этом ни малейшего желания обладать этими «штучками». Пока еще неясно, почему тасадай манубе ведут себя таким (сильно отличным от других примитивных племен) образом, скорее всего тасадай манубе не привыкли к мысли, что странные, прилетающие на ревущих железных птицах могущественные существа всего лишь люди, как и они сами. А если это не люди, а боги, то у них свои вещи, «божеские», и людям нечего их желать.
Язык тасадай манубе пока не обогатился новыми словами. Неизвестно, как они обозначают понятия «вертолет», «консервная банка», «рис». Вероятно, прибегают пока к описательному методу: «то, что летит и шумит», к примеру. В общем-то, новых понятий пока не так много, поэтому еще можно обходиться без новых слов.
Что будет дальше? Этот вопрос тревожит специалистов.
Большинство из них склоняется к мысли, что нужно медленно «выводить» тасадай манубе на уровень хотя бы самых отсталых племен острова Минданао. К примеру, манобо-блит. Для тасадай манубе это, конечно, было бы немыслимым шагом вперед. Постепенно сравнявшись с соседями, тасадай манубе смогут развиваться вместе с другими племенами. Может быть, это позволит решить брачную проблему племени, где мужчин больше, чем женщин?
«Очевидно», «может быть», «вероятно» — те выражения, которые можно употреблять, говоря о будущем племени тасадай манубе. Ибо будущее это туманно и неясно.
Л. Ольгин
Май Шёвалль, Пер Вале. Запертая комната
Шведский писатель Пер Вале известен советскому читателю по романам «Гибель 31-го отдела», «Стальной прыжок».
Последние годы вместе с женой, Май Шёвалль, они пишут серию социальных романов, обличающих буржуазное государство и полицейский аппарат.
«Запертая комната» (1972 год) — роман о преступлении — восьмой из этой серии. Предыдущая книга — «Негодяй из Сефлё» — выходит в издательстве «Молодая гвардия» в 1973 году.
I
Церковные часы пробили два, когда она вышла из станции метро на Вольмар Икскюлльсгатан. Она остановилась, закурила сигарету и быстро зашагала дальше, к Мариаторгет.
Дрожащий колокольный звон напомнил ей о безрадостных воскресных днях детства. Она родилась и выросла всего в нескольких кварталах от церкви Марии Магдалины, где ее крестили и почти двенадцать лет назад конфирмовали. От всей поцедуры, связанной с конфирмацией, ей запомнилось только одно: как она спросила священника, что подразумевал Стриндберг, говоря о «тоскующем дисканте» колоколов церкви Марии Магдалины. Память не сохранила ответа.
Солнце пекло ей спину, и, миновав Санкт Паульсгатан, она сбавила шаг, чтобы не вспотеть. Почувствовала вдруг, как расшалились нервы, и пожалела, что перед выходом из дому не приняла успокоительное.
Подойдя к фонтану посредине площади, она смочила в холодной воде носовой платок и села на скамейку в тени деревьев. Сняла очки, быстро вытерла лицо мокрым платком, потом протерла уголком голубой рубашки очки и надела их. Большие зеркальные стекла закрывали верхнюю часть лица. Затем она сняла синюю шляпу с широкими полями, подняла длинные, до плеч, светлые волосы и вытерла шею. Снова надела шляпу, надвинула ее на лоб и замерла, сжимая платок руками.
Через несколько минут она расстелила платок рядом с собой на скамейке и вытерла ладони о джинсы. Посмотрела на свои часы — двенадцать минут третьего — и дала себе еще три минуты на то, чтобы успокоиться.
Когда куранты пробили четверть, она открыла темно-зеленую брезентовую сумку, которая лежала у нее на коленях, взяла со скамейки успевший высохнуть платок и сунула в сумку не складывая. Встала, повесила сумку на правое плечо и зашагала к Хурнсгатан. Понемногу ей удалось справиться с нервами, и она сказала себе, что все должно получиться, как задумано.
Пятница, 30 июня, для многих уже начался летний отпуск. На Хурнсгатан царило оживление — машины, прохожие. Свернув с площади налево, она оказалась в тени домов.
Она надеялась, что верно выбрала день. Все плюсы и минусы взвешены, в крайнем случае придется отложить операцию на неделю. Конечно, ничего страшного, и все-таки не хочется терзать себя недельным ожиданием.
Она пришла раньше времени и стала медленно прохаживаться по тротуару, делая вид, что ее занимают витрины. Хотя перед часовым магазином поодаль висел большой циферблат, она поминутно глядела на свои часы. И внимательно следила за дверью через улицу.
Без пяти три она направилась к переходу на углу и через четыре минуты очутилась перед дверью банка.
Прежде чем войти, она открыла замок брезентовой сумки, потом толкнула дверь.
Перед ней был длинный прямоугольник зала. Дверь и единственное окно образовали одну короткую сторону, от окна до противоположной стены тянулась стойка, часть левой стены занимали четыре конторки, дальше стоял низкий круглый стол и два круглых табурета с обивкой в красную клетку, а в самом углу вниз уходила крутая спиральная лестница, очевидно ведущая к абонентским ящикам и сейфу.
В зале был только один клиент, он стоял перед стойкой, складывая в портфель деньги и документы. За стойкой сидели две женщины; третий служащий, мужчина, рылся в картотеке.
Она подошла к конторке и достала из наружного кармана сумки ручку, следя уголком глаза за клиентом, который направился к выходу. Взяла бланк и принялась чертить на нем каракули. Вскоре служащий подошел к дверям и захлопнул на замок наружную створку. Потом он наклонился, поднял щеколду, удерживающую внутреннюю створку, и вернулся на свое место, провожаемый тихим вздохом закрывающейся двери.
Она взяла из сумки платок, поднесла его левой рукой к носу, как будто сморкаясь, и пошла с бланком к стойке.
Дойдя до кассы, сунула бланк в сумку, достала нейлоновую сетку, положила ее на стойку, выхватила пистолет, навела его на кассиршу и, не отнимая ото рта платка, сказала:
— Ограбление. Пистолет заряжен, в случае сопротивления буду стрелять. Положите все наличные деньги в эту сетку.
Испуганно глядя на нее, кассирша осторожно взяла сетку и положила перед собой. Вторая женщина, которая в это время поправляла прическу, замерла, потом робко опустила руку с гребенкой. Открыла рот, как будто хотела что-то сказать, но не произнесла ни слова. Мужчина, стоявший за своим письменным столом, сделал резкое движение, она тотчас направила пистолет на него и крикнула:
— Ни с места! И руки повыше, чтобы я их видела!
Потом опять пригрозила пистолетом остолбеневшей кассирше:
— Поживее! Все кладите!
Кассирша торопливо набила пачками сетку и положила ее на стойку. Мужчина вдруг заговорил:
— Все равно у вас ничего не выйдет. Полиция...
— Молчать! — крикнула она.
Бросив платок в брезентовую сумку, она схватила сетку и ощутила в руке приятную тяжесть. Затем, продолжая угрожать служащим пистолетом, стала медленно отступать к двери.
Неожиданно кто-то метнулся к ней от лестницы в углу зала. Долговязый блондин в отутюженных белых брюках и в синем пиджаке с блестящими пуговицами и большим золотым вензелем на грудном кармане.
По залу раскатился грохот, ее рука дернулась вверх, мужчина с вензелем качнулся назад, и она увидела, что на нем совсем новые белые туфли с красными рифлеными резиновыми подметками. Лишь когда его голова с отвратительным глухим стуком ударилась о каменный пол, до нее вдруг дошло, что она его застрелила.
Она швырнула пистолет в сумку, метнула дикий взгляд на объятых ужасом служащих и бросилась к двери. Возясь с замком, успела подумать: «Спокойно, я должна идти спокойно», — но, выскочив на улицу, устремилась к переулку чуть не бегом.
Она не различала прохожих, только чувствовала, что толкает кого-то, а в ушах ее по-прежнему стоял грохот выстрела.
Завернув за угол, она побежала, крепко держа сетку в руке; брезентовая сумка колотила ее по бедру. Вот и дом, где она жила ребенком. Она рванула дверь знакомого подъезда и пробежала мимо лестницы во двор. Заставила себя умерить шаг и через коридор небольшой пристройки прошла на следующий двор. Спустилась по крутой лестнице в подвал и села на нижней ступеньке.
Сначала она попыталась запихнуть сетку поверх пистолета в брезентовую сумку, но сетка не влезала. Тогда она сняла шляпу, очки и светлый парик и сунула их в сумку. Ее собственные волосы были темные, с короткой стрижкой. Она встала, сняла рубашку и тоже положила в сумку; под рубашкой на ней была черная майка. Она повесила сумку на левое плечо, взяла сетку и поднялась по лестнице. Пересекла двор, миновала еще несколько подворотен и дворов, перелезла через две или три ограды и наконец очутилась на улице в другом конце квартала.
Она зашла в продовольственный магазин, взяла два литра молока и вместительную хозяйственную сумку из пластика, сунула в нее свою черную сетку, а сверху положила оба пакета с молоком.
Потом направилась к ближайшей станции метро и поехала домой.
II
Гюнвальд Ларссон прибыл на место преступления на своей сугубо индивидуальной машине. Она была красного цвета, редкой для Швеции марки ЭМВ, и многие считали ее чересчур роскошной для обыкновенного старшего следователя.
В этот солнечный день он сел за руль, собираясь ехать домой, в Болльмура; вдруг Эйнар Рённ выбежал во двор полицейского управления и разрушил его мечты о тихом вечере в семейном кругу. Эйнар Рённ тоже был старшим следователем отдела насильственных преступлений и, кроме того, пожалуй, единственным другом Гюнвальда Ларссона, так что его сочувствие Гюнвальду, вынужденному пожертвовать свободным вечером, было вполне искренним.
Рённ отправился на Хурнсгатан на служебной машине. Когда он добрался до банка, там уже были сотрудники районного отдела, а Гюнвальд успел даже приступить к опросу служащих. У дверей банка теснился народ, и, когда Рённ ступил на тротуар, к нему обратился полицейский, сверливший глазами зевак:
— У меня тут есть свидетели, которые говорят, будто слышали выстрел. Как с ними быть?
— Задержите их немного, — ответил Рённ. — А остальным лучше разойтись.
Полицейский кивнул, и Рённ вошел в банк.
На мраморном полу между стойкой и конторками лежал убитый. Он лежал на спине, раскинув руки и согнув в колене левую ногу. Штанина задралась, ниже нее белел орлоновый носок с темно-синим якорьком и поблескивала светлыми волосками загорелая нога. Пуля попала в лицо, и от затылка по полу растекалась кровь.
Служащие сидели за стойкой, в дальнем углу, Гюнвальд Ларссон примостился перед ними на краю стола. Он записывал в блокноте показания, которые ему давала одна из женщин.
Заметив Рённа, Гюнвальд Ларссон поднял широченную правую ладонь, и женщина смолкла на полуслове. Гюнвальд Ларссон встал, поднял перекладину в стойке, подошел с блокнотом к Рённу и указал кивком на убитого.
— Ишь как его отделали. Останешься здесь? А я потолкую со свидетелями... скажем, во втором участке на Русенлюндсгатан. Чтобы вы могли работать тут без помех.
Рённ кивнул.
— Я слышал, будто это какая-то дева потрудилась, — сказал он. — И унесла денежки. Кто-нибудь видел, куда она подалась?
— Во всяком случае, никто из служащих, — ответил Гюнвальд Ларссон. — Один молодчик на улице как будто заметил машину, которая рванула с места, но он не обратил внимания на номер и насчет марки не уверен, так что от него мало проку.
— А этот кто такой? — Рённ посмотрел на убитого.
— Болван какой-то, вздумал изобразить героя, схватить грабителя. А та, понятное дело, с испуга взяла да выстрелила. Здешний персонал знает его, постоянный клиент. У него внизу абонентский ящик, и черт дернул его подняться именно в эту минуту. — Гюнвальд Ларссон заглянул в блокнот. — Инструктор физкультуры, фамилия — Гордон.
— Не иначе, вообразил себя Молниеносным Гордоном из комикса, — сказал Рённ.
Гюнвальд Ларссон насмешливо поглядел на него.
Рённ покраснел и поспешил переменить тему:
— Ничего, мы найдем грабителя в этой штуке.
Он показал на укрепленную под потолком кинокамеру.
— Если не забыли пленку зарядить и резкость навести, — скептически произнес Гюнвальд Ларссон. — И если кассирша кнопку нажала.
Большинство банковских отделений теперь было оснащено кинокамерами, которые автоматически включались, когда дежурный кассир нажимал ногой кнопку в полу, — единственная мера, предписанная персоналу на случай появления грабителей. С некоторых пор вооруженные налеты участились, и тогда начальство распорядилось, чтобы служащие не подвергали себя опасности, не пытались помешать налетчикам или задержать их, а сразу выдавали деньги. Такое решение было вызвано отнюдь не заботой о персонале и прочими гуманными соображениями, просто опыт показал, что в конечном счете банкам и страховым обществам это выгоднее, чем выплачивать возмещения пострадавшим, а то и пожизненные пособия семьям погибших.
Приехал судебный врач, и Рённ пошел к своей машине за оперативной сумкой. Он работал по старинке, но нередко с успехом. Гюнвальд Ларссон отправился в полицейский участок на Русенлюндсгатан, захватив с собой троих служащих и еще четверых свидетелей, которые согласились дать показания.
Ему отвели помещение, он снял замшевую куртку, повесил ее на спинку стула и приступил к предварительному опросу.
Показания служащих банка совпадали, зато остальные свидетельства сильно расходились.
Первым из четырех был мужчина сорока двух лет, который находился в подъезде метрах в пяти от входа в банк, когда прозвучал выстрел. Он видел, как по улице пробежала девушка в черной шляпе и зеркальных очках. А когда он примерно через полминуты выглянул из подъезда, метрах в пятнадцати от него рванула с места зеленая легковая машина, как ему показалось, «опель». Машина умчалась в сторону Хурнсплан, и как будто девушка в черной шляпе сидела на заднем сиденье. Номер не рассмотрел, а буквы, кажется, АБ.
Следующий свидетель, владелица небольшого магазина рядом с банком, стояла в дверях своей лавки и вдруг услышала громкий хлопок. Сперва ей почудилось, что хлопнуло в кухоньке за торговым помещением, и она побежала туда, подумала, что газ взорвался. Убедившись, что плита в порядке, она вернулась к двери. Выглянула на улицу и увидела, как большая синяя машина развернулась посреди улицы, только шины завизжали. В ту же минуту из банка выбежала женщина и закричала, что человека застрелили. Свидетельница не видела, кто сидел в машине, номера не запомнила, в марках машин не разбиралась. Что-то похожее на такси.
Третий свидетель, слесарь тридцати двух лет, дал более подробные показания. Он не слышал выстрела, во всяком случае, не обратил на него внимания. Шел по тротуару, вдруг из банка выскочила девушка. Она торопилась и, проходя мимо, толкнула его. Лица он не разглядел. Возраст лет около тридцати. На ней были синие брюки, синяя рубашка, шляпа, в руке она держала темную сумку. Он видел, как она подошла к машине с буквой А и двумя тройками в номере. Машина — «рено-16», светло-бежевая. За рулем сидел худощавый мужчина лет двадцати — двадцати пяти. У него длинные косматые черные волосы, на нем была белая майка. Очень бледное лицо. Второй мужчина, постарше, стоял на тротуаре рядом с машиной. Он открыл девушке заднюю дверцу, потом закрыл и сел рядом с водителем. Плечистый, рост около ста восьмидесяти сантиметров, волосы пепельные, курчавые, очень пышные, румяное лицо. Одет в черные расклешенные брюки и черную рубашку из какого-то блестящего материала. Машина ушла в сторону Слюссен.
Показания слесаря привели Гюнвальда Ларссона в замешательство, и он прочел свою запись еще раз, прежде чем пригласить последнего свидетеля.
Это был пятидесятилетний часовщик, он сидел в своей машине перед банком и ждал жену, которая зашла в обувной магазин через улицу. Боковое окошко было опущено, и он слышал выстрел, но не понял, в чем дело: на Хурнсгатан большое движение, всегда шумно. В пять минут четвертого из банка вышла женщина. Он обратил внимание на нее, потому что она очень спешила, даже не извинилась перед пожилой дамой, которую толкнула. Он еще подумал, как это типично для стокгольмцев — вечно торопятся и грубят. Сам он из Сёдертелье. Женщина была в брюках, на голове что-то вроде ковбойской шляпы, в руке она держала черную сетку. Добежала до угла и свернула в переулок. Нет, она не садилась ни в какую машину и не останавливалась по пути.
Гюнвальд Ларссон передал по телефону в управление приметы обоих пассажиров «рено», затем поднялся, собрал свои бумаги и поглядел на часы. Уже шесть...
И скорее всего он трудился впустую.
Данные насчет машин давно сообщены полицейскими, которые первыми прибыли на место. К тому же в свидетельских показаниях слишком много расхождений. Словом, все кошке под хвост. Как обычно.
Может быть, еще поработать с тем свидетелем, который потолковее? Да нет, не стоит. Всем им явно не терпится поскорее отправиться домой.
Гюнвальд Ларссон отпустил свидетелей, надел куртку и вернулся к банку.
Останки доблестного учителя физкультуры уже увезли, но из патрульной машины вышел молодой полицейский и доложил, что старший следователь Рённ ждет старшего следователя Ларссона у себя в кабинете.
Гюнвальд Ларссон вздохнул и пошел к своей машине.
III
Он открыл глаза и удивился — живой...
И в этом не было ничего нового, вот уже пятнадцать месяцев он каждое утро, проснувшись, недоуменно спрашивал себя:
«Как же я жив остался?»
И второй вопрос:
«Почему так вышло?»
Перед тем как проснуться, он видел сон. Этому сну тоже год и три месяца.
Только частности меняются, суть все та же.
Он скачет на коне. Мчится галопом, пригнувшись, к холке, и холодный ветер треплет ему волосы.
Потом бежит по вокзальному перрону. Впереди — человек с пистолетом в руке. Он знает этого человека, знает, что сейчас будет. Это Чарлз Гито, у него спортивный пистолет марки «хаммерли интернешнл».
Гито нажимает спуск, а он в ту же секунду бросается наперехват и принимает выстрел на себя. Удар в грудь, как от кувалды. Жертва принесена.. И уже очевидно, что «жертва была напрасной. Президент лежит навзничь, блестящий цилиндр слетел с головы и катится по земле, описывая полукруг...
Здесь он просыпается. Сначала все черно, мозг опаляет волна жгучего пламени, затем он открывает глаза.
Мартин Бек лежал в кровати и смотрел в потолок. В комнате было светло.
Он размышлял о своем сне. Бестолковый сон, а эта версия особенно.
И слишком много несуразицы. Взять, например, оружие: при чем тут спортивный пистолет, когда должен быть револьвер, на худой конец «деррингер». И почему Гарфилд оказался смертельно раненным, ведь Мартин Бек принял пулю на себя? (1 Двадцатый президент США Тарфилд был смертельно ранен Чарлзом Гито в Вашингтоне в июле 1881 года. (Прим. пер.))
Он не знал, как выглядел убийца на самом деле. Может, и видел когда-нибудь портрет, но память никаких примет не сохранила. В его снах Гито чаще всего был голубоглазый блондин с гладкой прической и светлыми усиками, но сегодня он больше всего напоминал какого-то известного киноактера.
Ну конечно, Джон Каррадин в роли игрока из «Дилижанса».
Одним словом, сплошная романтика.
Впрочем, пуля в груди отнюдь не романтика. Если пуля, пройдя через правое легкое, застрянет рядом с позвоночником, она временами вызывает острую боль.
Вполне реальными были и другие детали его сна. Например, спортивный пистолет. На самом деле его держал в руке бывший полицейский, голубоглазый блондин с гладкой прической и светлыми усиками. Они встретились на крыше дома под холодным весенним небом. Весь обмен мнениями свелся к пистолетному выстрелу.
Вечером того же дня он очнулся в комнате с белыми стенами, точнее, в отделении грудной хирургии Каролинской больницы. И хотя ему сказали, что рана неопасная, он с удивлением спрашивал себя, как это вышло, что он остался жив.
Потом ему сказали, что рана уже не опасная, однако пуля неудачно расположена. Он оценил тонкость намека, заключенного в словечке «уже», но ему от этого не стало легче. Хирурги не одну неделю штудировали рентгеновские снимки, прежде чем извлечь из его груди чужеродное тело. После этого ему объявили, что теперь опасность окончательно миновала. Он совершенно оправится при условии, что будет вести спокойный, размеренный образ жизни. Да только к тому времени он уже перестал им верить.
Тем не менее он вел спокойный, размеренный образ жизни. Собственно, у него не было другого выбора.
Теперь его уверяют, что он совершенно оправился. Правда, опять с небольшим прибавлением: физически.
Кроме того, ему не следует курить. Он и раньше-то не мог похвастать хорошими бронхами, а тут еще и легкое прострелено. После заживления вокруг рубцов отмечены какие-то подозрительные тени.
Ладно, пора вставать. Мартин Бек прошел через гостиную в холл и поднял газету с коврика у двери. По пути на кухню пробежал глазами заголовки на первой странице. Погода хорошая, и метеорологи обещают, что она еще продержится. В остальном ничего отрадного, как обычно.
Он положил газету на стол, достал из холодильника пакет йогурта и выпил. Н-да, вкусным его не назовешь, отдает чем-то затхлым и какой-то синтетикой. Наверно, перележал еще в магазине. Давно прошли те времена, когда в Стокгольме можно было запросто и не слишком дорого купить что-нибудь свежее.
Теперь — в ванную. Умывшись и почистив зубы, он вернулся в спальню, убрал постель, снял пижамные штаны и начал одеваться.
Глаза его равнодушно скользили по комнате. Большинство стокгольмцев сказали бы, что у него не квартира — мечта. Верхний этаж дома на Чёлмангатан в Старом городе, всего три года как вселился. И он хорошо помнил, как славно ему жилось вплоть до той злополучной стычки на крыше.
Теперь он чаще всего чувствует себя как в одиночке, даже когда его кто-нибудь навещает. И квартира тут, пожалуй, ни при чем — в последнее время он и на улице подчас чувствует себя как в заточении.
Что-то беспокойно на душе, сейчас бы сигарету. Правда, врачи сказали, что ему надо бросить курить, но мало ли что врачи говорят. Хуже то, что государственная табачная фирма перестала выпускать его любимую марку, а папирос теперь вообще не ку-; пишь. Пробовал другие марки — не то...
Сегодня Мартин Бек одевался особенно тщательно. Повязывая галстук, он безучастно разглядывал модели на полке над кроватью. Три корабля, два совсем готовые, один собран наполовину. Увлечение началось лет восемь назад, но с апреля прошлого года он ни разу не прикасался к ним.
Половина восьмого, понедельник, 3 июля 1972 года. Не простой день, особенный. Сегодня он вновь приступает к работе.
Ведь он по-прежнему полицейский, точнее, комиссар уголовной полиции, начальник отдела расследования убийств.
Мартин Бек надел пиджак и сунул газету в карман, с тем чтобы прочесть ее в метро. Еще одна частица привычного распорядка, к которому предстоит вернуться.
Идя вдоль Корабельной набережной под яркими лучами солнца, он вдыхал зачумленный воздух. И чувствовал себя обессилевшим стариком.
Внешне это никак не отражалось. Напротив, он выглядел бодрым, сильным, двигался быстро и ловко. Высокий загорелый мужчина, энергичная челюсть, широкий лоб, спокойные серо-голубые глаза.
Мартину Беку исполнилось сорок девять. До пятидесятого дня рождения оставалось немного, но большинство считало, что он выглядит моложе.
IV
Кабинет в здании на Вестберга аллее красноречиво свидетельствовал, что кто-то другой долго исполнял обязанности начальника отдела расследования убийств.
Конечно, кабинет был тщательно убран, и чья-то заботливая рука даже поставила на письменном столе вазу с васильками и ромашками, и все-таки давало себя знать отсутствие педантизма и явная склонность к милому беспорядку.
Особенно в ящиках письменного стола.
Вне всякого сомнения, кто-то совсем недавно извлек из них кучу предметов, но кое-что осталось. Например, квитанции от таксистов, старые билеты в кино, сломанные шариковые ручки, коробочки из-под пилюль. Цепочки из скрепок, резинки, куски сахару, конвертики с заваркой... Две косметические салфетки, пачка бумажных носовых платков, три пустые гильзы, сломанные часы марки «Экзакта»...
В дверь постучали, и вошел Леннарт Колльберг.
— Привет, — сказал он. — Добро пожаловать.
— Спасибо. Твои часы?
— Ага, — мрачно подтвердил Колльберг. — Они побывали в стиральной машине. Забыл карманы опростать.
Он поглядел кругом и виновато добавил:
— Честное слово, я начал прибирать в пятницу, но меня оторвали. Сам знаешь, как это бывает...
Мартин Бек кивнул. Колльберг чаще других навещал его в больнице и дома, и они обменивались новостями.
— Худеешь?
— Еще как, — ответил Колльберг. — Утром взвешивался, уже полкило долой, было сто четыре, теперь сто три с половиной. А ты-то как себя чувствуешь?
— Хорошо.
Колльберг насупился, но ничего не сказал. Открыв свой портфель, он достал папку из розового пластика. В папке лежало что-то вроде сводки, небольшой, страниц на тридцать.
— Что это у тебя?
— Считай, что подарок.
— От кого?
— Допустим, от меня. Вернее, не от меня, а от Гюнвальда Ларссона и Рённа. Такие остряки, дальше ехать некуда.
Колльберг положил папку на стол. Потом добавил:
— К сожалению, мне пора.
— Далеко?
— В цепу.
Что означало: Центральное полицейское управление.
— Зачем?
— Да все эти чертовы налеты на банки.
— Но ведь ими специальная группа занимается.
— Спецгруппа нуждается в подкреплении. В пятницу опять какой-то болван на пулю нарвался.
— Знаю, читал.
— И начальник цепу решил немедленно усилить спецгруппу.
— Тобой?
— Нет, — ответил Колльберг. — Тобой, насколько я понимаю. Но приказ был получен в пятницу, а тогда еще я заправлял здесь и принял самостоятельное решение.
— А именно?
— А именно, пожалеть тебя и самому отправиться в этот сумасшедший дом.
— Спасибо, Леннарт.
Мартин Бек был искренне благодарен товарищу. Работа в спецгруппе влекла за собой ежедневное соприкосновение с начальником ЦПУ, минимум с двумя его заместителями и кучей заведующих отделами, не считая прочих важных шишек, ни черта не смыслящих в деле.
— Не за что, — продолжал Колльберг, — взамен ты получишь вот это.
Его толстый указательный палец уперся в папку.
— И что же это такое?
— Дело, — ответил Колльберг. — По-настоящему интересное дело, не то что ограбление банка и прочая дребедень. Жаль только...
— Что жаль?
— Что ты не читаешь детективы.
— Почему?
— Может, лучше оценил бы подарок. Тут надо поработать головой. Сидеть на месте и думать, думать.
— Ладно, погляжу, — безучастно произнес Мартин Бек.
— В газетах ни слова не было. Ну как, завел я тебя?
— Завел, завел. Ну, пока...
— Пока.
Выйдя из кабинета, Колльберг остановился, нахмурил брови, несколько секунд постоял около двери, потом озабоченно покачал головой и зашагал к лифту.
V
На самом деле содержимое розовой папки его ничуть не волновало.
Почему же он покривил душой? Чтобы порадовать товарища? Вряд ли. Обмануть его? Ерунда. Сам себя обманывал? Тоже чушь.
Продолжая мусолить этот вопрос, Мартин Бек довел до конца методическое обследование своего служебного кабинета.
После ящиков стола он принялся за мебель, переставил стулья, развернул письменный стол, пододвинул шкаф чуть ближе к двери, привинтил настольную лампу справа. Его заместитель, видимо, предпочитал держать ее слева. А может, это вышло чисто случайно. В мелочах Колльберг нередко поступал как бог на душу положит. Зато в важных делах он был предельно основателен. Так, с женитьбой он прождал до сорока двух лет, не скрывая, что ему нужна идеальная жена. Ждал ту, единственную.
На счету Мартина Бека числилось почти двадцать лет неудачного брака с особой, которая явно не была той, единственной.
Правда, теперь он опять холостяк, но, похоже, слишком долго тянул с разводом. За последние полгода Мартин Бек не раз ловил себя на мысли, что, пожалуй, все-таки зря развелся. Может быть, нудная, сварливая жена лучше, чем никакой... Ладно, это не самая важная из проблем.
Он взял вазу с цветами и отнес одной из машинисток. Она вроде бы обрадовалась.
Мартин Бек вернулся в кабинет, сел за стол и посмотрел кругом. Порядок восстановлен.
Уж не пытается ли он внушить себе, что все осталось по-прежнему?
Праздный вопрос, лучше выкинуть его из головы. Он потянул к себе розовую папку, чтобы отвлечься.
Так, смертный случай... Что ж, порядок. Смертные случаи как раз по его части. Ну и где же произошел этот случай?
Бергсгатан, пятьдесят семь. Можно сказать, под носом у полицейского управления.
Вообще-то он вправе заявить, что его отдел тут ни при чем, этим делом должна заниматься стокгольмская уголовная полиция. Позвонить на Кунгсхольмен и спросить, о чем они там думают? Или еще того проще — положить бумаги в пакет и вернуть отправителю.
Позыв к закоснелому формализму был настолько силен, что Мартину Беку пришлось сделать усилие над собой, чтобы не поддаться.
Двадцать восемь лет службы в полиции многому его научили, в частности, как читать донесения и сводки, отбрасывая все лишнее и второстепенное и схватывая суть. Если таковая, конечно, имелась.
Меньше часа ушло у него на то, чтобы внимательно изучить все документы. Тяжелый слог, местами ничего не поймешь, а некоторые обороты просто ни в какие ворота не лезут. Это, конечно, Эйнар Рённ — сей стилист от полиции явно пошел в печально известного чинушу, который в сочиненных им правилах уличного движения утверждал, что темнота наступает, когда зажигаются уличные фонари.
Мартин Бек еще раз перелистал сводку, останавливаясь на некоторых деталях.
Потом отодвинул бумаги в сторону, поставил локти на стол и опустил голову на ладони.
Нахмурил брови и попробовал осмыслить, что же произошло.
Вся история распадалась на две части. Первая из них была прозаичной и отталкивающей.
Две недели назад, то есть в воскресенье 18 июня, один из жильцов дома 57 по Бергсгатан на острове Кунгсхольмен вызвал полицию. Вызов был принят в 14.19, но патрульная машина с двумя полицейскими прибыла на место только через два часа. Правда, от полицейского участка до указанного дома всего пять минут хода пешком, но задержка объяснялась просто. Во-первых, в стокгольмской полиции вообще не хватало Людей, а тут еще отпускная пора, да к тому же воскресенье. Наконец, дело явно было не такое уж срочное.
Полицейские Карл Кристианссон и Кеннет Квастму вошли в дом и обратились к женщине, от которой поступил вызов. Заявительница жила на втором этаже главного строения. Она сообщила, что уже несколько дней на лестнице стоит неприятный запах, который заставил ее заподозрить неладное.
Оба полицейских сразу обратили внимание на запах. Квастму определил его как запах разложения. Дальнейшее определение источника запаха (сообщал тот же Квастму) привело их к дверям квартиры этажом выше. Было констатировано, что за дверью находилась однокомнатная квартира, с некоторых пор занимаемая жильцом шестидесяти лет, по фамилии Карл Эдвин Свярд. Фамилия установлена по сделанной от руки надписи на кусочке картона под кнопкой электрического звонка. Поскольку были основания предполагать, что в квартире может находиться тело самоубийцы, или умершего естественной смертью, или собаки (писал Квастму), или же больной и беспомощный человек, было решено проникнуть внутрь. Но электрический звонок явно не работал, а на стук никто не отзывался. Попытки найти управляющего домом, дворника или кого-нибудь еще, располагающего вторым ключом, не дали результата. Тогда полицейские обратились за инструкциями к начальству и получили приказание проникнуть в квартиру.
Послали за слесарем, на это ушло еще полтора часа. Когда прибыл слесарь, он констатировал, что дверь заперта на секретный замок, не поддающийся никаким отмычкам, и щель для почтового ящика отсутствует. С помощью специального инструмента замок удалось извлечь, но дверь тем не менее не открылась.
Кристианссон и Квастму, дежурство которых давно кончилось, снова обратились за инструкцией и получили распоряжение выломать дверь. На вопрос, не будет ли при этом присутствовать кто-нибудь из уголовной полиции, им коротко ответили, что больше послать некого.
Слесарь уже ушел, сделав свое дело.
Около семи вечера Квастму и Кристианссону удалось снять дверь с наружных петель, сломав шплинты. Но тут «возникли новые препятствия». Как выяснилось затем, дверь, помимо замка, запиралась двумя металлическими задвижками и железной балкой, которая утапливалась в косяк. И только еще через час полицейские смогли проникнуть в квартиру, где царила страшная духота и стоял невыносимый трупный запах.
В комнате, окно которой выходило на улицу, был обнаружен мертвый мужчина. Он лежал на спине, примерно в трех метрах от окна, рядом с включенным электрокамином. Из-за жаркой погоды и тепла от камина труп раздулся «по меньшей мере вдвое».
Окно было заперто на щеколду изнутри, штора спущена.
Второе окно, на кухне, смотрело во двор. Рама была заклеена бумажной лентой и, судя по всему, давно не открывалась.
Мебели было мало, обстановка убогая. Квартира «в смысле потолка, пола, стен, обоев и покраски» сильно запущена.
Число обнаруженных предметов обихода на кухне и в жилой комнате совсем незначительно.
Из найденных пенсионных документов было выяснено, что покойник — Карл Эдвин Свярд, 62 года, бывший складской рабочий, пенсия назначена по инвалидности шесть лет назад.
После осмотра квартиры следователем Гюставссоном тело было доставлено в судебно-медицинскую амбулаторию для вскрытия.
Предварительное заключение: самоубийство или смертный случай вследствие голода, болезни или иных естественных причин.
Мартин Бек порылся в карманах пиджака, тщетно пытаясь нащупать снятые с производства сигареты «Флорида».
Газеты ничего не писали о Свярде. Слишком банальная история. Стокгольм занимает одно из первых мест в мире по числу самоубийств, но об этом стараются не говорить, а когда уж очень прижмет, выкручиваются с помощью подтасованной и лживой статистики, ссылаясь на то, что в других странах со статистикой ловчат куда больше. Правда, в последние годы даже члены правительства не решаются официально прибегать к этому трюку. Должно быть, уразумели, что люди больше доверяют собственным глазам, чем уверткам политиканов.
Ну а если это не самоубийство, то и вовсе ни к чему шум поднимать... Дело в том, что так называемое общество всеобщего благоденствия изобилует больными, нищими и одинокими людьми, которые в лучшем случае питаются собачьим кормом и чахнут в крысиных норах, громко именуемых жилищами.
Нет, эта история явно не для широкой публики. Да и полиции вроде бы делать нечего. Если бы повесть о пенсионере Карле Эдвине Свярде этим исчерпывалась. Однако у нее было продолжение.
VI
Мартин Бек был старый служака и хорошо знал: если в сводке не сходятся концы с концами, в девяноста девяти случаях из ста причина заключается в том, что кто-то работал спустя рукава, совершил ошибку, небрежно оформил протокол, не уловил сути дела или попросту не умеет вразумительно излагать свои мысли.
Вторая часть истории о покойнике в доме на Бергсгатан заставила Мартина Бека, насторожиться.
Поначалу все шло как положено. В воскресенье вечером тело увезли. В понедельник в квартире произвели дезинфекцию; и в тот же день сотрудники полиции оформили надлежащий протокол.
Вскрытие было произведено во вторник; заключение поступило в полицейское управление на следующий день.
Исследовать старый труп отнюдь не интересно, особенно когда знаешь заранее, что человек покончил с собой или умер естественной смертью. А если он к тому же не занимал видного места в обществе, скажем, был всего-навсего скромным пенсионером, бывшим складским рабочим, в таком деле и подавно нет ничего интересного.
Подпись на протоколе вскрытия была незнакома Мартину Беку — скорее всего какой-нибудь временный работник... Текст пестрил учеными словами, и разобраться в нем было непросто.
Возможно, оттого и дело продвигалось не слишком быстро. Ибо в отдел насильственных преступлений, к Эйнару Рённу, документы, судя по всему, попали только через неделю. И только там, похоже, произвели надлежащее впечатление.
Мартин Бек пододвинул к себе телефон, чтобы впервые за много месяцев набрать служебный номер. Поднял трубку, положил правую руку на диск и задумался.
Он забыл номер судебно-медицинской амбулатории. Пришлось заглянуть в справочник.
— Ну, конечно, помню. — В голосе эксперта (это была женщина) звучало удивление. — Заключение отправлено нами две недели назад.
— Знаю.
— Там что-нибудь неясно?
— Просто мне тут кое-что не совсем понятно...
— Непонятно? Как так? Кажется, она оскорблена?
— Согласно вашему протоколу исследуемый покончил с собой.
— Совершенно верно.
— Каким способом?
— Разве это не вытекает из заключения? Или я написала так невразумительно?..
— Что вы, что вы.
— Так чего же вы тогда не поняли?
— По чести говоря, довольно много. Но виновато, разумеется, мое собственное невежество.
— Вы подразумеваете терминологию?
— И ее тоже.
— Ну, такого рода трудности неизбежны, если у вас нет медицинского образования, — утешила она его.
Высокий звонкий голос — должно быть, совсем молодая.
Мартин Бек промолчал. Ему следовало бы сказать: «Послушайте, милая девушка, это заключение предназначено не для патологоанатомов. Запрос поступил из полиции, значит, надо писать так, чтобы любой оперативный работник мог разобраться».
Врач перебила его размышления:
— Алло, вы слушаете?
— Да-да, слушаю.
— У вас есть еще какие-нибудь вопросы?
— Да. Прежде всего хотелось бы знать, на чем основана ваша гипотеза о самоубийстве.
— Уважаемый господин комиссар, — ответила она озадаченно, — тело было доставлено нам полицией. Перед тем как вскрывать, я разговаривала по телефону с сотрудником, который, насколько я понимаю, отвечал за дознание. Он сказал, что случай рядовой и ему нужен только ответ на один вопрос.
— Какой же?
— Идет ли речь о самоубийстве.
Мартин Бек сердито потер костяшками пальцев грудь.
Допущена элементарная ошибка. Вскрытие должно производиться совершенно объективно. Наводить на версию судебного врача — почитай, что должностное преступление, особенно когда патологоанатом, как в данном случае, молод и неопытен.
— Вы запомнили фамилию сотрудника, который говорил с вами?
— Следователь Альдор Гюставссон. Он произвел на меня впечатление опытного и сведущего человека.
Мартин Бек не имел никакого представления о следователе Альдоре Гюставссоне и его профессиональных качествах.
— Итак, полиция дала вам определенные установки? — спросил он.
— Во всяком случае, мне дали ясно понять, что подозревается суицидум. Разрешите напомнить, что суицидум означает «самоубийство».
Мартин Бек оставил эту шпильку без ответа.
— Вскрытие было сопряжено с трудностями? — осведомился он.
— Да нет. Если не считать обширных органических изменений. Это всегда накладывает свой отпечаток.
Интересно, много ли самостоятельных вскрытий на ее счету?
— Процедура долго длилась?
— Нет, недолго. Поскольку речь шла о самоубийстве или остром заболевании, я начала со вскрытия торакса.
— Почему?
— Покойный был пожилой человек. При скоропостижной смерти естественно предположить или самоубийство, или инфаркт.
— Откуда вы взяли, что смерть была скоропостижной?
— Ваш сотрудник намекнул на это.
— Как намекнул?
— Сказал, что старичок либо покончил с собой, либо его хватил удар.
Еще одна вопиющая ошибка. В деле нет никаких данных, исключающих возможность того, что Свярд перед смертью несколько суток пролежал парализованный или обессиленный.
— Ну хорошо, вы вскрыли грудную клетку.
— Да. И сразу получила ответ.
— Самоубийство?
— Вот именно.
— Каким способом?
— Свярд выстрелил себе в сердце. Пуля осталась в тораксе.
— Он попал в самое сердце?
— Почти. Все решило повреждение аорты. — Она помолчала. Потом спросила не без яда: — Я выражаюсь достаточно понятно?
— Да.
Мартин Бек постарался потщательнее сформулировать следующий вопрос:
— У вас большой опыт работы с огнестрельными ранениями?
— Полагаю, вполне достаточный. К тому же данный случай представляется не таким уж сложным.
Сколько убитых огнестрельным оружием довелось ей вскрывать? Троих? Двоих? А может быть, всего лишь одного?
Словно угадав его невысказанные сомнения, она дала справку:
— Я работала в Иордании во время гражданской войны два года назад. Там хватало огнестрельных ранений.
— Но вряд ли было много самоубийств.
— Это верно.
— Так вот, самоубийцы редко целят в сердце, — объяснил Мартин Бек. — Большинство стреляют себе в рот, некоторые — в висок. Как вы считаете, сколько мог прожить Свярд с таким ранением?
— Очень мало. Минуту, от силы две или три. Внутреннее кровоизлияние было обширным. Это играет какую-нибудь роль?
— Может быть, и не играет. Но меня интересует еще один вопрос. Вы исследовали останки двадцатого июня?
— Да, двадцатого.
— Как, по-вашему, сколько дней прошло тогда с его смерти?
— Ну, как вам сказать...
— В заключении этот пункт сформулирован не совсем четко.
— Это довольно затруднительный вопрос. Возможно, более опытный патологоанатом смог бы ответить точнее.
— А вы-то как считаете?
— Не меньше двух месяцев, но...
— Но?
— Все зависит от условий в помещении. Температура и влажность воздуха играют большую роль. Например, если было жарко, срок мог быть и меньше. С другой стороны, как я уже говорила, процесс разложения был достаточно обширным...
— Что вы скажете о входном отверстии?
— На этот вопрос тоже трудно ответить по той же причине.
— Выстрел произведен в упор?
— По-моему, нет. Но учтите, что я могу ошибаться.
— И все-таки вы как считаете?
— По-моему, он застрелился другим способом. Если не ошибаюсь, известно два основных способа?
— Совершенно верно, — подтвердил Мартин Бек.
— Либо дуло приставляют вплотную к телу и спускают курок. Либо держат пистолет или другое оружие в вытянутой руке, дулом к себе. В этом случае, насколько я понимаю, курок спускают большим пальцем?
— Верно. И вы склоняетесь к этой версии?
— Да. Конечно, это не окончательный вывод. Когда ткани так изменены, трудно определить, произведен ли выстрел в упор.
— Понятно.
— Зато мне непонятно, — произнесла девушка. — Неужели вам так важно знать, когда именно он застрелился?
— Похоже, что да. Свярда обнаружили мертвым в его квартире, окна и двери были заперты изнутри, он лежал рядом с электрокамином.
— Вот вам и причина разложения, — оживилась она. — Тогда достаточно было и месяца.
— Правда?
— Ну да. Оттого и трудно определить, был ли выстрел произведен в упор.
— Ясно, — сказал Мартин Бек. — Благодарю за помощь.
— Что вы, не за что. Звоните, если что-нибудь еще будет непонятно.
— До свидания.
Он положил трубку.
Здорово она все объясняет. Этак скоро лишь один вопрос останется невыясненным.
Правда, вопрос весьма заковыристый.
Свярд не мог покончить с собой.
Как-никак, чтобы застрелиться, надо иметь чем.
А в квартире на Бергсгатан не было обнаружено огнестрельного оружия.
VII
Мартин Бек снова взялся за трубку телефона.
Надо было разыскать полицейских из патрульной машины, которая выезжала на Бергсгатан. Немало времени ушло на то, чтобы выяснить, что один из них в отпуске, а другого вызвали в суд свидетелем по какому-то делу.
В конце концов Мартин Бек отыскал того следователя, который переправил дело из участка в уголовную полицию. Однако долго он раскачивался — только в понедельник двадцать седьмого оформил отправку... Мартин Бек посчитал нужным осведомиться:
— Это верно что заключение судебного врача поступило к вам еще в среду?
— Ей-богу, точно не знаю. — В голосе следователя сквозила неуверенность. — Во всяком случае, я прочитал его только в пятницу.
И так как Мартин Бек молча ждал объяснения, он продолжал:
— В нашем участке только половина людей на месте. Еле-еле управляемся с самыми неотложными делами. А бумаги все копятся.
— Значит, до пятницы никто не знакомился с протоколом?
— Почему же, начальник оперативного отдела смотрел. В пятницу утром он и спросил меня, у кого пистолет.
— Какой пистолет?
— Которым застрелился Свярд. Сам я пистолета не видел, но решил, что кто-то из полицейских, которые первыми приехали по вызову, обнаружил оружие.
— Передо мной лежит их донесение, — сказал Мартин Бек. — Если в квартире находилось огнестрельное оружие, они обязаны были упомянуть об этом.
— Я не вижу никаких ошибок в действиях нашего патруля.
Старается выгородить своих людей... Что ж, его нетрудно понять. За последние годы полицию критикуют все острее, отношения с общественностью резко ухудшились, а нагрузка почти удвоилась. В итоге люди пачками увольняются из полиции, причем уходят, как правило, лучшие. И хотя в стране растет безработица, полноценную замену найти невозможно. А кто остался, горой стоят друг за друга.
— Допустим, — сказал Мартин Бек.
— Ребята действовали правильно. Как только они проникли в квартиру и обнаружили покойника, они вызвали следователя.
— Вы имеете в виду Гюставссона?
— Совершенно верно. Он из уголовной полиции, ему положено делать выводы и докладывать обо всем, что замечено. Я решил, что они обратили его внимание на пистолет, и он его забрал.
— И умолчал об этом в своем донесении?
— Всякое бывает, — сухо заметил сотрудник.
— Так вот, похоже, что в комнате вовсе не было оружия.
— Да, похоже. Но я узнал об этом только в прошлый понедельник, когда разговаривал с Кристианссоном и Квастму. И сразу переслал все бумаги на Кунгсхольмсгатан.
Полицейский участок и уголовная полиция находились в одном и том же квартале, и Мартин Бек позволил себе заметить:
— Не такое уж большое расстояние.
— Мы действовали как положено, — отпарировал следователь.
— По правде говоря, меня больше интересует вопрос о Свярде, чем о промахах той или иной стороны.
— Если кто-нибудь допустил промах, то уж, во всяком случае, не полиция.
Намек был достаточно прозрачный, и Мартин Бек предпочел закруглить разговор.
— Благодарю за помощь, — сказал он. — Всего доброго.
Подумав с минуту, он набрал номер Гюставссона.
— Ах, это дело, — вспомнил тот. — Да, непонятная история. Что поделаешь, бывает.
— Что бывает?
— Непонятные случаи, загадки, которых просто нельзя решить. Безнадежное дело, сразу видно.
— Я попрошу вас прибыть сюда.
— Сейчас? На Вестберга?
— Вот именно.
— К сожалению, это невозможно.
— Сомневаюсь. — Мартин Бек посмотрел на часы. — Скажем, к половине четвертого.
— Но я никак не могу...
— К половине четвертого, — повторил Мартин Бек и положил трубку.
Он встал и начал прохаживаться по комнате, заложив руки за спину.
Все правильно. Так уж повелось последние пять лет, все чаще приходится для начала выяснять, как действовала полиция.
И нередко это оказывается потруднее, чем разобраться в самом деле.
Альдор Гюставссон явился в пять минут пятого.
Фамилия Гюставссон ничего не сказала Мартину Беку, но лицо было , знакомо. Худощавый брюнет лет тридцати, поведение развязное и вызывающее. Мартин Бек вспомнил, что ему случалось видеть его в дежурке уголовной полиции и в других, не столь знаменитых местах.
— Прошу сесть.
Гюставссон уселся в самом удобном кресле, положил ногу на ногу и достал сигару. Закурил и сказал:
— Муторное дельце, верно? Ну, какие будут вопросы?
Мартин Бек молча покрутил между пальцами шариковую ручку, потом спросил:
— Когда вы прибыли на Бергсгатан?
— Вечером, что-нибудь около десяти.
— И что вы увидели?
— Жуть. И запах паскудный...
— Где находились полицейские?
— Один стоял на посту у дверей. Второй сидел в патрульной машине.
— Они все время держали дверь под наблюдением?
— Сказали, что все время.
— Ну и что вы... что ты предпринял?
— Как что — вошел и посмотрел. Картина, конечно, была жуткая. Но ведь проверить-то надо, вдруг дело нечистое.
— Но ты пришел к другому выводу?
— Ну да. Дело ясное, как апельсин. Дверь была заперта изнутри на кучу замков и задвижек. Ребята еле-еле взломали ее. И окно заперто, и штора спущена.
— Окно по-прежнему было закрыто?
— Нет. Они сразу открыли его, как вошли. А иначе пришлось бы противогаз надевать.
— Сколько ты там пробыл?
— Недолго. Ровно столько, сколько понадобилось, чтобы убедиться, что уголовной полиции тут делать нечего. Картина четкая, либо самоубийство, либо естественная смерть, а этим полиция занимается.
Мартин Бек полистал донесение.
— Я не вижу описи изъятых предметов.
— Правда? Выходит, забыли. Да только что там описывать? Барахла-то почти не было. Стол, стул, кровать, да на кухне разная дребедень, вот и все.
— Но ты произвел осмотр?
— Конечно. Все осмотрел, только потом дал разрешение.
— Какое?
— Чего — какое? Не понял.
— Какое разрешение ты дал?
— Останки увозить, какое же еще. Старичка ведь надо было вскрывать. Даже если он своей смертью помер, все равно есть такое правило.
— Ты можешь изложить свои наблюдения?
— Запросто. Труп лежал в трех метрах от окна. Примерно.
— Примерно?
— Я не взял с собой рулетки. Месяца два пролежал, должно быть, совсем сгнил. В комнате было два стула, стол и кровать.
— Два стула?
— Ага.
— Ты только что сказал — один.
— Правда? Нет, кажется, все-таки два. Так, еще полка с книгами и старыми газетами. Ну и на кухне две-три кастрюли, кофейник и все такое прочее.
— Все такое прочее?
— Ножи там, вилки, консервный нож, мусорное ведро...
— Понятно. На полу что-нибудь лежало?
— Ничего, не считая покойника. Полицейские тоже ничего не нашли, я спрашивал.
— В квартиру еще кто-нибудь заходил?
— Нет, ребята сказали, что никто не заходил. Только я да они. Потом приехали рабочие с фургоном и увезли труп в полиэтиленовом мешке.
— И причина смерти Свярда уже установлена?
— Ага, вот именно. Застрелился. Уму непостижимо! Куда же он пушку-то дел?
— У тебя есть какие-нибудь предположения на этот счет?
— Ноль целых. Дурацкий случай. Этого дела не раскрыть, я точно говорю. Редко, но бывает.
— А полицейские что сказали?
— Да ничего. Что они могут сказать — обнаружили труп, убедились, что все было заперто, больше ничего. Если бы в квартире пушка была, неужели мы не нашли бы ее. Да и где ей быть, если не на полу рядом с покойничком.
— Ты выяснил личность покойника?
— А как же. Фамилия — Свярд, на двери написано. С одного взгляда видно, что за человек.
— Ну-ну?
— Простейший алкаш, надо думать. Такие частенько кончают с собой. Или упиваются до смерти, или с инфарктом на тот свет отправляются.
— Больше ничего существенного не добавишь?
— Все. Это такая головоломка... Загадочный случай. Тут даже ты не справишься, помяни мое слово. Да и будто нету дел поважнее.
— Возможно.
— Как пить дать. Мне можно сматываться?
— Погоди, — ответил Мартин Бек.
— У меня все. — Альдор Гюставссон ткнул сигару в пепельницу.
Мартин Бек встал и подошел к окну.
— Зато у меня не все, — заметил он, стоя спиной к собеседнику.
— А что такое?
— Сейчас услышишь. Например, на прошлой неделе на место происшествия выезжал специалист по криминалистической технике. Большинство следов уничтожено, но на ковре сразу были обнаружены пятна крови, одно большое и два поменьше. Ты видел пятна крови?
— Нет. Да я их и не искал.
— Это чувствуется. А чего же ты искал?
— Да ничего. Ведь все и так было ясно.
— Если ты не заметил крови, мог и другие вещи пропустить.
— Во всяком случае, огнестрельного оружия там не было.
— Ты обратил внимание, как был одет покойный?
— Не так чтобы очень. И ведь труп весь сгнил уже. Что на нем могло быть, тряпье какое-нибудь. И вообще, я не вижу, чтобы это играло какую-нибудь роль.
— Ты сразу определил, что покойный был бедняк и жил одиноко. Не какая-нибудь приметная личность.
— Точно. Насмотришься, как я, на всяких алкашей и прочую шушеру...
— И что же?
— А то, что я свою публику знаю.
— Ну а если бы покойник занимал более высокое положение в обществе? Тогда, надо понимать, ты работал бы тщательнее?
— А что, тут приходится все учитывать. Нам ведь тоже достается дай бог.
Альдор Гюставссон обвел взглядом кабинет.
— Вам тут, может, и невдомек, но у нас работы выше головы. Охота была изображать Шерлока Холмса каждый раз, как тебе попадется мертвый босяк. Ты еще что-нибудь хочешь сказать?
— Да. Хочу отметить, что это дело ты вел из рук вон плохо.
— Что?
Гюставссон встал. Похоже, до него только теперь дошло, что Мартин Бек может испортить ему карьеру.
— Погоди, — пробормотал он. — Только потому, что я не заметил кровавых пятен и несуществующего пистолета...
— Эти упущения еще не самое главное, — сказал Мартин Бек. — Хотя тоже грех непростительный. Хуже то, что ты позвонил судебному врачу и дал указания, которые основывались на предвзятых и неверных суждениях. Кроме того, заморочил голову полицейским, и они поверили, что дело элементарное и тебе достаточно войти в комнату, окинуть ее взглядом, и все станет ясно. Заявил им, что никаких специалистов вызывать не нужно, потом велел забирать тело и даже не позаботился о том, чтобы были сделаны снимки.
— Господи, — произнес Гюставссон. — Но ведь старикашка сам покончил с собой.
Мартин Бек повернулся и молча посмотрел на него.
— Эти замечания... надо понимать как официальный выговор?
— Вот именно, строгий выговор. Всего хорошего.
— Погоди, зачем же так, я постараюсь исправить...
Мартин Бек отрицательно покачал головой. Следователь встал и направился к выходу. Он был явно озабочен, но, прежде чем дверь затворилась, Мартин Бек услышал, как он произнес:
— Черт старый.
По правде говоря, такому, как Альдор Гюставссон, не место в уголовной полиции и вообще в полиции. Бездарный тип, заносчивый, развязный, и совсем неверно понимает свою службу.
Обычно в уголовную полицию привлекались лучшие из полицейских.
Продолжение следует
Перевел с шведского Л. Жданов
Общественный транспорт в Сингапуре
В путеводителе по Сингапуру, который я заполучил еще в самолете, указывалось, что проблемы транспорта в Сингапуре не существует. Автор этого опуса, в целом довольно занимательного, бодро утверждал, что «первоклассные такси, мощные автобусы, экзотические рикши в любое время суток в любой точке города готовы квалифицированно, первоклассно обслужить пассажиров...».
...Выполнив необходимые формальности, я вышел из здания аэропорта и сразу же оказался в окружении большой группы возбужденных людей.
«Фотокорреспонденты, видать, приняли меня за какую-то важную птицу», — мелькнуло в голове.
Люди, однако, подняли меня на руки и понесли к стоянке такси. На стоянке я был спущен на землю и стал свидетелем яростной схватки между псевдокорреспондентами. Решался вопрос о том, кто меня повезет. В конце концов я был (подчеркиваю: именно был) втиснут в старый, латаный-перелатаный «мерседес». Один из «корреспондентов», долговязый загорелый человек в майке и белых брюках, занял место за баранкой и, обернувшись ко мне, прокричал на ломаном английском:
— Куда?
Не успел я ответить, как машину рвануло со стоянки, словно ветром сдуло. И вовремя — проигравшие «битву» уже почти сомкнули вокруг машины кольцо. Оставив преследователей с носом, машина понеслась по широкому бетонному шоссе.
Я жаждал впечатлений и пытливо всматривался в пролетавшие мимо кокосовые рощи, деревушки, пагоды, кудрявые холмики. Однако воспринять что-то конкретное было трудно — стрелка спидометра уперлась в крайнюю цифру 160 миль и, трепеща, грозила выскочить вовсе. И вдруг — скрежет тормозов и убийственный толчок. Наша машина очутилась среди бесчисленного множества других гудящих, воющих, новеньких и почти разваливавшихся, огромных и карликовых лимузинов всех цветов радуги.
Водители, дрожа от напряжения, готовые в любой миг сорваться с места, горящими глазами гипнотизировали светофор. Атмосфера сгущалась — к перекрестку прибывали все новые автомобили, которые давили на стоящих впереди и выдавливали их на перекресток, создавая помехи поперечному потоку транспорта. Мой водитель, отчаявшись увидеть наконец желанный зеленый свет, подал назад, и «мерседес», отталкивая пристроившихся за ним «фольксваген», «холден» и «фиат», двинулся в обратном направлении. Минут пять мы ехали задом наперед, пока у маленького человечка в огромных роговых очках, сидевшего за рулем «холдена», не сдали наконец нервы. Он дал полный газ, и наша колонна, за исключением «фиата», продолжавшего по инерции катиться назад, изменила направление движения на сто восемьдесят градусов. Вскоре мы снова были на перекрестке, уже свободном от транспортных средств. Мы выехали на самый его центр. В это время на светофоре вновь поменялся сигнал, и на нас, сметая все на своем пути, понеслась дикая орда разноцветных машин. «Холден» затормозил и тут же был сражен летящим, как пуля, грузовиком, наполненным бананами. Мы же успели выскочить с поля боя. Может быть, потрясенный увиденным, таксист мчал вперед по узенькой улочке, где шла оживленная торговля, на бешеной скорости. Как ни странно, мы никого не задавили; лишь сбили переносную кухню продавца супа. Зеленая жидкость с полуметровыми нитями прозрачной вермишели плеснула в мое лицо через открытое окно. Я молча вытерся.
Приехали мы к университету, куда я направлялся, к вечеру. На счетчике была изрядная сумма. Хорошо еще, что я путешествовал один: в Сингапуре за каждого лишнего пассажира взимается дополнительная плата.
Заплатив положенные 10 долларов, я дал зарок никогда больше не ездить в Сингапуре на такси. Однако уже на следующее утро возникла необходимость прибегнуть к помощи транспорта. Университет находится в двадцати километрах от города. Как же добраться до города? Я спросил совета у одного умудренного опытом знакомого.
— О, это очень просто, — обнадежил он меня, — здесь полно пиратских такси.
— Ка-к-ких?
— Пиратских. Пираты — это таксисты, у которых нет лицензий. Это, так сказать, незаконные таксисты.
«Ну уж нет, — подумал я про себя, — хватит с меня и законных таксистов».
— А какой-нибудь другой транспорт здесь существует? — спросил я.
— Да, автобусы, остановка у столовой.
Действительно, на площадке перед столовой стоял обшарпанный зеленый автобус. Он был пуст. Чуть поодаль группа студентов беседовала с сидевшим за рулем экзотической машины человеком в синей панамке, толстом красно-желтом свитере и фиолетовых шортах. На корпусе машины я насчитал не менее десяти свежих выбоин и штук десять загрунтованных, но непокрашенных. Багажник автомобиля не закрывался, вместо фар зияли дыры. Я догадался, что передо мной был один из представителей славного племени пиратских таксистов.
В этот момент на меня нахлынули воспоминания вчерашнего дня, и я в ужасе побежал к автобусу. Удивляло, что он оставался пустым, в то время как у пиратского такси толпилось так много желающих. Но все-таки я взобрался в автобус и сел у окна. Появился водитель, обворожительно улыбнулся мне, что-то сказал, я улыбнулся ему, и мы поехали. Он и я, без попутчиков, без кондуктора. Ехали, не останавливаясь, минут двадцать. Выехали с территории университета на загородное шоссе, с шоссе повернули в джунгли. Наконец показалась деревушка — симпатичные разноцветные домики, базарчик и стоянка автобуса. Водитель остановил автобус и куда-то ушел. Я ждал его час. Через час он вернулся, и мы поехали в обратном направлении. Через положенное время показался университет. У столовой была небольшая очередь ожидающих автобус. В основном маленькие ребятишки. Мы поехали. Добравшись до той же деревушки, водитель высадил детишек, и мы вновь вернулись в университет.
Я был уже взбешен. Но что делать, не ехать же на такси, не идти же пешком!!! На третий рейс пассажиров было много. Студенты, преподаватели. Автобус явно шел в город.
Я повеселел и стал беспечно смотреть в окно. Но меня окликнули. Я обернулся. Передо мной стоял человек в форменной одежде и делал какие-то знаки.
— Не понимаю, — сказал я.
Он тоже не понял. Мой сосед по сиденью попытался было прийти на помощь, но ни его знание английского, ни мое знание местного китайского диалекта не позволили нам установить двустороннюю связь. Лишь интуитивно я догадался, что у меня требуют показать билет. Но как объяснить, что в автобусе до этого не было кондуктора? Пришлось платить штраф — 10 долларов.
Вконец обозленный, я решил отныне не ездить вообще никуда и провел всю следующую неделю в университете. Но вот опять возникла необходимость ехать в город. Как быть? Автобус и такси автоматически отпадали. Оставались пиратские такси. Собравшись с духом, я подошел к их стоянке.
Начались переговоры о цене. Несмотря на труднопреодолимые языковые барьеры, удалось выяснить, что поездка в город, если ехать без попутчиков, стоит семь долларов. С попутчиками — дешевле (в отличие от официальных такси, где все наоборот).
Мы тронулись в путь. Казалось, машина вот-вот развалится: дребезжали стекла, стучал двигатель, грохотали незакрывавшиеся двери.
Впереди показались три машины, двигавшиеся в том же направлении, что и мы. Каждая норовила обогнать другую. Я думал, таксист наконец затормозит, но нет, он решил совершить обгон. Навстречу этим четырем лихачам, вздумавшим устроить игру в перегонки на шоссе шириной в 12—15 метров, неслись четыре других автомобиля.
Я закрыл глаза. А когда вновь открыл их, то мы уже мчались по капустному полю, метрах в ста от шоссе. Через свежепробитое ветровое стекло врывался горячий тропический воздух, мотор стучал по-другому, с каким-то жутковатым воем, дверцы почти совсем отвалились.
Однако до города мы доехали. Меня довезли до конечного пункта (пиратские такси ходят по определенному маршруту), и я отправился по своим делам. Вечером я снова был на том же перекрестке (а что делать?). Народу собралось много, такси пока не было. Пираты ужинали прямо тут же, на улице. Хозяин поставил на мостовую столик и стульчики из нетесаного дерева и кормил пиратов супом. Наконец один, наевшись, ушел за машиной, спрятанной от полицейских в подворотне, и подкатил ее к стоянке. В машину набилось девять человек. Один со столиком в руках, другой — с двумя петухами. Мне на колени сел студент со скрипкой.
Все весело разговаривают, смеются. Привычная, значит, ситуация. Такси же пока не едет. Наконец появляется десятый пассажир — с клеткой, в которой сидит попугай. Человек садится на пассажиров, расположившихся впереди, рядом с шофером. Кажется, поехали. В дороге начинается драка между попугаем и петухами. Петухи вырвались из рук хозяина, сели — один на шею водителю, другой — у стекла перед ним — и клюют через решетку зеленого попугая. Тот что-то орет на местном диалекте (судя по реакции сидящей слева от меня девушки — ругательства), но дать достойный отпор петухам не может — мешает клетка. Водителю надоела эта кутерьма. Он бьет петуха, сидящего на стекле, гаечным ключом и тот околевает. Теперь орет хозяин петуха. Человек со столиком хочет выйти и роняет свою ношу на скрипку сидящего на мне студента. Состав участников ссоры расширяется.
Тем не менее и на этот раз мы приехали. Платим всего по 70 центов и идем по домам, живые и почти целые...
Впоследствии, заинтересовавшись «пиратами», я узнал кое-что об их истории.
Появились они в 50-х годах, когда сингапурские власти, озабоченные немыслимым количеством такси в столь малой стране, ввели строгие ограничения на выдачу таксистских лицензий. Но те, кто решил посвятить себя вождению такси, так и остались таксистами, ибо сингапурцы — народ настойчивый. На острове начали возникать подпольные корпорации водителей, не имеющих лицензий на вождение такси. Объединялись, как правило, люди, проживающие в одном районе и говорящие на одном и том же диалекте китайского языка. Члены корпорации выбирали себе руководство — хозяина и его заместителей. На роль хозяина приглашался обычно кто-нибудь из наиболее зажиточных земляков. Сам он, естественно, не только не водил пиратские такси , но даже не видел их вблизи. Восседает такой лаожень («почтенный старец») где-нибудь в центре города в солидном оффисе с кондиционером, ворочает долларами и фунтами стерлингов, продает каучук в Китай, играет на бирже в Лондоне и покупает для личного зоопарка кенгуру в Австралии. Ну а заодно вроде бы мимоходом получает некоторые суммы в виде дани от своей шоферской корпорации. За это босс обеспечивает «пиратам» покровительство — иногда звонит в полицию и просит не арестовывать водителя, поставившего свой обшарпанный лимузин у президентского дворца в момент, когда оттуда выезжал руководитель очень дружественной и влиятельной державы; в другой раз помогает ввезти контрабандным путем беспошлинный бензин; в третий — «убеждает» шефа автобусной фирмы в некоем районе, чтобы тот не понижал тарифы на билеты — это отнимает у «пиратов» часть пассажиров, а значит, и часть заработка.
За все это «пираты» служат хозяину верой и правдой. Надо незаметно снять тайком с прибывшего из неизвестной страны судна партию наркотиков — они мчатся на дикий, заросший мантрами западный берег острова и бесшумно грузят ящики с пометкой «детские игрушки» в багажники. Требуется показать достопримечательности Сингапура влиятельному заморскому другу хозяина — они знакомят его со злачными местами, а когда тот, собираясь домой, лезет в карман, «пираты» вежливо, но решительно отказываются.
Связь с хозяином держат его замы — старосты. Это уже свои ребята — такие же люмпены, как и остальные «пираты». Старосты собирают деньги на покупку машин, устраивают своего человека в фирму по сбыту подержанных автомобилей и прочее, прочее, прочее.
Самое трудное для «пиратов» — выбрать диапазон действий. Это не просто — приходилось преодолевать упорное сопротивление не только автобусников и «легальщиков», но и себе подобных «пиратов» из соседних корпораций. Первое время конкуренция носила стихийный характер, принимая формы мордобитий и членовредительства, а также выведения из строя транспорта: поджоги машин, проколы шин, подсыпание песка в двигатели. Особо туго приходилось автобусникам — «пираты» проникали в автобусы в качестве пассажиров, даже исправно платили за билеты, но, когда эти примерные пассажиры покидали автобус на конечной остановке, обнаруживалось, что все сиденья изрезаны ножами, а стенки исписаны нехорошими словами на ряде местных и зарубежных языков.
Затем в дело вступали боссы, и борьба велась уже в верхах. Там по морде не били, действовали тоньше, используя политические и экономические средства. Постепенно благодаря поддержке больших боссов «пираты» взяли под свой контроль ряд важных маршрутов, соединяющих пригороды и деревушки с центром и между собой. Иногда же «пираты» действуют параллельно с автобусными компаниями и легальными такси.
В университете была своя полиция. На «пиратов» она смотрела сквозь пальцы, не препятствуя им в незаконной деятельности. Видимо, на то были какие-то причины. «Пираты» чувствовали себя настолько уверенно, что даже открыто расправлялись с таксистами, периодически приезжавшими в университет с пассажирами. Тех вежливо и невежливо просили «не портить конъюнктуру».
Вот что такое пиратское такси. Все время, что я прожил в Сингапуре, я ездил только на нем. Как, впрочем, и большинство местных жителей.
Ведь что ни говори, а быстро, дешево и в общем не так уж опасно...
Е. Севастьянов
Последний караван?
20 октября прошлого года одиннадцать человек и с ними семь верблюдов вышли из казахстанского города Кзыл-Орда, чтобы пройти около полутора тысяч километров по пескам. Предстоял путь через две пустыни: Кызылкум и Каракумы. В пески ушел настоящий караван, быть может, последний в XX веке, когда пустыню предпочитают пересекать на самолетах или в худшем случае на вездеходах.
Путеводителей по пустыне не существует, и пустыни отнюдь не стали добрее или удобнее сейчас, когда человек все уверенней пытается освоить их. Научно-спортивная экспедиция имела двух радистов (одного на Большой земле), двух караван-баши, долгое время постигавших науку обхождения с верблюдами, врача и опытного руководителя. Он, Владимир Диденко, одинаково уверенно чувствовал себя и на дрейфующих льдах Арктики, и среди жарких песков Кызылкума — это я видел сам... Смелым переходом спортсменов из Усть-Каменогорска заинтересовались психологи из института медико-биологических проблем, которые в ходе экспедиции решили провести эксперимент с целью изучения динамики психологической совместимости.
Перед началом похода спортсмены проходили проверку на гомеостате, заполняли многочисленные тесты. В Кызылкум, после того как группа смогла точно определить и сообщить по радио свои координаты, вылетел сотрудник института — вести наблюдения. Для психологов группа Диденко представляла особый интерес, как коллектив людей, находящийся в автономных условиях сложного и длительного испытания. Кроме заданий института, участники каравана собирали материалы для Московского зоопарка и Дарвиновского музея, в частности, об изменениях облика пустыни под влиянием деятельности человека.
...Я встретил их в самом сердце Кызылкума, когда они прошли половину пути. Верблюды уже втянулись в работу, но еще не успели утомиться, люди же обросли бородами и похудели, однако еще не настолько, чтобы у меня, свалившегося к ним прямо с неба — с помощью вертолета, — спрашивать сразу, привез ли я обещанный по радио хлеб. Сначала попросили свежие газеты.
Позади остались двадцать шесть дней пути. Вот строки из записок участника экспедиции кинооператора Евгения Филипенко:
«Еще днем нещадно палило солнце: плюс сорок. А ночью температура упала до минус десяти, поднялся ветер. Ветер все усиливался, швыряя в лицо пригоршни холодного песка. Ревели верблюды, не желая ложиться для вьюковки. Но вот слышна привычная команда: «Ач! Ач!» — «Вперед! Вперед!». Ветер срывает с барханов длинные дымные полотнища песка, бросает шары перекати-поля. На глазах очки, плотно затянуты капюшоны штормовок. Один за другим участники экспедиции скрываются в крутящейся мгле... Так было не раз за долгий путь.
Мы шли по карте, без проводника.
Колодцы были вехами нашего пути. Мы представляли, что колодцы нужны были для караванов, теперь же их забросили, вода исчезла или стала непригодной для питья. В действительности колодцев оказалось значительно больше, чем обозначено на нашей карте, хотя она и новая. И вот в чем дело: в пустыне интенсивно развивается каракулеводство. Новые колодцы — бетонные, метрового диаметра. Глубина их обычно 20—30 метров, но встречались колодцы глубиной сто сорок и больше метров. У каждого лоток для водопоя, бензиновый одноцилиндровый двигатель, поблизости обязательно бочка с бензином.
Встречались нам и старые колодцы. Стенки у них выложены толстыми стволами саксаула, наверху блок или перекладина для веревки. Нелегко начерпать из него воды для целой отары.
...Под ногами шуршит красноватый песок. Мы сразу взяли хороший темп движения: двадцать пять километров в день, тридцать, тридцать пять, сорок. В отдельные дни шли пятьдесят, шестьдесят. Вставали и ложились при луне. Страшно болели мышцы чог, кровоточили стертые пальцы...»
Когда я расставался с ребятами, их ждала еще одна пустыня, более суровая, чем эта, — Каракумы. Их ждала жажда и усталость, которую они пока не могли даже представить себе. И жаль, что я не смог присутствовать на их финише в Ашхабаде.
Говорят, это было достойное зрелище. По улицам невозмутимо плыли верблюды, а рядом вышагивали заросшие, исхудалые участники экспедиции. Водители машин гудками приветствовали их, а по тротуарам бежали мальчишки, размахивали руками и кричали: «Последний караван!..»
В. Снегирев
Маршруты, указанные случаем
Сезон-72 наш отряд совместной Советско-Монгольской историко-культурной экспедиции начал там же, где мы кончили работы 1971 года — у самых южных отрогов Гобийского Алтая, со всех сторон окруженных каменистой полупустыней. И занимались мы тем же — исследованием наскальных изображений, открытых ранее нашей экспедицией, раскопками курганов раннего железного века.
Работы были в разгаре, когда пришло неожиданное сообщение.
На западе Монголии во время строительства дороги при разработке песчаного карьера бульдозерист вдруг вывернул на поверхность земли огромные полусгнившие бревна. А затем под ножом бульдозера показались кости человека. Строители прекратили работы и тут же дали знать о случившемся в Монгольскую академию наук. Пришлось срочно консервировать раскопы до будущего года — стройка ждать не могла — и в темпе марш-броска спешить к месту «происшествия».
Памятник, случайно открытый бульдозеристом, оказался уникальным: древнейшие в Монголии коллективные погребения V—III веков до нашей эры. В огромных деревянных срубах мы нашли редкостные костяные и бронзовые наконечники стрел, всевозможные бронзовые пряжки, железные орудия и резные костяные украшения, а таких узкогорлых кувшинов, напоминающих по форме посуду Алтая и Тувы с налепными, искусно изваянными фигурками оленей и козлов, какие лежали в этих могилах, в Монголии еще не находили ни разу.
Закончив раскопки, возвращаемся в Улан-Батор... А в столице — новый сюрприз. Его привез — теперь уже с востока, из окрестностей города Чойбалсана — водитель геологической экспедиции Володя Дергач. Человек любознательный, начитанный и, как все шоферы, наблюдательный, во время остановки на ночлег он прогуливался недалеко от лагеря вдоль берега реки Керулена и подобрал в осыпи береговой террасы загадочный предмет с высеченным на нем необычным лицом. Осмотрев нависшие над ним стенки оврага, он увидел торчащие кости, обильно окрашенные красной краской. Угадав в своем неожиданном открытии археологическую древность, Володя уговорил своих нетерпеливых спутников ничего не трогать и не ковырять, а сам поспешил в Улан-Батор со своими находками. Подобных находок археологи не только не знали в этих местах, но если признаться честно, то, пожалуй, и не ожидали.
...Володя Дергач нашел древний каменный амулет, который, очевидно, висел на груди покойного и, судя по технике изготовления, был сработан в каменном веке. Изображение было лишь на одной плоской стороне амулета, но какое! Длинное лицо человека с большими круглыми глазами, с длинным носом и схематически переданным небольшим ртом. Портретов человека каменного века подобного антропологического типа в Монголии еще не находили. Сразу же было решено отправиться на восток и тщательно обследовать памятник на месте. Погребение, открытое Дергачом, ничем не было отмечено на поверхности земли: ни курганом, ни каменной выкладкой, ни ямкой. Поэтому-то раскопанное нами одно из древнейших известных ныне захоронений в Монголии помог найти лишь случай. Может быть, такая же счастливая случайность когда-либо откроет легендарную богатейшую могилу Чингисхана (1 Известно, что после погребения Чингисхана над его могилой прогнали табуны коней, а всех свидетелей убили, чтобы только земля хранила останки, богатства и тайну. — (Прим. автора.)).
На глубине 160 сантиметров в ярко-красной, насыщенной охрой могильной яме, вырытой более 6000 лет назад, был помещен покойник в позе сидящего «на корточках». Несохранившаяся одежда была вся расшита мельчайшим бисером — более 3 тысяч белых пастовых бусин покрывали скелет. Шею погребенного украшало ожерелье из крупных шаровидных бусин и диска с зубчатым краем, а голову — привески из клыка кабана. Около руки лежал длинный костяной двулезвийный кинжал.
Столь богатых погребений каменного века еще не было известно на территории Монголии. И это богатство убеждало в том, что перед нами захоронение человека, которому его соплеменники воздавали особые почести — старейшины или шамана.
В этом году мы намерены продолжить исследование редкостного исторического памятника. Пока что о происхождении его какие-либо гипотезы строить рано, но весь открытый комплекс наводит на любопытное предположение.
«Моделью» для скульптора, создавшего амулет, служило явно не монголоидное лицо. Однако нельзя назвать этот портрет и европеоидным. Скорее всего его можно отнести к тому антропологическому типу, который в конце каменного века был распространен на огромной территории от Тибета до Чукотки, а на Американском континенте был представлен длиннолицыми индейцами. Да и сам погребальный обряд — «на корточках» — известен археологам по могильникам этого же времени Прибайкалья, Охотского побережья вплоть до Чукотки, а также эскимосов и индейцев Америки. И не исключено поэтому, что движение древних азиатских племен в более северные лесные районы, о котором науке известно еще очень мало, захватившее огромные массы людей и приведшее в конце концов к образованию современных этнических групп и народностей, начиналось именно здесь, в глубинах Центральной Азии.
Э. Новгородова, кандидат исторических наук
Сухопутный моряк
От автора:
Четверть века назад мне посчастливилось совершить в Арктике два рейса на легендарном ледокольном корабле «Георгий Седов». Плавал я вместе с Эрнстом Теодоровичем Кренкелем, Героем Советского Союза, прославленным радистом, участником полярных эпопей на «Сибирякове», «Челюскине» и «папанинской льдине» — первой станции «Северный полюс». Эрнст Теодорович страстно любил Арктику и ее «полярный народ». Он хотел получше познакомить меня с полярниками и между делом организовал в салоне капитана «вечера рассказов». Всякий раз кто-нибудь, часто он сам, рассказывал о полярных делах, о людях Арктики. Эрнст Теодорович был тогда начальником управления полярных станций Главсевморпути. Человек редкой скромности, он просил воздержаться от упоминания его имени в том, что я напишу после плавания. В своих вышедших потом книгах я выполнил это пожелание, хотя, думается, они проиграли от этого. Позже я вернулся к тем темам, чтобы показать, какую роль на самом деле играл Эрнст Теодорович в выбранных мной эпизодах. Я посвятил ряд новелл памяти Героя Советского Союза, доктора географических наук Эрнста Теодоровича Кренкеля, человека большой души.
— Да я совсем не моряк! — сказал Эрнст Теодорович. — Я радист. Правда, работал радистом в разных условиях: и на земле, и на льдинах, даже в воздухе. Я ведь на «Цеппелине» летал. Помните, международный арктический рейс? Ну и в море, конечно, «Юшар», «Сибиряков»...
— Раз в море радистом плавали, значит, моряк, — уверенно сказал капитан «Георгия Седова» Борис Ефимович Ушаков.
— То добре, — заметил заглянувший в салон капитана аэролог Денисюк, которому предстояло завтра выгрузиться на остров Визе. — Я тоже в море никогда не плавал, а вот плыву.
— С комфортом плывешь, — усмехнулся Кренкель. — А вот у меня самые яркие воспоминания связаны с плаванием без комфорта... Корабль наш «Челюскин» прошел за одну навигацию весь Северный морской путь, что в былые времена считалось совершенно невозможным, и вошел в Берингов пролив. Справа — мыс Дежнева, слева — туманные горы Аляски. Как известно, до «Челюскина» здесь только ледокол «Сибиряков» прошел, да и то под парусами, я же их и ставить помогал. Признаться, мы на «Челюскине» тоже вошли в Берингов пролив под парусами, только паруса наши на этот раз были не брезентовые, как тогда у «Сибирякова», потерявшего гребной винт в торосах, а ледяные.
— Как это ледяные? — не понял Денисюк.
Аэролог был огромного роста и с трудом втискивался между привинченным столом и диваном. Лицо его из-за массивных желваков казалось прямоугольным и чем-то напоминало Эрнста Теодоровича. Но в отличие от Кренкеля он носил щетинистые усы и щурился.
— Ледяные,— подтвердил Кренкель. — Размером от берега до берега, от Азии до Америки. Нельзя сказать, чтобы мы ловко управлялись с эдакими «парусами», то есть с ледяным полем, которое нас тащило. Мы надеялись, что на дрейфующем поле, как на белом коне, въедем через Берингов пролив и Берингово море в рай Охотского. Да, человек предполагает, а ветер, хоть и не бог и не красавица, располагает. В самый неподходящий момент он переменил направление и потащил наше ледяное поле вместе с вмерзшей в него скорлупкой «Челюскина» назад в Ледовитый океан, в Чукотское море... Что дальше было, сами знаете.
— То не добре. А как же все случилось? — допытывался Денисюк.
— На нашем «Челюскине» пожар приключился перед гибелью, прямо как на «Титанике»...
— Пожар? — изумился Денисюк.
— Самовозгорание угля, еще до льдов... Всем нам тогда в трюме побывать пришлось. Аврал! Перелопачивали, проветривали... Вонь, угар... Невольно вспоминаются четыре кочегара, которых в бункере «Титаника» заперли, чтобы в пассажирских салонах спокойствие сохранить. Так и сохранили его в шуме веселья до самого столкновения со льдом. Они с горой столкнулись, а мы в равнину влезли.
На беду, наше поле, в которое вмерзли, треснуло. И пошла одна половина на другую, как стенка на стенку в старинных кулачных боях. А «Челюскин» между ними. Наши руководители — Отто Юльевич Шмидт и капитан Воронин предвидели возможную катастрофу «Челюскина». И составили аварийное расписание. Грузы были заранее вынесены на палубу. Надеялись, что обойдется. Да не вышло! Я сам видел, перегнувшись через реллинги, как стал борт корабля выпучиваться, словно картонный. И будто затрещали пулеметные очереди — это заклепки рвались. Корабль стонал, кряхтел, а нутро его — наружу. На лед полетели книги, подушки, даже сапожные щетки. Все это на снегу выглядело нелепо. Мое дело — по радио оповестить о случившемся, а электрического тока в рубке нет. Помчался сломя голову по трапам к резервному дизельку. Тот на месте стоит, а около него на колени опустился моторист. Думаю, запустить его хочет, а он богу молитвы возносит, помощь просит, поскольку у него дома чада остались. Дизелек оказался разобранным. Машинное отделение напоминало Сандуновские бани с бассейном; вверху пар, внизу вода...
— Не моторист — труха, — заявил старший механик Карташов, с интересом слушавший Кренкеля.
— Труха тоже среди нас была, — заметил Эрнст Теодорович, — только в малой пропорции, не то не выдержали бы.
— Как же вы без резервного дизеля? — спросил старший механик «Седова».
— На аккумуляторах аварийную связь наладили. Сообщил не только то, что, мол, тонем, а и как выгрузка идет на лед. Правда, сам я в замерзшее стекло ни черта не видел, да мне через открытую дверь кричали, что происходит. Тонул «Челюскин» рывками. Льдина пропорола ему борт и вошла внутрь судна. Так он на ней и висел, как шашлык на шампуре. Временами корабль весь содрогался. И опускался носом под лед. Покатились по моему столу карандаши. «Ну, — думаю, — амба, закрывай лавочку» Тут принялись мы (славная у меня аварийная команда была, загляденье!) наше радистское хозяйство на лед выгружать. Я скорее боялся потерять какую-нибудь малость, чем утонуть... На палубе сами собой бочки прыгают, а аккумуляторы чертовски тяжелые. И когда изобретатели в них свинец заменят?
Ну а дальше уже не морская, а скорее воздушная героическая эпопея пошла. Работали мы на льду с допотопной искровой радиостанцией, от которой в эфире вроде одни помехи. Так на этих «помехах» связь и держали, пока летчики в течение месяца не вывезли более ста человек из лагеря Шмидта. Радистам привелось последними улетать с дрейфующей льдины вместе с доставленными туда на всякий случай собаками. Славные были собаченции! Мы о них грелись. Печки живые!
— Эх, завидую я вам, Эрнст Теодорович! Дюже завидую, — крякнул Денисюк и поднялся. — Как-то мы выгрузимся завтра?
Наутро у острова Визе, где Денисюк должен был работать аэрологом, разгулялся страшный прибой. Из-за позднего времени года «Георгий Седов» не мог здесь задерживаться. Льды грозили преградить ему обратный путь. Капитан Борис Ефимович и Эрнст Теодорович, посовещавшись, решили изменить своей обычной осторожности и начать выгрузку во время прибоя.
Что делалось на берегу, я не знал. Я лишь видел людей, возвращавшихся на пустых кунгасах. На моряках не было сухой нитки, а вода ледяная. Они грелись разбавленным спиртом. Некоторые ящики им пришлось вылавливать у берега из воды. Выгрузка велась и днем и ночью.
Капитан не знал, удастся ли ему выбросить на берег все грузы для полярной станции Визе, и установил очередность. Сначала — продовольствие и топливо. В последнюю очередь — водородные баллоны.
Вот тут и начались неприятности для аэролога Денисюка. Баллоны казались ему самым важным грузом. Без них он не сможет наполнять водородом шарики, чтобы выпускать их в небо. Наблюдая за их полетом на разной высоте, он должен определять скорость и направление ветра.
Денисюк категорически отказался съехать на берег без баллонов. Я видел, как он, огромный, неуклюжий, мрачно слонялся по палубе, глядя на далекий остров, пустынный и плоский, с одиноким домиком, который уже начало заносить снегом. На широком лице аэролога застыло выражение страдания.
Отправлялся Денисюк на остров с последним рейсом катера, буксировавшего кунгас с его «драгоценными» баллонами.
Повел катер третий штурман Иван Васильевич Нетаев. Вместо измученного моториста, работавшего двое суток без сна, с Нетаевым в этот рейс отправился старший механик корабля Карташов.
Я понял, какое значение придает капитан этому рейсу, послав своих помощников.
Когда катер, буксируя кунгас с водородными баллонами, отошел от корабля, налетел снежный заряд. Незаметно он перешел в пургу. Катер исчез в пелене. У всех худо стало на душе. Видимость кончалась прямо у борта корабля. Даже вершины мачт скрылись. Остров пропал. Все тревожно прислушивались к замиравшему стуку дизелька катера.
Наконец стук замер.
И вот уже полтора часа не слышно катера ни на корабле, ни на острове, с которым установлена радиосвязь. Катер не дошел до берега и не вернулся обратно. Как выяснилось позднее, дизель на катере заглох, когда Иван Васильевич уже видел ориентир — костер, разложенный на берегу.
— Что случилось? — крикнул из рубки Нетаев, наклонившись к переговорной трубе.
— Сейчас запущу, — отозвался механик. Был Карташов пожилым и удивительно спокойным моряком. В тесном машинном отделении он склонился над дизелем.
Дизель запускают не заводной ручкой, а сжатым воздухом, впуская его в цилиндры. Баллон со сжатым воздухом лежал на специальной подставке, чтобы не перекатываться при крене катера. Катер потерял ход. Его валило с боку на бок, било волнами.
Механик соединил шлангом баллон с дизелем и повернул кран дроссельного клапана, снижающего давление сжатого воздуха. Стрелка манометра на баллоне дрогнула. Сжатый воздух ринулся в цилиндры.
Карташов дал топливо — вспышка! Еще вспышка! Дизель застучал. Перестал. Опять застучал... И заглох.
— Форсунка засорилась! Надо прочистить! — уверенно крикнул Карташов в переговорную трубу.
Штурман тщетно старался поставить катер против волны. Огонь на берегу быстро удалялся. Ветер и течение несли катер в открытое море. Иван Васильевич посмотрел на компас, стараясь хоть приблизительно определить направление своего вынужденного курса. Цепляясь за поручни на машинной надстройке, штурман прошел на корму. Карташова он не торопил. Он во всем доверялся этому опытному человеку. Вспомнил рассказ Кренкеля о молившемся мотористе и мысленно усмехнулся.
С кормы катера сквозь летящую снежную стену уходил в полумрак буксирный канат. Кунгас казался темным расплывчатым пятном.
Снег, липкий, мокрый, бил в лицо, залепляя глаза.
Осветился квадрат люка. Из него показалась голова механика в сдвинутой на затылок кепке.
— Сейчас запустим! — ободряюще крикнул он.
Успокоенный штурман вернулся в рубку и взялся за штурвал. Но на душе у него было нехорошо. Механик запустит дизель... А куда идти?
Нелегко в море найти остров. «Седов» его трое суток искал. На катере не было ни радиопеленга, ни лага, ни карт с нанесенным на них курсом. Дизель не работал.
— Что там у тебя? — небрежно крикнул Нетаев в переговорную трубу.
В машинном отделении молчали.
С тяжелым предчувствием штурман снова выбрался из рубки и заглянул в люк машинного отделения.
Электрическая лампочка тускло освещала широкую спину приземистого старшего механика. Карташов обернулся. Нетаев не узнал его. Всегда спокойное лицо его перекосило, как от мучительной боли. Он указал на стрелку манометра.
— Все стравил, — упавшим голосом сказал он.
В баллоне воздуха не было... Стрелка манометра застряла...
Нетаев увидел капельки пота на морщинистом лбу Карташова. Тот продолжал чужим, незнакомым Нетаеву голосом:
— Дизеля не запустить. Моя вина. Выходит, труха!..
С неожиданным спокойствием Нетаев сказал:
— Пассажир ведь на кунгасе... Надо его на катер взять. Кунгас скоро затонет.
Механик взглянул на штурмана, со злостью пнул ногой пустой баллон и полез следом за Нетаевым по трапу. Они выбрались на корму. Липкий снег и брызги летели отовсюду. Через голенища в сапоги заливалась вода.
Моряки ухватились за буксирный трос и с трудом стали тянуть его. Скоро из мглы появилась пляшущая тень. Это был кунгас. На носу его маячила фигура человека.
Нетаев крикнул:
— Прыгайте, Денисюк! Трос обрубим!
— Как же так — обрубим? — послышался голос. — Так ведь тут баллоны с водородом!
— Какие там баллоны? — с раздражением сказал Карташов.— Кунгас ко дну пойдет. Разве не понятно?
— То ж понятно, — отозвался Денисюк. — Вполне понятно. Только как же баллоны бросать?
Он выкрикивал слова, то поднимаясь над кормой, то проваливаясь куда-то вниз.
— Прыгайте! — начал сердиться Карташов.
— Так ведь без баллонов ни единого шара не выпустить. То ж не дело! — хрипло протестовал Денисюк.
— Нам кунгас не удержать, он открытый, его зальет волнами, — сдерживаясь, объяснял Нетаев.
— Так вы бы то сразу сказали. А ну! Поберегись! Будьте ласковы!
На палубу что-то грохнулось. Карташов едва успел отскочить. Это упал брошенный с кунгаса баллон. Трудно было поверить, что пятидесятикилограммовый баллон можно перебросить на такое расстояние. Но Денисюк, огромный Денисюк, в армии удивлявший однополчан-танкистов игрой с двухпудовой гирей, выбрал момент, когда кунгас ударился о корму катера, и перебросил баллон...
— Перетаскивайте, Федор Михаилович, в носовую каюту, — сказал механику Нетаев, невольно улыбнувшись изумлению Карташова. — А я буду их удерживать на палубе, чтобы не нырнули...
Баллоны, похожие на крупнокалиберные снаряды, один за другим падали на корму катера. Слышно было, как хрипло дышал Денисюк, поднимавший их со дна кунгаса.
— Денис Алексеевич! Хватит, катер перегрузим! — нерешительно протестовал Нетаев.
— Да то ж мне на целый год... Восемь штук. То небогато. Еще парочку, будь ласков! — И, не дожидаясь ответа, Денисюк с тяжелым вздохом бросил на катер еще один баллон.
Потом он неуклюже прыгнул сам и сразу вцепился в поручни.
— Качает, как на танке... по пересеченной местности, ровно контузило, — проговорил он.
Штурман взмахнул топором, обрубил трос. Кунгас взлетел на гребень волны и исчез в темноте.
Денисюк навалился животом на машинную надстройку. Ему, видимо, было нехорошо.
— Сухопутный я моряк, — виновато сказал он, обернувшись.
— Если нехорошо, надо работать, — посоветовал Нетаев. — Идите с механиком откачивать воду.
Денисюк, минуту назад кидавший стальные баллоны, теперь едва держащийся на ногах, поплелся в носовую каюту.
Вход в каюту был через рулевую рубку.
За стеклами рубки в темноте ревела вода. С грохотом била она в переборки и двери. Из-под стекол и через порог вода струйками стекала в каюту. Ее пришлось вычерпывать ведрами. Денисюк стал помогать Карташову. Работать было трудно. При росте Денисюка ему нельзя было даже разогнуться. Но все же работа помогала.
Карташов хмурился и молчал.
Откачивали воду всю ночь, но вода прибывала. К утру поднялся ветер баллов до десяти. Положение катера становилось угрожающим. Он уже не прыгал по волнам. Изнемогая, ложился на борт, зачерпывая воду, вдруг взлетал, готовый оторваться от гребня, потом снова стремительно падал.
Лишь на минуту спустился в каюту штурман.
— Ну беда, Денис Алексеевич, — сказал он. — У катера ходу нет, против волн держаться не может. Воды не вычерпать, сами видите.
— Так что ж? — сгорбившийся
Денисюк остановился с ведром в руке.
— Баллоны надо будет сбросить, — сказал Нетаев.
— То ж не дело, товарищи! Мне ж год не с чем будет работать!
— Ничего не поделаешь, Денис Алексеевич, — как бы извиняясь, пожал плечами штурман.
— А если запустить дизель? — вдруг спросил Денисюк.
— Как запустить? — вяло спросил механик.
— Так вот вам сжатый газ! Двести атмосфер! — и Денисюк пнул ногой баллон.
Карташов удивленно посмотрел на Денисюка.
— Это водород, — напомнил он.
— Так что же?
— Рехнулся! — Карташов сердито бросил ведро. — Смесь водорода с воздухом — это же гремучий газ. Если мы будем провертывать дизель сжатым водородом — верный взрыв. От катера щепки останутся!
— Э, ни! — поднял руку Денисюк. — Ты ж меня выслушай! То ж идея! Мы не смешаем водород с воздухом. Мы все всасывающие трубы заткнем кляпом.
Карташов отрицательно покачал головой:
— Это нельзя... риск.
— Как разумеете. Только баллоны выбрасывать не могу.
— Как думаешь, Федор Михайлович? — нерешительно обратился Нетаев к механику.
— Никогда такого не слыхивал, — сердито обернулся тот. — Пятнадцать лет механиком, немало людей выучил... Не могу пойти на такой риск.
Нетаев задумался. Денисюк, согнувшись, выжидательно смотрел на него. Наконец штурман повернулся к нему. Обычно мягкое, улыбающееся лицо его сейчас побледнело, осунулось. Тонкие черты обострились.
— Почему вы считаете, что можно использовать водород? — с прежним спокойствием спросил он.
— А я ведь в политехническом учился, только не кончил. Потом, в войну, танкистом был, с танковыми дизелями возился. В общем, знаком я с дизелями...
— Послушайте, Денисюк, — твердо сказал штурман. — Я когда-то проходил в мореходке дизеля, но считайте, что я ничего в них не понимаю, и считайте, что сейчас я обязан все понять. Обязан! Встаньте рядом со мной в рубке, мне надо к штурвалу. Карташов вал будет снизу подавать ведра, а вы выливайте воду на палубу. И объясняйте мне так, чтобы я непременно понял, все понял!
Денисюк внимательно, с уважением посмотрел на невысокого штурмана,
— Добре, — согласился он, — все расскажу.
Волны зелеными вспышками разбивались о стекло. Катерок взлетал — и люди видели зубчатый горизонт, покрытый гребнями волн. Потом катер срывался вниз, готовый перевернуться килем вверх, — и люди теряли равновесие, едва удерживаясь на ногах. Денисюк, ссутулясь, стоял рядом со штурманом. Он брал ведра, которые ему подавал снизу механик, и выливал воду на палубу.
— Как работает дизель? Первым делом поршень из цилиндра выдвигается и засасывает в него снаружи воздух. — Денисюк протянул вниз руку и взял ведро с водой. — То первый такт. Потом поршень вдвигается в цилиндр и тот воздух, что туда попал, сжимает. Крепко его сжимает, так крепко, что воздух сильно нагревается. То второй такт. Теперь третий такт. В цилиндр с горячим воздухом через форсунку впрыскивается жидкое топливо. Оно начинает гореть, образуя газы, а эти газы с силой выталкивают поршень. То рабочий ход. И наконец, последний такт: поршень идет обратно и выталкивает наружу расширившиеся газы. — Денисюк выплеснул ведро на палубу. — Потом снова в цилиндр засасывается воздух. — Денисюк опять взял у Карташова ведро, полное воды.
Штурман, бледный, напряженно держась за штурвал, слушал эту , необычную лекцию. Он знал, что катеру не продержаться и нескольких часов.
А сколько времени понадобится «Седову», чтобы найти в открытом море крохотный катер? Пойдя на риск, можно запустить дизель и держаться против волны — кто знает как долго... Но если взрыв?
— Теперь как запустить дизель? Очень просто. Мы возьмем и закроем всасывающую трубу. — И Денисюк закрыл дверь в каюту. — Провернем дизель вручную. Поршни весь воздух, какой в цилиндрах есть, вытолкнут наружу, а нового не засосут. — Денисюк выплеснул из ведра остаток воды. — Теперь в пустой цилиндр... — Денисюк показал порожнее ведро, — мы вместо топлива пустим сжатый газ из баллона. Сжатый газ вытолкнет поршень. Поршень выйдет из цилиндра, а потом обратно пойдет, и расширившийся газ вытолкнет наружу, не сжимая его, то есть не нагревая. Теперь снова первый такт. Поршень должен был бы воздух засосать, но ведь всасывающая труба закрыта. И снова цилиндр пустой. — Денисюк потряс ведром. — А тут опять рабочий ход подоспел. Вместо топлива в цилиндр снова сжатый водород попадает. И, видишь, он не смешивается с наружным воздухом. Ведро, то бишь цилиндр — пустой... Значит, нет никакой гремучей смеси. А вот дизель раскрутился... Тут момент надо поймать — сжатый водород прикрыть, а всасывающую трубу открыть. — Денисюк распахнул дверь. — Карташов, давай ведро.
Механик сунулся в рубку.
— Послушай, Ваня! Пусть Денисюк — недоучившийся инженер, а я просто практик... Мыслимое ли дело... с водородом и этакие штуки? Я еще с училища помню: водород — взрывчатое вещество. Тебе решать, Иван Васильевич. Здесь, в море, ты капитан, хоть и младше меня. Что до меня, так я ничего не имею против... взорваться, — в голосе Карташова зазвучала прежняя уверенность. — Виноватым себя считаю...
Нетаев должен был решать.
Денисюк и Карташов ритмично вычерпывали воду. Нетаев молчал. Он сжимал в руках штурвал и думал.
«Георгию Седову» тяжело приходилось от качки. Радиста едва не смыло за борт, когда он бежал к капитану с радиограммой. Радист схватился за реллинги и с трудом удержался на ногах, да и то только потому, что его подхватил направлявшийся к нему в радиорубку Кренкель.
Кренкель прочел адресованную ему радиограмму и, хмурясь, пошел к капитану на мостик.
— Погода нелетная, — буркнул он.
Часами капитан с Кренкелем простаивали на мостике, поочередно обводя биноклем горизонт. Но горизонт этот был так близок, что в бинокле не было нужды.
Капитан прочесывал море зигзагами. Кренкель ушел в радиорубку и сам сел за ключ, связываясь с Диксоном. Корабль, разворачиваясь на новый галс, попадал под удар волны и бортом зачерпывал воду. Прежде капитан избегал этого, боялся, что катер и кунгас сорвутся в воду. Теперь капитану было все равно.
— Летит! Летит! — послышался крик с кормы.
Капитан резко повернулся. Под низким небом летел самолет.
— Все-таки вызвал! — воскликнул капитан. — Ну и Кренкель! Петушиное слово знает! — обрадованно заговорил капитан.
Летающая лодка сделала круг над кораблем. Моряки провожали ее восхищенными взглядами.
— Как только он поднялся?
— Так ведь сесть еще надо на такую волну!..
Самолет стал удаляться от корабля, почти касаясь волн.
На палубе появился сосредоточенный Кренкель и опять скрылся в рубке, он держал прямую радиосвязь с пилотом.
И вдруг я снова увидел Кренкеля, выскочившего из радиорубки. В несколько прыжков он достиг трапа и одним nмахом взлетел на капитанский мостик.
— Право на борт! Живее!
Я почему-то вспомнил его рассказ, как он на «Челюскине» сломя голову мчался к резервному дизельку.
«Георгий Седов» стал разворачиваться по команде Эрнста Теодоровича и снова зачерпнул бортом, но теперь этого никто не заметил.
И через час с корабля увидели катерок. Маленькая точка то появлялась, то исчезала в тумане.
— Против волны держатся. Значит, с дизелем порядок... — сказал капитан, глядя в бинокль.
— Да, должно быть, не богу там молились, — заметил Кренкель.
— Как же вам удалось самолет вызвать в такую погоду? — спросил капитан.
Кренкель хитро прищурился и стал походить на Денисюка.
— А я им ключом вчерашний рассказ про «Челюскина» отстучал.
Через двадцать минут моряки обнимали смельчаков, спасших себя и катер.
— Сколько баллонов утопили! — сокрушался Денисюк. — Теперь по малой программе весь год работать придется. А я пойду до каюты, отлежусь. Что? Не по-морскому? Так я же сухопутный, а море-то ваше...
— Вы его не слушайте, — заметил старший механик Карташов, — он, Денисюк, и есть настоящий моряк.
А Кренкель снова засел в радиорубку на прямую связь и не выходил оттуда, пока не узнал о благополучной посадке летающей лодки в бухте острова Диксон.
Потом я видел, как он оживленно обсуждал что-то с Карташовым у входа в машинное отделение. До меня донеслись лишь слова:
— Нет, не труха...
Александр Казанцев
Сказки острова Маврикий
В Индийском океане, к востоку от Мадагаскара, находится остров Маврикий. До получения независимости 12 марта 1968 года он был колонией Великобритании, а еще раньше — Франции, получившей остров от голландцев в начале XVIII века. Потомки темнокожих рабов, которых французы тысячами привозили из Африки и с Мадагаскара, составляют основное ядро почти миллионного населения Маврикия. Они говорят на креольском языке, который появился в результате тесного и долгого взаимодействия французского, мальгашского и других языков. Предлагаемые в этом номере сказки — первые публикуемые переводы с креольского языка на русский. Сборник сказок острова Маврикий готовит к печати издательство «Наука».
Как Заяц и Слон поссорились
Однажды Слон сказал Зайцу:
— Давай вскопаем землю и посадим овощи.
Заяц с радостью согласился, но сказал Слону:
— Только давай договоримся, кум: тот из нас, у кого мотыга соскочит с черенка, будет надевать ее на черенок на голове у другого.
Заяц нарочно плохо закрепил мотыгу. Она то и дело соскакивала с черенка, и тогда он кричал Слону:
— Кум, у меня мотыга соскочила; подставь голову, чтобы я мог надеть мотыгу на черенок!
И Слон каждый раз подставлял голову.
Но вдруг с черенка соскочила мотыга Слона, и Слон крикнул Зайцу:
— Кум, у меня тоже мотыга соскочила; подставь голову, чтобы я мог надеть мотыгу на черенок!
У Зайца душа ушла в пятки, и он сказал Слону:
— И тебе не жалко меня, мой друг? Ведь голова у меня совсем маленькая — ты как стукнешь в первый раз, так и разобьешь ее.
Слон рассердился:
— Знать ничего не хочу! Мы с тобой договорились, кум, и, когда твоя мотыга соскакивала с черенка, я подставлял тебе свою голову; теперь, когда соскочила моя мотыга, ты должен подставить свою голову.
Заяц отказался подставить голову, и Слон хотел его за это побить. Но Заяц убежал. Их дружбе пришел конец — больше они ничего не стали делать вместе.
И вот однажды решил Слон устроить бал и пригласил на него всех зверей, кроме Зайца. Музыкантом он позвал Черепаху — она играла на калебасе.
Когда Заяц узнал, что Черепаху пригласили играть на балу, он попросил ее:
— Кума, посади меня в свою калебасу, и я буду за тебя играть — только каждый раз, когда тебя будут угощать, ты будешь давать мне в калебасу всего понемножку.
Бал начался. Заяц играл, сидя в калебасе, а Черепаха его поила и кормила. В конце концов, Заяц опьянел и стал громко петь все, что ему приходило в голову. Прислушался Слон и понял, что в калебасе сидит Заяц. Очень разозлился он и стал ругать Черепаху за то, что она принесла в калебасе Зайца. Слон решил побить Черепаху и Зайца, но калебаса упала и раскололась, и Заяц снова от него убежал.
Заяц, Слон и Кит
Как-то раз папаша Заяц отправился погулять. Гулял он, гулял и вышел на берег моря. Остановился, стал смотреть на морскую гладь, расстилавшуюся перед ним, и вдруг увидел Кита.
— Мать моя, какое огромное животное! — изумился Заяц и закричал Киту:
— Эй, эй, вы! Подплывите поближе, я хочу сказать вам два слова!
Кит подплыл к берегу, и Заяц ему сказал:
— Да, вы очень велики, но не в величине сила, а в крепости духа. Вот я совсем маленький, а хотите поспорим, что я сильнее?
Кит посмотрел на него и рассмеялся. Тогда Заяц сказал ему:
— Послушайте: я принесу длинную-предлинную веревку. Вы одним концом обвяжете хвост, а я завяжу другой конец вокруг пояса, и каждый из нас потянет в свою сторону. Поспорим, что я вытащу вас на сушу!
— Неси свою веревку, малыш, и мы поглядим.
Заяц пошел в лес, нашел там Слона и сказал ему:
— Большая голова и маленький хвостик — с таким сложением сильными не бывают. Я совсем маленький, но, если я стану с тобой тягаться, готов поспорить, что одолею тебя!
Посмотрел Слон на Зайца и рассмеялся. Заяц продолжал:
— Слушай: я принесу длинную-предлинную веревку. Ты одним ее концом обвяжешься вокруг своего живота, а я завяжу другой конец вокруг своего, и каждый из нас потянет в свою сторону. Поспорим, что я потащу тебя как рыбешку на удочке!
— Неси свою веревку, приятель, и мы поглядим.
Заяц принес длинную-предлинную веревку, дал один конец Киту и сказал:
— Обвяжите хвост покрепче и, когда я крикну: «Готово!», начинайте тянуть.
Кит обвязал веревкой свой хвост и стал ждать. А Заяц в это время подтащил другой конец веревки к Слону и сказал ему:
— Обвяжись покрепче и, когда я крикну: «Готово!», начинай тянуть.
Слон обвязался веревкой вокруг живота и стал ждать. Заяц спрятался под кустом и крикнул:
— Готово!
Кит потянул в одну сторону, Слон в другую. Веревка натянулась словно струна. Натужились они, тянут-тянут — ни один не может перетянуть. Плак!!! Веревка разорвалась, Слон покатился по земле, а Кит ударился о кораллы и поранился. Заяц подбежал к Слону:
— Айо, приятель, тебе, наверно, больно? Не надо было спорить с тем, кто сильнее тебя!
Не сумел Слон ответить. А Заяц побежал на берег моря, увидел, что вода стала красной от крови, и крикнул Киту:
— Мне жаль, что вы поранились, и я огорчен, что вам больно, но зачем было кичиться, что вы такой большой? Кичиться нехорошо!
Чего-чего, а этого Кит услышать не ожидал.
Разинул он рот, а сказать ему нечего.
Так и поверили Слон и Кит, что они слабее Зайца.
Маленький Зан и бычий хвост
Жил когда-то мальчик, которого все звали Маленький Зан. Однажды, когда он играл, он поймал кузнечика и сказал своему отцу:
— Папа, папа, посмотри — я играл и поймал кузнечика.
Отец взял у него кузнечика, а Маленькому Зану дал стрелу.
Маленький Зан пошел и увидел мать. Он сказал ей:
— Мама, мама, посмотри — вот стрела, которую мне дал отец за кузнечика, которого я поймал, когда играл.
Мать взяла у него стрелу и дала Маленькому Зану кокосовый орех.
Маленький Зан пошел дальше и увидел на берегу реки негритянку — она пила, зачерпывая из реки воду ладонями. Он сказал ей:
— Негритянка, негритянка, какая ты глупая, что пьешь воду из ладоней! Вот тебе кокосовый орех — расколи его, сердцевину съешь, а скорлупой можешь зачерпывать воду.
Негритянка взяла у него орех, расколола и съела. Тогда Маленький Зан заплакал и сказал негритянке:
— Негритянка, негритянка, я не знал, что так будет! Отдай мне мой кокосовый орех, который мне дала мама за стрелу, которую мне дал отец за кузнечика, которого я поймал, когда играл.
Негритянка дала Маленькому Зану горсть чечевицы, и он пошел дальше и увидел голубя, который клевал на дороге мелкие камешки. Он сказал голубю:
— Голубь, голубь, какой ты глупый, что клюешь камешки на дороге! Вот тебе чечевица — бери ешь.
Он рассыпал чечевицу перед голубем, и голубь ее съел. Тогда Маленький Зан заплакал и сказал ему:
— Голубь, голубь, я не знал; что так будет! Отдай чечевицу, которую мне дала негритянка за кокосовый орех, который мне дала мама за стрелу, которую мне дал отец за кузнечика, которого я поймал, когда играл.
Голубь дал Маленькому Зану перо, и Маленький Зан пошел дальше. Проходя мимо школы, он увидел школьника, писавшего на бумаге палочкой, и сказал ему:
— Школьник, школьник, какой ты глупый, что пишешь на бумаге палочкой! Вот тебе перо — заостри его и пиши им.
Школьник взял у него перо, заострил и стал делать уроки. Маленький Зан заплакал и сказал школьнику:
— Школьник, школьник, я не знал, что так будет! Отдай мне мое перо, которое мне дал голубь за чечевицу, которую мне дала негритянка за кокосовый орех, который мне дала моя мать за стрелу, которую мне дал отец за кузнечика, которого я поймал, когда играл.
Школьник дал Маленькому Зану старую тетрадь, и Маленький Зан пошел дальше. Проходя мимо кузницы, он увидел кузнеца, который разжигал огонь сырой соломой. Маленький Зан сказал ему:
— Кузнец, кузнец, какой ты глупый, что разжигаешь огонь сырой соломой! Вот тебе сухая бумага — возьми и разожги ею огонь.
Кузнец взял у него бумагу и разжег огонь. Тогда Маленький Зан заплакал и сказал ему:
— Кузнец, кузнец, я не знал, что так будет! Отдай бумагу, которую мне дал школьник за перо, которое мне дал голубь за чечевицу, которую мне дала негритянка за кокосовый орех, который мне дала моя мать за стрелу, которую мне дал отец за кузнечика, которого я поймал, когда играл.
Кузнец дал Маленькому Зану бычий хвост, и Маленький Зан пошел дальше. Пришел он на берег моря и там зарыл бычий хвост в песок, оставив снаружи только маленький кончик. После этого он побежал к королю и схитрил — заплакал и сказал ему:
— Король, король, дай мне пятьдесят человек, я пойду вытащу с ними моего быка — он зарылся в песок, и только кончик хвоста торчит наружу.
Король дал ему пятьдесят человек, они пришли на берег моря, потянули бычий хвост — и вытащили его. Тогда Маленький Зан снова пошел к королю, заплакал и сказал:
— Король, король, эти люди оторвали у моего быка хвост, и мой бык пропал.
У короля было доброе сердце, и он подарил Маленькому Зану корову. Вот как кузнечик превратился в корову в стране Маврикий.
Зова и Крокодил
Однажды человек по имени Зова взял мешок и пошел за хворостом. Шел он по полю, и вдруг ему послышалось, будто где-то недалеко плачет ребенок. Остановился Зова, прислушался и пошел на плач, а когда пришел туда, то увидел, что это плачет Крокодил под кустом черной смородины у края дороги.
Увидев около себя Зову, Крокодил сказал:
— Айо, человек, если у тебя доброе сердце, пожалей меня! Я умираю от усталости и жажды, и у меня нет больше сил идти. Посади меня в мешок, что у тебя за спиной, отнеси к реке и брось в воду. Бог радуется, когда жалеют несчастных!
— Но как же мне посадить тебя в мешок? Ведь ты в нем не поместишься — слишком уж ты велик.
— А я так лягу, что помещусь. Положи мешок на землю и открой его — тогда сам увидишь.
Зова был добрый человек. Он положил мешок на землю и открыл его. Крокодил свернулся так, что стал похож на моток каната, а потом вкатился в мешок и сказал Зове:
— Ну вот я и в мешке, добрый человек; бери и неси меня!
Зова взвалил мешок на спину, пошел к реке и бросил Крокодила в воду, а сам сел отдохнуть, потому что мешок был тяжелый и Зова очень устал.
Напился Крокодил воды, выкупался, и захотелось ему есть. Вылез он на берег, подполз к Зове и сказал, ухмыляясь:
— Эй, добрый человек, я хочу есть! Мы, крокодилы, очень любим человечину; дай-ка я откушу у тебя ногу.
Зова ушам своим не поверил:
— Как, я только что спас твою жизнь, а ты хочешь меня съесть? Да у тебя совести нет! Да где твоя совесть?!
— Какая такая совесть? Я захотел есть, нашел вкусную еду, да еще буду совеститься? Не думаешь ли ты, что крокодилы дураки?
В это время мимо проходила матушка Курица. Зова увидал ее и сказал Крокодилу:
— Давай спросим у матушки Курицы, кто из нас прав — ты или я.
— Ладно, я согласен — спрашивай ее, а там будет видно.
Выслушала их матушка Курица и, повернувшись к Зове, сказала:
— Я кладу яйца — люди их едят, высиживаю цыплят — люди их едят; а когда я становлюсь совсем старой и петух больше не приходит ко мне, люди режут меня, вешают на дынное дерево, чтобы мое мясо стало нежным, готовят меня с приправами и едят. Так неужели ты думаешь, что я не посоветую Крокодилу тебя съесть?
И матушка Курица пошла прочь. Загоревал Зова, а Крокодил только смеется.
Тут пришла к реке на водопой Корова. Подозвал ее Зова и рассказал про свой спор с Крокодилом. Выслушав, Корова сказала:
— Не мешай мне спокойно пить воду! Почему я должна печалиться, что Крокодил хочет тебя съесть? Вы, люди, пьете мое молоко и делаете из него масло и сыр; когда у меня рождаются дети, вы убиваете и съедаете их; когда я состарюсь, вы убиваете меня и сдираете с меня шкуру, и даже из рогов моих делаете для себя ложки. Дай же мне спокойно напиться воды, человек!
Крокодил хотел уже броситься на Зову, но тут они увидели, что мимо идет Собака, и человек позвал ее. Выслушав, все, Собака сказала Крокодилу и Зове:
— Да вы, видно, надо мной смеетесь! Чтобы я поверила, что этот огромный Крокодил мог вместиться в мешок? Если бы я превратилась в осла, то и тогда не поверила бы вашим сказкам! А сейчас я поверю если только увижу все собственными глазами. Ну-ка, положи мешок на землю, добрый человек! И ты, Крокодил, такой большой, с таким жестким хребтом, говоришь, что можешь влезть в него?
Зова положил мешок на землю, и Крокодил, свернувшись, снова влез туда. Тогда Собака сказала Зове:
— Завяжи скорее мешок, да потуже!
Зова завязал мешок. Крокодил, придя в ярость, начал кричать и биться, но Зова с Собакой так и оставили его в мешке и ушли, посмеиваясь.
Долго бился Крокодил в мешке, и наконец разорвал его, и вылез наружу. Но Собака и Зова были уже далеко. Стал думать Крокодил, как бы им отомстить, а потом зарылся в грязь на берегу реки и стал ждать. Пришла попить воды матушка Курица — Крокодил не шевелится, пришла попить воды Корова — Крокодил не шевелится. Приходят звери один за другим, пьют воду — Крокодил не шевелится. Но вот пришла Собака — и Крокодил, высунувшись из грязи, мигом схватил ее за лапу. Однако Собака была хитрая — видя, что глаза у Крокодила залеплены грязью, она рассмеялась и сказала:
— Эй, Крокодил, до чего же ты глуп! Думаешь, ты лапу мою схватил? Это сухая ветка, вот что это такое!
Очень удивился Крокодил и открыл пасть, чтобы посмотреть, что же такое он схватил зубами. Собаку как ветром сдуло, и Крокодил остался ни с чем.
Так Собака еще раз одурачила Крокодила.
Перевел с креольского Ростислав Рыбкин
Устаревшим оружием
Казалось бы, для оружия, отслужившего свой век либо вышедшего у стратегов из моды, путь один — на переплавку. Однако стоит ему избежать двух-трех инвентаризаций, как отношение к этому самому оружию меняется; оно уже переходит в разряд антиквариата, приобретая новые качества. В том числе спортивные. Рыцарский меч, конечно, не перестал быть холодным оружием. Но попробуйте поднять его! Такое сейчас под силу только штангисту-разряднику. Спортивным инвентарем стали луки, копья, шпаги, ядра и молоты. Есть и менее известные снаряды, являющиеся гвоздем состязаний, о которых мы обычно рассказываем в нашей рубрике «География спорта».
Ежегодно 3 сентября в маленькой республике Сан-Марино можно наблюдать красочное зрелище. По очереди к тяжелым крепостным арбалетам подходят люди, чтобы выпустить стрелу в цель. Арбалеты, не будем скрывать, изготовлены не столь давно, но они в точности скопированы с древних оригиналов, хранящихся в башне Ла Фратта. Это самая высокая из трех башен Сан-Марино. В средние века из ее бойниц вели круглосуточное наблюдение за окрестностями. В случае тревоги колокол созывал жителей под защиту стен. А поскольку каждый человек был на счету, то все мужчины от двенадцати лет обязаны были владеть искусством стрельбы из арбалета.
Традиция, как видите, сохранилась. Есть даже свои чемпионы, тренирующие новичков.
В средневековой Японии кендо было системой подготовки самураев к владению мечом и пикой. Самурайский кодекс гласил, что меч — часть души воина. Лишиться меча значило лишиться чести. Современное кендо полностью демократизировалось. Прежде всего упразднен меч. Его заменяет бамбуковая палка длиной 1.1 метра и весом в 1.4 килограмма. Сохранились лишь некоторые ритуалы и правила фехтования, о которых мы и расскажем.
Соревнования и тренировки кендо проходят на дощатом помосте. Босые спортсмены одеты в просторные, не стесняющие движений одежды. Тренировки начинаются на рассвете призывным боем большого барабана «тайко». Сидя на корточках друг против друга, кендоисты молча ждут. Затем по сигналу вскакивают и, выставив вперед правую ногу, начинают фехтовать.
На двух дерущихся — трое судей. Один за площадкой и двое рядом с соперниками. Белым флажком они фиксируют удары, а красным — останавливают бой.
Деревянный меч — синтай полагается держать в одной из пяти классических позиций: удары можно наносить по голове, по шее и по корпусу. Сразу же скажем, что удары эти абсолютно безопасны: голову фехтовальщика закрывает плотный шлем, на лице — маска из бамбука или пластмассы, а под тунику поддеты фетровые защитные прокладки. Любопытно, что кендо, бывшее некогда привилегией мужчин, пользуется громадным успехом у девушек-школьниц.
Площадку кендоистов довольно легко отыскать в городе по характерным воплям. Дело в том, что нападение, опять-таки по традиции, сопровождается боевым кличем, долженствующим деморализовать «противника». За качественный клич судьи набавляют очки. И, естественно, фехтовальщики не жалеют голосовых связок.
...Куда большим шумом сопровождаются состязания пушкарей, которые можно увидеть в небольшом западногерманском городке Тутлингене. Оно и понятно: говорят пушки... Впрочем, никакого шума не было бы, не отправься десять лет назад доктор Ганно Монани, владелец местной фабрики хирургических инструментов, в отпуск в Италию. Во Флоренции в магазине игрушек он увидел модель старинной пушки.
Говорят, что мужчины до старости сохраняют душе страсть к игрушечным пистолетикам; это же в полной мере можно отнести к пушкам. Судите сами: почтенный доктор возвратился домой и занялся реорганизацией своей фабрики. Целая мастерская была освобождена от изготовления скальпелей и переведена на выпуск мини-пушек. После недолгих поисков Монани остановился на модели «кобургер» образца 1693 года, некогда грозной боевой единице саксонской артиллерии. Орудие заряжалось с дула и стреляло ядрами.
— Мой «кобургер» стоит недорого: 68 марок, — говорит доктор Монани. — Может быть, поэтому он стал пользоваться таким успехом.
Что ж, может, цена сыграла тут свою роль. Как бы то ни было, в 1965 году поклонники этого огнестрельного хобби впервые собрались в окрестностях Тутлингена, одетые во фраки и цилиндры (форму предписал неугомонный д-р Монани). Стрельба из мини-пушек ведется по мишеням металлическими шариками. Мероприятие стало быстро обрастать поклонниками. Прибыли любители пушечных баталий из-за границы. Кстати, их инвентарь на первых порах поставил в тупик таможенные власти: разрешен ли провоз действующих моделей орудий? В конце концов отнесли «кобургеры» к разряду игрушек.
Участников с каждым годом становится все больше и д-ру Монани в мечтах сейчас рисуется мировой чемпионат стрелков из изделий его фирмы.
М. Беленький



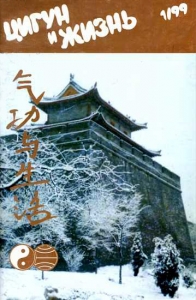

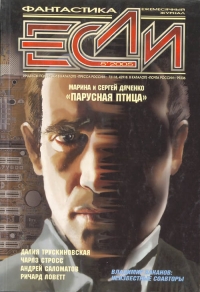




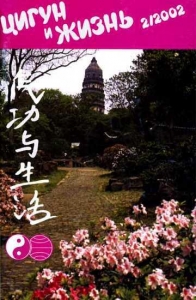
Комментарии к книге «Журнал «Вокруг Света» №06 за 1973 год», Журнал «Вокруг Света»
Всего 0 комментариев