Лана Ланитова Глаша
Дополненное, иллюстрированное издание.
Т/О "НЕФОРМАТ" Издат-во Accent Graphics Communications, Montreal, 2016
Глава 1
Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.
Новый завет. От Матфея. Глава 5. (27, 28).– Мужики!
– Чаво, тебе?
– Не подскажете, по кой дороге проехать к энтому… дай бог, памяти. Забыл! – приказчик хлопнул себя по узкому лбу. Неказистое веснушчатое лицо выражало крайнюю степень досады. Он спрыгнул с облучка грязной брички, обошел вокруг, носок стоптанного, похожего на жабу сапога, постучал по ободу расхлябанного колеса. Подошел к лошади, обветренные красные руки коснулись упряжи. Нагнулся, схватил лошадь за копыто. Толстоногая пегая лошадка нервно махнула хвостом. – Тпру! Стой, милая, стой! Дай-ко, я подковку посмотрю. Ну ладно, кажись, доедем. Ничаго… – глаза повеселели. Сдвинув картуз на затылок, шагнул к трем, стоящим у обочины мужикам. – Мужики, вот я – ушат дырявый: запамятовал, как поместье-то называется.
– Можа, Луднево?
– Нет, не Луднево…
– Можа, Никольское?
– Нее, не тако название. Тпфу, дурень! И надо же, было так оплошать, – картуз съехал на потный лоб, рука чесала мохнатый, русый затылок. – Тама барин ишо живет – казистый такой, высокий, важный. Второго такого – точно нет.
– А… ну, так бы и сказывал, – осклабясь, ответствовал один из мужичков, – это – Махнево. Как свернешь в сторону, проедешь пару верст – там и увидишь: стоит на пригорке. Только там барин важный шибко, да видный. Он всей округе наружностью приметен. Бабам его красота покоя не дает. По мне: так с лица воду не пить. Меньше красы – меньше грехов бесовских.
– Точно, Махнево! – засмеялся приказчик и проворно заскочил на облучок. – А меня хозяин послал к нему: сверток с мануфактурой аглицкой доставить. Карета посыльного нашего изломалась на Астраханском тракте. Так он, горемычный на перекладных к хозяину добрался, а карету с лошадью на постоялом дворе бросил. Такие дела! – словоохотливый возница хлопнул себя по коленям и усмехнулся. – А хозяин изругал его примерно, чуть не поколотил: «Ах, ты колоброд сиволапый. Где лошадь оставил, свиное, ты, рыло? Пошлю туда, куда Макар телят не гонял. Тудыть растудыть».
Что ты будешь делать? А на что вам Степан? Вот он я… Как штык нарисовался. «А езжай-ка ты, Степан, в Махнево. Там живет один барин красавец-молодец. Я хотел бы заполучить его в покупатели. Свези-ка ему, для начала, посылочку в подарок от нашего магазина. Доставишь, каналья? Да смотри, чтобы все чин чином сладилось. Как не доставить? Обижаете, барин…» Я уж умолчал, что свою-то кобылу хотел аккурат в кузню вести. Думал: заикнись об энтом, он и меня со свету сживет. Хошь, не хошь, а вынь, да положь. Поехал. Но вот беда – я ж, не здешний – дорог не знаю. Как выехал – еще помнил название, опосля задумался о своем – и враз запамятовал! – мужичок тронул поводья. – Кабы не вы, заплутал бы. Как пить дать – заплутал. Счастливо оставаться, братцы! Спасииибоооо за помоооощь…
Мужики смотрели вслед удаляющейся бричке, клубы пыли закрывали ее полностью, пока она и вовсе не пропала из виду.
– Ишь, егоза пустобрех! Барин, говорит, видный, – мужичок сплюнул себе под ноги. – Черт он, а не барин! Люди зря хаять не будут… Раз, говорят – черт, значит – черт!
– И то – правда! – осмелев, добавил другой. – Девок по головам не пересчитать: сколько перепортил, Ирод окаянный. Оно, вроде, как и не жалко – девка, на то и рОждена, чтобы бабой стать. А все же – не порядок, не по-людски оно как-то, не по закону божьему…
– Тпфу, бисово отродье! – вступил в разговор третий. – Гляди-ка, мануфактуру аглицкую в подарок ему везут. Фу-ты, ну-ты. Даром, что барин благородный, а креста на нем нет! Кабы не барин был, а простой человек – изловили бы пакостника и мудя с удом оторвали!
* * *
С постороннего взгляду Махнево было богатым и знатным поместьем. Все, как положено: господа важные, благородные, сами собой – гладкие. Чаи на террасе попивают, разговоры ученые ведут. И все-то у них ладно, да лепо: дома крепкие, сады и цветники ухожены, скотина кормлена, лошади крупастые. Да и мало ли еще, каких приятностей и безделиц для услады глаз хозяйских имеется. Всего не перечислишь…
Только слава дурная за имением водилась, и не-то, чтобы слава, а так – слухи ползли, один нелепее другого. А слухи эти душком серным попахивали. Но, кто у нас слухи-то пускает? Ясное дело: бабы глупые, а им набрехать – раз плюнуть. Они любого ославят, сплетен до небес насочиняют.
Говорили, что барин Владимир Иванович во Христа праведного не верит, в церкву не ходит, а ведет себя, как отродье бесовское… Говорили, что он – то ли сектант, то ли молокан, то ли отступник. Потому, как без чести и совести завел у себя гарем, словно султан иноземный. Говорили, что много девок и баб со свету спровадил, иные брюхатые от него ходют, во чревах отродья бесовские носют… Говорили, что бесы наградили его удом огромным – почти до колен, и что удище энтот окаянный покоя барину ни днем, ни ночью не дает: во все тяжкие с головой уводит. Тычет он им кажну бабенку, а сытости не знает. Оттого барин люто воет, хуже волка серого. Говорили даже, что младенцев новорожденных по ночам кушает. Ну, кто в эту-то брехню поверит?
Слухи, они и есть слухи. Бабы глупые от безделья и зависти сочинили. Мало сочинили – по уезду разнесли. А мужики-холопы подхватили. Мужики-то нынче – мелковаты пошли, не те – что в старые времена. Хуже баб, порой, горазды языком чесать – говоруны языкатые! А отчего бы им не болтать попусту? – Лишь бы повод найти: от работы увильнуть. Распустили их донельзя, а еще «вольность» грозятся дать. И какая дураку воля? Языки бы поганые всем вырвать! А по-правде говоря, ну кто холопам поверит? На то он и холоп, чтобы молчать и волю барина прилежно исполнять. У глупых холопов и мыслей-то своих отродясь быть не может. Не их, собачье дело – о прихотях барских рассуждать!
Ну, обо все по порядку:
Господская усадьба находилась в приветливом и уединенном месте Н-ского уезда, Нижегородской губернии. Два, отдельно стоящих друг от друга, каменных дома, уютно расположились на небольшом зеленом пригорке, ниже домов шла небольшая рощица, а за ней довольно большой и глубокий пруд с чистой проточной водой. Упругие столбики коричневых камышей с острыми, как лезвия, высокими листьями и колючая, уходящая корнями в ледяную воду осока, обрамляли пруд с одного берега. Летом здесь цвели зеленая ряска и желто-белые кувшинки. Множество больших жаб и маленьких головастиков устраивали ночные концерты, прыгая дрожащими, скользкими лапками по огромным водяным листьям.
Пологим песчаным дном заканчивался другой берег. Кустарники душистого жасмина и много старых, наклоненных к воде плакучих ив, создавали приятный пасторальный пейзаж. В этом месте господа возвели довольно удобную купальню с деревянными мостками, ступеньками, уходящими в воду, резной беседкой, увитой глянцевым плющом и диким, лиловым вьюнком. Справа от купальни возвышался основательный двухэтажный лиственничный сруб – господская баня.
Несмотря на летний зной, вплоть до начала июля, вода оставалась холодной из-за обилия подводных ключей. Она была настолько прозрачна, что в тихую погоду, любой, кто доплывал на лодке до середины пруда, мог увидеть стайки серебристых рыбешек и рыб крупнее, стоящих неподвижно и шевелящих красными плавниками и жирными плёсами.
Белые и серые откормленные гуси, пестрые, с перламутровым отливом утки, важно скользили по светлой глади пруда. Шумно гогоча и крякая, перебирая красными кожистыми лапками, они заплывали и прятались в ту часть, где росли высокие камыши.
Вокруг барских домов весной бурно цвела сирень, и кипели молодым белым цветом душистые яблони. За домами шел парк, в котором старые липы перемежались с толстоствольными, раскидистыми дубами, резные кусты орешника с березками и рябинами. Слева от парка был разбит фруктовый сад – гордость хозяйки. Он не только радовал глаза и господский стол обильными и щедрыми дарами, но и приносил вполне ощутимый денежный доход. Сразу за садом дорога поворачивала в темный густой ельник, где заматерелые сосны с бледно-желтыми стволами походили на великанов с лохматыми угрюмыми головами, а разлапистые ели на их гигантских подруг. Хитрые белки с рыжими пушистыми хвостами перелетали с ветки на ветку. С утра и до позднего вечера в саду и в парке слышалось многоголосое птичье пение.
Крупные лепные колоны подпирали острые фронтоны двух, аккуратно побеленных, домов. Переднюю часть каждого дома огибала круглая терраса, на которой господа часто пили чай со сливками и свежей сдобой. Это было довольно богатое поместье. Хозяином его считался некий Владимир Иванович Махнев. За ним числилось около двух тысяч ревизских душ крепостных крестьян. Это был молодой человек, двадцати семи лет отроду. Будучи умным и хорошо образованным, он производил на собеседников весьма приятное впечатление, но, зачастую, поражал необыкновенной циничностью собственных суждений. В свободное время он любил почитать, отдавая предпочтение древнегреческой и немецкой философии, газетам и общественным журналам. За завтраком пробегал глазами «Северную пчелу» и подшучивал над светскими новостями и частными объявлениями.
Случалось, почитывал и стихи. И хоть не любил в этом признаваться, однако знал наизусть отрывки из «Евгения Онегина» и Байроновского «Дон Жуана», часто и сам сочинял «лирические столбики». Его секретер был забит исписанными клочками бумаги. Капризная Муза частенько заглядывала к нашему герою, но не всегда дарила удачную рифму для его «виршей»… Посещал он театры и оперу: но не часто – Махнев не слыл завзятым театралом. В обществе держал себя спокойно и немного высокомерно.
Внешне Владимир Иванович был высок и строен, черты лица имел приятные. Пожалуй, его можно было назвать даже красавцем: скульптурные линии фигуры и римский профиль имели удивительное сходство со статуей Аполлона из сада Бельведер в Ватикане. Выражение красивого лица почти не менялось, глаза глядели всегда одним и тем же холодным взором. Когда ему становилось скучно – набегала зевота, взор делался пустым и бесстрастным, реже грустным. И как он оживлялся, когда в поле зрения попадал предмет временной страсти – в глазах появлялся «охотничий» огонек. Но этот огонек горел недолго – ровно столько, сколько требовалось для «приманки» очередной жертвы его летучей и недолгой любви.
Вежливая холодная улыбка редко покидала его губы. Часто улыбка переходила в откровенную усмешку, делавшую серые глаза особенно холодными и жестокими. Темно-русые, густые волосы немного вились. Одевался он всегда изящно – своеобразно и просто, однако, его вкусу могли бы позавидовать некоторые завсегдатаи модных столичных домов. В своем поместье он позволял себе ходить в узких жокейских брюках, заправленных в высокие черные щегольские сапоги и в батистовой тончайшей белой сорочке с расстегнутым кружевным воротом. Молодая, слегка смуглая грудь, покрытая темными курчавыми волосами, виднелась из-за ворота расстегнутой рубашки. Владимир Иванович знал о себе, что он хорош и необыкновенно нравится почти всем, без исключения, женщинам. За его спиной было несколько петербургских романов и куча оставленных барышень с разбитыми сердцами.
Петербургские романы быстро наскучили молодому барину. В них, в силу определенных общественных рамок и устоев светской морали, он не мог дать воли бушевавшим плотским страстям и адскому пламени похоти, терзавшему его изощренное воображение. Поэтому, Владимир Иванович поскорее выхлопотал себе отставку и перебрался в фамильное имение.
В этом имении он проживал со своей матерью, не молодой, но ухоженной дамой. Внешне довольно приятная, Анна Федоровна имела репутацию избалованной и взбалмошной особы. Частая меланхолия, доводившая ее до головной боли, чередовалась с приступами неоправданного гнева. Ностальгируя по старорежимным «дедовским порядкам», Анна Федоровна могла безжалостно оттаскать за косу нерасторопную горничную, дать ей пощечину или велеть высечь розгами нерадивого работника.
Одевалась барыня вычурно и дорого, однако, изысканные, по ее мнению туалеты, к слову сказать, были слишком далеки от веяний капризной петербургской моды. Получив весьма скромное домашнее образование, Анна Федоровна не отличалась здравостью суждений и не блистала тонким интеллектом. Не смотря на это, она держала себя очень высокомерно, давая понять окружающим «свое место». В слугах более всего ценила преданность и лесть. Те крепостные, кто были похитрее, сразу смекали: что, к чему, и начинали безмерно раболепствовать пред барыней, делая нарочито дурашливые морды.
Рано овдовев, Анна Федоровна не пожелала более связывать себя узами брака. Зато долго и упорно мечтала женить своего Володеньку на богатой невесте и прочила ему в жены дочерей крупных помещиков. До явного сватовства так и не дошло, так как Владимир наотрез отказался жениться и попросил матушку повременить с поиском невесты, дабы он смог «пожить в холостяках».
Матушка на время оставила его в покое. Владимир же не тратил времени даром. Как не бывает дыма без огня, так и людская молва на пустом месте не появится. Природа наградила Владимира Махнева необычайной мужской силой, мощным, почти демоническим темпераментом и развитым воображением – все перечисленное, шаг за шагом, толкало владельца этих качеств на дно жесточайшего порока и разврата. Зорким похотливым взглядом высматривал Владимир Иванович девок и женщин на покосе, и на поденной работе в усадьбе – всюду, где ступала женская нога. Ни одна деревенская красавица не ушла от взгляда молодого жеребца. А как он умел соблазнять! Лишь знаменитый Дон Жуан мог соперничать с нашим героем в этом тонком ремесле. Про его мужскую силу и размеры детородного органа ходили легенды среди женского населения не только этого поместья, но и далеко за его пределами. Такие славные образчики мужской силы, каким был фаллос Владимира, после смерти владельца, должны сразу же, с почетом выставляться в Анатомическом музее или на полках Кунсткамеры.
Детство Владимира прошло в окружении множественной прислуги женского пола. Мамушки, нянюшки, гувернантки не оставляли его без чрезмерной опеки и ласки. Маленький барчук имел ангелоподобную внешность – охи, ахи и комплименты сопровождали каждый его шаг.
Когда завернутого в батистовые кружевные пеленки, обвязанного голубыми ленточками, в окружении восторженной свиты из родственников и домашней прислуги маленького Владимира принесли в церковь для проведения обряда Крещения, он закатил там чудовищную истерику. Младенец плакал так истошно, что от крика в старенькой деревенской церкви дребезжали стекла, и гасли восковые свечи. Батюшка поспешил наскоро завершить обряд, чтобы младенец не задохнулся от плача – розовое тельце посинело от натуги, глаза закатились, недетский хрип рвался из маленькой груди. Молодая мать услышала позади себя нестройный людской гул и легкий шепот осуждения.
Мальчик рос крепким и сильным, поражая окружающих ловкостью движений и смелостью, и неординарностью суждений.
Ему легко давались грамота и науки, учителя и гувернантки наперебой хвалили его успехи. Пытливый ум Владимира входил в противоборство с непостоянством натуры: он быстро увлекался и столь же быстро терял всяческий интерес к предмету страсти.
Когда мальчику было девять лет от роду, он все пристальнее стал разглядывать женские фигуры: волновали округлые формы, запахи, нежные голоса. Маленькому Володе было приятно, когда нянюшки мыли его в ванне: терли спинку, прикасаясь заботливыми руками к телу. Однажды одна из молодых горничных, звали ее Наташа, как всегда купала Владимира, рука нечаянно коснулась низа его живота. Мальчик встал во весь рост, между ног качался довольно развитый член, размеры коего были несоизмеримы с нежным возрастом отрока. Такой размер сделал бы честь любому взрослому мужчине.
– Наташа, голубушка, ты должна непременно потрогать меня, – пролепетал, слегка смущенный Володя. – Возьмись за него, я решительно настаиваю! – добавил он, в голосе звучали повелительные нотки.
– Что это вам в голову пришло, месье Вольдемар? Прекратите, проказничать! Хорошим мальчикам негоже так себя вести! – Наташа смущенно смотрела на барина, краска стыда заливала миловидное, круглое лицо.
– Наташа, возьми его в руки! Я твой барин, и ты должна слушаться меня. И потом, я совсем не желаю быть хорошим мальчиком, если ты отказываешься приласкать меня, – от негодования он даже притопнул, мыльная вода выплеснулась на каменный мозаичный пол.
– Что вы, месье Вольдемар, когда же я отказывалась вас ласкать? Дайте, мне свою щечку, я расцелую ее с превеликим удовольствием.
– Наташа, ты глупая баба, раз отказываешься сделать то, что я прошу. А впрочем, целуй меня, только целуй не щечку… а его… – пальчик указывал на эрегированный орган.
Наташа закрыла лицо руками и с плачем выбежала из купальной комнаты.
Став чуть постарше, Владимир не сильно церемонился со своей прислугой. Впервые он сблизился с женщиной, когда ему было двенадцать лет.
Произошло это в конце лета, на покосе. Юный Вольдемар засмотрелся на молодую крестьянку: она косила траву возле небольшой рощицы. Женщина наклонилась к земле: красные от работы ладони обматывали перевяслом сноп, узкая спина, одетая в пеструю ситцевую блузу, темнела от пота.
Широко и твердо выпирали круглые бедра, облаченные в шерстяную клетчатую паневу. Завидев издали барчука, она выпрямилась, ловко отбросила сноп, пальцы стянули белый платок, обнажив русую голову, толстая коса упала на грудь. Долгий насмешливый взгляд блуждал по фигуре подростка, тонкая бровь лукаво приподнялась, полные губы расползлись в улыбке, обнажив ровные крепкие зубы.
– Что, барчук, гуляете? – глаза еще больше повеселели.
– Гуляю, а тебе какое дело? – важно отвечал Владимир, все ближе подходя к крестьянке.
– Да мне-то, што? Мне и прям делу нет до ваших прогулок, барин. Только, я гляжу: у вас, кажись, дело до меня есть… – запрокинув назад голову, она хохотала во все горло.
Осмелев, Владимир подошел близко, руки неумело охватили стройную талию. Она выгнулась, но не отстранилась, зеленоватые в крапинку глаза продолжали лукаво рассматривать подростка. Лицо мальчика оказалось почти на уровне ее высокой груди, пахнуло женским потом, смешанным с горячим запахом травы и молока. Торопясь, он стал расстегивать пуговицы на блузке, неумело целуя обнажающиеся участки молочно-белой кожи, рука полезла под широкую юбку – заголилась полная нога.
– Тихо… тихо… барин. Какой, вы, прыткий. Погодьте малость, тут нас увидют. Пошли в рощицу, по кусток лягем, – она потянула его за руку.
Он смутно помнил этот первый в его жизни опыт общения с женщиной.
Помнил то, что новые ощущения вначале слегка ошеломили его, а потом немного разочаровали.
Огромными и ослепительно белыми казались ее груди, язык помнил солоноватый вкус ярких упругих сосков. Они пролежали под кустом до самых сумерек, она ушла, еле перебирая негнущимися ногами. С лица женщины не сходило глупое, удивленное выражение. Долго стоял в ушах жаркий шепот: «Миленький мой, да, какой же, ты… Да, откудо же тако выросло? Да, как, же так? Ты, же молод ешо…» Он встретился с ней еще несколько раз, потом в его жизни стали появляться все новые и новые любовницы.
Когда Владимир учился в старших классах гимназии, он мог позволить себе вызывающе откровенно рассматривать молодых женщин. Те, не выдержав взгляда красивых серых глаз гимназиста, смущались и теряли нить разговора. К счастью, в гимназии преподавали, в основном, одни мужчины. У Владимира было немного товарищей: он не любил близких сближений, держался от всех на небольшом вежливом расстоянии, тем паче, не выносил беспардонного панибратства. Многие однокурсники считали его гордецом, тем не менее, уважали и даже побаивались.
Уважения добавил один интересный случай. Как известно, в юношеской среде добрая половина разговоров посвящена женщинам и всему, что с ними связано. Молодые отроки наперебой рассказывают друг другу вымышленные истории об амурных похождениях и почти геройских подвигах, связанных с ними. Товарищи Владимира также были замечены в этом грехе. Он слушал их внимательно: ироничная усмешка скользила по его красивым губам.
– Вольдемар, чему ты, улыбаешься? Ты, будто не веришь мне?! – вскричал кареглазый и круглолицый Афанасьев. Он живо и красочно изложил историю соблазнения им молодой кухаркиной дочки, снабдив ее пикантными подробностями. Все мальчики слушали его, затаив дыхание, один Махнев нагло усмехался, весь его вид говорил о том, что он не верит ни единому слову рассказчика.
– Да, полно, тебе, Афанасьев, сказки нам сказывать. А, уж если бахвалишься, то будет тебе повод это доказать, – проговорил спокойно Махнев, глаза все так же лукаво поблескивали.
Гимназисты зашумели, одобряя слова Владимира. Они долго совещались, как привести в исполнение намеченный план. Наконец, черноволосый Слепцов, придя как-то утром на занятия, сообщил товарищам, что встретил по дороге полненькую, рыженькую прачку: в белом передничке и чепчике.
– Она, такая милая: ручки маленькие, попа большая, грудя прыгают! – радостно сообщил Слепцов, он даже чуть пританцовывал от удовольствия. – Вот, только не знаю, согласится ли она.
– Прачка говорила с тобой? – спросил Махнев.
– Нет…
– Улыбалась? Смотрела на тебя?
– Да! – Слепцов кивнул, глаза горели от радости. – Она и смотрела и улыбалась и смеялась даже.
– Charmant! Ну, тогда дело слажено, я полагаю. Как поговаривают англичане: девушка, которая смеется, наполовину уже завоевана. – спокойно рассудил Владимир. – Надо будет дать ей пару целковых и конфет купить.
На следующий день четверо гимназистов выследили вожделенную молодую прачку. Она шла по мостовой пружинящей походкой, полные ручки держали бельевую корзинку. Завернув за угол, девушка наткнулась на ватагу разгоряченных гимназистов. Беседу повел опытный Владимир, другие мальчики настолько растерялись, увидев девочку на таком близком расстоянии, что не могли проронить ни слова.
– Сударыня, как вы хороши! Любой, кто увидит вас – лишиться дара речи! Вы похожи на красный мак или гвоздику… Вы, какие цветы более любите? – галантно спросил Владимир.
– Ну… Это, вы, чего? – прачка удивленно смотрела на мальчиков, зеленые глаза радостно моргали, красные пятна выступили на белом, покрытом конопушками, лобике. Она немного пятилась назад, но по ее виду было понятно, что ей льстит такое чрезмерное внимание барских отпрысков. – Я совсем цветов не люблю. Я юбки и платки люблю в цветок и конфекты разные.
Владимир, изловчившись, поцеловал ее пухлую, потную ручку.
– Как мило! А не соблаговолите ли, вы, составить нам компанию завтра в этот же час, на месте старых развалин у городской рощи? Мы принесем с собой и конфеты и рубликов.
– Ишь вы, какие, хитрые! – глаза сделались маслеными. – Я не какая-нибудь дурочка. И держу себя строго, – она сделала нарочито важное лицо. Прошла минута, искоса глянув на мальчиков, прачка спросила, – а сколько целковых мне дадите, ежели я с вами погулять пойду?
– Радость, вы, наша – целых два! – засмеялся довольный Владимир.
– Ну, коли два – я согласная. Только побуду с вами чуток и сразу домой. Хорошо?
– Хорошо, хорошо, голубушка. Нам и чуток хватит.
Еле дождались гимназисты следующего дня. Был готов кулек с разноцветными леденцами и два целковых. В назначенное время они ждали прачку в старой роще на развалинах графского дома. В этом месте днем было малолюдно: редкий прохожий отваживался ходить среди серых обломков, поросших высокой травой и кустарником.
Рыженькая прачка, не смотря на юные лета, была далеко не девственна. Пышные формы вызвали необыкновенной силы вожделение у ее хозяина, сорокапятилетнего мужчины, который тайком от своей жены сошелся с хорошенькой работницей и совратил ее. Собираясь на свидание к гимназистам, девушка думала не только о деньгах – было приятно, что такие важные молодые люди, дворянского происхождения желают встретиться с ней. По глупости, она даже не давала отчета в том, что на предстоящем свидании их будет четверо, а она одна… Она считала, что дворяне – люди благородного сословия, не то, что ее хитрый и грубый хозяин, и горазды делать только высокопарные комплименты и угощать конфетами. Как жестоко она просчиталась!
Вначале мальчики, завидев ее, радостно замахали руками, взяли под ручку и прошлись с ней по отдаленной аллее. Один из них поцеловал ее в плечико, другой в ручку, третий неумело мазнул губами по толстенькой щеке. Прачка хохотала, грозила пальчиком, смущалась и розовела от удовольствия, пухлые ручки то и дело оправляли белый передничек и теребили рыжий локон на конце толстой косы. Наконец, инициативу взял на себя Владимир, он незаметно прикоснулся к крепкой талии, прачка томно посмотрела на него.
Он казался намного красивее других мальчиков и выглядел очень взросло. По ее телу пробежала заметная дрожь, перешедшая в сильное сладостное желание. Девушка уже плохо соображала, особенно после того, как Владимир принялся целовать долгим поцелуем пухлые губы, а настойчивая рука ловко пробралась к высокой груди. Она даже не заметила, как оказалась в кустах густой акации, кто-то из барчуков предусмотрительно постелил на траву одеяло, секунда – и девушка уже сидела на нем: сильная рука самого красивого гимназиста клонила ее спину и голову, заставляя прилечь. Сопротивление было недолгим: несколько пар рук тянулись к девочке, гладя и тормоша ручки, плечи, бедра. Дыхание стало прерывистым, она почувствовала, что эта же настойчивая рука откинула синюю юбку с передником: обнажились полные розовые ножки, между ножек пухлым бугорком выступал лобок, густо покрытый рыжими курчавыми волосами, в середине лобка едва виднелась красноватая влажная трещина. Мальчики потрясенно таращились на все это рыжее великолепие, руки держались за причинные места: они не знали, что делать дальше.
Владимир закинул ногу на бедра девушки, опытная ладонь ловко легла на круглый живот, спустилась ниже к рыжим завиткам, лаская и немного дразня. Длинные пальцы проникли в скользкую припухшую сердцевину. Прачка от удовольствия закатила глаза, бедра стали поступательно двигаться, стон удовольствия вырвался из ее груди. Владимир умело ласкал ее влажное лоно, прошло несколько минут, казалось, девушку вот-вот начнут охватывать волны наступающего оргазма. Вдруг, он резко убрал руку и встал на ноги. Прачка охнула от неожиданности.
– Сударыня вполне готова. Готовы ли вы, господин Афанасьев? Прошу вас, приступайте… – проговорил он.
Круглое лицо Афанасьева сильно покраснело, он растерялся, но стараясь не показывать виду, решительно подошел к девочке. Его руки долго возились со штанами, торопясь и путаясь в застежках. Наконец, он скинул их и прилег возле прачки. Все мальчики с любопытством наблюдали за происходящим. Рыжая красавица открыла зеленые глазищи и с наглым любопытством следила за неумелыми действиями высокого гимназиста. Ее губы скривились в презрительной усмешке, когда из-под пиджака отрока выскочил член весьма скромных размеров, никак не гармонирующий с его долговязой фигурой. Послышались возгласы одобрения и призывы к действию: «Афанасьев, ну что ты, медлишь? Вставляй ей! Она ждет! Отходи ее по полной» Гимназист решительно двинулся навстречу: нескладное тело, выпирая белым тощим задом, неуклюже задергалось, маленький гость, не найдя правильный путь, уперся девочке в ножку. Прачка выразила полное неудовольствие, хотела даже соскочить с покрывала. Махнев решительным жестом заставил двух других гимназистов держать ее за руки и плечи. Дернувшись пару раз, Афанасьев замер: семя изверглось на ногу рыжей распутницы. Совершенно оконфуженный он встал с покрывала, пряча карие глаза, подхватил брюки.
– Право и не знаю, друзья: что со мной сегодня такое? У меня никогда не возникало проблем с дамами. Честное слово, просто не мой день… – краснея, оправдывался он.
– Мы вам верим, господин Афанасьев, – лукаво улыбаясь, отвечал ему Махнев. – В следующий раз у вас непременно получится в самом наилучшем виде.
Девочки сунули в рот пару леденцов, чтобы она не говорила лишних слов. Владимир пригласил следующего.
– Теперь, вы, господин Слепцов. Приступайте!
Слепцов оказался ненамного более умелым любовником, чем предыдущий гимназист. Обнажив короткий толстенький член, он все же ввел его в положенное место, вызвав чувство небольшой признательности со стороны сладострастницы. Однако действия его были столь же недолгими, как и у Афанасьева. Прачка лежала мокрая от семени, но совсем не удовлетворенная.
Маленький и робкий гимназист Милов и вовсе отказался показать себя, так как признался, что «грех» с ним случился еще тогда, когда он увидел голый лобок рыжеволосой красотки.
– Я того… я постою немного, а потом приступлю, – ответствовал он скромно.
Желающих полюбить прачку больше не оказалось… На передний план выступил наш красавец Вольдемар. Спокойно сняв брюки, он аккуратно сложил их и повесил на куст. Глазам удивленных зрителей предстал такой огромный инструмент, какого невозможно представить… Ошеломленные мальчишки не могли отвести глаза от такого внушительного орудия. А девочка чуть не подавилась леденцом, к голу подступил внезапный кашель. Не мешкая и не говоря лишних слов, Владимир велел ей перевернуться и встать на колени, приподняв круглый зад. Затем, он немного пощекотал срамные губки и маленькую горошину, таящуюся внутри влажных лепестков плоти. Убедившись, что девочка снова достаточно возбуждена, не медля, загнал свое орудие в скользкую упругую норку. От таких огромных размеров девочка вскрикнула, закусив нижнюю губу, по щекам потекли слезы.
Он довольно долго занимался любовной игрой, сильные руки нежно и властно поворачивали прачку то передом, то задом. Девочка стонала от возбуждения: рыжие волосы выбились из косы; из расстегнутого ворота выпали круглые спелые груди; запахло потом – тем сладким и едким потом, который присущ только рыжеволосым женщинам. Она наморщила лобик, рот судорожно ловил воздух, красный язычок выскочил наружу. Мгновение – и ее лицо скорчилось в мучительной гримасе: оргазм сотрясал полное тело.
– Она спустила! – крикнул гимназист Милов.
В эти минуты Владимир ощущал себя самым главным самцом, самым главным повелителем, самым могущественным мужчиной. Согласитесь, у него были достаточно веские причины, считать себя таковым.
С этих пор ему стали по вкусу именно групповые проявления плотских отношений. Именно оргии, впоследствии стали его излюбленным занятием.
Он испытывал огромное удовольствие не только от самого занятия любовью, но более ему нравилось, когда несколько пар возбужденных глаз наблюдают за ним и восхищаются его силой и могуществом.
Гимназисты смотрели на эту потрясающую сцену и, не стесняясь, онанировали рядом. Когда все закончилось, девочку подняли на ноги, вручили ей деньги и оставшиеся в кульке конфеты. Часть конфет потихоньку скушал Милов.
После этого случая, авторитет Владимира вознесся буквально до небес.
Глава 2
Шли годы, Владимир взрослел, набирался опыта. Его яркая личность и раскованное поведение имели ошеломительный успех в светском обществе. Он был только студентом, а про него ходили целые легенды – их пересказывали друг другу молодые девушки и зрелые дамы. Каждая мечтала о том, чтобы этот необыкновенный красавец и щеголь обратил на нее свое пристальное внимание. Но не каждая красотка получала желаемое. Порой, Владимир вел себя слишком вызывающе, фраппировал, давая понять той или иной светской львице, что он не нуждается в излишней опеке, либо откровенно и холодно ее игнорировал. Такое поведение интриговало, создавало нашему герою тот флер таинственности, который необычайно притягателен для женского пола. В кругу близких приятелей он не раз давал оценку дамам высшего общества.
– Что, нынешние дамы? Mille pardons[1], господа, – иная сидит вся бледная, словно мукой с головы до ног обсыпана. А уж как в корсет затянута: того и гляди – переломится. Нет, если говорить откровенно, то я в женщинах не люблю худобы излишней, да бледности, – с иронией говорил он, – вы, знаете, господа, что я слыву эпикурейцем и гурманом? И мне, как гурману, более по душе аппетитная ножка жареной индюшки, нежели обглоданная кость.
– Знаем, Вольдемар, о каких гастрономиях вы речь ведете, – со смехом возражали ему товарищи.
– Именно о тех и веду-с. Я полную ножку с маленькой ступней ценю превыше всех достоинств. А румяные щечки и полные груди мне милее булочек с кремом.
– Так вам, Вольдемар, надобно не со светскими цирцеями романы водить, а ехать к матушке в имение. Там Дуни, да Параши вполне удовлетворят ваши гастрономические изыски.
– Полно вам, господа, смеяться, – говорил он лукаво. – Я еще тут немного порезвлюсь. Набедокурю чуток. А, как надоест – поеду домой в деревню. Там девки ждут меня, не дождутся, слезы льют.
– Махнев, да ты только в деревню-то сунешься, – матушка тебе быстро хомут на шею приладит. Не успеешь оглянуться, как женит на какой-нибудь соседской дочке. И… Adieu… Пиши – пропало!
– Типун вам на язык! Женит! Как же! С женитьбой я повременю, и то ежели миллионы в приданое дадут, и жена, чтобы глухонемая была. А так – увольте. C'est impossible[2] – легко пикировался он. – А знаете, господа, я тут на раунде у Дубоносовых был третьего дня, там такой бутончик у генерала расцвел. J’ai une insomnie[3], как увидел ее груди.
Надо бы сойтись с ней поближе.
Наш герой с головой уходил в светские романы. Они порой тяготили, в них нельзя было дать воли разгулу страсти и похоти. Общество навязывало ему свои моральные законы и стиль поведения. Владимир, будучи откровенным бунтарем, циником и нигилистом, более всего мечтал сокрушить эти самые законы.
Известно, что со своим уставом в чужой монастырь нечего и нос совать. Так и бунтарские взгляды Махнева приводили его лишь к кутежам и попойкам в дружной компании молодых повес и долгим философским излияниям. Именно на этих попойках, которые длились порой неделями, «золотая молодежь» отводила душу. Часто на эти гульбища приглашались дамы полусвета, либо откровенные шлюхи. Последние, особенно пользовались успехом на подобных мероприятиях.
Владимир хорошо помнил один случай, как на вечеринку подвыпивших студентов, а их было пятеро, включая Вольдемара, пригласили девушку легкого поведения. Она была очень молода, заняться этим нелегким и гибельным ремеслом ее принудили тяжелые жизненные обстоятельства. Девушка выглядела справной, но не полной: плотный корсет охватывал гибкую талию, выставляя напоказ аппетитные груди. Темно-русые локоны спускались на плечи, на голове красовалась голубая шляпка с искусственными цветами, черная вуалетка закрывала карие с длинными ресницами глаза. Она сильно робела от неопытности, смущалась под наглыми взглядами выпивших студентов. Бросалось в глаза то обстоятельство, что, это был едва ли не первый случай ее вынужденного грехопадения, это же и немилосердно притягивало, давая ей высокую оценку. Девушка старалась улыбаться, но улыбка получалась жалкой, натянутой и вымученной. Хотелось отбросить все условности и взять смущенную «жрицу любви» под опеку, заботиться о ней, как о ребенке. Владимира в глубине души посетила эта внезапная мысль, но он тут, же отмахнулся от нее, как от назойливой мухи и подавил в себе неуместный приступ жалости.
Выпив бокал вина, он осмелел еще сильнее. Друзья везде и всюду смотрели на него, как на вожака. Он велел раздеть красавицу, невзирая на слезы и молящие взгляды последней.
– Mademoiselle, к чему все эти слезы? Вы знали, зачем вас пригласили сюда. Вам хорошо заплатят, Mon Cher. Расслабьтесь, и выполняйте свою работу.
После он положил ее на стол, раздвинул длинные ноги и приступил… Эти минуты нравились Владимиру более всего, страсть к групповым оргиям входила в его кровь, как змеиный яд, отравляя весь организм. Девушка воспринимала все, как должное, отвернув гордое лицо и крепко зажмурив глаза. Лишь изредка с губ срывался слабый стон, руки лихорадочно теребили лайковую перчатку – она покусывала ее белыми мелкими зубами… После того, как Вольдемар всласть наигрался с девицей, он освободил место товарищам. Они по очереди воспользовались своим правом… Ушла она под утро, еле живая и наспех одетая: темные локоны растрепались и висели по плечам длинными прядями, шляпка смялась, лицо осунулось, маленькие ручки прижимали к груди увесистый кошелек с деньгами – студенты заплатили тройную цену. Впоследствии, совершенно случайно, до Владимира дошел слух, что один из его товарищей, участвовавший в этой оргии, некто господин Григорьев разыскал бедную девушку и выкупил ее из борделя. Он позаботился о ней и забрал к себе в имение.
Бывало и так, что в оргиях участвовали две или три женщины, соотношение партнеров менялось согласно барским прихотям.
Прошло еще несколько лет, Владимир Иванович Махнев давно служил в чине «коллежского асессора» при Сенате, получал сто тридцать пять рублей серебром ежемесячное жалование, и обращались к нему как: «Ваше Высокоблагородие». Он снимал шикарную меблированную квартиру, вел светский образ жизни, ездил по театрам, но… неимоверная скука терзала его тонкую балованную натуру. Наконец, он решился подать в отставку и переехал в фамильное имение в Нижегородскую губернию.
Матушка Анна Федоровна вначале не очень одобрительно отнеслась к поступку сына, ей хотелось, чтобы Владимир поднялся еще выше по карьерной лестнице. Но вскоре она смирилась с его решением, тем паче, что сильно скучала во время его долгого отсутствия. Владимир стал осваиваться и привыкать к вольной деревенской жизни.
Себе в помощники он взял молодого приказчика Игната Петрова, тридцатилетнего смуглого красавца казацких кровей, которого знал с раннего детства. У приказчика были черные, как смоль волосы, резко очерченные скулы. Его темно-карие, чуть диковатые глаза многих смущали, а иных и в трепет приводили. Ходил он в красной шелковой косоворотке, темных брюках и черных кожаных сапогах. Поверх косоворотки надевал отороченную мехом тужурку, на голове носил картуз, из-под которого выбивался черный кудрявый чуб. Сильные, смуглые руки поигрывали кожаным канчуком. Игнат был выходцем из крепостных дворовых людей семейства Махневых. Отец его при жизни служил камердинером у матери Владимира. В детстве, воспитываясь и часто играя с барским сыном, он неплохо усвоил грамоту, немного французский и слегка научился правильным манерам. И все же, в усадьбе Махневых к нему все относились как к мужику, а не как к барину, зная о его происхождении, и видя его хозяйственную смекалку и любовь к лошадям. Дворовые побаивались Игната за суровый и горячий нрав, который достался ему от смуглой, похожей на цыганку матери, и уважали, отчасти потому, что Владимир обращался с ним как с товарищем и благоволил ему во всем.
Необходимо сказать, что Владимир Махнев, будучи человеком гордым, заносчивым и тщеславным, в глубине души нуждался в постоянной поддержке единомышленника. Многие душевные сомнения и трусливые наклонности рассыпались в прах при молчаливом поощрении такого брутального товарища, коим был Игнат. Последний с огромным восхищением и пониманием относился к смелым и безрассудным идеям своего барина. Владимир Иванович служил кумиром для Игната. Гулять и пакостить в одиночку Владимиру было: ох, как не с руки… Да и потом, фантазии его и склонность к оргиям требовали не приватного интимного участия, а присутствия нескольких персонажей. Одним из любимых персонажей оргий, его главным сотоварищем и являлся смуглый красавец Игнат Петров.
Одним погожим июньским утром к поместью Махневых подъехал легкий экипаж. Распахнулась дверка, пропустив изящную ножку в летней туфельке и край пышной юбки. Затем на свет божий показалась хорошенькая молодая барышня. На вид ей было не более восемнадцати лет. Одета она была скромно, но со вкусом: серое шерстяной платье мило обтягивало стройную фигуру, белый кружевной воротничок и манжетки придавали платью девичью трогательность и обаяние. Небольшая шляпка прикрывала раскрасневшееся на солнце лицо. Роста она была высокого, не худая и очень статная. Это была племянница покойного отца Владимира Ивановича, его троюродная кузина. Все ее родственники умерли, и крестная мать девушки написала письмо Анне Федоровне с просьбой приютить племянницу, и возможно, дать ей место гувернантки в доме, чтобы «даром не есть хлеб». Девушка сильно смущалась, стоя на террасе, пока Анна Федоровна читала письмо.
В это время Владимир смог хорошенько рассмотреть свою бедную дальнюю родственницу. Она была необычайно хороша собой и по-девичьи чиста. Матовый тон кожи поражал свежестью и здоровьем, блестящие, словно промытые фиалковые глаза, обрамленные длинными темными ресницами, смотрели на мир смущенно и по-детски непосредственно. Русые волосы, цвета пшеницы были заплетены в длинную косу, перекинутую через плечо. Высокая пышная грудь притягивала взгляды… Казалось, девушка даже не догадывается о том, что она настоящая красавица: в ней не было и тени кокетства. Движения, мимика, звуки голоса – все было естественно и гармонично. Звали ее Глафира Сергеевна.
Владимир без стеснения, разглядывал Глашу, она же смущаясь, краснела и прятала глаза от наглого красавца. Забегая вперед, скажем, что Глафира Сергеевна окончила Петербургский Екатерининский институт, неплохо говорила по-французски, была достаточно образована для своих юных лет и очень романтична по своей природе.
– Это в какой же оранжерее, сей дивный цветок произрастал-с? – присвистнул Владимир, серые глаза рассматривали девушку с нескрываемым восхищением. – Mille pardons, сударыня, позвольте-с поцеловать вашу ручку. Je suis tres heureux de faire votre connaissance.[4]
Глафира Сергеевна смутилась еще сильнее, робкие глаза смотрели в сторону.
– Maman, а почему вы ранее не говорили мне, что в нашей немногочисленной родне такие вот девушки – красавицы существуют? – не унимался он.
– Вольдемар, полно тебе шутить. Займись, лучше делом. Ты, кажется, ехать куда-то собирался? – раздраженно отвечала мать.
– Да, какие уж тут, шутки! – игриво продолжал Владимир. – Стрела амура сердце насмерть пронзила… Не видите, Maman, я чуть живой стою.
Прочитав письмо, Анна Федоровна пристально оглядела девушку, ее лицо помрачнело.
– Ну, что ж, дорогуша, я, конечно, дам вам приют в моем доме, как просит за вас крестная. Но, ума не могу приложить, какое бы вам найти достойное занятие… Ведь вы, пожалуй, что воспитаны, как барышня, и вам не знакома грубая работа по дому. Вон, я смотрю, что и ручки-то у вас слишком изнежены, – недовольным голосом произнесла Анна Федоровна.
– Ну, Maman, не стоит так уж смущать нашу дорогую гостью, – заметил Владимир, – пусть она пока располагается в доме и отдохнет с дороги.
– О, Madame, вы так добры, что даете мне приют, – пролепетала Глафира Сергеевна, – я вовсе не белоручка, и смогу исправно помогать по хозяйству. Кроме наук в институте нас многому обучали. Мы шили рубашки для солдат, кисеты, рвали корпию[5]. Я умею хорошо вышивать, штопать белье и…
– Довольно с вас и этого, – надменно прервала ее Анна Федоровна, – поживете пока, а там – посмотрим. Может, я вас выдам замуж, коли найду подходящего жениха, хотя, без приданного – это будет сделать непросто.
Глаша была сильно смущена и подавлена этим коротким разговором, тяжелые предчувствия стали закрадываться в светлую девичью душу. Она понимала: тетка не так добра, как про нее говорили родственники, а кузен Вольдемар смотрит столь пристально, что ей становилось волнительно и одновременно тревожно.
Глафире Сергеевне отвели небольшую комнатку на первом этаже в одном из господских домов. В комнатке стояла небольшая кровать, покрытая светлым пикейным покрывалом. Строгие образа взирали со стены из-под белой льняной, с вышивкой шторки, под ними теплилась маленькая лампадка. Старый, обшарпанный комод с медными ручками, стол и пара стульев с круглыми деревянными спинками – таковым было скромное убранство комнаты.
Вопреки тяжелым ожиданиям, дни в поместье Махневых потянулись спокойно, своим чередом. Анна Федоровна не сильно утруждала племянницу работой, скорее барыня присматривалась к ней. Бывало, выйдет Глафира утром на террасу, присядет для поклона.
– Bonjour Madame[6], – и дальше по-французски.
Тетка кивнет в ответ, сморщится как от клюквы, сделает вид, что поняла. Глаша вызывала у нее женскую зависть и легкое раздражение. Глафира старалась изо всех сил, чтобы понравиться тетке: говорила вежливо и часто по-французски, делала книксены. Все напрасно… Наоборот, будь девушка опытней, то поняла бы, что все ее старания выглядеть ученой и воспитанной вызывают в тетке лишь тайную злобу. Прикинься она простой и недалекой, глядишь – быстрее бы добилась теткиного расположения.
Анна Федоровна любила всегда и везде чувствовать себя самой умной, образованной и авторитетной особой. Раздражало ее и то, что сын Владимир буквально не сводил глаз с новой родственницы.
Глаша гуляла по саду, читала романы, и подолгу о чем-то мечтала. Иногда она ходила к пруду, снимала легкие, летние туфельки, ноги с удовольствием окунались в прохладную воду. Из домашней прислуги с ней мало, кто пока разговаривал, видя в ней не ровню себе, а все-таки барышню. Она пару раз встречала с утра девушек-горничных с заплаканными лицами, но боялась спросить о причине слез.
Глаша и сама частенько плакала. Она скучала по дому, институтской жизни, по той особой атмосфере чистой и непорочной девичьей дружбы, о классной даме, о директрисе. Вспоминался и выпускной бал, а после прощание с подругами, с которыми пролетело шесть незабываемых лет… Потом возвращение домой, и как гром среди ясного неба, новость о смерти папеньки. Ей не сообщили об этом трагическом событии, дабы не расстраивать ее накануне выпускных экзаменов. Дома ее ждала больная мать, слабеющая день ото дня, после похорон любимого супруга. Словно горячка, Глашей овладело желание сделать для несчастной все возможное, дабы облегчить ее невыносимые страдания. Она и делала, но получалось все нескладно. Она поправляла подушку, поила мать горячим декоктом[7], но та давилась и кашляла. Бледная кисть матери делала в воздухе слабые движения, словно она пыталась отмахнуться от назойливой сиделки.
Именно в то время Глаша поняла, как отодвинула ее институтская жизнь от жизни реальной, в которой случалась нужда и умирали близкие. Ей было странно взирать на потускневшее и состарившееся от горя лицо матери, которая в молодости слыла записной красавицей и блистала на балах. Мама умирала, а душу Глафиры разрывало на части от тяжкого несоответствия ее мечтаний и грубой правды жизни, коя замешана на нестиранных, влажных от пота простынях, запахе лекарств, грубости прислуги и презрительного взгляда лекаря, которому нечем заплатить за визит. Молодость жаждала радости, веселья, мужского внимания, нарядов, танцев и летних вечеров. А были похороны. Обычные среднерусские похороны, на которых присутствовал старый пьяненький и шепелявый дьяк и несколько близких к maman подруг.
Далее память все время выкидывала тот отрезок воспоминаний, когда Глаша осознала свое полное сиротство. Месяц безутешных рыданий. Хождение в церковь и на могилу родителей. Долги, неоплаченные счета, продажа имения. Лихорадка. Приезд крестной. Долгое выздоровление. Письмо.
Дорога. И вот она здесь…
Глаша любыми средствами старалась гнать от себя меланхолию. Иногда она нарочно декламировала стихи Державина или Пушкина. Бодрилась, принималась вальсировать сама с собой и невидимым кавалером. Слезы высыхали, и она предавалась мечтаниям, кои по младости лет кажутся важными, возвышенными и имеющими большую надежду, что сбудутся в реальности. Спустя годы, воспоминания об этих мечтах вызывают в лучшем случае, лишь улыбку. Она мечтала о том, что, несмотря на все невзгоды, будет у нее жених, непременно красавец, à la Byron[8], или, как кузен Владимир. И что будут они гулять вместе и говорить о поэзии… Он возьмет ее за руку, поцелует и скажет, глядя в глаза: «Сударыня, я люблю вас безумно! Станьте, моею женой». О дальнейших событиях Глафира имела весьма туманное и поверхностное представление: его рука притянет талию; губы сольются в поцелуе; а потом, почему-то хотелось, чтобы он прижал ее сильнее и непременно к стене, да так, чтобы стало горячо и тесно полным грудям… Тот, кто прижимал к стене, как не странно, имел лицо Владимира, его фигуру, руки, запах. В этом месте Глафире становилось жарко: мучило телесное томление. Бывало, она гладила свое нагое тело, руки касались плотных сосков, скользили по бедрам – дальше этого дело не шло…
Владимир Иванович часто наблюдал за кузиной. Она безумно нравилась ему. Но так, как она была слишком целомудренна, чиста и невинна, он решил немного сдержать «огонь страсти». Он захотел потихоньку влюбить в себя неопытную девушку, бывшую институтку и принялся за ней ухаживать. Когда все собирались на террасе к фриштику[9], Владимир спускался чуть позже. С утра вдоволь накупавшись в специально обустроенной купальне, чисто выбритый и вкуснопахнущий, в белоснежной рубашке с открытым воротом, он производил божественное впечатление на Глафиру Сергеевну. Его изящные манеры, дерзкий взгляд холодных серых глаз, красивые, но по-мужски сильные руки буквально завораживали бедную девушку. Кузен был необычайно остроумен за столом, вежливо говорил: «Bon appetit!»[10], и умел галантно ухаживать. Словом, Глаша все сильнее влюблялась в этого жестокого демона. Выходя на террасу, особенно, когда не было поблизости матери, Владимир рассыпался в комплиментах:
– Ах, Глашенька, divine[11], как вы, сегодня хороши! Ваши ангельские глазки похожи на яркие цветочки. Губки у вас, словно кораллы, а зубки – чистый жемчуг. Пальчики… О, ваши пальчики я съел бы, как спелый виноград. Не прячьтесь от меня, цветик мой.
Глаша, не выдерживала столь лестных для нее, но погибельных слов и убегала, закрыв лицо руками.
Часто во время прогулок по саду или вдоль берега большого пруда Владимир сопровождал Глафиру. Он развлекал ее потешными историями, читал стихи и тем самым все сильнее входил к ней в доверие. Долгие разговоры о поэзии позволяли Глаше увидеть в кузене человека образованного, тонкого и думающего. Владимир легко мог уболтать и более опытного собеседника, не то, что наивную и доверчивую девушку. Глаша слушала его, затаив дыхание – восхищению не было предела. Невольно идеализируя этого красивого мужчину, она мысленно приписывала ему те достоинства благородной натуры, о коих он даже не подозревал.
А он – шельма, зная хорошо свое кобелиное дело, играл с ней, как кошка с мышкой: то посмотрит строго; то рассмешит и сам смеется, выставляя напоказ белые ровные зубы; то днями и взгляда не удостоит – словно, и нет ее… Потом вдруг опять становился нежным и внимательным без меры. Оконфузит ее, а сам уйдет по делам. Бедная Глафира весь остаток дня себе места не находит, лишь о нем мечтает: чтобы вниманием своим осчастливил.
Когда они были наедине, Глафира замечала на себе пылкие взгляды, сильные руки искали повод обхватить талию. Вместе они качались на качелях: от высоты перехватывало дыхание, натягивались веревки, подол платья развевался на ветру. В эти минуты она чувствовала себя необычайно счастливой, глаза видели его глаза, пальцы нечаянно касались его пальцев: от прикосновения кидало в жар. Прощаясь, он брал ее запястье, поворачивал к себе внутренней стороной: ручка девушки покрывалась цепочкой нежных и страстных поцелуев. Глаша в смущении отдергивала ладонь, от поцелуев шла кругом голова.
Теперь, лежа вечерами в кровати, она постоянно думала о Владимире, душа томилась, мысли путались, плохо спалось. Она садилась, руки обхватывали круглые колени, мечтательный взгляд устремлялся в темное звездное небо. Воображение уносило ее далеко, приподнимало над земной суетой, уводя в невиданные дали. Грезила Глаша о средневековых замках и доблестных рыцарях. Один из рыцарей мчался на белом коне, длинная шелковая грива колыхалась на ветру, копыта лошади летели высоко над землей, желтая луна скользила средь туманных облаков, Млечный путь указывал дорогу. Рыцарские доспехи серебрились от лунного света. Он казался необыкновенно мужественным: плечи, облаченные в гладкие кованые наплечники, поражали широтой и размахом, узкий торс, затянутый в латы, гибко покачивался над седлом, сильные, обутые в железные сапоги ноги, крепко сжимали белые крутые бока лошади. Присмотревшись внимательнее, она увидела знакомый взгляд, рыцарь смотрел глазами Вольдемара. Спрыгнув с коня, он подошел к Глафире и встал на одно колено, рука, закованная в латы, трепетно протягивала алую розу… Потом пошли другие видения: пестрая толпа, церковь, многоголосый хор, туман от кадила, сияние свечей… и она – Глафира в белом подвенечном платье. Поворот головы, глаза находят знакомый профиль, волнистые волосы, широкие плечи, его улыбка, радость захватывает, как водопад, слышится звонкий смех… Гулко поет церковный хор, пение сливается с колокольным звоном, звон идет по всей земле, заливаясь медом в Глашины уши… Она засыпает… и снова грезит: вот стоит кровать, она убрана белыми лилиями, вокруг кровати плещется вода. Глаша падает: она обнажена, тело горит и плавает, словно на волнах. Подходит он, ложится рядом, сильные руки обнимают, губы ищут ее губы, долгий поцелуй, он прижимает ее сильнее, ей хорошо и тепло. Пальцы проводят по мужественному подбородку, погружаются в темные кудри. Но, что это? Под руками уже не волосы любимого, а мягкий комок… Он растет и ширится, и вот перед ней на кровати сидит огромный серый кот: глаза полыхают желтым огнем: то не глаза – а две луны, плывущие по темному бездонному небу. «Котик, откуда, ты, здесь взялся? Иди ко мне. Кис-кис!» – силится сказать Глаша, но губы не слушаются, язык распух, из горла рвется хрип. Наглый котяра, запрыгнув на грудь, оскалил белые зубы: душно и тяжело дышать. Глаша схватила кота и сбросила на пол, кот выпустил острый, как бритва коготь, и полоснул им по рукам и груди: тонкими струйками побежала кровь, крупные пухлые капли застучали по деревянному полу. Глаша проснулась: рубашка была мокрой от пота. «Прочь ночь, прочь сон…» – прошептала она в темноте, – «Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое…» Не дочитав молитвы, она снова погрузилась в глубокий сон, теперь без сновидений.
Владимир Махнев настолько взбудоражил и спутал мысли неискушенной Глафире Сергеевне, что она грезила о нем во сне и наяву. Он, вглядываясь в ее томные глаза, отчетливо понял: ему удалось осуществить первый этап своего плана – девушка была безумно влюблена.
Решив, что достаточно уже быть просто порядочным джентльменом и пылким воздыхателем, Вольдемар пошел на решительные действия. Улучив прекрасный момент, когда мать уехала погостить к подруге в соседнее поместье, поздно вечером Владимир, искупавшись в купальне, опрыскал себя французским, специально привезенным из Парижа одеколоном, и, надев шелковый турецкий шлафрок поверх тонкой ночной сорочки, взял свечу и спустился в коридор, который вел к комнате Глаши.
Глава 3
Было около часу ночи, когда уши Глафиры Сергеевны уловили едва слышный стук в дверь: словно кошачья лапка поскреблась по дереву. Через минуту стук усилился. Она оторвала голову от подушки, рука нашарила в темноте свечу, ровный спокойный огонек осветил маленькую комнатку. Накинув халат, Глаша тихонько подошла к двери.
– Кто там? – испуганно прошелестел голос.
– Это я, Глашенька. Сделайте милость, откройте, пожалуйста? – прошептал он в замочную скважину.
– Что случилось, Вольдемар? Уже слишком поздно.
– Не гневайтесь, друг мой. У меня к вам важный разговор.
– Побойтесь бога, Владимир, неужто этот разговор не подождет до утра?
– Нет, радость моя. Промедление может оборвать течение моей жизни.
– О, Господи!
Рука нашарила щеколду, послышался легкий скрип, дверь приоткрылась, пропустив темную высокую фигуру. Желтое пламя свечи снизу освещало лицо Владимира, искажая черты красивого лица: нос выглядел длинным и крючковатым, глаза смотрели как два бездонных колодца, уголки рта хищно спускались к подбородку. Но вот он поднял огонь повыше, мелькнули длинные тени и рассыпались по углам, все встало на свои места: мистически страшное лицо вдруг приобрело знакомые родные черты. Он стоял к ней так близко, что она отчетливо слышала стук его сердца, чувствовала теплое дыхание. Запах одеколона безумно понравился Глафире: он придавал особую торжественность и мужественность его владельцу. Никогда в жизни она не нюхала ничего подобного.
– Владимир, что случилось? Что вас привело ко мне в такое позднее время?
– Не сердитесь, цветик мой. И не прогоняйте меня. Я просто сильно соскучился, – вальяжно ответил он. Рука потянулась к Глафире.
– Я не понимаю вас, сударь. К чему все эти уловки? Вы пользуетесь моим к вам пристрастным расположением. Не губите мою репутацию. Покиньте, пожалуйста, комнату, – отпрянув, возмущенно проговорила она.
– Ну вот, я еще ничего-с не сказал вам, а вы гоните меня, – обиженно протянул он. В голосе послышалась плохо скрываемая ирония. Он решительно прошел вглубь комнаты и сел на стул.
– Я не смею вас гнать, тем более что это ваш собственный дом, а я лишь из милости у вас проживаю. Но все же, я девушка порядочная и потому, прошу вас покинуть меня в столь компрометирующий час. Тем паче, вы, милостивый государь, не считаете нужным объяснить свой поступок.
– Да полно, вам, Глафира Сергеевна. Вот я из Володи сразу же в «милостивого государя» превратился. Стыдно вам, должно быть. Я со всей душой, а вы… Да и не шумите так громко. В доме все спят, матушка уехали-с. Чего же вам бояться? Да и я – не серый волк: чай, не съем такую красавицу. Начнете громко говорить – сами себе компрометацию и устроите.
Глаша совладала с испугом и присела на другой стул, в тишине послышалось пение сверчка.
– Ну?.. Успокоились? Вам в детстве сказок, что ли про злодеев много читали? Или классные дамы внушили опасность любого мужчины? Глашенька, разве похож я на злодея?
– Вы знаете, Володя, как я к вам отношусь, – она смущенно опустила голову.
– А разве вы, не видите, что я тоже вас полюбил? Полюбил с самого первого взгляда, – в голосе прозвучала неподдельная страсть. Он пересел на кровать, рука потянулась к ее руке.
– Иди, ко мне, – прошептал он.
– Володя, не губите меня, – проговорила она, – если любите, проявите снисхождение.
Рука Махнева, как хищный зверек, цапнула добычу и потянула к себе: девушка быстро оказалась на кровати подле своего кузена. Мягкая перина утопила обоих в удобной колыбели: Глаша старалась отодвинуться от своего искусителя, но все время соскальзывала ближе и ближе. Наконец, она почувствовала, что лежит рядом: его широкий торс в шелковом шлафроке чуть нависал над ней. Сердце стучало где-то у горла. Прекрасный аромат Фарины[12] сводил с ума. Одурманенная и вмиг поглупевшая от новых ощущений, она спросила без обиняков.
– Володя, вы, обещаете, что… женитесь на мне?
– Угу…
– А вдруг ваша матушка будет против? Она ведь не любит меня – я чувствую.
– Перестань, любовь, моя. Это все пустяки. Я сам себе хозяин. Не позволит – я украду тебя, и мы уедем далеко-далеко….
После этих слов он принялся сначала дурашливо рычать и кусаться. Затем, плохо владея игрой, перешел на страстные, долгие поцелуи. Эти смертельные поцелуи доводили Глашу до обморочного состояния: она, не владея собой, вся поддалась навстречу страстному натиску. «Что я делаю? Он ведь погубит меня», – пронеслось в голове.
Казалось, она падает в глубокий колодец, у которого нет конца. Понимала, что ничего нельзя изменить: ее судьба решена. Если это злой рок – она умрет, но в эту минуту не было силы, которая могла бы оторвать ее от любимого… Глаза Создателя мрачно и скорбно взирали с потемневшей от времени иконы: они будто оплакивали заблудшую Глафирину душу. Создатель знал наперед: сколько страданий принесет этот красивый демон юной и неопытной Глафире.
Тем временем, Владимир не спеша раздел девушку. Она слабо сопротивлялась, но он был настойчив. Его взору предстала потрясающая картина: стройное, в меру полное тело было настолько аппетитным, что захватывало дух. Ровные, чуть загорелые плечи матово поблескивали в неровном пламени свечи. Ниже – белыми полусферами круглились большие упругие груди. Они были настолько совершенны, что казалось: написаны искусным художником на полотне, изображающем саму Афродиту. Розовые твердые соски венчали сие пышное великолепие. Ниже шла узкая гибкая талия и чашеобразный девичий живот. Широкие бедра наводили на мысль, что в будущем эта женщина свободно родит несколько здоровых детей. Стройные полные ножки казались удивительно длинными, глаза слепли от их потрясающей ровности и белизны. Тонкие щиколотки переходили в узкие и легкие ступни с нежными розовыми ногтями и кругленькими пятками. О, как высоко оценивал Вольдемар такие женские ноги! Великий знаток красивых лошадей и женщин, он знал: тонкая щиколотка присуща лишь породистым экземплярам.
В устье шикарных ножек прятался девственный пухлый лобок, темные мягкие волоски покрывали его, словно молодая травка свежий лужок. Длинные пряди русых волос живописно разметались по подушке, алые раскрытые губы темным пятном выделялись на белом лице. Владимир хотел было тут же овладеть вожделенной красавицей, но сдерживая с огромным трудом свой пыл, решил немного повременить: он знал по опыту, что с такой ранимой женщиной надо быть чуть терпеливее и нежнее. Чтобы не испугать ее огромными размерами детородного органа – не стал до конца раздеваться. Халат прикрывал вздыбленную плоть, натянутую сверх всякой меры от адского вожделения.
Он решительно погрузил руку в пухлый лобок, пальцы почувствовали хорошо знакомую, скользкую влагу. Пожалуй, ее было слишком много: это многообещающе давало надежду на то, что несравненная кузина должна обладать сильным темпераментом. От дерзкого проникновения ножки сжались – хозяйка не хотела впускать столь решительного и наглого гостя.
– Ой, Вольдемар, не надо!
– Детка, ты вся течешь: потрогай сама… Дай, сюда пальчик, – он взял ее руку и положил на лобок. – Видишь? Чувствуешь?
– Да… Что это?
– Это твой любовный нектар. Он течет, когда ты сильно возбуждена.
– Зачем?..
– Он помогает всаднику легко идти своим путем.
– ?
– Delicieux![13] Ты поймешь позднее. Пока молчи… – поцелуй закрыл губы от новых вопросов. Пальцы стали нежно и решительно гладить распухающий бутон.
Глаше было так хорошо, что ноги раздвигались в стороны, повинуясь неведомой всесокрушающей силе.
– Ах! Боже мой…
– Глашенька, солнышко, скажи: приходилось ли тебе самой когда-нибудь ласкать себя между ножек?
– Как?..
– Так же – пальчиками…
– Нет…
– Я расскажу тебе немного из курса анатомии… Хотя в институтах благородных девиц не считают нужным говорить о таких подробностях, по ханжески определяя сии знания, как постыдные. Я полагаю, что даже в курсе биологии вам ни слова не говорили о размножении видов… Я же, придерживаюсь иного мнения и считаю, что природа наделила мужчин и женщин этими маленькими радостями не только, чтобы производить потомство, но и испытывать огромное счастье и вкус жизни, хваля Создателя.
Говоря все это, он не вынимал длинные пальцы из ее мокрого лона: немного тянул удовольствие – то двигал ими, то замирал. Эта тактика настолько распаляла желание, что Глафира мучительно постанывала, глаза закатывались от страшного наслаждения. Не помня себя, она сама старалась двигаться поступательно – лишь бы получить желанное трение.
– Так вот, мой цветик, я продолжу. Тот трепетный бугорок, что находиться у тебя в середине пухлых и прекрасных губок называется секелем или клитором. В нем заключена самая таинственная сила: именно эта горошинка доставляет женщинам столько неисчерпаемой радости. У девушек сия горошинка не очень велика, с возрастом и от постоянных упражнений – она укрупняется в размерах, становится сочнее… У некоторых женщин размеры ее соизмеримы с крупными ягодами. Эти ягоды так же и вкусны…
Он встал на колени возле ее ног, пальцы нежно взялись за края срамных губок и развели их в стороны, ловкий язык, погрузившись в сочное лоно, принялся исступленно ласкать нежную плоть. Минута – и Глаша впервые испытала нечто удивительное: словно огненный шар опалил естество, сводя сладостной судорогой гибкое тело.
– Ну вот, моя радость, ты и спустила, – проговорил он. – Хорошо тебе?
– Да… Что это было?
– Не страшно?
– Нет… – она смущенно прятала лицо.
– Отдохни, немного. Потом мы продолжим наши упражнения. Или, ты подумала, что это все? – он тихонько засмеялся. – Забавно встретить такую наивную особу, как вы, Глафира Сергеевна. Ну, ничего: опыт дело наживное. А для меня сия неискушенность являет собой самый дорогой дар, посланный с небес. Невинность ваша дорогого стоит… Многие мужчины бы за это большие деньги заплатили.
– О чем это вы, Вольдемар? Как это можно купить?
– Да так, радость моя, ни о чем. Люблю вслух поразмышлять. Ты, полежи здесь немного, я схожу в погреб за бутылкой вина. Нам надобно отметить наше сближение. Да и вообще, – сладкие капли Бахуса дадут больше крепости и смелости перед предстоящими испытаниями. Я мигом… Надеюсь: теперь ты впустишь меня. Ведь, я не серым волком оказался, – улыбка играла на тонких губах.
– Впущу… – застенчиво ответила она.
Через несколько минут он вернулся, пузатая бутылка темного портвейна оказалась на столе. К портвейну прилагались ванильные печенья. Его рука протянула Глаше круглый бокал, наполненный бордовой живительной влагой. Глаша приподнялась с подушки и села: длинные волосы прикрывали роскошную попу. Владимир невольно залюбовался ее фигурой.
– Глаша, ты настоящая Венера. У тебя поистине божественное сложение.
Редко встретишь таких красавиц, как ты.
– Ну, что вы, Вольдемар, – она опять смутилась, руки искали простынь: прикрыть наготу.
Он убрал простынь из ее рук.
– Не закрывай свою красоту. Позволь полюбоваться твоими прелестями. Пей вино, и не думай ни о чем.
Она жадно выпила бокал вина, узкое горло дрожало от больших глотков. Он с удовольствием смотрел на запрокинутую длинную шею. Губы тянулись целовать эту манящую нетронутую белизну.
Перед глазами Глафиры поплыл воздух, движения стали плавными, хотелось смеяться и громко говорить. Она вскоре обнаружила, что сидит на коленях у Владимира, левая его рука держит ее за грудь, правая гладит бедра. В глазах у Глаши сверкали и переливались искры, идущие от пламени свечей, в уши вливался теплый пар: то был не пар – это был шепот Владимира. Он говорил такие непристойные вещи, которые заставляли краснеть лицо. Она тихонько смеялась, маленькие ладошки прикрывали горячие щеки. Глаша остро почувствовала, что ей неудобно сидеть на его коленях: в бедро упирался какой-то твердый предмет, похожий на деревянный брусок. Она немного поерзала на месте: предмет не удалился – он продолжал выпирать, прикрытый шелком шлафрока.
– Вольдемар, там что-то мешает…
– Ну вот, дорогая, теперь мы подошли к самому главному в моей просветительской лекции. Садись, рядом. Я продемонстрирую тебе сей забавный предмет…
Он, не торопясь, скинул шлафрок, тонкая сорочка, снятая через голову, обнажила сильное мужское тело. Конечно, он был прекрасен, как бог: широкие плечи, узкие бедра, сильные руки, плоский живот – все было при нем. Но, главное: ниже живота, густо покрытого черным курчавым волосом, торчал и покачивался огромный предмет, похожий на небольшую дубинку.
Конец дубинки напоминал круглую красноватую шишку или огромную шляпку диковинного гриба. Глаша с удивлением смотрела на этот странный предмет.
– Вольдемар, qu'est-ce que c'est?[14] Это ваше?
– Ну, а чье же, еще? – он расхохотался. В глазах выступили слезы. От хохота дубинка закачалась. – Присядь, чего ты соскочила? Не бойся, потрогай его пальчиками. Видишь, какой он большой и твердый. Это твоя красота сделала с ним это чудо.
– Не понимаю но, кажется, я догадываюсь… Я видела такое у коня, когда он покрывал кобылу…
– Этот предмет, Глафира Сергеевна, зовется членом, Penis, Phallos, удом, орудием Приапа[15], дубинкой, молодцем, всего не перечислишь. Еще имеется трехбуквенное звание, которое мне более всего по нраву, но я не буду вслух его произносить… Ваше воспитание и происхождение не позволяет пока проявить свободу красноречия. Хотя, ей богу, именно трехбуквенное звание так идеально для сего предмета.
– Вы смущаете меня, Владимир! Неужто, это тот самый Penis, от коего бывают дети? Но, отчего он так велик?
– Вам повезло, дорогая, вы удостаиваетесь чести познакомиться с довольно неплохим экземпляром семейства Приаповых, – посмеиваясь, ответил он, – иные, опытные дамы, имеющие вкус к подобным вещам, дадут высокую оценку его размерам, ибо им, как никому, известны преимущества большого перед малым… Довольно разговоров: боюсь я – он треснет от натуги. Видишь, как раздулся от гордости. Скорее, возьми его в ручки.
Глашины пальчики несмело коснулись кожистого натянутого ствола.
– Какая, это мука, иметь отношения с девственной аристократкой! О, боже! Выдержу ли я? Надо скорее кончать с церемониями и лекциями, – простонал он. Но, увидев ее испуганные распахнутые глазищи, решил немного повременить. Сжав зубы, он продолжил, – впервые я выступаю в роли лектора по анатомии. Ладно, доведу дело до конца. Обратите внимание, Глафира Сергеевна, ниже члена идут два шарика. Называются они яичками, мошонкой, мудями, по латыни – тестикулами. В них сосредоточена мужская сила, они же являются сосудом семени… Довольно! Иди ближе!
Владимир подошел вплотную к Глаше, – она сидела на кровати, кротко взирая на его голое тело, более всего ее впечатлили размеры детородного органа.
– Поцелуй, его! Ну!
Глаша неловко чмокнула красноватую головку.
– А теперь, в твоих силах доставить ему еще большее наслаждение. Радость моя, открой пошире ротик и обхвати его губами, как конфету.
Глаша сделала все, как просил Вольдемар, но головка члена была столь крупной, что едва помещалась во рту. Она направляла член рукой. Владимир мычал от наслаждения. С непривычки у нее плохо получалось…
– Ладно, хватит… Не буду тебя мучить. Все впереди – научишься… Иди, я налью еще бокал вина. Пей, тебе нужно еще выпить. Извини, дорогая, сейчас тебе предстоит испытание не из легких. Но, я думаю, ты справишься с ним. Я сегодня играю в гуманиста и лектора по анатомии. А потому исполню партию до конца.
– Володенька, о чем ты? Я пьяна и плохо понимаю. Ты сказал: играю… Или мне послышалось?
– Тебе послышалось, радость моя. Не обращай внимания – я часто сам с собою говорю. Порой несу, что ни попади. Но и ты меня пойми – торжественность и важность момента… Разум помутился от любви, – сказав это, он снова припал к ее губам.
– Я пьяна, все кружится, но прижми меня еще крепче… И все же, я боюсь…
– Не бойся, любовь, моя. Я постараюсь быть аккуратным и нежным. Попрошу тебя встать на край кровати и приподнять свой восхитительный зад – такая поза наиболее физиологична для первого проникновения. В такой позе совокупляются многие животные. Эта поза одна из любимых на Востоке, где уделяется огромное внимание искусству любовных соитий.
Настойчивые руки поставили Глашу на край кровати: широкие бедра, приподнятые кверху, открыли прекрасный вид упругих полных ягодиц. Пламя свечи слабо освещало таинственный альков девственного лона. Владимир взял свечу, рука приблизила ее к вожделенному предмету, пламя быстро осветило лакомую красоту розовых и нежных губок. Он полюбовался нетронутой девственностью, несколько горячих поцелуев легли на влажную плоть. Глаша дрожала, предвкушая скорое проникновение.
Сначала, легким движением пальцев, он коснулся узенькой норки, затем, приставив головку члена, попытался проникнуть в узкое отверстие… Попытка оказалась безуспешной. Глаша напряглась и громко вскрикнула. Владимир стоял в несвойственной ему нерешительности…
– Cherie, я же еще ничего не сделал, а вы вскрикиваете… Эдак весь дом разбудите… Мне-то, сие обстоятельство – безразлично, это вы боялись компрометации. Как, вы, однако, чувствительны! Я и вина дал выпить. Ладно, хватит разводить ненужные церемонии – так мы далеко не уйдем. Что поделаешь, экзекуции не избежать. А потому рекомендую вам немного потерпеть. Не люблю тянуть кота за хвост. Возьмите в зубы это полотенце, зажмите его крепко.
Он повторил попытку: огромный член с трудом буравил нежную плоть. По щекам Глафиры потекли слезы, кричать она не могла: мешало полотенце.
Она замычала от острой боли и крепче сжала зубы. Несколько сильных толчков, и преграда была преодолена. Глаша почувствовала: по ногам потекли теплые струи, уши заволокло, в животе стучал железный молот. Мутный взор уставился на простынь: большое красное пятно набухало и ширилось под ее коленями. «Я умираю…» – подумала она и погрузилась в глубокий обморок.
Владимир с успехом довершил начатое, и упал возле кузины. Отдышавшись, он обнаружил: та лежит бледная и без чувств. «Господи, неужто мой Приап ее прикончил? Вот, был бы ужасный казус… Такой казус вошел бы в историю», – подумал он с самодовольством.
– Глафира Сергеевна, очнитесь! Очнитесь, дорогая моя!
Глаша почувствовала, что откуда-то с высоты глубокого колодца, на дне которого лежало ее бездыханное тело, к ней тянуться знакомые сильные руки – они стучат по деревянным щекам. Знакомый голос, идущий, словно из трубы, взывает к жизни. В лицо летят капли воды – становиться мокро: вода льется за шею, волосы липнут к плечам. Вместе с этими чувствами снова приходит… боль. Эта ужасная боль захватывает все естество.
Лицо Глаши скривилось от плача: слезы, как горошины, капают по щекам.
– Ну вот, Mon Cher, ты и очнулась, перепугала меня своим обмороком.
– Владимир, я умру? – спросила она всхлипывая.
– Нет, конечно! С чего ты взяла?
– У меня вся простынь в крови, я от потери крови скончаюсь…
– Не говори глупости! От этого никто не умирал. Уже светает… Как быстро время летит, – в голосе прозвучали деловые нотки.
Он посмотрел на нее. В утреннем свете она выглядела жалкой: волосы мокры и растрепаны, лицо припухло от слез, губы почернели, словно ели чернику. На кровати и полу были капли крови. А под самой Глашей, на смятой простыне расплылось огромное красное пятно, просочившееся в саму перину.
«Однако, каков шельмец! Нанести нежной даме такой урон!» – с гордостью подумал он о своем фаллосе.
Владимир Махнев быстро и деловито оделся.
– Я оставлю вас, сударыня. Сейчас к вам придет моя горничная Маланья. Она девушка опытная и расторопная, к тому же знает, что в таких случаях делать надобно.
– Зачем Маланья? Не надо Маланью… Стыдно как! Она догадается обо всем.
– Не говори глупостей! А для чего я слуг в доме держу? Лежи, Mon Cher, и успокойся.
Проговорив все это, он моментально скрылся за дубовой дверью.
«Он даже не поцеловал меня перед уходом…» – подумала Глаша – «Может, он сейчас вернется?» Но Вольдемар не вернулся: ни тот час, ни через день, ни через неделю.
Вместо него пришла рыжая Маланья, полные руки держали корзину с бельем и холщевый мешочек с травами и мазями. Маланья была добрая и бесхитростная девушка. Увидев сжатую в комочек, плачущую Глашу, она покачала крупной головой, обвязанной полинялым платком.
– Вот, барышня, и вас не пощадил наш мучитель. Хорош он больно собой, да суров не в меру. Вы того… не убивайтесь так. Это – то заживет. Рожать еще больнее, – уговаривала Маланья.
Толстый ситцевый зад притулился на краю кровати, большая шершавая ладонь гладила Глашу по голове. Она искренне жалела барыню, словно перед ней была маленькая девочка.
– Все пройдет… Все заживет… Будете, как новенькая.
От этих слов Глафиру бросило в жар. То, что для нее было тайным и постыдным, в устах этой бесхитростной крестьянки приобретало черты будничности. Было понятно: служанка знала обо всем, что произошло в этой комнате пару часов назад, и не только знала, но и считала это обыденным событием. Ей было не в «диковинку» ухаживать за девушкой, лишенной невинности. Раз она пришла с бельем и с лекарством – значит, Владимир Иванович дал ей все необходимые распоряжения. «Боже, какой стыд!» – подумала Глафира.
Тем временем Маланья, сокрушаясь и покачивая головой, убрала испачканные кровью простыни и половички, заботливые руки застелили постель свежим, чуть прохладным бельем. Спустя четверть часа в комнате появилась дубовая кадка с теплой водой. Маланья велела залезть в кадку: от стыда Глаша зажмурила глаза. Горничная, не обращая внимания на стыдливость девушки, принялась поливать голое тело водой и мыть душистым мылом.
– А, ну-ко, девонька, присядь. Дай, я тебе ранку-то омою, – заботливые руки стали лить воду на промежность Глафиры. Вода побурела от крови.
По щекам текли слезы, она вытирала их руками, брызгала в лицо водой – было бесполезно: глухие рыдания рвались из груди.
– Ну… снова сырость развели. A-то вы, не знали: зачем, он ночью к вам приходил?
«Раз она об этом говорит, значит многие из прислуги могли слышать и видеть, как Владимир Иванович приходил ко мне. У дома есть свои глаза и уши.
Надо, наверное, пойти утопиться – другого выхода нет…» – думала она, кусая губы.
После мытья тело охватил озноб, смертельно клонило ко сну, веки отяжелели, словно налились свинцом. Глаша, с трудом переставляя ноги, дошла до кровати и упала на холодную подушку. Сквозь плотную пелену она едва различала прикосновения рук Маланьи. Сопротивляться не было сил: шершавые руки горничной развели в стороны ватные ноги, послышалось озабоченное бормотание и несколько вздохов, спустя мгновение, ловкие пальцы коснулись болезненной раны. Зачерпнув пригоршню целебной темнобурой мази, пахнувшей травой и коровьим жиром, Маланья принялась втирать снадобье в рваные лоскуты нежной плоти.
Острое жжение заставило вскрикнуть, через несколько минут приятная прохлада пришла на смену неприятным ощущениям. Немного погодя, боль совсем утихла.
Сквозь полузакрытые веки она видела, как в комнате помыли пол, дворовый работник Тимоха вынес кадку с водой. Глаша забылась глубоким сном. Проспала целый день, а к ночи у нее началась горячка.
Глава 4
Глафира Сергеевна, будучи девушкой ранимой и нежной, воспитанной в институтской строгости, где даже поэзия Байрона и Ричардсона считалась крамолой, и прочитывалась лишь ночами, под угасающий свет восковой свечи, шепотом на весь дортуар, тяжело переживала практическую сторону любовных отношений со взрослым мужчиной. Она совсем не ожидала той боли и стыда, кои принесло ей тайное свидание с Владимиром.
Как осознание великой трагедии ее посещала мысль о том, что она согрешила вне брака. «Зачем я отдалась ему? Ведь я знала, что так делать нельзя, что это грешно и погибельно… Отчего я послушала его? Что тогда было со мной? Почему я ослушалась голоса разума? Где был Господь и мои ангелы? Отчего они не уберегли мою девичью честь? Ведь, даже женившись, кузен может попрекнуть меня за уступчивость», – слезы заливали ей лицо. – «А может, все это сон, и я до сих пор девственница? Ведь я девственница, а как же иначе?
Я институтка и я дева… Мама, где же ты, мамочка? Отчего тебя нет рядом?» – она забывалась в тяжелой горячке.
Целую неделю Глафира Сергеевна провела в постели: жар спал лишь на третьи сутки, но тело все еще оставалось слабо. Во время болезни ей снились кошмары: огромные рыжие собаки бежали по следу, с разверзнутых клыкастых пастей капала слюна, лай слышался у самого затылка, ощущалось зловонное дыхание. Безумно болела голова. Она силилась встать: чьи-то мягкие руки заботливо возвращали ее на подушку. Порой, она слышала молитву: кто-то заунывно бубнил над ухом Псалтырь. Шепот молитвы переходил в бабское оханье и причитание. Глаша забывалась крепким сном, и снова грезилось нечто страшное. Виделась красивая голова Владимира, волнистые волосы, мягкие губы страстно целовали лицо, грудь, живот… Ласки прерывались глухим рычанием, голова Владимира превращалась в волчью морду: белые клыки стремились вонзиться в обнаженное горло.
Какое счастье, что тетка была еще в отъезде, и не видела того, что творилось с племянницей. Дабы избежать лишних вопросов, слугам было объявлено, что Глафира Сергеевна подхватила инфлюэнцею. Не многие поверили в эту «сказку», однако помалкивали – от греха подальше. За больной ухаживала Маланья: она поила ее малиновым чаем, кормила кашей, жалела и нянчилась, как с ребенком. За время болезни Глаши, ее возлюбленный ни разу не пришел к ней в комнату. Это огорчало настолько, что она с трудом поправлялась. Зайди он к ней – успокой, пожалей – все было бы по-другому. «Отчего он забыл меня? Говорил, что любит, а забыл», – от обиды комок подкатывал к горлу.
Сквозь плотно закрытую дверь, слышался приятный баритон: Владимир Иванович деловито давал распоряжения прислуге, прикрикивал на кого-то, громко смеялся. Казалось, он специально дразнит своей близостью, но не считает нужным переступать порог ее комнаты.
– Малаша, а что барин сейчас делает? – робко спрашивала Глафира.
– А? – спохватывалась сонная Маланья, с трудом подавляя зевоту. Сидение с барыней давало ей возможность небольшого отдыха от повседневной, порой тяжелой работы по дому. Как только она добиралась до комнаты Глафиры и делала все необходимое по уходу за больной, тут же сидя засыпала, сладко сомкнув толстые белесые веки. – Чего вы, спрашиваете? Барин? Они покушали и по делам отъехали. Спите, Глафира Сергеевна, почивайте, раз позволено. А мне они приказали ходить за вами, покудо вы немощны.
– А он говорил что-нибудь обо мне?
– Да нет, ничаво не говорил. Сказал токо: лечи барыню и все.
Глаша сжималась в комочек. В душе начинала теплиться слабая надежда:
«Он заботится обо мне: вот и Маланью ко мне приставил. Значит, я не безразлична ему, значит, он любит».
Лежа под одеялом, укрывшись с головой, Глафира то и дело возвращалась мыслями к памятной ночи. Постепенно пришло осознание того, что она стала совсем другой: в ту ночь она стала женщиной. Вроде ничего не менялась вокруг, но целый мир стал другим. Прикосновение к греховной тайне изменило навсегда ее душу и тело. От воспоминаний о ласках Владимира перехватывало дыхание, руки снова и снова болезненно сжимали голову от стыда и муки. Порой находила сладкая истома: нежность и жажда ласки стояли у самого горла.
«Как он ласкал меня, и как это было невыносимо… хорошо», – от этих мыслей она краснела даже под одеялом. Пальцы робко тянулись к «поруганному» холму Венеры. Но она стыдливо одергивала руку.
От Маланьи Глаша узнала, что барин уехал с приказчиком по делам в город. За окном стоял радостный и зеленеющий июнь. Горячка миновала, и Глафира Сергеевна потихоньку стала вставать с постели. В первый день вся бледная и слабая она вышла во двор усадьбы, прошлась по каменным дорожкам сада и вернулась домой: пока не было сил. Постепенно слабость уходила, ноги крепли, румянец появлялся на нежных щеках. Изменилось выражение лица: оно стало строже и задумчивей. Она старалась уходить подальше от людей и любопытных взглядов: ноги сами несли в глубину зеленых аллей. Глаза любовались пестрыми клумбами ранних цветов. Сворачивала в лес: свежий воздух врывался в лицо, пение лесных птах заставляло забывать горести и печали.
Ветер доносил запахи воды с пруда: пахло горячим песком, водяными травами, рачками и мелкой рыбешкой. Часами Глаша сидела у воды, наблюдая за деревенскими мальчишками: те важно удили рыбу, стоя на полусгнившей коряге. Их босые ноги, вымазанные серым илом, застывали в неподвижной позе, зоркие глаза, не мигая, смотрели на поплавок. Поплавок начинал дергаться, раздавался победный клич – серебристая рыбка взлетала в воздух.
Она с нетерпением ждала возвращения Владимира Ивановича. Вначале смутно догадываясь, позднее более четко и осмысленно она поняла, что полюбила его глубоко и страстно. Каждая травка в лесу, каждый куст, каждый живой звук напоминал его имя. Ей казалось: все кругом говорят именно о нем. Вслушиваясь в разговоры дворни, она ловила случайные фразы и слова, сказанные о барине. Когда кто-нибудь из работников отзывался о нем с почтением или хвалил деловую хватку Махнева, Глаша радовалась, как институтка на уроке, хорошим словам о предмете своего обожания.
То мерещилась вдалеке его высокая стройная фигура, дрожащая от летнего зноя горячей земли. Сердце начинало громко бухать, руки потели: фигура, скинув оковы миража, превращалась в идущего с пашни долговязого работника в светлой рубахе. Казалось: ветер доносит его родной голос, скрип уключины напоминал звон колокольчика с упряжки барской кареты. Звуки, запахи, силуэты все смешалось в больном и горячем воображении.
И вот, в один прекрасный день, цокая копытами, к усадьбе подкатил экипаж Владимира Ивановича. Барин с приказчиком вернулись из города в самом хорошем расположении духа. Тому причиной была удачная покупка березового леса у разорившегося помещика из соседнего уезда. Мужчины вышли из кареты, посмеиваясь и радостно потирая руки. Барин приказал накрывать на стол. Повар не ждал его к обеду. Не смотря на это, на столе тотчас появилась хорошая закуска: поблескивал жирком розовый душистый окорок; соленые грузди тонули в тягучем рассоле, сдобренном укропным семенем; пласты холодного румяного пирога с мясом разлеглись на большом фарфоровом блюде; паюсная белужья икра мрела темным бисером в широком хрустальном бокале; стопка опарных, масленых блинов прилагалась к икре. Стеклянный лафитник, полный киршвассером[16], матово поблескивал запотевшим боком.
Владимир и его приказчик Игнат хорошо, с аппетитом закусили и выпили пару стопок холодной наливки. После Игнат пошел к себе, а барин, отдохнув с часок, занялся домашними делами. Он терпеливо выслушал просьбы двух горластых и канительных мужиков, допущенных к барской милости, удовлетворил их, насколько мог, проверил домовую книгу, сверил записи, отругал старосту. В конце концов, остался вполне собой доволен: отруганный староста, напустив на себя рабскую покорность, услужливо покрякивал рядом.
Затем Владимир потянулся и вскочил на ноги. В голову пришла мысль: «Поправилась ли от горячки Глафира Сергеевна? Надо бы заглянуть к наивной бедняжке, проведать, наконец». Спустя минуту, он стучался в ее комнату: ему никто не ответил. Маланья, прибежавшая на стук, сообщила, что барышня, слава богу – поправилась, и уже кушает хорошо, и гулять ходит.
– Ну, и где сейчас твоя барышня? – с иронией спросил он, приподняв одну бровь, – что, как поправилась, так и след ее простыл?
– Да нет… Туточки вроде все околачивалась: то в саду, то у пруда. А сегодня перед тем, как вы приехали-с, ушла, и нет до сих пор. Может, в садике где-нибудь ходит, или в ельник ноженьки понесли. Велите разыскать?
– Не надо… Я сам прогуляюсь.
Пройдя несколько аллей, заросших старыми дубами и акациями, Владимир свернул к небольшой рощице, находящейся справа от господского сада. Ноги сами несли его в эту сторону, глаза искали Глафиру. Мелькали зеленые листья, встревоженные птицы разлетались по сторонам.
Через минуту он остановился. Стараясь не трещать сучьями, затаил дыхание: на светлой полянке, спиной к нему, притулившись к березке, сиротливо стояла скучающая Глашенька. Голубое, в белый цветочек летнее платье, отделанное тонким кружевом, и делавшее линии фигуры мягкими и женственными, выглядело так мило, что Владимир внутренне ахнул… Две косы были кокетливо уложены небольшим калачиком на маленькой голове.
На тонкой шее, в неглубокой впадинке трогательно завивался, выпавший из косы, локон русых волос. Легкий летний ветерок овевал стройную фигурку девушки. Несколько минут наш эстет Владимир любовался этой прекрасной картиной. Затем, стараясь ступать неслышно, он подкрался к девушке, руки обняли тонкий стан. От неожиданности Глаша вскрикнула, кровь ударила в голову, показалось на минуту: земля уходит из-под ног. Она крепко зажмурила глаза, а когда открыла их – увидела любимого. От радости у нее пропал дар речи. Глаша стояла, глядя на него, и не знала, что сказать.
– Вот, я вас и нашел. Comment ça va[17], сударыня?
– Ça va bien, merci[18], сударь!
– Не уходите так далеко от дому: не ровен час – волки серые по лесу побегут и унесут красоту нашу в далекие края, – его лицо расплылось в улыбке, – я тут смотрел на вас и сокрушался: отчего я не художник? С вас картины писать надобно, до того вы хороши!
– Полно вам, смущать меня Владимир. От ваших комплиментов голова кругом идет. И так корю себя за то, что поддавшись на лесть и ласки, пала столь низко, что согрешила раньше срока, – в глазах появился упрек. Она задумчиво молчала пару минут. – Вы знали, что больна я, отчего не навестили?
– Глашенька, ну какой из меня лекарь? Я Маланью к вам затем и приставил: она опыт в таких делах имеет.
– А опыт сей не от ваших развлечений она получила?
– Не цепляйся к словам, тебе не идет бабская глупая ревность. Мои слуги верны и многому обучены. И закончим эти разговоры, – в голосе появились строгие нотки. – Иди, я лучше обниму тебя, Mon Cher. Я скучал по тебе.
Все Глафирины упреки потонули в страстном поцелуе. «Опять этот сладкий омут – мне из него не выбраться никогда», – думала она, падая в глубокую пропасть. Знакомые руки с силой сжимали бедра, тискали тугую грудь, горячие поцелуи покрывали шею.
Стоя у березы, Владимир, оглянувшись вокруг, решил продолжить объятия прямо на траве. Он сел сам и потянув за руку, усадил ее рядом. Глаша не заметила, как опять оказалась, лежащей подле него: сильная рука задрала подол платья, путаясь в подвязках и булавках, приспустила батистовые панталоны, и нырнула к теплому лону. Секунда, и длинные пальцы с наслаждением проникли во влажное лоно.
– Как там поживает наша раненная красота? Затянулись ли ранки, кои мой жеребец нахальный ей нанес?
Глашу, словно огнем опалило: стало стыдно и мучительно горячо от его слов.
– Не надо, не мучьте меня.
– Ты говоришь: не надо – а сама хочешь меня немилосердно; говоришь не надо – сама течешь и пахнешь, как матерая самочка; говоришь не надо – а ноги в стороны разводишь.
– Я погибаю от ваших ласк. Мне страшно: опять могу я чувств лишиться.
Но он не слушал ее. Расстегнул брюки: вздыбленный член, вывалившийся наружу, готов был рваться в бой. Добравшись пальцами до норки, почувствовал: она стала немного шире… Стиснув зубы от сильного желания, он лег на Глашу.
Вдруг, за деревьями послышались чьи-то голоса: это были ключник и староста. Громко разговаривая о хозяйственных делах, они шли широкими шагами, загребая стоптанными огромными сапожищами по лесной дорожке в сторону, где притаились любовники. И хоть кусты орешника и прикрывали Владимира и Глашу от их случайных взглядов, но вспыхнувшая страсть от страха быть застигнутыми, пошла на убыль. Работники прошли мимо, не увидев, таящихся за кустами господ.
Владимир с трудом поместил на место вздыбленный член, Глаша еле стояла на ногах, оправляя корсет и смятый подол голубого платья. Сломанное возбуждение было таким сильным, что в глазах обоих появилась досада и разочарование. Глянув в лицо Глафире, он громко расхохотался.
– Иди в свою комнату, я скоро приду: и не будет вам, mademoiselle, пощады!
Растрепанная Глаша, с горящими глазами, не возражая ни слова, поспешила к дому в барскую усадьбу. Стараясь быть незамеченной, Глафира Сергеевна проскользнула почти неслышно в свою комнату, дрожащие пальцы с трудом задвинули щеколду. Несколько минут она сидела на кровати, слабо соображая о том, что нужно делать. Сердце гулко бухало в груди, а руки были холодны, словно лед. За окном на землю спускался ранний летний вечер. Сухой зной сменила легкая, свежая прохлада. Цветочные и травяные ароматы размылись запахом молока и коровьих лепешек.
Спохватившись о том, что скоро к ней придет любимый, Глаша решила привести себя немного в порядок. Она наскоро поправила прическу и платье и, наконец, догадавшись о самом главном, сняла батистовые панталоны, присела над тазиком и омылась водой. Она, как взрослая женщина, тщательно готовила себя к предстоящему свиданию. Панталоны оставила на стуле, решив, что теперь не стоит их надевать назад. Промежность предательски увлажнялась от мыслей о ласках Владимира. Скоро раздался легкий стук. Глаша отворила дверь и быстро впустила его в комнату.
Тот прошел, и по-хозяйски сев на кровать, стал стягивать сапоги и расстегивать пуговицы на рубашке и брюках.
– А почему это вы, сударыня, до сих пор не раздеты донага? – улыбаясь, спросил он. – A vous, mademoiselle![19] А ну ка, быстро раздевайся, не буду же я опять слишком долго возиться с твоими юбками и подвязками.
– Владимир, я полагаю, нам надо поговорить.
– Ну, вот… опять ненужные разговоры. Эдак, вы во мне все желание убьете, – недовольно поморщился он. – О чем вы, говорить изволите? Быстрее излагайте: мой жеребец слишком в стойле застоялся. Не мучьте его, любительница демагогий.
Глаша смутилась, но все, же решила продолжить разговор.
– Владимир Иванович, я девушка бедная, к тому же сирота. Меня каждый может безнаказанно обидеть.
– Глаша, ты живешь, не у чужих людей. Кто тебя здесь обидел?
– Мне нет оснований жаловаться, я за все благодарна вам и вашей матушке…
– Ну вот, опять завелась…
– Не перебивайте меня, я и сама собьюсь, – в голосе послышались плаксивые ноты.
– Пойду я, пожалуй – терпеть не могу женских слез, – он даже привстал в решительном порыве покинуть комнату.
– Нет, нет, останьтесь… Прошу вас! Вы знаете, что я люблю вас всей душою. Только за минуты встречи вы ни разу не обмолвились о своем обещании.
– Каком обещании? – он удивленно поднял брови.
– В ту ночь вы обещали, что женитесь на мне.
– Ах, это… Ну что же: раз обещал жениться, то непременно и женюсь, пожалуй.
– Правда? – фиалковые глаза засветились неземной радостью.
– Ну, конечно, правда… Когда я говорил неправду? Хватит болтать, раздевайся скорее.
Красная от стыда, но скорее от внезапного счастья, она принялась поспешно скидывать с себя одежду, он помогал ей, с наслаждением взирая на оголившиеся части тела. Сняв поспешно платье и одну за другой нижние юбки, Глаша осталась в одном тугом корсете, который поддерживал и без того, упругую, высокую грудь. От вида стройных длинных ножек, округлых белых бедер и вызывающе торчащих русых волос на лобке, у Владимира снова проснулся «старый друг»: темные кривые вены, словно корни диковинного древа шли вдоль мощного ствола от основания к красной пульсирующей головке. Повернув девушку спиной, Владимир тесно прижался им к роскошной попе и потерся, как кот об дерево. После, ловкие руки расшнуровали тугой корсет и скинули его на стул. Глаша стояла обнаженная и прекрасная, словно Венера. Он принялся целовать стройное тело, руки потянули ее к кровати.
Все настойчивей и определенней в Глаше зазвучал голос страсти, она настолько поддалась к нему в объятия, что он, тут же, повалив ее на спину, овладел ею. Его ритмичные движения снова вызвали боль – опять потекла кровь. Но теперь ей было не страшно: в обморок она не погружалась. Наоборот, к боли начало присоединяться чувство удовольствия. Она сама не заметила, как стала двигаться к нему: бедра сами затанцевали в бешеном ритме страстного танца.
– Как быстро ты, осваиваешь науку. Так, так сильнее подмахни, радость моя. L' amour fait danser[20]… О боже, как ты восхитительна.
Спустя мгновение, он кончил, отвалившись в сторону, усталые глаза закрылись темными длинными ресницами. Лежа на спине, кузен мгновенно уснул, придавив Глашу тяжелой рукой. Она, боясь потревожить его сон, лежала тихо, словно мышка: маленький нос уткнулся в широкое плечо. Рядом с нею слышалось мерное посапывание и глубокое дыхание спящего молодого мужчины. За окном надвигались тихие сумерки, где-то под крышей по-домашнему уютно стрекотал сверчок.
Ей не спалось: она пыталась осмыслить новые ощущения и чувства. Мысли ее, легкие как ласточки, снова полетели в заоблачные дали. Она начала грезить о том, какая у них с Владимиром будет свадьба; о том, как счастливо они заживут вдвоем; о том, как у них родятся дети: два мальчика и две девочки… Она даже начала представлять ангельски прекрасные лица своих детей.
Далекая, чуть заунывная песня деревенских баб на посиделках прервала мечты Глафиры:
Ах, запевай, подружка, песню, Запевай котору, хошь, А про любовь только не надо, — Мое сердце не тревожь. А про любовь только не надо, — Мое сердце не тревожь. Ах, два знакомые крылечка В памяти осталися: А на одном крыльце влюблялись, На другом рассталися. А на одном крыльце влюблялись, На другом рассталися. Ах, дорогой, такая сила Одолела вдруг меня: А сколько было – всех забыла, Не могу забыть тебя! А сколько было – всех забыла, Не могу забыть тебя!Владимир вздрогнул, глаза открылись, мутный сонный взгляд скользнул по Глашиному лицу.
– А, это ты? – странно проговорил он.
Он резко выпрямился: широкие плечи забелели в темноте.
– Я пошел, – хмуро обронил он, – ты спи…
Глаша не успела и рта открыть, как он, скоро натянув брюки, исчез в проеме дубовой двери, на подушке остался его темный, короткий волос и легкий аромат «Кёльнской воды»[21].
Глава 5
Владимир Махнев стал частенько захаживать к своей кузине. В основном, это были ночные визиты. О женитьбе он даже и не зарекался, словно навсегда забыл о своем поспешном обещании. Справедливости ради, надобно сказать, что обещание сие было слишком уж неубедительным. Оно могло вселить уверенность только неопытной Глафире, которая считала Вольдемара человеком честным и благородным. Любой, более искушенной светской особе была бы ясна суть таких невнятных обещаний, но только не ей. Она свято верила в совместное будущее с любимым кузеном.
Их встречи были столь же страстными: он потихоньку вел ее тропой познания все новых плотских наслаждений. Его ночные ласки были столь искусны и смелы, что Глафира, вспоминая днем о том, что он с ней вытворял накануне, впадала в оцепенение и давала себе обещания: что более не будет делать все эти постыдные вещи. Но наступала ночь, он приходил к ней тихо, словно лис, и… заново вертелась карусель. Она подчинялась его яркой страсти, шла на уступки смелой, безумной фантазии.
Летняя жара изнуряла горячим дыханием, пахло цветами, сухой землей, луговыми травами. С утра, пока было прохладно, Глафира гуляла по лесу, думая, бог знает, о чем. Большей частью – то были думы о Владимире. Она мысленно вела с ним диалоги, смеялась невпопад и хмурилась. Хорошо, что в эти минуты никто не видел ее лица: оно меняло выражение каждый миг, кроткая восторженность переходила в глупую улыбку. Она была не оригинальна: с точки зрения здравомыслящего обывателя почти все влюбленные, порой, выглядят глупо и совершают поступки, лишенные всякого смысла. Какой тут здравый смысл, если Глаша жила и дышала одним Владимиром? Она была больна им, больна насквозь, словно страшнейшей холерой или оспой.
Он же, в свою очередь, был полностью здоров и здравомыслящ. Глашу видел насквозь: душевная кротость, стыдливость, образованность, институтское прошлое с набором ложных и далеких от жизни представлений о благородстве аристократов, порядочность и чистота помыслов – все было при ней. А от того было забавнее искушать именно такую нежнейшую скромницу. Она была для него лишь очередным вкусным блюдом на роскошном столе удовольствий: что-то вроде свеженькой, нашпигованной пряностями и травами, куропатки. И не более…
Его стала тяготить вся любовная восторженность, надоели приливы нежности и разговоры о совместном будущем. Он решил: что, либо порвет с ней всяческие отношения, либо приучит ее к любимому занятию: групповым оргиям. И то, и другое – было сделать нелегко: разрыв с ней был чреват определенными сложностями. Махнев не любил разоблачений, скандалов и упреков в непорядочности. О связи могла узнать Maman. Последнее обстоятельство пугало его не сильно: обожающая мать шла на многие уступки сыну и закрывала глаза на его вольные шалости. И все же… Слишком уж, кузина была серьезна и возвышена, чтобы обойтись с ней подобным, подлым образом. Она не была похожа на очередную Дуняшу или Парашу, коих он обманывал и обесчещивал без счету. Те молчали, уливаясь горькими слезами, молча и без жалоб, ликвидировали последствия барской любви, если эти последствия становились очевидными. Кто-то и рожал нагулянных от барина, детей. Но, на то – они и рабыни его, чтоб воле барской без ропота покоряться. Глаша же, по форме не рабыня, могла стать по сути таковой. Да и желание было огромное: посмотреть на выражение лица сей скромницы, когда он откроет пред ней другие двери в темном коридоре зловещего замка плотских утех – двери, которые неминуемо приведут жертву на край Преисподней. В общем, он решил действовать, а там – «как карта ляжет».
Решил начать с малого. Пришел в ее комнату, когда стемнело.
– Глаша, на дворе духота, в доме тоже. Подходи через полчаса к купальне. Я там буду тебя ждать.
– Merci beaucoup,[22] Вольдемар! Bien sûr,[23] духота неимоверная. Я приду туда, любимый.
Владимир рассказал Игнату о том, что барыня пойдет с ним ближе к полуночи на купальню.
– Игнатушка, друг мой, я эти дни совсем забыл о тебе, родимый. Заскучал ты, небось, без меня? Да и мне порядком надоело играть в любовь с восторженной глупышкой.
– Да, вроде, не глупа она: все книжечки читает.
– Кому от книжек этих польза? – усмехнулся барин. – Я говорю: глупа, как гусыня. Устал я от нее: все вздохи, да поцелуи. Даром, что дворянка: а из того же теста, что и другие слеплена. А красота? Всего лишь beaute du diable[24]. Игнат, еще Сократ сказал: «Красота – это королева, которая правит очень недолго».
Приказчик в ответ только хмыкнул, в очередной раз, дивясь безграничной мудрости своего кумира.
– Ну, ее! Как там, Марусенька поживает? А Лушка, как? Поди, уж мочи нет обеим?
– Это точно! Мочи нету… Этим лярвам только подавай.
– Скажи, что скоро встретимся. Пусть, подождут чуток. Игнатушка, я сегодня Глашку на купальню-то приведу… Встану так, чтобы луна нас осветила – небо ясное, и все вокруг видать. А ты схоронись в кустах ракитника: воззришься на нее нагую. Это я тебе предлагаю сделать в качестве аперитива – аппетит твой подхлестнуть. Посмотришь на перси и бедра нашей куропатки, чтоб в будущем вкусить ее с желаньем. Идет?
– A-то бы, и не шло?! Я с радостью взгляну на дичь такую, – Игнат рассмеялся от удовольствия.
Глаша бежала по тропинке к барской купальне. Высоко в небе стояла полная луна, освещая все вокруг холодным ярким светом. Каждый куст виднелся в темноте: казалось, сияние Селены посеребрило ветвистые кроны, тонкие узорчатые тени лежали на земле, создавая сказочную картину. Девушка жадными глотками вдыхала ночной воздух, напоенный ароматами жимолости и отцветающего жасмина. Соловьи рассыпали немыслимые трели так, словно уводили нечаянного путника в страну беспробудных грез. Боже, как было хорошо! Как, она была счастлива: и от этой прекрасной чарующей ночи и от предстоящей встречи с любимым!
Он ждал ее возле беседки. В темноте белела знакомая рубашка. Лица не было видно. Подбежав к нему, она ткнулась в широкую грудь, губы искали его губы.
– Mon Cher, надеюсь, ты, не в платье?
– Нет, я в сорочке буду купаться, и халатик накинула.
– Divine[25]… Только никаких сорочек! Скидывай, все донага.
– Я боюсь: вдруг, кто увидит?
– Скажи на милость: кому надо моционы совершать в столь поздний час? Это у нас с тобой амуры, другие – спят давно без снов, уставши от работы.
Снимай все, S’il vous plaît.[26]
– Je vous en prie,[27] любимый, если ты, желаешь.
– Конечно, желаю. Ты знаешь: мне милее нагота, чем ворох юбок, да корсеты.
Ловкие руки помогли скинуть тонкую сорочку. Длинное стройное тело забелело в темноте плавными линиями. В лунном свете Глафира была подобна сказочной наяде, вышедшей на берег.
– Как хороша, чертовка! – прошептал Игнат. Он давно уже примостился в кустах и ждал, когда Глаша снимет одежду.
Она подошла к воде: тихая ровная гладь пруда серебрилась лунными бликами; вдалеке слышалось многоголосое кваканье лягушек; редкие всплески мелкой рыбешки создавали рябь на воде; отсвечивая золотом и сияя от лунного света, легкие круги шли к берегу, рассыпаясь множеством ярких, словно россыпи бриллиантов, искорок. Глаша вошла в воду по щиколотку и тут же выскочила обратно: холодная вода лизнула горячие подошвы ног, плеснула брызгами на стройные икры.
– Лезь в воду, трусиха! – крикнул ей Владимир.
– Холодно! Я боюсь, – она оглянулась. Он стоял рядом, тоже обнаженный. В темноте отчетливо виднелось его мужское достоинство, покачивающееся при каждом движении.
Не дав опомниться, он с шумом кинулся в пруд, его сильная рука увлекла ее за собой. От холода и неожиданности, у Глаши перехватило дыхание. Гулкое эхо разнесло в ночи шум от плеска воды, смеха и громких голосов.
– Ну, прямо как дети, честное слово… – прошептал Игнат. – Долго я тут еще лежать буду? Когда же, главный «спектакль» начнется?
А «спектакль» не дал себя ждать… Немного поплескавшись, любовники вышли на берег и побежали к стоящей рядом, беседке. Выйдя из воды, Глаша тут же покрылась «гусиной кожей», груди стояли торчком, нежные соски отвердели, словно ранетки дикой яблоньки. Владимир обтирал ее полотенцем и страстно целовал, говоря ласковые слова. Ворсовое покрывало легло на деревянный пол беседки, возле входа. Он лег на него, и велел ей тут же сесть сверху в позе «наездницы» на стоящий без меры, холодный от воды, член. На секунду ей показалось: все, что он делал, было более порывисто и открыто, словно он играл спектакль перед невидимым зрителем.
В кустах лежал Игнат и жадно всматривался в любовный танец двух обнаженных тел, ему было видно почти все: и стоящий высоко фаллос и то, как Глафира садилась на него, раздвигая полные ноги и приподнимая кверху роскошный, широкий зад. Он слышал ее страстные стоны и сам возбудился: стоило огромных усилий сдержать себя и не броситься к любовникам, чтобы составить им компанию. Очень хотелось войти своей горячей стальной плотью в плотное кольцо темнеющей свободной норки. Но, сей порыв был бы крайне неуместным, учитывая неподготовленность Глафиры к подобным экзерсисам.
Владимир крутил Глашу из стороны в сторону, ставя на колени и заставляя ласкать его губами: нарочно убирал волосы от ее лица, обнажая непристойную картину. Он знал: за ними наблюдают, и это обстоятельство возбуждало его еще больше.
Когда все кончилось, он быстро проводил ее до дому и вернулся назад к купальне. На широкой скамейке сидел Игнат и курил сигару.
– А ночь действительно, чертовски хороша! – проговорил радостно Владимир, – Игнат, ты не замаялся лежать в кустах?
– Да нет, ничего…
– Ну, как она тебе?
– Уж, очень аппетитна… Такой афедрон – я еле выдержал, чтобы не подойти к вам.
– Ха, я так и думал! Подожди, немного: несколько дней, и ты тоже будешь ею обладать, мы вместе это будем делать.
– Захочет ли она? Я сомневаюсь что-то…
– Игнат, да ты ли это говоришь? На что нам водка и опиум? Ты думаешь, она устоит? Нет друг, падет и эта. У ней темпераменту поболее других. Сама под нас попросится. Куда же ей деваться? Видал, как прыгала на мне?
– Да уж, видел. Запоминающееся зрелище – нечего сказать. Быстро вы ее объездили…
– Веришь, я и сам удивлен. Она спускает так, как оные в летах не могут, у коих опыт есть в делах амурных и дюжина отменных кобелей, всегда готовых сучку ублажить.
Игнат хмыкнул в ответ и покачал задумчиво головой.
Прошло три дня. Владимир избегал Глафиры: он делал это намеренно, чтобы поселить в ее душе тревогу. Она искала повод встретиться с ним. Глаза наткнулись на его фигуру в коридоре, в его руке был конверт.
– Владимир, вы, избегаете меня? Я в чем-то виновата? – спросила она, в голосе послышалось плохо-скрываемое волнение, руки нервно теребили оборки платья на высокой груди.
– Ну, с чего ты взяла? У меня просто много дел. Не должен же я одной тобою заниматься? – ответил он холодно.
У нее навернулись слезы. Он взял ее за руку и повел в комнату. Плотно прикрыл дверь и хмуро произнес:
– Mademoiselle, вы делаете мне компрометацию слезами.
– Боже, раньше вас это не пугало, – ответила она, всхлипывая.
– Вы знаете: я не терплю женских слез. Вы рискуете – я охладею к вам. Займитесь, право, делом каким-нибудь полезным. Оно вас отвлечет от глупых мыслей.
Она покраснела в ответ и гордо отвела взгляд.
– Вот, матушка письмо прислали. Извещает, что здорова, и еще немного погостит у мадам Расторгуевой. Да вы и не слушаете меня?
– Я слышу вас, Владимир. Мне кажется, что вы переменились ко мне…
– Хорошо, вы вынуждаете: я буду с вами откровенен. Мою натуру, сударыня, познать вам не дано, я и сам себя порой, не знаю. Одно могу сказать: я слишком далек от амурных вздохов при луне. Вы, в силу молодости своей, реальную оценку событиям дать, не способны. Как, это не печально: не влюблен я в вас, и не в одну другую тоже… Не скрою: вы мне приятны, и ваши прелести во мне зверский аппетит невольно вызывают. Чего только, ваша попка сладкая стоит… Когда голодный я – могу и закусить изрядно!
Глафира стояла, словно молнией пораженная.
– Я вам не курица на тарелке… Господи, как обманулась я, – горько проговорила она.
– Советую подумать хорошенько обо всем и не усложнять ситуацию ложными сентенциями. Зря вы, обиделись. Я к вам прекрасно отношусь, и обижать вас не намерен. Мы можем также встречаться, когда у меня желание возникнет… Словом, вам решать. Не захотите более, и к вам я не приближусь.
Он ушел, хлопнув дверью. На следующий день рессорная карета, запряженная тройкой лошадей, увезла его по неотложным делам.
Глаша чувствовала себя такой несчастной, что ей казалось: она умрет, не выдержав душевной муки. «Что делать мне теперь?» – думала она, словно в лихорадке. В голове был настоящий хаос от новых впечатлений, от грубости любимого, от очевидности того, что он ее не любит. «А может, он специально так сказал, чтобы позлить?» – хваталась она за внезапную мысль, словно утопающий за соломинку, – «не мог же он притворствовать, когда целовал и обнимал меня крепко? Нет, этого не может быть».
Глаша нервно ходила по комнате, заламывая руки. Время от времени она падала на пол перед иконой и начинала истово молиться.
Она казалась себе ужасной грешницей, падшей так низко, что, казалось – падать некуда. «Как же я искуплю, теперь перед Господом, столь страшный грех?» – плача, думала она, – «я же – несчастная сирота, и мне совершенно некуда идти от своего погубителя. Наивная… Как смела я хоть малую надежду питать о свадьбе с этим человеком? Как глупо и жалко я выглядела. Он, верно, смеялся надо мной».
«Уйду на вечное моление в женский монастырь. Только там теперь мне место», – мысли унесли ее в темноту монашеской кельи, на миг показалось, что пахнуло сыростью и тленом. – «Неужто, я весь век промаюсь монашкой, покуда не превращусь в старуху? Как муку вынесу – его не видеть никогда? Того, кому жертва сия покажется лишь смешной».
«А может, лучше прыгнуть в пруд и утопиться, оставив мучителю записку? Может тогда он всплакнет над моим хладным телом, когда багор подтащит его к берегу?» – слезы потоком лились из ее прекрасных глаз.
Подушка промокла, на ней Глафира и уснула. Когда проснулась, плакать не хотелось. Она привстала, распахнула окно: в комнату ворвались живительные ароматы летнего вечера; запахло свежескошенной травой с примесью земляники, клевера, ромашки, васильков и горькой полыни. Этой сочной травой приказчик Игнат кормил своего распряженного красавца жеребца: смуглые руки любовно поглаживали черную, словно воронье крыло, блестящую холку, пальцы путались в шелковой длинной гриве. Теплые мягкие губы жеребца подбирали траву с рук хозяина, тонкие и мускулистые ноги нервно пританцовывали. Игнат смотрел на коня, как на любимого шаловливого ребенка, и шептал ему на ухо что-то: никому неведомое. Глаша невольно залюбовалась высоким черноглазым Игнатом, который с такой нежностью, охаживал своего любимца. «Странно…» – подумала Глаша, – «каким добрым кажется этот казак, а дворовые бабы рассказывали о нем всякие страсти…»
Мысли путались в молодой голове. Самым мучительным было то, что не смотря ни на что, ее безудержно тянуло к Владимиру Ивановичу. Тело сводила сладкая истома при малейшей мысли о нем, о сильных руках, о звуках низкого голоса – такого волнующего и мужественного. Она вспоминала его запах – запах молодого мужского пота, смешанного с легкой примесью дорогого английского табака и тонкого аромата французского одеколона. Нравилось, как пахнут его высокие кожаные сапоги и тончайшие белые сорочки. Ее безумно возбуждали воспоминания о том, как красиво выглядит его плоский, упругий и волосатый живот, ниже которого шло совершенное творение природы – его величавый и прекрасный фаллос.
«Этот афей[28] намекнул, что я могу быть его постоянной наложницей. Смешна и печальна моя участь. Стать фактически его рабой, конкубиной[29]… Пусть так… Я испью эту чашу до дна. Потом погибну… Но, мне – все равно. Разлучиться с ним тотчас: я не в силах. А там – как богу угодно», – с этими мыслями она и уснула – уже до утра.
Владимир вернулся через два дня. Увидев ее спокойное кроткое лицо, он подошел к ней вплотную.
– Mademoiselle, как вы себя чувствуете?
– Не так уж плохо, как могла бы. Владимир, не стоит притворствовать, что вас волнуют мои чувства. Своя печаль у каждого в душе. Я постараюсь вас более не тяготить душевными переживаниями.
– Что слышу я? Неужто, вы становитесь взрослее? В вас голос разума настойчиво звучит.
– Возможно… Я пойду, пожалуй.
– Ну, нет, птичка моя, твой хозяин сильно скучал по тебе. Иди, мой воробышек, я перышки мягонькие твои поглажу, – смуглая рука крепко схватила ее за талию. Притянув к себе, он впился в губы поцелуем. – Я, правда, сильно скучал. Приходи сегодня вечером к банному срубу, ты видела его не раз: он стоит недалеко от купальни. Я буду ждать тебя там ровно в семь.
Она, молча, освободила руки и ушла, не сказав ни слова.
«Придет – я чувствую… Или провалиться мне на этом месте», – подумал он, глядя ей вслед.
Чего только стоило Глафире внешнее спокойствие… Она молчала перед ним, а сердце рвалось наружу: «Позвал, сказал, что соскучился. Чего же надо мне еще? Я таю вся от предвкушения близости с ним» Спустя минуту, думала иначе: «Вот, прекрасный повод щелкнуть его по носу. Он будет ждать, а я и не приду. Именно так – возьму и не приду. Ах, это – глупо, он утешится другою. Что я добьюсь? Буду лежать на постели и думать о его объятиях?
Нет, это невыносимо».
Она снова задремала от жары. Проснулась, когда вечерело. Вскочив испуганно с кровати, поняла, что может опоздать к назначенному времени. Глаша осторожно проскользнула в столовую и посмотрела на висящие на стене Шварцвальдские часы с кукушкой. Они показывали половину седьмого.
Наскоро приведя себя в порядок, поспешила к господской бане. Баня стояла вдалеке от основных домов, рядом с уединенной частью пруда. Несколько старых плакучих ив, стелящихся длинными ветвями по воде, огибали то место, где был выход из бани. Это был большой двухэтажный сруб из теплой душистой лиственницы. Когда Глаша подошла к бане, из трубы на крыше уже вовсю шел дымок. Из полуоткрытых сенцев веяло каким-то домашним теплом. Она, стараясь ступать неслышно, словно мышка, подошла и робко постучалась в тяжелую дверь. Каково же было удивление, когда дверь бани распахнулась, а на пороге стоял приказчик Владимира – Игнат Петров и вызывающе ухмылялся в густые черные усищи. Глафира Сергеевна вспыхнула от негодования, и хотела тут же гордо удалиться.
– Куда, куда, барышня, это вы решили «деру дать»? – посмеиваясь, спросил ее Игнат. – Вас уже, чай, барин-то ваш заждался. А ну, стоять!
Он ловко поймал девушку за руку: сильные, почти стальные пальцы вцепились в тонкое запястье. Миновав просторные сени, Игнат, легонько подталкивая в спину, завел Глашу в просторную и теплую банную горницу.
В горнице было светло от множества горящих свечей. Посередине располагался огромный дубовый стол, покрытый светлой расшитой скатертью. На столе стоял медный, начищенный до блеска, горячий самовар. Затейливый, тончайший китайский сервиз с перламутровыми цветами манил к себе душистым, крепко-заваренным чаем. Тарелки с разнообразными яствами могли притянуть искушенный взгляд сельского гурмана. Маковые баранки, свежие ореховые кренделя, румяные пироги с визигой, зажаристые пряженцы с мясом, прозрачный липовый мед, прошлогодняя моченая брусника, первая клубника и свежие сливки – все это было щедро разложено на столе. Чуть поодаль стоял графинчик с хмельной смородиновой листовкой[30] и темная бутылка Люнели[31].
Горница была уставлена тяжелой дубовой мебелью: красные бархатные подушки лежали на высоких резных стульях, широкие гладкие скамьи стояли вдоль бревенчатых стен. Всюду красовались белые домотканые, расшитые красными диковинными птицами, рушники и полотенца. На стенах висело несколько самописных картин с незатейливым пасторальным сюжетом. По всей горнице парил особый дурманящий банный дух, состоящий из смеси ароматов сосны, березы и можжевельника. В белой каменной печи потрескивал огонь. Вся эта милая и домашняя атмосфера так пришлась по сердцу Глафире, что она немного успокоилась.
Во главе стола восседал наш Владимир, улыбаясь белыми чистыми зубами. Торс мужчины был обнажен, на нем были надеты лишь легкие парусиновые брюки и домашние туфли. Широкие, слегка загорелые плечи поигрывали мускулами в ярком свете свечей. Мокрые волосы зачесаны назад. Чисто выбритое лицо немного розовело после парной. Держа породистой длинной ладонью английскую регалию[32], он курил, прищуриваясь; черный пепел подтаивал и легко падал в серебряную пепельницу, инкрустированную восточными письменами и кружевной арабской вязью. Серые глаза с холодной усмешкой посматривали на растерянную Глашу. Она, не давая себе отчета, во все глаза таращилась на любовника, вбирая в себя, каждый его жест. В душе Владимир понимал: эта девушка интересна ему лишь до тех пор, пока на ее лице сохраняется выражение детского испуга, обаяние восторга, гордой кротости и удивления.
Ленивым жестом он пригласил ее за стол, и сам налил в чашку душистого чая. Глаша, аккуратно прихлебывая из блюдечка, начала пить горячий напиток; робкая рука потянулась за маковой баранкой; блестящие глаза с любопытством и обожанием поглядывали на непредсказуемого любовника. Она старалась отвести их в сторону и делала вид, что с усердием рассматривает вазочку, наполненную янтарным медом, в густом плену которого навек застыла маленькая полосатая пчелка.
Приказчик Игнат, с улыбкой наблюдая всю эту трогательную картину, поднялся на второй этаж. Девушке послышалось, что он там с кем-то перекинулся парой слов, были и другие неясные звуки, вроде мычания и постанывания, но вскоре все стихло за крепкими дубовыми дверями.
– Ну, ладно, хватит тебе чаевничать, – вдруг резко сказал Владимир. – Ведь, не за этим ты сюда пришла.
Глаша послушно отряхнула руки от налипших крошек и отставила от себя чашку.
– Иди, раздевайся быстро и заходи в парную, – приказал он.
Глаша, исполнила все, что он сказал. Путаясь в застежках и юбках, она сняла и аккуратно сложила вещи на скамеечку. Прикрывая одной рукой лобок, другой большие груди, босая и беззащитная, зашла в парилку к Владимиру.
– Владимир Иванович, скажите, а Игнат к нам не зайдет? – шепотом спросила она.
– Mademoiselle, не задавайте ненужных вопросов. Я сам вас буду понемногу просвещать. Раз вы пришли сюда: знать – согласны на многое. Хочу, чтоб уяснили вы, что все и всегда решаю только – я. Я сам – вершитель многих судеб; сам – судья; сам – царь и господин; и палачом, порою, я бываю; сам – милую; сам – прогоняю с глаз долой; награды – сам даю, коли желаю, – он расхохотался. – Видишь, я порой стихами говорю, особенно, когда «приму на грудь»… А в общем, знай: я главный кукловод и дергаю за нитки. Мне решать: какую куклу любить, какую – ненавидеть, и сколько кукол будут танцевать.
– Владимир, вы – чудовище…
– А ты, не знала? – он снова рассмеялся, – я – деспот, но от этого любовь твоя сильнее. Женская любовь является загадкой природы. Отчего вы не влюбляетесь в хороших, добродетельных мужчин? Вам негодяев только подавай. Вот, и кушайте на здоровье! Ладно, не смотри так – глаза на мне оставишь. Поменьше удивляйся – больше исполняй. Готова, если – оставайся, а если нет – пока не поздно, убегай.
Глаша стояла и, молча, смотрела на него, казалось: она спит и видит странный сон.
– Да никуда ты не побежишь. Любовь похуже яда, она хуже самых толстых цепей. Любовь делает нас рабами. Любовь нас унижает, а порой и убивает. Успокойся, я подарю тебе взамен такие наслаждения, о которых и не слышали в раю… А в общем, хочешь, иль не хочешь – уж все равно тебя не отпущу, – серые глаза светились насмешкой.
Парная, в которой стояла обнаженная Глафира, была достаточно большая. Освещение здесь было хуже, чем в банной горнице. Свет шел только из небольшого оконца, за которым уже слегка вечерело, и от пламени огня в калильной печке. Дубовые, ладно-сколоченные шайки, крепко стояли на широких полках, из них густо валил душистый пар: березовые и можжевеловые веники мокли в крутом кипятке. Владимир стоял абсолютно голым. Глаша долго не могла понять: чего не хватает на его обнаженном теле? И вдруг, смутная догадка неприятно поразила и взволновала ее душу – на груди кузена не было нательного креста. «Снял он его или потерял? Боже, я и раньше, кажется, не видела на нем тельника…Что бы это значило?» – рассеянно рассуждала она. Но он посмотрел ей в глаза, и она тут, же позабыла о своей тревоге. Внезапно, ей стало очень жарко от горячего белого пара, плотным облаком он окружил фигуру девушки. Капельки пота выступили на порозовевшем гладком теле. Длинные волосы прилипли к мокрой спине и ягодицам.
– Ты, сначала помойся, как положено, а потом я тебя отхлещу веничком, – спокойно сказал Владимир. – Вот возьми, я привез его из Франции, – в его руке оказался скользкий кружок пахучего лавандового мыла.
Глаша послушалась: привычными движениями намылила себя всю – с головы до ног душистым мылом, а после окатилась несколькими шайками воды. Владимир Иванович спокойно наблюдал за ее движениями. Глаше стало почему-то странно и по-женски обидно, что сегодня член Владимира не стоял так сильно: а ведь между ними долго не было близости. Она догадывалась: мужчина уже разрядился, и случилось, видимо, это совсем недавно. От обиды и ревности она кусала губы: казалось, готова была расплакаться: «Кто, же она? Кто та, с кем ему было хорошо?»
Владимир уловил едва заметные изменения в ее лице и, не давая опомниться, приказал лечь на одну из широких лавок. Глаша послушно легла животом на горячую лавку. Распущенные мокрые волосы она убрала в сторону: обнажилась узкая спина, талия и большая круглая попа. Стройные и длинные ножки девушки лежали сомкнуто вместе, заканчиваясь розовыми маленькими пятками и вытянутыми носочками. Две половинки округлого, словно спелое яблоко зада, были сжаты от напряжения.
Владимир поддал жару, плеснув воды на раскаленные камни. Белый горячий пар сильнее заклубился по парилке. Владимир принялся хлестать девушку березовым веником, сначала легкими поглаживающими движениями, а потом более сильными и жесткими. Глаша вся раскраснелась и разомлела. После этого он заново намылил ее всю, и велел: не вставая, лежа на животе, пошире раздвинуть ноги. Намылив пальцы на руке, он прикоснулся к промежности Глаши и раздвинул ее ягодицы.
– Значит так, сударыня, до этого, мы с вами упражнялись только с вашей прекрасной и сочной верхней дырочкой, которая пришлась весьма по вкусу моему ретивому жеребцу. Теперь же, мы приступим к месту, кое трогает меня в вас гораздо больше, чем все другие отверстия. Я говорю о вашей нетронутой задней норке. Так вот: я буду упражняться с ней столько, и до тех пор, пока она с легкостью, и великим удовольствием, начнет сама заглатывать моего любимого друга.
Сказав этот монолог, Владимир начал аккуратно вводить в тугой анус девушки один, потом два пальца, круговыми движениями слегка растягивая его. Он, то вертел и крутил длинными скользкими пальцами, пытаясь протолкнуть их как можно глубже, то брался руками за ягодицы девушки и легонько разводил их в стороны. Глаша невольно вскрикивала от неожиданности и новых, не совсем приятных ощущений.
– Владимир, не надо так. Зачем вы? Туда не надо, – захныкала она и сжалась.
– Терпи, терпи, моя дорогая, тебе все равно не миновать этой ласки! – прикрикнул он, его ладонь звонко шлепнула ее по спелому заду. – Расслабься лучше, не сжимай врата, иначе будет хуже.
«Господи, что он делает? Какой стыд. Мне неприятно это. Чего еще мне ждать? Неужто и это место годно для любви?» – испуганно думала она.
– Ай!
– Чего ты айкаешь?
Он наклонился к ее лицу и крепко поцеловал в раскрытые губы, перехватив очередной короткий стон.
– Но сегодня я тебя пожалею, дорогая, и не сильно потяну. Тебе повезло: я спустил накануне два раза, но сей факт оставим без комментариев. Твое мнение на этот счет меня вовсе не интересует.
Сказав это, Владимир приподнял роскошный зад Глаши, и поставил ее на четвереньки.
– А теперь, раздвинь ягодицы в стороны сама и посильнее. Ну? Делай, как я тебе говорю, – сказав это, он ввел уже три пальца и стал скользить ими, все больше расширяя просвет.
Глаша, постанывая, выгнула спину. Ощущения были очень новыми для нее, в то же время, она почувствовала, что безумно возбуждена и хочет разрядки. Изощренный любовник не дал ей этого сделать: хотя прекрасно видел ее томление. Достаточно было всего лишь прикоснуться к опухшему лону, чтобы ее захлестнула волна мощного оргазма.
– Хорошего – помаленьку, на сегодня хватит, – жестко сказал он и, окатив девушку чистой водой, велел ей одеваться.
Глаша, горя от возбуждения, вынуждена была повиноваться. Вытерев себя насухо, и надев чистую нательную рубашку, девушка обиженно расчесывала мокрые волосы, когда Владимир Иванович, уже в брюках подошел к ней и сказал:
– Mon cher, останься в одной рубашке, и пойдем наверх, я приготовил для тебя сюрприз.
Глава 6
Глаша, с тревогой глядя на Владимира, вынуждена была подчиниться. Сильная рука схватила запястье, он потащил ее на второй этаж бани. Шлепая босыми ногами вверх по сухой и теплой деревянной лестнице, с трудом поспевая за ним, она, даже в страшном сне не могла представить, какой сюрприз уготован ей наверху. Сюрприз, который сильно потрясет воображение бедной девушки.
Очутившись на втором этаже, Владимир толкнул тяжелую дубовую дверь. Дверь со скрипом отворилась, взору предстала на первый взгляд, странная и непонятная картина. Глаша увидела что-то, невиданное ею никогда ранее, а от того, такое страшное. Собрав в сознании все части разрозненной картины в единое целое, она, наконец, поняла, что перед ней, у нее случился внутренний шок.
Владимир, заглядывая ей в лицо, испытывал ни с чем несравнимое удовольствие от чувств и смятения, которые отразились на нем. Ему нравилось поражать ее неискушенное воображение и бесконечно сбивать с толку, не объясняя суть происходящих вещей.
Комната на втором этаже бани была чем-то похожа на горницу снизу, только просторнее. Вместо обеденного стола в ней располагалась большая, удобная кровать с красным бархатным балдахином. Множество белых и красных пуховых подушек и тюфячков было разбросано по кровати, льняная простынь натянутая по поверхности, поражала чистотой и свежестью. Рядом с кроватью поблескивая гладким полированным верхом, стоял трехногий маленький столик. Ваза с фруктами, пара бутылок вина, высокие бокалы и коробка с тонкими иноземными сигарами – все это красовалось на нем.
Зеленый плюшевый диван с большими подлокотниками и золотистыми кистями вальяжно расположился около другой стены. Рядом с диваном стоял огромный стол, на котором в беспорядке валялись кожаные канчуки, разномастные плети и какие-то незнакомые деревянные предметы, о предназначении которых, Глаша даже не догадывалась. В комнате было несколько стульев, мягких пуфиков с шелковыми красными подушками, два красных кресла, пара странных табуретов и прочих непонятных, бедному разуму Глаши вещей. Была здесь и желтая китайская ширма, в тени которой пряталось нечто рогатое, похожее на диковинный ткацкий станок с широким и гладким седлом и кожаными ремнями.
Полные обнаженные дамы в различных непристойных позах томно взирали с больших полотен, развешанных по бревенчатым стенам. Причудливо изогнутые, кованые жирандоли[33] ярко освещали всю комнату.
Но главным было другое… Посередине комнаты, на небольшом возвышении стояла странная скамейка, состоящая из двух широких ступеней. На этой скамейке животом книзу и огромным мясистым задом к зрителям, была привязана обнаженная женщина.
Голова и руки женщины были вставлены в некое подобие деревянных тисков так, что она практически не могла ими пошевелить. Мало того, матерчатый кляп плотно прикрывал разверзнутый, до неимоверности, рот. С подбородка двумя дорожками стекала слюна. Выпучив круглые, голубые глаза, женщина мычала что-то невнятное. На щеках и покатом лбу от натуги выступили красные пятна. Влажное лицо блестело в ярком свете свечей. Арбузные, белые груди с большими красными сосками лежали на верхней ступеньке этой лесенки. Круглый живот плотно упирался во вторую ступеньку. Полные в ляжках ноги женщины были привязаны за тонкие щиколотки веревками, концы которых крепились за два стоящих столба по обеим сторонам этой изуверской конструкции, и разведены широко в стороны. Белесые и мокрые волосы были завязаны на затылке в тугой пучок. Обильное, молочно-белое тело блестело капельками пота и слегка розовело, видимо, после недавнего мытья в бане. Разверзнутая большая промежность женщины ярко краснела на фоне кустиков редких светлых волос. Но, самым впечатляющим было то обстоятельство, что… в ее промежности торчал толстый и нелепо зеленый, огородный… огурец. Именно этот огурец на фоне ярко красной, влажной от соков плоти, освещаемый ярким пламенем свечей, так сильно и неприятно поразил воображение бедной Глафиры Сергеевны.
Пару минут несчастная девушка стояла и с трудом соображала: что это такое, и зачем здесь стоит, фиалковые глазищи таращились на всю эту нелепицу. Потом из груди вырвался визг, ладошки прикрыли красное лицо, ноги затопали от негодования.
– Monsieur[34], Вольдемар, qu'est-ce que c'est?![35] Pourquoi?! Pourquoi?![36] – глухие рыдания перекрывали слова. – Уведите меня отсюда. Я не желаю сие наблюдать. Это отвратительно!
– Mademoiselle, прекратите истерику, – проговорил Владимир. – Сядьте, и успокойтесь. Игнат, налей ей для начала, вина.
Глаша почувствовала, как чужие твердые и сильные руки отняли ладони от лица, подвели к кровати и заставили сесть. Перед глазами все плыло и искрилось от слез. Послышались звуки льющейся жидкости, пахнуло терпким виноградным вином, перед лицом оказался бокал янтарной мадеры.
– Пейте, mademoiselle, пожалуйста! – проговорил Игнат хриплым голосом, – вам станет значительно легче.
Глаша выпила вино большими глотками, по телу разлилось приятное тепло. Игнат подошел к ней вплотную, заботливая смуглая рука вытерла платком щеки от слез.
– Владимир Иванович, я считаю неуместным свое нахождение в этой комнате. Позвольте, я покину вас, – уже спокойнее, с достоинством сказала она и… икнула.
Оба мужчины рассмеялись.
– Mademoiselle, вы наивны, если полагаете, что я позволю вам оставить нас. Час тому назад я честно предложил вам сбежать из этого дома: пока было не поздно. Вы не воспользовались этой возможностью. Более того, вы даже не сдвинулись с места. Ваши глаза горели похотливым огоньком, вам приятны были все мои ласки. Отчего вы, не доверяете себе сейчас? Что вас так смутило? Эта голая рабыня? Ее вид вы находите неуместным? Но, это – заблуждение. Рабы нам и даны в полную власть и служат к удовлетворению потребностей плоти. Или вы вообразили себе, что удовлетворять потребности желудка пищей, которую взрастили рабские руки более благородно, чем удовлетворение желания мужского естества? Право – это смешно… Я в университете изучал многие науки, и с легкостью мудрого софиста смогу доказать сей логический парадокс: господь создал нас по образу и подобию своему; каждый орган в нашем теле священен и жизненно необходим; потребности пениса так же важны, как и желудка; пенис достоин их удовлетворения; удовлетворение потребностей пениса – является богоугодным делом. – Он рассмеялся от удовольствия, внутренне поразившись ловко-придуманной логической цепочке.
– Вы совсем запутали меня, Владимир. От ваших рассуждений идет кругом голова, – прошептала она, всхлипывая.
– А вы, голубушка, сбросьте все ненужные предрассудки и постарайтесь прислушаться к себе. К тому, что вы желаете. Поверьте, перед вами откроются совсем иные горизонты познаний. Вы слишком зашорены общественной моралью. Она не дает нам воли для фантазии и смелости поступкам. Отбросьте все приличия, что навязало общество. Постарайтесь получить удовольствие от природы и тела своего, как это делали эпикурейцы. Наслаждайтесь, а не страдайте. Человеческий век так короток. И мы исчезнем скоро, о нас забудут очень быстро другие поколения живых. Было бы глупо не вкусить плодов на щедром столе познания наслаждений. В моих философских взглядах полно эклектичности. Одно скажу: мне ближе те, что учат человека не страданию, а счастью… Надеюсь, вы помните знаменитую строчку у вашего горячо любимого Байрона: «Мудрецам внимают все, но голос наслажденья всегда сильней разумного сужденья!» Позвольте, и вы себе побыть счастливой и вкусить сладость запретных плодов. Поверьте, эти яблочки намного вкуснее нашей антоновки, – на его губах играла ироничная улыбка.
Глаша задумчиво молчала, Владимир продолжал.
– Глафира Сергеевна, надеюсь, вы не будете отрицать тот факт, что каждая женщина мечтает быть любимой и желанной?
– Не буду отрицать: мечтает быть желанною супругом, любящем ее.
– О, боже, какая скука, – поморщился он, – а ежели, супруг осточертел хуже горькой редьки? Если глуп он беспробудно, или пьяница, иль просто некрасив? Если ложиться с ним в постель – сплошная мука? Как тогда?
– Ну, я не знаю… Наверное, такова судьба и надо покориться.
– Судьба – судьбой, а вы-то тут причем? Простите, вы мне напоминаете овечку: ее ведут на заклание, а она и блеять не решится. Та же резигнация[37] судьбе.
– А что вы предлагаете?
– Я предлагаю вам почувствовать себя хозяйкой судьбы, женщиной, наконец. Позволить многое, не думая о последствиях. Тем паче, что женский век короче мужского. Уж, сколько вам цвести осталось? Лет десять или пятнадцать, может быть… Хотел бы я, чтобы на склоне лет вы вспомнили проказы молодости и вслух себе сказали: «Да, я была чертовски хороша; меня любили; я любила; и время не теряя зря, хотела что – сполна я получила!» – он улыбнулся. – Во мне точно умер поэт… А могу опять упомянуть вашего любимого Байрона:
«…Ему, однако, было пятьдесят, А Клеопатре – сорок! Цифры эти Не столь уж обольстительно звучат, Как «двадцать» и «пятнадцать»… Все на свете Стареет; да, – увы! – года летят, Мы чувства сердца, пылкие в расцвете, Теряем, и способность полюбить Нам никакой ценой не возвратить…»– Так что же, Глашенька, когда лучше предаваться плотским радостям – сейчас, когда вы так юны, свежи и хороши, или, когда вы будете ровесницей Петровны, матушкиной горничной? Не оттого ли она и дамы, подобные ей, так благочестивы и набожны, что поздно им грешить? Вы хотите их печальной участи? Держу пари: Петровна перестала бы еженедельно бегать на исповедь и сплетничать, если бы ей боги преподнесли самый щедрый на свете дар – красоту и молодость. Я и тут склонен процитировать классиков, как там у Мольера: «Крепчает нравственность, когда дряхлеет плоть!». Глафира Сергеевна, я устал от красноречия и доводов. Мне казалось, что в вас достаточно ума, чтоб сделать правильные выводы.
Глаша решительно встала и, подойдя к столику, налила еще бокал вина. Осушив его до дна, посмотрела на всех бессмысленным ведьминским взором. В эти минуты она была особенно красива.
– Ну, что же вы, остановились, Вольдемар?
– Любуюсь вами, Mon Cher! Похоже, из вас со временем выйдет достойная Диониса, вакханка.
– Господа, позвольте мне вмешаться в ваш милый спор? – хрипло проговорил Игнат. – Мне Лушку отвязать? Или вы, Владимир Иванович, еще уделите внимание этой рабыне?
– Ха! Совсем забыли про бедняжку. Лушенька, душка, твой барин помнит о тебе. Сейчас тебя он ласкою своею одарит.
Привязанная женщина промычала в ответ что-то нечленораздельное и закивала круглой белой головой.
Глаша узнала привязанную женщину. Эта была крепостная Махневых – Лукерья Потапова или попросту, Лушка. О ней в Махневе дворовые бабы говорили, как о женщине разбитной и острой на язык. Приписывали ей так же разгульный образ жизни, намекая на то, что «слаба баба на передок». Ее мужа завалило огромным бревном на вырубках, и Лушка осталась двадцатипятилетней бездетной вдовой. Замуж ее никто не взял, так как о ней по деревне шла по следам дурная слава. Единственный ее ребенок появился на свет мертворожденным. Горевала о случившемся Лушка недолго. С тех пор, не имея ни к кому особых привязанностей, Лукерья Потапова вела довольно свободный образ жизни. Внешне она была весьма приятной наружности. Немного полная, она ходила по деревне перед мужиками сильно виляя мощным задом, и красуясь белыми руками и большой, аппетитной грудью, увешанной разноцветными стеклянными бусами. Глаза у Лушки были чуть выпуклые и бесстыжие, ярко голубого, василькового цвета, нос курносый, а губы пухлые, немного бледные. Ходила она всегда чисто и опрятно, надевая на себя узкие по талии кофты и яркие цветастые юбки. Шелковые платки с кистями украшали ее голову по праздникам. Любила Лушка бросить среди дня работу, подбоченись и, выпятив большую грудь, постоять и позубоскалить с дворовыми молодыми работниками. Громким натужным хохотом отвечала на их сальные намеки. Бабы ее не любили. И часто, наблюдая за ней со стороны, говорили: «Ишь, как черти-то, ее сучку, полоумную разбирают…».
Вот эта самая Лушка и оказалась главным действующим лицом всей этой похотливой до невозможности, сцены. Именно она была так чудовищно выставлена напоказ всеми своими прелестями.
– Вы помните, Глафира Сергеевна, что я вам говорил о том, кто здесь главный режиссер спектаклей?
Она кивнула, по губам пробежала горькая усмешка.
– Так вот, я ввожу вас в таинства моих свободных развлечений. И для начала, хотел бы попросить, чтоб вы сидели смирно и вольности не проявляли. Привыкните пока. Придет и ваш черед.
Владимир присел на кровать, облокотившись на мягкие подушки, рядом усадил Глафиру. Его рука обняла ее и притянула к себе.
– Ну, что же Игнатушка, приступим, наконец, – он театрально махнул белым платком, спектакль начался.
Игнат снял с себя одежду, Глаша смогла теперь лучше рассмотреть его высокую фигуру. Он был худощав, смугл и широк в кости. Широкие плечи и сильные руки напоминали лучшие торсы древнегреческих атлетов. Под снятым картузом оказались черные, как у цыгана, вьющиеся волосы. У него была привычка поглядывать на человека из-под темных густых бровей карими угрюмыми глазами и подкручивать казацкий ус. Многие буквально цепенели под действием этого зловещего взгляда.
Глаша пыталась смущенно отвести глаза от главного, притягивающего взор… предмета. Пыталась, но это было безуспешно. Сей предмет назойливо и немилосердно лез в глаза. Казалось, Игнат специально поворачивался так, чтобы Глафира Сергеевна по достоинству оценила прекраснейший образчик мужского естества…, его внушительных размеров фаллос. Фаллос Игната был почти таким же крупным, как и у барина, но чуть загнутой, серповидной формы, темные волосатые шары поддерживали его у основания.
Сначала стесняясь и украдкой, потом все смелее она стала разглядывать голого приказчика. Было видно, что тому эти любопытные взгляды юной барыньки доставляли огромное удовольствие. Черные глазищи часто вызывающе зыркали в ее сторону.
Глаша уже догадалась, что Игнат Петров был сотоварищем Владимира в развратных оргиях. Много мыслей промелькнуло в голове, но вместе с тем, от вида голых тел нарастало такое сильное возбуждение, что она дрожала, словно в горячке. Владимир с улыбкой поглядывал то в центр комнаты, то на Глашу.
Игнат подошел к столу, глаза искали что-то, наконец, он увидел – в его руках оказалась шестиконечная кожаная плетка. Он подошел к заду Лушки, и принялся сначала легонько, а затем все сильнее, хлестать плеткой по толстым ягодицам – красные полосы моментально вспухали на белой нежной коже. Лушка вся выгнулась и громко застонала, голова стиснутая деревяшкой, мотнулась, пальцы на руках сжались до побеления. Маленькие ступни тоже начали сжиматься в такт ударам плетки. Из закрытого кляпом рта, еще сильнее потекла слюна.
После нескольких свистящих ударов, Глаша в ужасе закрыла ладонями глаза: чтобы не видеть происходящего. Но Владимир с силой отвел ее руки от лица.
– Не бойся, эта сучка очень любит, когда ее хлещут, это она от страсти орет. Плетка мягкая, ты сама потом в этом убедишься. У Лукерьи Потаповой есть небольшая слабость. Сия особа не может получить полное удовольствие без порки. Мы с Игнатом большие гуманисты и не можем оставить женщину без сладкого, – он рассмеялся, проговорив это. – Лукерья Потапова одна из немногих женщин, готовая иметь сношения с утра до поздней ночи. Мы попользовали ее сегодня не единожды, а ей все мало. У нее темперамент, как у Мессалины. Видать, так и умрет когда-нибудь от сладкой муки эта…б… – он невольно подавился, вертящимся на языке словом, – эта нимфоманка.
Игнат прекратил порку и вытащил огурец из Лушкиного отверстия, тот вышел с чавкающим звуком. Затем он завозился перед нею, узкий зад вдруг стал ритмично покачиваться. По этим характерным движениям Глаша поняла, что приказчик вставил вздыбленный фаллос в освободившуюся норку. Он начал с силой совокупляться с Лушкой, опять послышались мычащие звуки. Лушка, даже привязанная, умудрялась двигаться навстречу выпадам Игната. Ее толстые, круглые ягодицы дрожали и извивались в бешенном танце.
От всего увиденного, член Владимира тоже встрепенулся. Он стянул с себя тонкие брюки и сбросил их рядом на стул. Теперь он сидел голый и потирал свое орудие с распухшей пульсирующей головкой одной рукой, другой крепко держал Глашу за грудь. Длинные пальцы с силой крутили нежные соски, оттопыривая широкий ворот тонкой нательной рубашки. Глаша сама чувствовала, что сильно возбуждена всем происходящим. Тем паче, что возбуждение ее не покидало с того момента, когда ее в парной ласкал Владимир. Ей очень хотелось получить долгожданную разрядку, хотелось отбросить все приличия и… лечь под ненаглядного кузена.
Но кузен, подчиняясь другой, более изощренной логике, не желал вступать сегодня в плотские контакты с Глафирой. Возбудить ее до немыслимых пределов – в этом был его хитроумный замысел. Он видел, как дрожат ее колени, как губы судорожно хватают воздух, глаза горят, а тело движется навстречу. Спустя минуту, ее рука нерешительно скользнула под подол длинной рубашки, пальчики коснулись горячей скользкой плоти, послышался стон наслаждения.
– Нет, сударыня, уберите руку. Вам не было команды самой себя ласкать. А потому сидите и терпите, пока я не разрешу.
Глафира покраснела, до кончиков ушей. Владимир, бесцеремонно задрав подол нательной сорочки, глянул на пухлый влажный лобок, его наглая рука коснулась горячей трещины в пуху, палец скользнул вглубь лона. Глаша выгнула спину, ноги непроизвольно разъехались в стороны.
– Mon cher, как вы мокры… Терпите, я подам команду. Кто вкусил сладость томления и муки воздержания, тот удовольствие получит – равное троим. – сказал он, заглядывая ей в глаза, и отдернув руку, опустил сорочку. – Сидите смирно и положите руки на колени! Увижу: двинете рукой – я вас побью!
Глаше ничего не оставалось, как подчиниться. В это время Игнат закончил свой танец возле разверзнутой Лушкиной промежности, его бедра еще пару раз дернулись в сладкой конвульсии, и он, пошатываясь, отошел от женщины.
Наступила очередь Владимира. Он обошел изуверскую конструкцию и, подойдя к Лушке, вынул плотный кляп из растянутого рта. Как не странно, та улыбнулась барину онемевшими белесыми губами и залопотала что-то ласковое. Глаша не расслышала слов, но поняла, что Лукерья очень признательна двум кобелям за доставленное удовольствие.
Глаша покраснела от ревности и досады. Ей так захотелось схватить плетку и еще раз ударить светлоголовую прорву по широкой жирной спине и заду. Лукерья же, не обращая внимания на волны кипучей ненависти, посылаемые ей из другой стороны комнаты, по-сучьи ласково и зазывно смотрела на барина. Белесые мягкие губы тянулись к красивым длинным ладоням Вольдемара, шея вздувалась от натуги синими венами: Лушка тщетно пыталась облобызать руки барина. Казалось: награди природа эту женщину куцым собачьим хвостом, она бы завиляла им от избытка чувств.
– Ладно, моя хорошая… Вижу: что довольна. Скоро отвяжу тебя. Поласкай еще напоследок своего барина, – с этими словами он вложил фаллос в ее мягкие губы. Она ловко и радостно обхватила его ртом и усердно зачмокала.
Владимир закатил глаза от наслаждения, его ноздри трепетали. Лушка старалась от души. Она, то глубоко заглатывала фаллос, то быстро, многократно и нежно проводила языком по его разбухшей головке. Щекотала кончиком языка уздечку, предано, как собака, заглядывая в глаза обожаемому барину. Было видно, что Лукерья Потапова в этом деле не новичок, а опытный мастер. Владимиру нравилось, как Лушка обрабатывала языком его плоть, он хотел было разрядиться в горячий сосущий рот, но в последний момент передумал. Вытащив член, он подошел к Лушкиному заду и, взяв полотенце, осушил ее промежность.
– Что я больше всего люблю, так это вид того, как у похотливых самок льется семя из всех растянутых щелей, – сказал он.
С этими словами, он пристроился к анусу Лушки. У нее уже не было кляпа, и она к удивлению Глаши, не кричала от боли, а во все горло сладострастно стонала, поощряя хозяина встречными подмахивающими движениями. Она с силой насаживалась на толстенный ствол.
– Да, да, да, так, господин мой, посильнее, – извиваясь, орала она.
Глаша сидела с красным от ревности лицом. Продолжалось это довольно долго, пока Владимир, рыча и ругаясь матом, не кончил. Лушку уже всю било, как в лихорадке. Задница ее продолжала поступательно двигаться в ожидании нового гостя. Игнат подошел и окатил ее ковшом холодной воды, чтобы остудить пыл. Казалось, Лушкиной утробе надобен полк бравых солдат для дальнейшего удовлетворения безграничных потребностей.
Игнат отвязал Лушку от скамейки, освободил ее руки и ноги. Она распрямила круглую спину и, кокетливо поглядывая на двух самцов, поглаживая себя по затекшим рукам и ногам, потянулась и картинно зевнула.
– Ну, я тогда пошла, че ли, али нет?
– Нет, постой немного, – сказал ей Владимир, – ты сейчас мне сделаешь еще одно дельце. У нас тут барышня вся в соку сидит, уж терпежа ей нету. А я ее сегодня нарочно не трогаю, берегу для особого случая. А барышне-то нашей уж очень плохо стало. Правда, Игнат?
– Сущая, правда, – ухмыляясь, ответил приказчик.
– Ну, и чего я сделать должна? – притворно спросила Лукерья. – Я-то, тут причем? – ее колючий взгляд с усмешкой прошелся по бледному лицу Глафиры.
– Не прикидывайся глупой. Сама знаешь: язычок-то тебе для чего ловкий? Ты потрудись, а мы посмотрим.
Лушка, ревностно разглядывая Глашу, все же подошла к ней вплотную и резко опрокинула ту на спину. Потом сильным движением, как у мужчины, она взяла Глашу за бедра, руки притянули ее к краю кровати. Встав на колени перед бедрами Глаши, она задрала повыше тонкую нательную рубашку. Обнажив девушку, сильно раздвинула ее согнутые в коленях, дрожащие ноги.
Оба мужчины, стоя напротив, с интересом наблюдали за происходящим. Глаша попыталась прикрыть рукой пушистый лобок, но Лушка грубо прикрикнув на нее, резко убрала ей руки. Наклонившись над распухшей и мокрой промежностью Глаши, Лушка стала умело обрабатывать ее языком. Глаша почувствовала на себе горячее дыхание этой деревенской «матерой самки». Та же, то лизала промежность широким движением языка, то слегка щекотала ее, раздвигая лепестки нежной плоти, то нежно покусывала. Она даже умудрилась, раздвинув Глашины ноги, войти длинным языком в узкую норку и поработать в ней, словно членом. Глаша вся текла и извивалась от этого неописуемого удовольствия, и наконец, кончила с таким глухим гортанным криком, что вся компания была удивлена: как столь нежное создание может издавать такие грубые и сладострастные звуки.
На дворе уже стояла глубокая ночь, когда все четверо вышли из бани. Было по ночному свежо и тихо. Лишь где-то вдалеке брехали деревенские собаки. Большая желтая луна серебрила гладь старого пруда, и казалось, что по этой лунной дорожке можно перейти по воде на другой берег. Легкий ночной ветерок слегка перебирал длинные ветви плакучих ив, и поводил едва заметной рябью поверхность тихой воды. Глаша невольно залюбовалась всей этой сказочной ночной красотой. Лукерья Потапова, наскоро попрощавшись со всеми и, подоткнув подол широкой с оборками юбки, ловко обходя кусты, поспешила напрямую к своему дому.
Владимир и его приказчик задержались на крыльце бани и разговаривали о своих хозяйственных делах и планах на завтрашний день. Глаша почувствовала себя лишней, и тихонько свернула на тропинку, которая вела к усадьбе. На нее никто не обратил внимания, никто не окликнул, чтобы проводить до дому. Было немного обидно и страшно идти ночью одной. Хотелось, чтобы Владимир Иванович догнал и обнял за плечи. Страх постепенно проходил, луна светила так сильно, что виден был каждый куст и каждая травинка. Девушка побежала по тропинке чуть быстрее. В саду с переливами запел свою любовную песню соловей, заражая все кругом сладким ядом своих трелей. Ночные шорохи и запахи сада так очаровали Глашу, что она остановилась и глубоко и счастливо вздохнула полной грудью этот упоительный ночной воздух. Молодая горячая кровь стучала где-то у висков так громко, что казалось: кто-то шепчет на ухо, страстные слова любви.
Глава 7
Раннее летнее утро ворвалось суетливыми жизнерадостными звуками и запахами в чуть распахнутое окно Глаши. На дворе были слышны неспешные и по-деревенски обстоятельные разговоры крепостных работников, металлический скрип колес, стук дубовых дверей. Словом, все те звуки, которыми наполнялся двор барской усадьбы каждое утро. Запах скошенной травы смешивался с по-детски знакомым и таким далеким ароматом кипяченого молока и горьковатым запахом кофе. Глаша проснулась и, быстро соскочив с постели, накинула легкий халатик. Все тело заполняла какая-то тугая, звенящая и кипящая молодая сила. Наскоро перекрестившись на образа, она присела к зеркалу расчесать гребнем длинные, пшеничного цвета волосы. Косые и яркие солнечные лучи играли искрами в волосах. Глафира Сергеевна поглядела в зеркало и осталась довольна свежим видом: фиалковые, словно промытые глаза, в обрамлении густых черных ресниц сияли так ярко, щеки розовели, а сочные губы были наполнены томной негой. Она с удовольствием подумала о том, что все это, всю молодость, а заодно и саму жизнь готова подарить своему ненаглядному Владимиру.
Подумала, но тут, же осеклась: «Опять я в облаках летаю, опять надежды мучают меня? Ведь, только вчера я имела возможность убедиться, что Вольдемар совсем не тот, за кого себя выдает. Он оказался настолько порочным человеком… Кто он? Отступник? Молокан? Адамит или содомит? Господи, какие все ужасные названия. Скорее всего, он просто заблудший человек. И надобно ему помочь. Ведь он хороший, только запутался из-за учености своей. Вот и подражает, бог знает, кому… Ведь он, по сути, одинок… Я никогда его не брошу и выведу на светлую дорогу. Я поведу его к батюшке исповедаться и принять Святое Причастие. Он отвыкнет от порочных наклонностей. Мы поженимся и станем любить друг друга». Вдохновленная этими мыслями, она решительно встала и нервно заходила по комнате.
«Надо, как можно быстрее, отвести его в нашу церковь. Я сегодня же пойду с ним». Но какой-то негромкий, но въедливый и гнусный голосок внутри нее, сначала невнятно, потом все громче забубнил «другую песню»: «К батюшке пойдем, но не сегодня… Нечего спешить… Посмотри, как ты спела и хороша. Ты создана для чувственной любви. Вспомни, как тебе вчера было хорошо. Вспомни, как ты таяла от вида совокуплений. Вспомни, зуд внутри лона своего. Вспомни, Лушкин язычок. В следующий раз все будет еще интересней. Ты познаешь неземное блаженство в его руках. Глупо – отказываться от такого счастья».
Лицо залилось пунцовым румянцем, ноги отяжелели, ладони стиснули горячую голову: «Боже, помоги мне. Ну, что со мной такое? Неужто, кузен подлил мне что-то в вино, и разум мой помутился? Или вправду говорят, что демон он, а не человек. А Лушкины ласки? Боже, какой стыд! Позволить женщине себя ласкать. Я ли это была?»
Она долго еще сидела на кровати, потом неспешно стала одеваться. Надев легкое платье розового цвета с белыми оборками и, заплетя густые волосы в толстую косу с широкой атласной лентой на конце, Глаша в этом наряде так понравилась себе, что еще долго крутилась перед зеркалом, оглядывая себя спереди и сзади, изгибалась тонкой талией. Это платье очень шло ее милому, свежему лицу. Когда она показалась из своей комнаты в коридор барского дома, то сразу наткнулась на спешащую по своим делам, с ведром и мокрыми тряпками, Маланью. Увидав такую красавицу, бесхитростная Маланья всплеснула руками от восхищения:
– Как вы, барышня, пригожи сегодня! Вона, как лоб налощили[38].
– Ну, что ты, Маланьюшка, – заливаясь краской, и кокетничая, отвечала ей Глаша, – не так уж, я и хороша!
Глаша сильно надеялась застать Владимира Ивановича и покрасоваться перед ним незатейливым девичьим нарядом. Ей так хотелось все больше нравиться ему, хотелось, чтобы он влюбился в нее по-настоящему. Она также поймала себя на мысли, что было бы совсем недурственно, если бы ее приметил в этом платье и… приказчик Игнат.
Выйдя на террасу, она увидела на столике свой завтрак, прикрытый льняной салфеткой. Владимира нигде не было. Маланья, как будто прочитав мысли Глаши, заглянула на террасу, красноватая, крупная ладонь поправляла вылезшие из-под платка, рыжеватые, сальные волосы.
– А Владимир Иванович уехали-с раненько вместе с Игнатом в город на два дня.
Расстроенная этой новостью, Глаша села за круглый обеденный стол, и без особого аппетита съела маленькую булочку и запила ее чашкой душистого кофе с молоком. Начинающийся летний день обещал быть ясным и погожим. Но Глашу не радовал ни ясный день, ни ее распрекрасный наряд, ни легкость и сила молодого тела. Вокруг все сильно изменилось и наполнилось звенящей в ушах, пустотой. Все краски молодого летнего дня как будто разом потухли. Взор туманился от закипающих слез. Едва сдерживаясь, чтобы не заплакать у всех на виду, она быстро сбежала с террасы и побрела неровным шагом подальше вглубь сада, чтобы оставшись наедине с собой, предаться грусти по любимому.
Пройдя несколько аллей, засаженных яблонями и грушами, на которых уже потемнела густая листва, и всюду виднелась крупная зеленая завязь плодов, Глаша свернула к мрачному ельнику. Под ногами трещала скользкая прошлогодняя хвоя и сухие еловые шишки. Всюду – в саду и в ельнике ее преследовал образ ненаглядного Владимира. Разлука с ним почти физической болью сжимала сердце. Разум подсказывал, что она полюбила жестокого развратника и бессердечного сластолюбца, но сердце не верило голосу разума, и билось все чаще при воспоминании об его изощренных ласках и сильных объятиях.
В грусти по Владимиру прошли два долгих, бесконечных дня. Глаша, как будто, и не жила в эти дни, а просто пережидала, словно рыба в стоячей воде, считая долгие часы и минуты.
Наконец, к обеду третьего дня Владимир вернулся из города. Он поел с хорошим аппетитом, смакую каждое блюдо, которое приготовил к его приезду искусный домашний повар.
На обеденном столе красовалось фарфоровое блюдо с жареными рябчиками в клюквенном соусе, пятислойная кулебяка с капустой и грибами, Страсбургский пирог[39], желтые ломти ноздрястого швейцарского сыра. Капельки прозрачного жира, словно слезки, застыли на румяных, поджаристых бочках молочного поросенка, фаршированного гречневой кашей. Пучок зелени торчал из зубастенькой спящей мордашки под круглым пятачком порося. Остромордый осетр с хреном, замерший в прозрачном заливном бульоне, поражал крупными, до невозможности, размерами. Зернистая икра трех видов блестела в хрустале, обложенном свежим колотым льдом… Легкий дымок шел от горячей тарелки с раковым супом. Стояли тут и излюбленные Владимиром, напитки: ядреный квас с изюмом и черносмородиновая наливка, пахнущая ягодными листами и почками, белый рейнвейн, и миндальный мараскин.[40]
Владимир Иванович был большим гурманом и потому, разнообразие его стола всегда поражало воображение даже самых искушенных едоков из дворянской и купеческой среды. Не большой любитель общества, он скорее слыл среди них затворником, потому, что все реже и реже устраивал в своем поместье званые обеды, журфиксы[41] или домашние балы.
После обеда, вытянув длинные сильные ноги, он с удовольствием выкурил английскую сигару, полистал свежую газету, которую ему ежедневно доставляли с почтовой станции, зевнул, и хотел было пойти вздремнуть. Но передумал и пошел искать Глафиру Сергеевну.
Глаша в это время гуляла по берегу пруда и бросала хлебные кусочки в воду, наблюдая за тем, как их поспешно, с жадностью заглатывают домашние серые утки. Ее стройная фигура на фоне воды поражала хрупкостью и какой-то девичьей беззащитностью. Девушка задумчиво поправляла на лбу, выбившиеся от дуновения ветра, пряди шелковых волос.
«А она, похоже, похудела бедняжечка за эти дни. Руки стали совсем прозрачными и талия под корсетом до невозможности тонка», – подумал Владимир. Он уже мысленно представлял, как возьмет ее за талию сильными руками, так что пальцы сойдутся на гладком животе, подвинет резко к себе, и нагнет вниз гибкую спину. Хотелось сделать это так, чтобы она прогнулась под ним, словно кошка, выставив круглую попу навстречу. В мечтах он хотел развратить ее до такого состояния, чтобы она сама просила, молила его о ласках, и сама с удовольствием насаживалась на огромный ствол, захватывая его с жадностью обеими своими норками.
Глаша медленно повернула голову, будто почувствовала, что он стоит и смотрит на нее сзади. Она, словно прочитала вслух его тайные мысли. В ее взоре смешалась тревога, мольба, горькое отчаяние, но вместе с тем, горячая, доводящая до исступления, страсть. Он подошел вплотную, и не здороваясь, негромко и хрипло проговорил:
– Приходи сегодня в баню к семи часам.
И, развернувшись, ушел не оглядываясь. Он знал, что Глаша душой и телом давно принадлежит только ему, а потому, можно было не сомневаться, что она будет на месте к назначенному времени.
Ровно к семи часам Глафира Сергеевна уже стояла у дверей господской бани. На ней было то розовое с белыми рюшами платье, в котором ей так хотелось показаться Владимиру. Волосы, заплетенные в косу, перевивала широкая атласная лента. Тонкие пальцы нервно теребили рюши на высокой груди. Сердце стучало так сильно, что казалось, она в любой момент может лишиться чувств. Постояв немного возле крыльца, Глаша нерешительно постучалась.
– Войдите! – крикнули из-за дверей.
Она, ступая как мышка, прошла через сени в нижнюю горницу. За столом сидели Владимир Иванович и Игнат. Они о чем-то негромко разговаривали. «Опять их двое, я сойду с ума», – с отчаянием подумала Глаша. – «Интересно, а Лушка тоже здесь, или я одна должна буду ублажать двух голодных кобелей?» Ей стало страшно от этих мыслей, но, в то же время, сильное возбуждение охватило тело, в руках появилась дрожь.
Казалось, мужчины не обращают на нее внимания, продолжая деловой разговор о ценах на лес, видах на урожай и прочих торговых делах. Только Игнат искоса, с любопытством, поглядывал на девушку. Глаша присела к столу на краешек длинной скамейки и стала ждать. Наконец, Владимир встал, подошел к ней и налил большую рюмку анисовой водки из запотевшего холодного графина. Его рука протянула рюмку и маленький пирожок.
– На, пей. Тебе сегодня будет нелегко, cherie. Надо, чтобы ты, немного расслабилась.
Глаша, морщась, покорно выпила водки и откусила кусочек пирожка.
– Я думаю, пока хватит, иди наверх, – сказал Владимир, – готовься, сейчас мы с Игнатом придем к тебе.
Глаша неровными шагами стала подниматься вверх по деревянной лестнице. Водка горячим теплом разливалась по телу, притупляя страх, и делая намного раскованней мысли, выпуская на свободу тайные желания. Пройдя в верхнюю горницу, она увидела, что комната снова была хорошо освещена жирандолями – каждый предмет казался ярче и живее, чем днем. А впрочем, перед глазами Глафиры все начинало понемногу расплываться.
Свет восковых свечей, казалось, плавился, играл и рассыпался на множество мелких ярких огоньков. Огоньки трепетали рваными краями, искрились и бежали в диковинном, танцующем хороводе. Предметы теряли четкие очертания. Слух притупился, словно в уши накапали теплого душистого меда. Голове стало мягко и тепло, потянуло в сон. «А Лушки-то и нет, значит, я буду сегодня одна. Меня одну будет любить мой ненаглядный Володя», – сквозь сладкий туман путались мысли Глаши. – «Но, ведь тут не только Володя, но и Игнат. Это – нечестно, это постыдно… Это – адски постыдно. И адски страшно. Зачем я пришла? Зачем? Я не хочу быть нагая перед чужим мужчиной. А вдруг, он позволит себе лишнее? Надо бежать, пока не поздно.
Я не сторонница свального греха… Сегодня же к батюшке!»
Пьяные ноги понесли ее к двери, но она споткнулась, запутавшись в длинной юбке, и упала, колени ударились о деревянный пол. Боли не чувствовалось, стало вдруг смешно. Она перевернулась на спину, бессмысленный взгляд устремился в бревенчатый потолок. Глаша лежала на полу, силясь подняться, все безуспешные попытки вызывали у нее новые приступы смеха. Она лежала, закатив пьяные глаза и выгнув белую шею, смех кривил полные губы, обнажал полоску влажных зубов, глаза блестели от внезапной и всепоглощающей радости.
Сознание настолько было в плену пьяного дурмана, что она даже не услышала, как подошли оба мужчины. Они были почти обнажены и уже достаточно возбуждены от мыслей о нежном Глашином теле.
– Игнат, друже, а мы видимо, сильно ее напоили. Смотри, улеглась наша цирцея и встать не может. Лежит – улыбается, аки блаженная.
– Оно и лучше, что напоили. Ей легче перенесть.
Вереница смешных гримасок пробежала по лицу Глафиры. Наконец, пьяная мордочка приобрела какое-то беличье выражение.
– Pardonne, monsieur, я вовсе не лежу тут, я упала… – раздался тихий смех, руки описали в воздухе замысловатый крендель и бессильно опустились на пол. – Какой конфуз, я даже встать не в силах…
Туманный взор прошелся по обнаженным мужским телам, задержался на эрегированных членах.
– Господа, а вам не кажется, что это не сomme il faut[42] c вашей стороны, стоять в голом виде перед дамой, сверкая толстыми дубинками? – спросила Глаша, коверкая слова, – я давно хотела спросить: почему они у вас такие… крупные? Ведь, это же не прилично. Мало того: вам, верно, неудобно ходить. Я уж не говорю о поездке верхом… – хохот душил ее.
– Mademoiselle, вы просто очаровательны! – рассмеялся Владимир. – Я, кажется, уже пытался доказывать вам неоспоримые преимущества больших фаллосов над малыми.
Очевидно, вводная лекция без постоянной практики теряет свой назидательный эффект. А, впрочем, дело вкуса… Игнат, ты не находишь, что дама в том положении, когда ее приятно употребить?
– Я давно нахожу сие обстоятельство, – хрипло подтвердил приказчик.
Игнат, нервно посмеиваясь, взял Глашу на руки и отнес на большую мягкую кровать.
– Нет, господа, нет… Так не пойдет: я одна, а вас двое. – Она попыталась встать, но тяжелая голова предательски склонилась к пуховым подушкам.
– Глашенька, но ведь это – не дуэль… И не – шахматная партия… Здесь правила иные. Скажите спасибо, mademoiselle, что нас не трое и не четверо.
В студенческие лета мы пользовались как-то дамою… Нас было восемь человек. И каждый норовил повторно дать даме возможность свои деньги отработать. Как вспомню этот случай, так жутко завожусь, – негромко молвил Владимир.
– Что вы там бормочете? Потрудитесь, громче говорить, я вас совсем не слышу, – сказала она и надула губы.
– Светик мой, это не для ваших ушек. Расслабьтесь и наслаждайтесь нашей компанией.
– Это – не честно. Мало того, это даже незаконно, – она перешла на какой-то хриплый, горячечный шепот: – Я вас боюсь! В конце концов, я не желаю так…
– И бога ради, о каком законе моя прелестная Афродита ведет речь? О законе человеческом или законе божьем? Что до людских законов, то вам известна моя незыблемая point de vue. Она умещается лишь в короткой апофегме[43]: «плевал я на всех». Глашенька, что нам до кучки скучных и никчемных людишек, кои состряпали эти самые идиотские законы? Каждый из них в своих мыслях грешит много больше, чем могу себе позволить я в реальности. Отчего так? Ответ лежит на поверхности: они никчемны. А вот, дай им волю и безнаказанность… О, мне даже трудно представить: наше высоконравственное общество захлестнула бы волна безудержного порока.
Кузен рассмеялся и поцеловал испуганную Глафиру в раскрасневшийся лоб. Он поцеловал ее так, как целуют шаловливых детей, умиляясь их временной строптивостью.
– Ах, да я забыл о законах Божьих, – кривляясь, добавил он. – Мой светик, это слишком глубокая и обширная тема. Я не нахожу ее столь интересной, дабы я мог посвятить этому сегодняшний, столь восхитительный вечер. Скажу одно. – Он наклонился к Глашиному уху и прошептал: – Моя, несравненная пери, господь прощает нам подобные забавы, находя их довольно естественными человеческой природе. Право, он не настолько мелочен, чтобы вести им счет. A propos, все двери плотно закрыты. Он нас не видит. Ему не до нас…
«А, правда, ну что я боюсь? Двое – так двое… Не убьют же они меня. Ах, как хорошо. Как кружится голова…» – думала Глафира.
Владимир прилег на кровать и наблюдал за действиями Игната. Глаша с удивлением отметила, что приказчик вел себя даже трогательнее и нежнее, чем сам кузен. Он стал аккуратно расстегивать все пуговки на платье девушки. Он немного волновался и краснел. Сняв платье, ловкие руки принялись за батистовые юбки. Цепочка мелких страстных поцелуев покрывала участки оголившегося тела красотки. И, наконец, когда на Глаше оставался один корсет и шелковые бежевые чулки на кружевных подвязках, он в восхищении уставился на тугую, торчащую от возбуждения розовыми сосками, грудь. Как голодный хищник, Игнат набросился на плотные холмы и стал целовать белую кожу, нежно покусывая зубами яркие бусины сосков.
Владимир располагался рядом, правая рука прижимала упругое, рвущееся в бой, орудие. Расширенными от страсти глазами, он наблюдал за тем, как Глаша возбуждается от горячих ласк Игната. Умелые губы целовали Глашу в горячечно раскрытые для поцелуя уста.
– Бьюсь об заклад, мой верный друг: ты с еще большим аппетитом вкусил бы нашу скромницу в ее форменном камлотовом платье и беленьком переднике с пелеринкой. О! Я представляю этот изыск. Сударыня, вы сохранили ли институтское платье?
– Кажется да. А, впрочем, я не помню, – Глаша прерывисто дышала. – Крестная собирала мои вещи. А что? – она пыталась осмыслить, зачем ее спрашивают о форменном платье.
– Ах, не беспокойтесь. Я просто так спросил… Я полагаю, будет случай надеть на вас институтский наряд. И…
После этого короткого диалога, приказчика Игната охватила сильная дрожь.
«Странно, как же он нежен и ласков, этот чернявый Игнат. Неужели, это он тогда нещадно хлестал Лушку плеткой? Хотя, Владимир сказал, что Лушке это было приятно», – думала, охваченная дурманом девушка. «Спаси меня, боже… Что я делаю, что со мной? Я – одна, их – двое… Какой, грех! Но боже, как хорошо!»
Она вся раскраснелась, две длинные руки крепко обнимали Игната. Белые руки и большие груди в свете свечей поражали ослепительной яркостью на фоне смуглых казацких рук, мускулистых плечей, и широкой спины загорелого приказчика. После, она тянулась губами к Владимиру и страстно начинала целовать его лицо и губы, шепча ласковые слова, тонкие пальцы дрожали и путались в темно-русых кудрях. Глаша была так соблазнительно хороша с растрепанными и выбившимися из косы волосами, так страстна в поцелуях, что походила на лесную нимфу или сумасшедшую горячую вакханку, соблазняемую двумя сильными козлоногими сатирами.
Порой ей казалось, что она не сидит на кровати, а плывет по воздуху, и вокруг нее не две пары мужских горячих рук, а больше: восемь, десять. Словно, многорукое сказочное чудище решило заласкать ее до смерти.
– In vino veritas[44], смотри Игнат, как опьянела наша Глашенька от Иерусалимской слезы[45].
Корсет был расшнурован и сброшен, на девушке остались лишь тонкие шелковые чулочки с кружевными подвязками на длинных стройных ногах. Она была так страстна в движениях и так горяча в порывах, что оба мужчины буквально обезумели от восхищения, удивления и жестокого желания овладеть ею сразу, не медля ни минуты. Они едва сдерживали себя от страсти. Тогда Игнат опрокинул девушку на спину и, встав на колени, подвинул круглые бедра к краю кровати. Он раздвинул широко ее ножки, которые оставались все еще в чулках, твердые губы впились в сочившееся соками, лоно. Он вдыхал ее соблазнительный, тонкий аромат, аромат возбужденной до предела, молодой самочки. Лаская языком распухший бутон и лепестки нежной плоти вокруг него жестким и широким языком, Игнат хотел довести девушку до исступления. В это самое время, Владимир сидел у ее изголовья и целовал кузину в губы, лаская твердые соски. Страстные стоны Глаши тонули в сильных и глубоких поцелуях.
Казалось – еще минута, и Глаша испытает оргазм, ласкаемая двумя, такими нежными и страстными любовниками. Но у мужчин был другой замысел… Прервав неожиданно ласки, Владимир вытащил на середину комнаты высокий табурет, на нем лежала красная шелковая подушка. Игнат потянул разгоряченную Глашу за руки, поставил ее на шатающиеся от слабости и возбуждения ноги. Он аккуратно поправил, подтянул, сползшие было чулочки, так, словно перед ним была маленькая девочка. Эта трогательная забота о ней доставляла ему, взрослому, видавшему многое в жизни, грубоватому мужчине, ни с чем несравнимое, острое удовольствие.
Перед глазами Глафиры все плыло и кружилось, совершенно не к месту в голове запел многоголосый церковный хор: «Аааааа… Иииииизбави нас от Лукавоооогооо…Иииии от нас убо богомерзкое греховное злосмрадие отжени…, да благоприятно Богу вопием: Аллилуияяяяя»
Она дернулась, маленькая ладонь перехватила сильную руку заботливого сластолюбца, мутный, бессмысленный взор скользнул по голым телам мужчин. Сделала шаг назад, на минуту ей стало страшно: «Вот оно. Надо бежать…» Ладони прикрыли пылающее от стыда, лицо. Сумрак, таящийся по углам комнаты, заволновался, задышал, стал пульсировать в такт бьющемуся сердцу. Всюду послышалось шипение, оно – то становилось низким и влажным, то срывалось на визг и вихрилось клубами в высоком бревенчатом потолке. То было не просто шипение – в нем различались человеческие голоса: «Хочешшшььь, ты хочешшшььь, ты этого хочешшшььь, грешшшница… Отринь все сомнения. Шагни! Иди к нам, блудница Вавилонская… Тебе будет сладко… Ой, как сладкоооо».
Она внимательно посмотрела на мужчин: их губы не шевелились. «Кто сейчас разговаривал со мной? Чьи это голоса?» – рассеянно думала она. – «Да, мне будет сладко, я хочу, хочу, хочу…»
– Я хочу! – последние слова она выкрикнула вслух, охрипшим от волнения голосом.
– Игнат, налей ей еще водки. Огненная вода идет на пользу нашей институтке.
Игнат налил Глаше еще стопку водки и дал выпить. Он подвел ее к высокому табурету и велел лечь на него нежным животом, выпятив круглую попу кверху. Глаша сделала все, как ей было приказано. Вся промежность текла до невозможности, ожидая, когда в нее сзади войдет большой горячий гость.
А следом еще один. Её стало слегка трясти от страшного вожделения.
Алчущий бутон внутри лона сильно распух и трепетал в ожидании. Норка судорожно сжималась, будто дышала. Она, как течная сучка, выворачивала нутро, приглашая сильных кобелей к страстному соитию.
– Детка, ты вся истекаешь, но мы, к сожалению, планировали сегодня проявить особый интерес именно, к твоему заднему сокровищу, – сказал Владимир.
У обоих самцов возбуждение сильно нарастало. Они с вожделением разглядывали темно-розовый бархатный кружочек между ягодиц девушки. Ее ножки оставались в шелковых чулках и были чуть согнуты в коленях. Владимир решил быть первым, как впрочем, везде и всегда. Он взял коробочку, в которой лежало душистое масло и, намазав им длинные пальцы, начал обильно смазывать анус девушки. Пьяная Глаша почти не испытала неприятных ощущений от того, что в ее расслабленную норку ввели сначала один, потом два пальца. Ею начала овладевать новая волна возбуждения. Хотелось, как не странно, двигаться навстречу пальцам. Она начала потихоньку подмахивать этим дерзким движениям.
– О, моя дорогая, ваша попа, оказывается, очень любит содомию, – сказал, улыбаясь, Владимир. – Ну ка, Игнат, раздвинь пошире толстые щечки, я отправлю в путь дружка покрупнее.
Игнат крепко держал ее зад, словно хотел показать этой нежной барыньке, что она никуда не уйдет, не свернет в сторону от этой страшной и новой для нее ласки… Несмотря на то, что Глаша была пьяна, резкая боль пронзила ее насквозь. Она стала извиваться задом, пытаясь соскочить с высокого табурета. Владимир, ловко перехватив ее руки, завел их немного назад, так, что она «клюнула» вперед носом и не смогла сопротивляться. Игнат одним коленом слегка придавил голову девушки. Глаша стонала и плакала, прося пощады, но ее мольбы остались без внимания.
Дальнейшее она помнила с трудом: на смену резкой боли постепенно пришло долгожданное удовольствие – сладострастное, почти животное ощущение полноты греховного естества.
Владимир ритмичными движениями двигался в ней. Она уже скорее не плакала, а лишь стонала, тонкая талия выгибалась под ударами сильного орудия. Владимир начал двигаться резче и, наконец, с сильным рычанием кончил, излив горячее семя в Глашино нутро.
Он отошел, пошатываясь от Глаши, и плохо соображая, лег на кровать. Глаша, к удивлению обоих мужчин, не соскочила с высокого табурета, а продолжала покорно лежать на нем, как жертва заклания, еще больше выпятив круглый зад. Не было необходимости заламывать ей крепко руки и держать ягодицы. Она ждала Игната.
Его фаллос вошел, словно хозяин, по проторенной тропе. Его движения немного отличались от резких движений Владимира, тем паче, что он умудрялся еще ласково нажимать на твердый и распухший бутон девушки. Глаша почувствовала, что близка долгожданная разрядка. Она принялась с силой насаживаться на ствол Игната, испытывая такое удовольствие, что ее оргазм совпал с оргазмом смуглого красавца. Глаша кончала долго, бурно и сладострастно, открывая пунцовый рот и судорожно хватая воздух.
После этого, все трое оказались на широкой кровати. Мужчины, лежа на спине, сразу заснули глубоким и здоровым сном. Глаша, пошатываясь, обошла комнату и погасила свечи.
На дворе уже стояла глубокая ночь. Она, недолго думая, легла между мужчинами, повернувшись спиной к Игнату и придвинув к нему голый зад, рука обняла за шею ненаглядного Владимира. И тоже крепко заснула. И только большая, убывающая луна светила в оконный проем сквозь ночные быстробегущие облака.
Глава 8
Утреннее ласковое солнышко, заглянув в проем окна банной горницы, осветило неярким, еще нежным светом троих, крепко спящих, молодых людей. Тела их, окутанные густым покровом Морфея, причудливо сплелись меж собой длинными руками и ногами.
Глаше снилась пестрая вереница беспокойных и коротких, как облако, снов.
В последнем сне виделось, как горничная Маланья почему-то легла на нее сверху, цветастая широкая юбка закрыла тело плотным шатром, стало трудно дышать. Затем, Маланья с грохотом спрыгнула на пол, огромные босые ноги заплясали вприсядку, широкое лицо расплылось в улыбке, выставив напоказ желтые лошадиные зубы. На смену улыбке пришла напускная суровость: рыжие брови сошлись на переносице, и Малаша с криком: «Я вот, тебе, сейчас задам!», бросилась догонять Глафиру. В полных руках покачивался огромный прутковый веник. В два прыжка Маланья, словно ведьма, догнала несчастную и, заскочив всей тяжестью на хрупкие плечи, подмяла под себя. От тяжести Глафира свалилась на землю, как подкошенная. Химера в образе Маланьи принялась лупить веником голое, беззащитное тело. Глаша с трудом уворачивалась от града хлестких ударов, они сыпались ей на ноги. Удары перешли в однообразные тычки, рукоять веника застыла на бедре и плотно упиралась в нежную плоть.
Глаша тут же проснулась и почувствовала на себе тяжелую руку Игната, она ласково и настойчиво двигалась по теплому ото сна, телу девушки. Глаша лежала спиной к приказчику, две сильные смуглые руки тискали и мяли нежный живот, торчащие груди и алебастровый, круглый зад. Он прижимался к ней всем телом, губы целовали трогательный с маленькой детской впадинкой затылок. Огромные ладони загребали распущенные волосы, теребили их, сжимали в «конский хвост», тянули хвост к себе, и вновь отпускали. Ноздри с шумом вдыхали теплый женский аромат. А в ее ногу сильно упирался какой-то очень твердый предмет.
Владимир тоже проснулся и смотрел в упор на Глашу, которую тискал Игнат. От вида голых тел его старый друг встрепенулся, упругая плоть натянулась сверх меры и превратилась в подрагивающую дубинку. Владимир, находясь спереди, начал, как и Игнат, хватать сонную кузину. Его рука сразу же потянулась к пухлому лобку, пальцы настойчиво ухватили пучок волос и немного дернули. Из ее груди вырвался слабый стон. Владимир, не отпуская волосы, другой рукой проник во влажную щель и, нащупав скользкий бутончик, принялся ласкать его круговыми движениями. От наслаждения Глаша томно закрыла глаза.
– Игнат, наша сладкая девочка опять стала мокрая и хотючая.
Глаше стоило огромных усилий отодвинуть от себя ласковые руки дерзких любовников. Пробудившееся сознание, свободное от алкогольного дурмана, восстало в ней голосом разума и совести: «Боже, что я делаю?! Как я могла пасть так низко?! Они оба надругались надо мной прошедшим вечером. Надругались – самым противоестественным способом. Я отдалась им хуже последней римской куртизанки. Мне кажется, я даже получала от этого удовольствие… Распутница! Все! С меня хватит! Или в монастырь или головой в омут!»
Глаша, резко отодвинув руки обоих мужчин, попыталась встать. Льняная простынь в сжатых маленьких кулачках, стала своеобразным щитом на время прикрывшим откровенную наготу. Губы и подбородок задрожали, глаза налились слезами.
– Вольдемар, вы со своим другом зашли слишком далеко!
– Да? А вчера вам это не казалось. Вы кричали: «Хочу!», да «Еще!», – ухмыляясь, ответил кузен.
– Она еще кричала: «Да! Да!» и «Так! Так!», – с улыбкой добавил Игнат.
– Вы бессовестно напоили меня! – крикнула она.
– Mon cher, да кто же вам мешает? Хотите, я снова принесу вина, наливки или водки?
– Нет, не хочу, с меня довольно!
– Ну… Было бы предложено. Я, знаете ли, mademoiselle, люблю ласкать женщин и одурманенных каплями Бахуса и парами опия. Но, иногда, милее пользовать женщину абсолютно трезвую. Только в трезвых глазах видна реальность и правдивость восприятия. Я вчера еще сказал, что у вас теперь нет выхода. Либо вы подчиняетесь мне, либо… ну не будем о грустном.
Глаша, слушая его, старалась потихоньку соскочить с широкой кровати, руки плотнее обхватили простынь и обвернули ее вокруг гибкого тела. Она думала про себя: «Еще шаг – и я у двери, еще мгновение – и вырвусь из цепких лап этих наглых сластолюбцев. Ну, и хороша я вчера была».
Но мужчины смеясь, вырвали простынь из Глашиных рук, она улетела на пол. Глаша, вся пунцовая от стыда, с растрепанными волосами, с красными и припухшими, зацелованными накануне губами, испуганно пятилась от двух обнаженных мужчин. Те рассматривали ее при утреннем свете зоркими, наглыми и возбужденными взглядами. Она нервно кусала губы из-за того, что ей не удалось резво убежать, сильная и ловкая рука Игната схватила Глашу за гибкую талию, подтащила к подушкам и настойчиво уложила на место. Несколько минут прошли в легкой возне, во время которой, она тщетно пыталась сбежать от двух сильных и наглых сатиров. Мужчины откровенно смеялись над ней, глядя на ее беспомощную борьбу, барахтанье обнаженных рук и ног.
От упорного желания вырваться у Глаши сбилось дыхание, упругие большие груди поднимались в такт ударам сердца. Мягкий живот покрылся испариной и ходил волнами. Она пыталась хоть на минуту оторваться от подушки, но сильные, почти стальные руки возвращали ее на место, придавливая плечи. Она даже не понимала, что это ее сопротивление доставляет огромное удовольствие двум ненасытным самцам. Они, словно два откормленных и здоровых хищника любили всласть поиграть со своей жертвой, насладиться отчаянными брыканиями последней, прежде чем решались ее съесть.
– Владимир Иванович, Игнат, пустите меня, мне надо идти, – наконец, жалобно захныкала, запросила она, – я… мне очень надо… помочиться… – последние слова она произнесла с закрытыми от стыда, глазами.
– Ничего, моя маленькая, чуть потерпишь, – отвечал Владимир, – мы тебя по-быстрому… А потом сразу и пописаешь. У нас мало времени и много дел. К тому же, мы вчера совсем не приласкали нашу сладкую верхнюю норку. Сие – несправедливо. Ты же знаешь – я гуманист и не могу оставить необласканным хоть маленький участок тела такой драгоценной красавицы.
С этими словами Владимир резко дернул Глашу за руку и, положив ровнее на спину, велел ей широко раздвинуть ноги. Без всяких предварительных ласк и прелюдий, он вогнал в мокрое упругое лоно большой и горячий ствол и начал ритмичные движения. Глаше сначала было больно, и она немного вскрикнула. А потом покорно отдалась во власть своего любовника. Тело двигалось в такт сильным толчкам. Она повернула голову со спутанными, растрепанными волосами к Игнату. Тот сидел рядом на коленях и смотрел на прогибающееся тело Глаши. Глаза ее, то лихорадочно глядели на него из-под полуопущенных век, то закрывались от накатившей сладкой истомы. Она потихоньку возбуждалась движением толстого гостя в своей узкой норке. На смену испуганному хныканью пришли сначала негромкие, а после все более сильные и сладострастные стоны. Это были стоны возбужденной взрослой женщины. Игнат во все глаза смотрел за каждым ее движением. Она сильно нравилась ему. Он с наслаждением наблюдал за тем, как Владимир пользуется вожделенной красавицей, и… покорно ждал своей очереди.
Владимир Иванович вдруг вынул ненадолго своего молодца из плотной норки. Глафира охнула от неожиданности.
– Слезай с кровати и иди, пописай. Не хочу мучить бедную девочку. А то боюсь, что обмочит она нам все белье, – сказал Владимир Иванович, – ты, только не вздумай бежать, Mon cher. Вон, там в углу стоит ведро и кувшин с водой. Сделай при нас свой туалет, а мы с Игнатом посмотрим.
С этими словами он встал, и принес из дальнего угла комнаты небольшое ведерко и кувшин с водой. Поторапливая Глашу, кузен приказал ей поставить ведерко посередине комнаты и присесть над ним. Глаша стояла вся красная от стыда и наотрез отказывалась делать это при мужчинах.
– Вольдемар, ваши похотливые причуды не знают разумных границ. Я не буду этого делать! Покиньте, пожалуйста, комнату или позвольте мне самой уйти!
– Дверь заперта на ключ. Мы никуда не спешим. Вам придется mademoiselle, сделать то, что я желаю. Согласно моему сценарию. Либо, вы обмочитесь прямо на пол. Не думаю, что вас устроит этот вариант… Я последнее время, был очень добрым к вам и ласковым. Вы хотите, чтобы все изменилось в один момент? Я могу стать грубым и жестоким, – черты красивого лица исказились, словно от зубной боли, – ты, забыла, кто тут хозяин?! Быстро садись и писай прямо при нас. Меня позабавит сей спектакль. Иначе… словом я не хочу пугать, но мне придется тебя жестоко и больно наказать.
Глаше не оставалось другого выхода, как подчиниться. Она присела над ведерком, сомкнув круглые колени. От стыда и возбуждения, оттого, что двое мужчин смотрят с наглым бесстыдством на это таинство, Глаша не могла выдавить из себя ни капли.
– Ну, нет, так не пойдет… – сказал развратный кузен. – Представь, что ты на сцене, а мы зрители. Старайся, иначе я тебя накажу. Ты и так достаточно меня позлила своим непослушанием.
Глаша в полуобморочном состоянии сделала все, как приказал Владимир. Она – красная от натуги, мокрая от испарины просидела несколько минут, прежде чем у нее получилось пописать в это злополучное ведро. Мочевой пузырь девушки был полным, и потому после нескольких капель полился долгожданный, теплый, журчащий ручеек – он струился по пухлому естеству и со звоном ударялся о пустое ведро. Ей было стыдно и от этого громкого жестяного звука мощной и долгой струи об ведро, и от той позы, в которой ее заставили сидеть. Она не испытывала большего унижения в своей короткой безмятежной жизни.
После этого Глаша тщательно смыла пухлый пирожок водой из кувшина и осушила его мягким, расшитым цветами, полотенцем. Все эти действия девушки сильно возбуждали двух любопытных зрителей. Их глаза горели плотоядным огнем, ноздри вдыхали ароматы, витавшие в разряженном от возбуждения, воздухе комнаты.
– Ну вот, теперь, ты у нас – умница. Ложись на место. Мы продолжим наши забавы.
Владимир Иванович и Игнат чуть отошли в сторону и, взяв ведро, сами помочились в него. Глаша, отвернув лицо, долго слышала в ушах шумный и мощный поток, льющийся из двух расширенных от возбуждения, дышащих, круглых отверстий, которыми заканчивались их тугие, звенящие молодые фаллосы. Ей напомнило это звук тяжелой струи, которую изливал из себя жеребец Игната, когда пасся распряженный на душистом лугу. Стряхнув с концов последние золотистые капли, они полили друг другу воды на толстые стволы. А после, пофыркивая от удовольствия, оба умылись чистой водой из кувшина.
Фаллосы снова стояли у обоих, несмотря на то, что их отвлекли на некоторое время от любимого занятия. Они не падали даже тогда, когда их мыли и вытирали полотенцами. На эти две толстые, подрагивающие дубинки можно было вешать эти же самые полотенца. И не только полотенца, но и, пожалуй, даже торговые гирьки. Даже тяжелые гирьки, не смогли бы согнуть их стальную упругость. Глаша, глядя на эти два мощных орудия, предназначенных для нее, сильно опасалась, что они могут доставить ей боль. Но вторым чувством было: чувство огромной радости, гордости и благодарности за то, что именно эти – самые прекрасные в мире приапы, наполняются свинцовой тяжестью при виде ее женских прелестей, и реагируют так бурно, именно, на ее прекрасное лоно. Пусть, это продлится не вечно, но сегодня – она королева, она главная самка в их маленьком тандеме. В эти минуты похоть завладела ей настолько, что «голос разума» онемел и без водки. Распаленная развратными действиями двух сластолюбцев, Глаша не давала отчета в том, что происходит.
Владимир и Игнат попили ядреного хлебного кваса из кувшина и вернулись к широкой кровати, на которой лежала, на все готовая, Глафира Сергеевна. В этот раз, Владимир решил поднять попу Глаши повыше – три красные пуховые подушки удобно приспособили для этой цели. Он приказал девушке приподнять ноги и закинуть их ему на плечи. Проделав это, Владимир приставил фаллос к лону Глаши и, не вводя его, сначала поводил по скользким и припухшим губам и сладкому бутончику вверх и вниз. И так несколько раз, медленно распаляя ее желание. Ей хотелось поскорее заглотить его ствол узкой щелью и не выпускать до самого оргазма. Он даже немного ввел головку и снова вынул ее. Глаша заструилась соками еще сильнее. Проделав так несколько раз, он вогнал орудие в разгоряченное нежное нутро. Глаша хрипло застонала, возбуждаясь от мощных толчков, и вовсю устремилась навстречу. Стройные ножки поднимались все выше, и уже плотно лежали на широких плечах кузена, позволяя ему еще глубже входить в горячее устье.
Распалившись сильнее, она стала шарить рукой возле сидящего рядом Игната и, наконец, нащупав его фаллос и лихорадочно сжав тонкими пальчиками, стала тянуть к своему раскрытому влажному рту.
– Моя, маленькая, как же ты их полюбила… Ну, поласкай его Игнату хорошенечко! – сказал, тяжело дыша, Владимир.
Глаша, вначале стыдливо, а потом все смелее принялась целовать и ласкать губами орудие приказчика. Ей было не совсем удобно делать это лежа и повернув голову, но безумная голова сильно тянулась к объекту страсти, сосущий рот нежно заглатывал темную синеватую головку. Смуглый приказчик, стоя на коленях и придвинувшись к ней вплотную, помогал рукой удерживать ствол в теплых маленьких губах.
Через пару минут движения Владимира стали более нервными и отрывистыми. Глафира лепетала что-то ласковое и бессвязное, задыхаясь от страсти. Ее бедра двигались навстречу в бешеном ритме. Наконец, Владимир резко вынул горячий жезл из Глашиной норки и оросил семенем ее живот. Теплое, белое желе растеклось по влажной коже. Глаша почувствовала свежий, и вместе с тем терпкий, мускусный запах. Этот запах был очень приятен и возбуждал ее еще сильнее. Владимир с хриплым стоном повалился рядом, освобождая место для своего друга.
Глаша смотрела широко раскрытыми, потемневшими от страсти глазами на приказчика. Волосы ее были растрепаны, словно у молодой ведьмы, губы раскрыты для поцелуя. Руки беспорядочно двигались по постели. Спина выгибалась, как у кошки. Казалось, она с бесстыдством еще шире старалась раздвинуть длинные ноги. Игнат уставился на пушистый лобок, из-под которого, в яркой мокрой расщелине, виднелся распухший твердый бутончик. Утреннее солнце уже ярко освещало каждую деталь, каждую влажную ложбинку и впадинку на телах любовников, обнажая все потайное и неявное, что не так бросалось в глаза при вечернем свете и на утренней заре. Глаша резко отвернула лицо, прикрыв лобок рукой. Это ее стыдливое движение понравилось Игнату. Он видел, что она не совсем удовлетворена одним любовным актом с Владимиром. Тем более, что барин был эгоистичен по натуре и не часто старался ласкать женщину так, чтобы вполне удовлетворить все ее желания. Глаша хотела продолжения и полной разрядки.
Бедра непроизвольно стали двигаться навстречу, приглашая его ствол войти в узкую горячую щель, которая снова заструилась соками. Она вся плыла, захлебываясь скользкой, как шляпка гриба масленка, влагой. Эта тягучая, скользкая влага текла в таком обилии, что под широкой попой, на кровати образовалось круглое мокрое пятно.
Игнат, как искушенный любовник, чуть медлил, не вводя орудие. Он знал по опыту, что небольшое промедление вызовет в женщине сильное желание, и он будет утопать в ее горячих соках.
Внезапно, он увидел то, что никак не ожидал от добропорядочной и стыдливой барыньки. Да она и сама от себя такого не ждала. Желая продемонстрировать Игнату всю красоту своих прелестей, томимая страстью, она взялась двумя руками за толстенькие и пушистые края теплой раковины и сильно растянула их в стороны. Ему показалось, что он увидел яркий, диковинный и нежный цветок. Сочные, розовые, напоенные влагой лепестки этого цветка, расходясь в стороны причудливым венчиком, создавали мягкую колыбель для упругого и трепещущего, живого, бархатного пестика.
Пестиком был ее разбухший, готовый к спариванию… клитор. Игнат – тонкий ценитель женских прелестей, был глубоко потрясен всей красотой и откровенностью Глашиного бесстыдного лона.
Он не мог проигнорировать порыв разгоряченной молодой женщины. Как страждущий путник, он нагнулся к цветку, сухие губы приникли к экзотическому венчику. Он стал ласкать его языком и вдыхать дурманящие ароматы. Глаша выгнулась, поощряя руками его действия. Ее пальцы, словно длинные белые корни, опутали черноволосую голову любовника и притянули к жадному до ласк, бутону. Его язык старался изо всех сил. Он холил и баловал этот живой, трепещущий пестик до тех пор, пока не почувствовал, что – "пора". Черноволосая голова с трудом оторвалась от цепких пальчиков барыни. Он решительно вставил в круглое узкое отверстие твердый, загнутый к верху ствол, и стал совершать неторопливые, дразнящие движения. Глаша была на вершине блаженства…
Игнат, немного отклонившись в сторону, продолжал действия, чуть убыстряя темп, но при этом его рука умудрялась дотягиваться до горячей раковины, подушечки пальцев нежно надавливали на восхитительный пестик. Барынька стонала, а он ловил губами ее губы и глушил громкие стоны глубокими и нежными поцелуями. Еще минута, и Глаша разрядилась бурно и сладостно. Оргазм длился невероятно долго, сотрясая молодое гибкое тело, и сводя в гримасу красивое лицо.
Почти сразу кончил и Игнат, едва успев вытащить из ее норки, взорвавшийся семенем, фаллос. Какое-то время он лежал на Глаше, затем откинулся на спину.
После такого бурного соития Глаша сильно захотела спать. Она свернулась калачиком, глаза непроизвольно закрылись темными ресницами. Хотели спать и мужчины. Игнат даже захрапел. Но деловой и практичный кузен, подремав около получаса, поднялся с кровати и скомандовал:
– Подъем! Игнат, у нас много дел. А вы, Глафира Сергеевна, можете одеваться и идти к себе. Мы позовем вас, когда вы нам понадобитесь.
Глаша, приоткрыв глаза, стала медленно подниматься и припоминать: где осталось ее платье, корсет и чулки. Руки и ноги не слушались ее.
– Да что с вами такое, сударыня?! – прикрикнул на нее, уже одетый Владимир Махнев. – Надо быть живее. Не рота же, солдат вас вы…ла. А только мы двое, – захохотал он.
Оба мужчины, наскоро одевшись, покинули баню, и пошли в господский дом завтракать.
Глава 9
Глаша, оставшись одна, стала лихорадочно одеваться. Она боялась, что в баню может зайти кто-нибудь из дворовой прислуги и увидеть ее в растрепанном виде. Очнувшись от похотливого угара, она сильно забеспокоилась о том, который сейчас час, и не хватились ли ее в господском доме. Больше всего пугала мысль: не вернулась ли из гостей мать Владимира, Анна Федоровна. Чем больше она думала об этом, тем становилось страшнее, что кто-нибудь из прислуги успел разболтать барыне о Глашином «страшном грехе». От обиды и страха закипали слезы. Еле сдерживаясь, чтобы не зарыдать во все горло, она думала: «Если Анна Федоровна вернули-с, и меня уже хватились, то брошусь головой в пруд или повешусь в сарае». Бедная Глафира не давала отчета собственным помыслам. Два последних месяца ее короткой и дотоле почти безмятежной жизни стали самым сладким и одновременно греховным и страшным периодом. Тем периодом, в течение которого она неоднократно помышляла о неискупимом, смертном грехе – грехе самоубийства.
С горем пополам удалось одеться: шнурки от корсета путались, дрожащие руки не могли свести концы с концами. На столике лежало маленькое круглое зеркало, Глаша глянула на свое отражение и тут же отпрянула. Из зеркала на нее смотрело чужое, припухшее лицо с предательски красными, зацелованными губами, два темно-лиловых синяка красовались на белой шее, растрепанные волосы торчали в разные стороны. «Боже, какой кошмар!» – подумала она, – «у меня такой вид, словно я валялась на сеновале или провела ночь в солдатской казарме. Что бы сейчас сказала моя классная дама?» Мысли о строгой воспитательнице обожгли, словно огонь: «Где она, Аполлинария Карловна? Если бы она ныне увидела одну из своих лучших курсисток, то ее бы, верно, хватил удар…»
Ладошки тщетно пытались пригладить сбитые в колтуны, пряди длинных волос. Кое-как удалось заплести тугую, неровную, как пеньковая веревка, косу. С трудом отыскав чулки и туфли, влажными от волнения руками она натянула их на ноги. Едва переведя дух, с трясущимися коленями Глафира Сергеевна, словно воровка, выскользнула из злополучной барской бани.
Кроме короткой дороги, которая шла прямиком от «обители барского греха» до фамильных господских домов, мимо берега пруда через небольшой сад, была и более длинная дорога в обход. Она пролегла через березовую рощицу. Глаша решила пойти по ней: обычно эта дорога была малолюдна. Солнце стояло высоко, щедро затопляя светом полуденную рощу. На траве и листьях блестели прозрачные, словно стеклянные, росинки. Густая листва дышала утренней свежестью. Сквозь мягкую, высокую траву проглядывали черные точки куриной слепоты, голубые головки колокольчиков, белые лепестки ромашек и малиновые звездочки полевых гвоздик. Глаше было не до любования всеми красотами утреннего леса. Даже лесные пташки, поющие переливчатыми голосами и садящиеся на дорожку перед ногами девушки, не могли отвлечь от мрачных предчувствий.
Глаша подошла к дому, в котором находилась ее комната и увидела, что вся прислуга во дворе суетиться больше обычного. Как это часто происходит, она получила именно то, чего боялась.
По отдаленным звукам усадебной суеты, по оживленным голосам дворовых, стало понятно, что этим ранним утром, когда она не ночевала в своей девичьей комнате, приехала барыня, мать Владимира. Сколько же всего произошло, пока та гостила у своей подруги. Глаше показалось, что за это время пролетела целая жизнь.
Нагостившись досыта у давней приятельницы, деятельная мамаша вернулась домой, дабы проверить родного сыночка и все дела, что идут в доме: все ли было хорошо во время ее отсутствия, не провинился ли, часом кто? Все это время барыня не забывала и о Глаше, думая о том: чем занималась эта, по ее мнению, кокетка во время долгого отсутствия тетушки? И хранит ли, она бдительно свою добродетель и целомудрие?
Будучи самолюбивой и властной женщиной, Анна Федоровна, рано оставшись вдовой, как это часто бывает, посвятила себя всю воспитанию ненаглядного сыночка Вольдемара. Материнская слепая любовь настолько идеализировала свое чадо, что мать совсем не считала нужным видеть его недостатки, а тем паче пороки. По ее мнению, все женщины априори не стоили и мизинца ее ненаглядного Владимира. Все были страшными и коварными хищницами, мечтавшими завлечь сына в свои хитросплетенные сети. Ей было неведомо, что обожаемый сын сам был страшным и вечно голодным хищником, который развратил и загубил много неискушенных женских душ. Разве какая-нибудь милая женщина, оказавшись в поле его зрения, могла уйти из его цепких лап? Вот, и бедная Глафира Сергеевна стала заложницей его ненасытной и изощренной похоти.
Как мы упоминали ранее, мать Вольдемара, видя красоту Глаши, невзлюбила племянницу и терпела ее в своем доме лишь потому, что за нее попросили родственники. Она намеревалась в будущем найти ей какого-нибудь подходящего, по ее мнению, жениха и сбагрить сиротку подальше из поместья, дабы она не смущала своей красотой ее любимого сыночка. Она и не догадывалась о том, что сыночек уже с успехом воспользовался красотой и невинностью несчастной девушки.
Приехав рано утром, она как всегда, подробно расспросила у своей главной горничной Петровны, женщины немолодой, пронырливой и хитрой, о том, как шли дела в поместье во время ее отсутствия. Петровна, любившая посплетничать, пользовалась большим доверием у своей госпожи. Она, как обычно, рассказала ей о том, как и кто, себя вел, кто из работников плохо работал, и кого должно наказать за леность и нерадение. Про Глашу Петровна пока молчала, так как боялась, как бы потом ей не влетело за донос от самого Владимира Ивановича. Но, в душе она горела от нетерпения: выложить всю правду о грехопадении молодой приезжей барыньки.
– Петровна, голубушка, ты, мне про всех, вроде, рассказала. А, что же, ты, молчишь про родственницу мою, институтку, сироту бедную? – сузив глаза, спросила барыня.
Петровна, притворно потупив долу хитрые маленькие глазки и закусив нижнюю губу, стояла и молчала, выжидательно.
– Ну, говори же, было чего? – строго молвила барыня.
– Было, кажись, матушка. Помилуйте меня, Анна Федоровна, а только я вам не могу ничего сказывать. Боюсь, гнева сынка вашего, – лепетала горничная.
– Ну вот, еще глупости, говори, я тебе сказала!
– Люди судачат, что навязалась-таки змеюка на шею нашему ненаглядному Владимиру Ивановичу.
– Докладай, что знаешь, баловался ли он с ней?
– Да… Было дело. И ночи у нее коротал. Я слыхала все. И на купальне она голышом перед ним хаживала. Ох, прости господи, и грешницей-то какой, «святоша» наша оказалась! А потом в баню к нему ходить повадилась! Вот вам и институт блахородных девиц!
– Даже так?! – глаза Анны Федоровны метали громы и молнии.
– Повадилась! Чтоб мне провалиться на этом месте! И Игнат приказчик с ними. Сама вчерась видала, как эта «тихоня» расфуфырилась, понадела на себя оборок, да лент красных, титьки свои бесстыжие повыкатила и побёгла прямиком к бане. А там ее, видать, ужо поджидали. Вот, вам крест, барыня – не вру!
– Ах, она мерзавка, – злобно прошептала барыня. – Ладно, что взять с Владимира? – Он мужчина, его дело – молодое, а ей, потаскухе, я покажу. Небо с овчинку покажется.
– Так знамо дело: он мужчина. Какой с него спрос? Это ведь, как в народе говорят: «сучка не захочет – кобель не вскочит»… Ну это я так… По старинке… Просто, оно как? Ежели бы кто из деревенских наших, так я бы, можа, и смолчала. Что с дур возьмешь? А эта-то ведь из блахородных. И туда же, – с видом обличителя нравственных пороков, закатив глаза и цокая языком, Петровна качала головой, повязанной черным монашеским платком.
– Да уж, голубушка, вот это ты новость мне поведала. И что же теперь делать? Надо постараться, избавиться от Глашки побыстрее. Была бы она крепостная, я бы высекла ее розгами с удовольствием, да по заду голому, бесстыжему: живого места бы не оставила! А так… я придумаю, что с ней сотворить и какое наказание назначить. Ты, пока молчи, виду не подавай. Да загрузи ее работой, хватит ей, лентяйке и дармоедке прохлаждаться.
Петровна поцеловала у барыни ручку и вышла, вполне удовлетворенная этим разговором и своим хитроумным доносом.
Глаше повезло только в одном: когда она подходила к дому, барыня находилась на дворе другого господского дома и на террасе пила чай с Владимиром. До слуха Глаши доносились громкие, оживленные голоса и смех матери и сына. Глаша шла по двору, опустив голову, и стараясь ни на кого не смотреть. Хотелось поскорее добраться до крыльца так, чтобы ее никто не увидел. Эти последние шаги давались с большим трудом, как и все старания: сделать спокойное и независимое лицо. Недалеко от крыльца она увидела двух работниц: они косо смотрели на нее и шушукались меж собой.
«Господи, как стыдно, – лихорадочно думала Глаша. – Еще платье это с оборками, так нелепо. И волосы толком нечесаны. Господи, спаси и сохрани меня, грешную! Зачем они так смотрят?»
– Разъебли, видать, уж всю, – услышала она позади себя.
– Что?! Что вы, сказали? Вы, ведь, что-то сказали? – спросила, заикаясь, как молнией пораженная, Глаша.
– Да я вот, Акулинушке говорю: расцвели ужо вовсю георгины в палисаднике у хозяйского дома, – нарочито оправдываясь, лукаво отвечала ей одна из баб. Проговорив это, она дурашливо сморгнула глазами и прыснула в красный кулак.
Но Глаша четко слышала, что они сказали, на самом деле. «Боже мой, какой, стыд!», – думала она, дрожа всем телом. Она добралась до своей комнаты, кинулась на подушку и горько заплакала. Весь день к ней никто не входил.
Анна Федоровна, после некоторых раздумий решила, что будет лучше, если она не станет выяснять отношения с племянницей. Она посчитала, что подобные разговоры будут ниже ее достоинства, и решила «наградить»
Глашу своим полным молчаливым презрением. Она еще больше утвердилась в намерении искать Глафире Сергеевне будущего мужа. Барыня стала мысленно перебирать имена всех возможных кандидатов в супруги. Но вспоминая каждого холостого мужчину, она приходила к выводу: что все они были наделены множеством приятных добродетелей. Все эти мужчины были слишком хороши для этой «презренной мерзавки», которая с распутством и радостью отдалась благородному красавцу Вольдемару. Очень уж хотелось найти кого-нибудь похуже, некрасивее и злее.
«Я бы с радостью отдала ее замуж за убогого Митяя», – со злорадством размышляла она. Несчастный юродивый Митяй – сын ключника, от рождения отличался слабоумием, был горбат и уродлив. С его перекошенного, большого и одутловатого лица не сходила глупая блаженная улыбка. Он часто и громко шмыгал мокрым, сопливым носом, огромные паучьи руки размазывали по лицу слюни, текущие из впалого, как дыра, беззубого рта.
Все деревенские его жалели, и каждый считал своим долгом зазвать ко двору и накормить горемыку.
Анна Федоровна даже рассмеялась от удовольствия при мысли об этом забавном мезальянсе. Она понимала, что этот поступок был бы очень уж бессердечным и абсурдным. «Нет, меня бы, возможно, все осудили. Хотя… кто они такие, чтобы указывать мне – своей хозяйке?» – фантазировала Анна Федоровна. Её воображение так разыгралось, что она живо, в деталях представила себе картину покорного возлежания племянницы под уродливым телом горбуна. «Жаль, что сие действо скорее невозможно. Ну, ничего, уж я-то ей пропишу ижицу! Она у меня еще попляшет. Вмиг, весь румянец со щек бессовестных слетит», – мстительно размышляла она.
На следующее утро, рано на рассвете к Глаше в комнату, почти без стука, вошла старшая горничная Петровна и сказала, как приказала:
– Хватит уже почивать, милочка. Барыня приказали-с вам делом заняться. Позавтракайте в девичьей и приходите ко мне в комнату, я вам работы дам на день. Да оденьтесь поскромнее, пожалуй. Нечего тут оборками, да телесами щеголять.
Глаше было очень обидно и от этих слов и от тона, с которым все это произносилось. А еще большую обиду доставило то, что ее послали завтракать не в господскую столовую залу или на террасу, а в девичью комнату, где обедали дворовые бабы и «девки». Хотя, по правде говоря, девственных девок-то в поместье не осталось ни одной, благодаря стараниям барина и его приказчика. Все почти были «порчены». Но никто и никогда об этом не говорил вслух. Все боялись гнева молодого хозяина.
Глаша надела на себя неброскую, коричневую кофту-душегрею и скромную, почти черную, шерстяную юбку. Золотистые волосы она убрала под холстинковый платок. Спустилась в девичью. Там никого уже не было, все позавтракали. С трудом, без аппетита она проглотила несколько ложек пшеничной каши и кусочек пряглы[46]. Она была настолько подавлена, что не желала ни с кем разговаривать. Готовая ко всему, Глаша догадывалась, что судьба готовит ей не самое лучшее будущее. Она поняла: Анна Федоровна решила специально унизить ее тем, что заставила есть вместе с прислугой. Барыня откровенно дала понять «бедной родственнице» новое место в своем доме.
После завтрака девушку разыскала Петровна и выдала ей целый ворох белья.
– Вот, тебе: белье, нитки, иголки. Штопай, как следует, все дырочки. Как закончишь, дам новую работу.
Глаша, не говоря ни слова, ушла к себе в комнату. Белья оказалось много, и девушка, не выходя из комнаты, с утра до позднего вечера сидела и штопала рубахи, простыни, полотенца. Выходила она только для того, чтобы немного поесть. Штопая вещь за вещью, стараясь сделать все как можно аккуратней, Глаша натрудила иголкой пальцы. Болела спина, слезились от напряжения глаза. Однажды, найдя среди сваленных в кучу вещей, рубашку Владимира, которая даже после стирки, сохраняла его родной возбуждающий запах – запах мужского пота, смешанного с ароматами английского табака и одеколона, Глаша принялась плакать, целуя милую сердцу, вещь. Она вдыхала, и голова шла кругом от воспоминаний о его голосе, походке, движениях, об его смертельных ласках. В ушах стоял страстный шепот, шепот с которым он разговаривал с ней в минуты крайнего возбуждения.
Вспоминала она и об Игнате. Он тоже был ей приятен, тем более что Игнат оказался на редкость ласковым любовником. Но сердце ее навек принадлежало только одному кузену. Она понимала, насколько глубока ее любовь к этому порочному человеку.
Сам же Владимир не заглядывал в ее комнату. Она лишь отдаленно слышала их с Игнатом голоса и веселый, непринужденный смех Владимира. Мать Владимира тоже пренебрегала общением со своей родственницей. После штопки белья, Петровна принесла в ее комнату льняные полотенца и приказала вышивать петухов красной нитью по нанесенному карандашом, рисунку.
Так пролетели две недели. Глаша догадывалась, что кузен все это время не тосковал по ней и, наверняка, развлекался с другими бабами в своей знаменитой бане. «С кем же он спит? Кого сейчас ласкает?» – думала вечерами, сгорая от ревности, Глаша. «Мне бы забыть об этом демоне надо, а я плачу о нем и страдаю. Он отравил меня, сделал рабою, послушной марионеткой. Я хуже развратной куртизанки отдавалась ему и его приказчику. Зачем, он заставлял меня делить ложе и с Игнатом? Это же богомерзкий блуд! И меня покарает господь… Разве, ему скучно было одному? Или, я для него так пуста и бессмысленна, что мною не жаль и поделиться? Неужели, я так порочна? Почему, не могу не думать о нем? Почему его шепот стоит в моих ушах? Доколь, продлится эта мука? Господи, пощади меня! Господи, я не могу без него!» – думала она.
Как-то раз, рано утром ее послали в лес за грибами вместе с худой, высокой, некрасивой и конопатой Таней. Стоял август, первая половина. Всю неделю до этого шли то обложные, то моросящие дожди. Лес и поля выглядели сонно и уныло, закутанные в облака тумана и мелкую сетку из водяных капель. Обитатели усадьбы ходили, лениво позевывая. Смертельно хотелось спать. Потом выглянуло солнышко, и все подсохло. В лесу, как на дрожжах, из-под влажной, жирной земли повылезло много свежих, молодых грибов. Немало дворовых людей целыми днями, с утра до позднего вечера ходили по лесу с лукошками и корзинами и собирали их для зимних заготовок. Крепкие, белые грузди, важные, толстенькие боровики, скользкие маслята, кружевные рыжики, желтые кучковые опята заполонили все леса и пролески вокруг большого имения семейства Махневых.
В то ранее утро Глаша, накинув старый клетчатый плащ, и надев стоптанные туфли, взяла большую корзину и пошла с Таней в дальнюю рощу за грибами. Девушки брели по лесу, негромко разговаривая о мелочах. Утро было немного пасмурным, облачным. Солнце еще не успело набрать полную силу, не успело проклюнуться сквозь утренние густые облака. Глаша сильно озябла, промочив ноги о высокую и влажную траву. Девушки шли по лесу, стараясь не уходить далеко от проселочной дороги: боялись заблудиться.
Неожиданно, где-то рядом послышался топот копыт и стук колес. Девушки испуганно оглянулись – в просвете деревьев показалась коляска барина. Лошадиные копыта увязали во влажной земле, раздался мужской голос: «Тпру, стоять!». И коляска остановилась. Глашино сердце забилось, словно пойманная птица. Казалось, от волнения и радости она потеряет рассудок.
Сквозь заросли орешника к ним продирался Игнат. Запыхавшись, он встал возле девушек.
– А ну-ко, Танюшка, иди, погуляй малость, – хрипло проговорил он, – барин с Глафирой Сергеевной желает потолковать.
Таня послушно кивнула рыжей головой, повязанной синим шерстяным платком, шмыгнула облупленным носом и попятилась назад. Затрещали сломанные ветки, несколько испуганных птах разлетелось в стороны. Один миг, и она исчезла за густыми еловыми лапами. Глаша осталась одна. Игнат, не говоря ни слова, отбросил корзину в сторону и, взяв ее на руки, понес к запряженной парой лошадей, красивой рессорной коляске.
Надо сказать несколько слов о щегольской коляске Владимира Ивановича. Она была изготовлена специально для него, на заказ, и поражала своей роскошью и великолепием.
Верх коляски был крытый, в виде кареты или фаэтона или дормеза[47] с просторной кабиной и двумя блестящими стеклянными окошками. Синий голландский шелк и бархат покрывали внутренний салон. Луч солнца, попадающий в стеклянное окошко, золотил шляпки изящных медных гвоздиков, выполненных в виде вензеля помещиков Махневых. Эти гвоздики с маленькими буковками «М» на шляпках держали щедрую шелковую драпировку внутренних стен. Такие же вензеля, только намного больше, украшали боковины, покрытого кожей, фаэтона. Внутри кабины, с двух сторон, были сделаны широкие и мягкие сидения, в виде диванчиков, на которых при желании можно было даже поспать. Рядом с кабиной на козлах, обычно, восседал кучер.
Сегодня обошлось без кучера, его роль выполнял приказчик Игнат. В кабине кареты сидел, развалясь, Владимир и улыбался белозубым ртом. На нем был надет модный серый фрак и светлая шелковая рубашка. Крупный, чистой воды бриллиант полыхал голубым светом на золотой булавке, приколотой к английскому, полосатому шейному платку. Лайковые светлые перчатки обтягивали тонкие породистые руки.
Оба мужчины и Глаша оказались в кабине кареты, которую Игнат увел с дороги немного в сторону леса, остановив за высокими кустами и скрыв от посторонних глаз.
– Ах, сударыня, как давно мы с вами не виделись. Вы, верно, сильно скучали по мне, а может, по Игнату? – лукаво улыбаясь, чуть приподняв бровь, игриво спросил Владимир.
Глаша, сидя на руках у приказчика, чувствовала, как у того гулко стучит сердце, соединяясь со стуком ее собственного.
– По правде говоря, это Игнат виноват в том, что мы разыскали вас в лесу, по дороге в город. Это он прознал о том, что вас отправили в лес. Вас не сильно тяготит эта рутинная «грибная охота»? Хотя, свежий воздух и моцион вам полезен. Вон, как ваши щечки загорелись. Ах, боже мой, во что же вы одеты, Mon cher? Игнат, скинь ты с нее этот нелепый плащ и мокрые туфли. Девочка гораздо лучше смотрится, когда совсем голенькая. Раздевайся, раздевайся, скорее. Мы едем по делам, и у нас мало времени. Но мы не можем оставить вас, сударыня, так долго ходить не ё… – он дурашливо запнулся и прикрыл рот рукой, – не ласканной. Как там поживают наши тугие норочки? Текут ли они при мыслях об наших могучих жеребцах?
Глаша покраснела, как маков цвет, и попыталась соскочить с острых коленей Игната. Ладошки с силой уперлись в обруч из сильных мужских рук.
– Пустите, мне надо идти, – сжатый кулачок ударил по руке приказчика.
Владимир приблизил к ней лицо, пахнуло знакомым одеколоном, мгновение и острый, сводящий с ума поцелуй, заставил прекратить всякое сопротивление. Кулачки разжались, она ослабла и безвольно опустила руки.
– Раздень ее донага, – хриплым голосом приказал Владимир.
Глаша стеснялась своей невзрачной одежды, которую торопливо снимал с нее Игнат. Она, словно зачарованная, смотрела в глаза ненаглядному кузену. Его гипнотический взгляд производил на нее почти колдовское действие. Всполохи бриллианта на булавке действовали, как магический кристалл. Его сияние вызывало немоту, слабость и безволие. Позже она мучительно вспоминала все детали этого короткого свидания, и не могла понять себя и простить: отчего, она все время позволяла ему и его приказчику проделывать с ней все эти ужасные вещи? Отчего, она не только не убежала, но и помогала Игнату снимать с себя одежду? Отчего, она неизменно вела себя как «овца на заклании», как только видела его глаза и слышала его приказы? Она понимала: дело не только в сильных чувствах, дело было в ином… Он говорил с ней, но это был не только его голос. В нем звучала другая, более сильная, всесокрушающая воля неведомой и страшной силы. Эта сила во сто крат превосходила человеческие возможности и волю самого Владимира. Что оставалось делать ей? Она и вовсе была нема и беззащитна пред грозной стихией, влекущей ее душу в «холодные врата» порока. «Я не вольна… К чему сопротивление?» – обреченно думала Глаша.
Наконец, снято было все, включая батистовые панталончики. Глаша сидела на скамейке кареты обнаженная и прекрасная в своей наготе. Ее била нервная дрожь. То обстоятельство, что она замерзла накануне и сильно промочила ноги, сделало тело, холодным на ощупь. «Гусиная кожа» покрыла руки и ноги; груди, а особенно соски, торчали в стороны, словно резиновые.
– Ну, вот так. Молодец! А теперь, распусти косу. Мне больше нравиться, когда ты похожа на ведьмочку лесную или на нимфу, – сказал, улыбаясь, Владимир Иванович. – Игнат, ты не находишь, что наша Глаша в таком виде на ведьму лесную похожа? Вон и листья сухие в волосы забились. Может, ну ее, раздели – да и отпустим? Пущай, голышом по лесу побегает, глядишь – Лешему в жены достанется… Сударыня, не желаете ли за Лешего замуж выйти?
– Владимир Иванович, сдается мне, что барышне нашей и без Лешего страшно. Вон, как зубы-то стучат, – усмехаясь, отвечал ему Игнат, с вожделением глядя на голую красавицу.
– Ничего, мы ее сейчас быстро согреем и не хуже Лешего заласкаем.
Сам барин не раздевался и даже не снимал кожаных перчаток, лишь только расстегнув брюки, слегка приспустил их вниз, освобождая горячий, ненасытный член. Игнат тоже остался в сюртуке и немного приспустил брюки. Их большие и чистые приапы, словно две огромные змеи, стали подрагивать и поднимать толстые овальные и мясистые головы. Глаша, тяжело и возбужденно дышала, предвкушая скорую близость. Она уже мысленно представляла, как эти тяжелые головки с трудом проскользнут в ее теплое скользкое нутро, и как она будет долго и с силой сжимать их, пока не выдавит из их хищных ртов живую и горячую, молочную влагу.
Тонкие пальцы медленно расплели косу. Волосы тяжелыми локонами упали на плечи, грудь и спину. Распущенные, они почти покрывали сзади круглую, упругую попу, которая стремилась принять такую позу, чтобы за двумя половинками открылся и расширился зазывно алчущий красный зев.
Губы Игната принялись покрывать ее холодное тело мелкими нежными поцелуями. Жадные руки стискивали до хруста талию – она слегка вскрикивала, словно придушенная. После, он впивался долгим поцелуем в ее раскрытый, пухлый рот. Глаша возбуждалась все сильнее, ее лоно припухло и увлажнилось. Две недели разлуки дали о себе знать. Она сама неистово обнимала обоих мужчин и целовала их волосы, глаза, руки. Мешала только одежда. Но Владимир, почему-то, не захотел ее снимать. Это был очередной его каприз, тонкий изыск – увидеть голую, беспомощную девушку на фоне почти полностью одетых мужчин.
Не снимая перчаток, Владимир посадил Глашу к себе на колени. Он велел ей раздвинуть стройные ножки и послушно обнажить все прелести. Руки, облаченные в тонкие, лайковые перчатки держали ее за внутреннюю поверхность полных белых ляжек и прижимали с такой силой, что ее ноги невольно разъезжались в стороны. Мягкие перчатки, присыпанные светлой пудрой, словно впивались в белую нежную плоть. Не снимая перчаток, Владимир похлопал двумя пальцами по распухшей сердцевине скользкого лона, два лайковых пальца ненадолго нырнули в сочное отверстие верхней норки, дерзко подвигались в нем и вынырнули наружу. Глаша невольно застонала, поддавшись навстречу его пальцам.
– Смотри, Игнат, девочка наша все худеет, бедная, а ее мохнатенькая подружка делается все краше и краше! Смотри, как она рада тебе. Выбирай себе дырочку по вкусу – они обе мокры, и приступай. Поиграемся сегодня на славу! Сегодня, ты – первый, начинай.
Глаша в такой позе была похожа на огромную бабочку-капустницу, пойманную красивым и коварным пауком. Паук цепко держал ее в стальных лапах, вывернув наружу все драгоценные внутренности. Нежная бабочка-однодневка, зная, что непременно умрет, пришпиленная к пауку, почти не сопротивлялась, она с вдохновением отдавалась предсмертной агонии.
Глаша выгнулась, ожидая Игната. Глаза закатились в истоме, розовое отверстие пульсировало. Владимир держал ее крепко, выворачивая лобок наружу, как можно удобнее подставляя натиску большого фаллоса. В такой беззащитной позе Игнат мог свободно проткнуть и плотное колечко ануса. Он и нацелился на него. Но увидев ее молящие глаза, в последний момент передумал и отправил жеребца в верхнюю алчущую норку. Глаша застонала, заерзала, в знак благодарности. Попа ее, удерживаемая Владимиром, еще больше заходила ходуном, стараясь сильнее прогибаться навстречу.
Она не ожидала, что так бесстыдно и совсем откровенно захочет этой близости. Игнат, двигался глубоко и быстро, вгоняя фаллос по самые тестикулы, надавливал до упора. То начинал водить им медленно, почти по поверхности, упираясь сизой головкой о готовый к оргазму, бутон. Глаша стонала от удовольствия. Особенно, ей было приятно, когда его орудие упиралось до конца. Еще немного, и наступила долгожданная кульминация. Оргазм волнами сотрясал ее тело и с силой выгибал спину. Владимир еле удерживал ее. Она орала, словно дикая кошка, ее ногти до крови расцарапали бедра Игната. Влажное устье так сдавило его готовый к извержению фаллос, что приказчик не смог, не успел вытащить его из плотного плена. Дрожа всем телом, он исторг белую горячую жидкость глубоко в ее лоно. Постояв минуту, он хрипло застонал, стиснул зубы и упал на бархатную скамейку.
Владимир освободил Глашу от неудобной позы. Она посидела, размяв затекшие ноги. Ей очень хотелось прилечь, но неудовлетворенный кузен не дал ей это сделать. Он поставил ее на другую скамейку спиной и заставил сильно прогнуться – теперь ее роскошный зад торчал к верху, а голова и плечи упирались в голубой бархат скамейки. Не раздумывая, он принялся буравить толстым стволом ее, еще не отдохнувшее нутро. Кузен стал двигаться в Глаше очень быстро и глубоко. Глаша, порой стонала то от боли, то от удовольствия, охватившего ее. Его отрывистое дыхание, сладострастный и влажный шепот создавали в ней новую, более сильную волну возбуждения. Она с силой насаживалась на его ствол, шепча от наслаждения: «Да, да, так… Сильнее, Володечка, как я вас люблююю… Ах…»
Его ладонь плотно и нежно обхватила ее горло и немного сжала его, так, что вместо отрывистых фраз, послышались стоны и сдавленный до хрипоты шепот.
Ее неистовый любовник вынул горячий фаллос из розовой норки и, приставив его к темному бархатистому кружочку, с силой надавил и на него. От неожиданности, Глаша снова вскрикнула.
– Детка, твоя дырочка опять сузилась, а я не взял с собой душистого масла. Ты расслабься, я только немножечко введу тебе его. Самую малость… Только чуток. Да не кричи ты, так громко, – уговаривал ее коварный кузен.
Глаша постаралась расслабиться, но это у нее плохо получалось.
– Тише, тише, не крути задом, Mon cher… Еще чуть-чуть… А…
По щекам Глаши потекли слезы. Его движения стали более нервными и отрывистыми. Он начинал кончать. Глаша, доведенная до самых небывалых высот страсти, громко и истошно кричала. Сама боль, казалось, доставляла ей огромное удовольствие. Тело трясло от неописуемого экстаза. Голова девушки ударялась о мягкую спинку дивана. Со стороны казалось, что рессорная карета «ходит ходуном», трясется и наклоняется из стороны в сторону. Лошади пугливо озирались и поводили ушами.
Владимир кончал долго, вливая горячую лаву в девичий бархатистый кратер.
Какое-то время все трое сидели без движения. Затем, Игнат помог Глаше наскоро одеться. Через пять минут дверца кареты распахнулась, стукнули металлические подвесные ступеньки, ножки Глафиры Сергеевны нетвердо встали на мягкую траву. Дверцы захлопнулись, Игнат сел на козлы и развернул лошадей. Черные глазищи приказчика глянули напоследок на одинокую фигуру барыньки, закутанную в старый плащ, смуглая рука молодецки подкрутила казацкий ус. Приказчик крякнул от удовольствия, щелкнул в воздухе хлыст, и карета поехала еще быстрее, увозя барина по делам.
Глаша постояла с минуту, бессмысленный взгляд проводил карету, пока та не скрылась из виду за высоким кустарником. Стук копыт становился чуть тише, и сделался и вовсе едва различимым от гулких ударов сердца. Слабые ноги сделали шаг в сторону, она пошатнулась и упала лицом в мокрую траву.
– Господи, умоляю, сделай так, чтобы я немедленно умерла, – глухие рыдания взорвали грудь острой болью.
Глава 10
А что же Танюша? Что делала она во время «тайного разговора» Глафиры Сергеевны и барина в карете? Таня не спряталась далеко в лесу, ее худенькая и высокая фигурка притаилась среди густых еловых веток, умные зеленые глазищи с любопытством наблюдали за тем, как трясется экипаж барина. Чуткие ушки слышали страстные стоны молодой барыньки и редкие мужские голоса – все эти звуки не могли утаиться даже за плотно-закрытыми дверями барчуковой кареты.
Она отлично понимала, что за «разговор» шел в глубине этого дорожного экипажа. Воображение подкидывало все более и более откровенные интимные картины происходящего «таинства». Телесное возбуждение стало постепенно охватывать Татьяну. Она раздвинула тонкие ножки, подняла шерстяную паневу, рука впилась в плоский лобок, слегка прикрытый рыжим курчавым завитком.
Таня, как мы говорили ранее, отличалась худеньким и высоким телосложением. На ее неширокой спине при наклоне выделялась цепочка обтянутых белой кожей, позвонков. Живот скорее впалый, наводил на мысль о том, что Таня сильно недоедает. При дыхании отчетливо выступали овальные гибкие ребра. Груди девушки, почти не развитые, торчали унылыми сосками, похожими на сморщенные вишенки. Попа Тани, будучи неразвитой и плоской, не смогла бы поразить воображение ни художника, ни поэта. Ее фигура более походила на фигуру мальчика-подростка. Не выделялось красотой и лицо Танюши. Бледное, покрытое крупными конопушками, оно было слишком малопривлекательным для мужского пола. Оживляли его только зеленые, словно крыжовины, небольшие умные глаза с густыми белесыми ресницами и удивленно приподнятыми, бровями. С детства Таня слышала разговоры родителей о том, что она, на беду, пошла в отцову породу, и не видать ей замужества, как своих ушей.
– Ешь, побольше каши, дубина ты, стоеросовая. Глядишь – раздобреешь малость. Хотя, куды там, раздобреешь… Жрешь как мужик, а все «не в кобылу корм», – часто и обидно говорил ей отец. – Кто же замуж-то тебя возьмет? Ведь подержаться-то не за что.
Таня ела кашу и щи, крупно жуя набитым ртом, но, все равно – никак не полнела. Она с завистью смотрела на своих сестер и подруг, которые на девичниках старались ненароком обнажить руки, полные ножки и упругие, большие грудки. Деревенские парни не смотрели в ее сторону. Ни одну ночь провела Танюша в печали, обливая слезами девичью подушку. Она уже свыклась с мыслью, что ей придется, в случае чего, отпроситься у своих господ и уйти в монастырь на вечное моление.
И вот, глядя на трясущуюся карету, Таня почему-то сильно возбудилась. Она и ранее испытывала подобные ощущения, но очень редко. Иногда во сне, иногда после бани, лаская себя теплую и чистую после мытья, она долго терла пальчиками свой маленький «хоботок» до тех пор, пока ее не накрывала волна долгожданного наслаждения.
Стоя за елкой, она чуть присела и ввела в мокрую расщелину два пальца. Поддавшись вперед бедрами, стала с наслаждением водить пальцами по скользкому лону. Ласкать себя стоя было неудобно: дрожали колени, и кружилась голова. Оглянувшись вокруг, она выбрала на траве место посуше и легла на него. Длинные руки нервно сжали подол шерстяной паневы, Таня помедлила минуту и решительно задрала юбку и рубаху к верху – оголилось бледное, тонкое тельце вплоть до плоских грудей. Хотелось и вовсе снять всю нехитрую одежку, но она побоялась, что кто-нибудь забредет в лес и увидит ее срамной вид.
Из травы с писком тяжело взлетело несколько здоровенных, рыжих комаров. Муравьи и маленькие блестящие букашки тоже поспешили покинуть место, где они сонно дремали, не потревоженные ничьим случайным вторжением. Положив удобнее рыжеволосую голову, Таня широко раскинула ноги. Одна рука взялась за бледные губы и развела их в стороны, другая принялась с усердием теребить маленькую влажную бусинку. Бусинка медленно распухала… Благодаря скользкой влаге, грубые от работы, пальцы девушки легко двигались. Длинные ноги, раскинувшись, словно ветки гибкого дерева, взлетали выше и выше. Узкие ступни упирались во влажную траву, худенький зад приподнимался над землей, совершая почти акробатические движения. Как хотелось, чтобы из лесной чащобы вдруг появился мужественный герой, воображаемый партнер, одновременно похожий и на барина, и на его приказчика и разделил с ней это скромное, лесное ложе. В глаза, рот и нос Тани лезла душистая трава, от комариного укуса зудился подбородок, ко лбу прилипла осыпавшаяся желтая пыльца, к уху с настойчивым жужжанием пробирался черный жучок. Отмахнувшись от жучка, Таня сосредоточенно продолжала свои действия.
Взор был направлен на «ходящую ходуном» карету. Она не сводила с нее глаз, включаясь в бешеный ритм, происходящего в ней таинства. Особенно дразнили и возбуждали громкие Глашины крики. Сладострастные охи и вздохи молодой барыньки звучали столь привлекательно, что Таня отказалась от воображаемого партнера и отправила его назад в темную чащобу. В эти минуты ей захотелось самой стать мужчиной. И мужчиной не простым – писанным красавцем с огромным детородным отростком. С каким наслаждением она бы проникла этим внушительным орудием в Глашин чувственный алый рот, или бы до отказа заполнила им таинственную, темную дыру, упрятанную меж стройных ножек крикливой барыньки. Эта дыра казалась ей входом в глубокий и темный, бездонный колодец. Колодец, куда уходила вся страсть, вся сила, весь разум. Все летело к чертям, с жутким втягивающим свистом в этот бездонный ненасытный колодец.
Потом Таня перевернулась на живот и, подняв высоко узкий зад, принялась ласкать себя сзади, ловкие длинные пальцы проникали в узкое, скользкое нутро. В эти минуты ей снова захотелось стать женщиной – женщиной справной с упругими, крупными формами. Хотелось, чтобы в нее с силой вошел фаллос Владимира Ивановича и вытянулся в ней до отказа. Надо сказать, что неразборчивый и жадный до наслаждения фаллос барина уже побывал ранее в Танюше и не раз, но вовсе не так, как она этого хотела.
Таня стонала так же сильно и громко, как Глаша, стараясь перекричать ее и попасть в такт звукам ее голоса. Как непривычны были эти звуки для тихого утреннего леса. Казалось, даже птицы замерли в большом удивлении. Сладострастные стоны разносились гулким эхом и ударялись в верхушки сосен и елей. Девушке доставляло большое удовольствие не сдерживать голос, а подражая Глаше, упиваться радостью, которую доставляли эти громкие сладострастные крики. Наконец она кончила, выгнувшись с силой в белую дугу. Наслаждение было длительным… Словно горячая волна прокатилась по лону девушки, сведя тугой и сладкой судорогой живот. Она еще немного, едва-едва шевеля пальчиками по воспаленной горошинке, возвращала себя к этим волнам, которые уже на спаде, заставляли пульсировать и сжиматься ее влажную норку. После, она какое-то время лежала почти без сил, закрыв глаза. И едва успела опустить подол на белое тощее тельце, когда внезапно услышала стук открывающейся дверки кареты.
Танюша вскочила на ноги, затем испуганно пригнулась и решила схорониться от греха подальше за кустом дикой малины.
Когда Глафира Сергеевна бледная и без сил, с опухшими от слез глазами, подошла к Танюше, то увидела, что та смотрит на нее вовсе не с любопытством, а как-то устало и отрешенно. Обе девушки присели на траву и долго молчали.
Теплое солнышко стало нежно пробиваться лучами сквозь белые облака. Ласковый ветер дул несильно, осушая траву, мокрую от прошедших накануне, дождей. Над поляной с усердным гулом зашумели толстые, полосатые шмели. Тяжело взмывая вверх и расправляя мокрые крылышки, они несли свои жадные хоботки к сладкому нектару, хранимому в теплых, сонных головках полевых, отцветающих цветов. Порхали яркие бабочки и стрекозы, отдавая всю радость, всю силу и желание жизни этому летнему беспечному дню. Делали они это так искренне и страстно, будто знали в глубине своих крошечных душ, что это – их последние мгновения короткой, беззаботной жизни. Будто чувствовали, что скоро на смену скоротечным теплым денькам придут холодные, колючие ветра и дожди. Дни пролетят, как одно мгновение, и вся земля будет укрыта толстым, снежным, белым одеялом. Одеялом их смерти и забвения.
Первой тишину нарушила Глаша.
– Таня, а как ты думаешь, в этом лесу Леший водится?
– Чтой-то вы, Глафира Сергеевна, спросить удумали? – ответила Татьяна и перекрестилась. – Благо еще, что день на дворе ясный. А ежели бы вечерело, так я вам и не отвечала бы вовсе. Потому, как: зачем про Нечистого спрашивать в его-то владениях?
– Нельзя?
– А что вы, так на меня смотрите? Али дивитесь? Знамо, что водится в чащобах нечисть разная. Может и не туточки, а где подальше, где люду человечьего поменьше шастает. А только, как ей не быть? – важно отвечала Татьяна. – Во всяком месте свой хозяин имеется. В лесу – «Леший» за зверьем ходит; в воде – «Водяной» рыбьи стада пасет; в поле – «Полевой» за покосом следит; в доме кажном – «Домовой» за печкой сидит; а в бане – дед «Банник» сторожит. Да и в других местах всякий дух свой живет. А только у истинного христианина на всякую нечисть одна защита имеется – крест православный, да молитва, – сказав это, Татьяна вытащила из-за пазухи маленький серебряный крестик и, помахав им перед носом смущенной Глаши, истово поцеловала его и спрятала под ворот выцветшей рубашки.
Потом, глядя на Глашу, она вдруг рассмеялась и продолжила.
– Вы, барышня – как дите малое, несмышленое: всему удивляетесь. А оно и воистину: есть, чему и подивиться. Живет у нас в деревне одна бабка, Мелентьевной все величают. Она и знахарка и повитуха. Паче других ведает и о травах, и о зверье, и о духах разных. Сколь всего диковинного она нам рассказывала! Сказывала, что Леший, он для плохого человека страшен и лют, а доброму пособляет – заплутавшего из чащобы выводит, грибами, да ягодами одаривает. А коли видит, что злыдень в лес пожаловал – так он такой ветер поднимет, так его закружит и листьями засыплет. А может, на корягу острую бросить или зверю лесному на съедение отдать.
– Господи, Боже мой, какие страсти! Таня, а как он внешне выглядит?
– Как выглядит, спрашиваете… Да уж, кто видал его, тот никогда не забудет. Говорят, что огромен – до верхушек деревьев истуканом стоит. И волосом длинным, словно тиной, с головы до пят покрыт. Одёжа на нем имеется, а только вывернута вся наизнанку. Лицо у него – цвета болотного, без ресниц и бровей – очень уж страшное. Рот огромен, как яма. А вместо очей – уголья красные горят, – понижая голос, зловеще проговорила Таня.
– Ужас! – по Глашиному телу пробежали мурашки.
– То-то, что сущий ужас!
– Таня, скажи, а у Лешего жена бывает?
– Тьфу, и что это он вам дался?! Жена… Как не быть? Конечно, бывает. Жена его: кикимора лесная али болотная – старуха страшная, лохматая, да лихотная. Злющая, как Петровна наша, – ответила Татьяна и громко рассмеялась, – хотя, Мелентьевна нам сказывала, что Леший этот иногда девушек молодых крадет, насильно в жены забирает.
– Как, так насильно?
– А так и насильно. Рассказывали, что однажды девица по имени Параскевья пошла с подружками по грибы. Шла она, шла… Да, заблудилась ненароком. Отбилась, значит, от подружек и в чащобу дальнюю угодила. Уж, они искали ее, искали до самой ноченьки – не нашли. Набрели под утро. Глядят: а она лежит под древом вся растрепанная, платье изорвано в клочья, глаза безумные. Они пытались порасспросить ее о том, что с нею приключилось, а она молчит – словно воды в рот набрала. С тех пор, сама не своя стала – как будто умом тронулась. Стала только матушка ее замечать, что у Парашки вдруг живот стал на нос лезть. Понесла она. И через положенное время разрешилась от бремени младенчиком, – перейдя на шепот, и страшно округлив зеленые глазищи, Татьяна продолжала. – Только младенчик энтот порченный был, каженный… Голова – дюже большая и бледная, словно пузырь коровий. И главное: дитё все волосьями густыми, зелеными покрыто – с головы, до пяток!
– Страх Божий!
– Да уж, страх и есть. А только Парашка-то, никому не разрешила младенчика трогать. Стала титьку ему давать, да нянчить. А ночью задремала чуток, а как проснулась, глядь – в люльке вместо младенца полешко деревянное лежит, в пеленки обмотанное. А в избе кругом следы мокрые и листья зеленые валяются.
– И как это понять?
– А так и понимать: у дитя-то отцом был как раз Леший лесной. Вот он и забрал его той ночью к себе, в чащобу, ал и кулигу[48].
– А Парашка как же?
– Говорят, что и сама Парашка опосля куда-то сгинула. Поискали ее, поискали – да так и не сыскали. Да и право сказать, она ведь тоже каженницей[49] стала. Следить ее – зряшное дело, только лихо-злосчастье сытить. – А чего вы, Глафира Сергеевна, так про Лешего меня дотошно пытаете?
– Да так… пустое, – Глаша смущенно отвела глаза.
– Что же, за секрет?
– Да нет никакого секрета. Владимир Иванович мне сказал, что я на ведьму лесную похожа. Сказал, что за Лешего меня надо просватать.
– А что ему говорить-то вам, ежели, он – обманщик знает, что никогда на вас не женится. Тем паче, что не один с вами балУется, а как нехристь какой – вдвоем с Игнашкой вадит. Свальный грех на вашу душеньку повешал. Я это… Я, почему говорю-то так? В старые времена, как Мелентьевна нам сказывала, вот энтим-то самым грехом многие по деревням баловАлись. Не скажу, что в наших местах, нет. Но, кажись, тоже русского, православного духу народец-то был. Особенно в ночь на Ивана Купалу находила на всех дурнота, да морок – становились люди хуже зверей диких: раздевались донага и кидались лобызать и лапать друг дружку – девки, парни – сраму не имели. Мало раздевались… Они голышом и купались, и через кострища сигали, по лесу темному плутали, в травах колдовских валялись, кричали, как оглашенные. В эту ночь и нечисть разная силу большую имела: ведьмы по дворам шастали, лешие хороводы водили, приняв облик человечий. Тем и смущали православных, к греху плотскому понужали. А люди что? Не все конечно, а те, кто духом слабже, шел на поводу у нечисти. Кто падок до греха, того и увещевать не надобно. Он сам, как свинья грязь, грех везде сыщет. Кто с богом-то душе – тот, поди-ка, прилюдно-то не срамился, да не оголялся, по пожням и лузям не катался. С курвами не блядовал, бока на муравах не мял.
А у иных и без Ивана Купалы меж ног зудится… Они же и блудствовали друг дружку, да по очереди. Каждый – каждую имел. Вот, срамотища-то была! Но то – старое время. Все быльем уж поросло. И косточки тех греховодников языческих давно в аду сгорели. Можа, у них церквей тогда мало было, кто знает?
Некуда было молиться ходить? Теперь-то – не те времена. И церквей полно, и попов, а вот на тебе… Находятся греховодники. А наш-то барин, к тому же – учен и благороден, а туда же… к свальникам примкнул! Охальник[50] бескаружный[51]!
После слов Татьяны, Глаша опустила русую голову и сильно пригорюнилась. До нее постепенно стал доходить истинный смысл всего сказанного её новой подружкой.
– Вот Таня, ты и поняла, зачем Игнат меня затащил в экипаж барина? – спросила она усталым и бесцветным голосом.
– Как не понять, барышня. Не дурочка, же я. Все разумею, тока сказать поперед не смею, – со вздохом отвечала Татьяна.
– Таня, мне ужасно стыдно и мучительно. Поверь, это – не вина моя, а беда. Я не могла. Я не хотела. Я… Словом, я вынуждена была подчиниться. Погубил он мою душу. Навеки погубил. Нет мне спасения, и прощения не будет. Так и тону в этом омуте, а сделать ничего не властна. Рада бы из сердца и памяти все убрать, да видать – не получится. Не хозяйка я себе, а раба его, как другие стала.
– Как, мне не знать, Глафира Сергеевна. Все знают про нашего барина, что он у себя в имении вытворяет. Креста на нем нет! Бог накажет его за страшный блуд! Хотя, кажись, все бабы по нем, страсть, как сохнут… Вот и вы, несмотря ни на что, любите видать, его. А как не полюбить такого? Чистый Сатана, а не мужчина. И дружок ему подстать. Курощуп известный. В прошлом годе крепостная Олюшка Круглова даже утопиться из-за барина хотела. Как безумная его любила. А он и ее не пожалел. Все пересмешничал над тем, что ходила за ним, словно собака на привязи.
– Так, что ее спасли? – испуганно спросила Глаша.
– Спасли, слава тебе, господи. Насилу откачали. Владимир Иванович, опосля этого случая, услал ее в соседнюю губернию, от греха подальше. Говорят, что продал в наложницы своему другу, бывшему поручику драгунского полка. Некрасивый, говорят, поручик был: корявый, оспинами, что просом, все чело обсыпано. Пахло от него дурно. Но бабы сказывали, что добрый оказался. Пожалел Олюшку, приголубил. Задарил ее платьями и конфектами сладкими.
У себя жить оставил в горничных. Она и байстрюка ему народила. А он мать с дитем не обижал – мальчика, как законнорожденного признал.
– А Олюшка эта красивая была? – не без ревности, спросила Глаша.
– Да, ничего. Гладенькая вся такая, смуглая, словно цыганочка. Ручки маленькие. Волосики черные, как воронье крыло. Глаза, как у коровы нашей – Зорьки. И пела так хорошо! Чисто и звонко. Долго ее барин к себе таскал и баловАлся с ней, наряжал как куклу, а потом охладел и прогонял всюду. А уж она-то как горевала… Одни мы, дворовые только и знали. А мать его хоть и догадывалась, а виду не подавала. Наипаче, старалась сделать Оле больнее, да горше. В воровстве ее обвинила. Хотела десять ударов розгами дать. Уже и платье прилюдно заставила сымать. И Петровна ей подсобляла, ажно сдирала с нее одёжу руками. Как только Оленька осталась в одной рубашонке: растрепанная, глаза горят, так тут вовремя Владимир Иванович подоспел и отменил наказание. А вскоре и отправил ее прочь из имения, чтобы на глазах «немым укором» не стояла. Да мало ли, у него тут полюбовниц-то было – не сосчитать. Каждая девка сперва его была, а потом уж замуж ее отдавали. Вот такие порядки он у себя, ирод, завел. Не по Христу, не по вере живет.
Немного помолчав, она продолжала:
– А вы, заметили, Глафира Сергеевна, как он в церкви-то на службе стоит? Стоит, а сам, знай: мается… С ноги, на ногу переминается. Сразу видать – тошно ему, родимому в храме-то Божьем бывать. Стоит, потому что положено, а сам так и мнит убежать побыстрее. Видать, грехи тянут его из церквы прочь. Он и крестится-то украдкой, и мелко как-то, второпях. Бабы говорили, что когда он мальчонкой барчуком был, так и вовсе во время службы чувств лишалси. Насилу водой отливали. Так-то! А про суть оной пагубы мне бабка Мелентьева тайну открыла, – зашептала Таня над самым ухом Глафиры Сергеевны, – что все это, он творит потому, что Нечистый на него такую болезнь нагнал, что-то вроде «бешенства прелюбодейского». За грехи их семейства кару он такую несет. Не может он никак свою тычину детородную насытить. Сколько не тыкает ей в каждую бабенку, а тычина, все равно – сытости не знает. Знай все стоит, что – оглобля! Муки ему доставляет. И так кажись, всех крепостных переёб, – Таня запнулась и густо покраснела, – а толку нет. Нет, видать, ему покоя – дурная немочь, да скуда одна. Мне, порой, даже жалко его бывает.
– А что мать его? Разве она, не догадывается об его поступках?
– Ой, Глашенька, да барыня наша злющая, словно волчица. И Петровна у нее на побегушках сплетничает, да неветничает ей про всех. Обе они лютые, только что не секут нас часто. А Владимира свого готовы на «божничку» посадить. Он у них – завсегда хорош. Самодурствует от разгула похоти-то своей. Вот и вас, Глафира Сергеевна, он помучает, помытарит, все жилы белые вытянет, да и бросит, как других на пагубу смертную, али поругание людское. Жалко мне вас – хорошая вы, добрая. И хоть, не ровня нам, а никогда гордости своей не показываете пред простыми людями.
Глаша молчала, задумчиво теребя платок, а Таня продолжала:
– Вот, на что меня, бог красотой обделил и телом пышным, как у других баб. Так, и то меня даже к себе таскал, ирод энтот.
– Как, так?! – удивленно воскликнула Глаша и тут же покраснела. – Да нет, я не то хотела сказать. Таня, ты по-своему красива, зря на себя наговариваешь… Я просто хотела спросить о том, как это все произошло?
– Да, чего уж там, красива, как же… Так я вам и поверила, а то сама про себя не знаю: какая, я. А если хотите, то расскажу.
– Расскажи, мне Танюша, только подробно, пожалуйста.
– Ну, хорошо, слушайте, ежели соромские[52] сказки знать охота.
Рассказ крепостной Татьяны Плотниковой-.
Было это три года назад. Жили мы с родителями в имении князя Крылова Льва Алексеевича. У меня еще два брата и две сестры. Хороший наш барин был, не злой. На праздники нам сластей, меду, колбас углических, окороков покупал; стряпухи барские блины пекли, курники, калачи; а мужикам сбитень медовый, пиво мартовское, да и «вина горячего» ведрами ставил. И сам любил погулять, повеселится. Цыган в свое имение на тройках с бубенцами привозил. Любил слушать, как они поют. Танцам их вольным дивился.
Жилось нам неплохо. Слава богу, не голодовали. Не битые ходили, от работы не гнулись. Только видать, неугодно богу стало, что мы так хорошо живем. Решил он нас испытать немного.
Барин-то наш, хороший во многом, один недостаток имел большой – любил в карты поиграть. Проигрывался, бывало, до портков. А карты, как ведомо, душе та еще пагуба. Много люду православного страсть эта до кандалов и цугундера довела.
Вот, в один злополучный день, проиграл он вчистую две деревни свои со всемя душами: нашу Прохоровку и соседнюю Луднево. У него их всего пять было. Земля-то за ним осталась, а души в расход пошли. Другому хозяину нас спровадил.
Худые вести не лежат на месте. Собрал он нас, крепостных своих, на совет и велел собирать пожитки и ехать в поместье Махневых. Проиграл-то он нас – Владимиру Ивановичу.
Погоревали мы, а делать нечего. Горе одолеет, никто не пригреет. Видать, доля наша крестьянская такая. Одно дело у нас – работать, да воле барина подчинятся. Лев Алексеевич, отец родной, даже всплакнул на прощание. Все корил себя за карточный проигрыш. Тяжело всем было. Об этом и говорить не хочу – боюсь, что расплачусь.
Собрали мы пожитки свои, кур и коровенку с лошадью, и вместе с другими семьями длинным обозом поехали за несколько верст в Махнево. Приехали, разместились немного. Кто строиться начал, а кому и готовые хаты дали – заколоченных домов там несколько стояло. Стали потихоньку обживаться. Братьев моих приказчик сразу отправил на дальнюю вырубку, на работу – лес валить. Баб и девок тоже по хозяйству всех приладили. Стали мы осваиваться на новом месте. Попривыкли малость.
И вот по утрам приказчик, раздавая всем нашим деревенским работу, стал девок таскать – якобы, для беседы и поучения с барином. Если у какой из них и были к тому времени женихи, то их: кого «под красную шапку», то бишь в солдаты отдавали, а иных на работу спроваживали подальше от родного дома. Сколько слез было пролито – и все без толку. Видала я не раз, как возвращались от барина девушки с распухшими от слез лицами – «сами не свои». Долго их расспрашивали: что к чему? Но они молчали, как заговоренные. Игнат им всем посулил, что засечет до смерти, и родителей со свету сживет, если те проболтаются о том, что затеяли с ними. Прокудлив наш хозяин, словно кот, но и роблив не в меру – огласки-то страсть, как баивался.
Три девки, спустя какое-то время, понесли. Владимир Иванович им тут же сыскал женихов, пока «позор не полез на нос» и, щедро одарив деньгами, обустроил скорые свадьбы. Игнат и мужей их обработал так ловко, что те молчали, запуганные расправой. Так и жили потом с барскими приплодами. Байстрюков воспитывали. У двух потом свои детки появились. Иной раз, напившись допьяна, они сильно поколачивали своих, ни в чем не виноватых, горемычных жен. Обзывали их – блядями, а детей – барскими ублюдками.
Так и таскал к себе барин то по одной, то сразу по трое. Наступил черед и моих подружек и сестры родной. Она была старше меня на два года. Другая сестра была давно замужем и жила далеко от нас.
Игнат назначил моей сестре, подружке и мне прийти вечером в его баню. Стояла снежная зима. Холод был лютый. Смеркалось рано. В банной горнице у барина было жарко натоплено. Мы все пришли, как нам приказали.
Оробели шибко. Разделись в сенях. Сняли овечьи полушубки, валенки, шали и платки. Поскидали в угол. Стоим, жмемся друг к дружке, словно котята слепые. Шепчемся, руки греем.
Игнат нам сказал, подняться наверх. Комната там для забав была большая. Вся в свечах. Красиво было очень. Нам налили по стакану Ерофеича[53] и приказали выпить. Дали по пирожку закусить. Я же – худая, много ли мне надо? От водки сразу в сон потянуло, я и задремала с морозу на лавочке, как в омут провалилась… Сколь времени прошло – не помню, только чую: бьет меня кто-то по щекам – будит, значит. Открываю глаза и вижу: голые все – и подружка, и сестра голышом. Плачут тихонько обе, слезы размазывают по щекам. Груди торчат – не смеют их прикрывать. За срамные места, значит, держатся. У обеих полотенца между ног… Полотенца – красные от крови.
Поняла я, что их невинности лишили в тот вечер. Рассказывали они потом, что изнасилили их. Увидела я и Владимира Ивановича голышом и Игната. Только уды их натружены уже были и болтались неживые, но, все равно – не малых размеров. Девчонкам они приказали сесть на лавку. Цыкнули на них, велели не скулить.
– Игнат, а это что за чудо-юдо? – кивнул в мою сторону Владимир Иванович, – ее еть-то жалко такую тощую, проткну еще дубинкой насквозь. Что, тогда делать будем? – смеялся он. – Отпусти ее с миром, пускай потолстеет сначала. Хотя нет, постой… Я кое-что придумал.
– Быть тебе, Танюха, у нас мальчиком…
При этих словах уд его стал укрупняться и разравниваться в длину и вширь. Вот, тут-то я и обомлела оттого, какой он великий.
Таня, вдруг спохватившись, прервала свой рассказ.
– Ой, Глафира Сергеевна, уже солнце вон как высоко, а мы ничего с вами в корзины-то не набрали. Петровна прибьет нас.
Глаша нехотя поднялась на ноги. Её сильно возбудил рассказ Тани. Она чувствовала, что между ног все снова увлажнилось и приятно покалывало. Ей ничего не оставалось, как идти дальше по лесу и собирать грибы.
– Таня, пообещай, что завтра мне все дорасскажешь. Хорошо?
– Хорошо, – кивнула Таня.
Они еще долго бродили вдвоем по лесу, собирая грибы. Вернулись домой после обеда, ближе к вечеру, усталые и голодные. Поели кислых щей и пирогов с грибами, а после разошлись по своим комнатам.
Глаша рано легла спать. Уснула она мгновенно, едва дотронувшись головой до подушки.
Глава 11
На следующее утро Глашу разбудила Петровна. Старая интриганка и сплетница, для которой высшим наслаждением являлось унижение и причинение страдания ближнему, с огромным удовольствием приняла на себя роль приказчицы и распорядительницы над провинившейся молодой барынькой.
– Вставайте! Хватит почивать. Экая, барыня-то выискалась! Видать, мало вас в институте блахородных девиц-то школили! Знаем мы эти институты. Одни мазурки, да ужимки на уме, – ехидно прошелестела Петровна. – Танюшка уже давно позавтракала и на дворе вас поджидает. Погода ясная, за грибами снова идите. Владимир Иванович и Анна Федоровна их очень любят-с покушать. Хоть соленые, а хоть бы и в супе.
Немного помолчав, и злобно рассматривая сонную Глашу, она продолжила:
– Ишь, она спит долго, а кто по хозяйству работать будет? Нет, милочка, прошли уж те денечки, когда вы павой тут похаживали-с, да книжечки почитывали-с. Поломайте-ко спину, как другие. А то, не велика честь – без приданного, да без гроша в кармане: а туда, же в барыни метит. Побарствовала и будет!
Петровна еще долго ворчала, говоря обидные слова. Глаша одевалась молча. Задумчивый и кроткий взгляд не касался зловредной бабы, руки торопливо заплетали косу. Холодные капли воды из кувшина освежили лицо, прогнали остатки сна. Бесцеремонная Петровна наблюдала за действиями Глафиры. Казалось: она и не собирается покидать комнату. Хотелось оттолкнуть эту противную сплетницу, прогнать ее прочь. Но она не смела. Она все чаще думала о том, что идти из поместья, ровным счетом – некуда. Осмелься она что-то возразить – и кто знает, как в дальнейшем повернется ее нелегкая судьба. Более всего, в своем воспаленном воображении она боялась публичного позора. Боялась, что накажут ее розгами на глазах у всей дворни. Кто она была для них, бедная, никому не нужная сирота? Не было у нее защитников, не к кому было голову притулить.
Не возражала Глаша словам Петровны еще и потому, что хотела убежать как можно быстрее из господского дома, ее манило вырваться на свежий воздух, в лес. Там было хорошо и привольно ходить по полянкам и рощицам, выглядывая в траве плотные, скользкие, пахучие грибки. Отрывать от них прилипшие сухие листики и складывать в большую корзину. Хотелось ходить так целый день и вести долгие и откровенные беседы с новой подружкой – бесхитростной и доброй Татьяной. Завязавшаяся дружба с этой высокой крестьянской девушкой стала большой отрадой для Глаши во время ее недолгого проживания в поместье дальних родственников Махневых. Танюша была для нее, как большая и разноцветная шкатулка, полная диковинных, милых сердцу, безделушек. Простонародные житейские незатейливые премудрости, которыми она с важным видом, но с добродушием одаривала наивную, безобидную барыньку, отзывались в сердце последней большой и искренней благодарностью. Татьяна в двух, трех словах могла упорядочить нестройное течение мыслей впечатлительной и неискушенной Глафиры Сергеевны. Этот поход за грибами она рассматривала не как работу, а очень приятное времяпровождение.
Быстро позавтракав, Глаша выскочила во двор. Танюша сидела на крыльце и, подоткнув подол цветастой синей юбки, по-детски беспечно болтала длинными худыми ногами, обутыми в светлые онучи и лыковые лапти.
Татьяне льстило то, что эта барынька выбрала именно ее, Татьяну в свои наперсницы. Она понимала, что, несмотря на благородное происхождение, Глафира Сергеевна слишком доверчива и беззащитна. Глашина доброта и наивность привлекали, хотелось заботиться и опекать это нежное создание.
Зеленые глаза Танюши щурились от яркого солнца, веснушчатый нос морщился, губы расплывались в счастливой улыбке.
– Ну, насилу дождалась. Что, долго так, барышня?
– Да так, уж вышло. Пойдем, скорее.
Довольные утренней свежестью и солнечным деньком, быстрым шагом обе поспешили в сторону леса.
– Поди, сегодня-то барин не пуститься искать вас по лесу? – засмеялась Таня.
– Ой, Таня, наверное, нет, – смущенно и болезненно отвечала Глаша.
Они прошли две рощицы, смеясь и разговаривая о всяких пустяках, выглядывая в траве грибы. Расторопная и проворная Таня деловито шарила в траве палкой и, конечно, находила их гораздо быстрее, чем мечтательная Глаша. Красная, обветренная рука складывала грибы то в свою, то в Глашину корзинку. Иногда, на маленьких пригорках, среди густой травы попадались налитые соком, переспелые ягоды. Ягодная пора была давно позади, но местами оставались еще запоздалые ярко-красные горошинки земляники, вкусные и удивительно пахучие. Девушки ели их, пальцы размазывали по щекам сладкий сок. Угощали друг друга, ссыпая в ладошки горсточки теплых ягод. Обе, довольные хохотали на невинные шутки. Таня, пританцовывая и опираясь на палку, вдруг чисто и звонко заголосила:
Пошли девки на работу, На работу, кума, на работу! На работе припотели, Припотели, кума, припотели. Искупаться захотели, Захотели, кума, захотели. Поскидали рубашонки, Рубашонки, кума, рубашонки. Поскакали во речонку, Во речонку, кума, во речонку. Отколь взялся тут Игнашка? Тут Игнашка, кума, тут Игнашка? Забрал девичьи рубашки, Рубашки, кума, рубашонки. Одна девка всех смелее, Всех смелее, кума, всех смелее. Выскочила из речонки, Из речонки, кума, из речонки. Побежала за Игнашкой, За Игнашкой, кума, за Игнашкой: «Отдай девичьи рубашки, Рубашки, кума, рубашонки…» Пошли девки на работу, На работу, кума, на работу!Пропев песню, Таня повалилась в высокую траву, раскинула руки и громко захохотала.
– Таня, как ты хорошо поешь! А откуда ты, знаешь эту песню?
– О, барыня, я много, чего знаю. Всего не порасскажешь и не перепоешь.
– И главное, слова-то в ней, не про Игната ли, приказчика? – Глаша немного покраснела.
– А я не знаю, может и про него, сердешного, а может, про другого. Мало ли, Игнатов-то? – шутливо отвечала Таня, глядя зелеными глазами, – вам, небось, Игнат тоже по сердцу пришелся? Конечно, он не так хорош, как Владимир. Но зато и не так лют, не смотря на усищи и злые глаза. Это Володечка наш снаружи посмотришь – чисто херувим, а на деле – демон адовый, – Татьяна чуть притворно, вытаращив глаза, всплеснула тонкими руками. – А ведь, Игнат-то не всегда был сотоварищем барина нашего в оргиях его бесстыжих. Говорят, что раньше зазноба у него была. Рассказывали, что жила в поместье крепостная по имени Елена. Встречались они с Игнатом. Свадьбу скорую собирались играть. Игнат укрывал Елену от глаз барина, тем паче, что Владимир Иванович тогда в Петербурге какое-то время жил. А тут приехал к мамаше-то, как раз. И приглядел ее, высмотрел, аки коршун. Она ладная, говорят, была. На вас, наверное, похожа. Статная, высокая, волосы цвета пшеницы. В общем, красавица уродилась. Как же Владимиру Ивановичу такую упустить? Долго рассказывать: но обманул он-таки ее, завлек и не посмотрел, что она друга его невеста. Игната специально по делам в уезд послал, а сам с ней забавлялся. Да пригрозил ей перед этим: не дашь добром, я Игната твоего со свету сживу. Что ей оставалось делать? Подчинилась. Игнат приехал. Узнал обо всем. Сильно осерчал и прибежал в комнату барина: хотел саблей его зарубить. Еле оттащили, говорят. Связали, в чулан посадили. А когда он через несколько дней поостыл малость, то барин к нему зашел и говорит: что зря, ты, так осерчал, и зря жениться, засобирался, – рано мол, тебе. Эка невидаль: баба, говорит, она и есть – баба. Весь ум у нее в одно место ушел. Я говорит, тебе таких, как твоя Ленка, тысячу приведу. А в доказательство, говорит, приходи сегодня вечером к амбару. Там твоя Ленка будет. Вот и узнаешь ты: кого и как она любит. Не хотел верить ему Игнат, однако же, пришел.
Встал за углом амбара. Слышит шепот и вздохи страстные. Подошел ближе и узрел, что Ленка – невеста его, так со своей участью смирилась, что видать, очень-то наоборот рада всему, что с ней сталось. И ее барин своей тычиной приворожил к себе, шельма. Увидал Игнат, что Ленка лежит нагая, ноги широко раскинуты, а Владимир на ней. Та же не плачет, не студится, а стонет от удовольствия, да задом широким его на себе так и подбрасывает, так и подбрасывает. Подмахивает, значит, хорошо. А сама лопочет слова ласковые, руки по голове кудлатой гладят, уста от уст оторваться не в силах. Говорит, что мол, полюбила страстно. И что мол, горда, что барин с ней сошелся. Как увидел это все Игнат – обидно ему дюже стало, ревность одолела. Однако едва совладал с собой, и молвит барину: «Видать, ты прав, Владимир Иванович! Баба – она и есть баба. Только местом своим хотючим и кумекает».
А Владимир, довольный таким поворотом, и поучает его: «А ты, Игнатушка, не стесняйся, да не робей. Хотел ее давно – так и бери сейчас, следом за мной. Ты, же видал не раз, как кобели в очередь сучку пользуют. А сучка стоит и принимает одного за другим. Так и ты супротив природы не иди, родимый. Приступай, коли охота».
С этими словами, освободил он место свое, и Игнат от злости лютой и обиды к Ленке-то и пристроился следом. Ленка, наипаче для порядку похныкала малость, постудилась, повинилась, а опосля успокоилась быстро и в раж вошла. Так всю ноченьку они и скоротали втроем. А на утро отпустили ее домой, к матери. Владимир и сказал тогда Игнату: «Для того, чтобы еть бабу – не надо тебе, дурья башка, быть таким благородным и жениться на ней. Рано тебе. Ты мне не женатым нужен, мол, а – холостым». На том и порешили. А Игнат с тех пор сильно изменился: как с ума сбрендил. Жалости-то мало к кому имеет. И во всем на Владимира схожим старается быть. И его той ночью, видать, нечистый в свои сети завлек, скверность лукавая и к нему прицепилась.
– А что же с Еленой стало потом? – спросила, потрясенная Глаша.
– А что стало? А то же, что и с другими. Попользовали ее как любовницу, а потом и забыли о ней. Замуж ее тут в деревне никто не взял. Да и кому она нужна-то, поди, была, после всего-то? Слава-то быстро по деревне идет, впереди человека катится. Как у нас говорят: деревня к девке добра, да слава худа. «Порченая сука и потаскуха» – так и нарекли Ленку опосля. Помаялась, да помыкалась она бедная, да и пропала насовсем однажды, – ответила всезнающая Татьяна, а потом уже шепотом добавила, – подружка ее сказывала, что подалась Ленка в бега. В городе, мол, в особом доме живет, куда мужики за деньги ходют. Видал ее кто-то из наших. Говорят, что толста стала. Раздобрела, как титёшница[54]. Вот и вся история, Глафира Сергеевна.
– А что, есть такие дома? – удивленно спросила Глаша.
– Конечно, есть! Глафира Сергеевна, вы уж простите меня дерзкую, ей богу, ну вы, и впрямь, как будто «не от мира сего». Чисто в монастыре, да на божничке выросли! Даром, что книжек много начитались. Вы, небось, долгое время не знали и откудова дети-то берутся…
– Ты, не в бровь, а в глаз, Танюша, угодила, – ответила ей, покрасневшая до самых мочек ушей, Глаша. – Только не в монастыре я воспитывалась, а в Петербургском Екатерининском институте. И о том, откуда дети берутся, я узнала лишь в последний год учебы… Нам, девочкам, горничная наша об этом рассказала почти перед самым выпуском.
– А… Ну да. Так я скажу вам, что в городе такие дома есть, и немало. И в них бабы спят с пришлыми, разного звания и сословия мужиками. Спят-то, за деньги, али за дары! Мужики наши судачили, а я подслушала, что у иных барышень, проживающих там, в день бывает до двадцати гостей, да с разных волостей. А только гости те не глодают кости, им все жирненьких подавай.
– Таня, господи, боже мой, да что же ты, такое говоришь? Как же, может быть столько много? Разве, кто выдержит столько?
– Да неужто, вы чаете, что этих бабочек спрашивает кто: хотят они али нет. У них в том доме свои хозяева имеются. Поступила на службу, живешь под крышей и в тепле, хлебушко ешь – будь добра исполняй все, как прикажут. А нет – так вон бог, вот порог.
– Господи, какой ужас…
– А ничаво и ужасного. Сраму-то иные не имут, – Таня немного помолчала и продолжила: – Опять же, кто по бедности и несчастию какому туда угодил, али погорелица, али сиротка безродная, али побирушка. Есть идут за долги по оброку неоплатные. А бывает и так, что братец али сродственник, какой отроковицу али молодку продаст, чтобы мошну набить на слезах ее горючих. Ну и знамо дело, есть и такие бабенки, которым жизнь в таком доме, не лихо, а радость великая. Те, что похотью исходят. Им и двадцать мужиков в день не хватает. Свербит у них меж ног так, что терпежу никакого нету. А может и болезнь какая. Говорили, что язвит некоторых по срамным местам, оттого и зуд идет нечеловечий. А как его унять? Вот и чешут они его мужскими хренами, – после последних слов, Таня рассмеялась.
– Таня, что за страсти ты рассказываешь! – Глашино лицо побледнело, глаза с испугом смотрели на подругу.
– А чего вы дивитесь? Там где блуд, там и немочи разные. Господь посылает, чтобы неповадно было иным в паскудства с головой уходить. А по правде говоря, в домах тех много потаскух, которые сами дорожку для себя сыскали. Плохо ежели, нужда одолела, беги лучше в монастырь, а не лентами, да бусами себя обвешивай, чтобы мужей чужих прельстить. Наши-то деревенские бабы чем хуже? Так нет, поедут на ярманку, водки налакаются, а потом и начинают шастать по срамницам, будто у тех кунка мёдом мазана.
– Это ты о ком?
– О бате своем и о дяде, – Таня насупилась и покраснела. – Маманька сказывала, что в прошлом годе батя с ярманки ей заразу какую-то привез. Видать, в таком вот доме и словил. Мелентьевна потом его травами лечила, да камнем каким-то язвы жгла, порошки в ступке толкла и в рот ему ссыпала. Много наших мужиков заразы женам привозили. И все через баб городских. Маманя долго потом батю бранила.
Глаша и Таня сидели на траве и обе задумчиво молчали. От прежнего непринужденного веселия не осталось и следа. Таня деловито разглядывала собранные в корзинах грибы, высматривая: нет ли среди них червивых. А Глаша, стянув с головы платок и прислонив светловолосую голову к березе, задумчиво заплетала косу. В лесу было тихо, только слышался стрекот кузнечиков в траве и голос далекой кукушки.
Первой тишину нарушила Глаша.
– Таня, ты вчера мне обещала, что расскажешь о том, что с тобой произошло тогда в бане.
– Посулилась. Помню. Только надо ли вам все знать, Глафира Сергеевна, охота ли? Меньше бы посулила о грехах вам сказки сказывать, меньше бы сама согрешила.
– Расскажи, Таня, я тебя очень прошу!
– А чего рассказывать-то? Уж больно срамно, да сердцу тягостно, как вспомню все это. Вспоминаю, а сама горю от студа несносного. Разврат богомерзкий, Глашенька, он душам нашим – пагуба.
– Таня, ну расскажи, пожалуйста, только обстоятельно. Отчего тебе стыдиться – ты раба его. Не твоя воля была.
– Знаю, что не моя воля. А только чаете ли вы, отчего стыдоба меня обуяла, что моченьки нет?
– Отчего? – с волнением в голосе спросила Глаша.
– Да потому, что опосля дурмана всего и боли, мне так сладко и ладно было, что не описать и словом людским. Так грешно, что страшнёхонько становится. Ведь давно уже барин меня в ложницу банную к себе не кличет. Непотребна я ему для забав его диковинных. Ну а полюбовницей евонной я наипаче никогда не звалась, да не смела и помыслить я о вольности и счастье таком несбыточном. – Глаза девушки увлажнились от закипающих слез. – Я ведь правду говорю – душою не кривлю. Только правда та, словно соль всю душу выела. Сколько дней минуло, а я каждый вечер о ласках его скупых, но жгучих помятую… Ложусь в постель, как завечереет, так и мнится мне рядом он, погубитель. Куда не гляну в сумрак спаленки – всюду уд его великий глазится. И такая страсть на меня находит – все утроба пламенем горит. Приворожил и меня чОрт этот окаянный. И кажется, порой: позовет, прикажет – сама не шагом пойду, а побегу к нему, словно дурища полоумная.
– Господи, да что же это такое? Когда знала бы я заранее о том, что кузен мой демоном таким окажется – так сразу бы лучше в монастырь ушла! – сказала взволновано Глаша, – Таня, да не томи ты меня, расскажи: как он с тобой обошелся? Неужто и над тобой надругался?
– Ну, воля ваша, слушайте, коли охота:
Продолжение рассказа крепостной Татьяны Плотниковой:
Помните, я рассказывала вам, что он тогда отпустить меня хотел, потому, как худая я сильно. Так вот: не отпустил, а придумал новую блудскую забаву.
– Будешь, ты, у нас Танюха, парнем теперь. Игнатушка, друг мой любезный, ты же у меня шибко смекалист по этой части. Разумеешь, о чем я говорю?
– Разумею, Владимир Иванович. Как не уразуметь? – отвечал ему Игнат. А у самого аж глаза загорелись, и дубина расправляться стала. – Прикажете сейчас спектаклем заняться?
– Да нет, родимый, погодим малость. Поздно уже. Скоро светать начнет. Завтра, завтра Танюху приведешь и еще пару баб, на всякий случай, захвати. Но, не новеньких – ну их. Пусть отдохнут и ранки залечат, а тех, кто посноровистей и хотючь. Кто у нас там хотючь-то стал? Короче – сам сообразишь. У меня что-то голова уже кругом идет. Спать пора. А эти дурехи пусть домой катятся. Устал я от их воя.
Добрались мы до дома. Мамка с батей почивали крепко и не слышали, как мы воротились. А если бы и подумали: «Где девки?» – так успокоились, поди, что на посиделках у подружек. Что сторожить-то нас? Чай, мы не барыни. Да и кому мы нужны-то больно – голь и нищета?
Сестра моя и подружка обмылись в сенях из кувшина, да поплакали, пошушукались меж собой, а после и похихикали даже над тем, как бабами нежданно-негаданно стали. Но мало-помалу успокоились. Уснули. А я долго лежала, ворочалась, уснуть не могла. Все думку думала: а со мной-то что будет? И страшно мне было и любопытно – жуть.
Правда, позвали меня не на следующий день. А через день. Видать, отсыпались хозяин и приказчик. А может, и дела у них, какие были.
Но все же, наступил и мой черед. Пришел за мной приказчик ближе к вечеру. Вызвал потихоньку, чтобы тятя с мамой не догадались. Только сестра все сразу смекнула, но на нее Игнат цыкнул и черными глазищами так зыркнул, что она будто онемела. Головой кивнула, дескать, молчать будет, хоть режь ее.
Приказчик прошептал сквозь зубы: «Иди тихо и молчи». Я и пошла. А как ослушаться? Иду, а у самой сердце стучит у самого горла. На улице метель кружит, сугробы в человечий рост намело. Но к бане господской с двух сторон дорожки протоптаны были. Вот и зашагала я в валенках прямиком к бане. А позади меня Игнат идет, молча, словно конвойный. Куда тут убежишь? Пришли. Он велел мне раздеваться.
Я сняла полушубок, шаль, валенки. Мы стояли внизу. Почти в предбаннике. Он приказал, чтобы я скидывала все до исподнего, и подает мне мешочек с вещами.
– Надень, Танюха, вот это.
– Что это?
– Это я нарочно для тебя принес, как барин повелел. Здесь мужские вещи: рубаха красная, брюки, картуз. Надень все на себя быстро.
– Я же девица, негоже мне срамоту эту на себя пялить.
– Таня, ты же знаешь, как барин лют бывает, ежели кто-то ненароком его приказ не выполнит. Одевайся и не перечь! Авось, тебе же и лучше. Хорошо исполнишь все – тебя-то, глядишь, девкой он и оставит. Мужу будет, чем похвастать. Женихи-то хоть, были у тебя? – с усмешкой, спросил он.
– Нет, не было еще.
– Да ты, ешь больше, глядишь, и объявятся женихи-то. Ты, в кого така худая? Слухай, а ты, не хворая часом? Чахотки, али другой немочи нет у тебя? – спросил он настороженно.
И нет бы мне, дуре несусветной, сказать: «Да, мол, чахотка у меня»… Глядишь, отпустили бы.
Так нет же – я, как праведная, и говорю ему:
– Что ты, Игнатушка, я здорова, как корова. Никакого кашля у меня отродясь не было. Я просто в батянину родню пошла. А там все жердястые, да сухопарые испокон веку были. Так, что не боитесь: я не заразная. Вот, вам крест.
– Ну и хорошо! – засмеялся он, – да не бойся, ты, дурочка. Владимир сегодня не очень злой. Поиграет с тобой, да и отпустит. Переодевайся быстрее.
Я все сделала, как мне велел Игнат. Надела на себя темные брючки. Они мне оказались чуть свободны – подпоясалась. И красную мужскую рубаху.
Игнат после и говорит:
– Владимир Иванович хотел остричь тебя коротко.
– Как же так?! Вы что? Зачем? Как я потом домой покажусь? Это же позор на всю деревню! Лучше сразу убейте – только косу не корнайте, – заплакала я.
– Ладно… Не канючь. Подвяжи волосы потуже и надень картуз поглубже. Смотри только, чтобы из-под картуза космы не вылазили.
Я сделала все, что он мне приказал. Он полюбовался на меня и говорит: «Славный паренек у нас получился». А потом достал из какой-то коробочки усики темные накладные клейкие и налепил их мне под носом.
– Ну вот, теперь Танюха, ты у нас будешь Тихоном зваться. Постарайся и ходить, как мужик. Слышишь? Будешь хорошо играть – я тебе гостинца с собой дам и рубль, в придачу.
«Да хоть чертом зови, только хлебом корми», – подумала тогда я, сдуру.
Довольный моим маскарадом, Игнат повел меня наверх. Поднялись мы по ступенькам. А там жарко было натоплено, и светло от свечей. А еще дымно и запашисто от благовоний заморских, кои барин по всей комнате раскурил.
Так запашисто, что голова моя сладко закружилась, словно у пьяной. Мне потом девки рассказывали, что благовония эти желания сильно распаляют, от них все бабы сильно хотючие становятся. И увидала я вот, что: посередине комнаты стоит кресло красное, красивое все, бархатное. А в нем, раздвинув ноги, сидит барин. Весь развалился, разомлел, как блин на Масленицу.
А возле его ног на полу притулилась Маруся Курочкина – девушка ничего так, справная. У нас в деревне многие парни на нее заглядывались. Грудя у нее не такие большие, как у вас, Глафира Сергеевна, а поменьше, но торчат торчком в разные стороны, словно яблочки. Как ступит, так оне трясутся. Маруся к тому же, девка высокая, темноволосая и смуглая. Волосы у нее распущены. Почти до полу висят. Сидит она на корточках и… Право, срамно рассказывать… устами уд барский лобызает. Да так усердно, что аж причмокивает. А сама задом ерзает. Видать: мочи ей нету, так охота, чтобы вдули, как следует. Видно, что Маруся здесь по-свойски себя давно чувствует. Значит, привыкла и не первый раз барина ублажает. А Владимир в это время откинулся на спинку кресла, глаза прикрыл. Рука затылок Маруськин держит, и голову ее к себе двигает время от времени. Маруська мычит от удовольствия и губами чмокает.
А недалеко от них на столе лежит Катька Смирнова, я тоже ее узнала тогда. Она, наоборот, светленькая. Тоже ладная, востроносенькая такая. Так эта Катька привязана к столу за руки и за ноги. И главное – какая срамотища: мохнатка кудрявая вся на виду. Срамное место близко к краю лажено, чтобы легко, видать, подходить было и тычины в нее сувать.
Я от увиденного оторопела прямо. Стою и с места двинуться не могу.
– А вот и паренек, наш дружок новый пожаловал. Как тебя зовут, мил человек? – чуть отвлекшись от Маруськи, спросил Владимир Иванович.
Но Маруська хорошо обучена была и знала свое ремесло блядское, а потому исполняла все, как надобно. Пока Владимир со мной говорил, она не выпустила его дубину изо рта, а еще сильнее головой задвигала.
А я же помню, как меня Игнат учил говорить.
– Тихоном зовут, – отвечала я негромко.
– Как? Говори громче.
– Тихоном!
– Ах, Тихоном, Тишечкой значит. Как хорош ты, Тишечка, славный мой, мальчишечка. Ааааа…
Вдруг, он выгнулся весь, застонал, зарычал, как медведь в лесу. А у Маруськи по подбородку влага белая потекла. Она еще полабызала его немного. А потом довольная, утерла губищи и встала на ноги.
Глава 12
Глаша смотрела на Татьяну, глаза горели от возбуждения. Ее волновал каждый эпизод. Внутри женского лона было мокро от сильного, нахлынувшего желания. Умом она осознавала: все, что рассказывала Татьяна, по сути – ужасно и греховно. Очевидно, грех был всюду, где находился Махнев Владимир Иванович. Голова шла кругом от попыток понимания и нравственной оценки картин, кои рисовало воображение, откликаясь на Татьянины рассказы. Но плоть – ее главная предательница, познав изысканные ласки, трепетала от смертельного искушения.
– Таня, что ты остановилась? Продолжай, пожалуйста. Что было дальше? Не томи.
Продолжение рассказа крепостной Татьяны Плотниковой:
Ну а дальше вот, что было… Владимир, разрядившись в рот Маруське, почивал в кресле некоторое время. Не разговаривал ни с кем. Я отошла в сторонку и присела на лавочку. Ждала, что далее будет. Маруське, гляжу, никак не сидится, словно угли у нее между ног. Крутиться она вокруг Владимира: то на спинку кресла задом толстым присядет, то сиськами об него потрется. А он внимания не обращает. Вроде, как уснул. Она давай рукой за уд евонный тянуть, как за коровий сосец, но не сильно, а потихонечку. Залепетала просительно и жалостливо:
– Володечка, а как же я? Я истекаю вся, так хочу его. Сил моих больше нет. Давай, я его тебе заново подниму, а? Утоли и мое желание.
– Сама, сучка, виновата, – проговорил усталым и насмешливым голосом Владимир, – какого же ты хрена, присосалась к нему, как змеюка? Все соки выпила раньше времени, а о красоте мохнатенькой родимой не подумала. Дай, в чувство прийти. Сейчас Игнат придет, и получишь свое сполна. Вон еще Катька, неоприходованная лежит, тоже, небось, мается. Не одна ты, у меня хотючая.
После того, глянул хитрым глазом, засмеялся. Рука потянулась к срамному Маруськиному месту, изловчившись, дернул за кустик волос, что торчал у нее между ног. А после его ладонь звонко шлепнула по голому заду – Маруська вскрикнула и обиженно надула губы.
Потом пришел Игнат. Он уходил печь подтопить. Как вернулся, подошел к Катьке. Сначала погладил ей живот, потом ручищи схватили Катькины титьки. Так мял сильно, словно оттянуть хотел и рассматривал у нее все красоты пристально. Даже мне срамно стало от наглых глаз Игнатовых, словно жаром опалило. Катька покраснела, как рак, но лежит – терпит. Пока все это делал, дубина у него между ног увеличилась прямо на глазах. Он и вогнал ее немедля в Катьку. Катька заохала. Он и зачал ее еть. То быстро двигался в ней, то медленно.
А я смотрю на них во все глаза, а голова дурная… Может, еще от благовоний заморских – мысли в пляс пустились. Только и меня хотючесть сильная одолела. Думаю: была, не была, чего уж теперь корчить из себя праведную, раз чести такой удостоилась, к самому барину на гульбище угодила. Все девки эвона как блажат, значит сладко им то самое, греховное… А я чем хуже? Когда еще вдругорядь пригласят? Другого-то раза может и не статься. Так захотелось, чтоб уд мужской во мне побывал! Еле терплю. А они и не собираются меня невинности лишать. Дура я была, а и сейчас не больно-то ума набралась.
Владимир в это время уже за столом сидел, вино красное из бокала попивал, серые глаза на Катьку с Игнатом уставились, смотрят не мигая. А Маруська вокруг него околачивалась. Себя настырно предлагала.
– Маруся, divine, хватит кругами хаживать. Залезай-ка на второй стол, так, чтобы я тебя видел отсюда хорошо и начинай себя пальчиками ласкать, – наконец, проговорил он. – Ножки только раздвинь пошире, как умеешь. Ты же змейка у меня гибкая. Прутик мой, ивовый. Шире тебя никто ножки не умеет раздвигать. Ты же циркачка у меня. За то и люблю тебя, персик мой смуглый, пушистенький.
Маруська вся, аж зарделась от гордости, что про нее такие слова ласковые барин вещает. И, чтобы угодить ему, проворно вскарабкалась на второй стол, только ляжки голые мелькнули. Уселась так зверски похабно, что стыдно за нее стало. Я удивилась: ноги у нее, как гуттаперчевые были. И правда – гнулись, как прутья. Да, длинные какие! Разошлись они махом в стороны, словно птицы, ручка тонкая в мохнатку пухлую вошла, закопошилась. Сама Маруська застонала показушно, спину дугой выгнула – барину потрафить решила. Мне видно было каждую складочку у нее в нутре, и что мокро там сильно. А между складочками в утробе дыра открылась. Маруська перстом секель тронет, а дырища та вся дышать начинает. Сама изгибается, ну точно – змея. Дрожит, губы горят, словно калина по осени, рука меж ног быстробыстро елозит. Я и сама к этому времени мокрая была, ноженьки не держали.
А Владимир Иванович вот, что удумал:
– Марусенька, душенька, charmant! Лучше тебя никто моим прихотям угодить не умеет. Тебя бы к турку в гарем – высокую бы цену за такую наложницу искусную дали, – проговорил барин. – Не усердствуй, пока шибко. С тобой сегодня не я играть буду, и не Игнат. А тут у нас паренек есть славный – Тихоном зовут. Тиша, подойди-ка сюда. – поманил барин, согнутым длинным перстом.
А я стою, как завороженная, и на палец тот дивлюся. Шибко длинным он мне поглазился. А потом и вовсе расплылся… Глядь – а это уже не один перст, а несколько… кружатся на свету, словно паучьи лапы. И ногти выросли на них острые, загнулись, как у совы. И все эти персты манят меня. Страшно так манят… И тут до меня дошло: это меня барин к себе зовет и Тихоном кличет.
А я стою – растопча бестолковая и гляделками лупаю – с места не двигаюсь. Спохватилась, наконец, наваждение стряхнула с глаз долой. Поглядала – нет, вроде, один перст меня манит, и поспешила к барину – как было велено.
– Тихон, видишь, какая бабеночка хотючая. Потешь ее для начала, между ножек язычком. Вдруг, твои ласки ей по сердцу придутся?
Я прямо обмерла от того, что мне приказали. Не бывало до этого в моей жизни, чтобы я женщину ласкала. Смешно сказала! Я и к мужикам-то не прикасалась. А тут – срам-то, какой! Хотя, честно сказать – мне грешнице, почему-то сильно хотелось потрогать Маруську везде, паче между ног. Я тут же вспомнила: однажды, будучи девчонкой, случайно видала в бане одну картину:
Все деревенские бабы намылись, как положено, и по домам разошлись, а тетя Груня и тетя Елизавета припозднились, видать, нарочно. Обе – вдовые, немолодые, животы и задницы у них крупные, телеса – белые, как парное молоко. Груди – по пуду висят, на поросят с розовыми пятаками похожи, треугольники между ног – пухлые, редким волосом подернуты. Смотрю на них – глаз оторвать не могу. Зачали они тереть друг дружку мочалой, пена мыльная полилась. Руки не столько мочалой заняты, сколько шарят и гладят по телесам скользким. Пальцы в ложбинах застревают… А я – стою тихонечко в предбаннике, за шторкой схоронилась – им не видать. Дело было в вёдро, краснопогодье уж неделю стояло, вот они разомлели от жара и раскрыли двери настежь.
Вдруг тетки цаловаться принялись и тискать друг дружку за титьки сдобные.
А после тетя Груня села на лавку, ноги толстые раздвинулись широко, под пухлым бугром красная трещина открылась. Груне мало показалось: пальцы взялись за края срамные, в сторону их развели, меж краев вылез розовый хоботок. Я тогда еще не знала, что это за хоботок такой… Сейчас знаю: секель это был – самое сладкое место у баб. Разных я секелей понасмотрелась на оргиях у барина. Бывали маленькие, как горошина, и крупные, словно уд мальчиковый… Но помню: секель Груни был не мал размерами и сочен. Так и таращилась я на него. А тетя Елизавета встала на круглые коленки, нос уперся в Грунин живот. Я, по малолетству, не поняла: чего она там копошиться… Подумала: наверное, грыжу заговаривает. Но не ухожу: любопытно стало. А тетя Груня задом толстым заелозила и говорит: «Лизонька, дай, удобнее лягу». Молвила это, встала и перешла на другую широкую лавку, легла на спину. Ноги полные раздвинулись, коленки согнулись, вся красота наружу вышла: больно крупное у Груни нутро оказалось… А тетя Лиза так, и припала губами и языком к ее потрохам. Потом пальцы в ход пошли, чуть ли не длань ей туды засунула. Груня только охала, да мычала, словно коровища. После, тетя Лиза на коленки встала, зад широкий поднялся, кунка наглая наружу распахнулась. И снова та же круговерть: персты, языки только и мелькали. Я за шторкой стояла, тихонько смотрела, как они друг дружку ублажали, и какое удовольствие от этого получали. Уж, они кряхтели и стонали, визжали и вскрикивали от души… Не было у них мужиков, а им, видать, хотелось сильно. А может, у них отродясь тяга к «своей сестре» была. Очень уж диковинно все это для меня, девчонки было, взволновало от пят – до макушки. Я в тот же вечер все рассказала своей старшей сестре, та отругала меня за греховное любопытство и даже крапивой стеганула.
Я и раньше видала разные соития. Наипаче у скотинок: бык крыл коровку, конь лошадку, петух курицу топтал. Мы в деревне сызмальства в тайны сии посвящены, да и не тайны это вовсе… Было дело: видала, как пьяный Архип на сеновале с Фенечкой баловался. Мы с девчонками лежали с другого краю стога, головами в траву закопались – нас и не увидели. Зато мы – все гляделки проглядели – страсть, как любопытно нам это было. Фенечка смеялась тоненько, словно овечка, концы платочка во рту мусолила. Она баба – дебелая, круглая… Мужик у нее в городе в это время был, Архип и приладился за ней таскаться. Долго караулил, выходил таки! Смотрим: он сначала все зубоскалил и руками зад ее увесистый тискал, Фенечка уворачивалась ловко. Облапил посильнее – сдалась. Упала на сено, панева к грудям завернулась, ноги белые раздвинулись сами собой, меж ног: черным черно от волосу… Архип, не будь дураком – тут же на изготовку встал. Удище красный ловко вогнал – куды надобно. И пошла у них катавасия, мы рты пораскрывали: не видали еще до этого, как таки дела ладятся. Долго же он Фенечку мочалил! А как кончил, так и отвалился в сторону. Полежал чуток и поплелся восвояси, Фенечка вскочила на ноги, юбки опали. Побегла за ним с причитанием: «Архипушка, сокол, куды, же ты? Погодь малость, любый, ты, мне шибко…» А он ей в ответ: «Придумала, дуреха – любый!» Выругался со злобой матерно – она и встала, как вкопанная, не посмела за ним бежать. Архип ушел, загребая пьяными ногами, Фенечка в сено упала головой: завыла от обиды.
Но, то было естественное соитие, как господь всем праведным христианам наказал. Хоть богомерзко, по сути, потому, как от блудского греха, вне венчания случилось, однакож, естественно по природе. Оказалось: многое на свете – чудно, а еще больше – греховно! А то как же понимать соитие с особью того же пола?
Только я вывод сделала: лишь человеку сии пакости богомерзкие присущи.
Ни одна корова еть другу корову не будет – бык для сего назначения рОжден. Так-то! Сказывали даже, что имеется еще более страшный грех: названный содомским. Про него наш диакон в приходе вещал. Это – когда муж мужа тычиной детородной в задний оход блудствует… По мне, так это и есть – сущий грех адовый!
Отвлеклась я от рассказа – пора и честь знать. Это я к чему все толковала? К тому, что в душе мне страсть, как противны все блудства плотские. К ним меня барин насильно понукал. Я холопка его, куды мне противиться, али норов показывать… Однако и покаяться готова, что сама, как всякая грешница, к блуду мерзкому быстро пристрастие получаю. Спаси господи, мою душеньку, не прошла я сие искушение, плоть громче колокола во мне гудела. Вернусь к рассказу, хватит оправданий.
Тогда у барина в бане вспомнила то, что творили промеж собой те бабоньки Груня и Елизавета, решила действовать. Тем паче, мне самой сильно этого хотелось. Подошла к Маруське, она смотрит на меня с любопытством, глаза хитрые, как у куницы. Она уже знала, что под усами не Тихон спрятан, а я – Татьяна.
– Танюша, поласкай меня языком, – тихонько прошептала мне на ухо.
Сама глаза закатила и ждет. Я наклонилась над ней, нос уловил аромат пряный, ее мохнатка душистая похотью горела. Вспоминаю все это: кажется, что вольность на меня нашла не от утробы моей греховной, но более от духа благовоний заморских… Барин те пары каким-то «опием» называл. Он трубочку длинную все покуривал, и кувшин с диковинными трубками на столе стоял. Наберет в рот дыму из того кувшина, а потом подходит к полюбовницам и дует им дым в ноздри и рты. Девки блажить начинают, смехом русалочьим исходят. Кажется, что в топь болотную угодила: по всей комнате дым бурый стелется… Меж ног зуд неумолимый идет… А что Маруська? Та и вовсе «с колеи съехала», так и прогнулась под меня, голова запрокинулась, шея дугой, как у лебедя, волосья черные, страшные до полу висят, чисто – ведьма! Я и начала ее языком ласкать. Сначала тихонько и неумело, а потом сильнее. Чувствую под языком моим секель теплый, так и трепещет, толстым, да пухлым становится. И так мне стало приятно это делать – казалось, не оттащить. Чувствую, сама спускать начинаю, да шибко как, никак не остановить. Упала я на лавку, сердце у горла стучит.
Тут Владимир встал, подошел к шкафчику, руки вытянули на свет божий штуку странную, я сначала не уразумела: что это… А было это вот что: выточенный из древа, большой уд с шишкой круглой и с мудями. Сделан так искусно, словно настоящий. Был он длинный довольно и толстый, как рука моя, ремешки кожаные по бокам висели. Ремешки так хитро слажены – могли крепиться на человеке, получалось, что струмент этот навроде живого уда торчал меж ног.
– Тиша, знаешь ли ты, как сей инструмент зовется? – спросил барин.
– Нет, не знаю, – прохрипела я.
– Зовется он «дилдо». Его и еще несколько прекрасных образчиков я у турка купил. Старый турок Мехмед-эфенди знал толк в таких вещах. Штучки, подобные этой, большую сладость женским особям приносят. И чем больше они размером, тем сладости той больше. Хоть в приятности телесной и не могут они с моим старым другом поспорить, однако же, на многие спектакли очень уж годятся, – с важным видом произнес барин. – Итак, начнем-с, благословясь.
Владимир Иванович сразу сподобил «дилдо» ко мне. Застегнул туго все ремешки, и получилась у меня меж ног оглобля деревянная: крупная сильно. Я тогда подумала: «Как же эта штуковина в Маруську-то войдет? Уж больно длинная и большая». А Маруська так елозила задом, что кажись, коня бы приняла.
Это зрелище заинтересовало всех. Игнат отвлекся от Катьки, но молодца свого из нее не вынимал. И Катька, лежа, голову вывернула. Тоже глазищи на нас вытаращила.
Не говоря уже о Владимире. Он стоял рядом. Его родной уд тоже проснулся и встал во всю длину свою исполинскую. Получилось – что у готовой ко всему Маруськи, два молодца рядом оказались: деревянный – мой, и живой, такой же большой – Владимира.
– Тиша, засади ей, голубчик, по «самое не хочу». А мы посмотрим, как ты ее оприходуешь. Да не стой, рот разинув. Иди! – сказал барин смешливо, рукой в спину подтолкнул.
Я подошла и приставила головку деревяшки к Маруськиной норе. Нора оказалась намного меньше. Я стояла в растерянности.
– Ну, чего ты, медлишь? Не бойся, и не такое пихали – входило, – прикрикнул Владимир Иванович.
Я надавила посильнее – и удивительное дело: деревяшка легко проткнулась в Маруську. Меня все это так распалило, что я начала двигаться в ней все быстрее и быстрее. А Маруська закричала истошно. Скорее, от наслаждения. Хотя мне в эти минуты, если честно – было все равно. С каждым тычком я получала такую сладость, что не могла перестать еть ее. Тогда я и пожалела: почему на самом деле, не мужчина, и у меня нет большого уда с яйцами меж ног.
Маруська, немного погодя, начала сильно спускать, лицо скрючило, словно от боли зубовной, ногти стол зацарапали… А я – глупая, все наяриваю, пока она не захрипела над моим ухом: «Таня, хвааатит, я больше не могууу, я спустила сильно. Остановись, за ради Христа…»
Но тут к Марусе подошел Владимир. Он велел мне прекратить тыкать ее и сесть на лавку. Не дав Маруське продыху, он поставил ее на стол задом и, помазав свой вздыбленный уд каким-то жиром, приставил его к заднему оходу.
– Хотела прорва – получи все сполна. Все дыры тебе разворотим, – сказал, стиснув зубы, барин.
Тоже сделал и Игнат: он развязал к тому времени Катьку и, перевернув ее к себе спиной, привязал уже по-другому. Видать, задние оходы у обеих девок были давно, что лохани, прости Господи, раз такие огромные уды входили в них, словно песты в ступы.
Я сидела в сторонке, на меня никто не обращал внимания. Тихонько отцепила от себя ремешки, которыми крепился ко мне дилдо энтот окаянный, развязала тесемочки у своих брючек. А оба кобеля усердно блудствовали в зады своих развратных баб, оттягивая их на себя за волосы. Те двигали навстречу круглые телеса и орали во все горло. Зрелище было незабываемое… Казалось, я в Преисподнюю угодила. От дыма заморского голове еще хуже стало: шипение по углам послышалось… Стала присматриваться, вижу: батюшки святы – змеи по комнате поползли, спинами черными заблестели меж лавок. Я ноги поджала от пола, никак в толк взять не могу: откуда столько гадов приползло? А они все шипят, друг на дружку лезут, иные в клубья черные завились. Одна змеюка крупная, черная подползла ко мне, голова ее склизкая поднялась высоко – меня оторопь взяла. На морде змеиной глаза человечьи смотрют, не мигают… Но глаза не простые – в них будто огни красные горят. Зажмурилась я от страха, головой тряхнула – пропали змеи, только пар коричневый по углам стелется. Видать, снова наваждение бесовское нашло. Я молитву зачала читать. Вроде улеглось.
Первым свое похотливое дело закончил Игнат, хрипло прокричав какое-то ругательство. А потом, через несколько минут, и Владимир. Постоял чуток, обмякший уд выпал из Маруськиной утробы. Маруська лежала, словно мертвая, волосы к спине мокрой прилипли.
– Тихон, мальчик мой, а ну, пойди, сюда скорее.
Я подошла. Так торопилась, что едва не упала – ноги в штанах запутались.
– Смотри, как мы с тобой ее хорошо приласкали. А ты говорил, что не войдет, – проговорил барин и захохотал, обнажив белые волчьи зубы.
Что я могла ответить… Я, только молча, кивала в ответ, как батянина лошадь, а сама так и пялилась в Маруськины красные колодцы. Они у меня до сих пор перед глазами стоят. Господи, боже мой, и за что мне такие испытания были дадены? Как хорошо с прежним барином-то жилось! Хоть, пьяница он был и картежник, а все же добрый и не пакостный. В церковь ходил частенько, у батюшки исповедовался. Крепостных не обижал напрасно. Совесть в нем говорила. А чтобы в блуде его заметили? Так: ни-ни! А наш Владимир – чистый демон: красив лицом, но черен душой! Гореть ему в Геенне Огненной – спасения не будет!
Глаша смотрела на Таню во все глаза. Было понятно – ее сильно возбудил этот рассказ.
– А что было дальше? Неужто, тебе самой… так и не вставили?
– Всунули позднее, а то, как же, – нехотя и чуть злобно отозвалась Татьяна, – Глафира Сергеевна, давайте грибы собирать, корзины пустые вона ждут. А если хотите, я приду к вам в комнату завтра вечером, там и рассказ продолжу. Торопиться нам будет некуда, посидим – вволю наговоримся. А сейчас пошли, солнце уже высоко стоит, – проговорила Татьяна безрадостным голосом. – Я холопка – мне, что приказано, то и исполняю. Сказано грибы собирать – собираю. Непонятно только за что вас, барыню, к холопке приставили? За что вас тетушка родная так наказывает? Отродясь такого не водилось, чтобы барыня вместе с подневольными работала.
– Да, брось, ты Танюша, какая уж работа – по грибы ходить. Это же удовольствие одно. А рассуждать про действия тетушки я не вольна. Она почтенна и в летах, мне уважать ее должно. Спасибо, что хоть приютила. Кабы не она, где бы сейчас я ночи коротала?
– Знаю, Глафира Сергеевна, что вы учтивы и воспитаны, однако, помяните мое слово – тетка еще не раз удивит вас своею добротой. Так удивит – тошнехонько станет.
Глаша молчала в ответ, печальные глаза устремились вдаль. Татьяна протянула сухую длинную ладонь.
– Вставайте, Глафира Сергеевна. Ножки расправляйте, и пошли. Успеем наговориться-то.
Глаша нехотя поплелась за Танюшей. Но от всего Татьяниного рассказа она так разволновалась, что ноги ее не слушались. Глаза плохо видели вокруг.
В тот же день деятельная Анна Федоровна не теряла времени даром. Она давно упорно размышляла о том, какого жениха сыскать племяннице Глафире. Не допускалась и мысль, чтобы жених был молод и хорош собой.
Сидя на террасе в удобном плетеном кресле и кутаясь в пуховую шаль, барыня пила чай. Худые бледные пальцы чопорно держали в руках цветастое блюдце, аромат экзотического восточного чая, струями вливался в мятные запахи предосеннего утра. Солнечные лучи искрами золотили ручки пузатого китайского чайника, диковинные красные птицы танцевали вдоль его круглых фарфоровых бочков. Свежайшими, только снятыми сливками был до краев наполнен продолговатый, с узким носиком сливочник. Едва заметная, нежная, кудрявая пенка покрывала тугую, бледно-желтую сливочную гладь, в которую с величайшим удовольствием погружалась серебряная изящная ложечка, фамильный причудливый вензель украшал ее длинную тонкую рукоять. К аромату душистого чая примешивался сдобный, медовый запах розанцев и свежих маковых кренделей, чьи загорелые теплые кольца фривольно расположились на плоском ажурном блюде. Во главе стола медным начищенным туловом поблескивал огромный ведерный самовар.
Анна Федоровна, не торопясь, попивала чаек, смахивая кружевной салфеткой прилипшие к губам крошки, когда ее голову посетила странная, на первый взгляд, мысль: а не выдать ли Глашку замуж за престарелого Николая Фомича Звонарева? Странная, лишь на первый взгляд, при ближайшем рассмотрении, эта самая мысль все более и более становилась по нраву ее хозяйке.
Николай Фомич Звонарев был не богатым, семидесятилетним помещиком, проживающим в том же уезде, что и семейство Махневых. Его фамильное, полуразвалившееся гнездо сохраняло слабые приметы былой крепости и процветания. Деревянный дом был еще довольно крепок, но редкие его посетители при довольно близком рассмотрении приходили к удручающе правдивой мысли, о том, что дом намного более стар, чем его хозяин. Несмотря на жаркое лето, в комнатах круглый год пахло сыростью и залежалыми вещами. Это был тот особенный унылый запах тлена, от коего молодые люди начинают неумолимо скучать, и наконец, убегают, с удовольствием подставляя лицо дуновению свежих ветров. К сырости примешивался постоянный запах валериановых капель и камфорный дух горькой желудочной настойки. Заброшенный, неухоженный сад со всех сторон окружал помещичью усадьбу. Хозяину было лень навести в саду должный порядок. Темные липы и разросшиеся акации перемежались местами с бурьяном и чертополохом. Среди полного запустения приятно радовали глаз несколько яблонь и кусты вишни с крыжовником. Маленькая клумба, разбитая под окном, пестрела по осени сиреневыми астрами.
Прошло более десяти лет, как хозяин похоронил свою жену, Акулину Михайловну. Их дети, двое сыновей, были давно женаты и жили в Санкт-Петербурге. Подрастали внуки. Николай Фомич вел довольно уединенный образ жизни, был крайне скуп и неразговорчив. Единственно, кому он доверял – была его младшая сестра: худощавая и желчная особа, старая дева, всю жизнь, прожившая со своим братом и его женой. Она вынянчила и вырастила его детей, была экономкой и полной распорядительницей в имении. Злые языки поговаривали даже, что злобная золовка Пелагея раньше времени «свела в могилу» свою сноху, добрую и бесхитростную Акулину Михайловну, последняя, в силу слабохарактерности, не могла и не умела дать родственнице должного отпора.
Николай Фомич, как и многие старики, страдал множеством болезней. Его мучили ревматизм и подагра, а также несварение желудка. Одевался он крайне небрежно. Единственными его развлечениями были – вкусная еда, послеобеденный сон и игра в карты со своим соседом – худощавым и одноглазым бывшим штабс-капитаном Егоровым. Женщины уже давно перестали интересовать Николая Фомича. Да и в молодые годы он далеко не снискал славы ловеласа. Имея скромные мужские достоинства, кои успокоились насовсем еще при жизни его супруги, он не мог заинтересовать ни одну мало-мальски приятную даму. Все его скудные эротические фантазии так и оставались лишь фантазиями. Иногда, он мог, невзначай, заглядеться на какую-нибудь аппетитную молодую особу, подумать о ее привлекательном теле, и тут же, через пять минут напрочь забыть о ней, предавшись какому-то более полезному занятию. Жена его, женщина кроткая и не темпераментная, всю жизнь довольствовалась тем, что господь послал. Она совершенно точно была уверена в том, что муж с женой должны сходиться в постели лишь для того, чтобы зачать ребенка и не более.
После обеда Анна Федоровна приказала запрячь легкую повозку и отправилась с кучером за несколько верст в гости к Николаю Фомичу.
Подъехав к его скромному и неухоженному имению, велела слуге доложить барину о своем приезде. Тот, спотыкаясь и подобострастно кивая, побежал докладывать хозяину. Прошло несколько минут, слуга не возвращался. Нетерпеливая Анна Федоровна, не дожидаясь его возвращения, сама двинулась через дорожку запущенного сада, прямиком к террасе господского дома. Подойдя ближе, увидела следующую картину: слуга тщетно пытался разбудить барина. Тот спал, сидя в кресле-качалке, теплый клетчатый плед закрывал его с головы до ног. Запрокинув назад седую голову и по-детски округлив старческий впалый рот, Николай Фомич издавал громкий, раскатистый храп, трогательная слюнка стекала вдоль небритой, словно подернутой плесенью, щеки. В жалкой скрюченной фигуре не осталось ни капли мужского, он походил скорее на маленького седого мальчика, уснувшего крепким послеобеденным сном.
Смущаясь и досадуя, слуга приплясывал возле хозяйского кресла, широкая смуглая рука потихоньку тормошила стариковское плечо.
– Барин, Николай Фомич, просыпайте-с. К вам гости важные пожаловали-с.
– Ну, чего тебе Захар? Чего ты, меня будишь? – недовольно заворчал старик, сопя носом. Послышался еще один зычный всхрап, рот закрылся, желтая сухая ладонь прошлась по подбородку, вытирая слюни, сонные веки приоткрылись, обнажив бессмысленный туманный взор.
Наконец, Николай Фомич проснулся, тряхнул головой, круглые, как у филина глаза с удивлением уставились на разнаряженную Анну Федоровну. Сфокусировав взгляд на шелковом, с множеством оборок и перьев зеленом чепце, старик никак не мог сообразить: чего от него хотят. Такие яркие особы, как Анна Федоровна редко появлялись на пороге дома Звонаревых. Старик впал в легкий ступор при виде столь экзотической фигуры, показавшейся ему в самом начале диковиной птицей с зелеными перьями. С трудом оторвав взгляд от вычурного головного убора гостьи, Николай Фомич почесался, громко икнул и потянулся, сладкая зевота свела судорогой небритые скулы. Спустя минуту, он снова отряхнулся, словно блохастый пес, сбрасывая последние остатки сновидений. Сладчайшая улыбка осветила белесые стариковские глаза.
– А, соседушка, доброго здоровьица! Вот не ждал, не гадал, что вы ко мне в гости-то пожалуете-с. И как на грех, сестрица-то моя в город уехали-с. А я уж без нее, признаю-с, как без рук стал-с, – сказал Николай Фомич и неловко встал из кресла, – Захар, ставь скорее самовар!
Бросив в сторону шерстяной плед, он остался в старом, темно-бордовом стеганом халате, засаленном и продранном в некоторых местах, стоптанные сафьяновые туфли с загнутыми восточными носами красовались на маленьких ногах. Шаркающей походкой барин повел гостью в залу, где его слуга Захар уже расставлял на столе чашки и блюдца для предстоящего чаепития.
– А я к вам ведь по делу приехала, любезнейший, Николай Фомич, да по приятному для вас делу, коли вы серьезно к нему отнесетесь и поступите со свойственной одному вам, прозорливостью, – кокетливо улыбаясь, сказала Анна Федоровна.
– Извольте-с, дорогая соседка, присаживайтесь. Я вас поперед китайскими травами[55] с баранками напою, а уж потом и про дело ваше мне расскажете-c.
Неспешно попивая чаек, и болтая о разных хозяйственных делах и видах на предстоящий урожай, Анна Федоровна все думала о том, как-бы ловчее начать разговор о сватовстве и невесте.
– А что, Николай Фомич, наверное, вам скучно вдовцом-то до сих пор куковать? Хоть вы и не одиноки, так как сестрица вам во всех делах помощница. А все же мужчине-то порядочному без жены – негоже жизнь свою проживать.
– Помилуйте-с, Анна Федоровна, так уж, сколько лет минуло с тех-то пор, как я жену-то свою Акулину Михайловну схоронил… Что ж делать-то… На все – воля Божья. Так видать, уж один свой век и скоротаю.
– А я вам так скажу, любезный мой, Николай Фомич: тот человек умен, кто на бога надеется, а сам не плошает.
– И как же прикажете-с вас понимать, соседушка, моя дорогая?
– А так-с, что жениться вам надобно и как можно быстрее. И невеста у меня достойная есть на примете: племянница моя Глафира, – отвечала Анна Федоровна, – вы, небось, слыхали, что она живет теперь в нашем имении, на полном моем попечении, так как сиротка она несчастная. Я же, как любящая ее тетя, желаю ей только полного счастия во всем. Я долго думала: за кого бы ее замуж выдать. И знаете, дорогой мой, Николай Фомич, лучше вас, я ей-богу, жениха придумать не могу.
Николай Фомич уставился на нее, вытаращив круглые стариковские глаза. От удивления у него даже выпал изо рта кусок, размоченной в чае, баранки.
– Так-то, оно конечно… – пробормотал он. – Только, какой же из меня уже жених? Она-то, небось, молодая сильно, а я – давно в летах…
– Ой, Николай Фомич, да когда же молодость невесты – недостатком была? – по-сорочьи затараторила гостья. – Не на престарелой же вам жениться, ей богу? Конечно на молодой. Молодая жена – она отрадой и опорой на старости лет будет. Добрую жену взять – ни скуки, не горя не знать! И людям не стыдно показать, – потом подмигнув, добавила, – и вечерами с ней скучать не придется. Она и лаской женской согреет. По мне, так заслужили вы радости земные, и так уж, почитай, десять годков один живете. Сколько, же можно, траур-то по покойнице блюсти?
– Ну, так-то – оно так, но все, же, неожиданно уж, больно ваше предложение для меня. Да к тому же, и невеста-то, поди, не согласная будет замуж, за меня старика идти.
– Что это, батюшка, вы, шутки, что ли шутить изволите-с? – принужденно и фальшиво засмеялась Анна Федоровна, а потом добавила, – помилуйте-с, а кто же спрашивал когда невесту? Я же говорю вам, что являюсь опекуншей ее полной во всех делах. Значит, моя воля за кого ее замуж пристраивать. Прикажу – она все исполнит. Она знает: я не враг ей, и хочу только добра. Да и скажите мне, на милость: разве сыскать во всем уезде человека более порядочного и благородного, чем вы? Ваш древний дворянский род дорогого стоит! За кого же еще замуж выходить, как не за вас, любезный мой, Николай Фомич? Она девушка ученая, бывшая институтка, к тому же проворная и по хозяйству хорошо помогать станет. Не вечно же сестре вашей спину в имении гнуть. А тут будет, кому ее заменить, чтобы вам с сестрицей отдыхать на старости лет. А коли, где жена молодая и взбрыкнет, так ваша Пелагея ее быстро уму-разуму научит. Для того и коса у невесты молодой длинная, чтобы таскать легко за нее было. А если розгой когда Пелагеюшка ее пожалует, так я за науку такую, даже благодарна вам буду от всей души. Наука такая никого еще не портила!
Николай Фомич сидел и задумчиво чесал небритую щеку.
– Знаете, как мы с вами сговоримся? Я пришлю ее, наверное, завтра к вам с какой-нибудь безделицей. Вот вы и рассмотрите ее хорошенечко, а опосля и решение свое мне объявите.
На том они и расстались. Анна Федоровна уехала к себе домой, пыль клубами стелилась вслед ее легкой повозке. А Николай Фомич еще долго сидел за столом. На него нахлынули воспоминания из далекой юности.
То он видел молодую, розовощекую горничную Настю, с которой в молодости был недолгий, но волнительный роман. Бесхитростная, чистенькая Настя в белом крахмальном переднике своими полными бедрами всколыхнула такую бурю страсти в сердце лицеиста Звонарева, что он исходил коровьими слезами накануне предстоящей разлуки. Перед самым отъездом он принес к ней на подоконник охапку темной душистой сирени. Настин маленький носик, уткнувшись в сирень, вдыхал цветочный аромат. В ночь перед разлукой полные нежные ручки крепко держали ненаглядного Коленьку за шею, теплые губы покрывали поцелуями милое безусое лицо. Смешливые голубые глаза, наполненные нынче слезами, еще долго смотрели вслед уезжающей карете, в которой, вывернув шею в окно, ехал несчастный лицеист к месту ненавистной учебы. Долгое время ее образ не уходил из сердца Звонарева, заставляя тосковать и мучиться, глядя на луну. В каждом природном звуке: шорохе листьев за окном, шуме ветра, в звуках капели, он слышал ее влажный страстный шепот.
То вспоминался жаркий июльский полдень студенческого лета, когда повзрослевший Николай приехал на каникулы к родителям. Он тогда ходил с важным видом, красуясь, сшитым на заказ, новым сюртуком. Завидев молодого барина, который заносчиво вышагивал по двору усадьбы, дворовые девки прыскали в кулак и шушукались. Звонареву тогда казалось, что все они страстно влюблены в него. Быстрые молодые ноги не давали покоя. Он обошел окрестные рощи и сады, поднимался на холмы и спускался в овраги, поросшие лещиной, крупные гроздья незрелых молочных орехов царапали потные руки.
Сморенный жарой, Звонарев шел купаться на речку. Прохладные тугие струи успокаивали горячее молодое тело, заряжая новой порцией энергии. После купания, распластавшись на горячем песке, в тени ивовых подростков Николай забывался коротким сном, теплый ветерок трепал светлые кудри.
В тот памятный день он лежал после купания на песке, дрема постепенно накрывала голову нежным шелковым платком. Вдруг ему послышался смех и множество женских голосов – то были крестьянские девушки, бежавшие гурьбой по берегу реки. Они не видели Колю – пышный куст закрывал его от посторонних глаз. Крупные девахи громко смеялись, подначивая, друг дружку незатейливыми шутками, двое из них, дурачась, играли в «догонялки». Потом, все дружно поскидывали льняные сарафаны и домотканые рубахи с потных упругих тел – белые торчащие груди самых разнообразных форм и размеров предстали благодарному зрителю, таившемуся в кустах. Руки, поднятые к голове, завязывали на макушке длинные косы, груди дрожали и подпрыгивали от резких девичьих движений, темные треугольники волос под белыми животами ослепляли неприкрытой откровенностью. Одна за другой девицы бросились в воду, крепкие ноги и руки с силой замолотили по тугой глади реки, гулкое эхо разорвало тишину сонной долины.
Одна из девушек чуть задержалась, тонкие пальчики, торопясь, разматывали оборы[56] от лаптей. Николай увидел, что она еще не вполне развита, на вид ей было около двенадцати лет. Маленькие торчащие грудки с нежными, расплывчатыми сосками украшали ее стройное тельце, две аккуратные косы спускались с худеньких плеч. В устье ног трогательно круглился матовый безволосый пирожок.
Нагота деревенских девушек, великолепие природной красоты, женской тайны, открывшейся так внезапно, ошеломительно и, одновременно естественно, без фальши и кокетства, привела Николая в крайнюю степень возбуждения. Рука потянулась к напрягшемуся члену… Эта яркая и впечатляющая картина из его студенческой юности навсегда запомнилась Николаю Фомичу. Будучи молодым, он часто уносился мыслями в ту июльскую пору, приятная упругость в штанах приходила в ответ на подобную ностальгию.
«А интересно, хороша ли эта Глашенька? Полны ли ее ручки и ножки? А какая же у нее грудь? – мечтательно думал старик. – Я ведь, по правде говоря, большой аматер[57] полненьких женщин».
Не смотря на множество приятных мыслей и воспоминаний далекой юности, у Николая Фомича так и не появилась, так хорошо знакомая молодым мужчинам, здоровая эрекция… Уже смеркалось, когда вошел к нему в комнату Захар. Выражение глупейшего блаженства застыло на лице барина, глаза не мигая, смотрели в сумрак, сгустившийся по углам.
Глава 13
На утро следующего дня, сонные глаза Глафиры наткнулись на широкий и неясный образ, который чуть колеблясь за длинными опущенными ресницами, через минуту обрел четкие очертания. Старшая горничная Петровна, собственной персоной, снова почтила присутствием заспанную прелестницу. Глаша уже привыкла к подобным выходкам этой женщины. Подбоченись и, скрестив руки на большой отвислой груди, вредная баба нахально разглядывала спящую девушку. Негласно поощряемая барыней и уверенная в полной безнаказанности своих наглых деяний, Петровна даже не удосужилась разбудить спящую стуком в дверь. Сбившаяся ото сна сорочка обнажила молодое и пленительное тело Глафиры, длинные голые ноги фривольно раскинулись на постели, курчавый треугольник беспечно темнел в их теплом и нежном алькове. Завистливый взгляд Петровны шарил по молочной белизне тугих бедер и живота. Глафира, почувствовав этот бесцеремонный, злобный взгляд, покраснела как мак на лугу; руки, дрожа, оправили сбитую сорочку; одеяло, взмыв парусом, прикрыло нечаянную наготу.
– Ой, не моя воля – а то бы я вас быстро уму-разуму то научила – когда молодая девушка просыпаться должна. Раскинула телеса свои… Бесстыдница! Розгами бы высекла, чтоб знала, как ноги раздвигать, – злобно прошелестела Петровна. Увидев сильное Глашино смущение, переходящее в возмущение, добавила громче и спокойнее, – вставайте поживее и, как позавтракаете, тут же ступайте к тете на поклон. Разговор у нее до вас имеется, – проговорив это, она важно покинула комнату – ее монументальная фигура с толстым задом, колыхаясь, скрылась в дверном проеме.
Вздох облегчения вырвался из Глашиной груди, откинув одеяло, она поспешно соскочила с кровати. Проворные ручки заплетали длинную косу, натягивали чулки и платье, но в голове крутились одни и те, же вопросы: «Зачем тетушка зовет к себе? Что ей от меня нужно?» Тревога и плохие предчувствия змеиным кольцом сжали сердце.
Анна Федоровна проснулась рано и в плохом расположении духа. С утра мучили приступы мигрени, от коих она спасалась крепким чаем и травяными настоями. Несмотря на общее недомогание, корсет темного шелкового платья плотно охватывал ее высокую и худощавую фигуру. Массивная брошь, приколотая чуть ниже глухого ворота, притягивала взгляд вычурной серебряной вязью. Голова тетушки, увенчанная нелепым чепцом с шелковыми рюшами в несколько рядов, напоминала пышный цветочный куст. За окнами стояла довольно теплая погода, однако, барыня куталась в кашмирскую шаль, нервно и зябко поводя худыми острыми плечами.
Кабинет Анны Федоровны, тщательно обставленный хозяйкой, поражал необычной роскошью. Точеные, словно живые, маленькие бронзовые ящерицы с блестящими каменными глазками причудливо огибали массивные резные ручки пузатых шкафов, сделанных из испанского красного дерева.
Эти шкафы являли собой вместилище большого количества книг с потемневшими от времени корешками. Ручки барыни редко дотрагивались до старых фолиантов – ученые премудрости хранились здесь лишь для блезиру. Как мы упоминали ранее, мать Владимира не желала «забивать голову» излишними познаниями, однако любила «пустить пыль в глаза» собеседнику своей фальшивой образованностью. Для этого достаточно было знать кое-что из латыни, пару фраз на французском, пару модных литературных имен и несколько устаревших светских сплетен.
Гипюровые, расшитые бисером, прямоугольные подушки живописно лежали по двум сторонам огромного темно-вишневого дивана, чей глянцевый шелк наводил на мысли о чудовищно высокой цене этого великолепного предмета интерьера. Рука неизвестного итальянского мастера немало потрудилась для создания сего прекрасного образчика дворянской роскоши, в коем любила возлежать хозяйка поместья. Оленья кожа тонкой выделки обтянула столешницу изящного секретера, фасад которого состоял из множества выдвижных миниатюрных ящичков, хранивших в себе письма, счета, ценные бумаги и писчие принадлежности. На полу возлежал персидский длинноворсовый ковер – нога, ступившая в него, утопала по самую щиколотку. Окна, часто занавешенные тяжелыми бархатными портьерами с шелковыми кистями, пропускали мало солнечного света. Две пожилые дамы в робронах с седыми тирбушонами[58], и один полный господин в старомодном камзоле и белом парике, строго и чопорно взирали на посетителей с фамильных портретов, руки неизвестного художника. Сама Анна Федоровна восседала в глубоком кресле работы знаменитого французского мастера Жоржа Жакоба, купленном специально для нее на одном из столичных аукционов. Кресло украшали массивные бронзовые барельефы в виде голов сфинкса, четыре ножки которого, тоже отлитые из потемневшей бронзы, олицетворяли собой когтистые львиные лапы.
Когда смущенная Глаша робко постучалась в дверь теткиного кабинета, Анна Федоровна, сидя в своем любимом кресле, раскладывала карточный гранпасьянс на круглом, трехногом блестящем столике. Выпуклые лапки медных застежек охватывали подкопченную временем, кожу таинственной Рафли.[59] Она лежала недалеко от веера разложенных карт.
– Puis-je entrer?[60]
– Entrez[61]. – отозвался недовольный голос.
– Bonjour, та tante[62], – пролепетала смущенная девушка и, неловко нагнувшись, поцеловала худую, жилистую теткину руку. Пахнуло валерианой и старыми цветочными духами.
– Проходи, проходи. А ну-ка, голубушка, скажи мне на милость, как тебе живется у нас? Все ли ладно? Не обижает ли тебя, часом кто? – строго и надменно спросила Анна Федоровна, приподняв одну бровь.
– Что вы, тетя, как можно-с. Я всем вполне довольна. Меня никто не обижает.
– Так, так. Ну, хорошо… – неприветливо кивнула она и продолжила, – я вот о чем, сударыня, хотела вас попросить: у нас есть сосед – помещик Николай Фомич Звонарев. Человек он очень почтенный. Так вот, вы сегодня, пожалуйста, оденьтесь получше и тщательней. На голову платок не надевайте. Шляпка, вроде, у вас какая-то была… В сущности, мне дела нет до вашей шляпки, а только попрошу вас быть при полном параде и меня не опозорить, – все больше раздражаясь, проговорила тетка. – Возьмете коробочку картонную, она на террасе приготовлена. В ней ватрушки творожные лежат. Отвезете Николаю Фомичу гостинец.
– Хорошо, Madame, я отвезу, только… почему, вдруг я? – краснея, пролепетала Глаша.
– А мне говорили, что ты дерзкая. Скажи на милость: почему я пред тобой отчет должна держать? Коли посчитаю потом нужным, так скажу: зачем я тебя к Звонаревым посылаю. А пока езжай и не задавай мне лишних вопросов! Лучше не серди меня! А не то я быстро твой нрав урезоню! Я смотрю – дома-то тебя мало послушанию учили. Не будешь слушаться и почитать меня, как должно – я быстро к тебе науку эту применю. Розги-то у Игната всегда наготове гибкие стоят, в кадке мокнут.
Глаша вышла от барыни с бледным лицом, в глазах стояли страх и досада. Горничная Маланья, увидав ее, сочувственно вздохнула.
Через час Глаша ехала по пыльной дороге в тарантасе, на круглых, сомкнутых коленях покачивалась картонная коробка с творожными ватрушками. Всю дорогу она думала о том, зачем барыня ей велела нарядиться и ехать к помещику Звонареву. Вспоминался неприятный разговор с теткой, от обиды ком подкатывался к горлу. Но тут же, едва справившись с набежавшими слезами, она вытирала глаза длинным рукавом светлого шерстяного платья – оно так было ей к лицу. Солнечные блики золотили пшеничные пряди волос, выбившиеся из-под черепахового гребня. Маленькая кокетливая шляпка красовалась на ее изящной голове. Пучок искусственных фиалок был приколот к соломенному боку шляпки, цвет этих незатейливых цветов сливался с ярким цветом чуть мокрых от слез глаз.
Кучер подвез Глашу к имению Звонаревых. Слуга Звонарева помог ей выбраться из повозки и проводил к дому. Она увидела, что навстречу ей, суетливо перебирая ногами, идет маленький и полный, пожилой господин с круглой седой головой и длинными бакенбардами. Серый, немного засаленный, немодный сюртук с большими роговыми пуговицами едва сходился на выпуклом животе, розовый в крапинку шейный платок туго охватывал короткую толстую шею и красноватый подбородок. Крупными яркими клетками нелепо пестрели его шотландские панталоны, маленькие, почти детские ножки, обутые в длинные, не по размеру, штиблеты, могли рассмешить любого, кто бросил бы на них пристальный взгляд.
– А, это вы, сударыня! Честь имею рекомендоваться – ближайший ваш сосед Звонарев Николай Фомич. Давно желал иметь удовольствие с вами познакомиться, Глафира Сергеевна. Ваша тетушка мне рассказывала о ваших премногих добродетелях, – сказал, чуть заикаясь, Николай Фомич. В голосе чувствовалось сильное, плохо скрываемое волнение.
Глаша, краснея, присела для поклона. Звонарев, неловко клюнув носом, поцеловал девушке руку.
– Милости прошу-с, проходите, пожалуйста. Там на террасе стол давно накрыт-с для чаепития, – торжественно проговорил Николай Фомич, потрясывая круглой головой.
– Спасибо, сударь. Я не голодна. Разве, что посижу у вас немного. А вот, кстати, и ватрушки. Вам тетушка велела передать.
– Спасибо, спасибо. Премного-с благодарен.
Звонарев старался быть очень гостеприимным и показать себя с хорошей стороны. Пока Глаша поднималась по ступенькам террасы и садилась за стол, он с удовольствием рассматривал ее стройный стан и полные бедра, старческие, чуть подслеповатые глаза таращились на высокую грудь. Он отметил про себя, что эта девушка – настоящая красавица. Сердце старика так разволновалось от радости, что он едва держал себя в руках, чтобы не попросить слугу Захара накапать успокоительных капель.
Глаша недолго пробыла у Николая Фомича. Она почти не притронулась к угощениям. Ей был не приятен ни этот пожилой джентльмен, ни этот никчемный разговор, в течение которого старик задавал ей разные вопросы о детстве, учебе, образовании. Он все время кивал головой с глупой, подобострастной улыбкой, произнося одни и те же слова: «Так-с, так-с. Я вас понимаю». А сам то и дело останавливал взгляд своих бесцветных круглых глазок на Глашиной пышной груди; терял нить разговора, а потом, словно спохватившись, начинал неестественно хихикать; его морщинистая холодная ладонь тянулась к Глашиным рукам. Ему даже удалось снова неловко поцеловать ее ручку. Этот холодный мокрый поцелуй, сорванный украдкой, сначала оконфузил старика, а потом привел в крайнюю степень восторга.
Наконец, Глаше наскучило сидеть у этого странного пожилого господина, и она решила вежливо откланяться и распрощаться с ним. Ей показалось, она полностью выполнила поручение своей немногословной тетки и, кроме того, и так уже слишком засиделась в имении Звонаревых.
– Николай Фомич, мне пора ехать, – сказала, поднимаясь из-за стола, Глаша.
– Что так скоро, может еще посидите? Вы же совсем ничего не поели-с, – спросил Николай Фомич. В голосе звучало неподдельное разочарование.
– Нет, нет, мне уже пора.
Они распрощались. Глаша села в дорожный тарантас и поехала домой, в имение Махневых. А старик остался у себя в самом хорошем расположении духа. Внешний вид Глафиры произвел такое сильное впечатление, что от умиления, он не знал, чем теперь заняться. Старик принялся что-то напевать себе под нос и нервно ходить по комнате. Временами он останавливался, хлопал себя по лбу, глупая блаженная улыбка наплывала на круглое лицо.
«А ведь, Анна Федоровна права! Еще раз убеждаюсь: какая она умная женщина! И чего мне одному-то свой век коротать? Ведь, с такой-то женой – намного лучше и веселее будет. Ах, как она хороша, эта Глашенька! Какая же красавица!» – рассуждал Николай Фомич. – «Конечно же, я женюсь на ней. Не дурак же я, чтобы от такого счастия отказаться… Сегодня же пошлю нарочного к Анне Федоровне сообщить, что я согласен. Надо же будет еще раз встретиться и обсудить, когда мне к ним свататься ехать».
Прошел целый час, а Николай Фомич все ходил из угла в угол, яростно жестикулируя, и разговаривал сам с собой.
«А ведь мне надо и костюм подходящий подыскать… Может, новый пошить? Портной жид уж больно дорого берет, да и ткани, сколько на пошив пойдет. А вот старый-то мой фрак, казовый[63]. вроде, еще годный был. Надобно достать и почистить. Я его последний-то раз надевал, дай бог памяти, когда мы с Акулиной Михайловной, царство ей небесное, были на бал в Дворянское Собрание, аккурат на Рождество приглашены. Эх, как вспомню, что за чудные времена-то были… А что? Он, наверное, еще неплохо сохранился. Скажу сейчас же Захару из шкапа его достать. А для начала, наверное, сегодня же прикажу баньку истопить и попарюсь хорошенечко. Я же, как-никак, теперь – жених! Не гоже, чумичкой к алтарю-то идтить», – рассуждал взволнованный Николай Фомич, – «я же, дай бог памяти, в последний-то раз в бане еще в начале лета мылся…»
А тем временем, в поместье Махневых между матерью и сыном состоялся следующий разговор.
– Maman, а позвольте вас спросить: вы, куда это Глафиру Сергеевну сегодня в тарантасе отправили? Могу я узнать: за какой надобностью?
– Ну, Вольдемар, коли тебе так уж любопытно, я, пожалуй, скажу. Ты знаешь, я давно думаю о том, за кого бы выдать замуж нашу бедную сироту. Не вечно же ей жить у нас в приживалках.
– А отчего бы и не жить? Кому она мешает? Кусок хлеба ей всегда у нас найдется.
– Перестань, говорить глупости, Владимир. Ну, ты честное слово, как дите неразумное рассуждаешь. Девушке надобно замуж выходить и семью свою заводить, – и немного помолчав, она добавила, – я уже подыскала ей достойного жениха.
– И кого же, позвольте-с узнать? – усмешка скривила его тонкие губы.
– Звонарева Николая Фомича, – с достоинством отвечала мать.
– Кого, кого?! – спросил Владимир, серые глаза смотрели на мать с огромным удивлением.
– Ты не ослышался, Николая Фомича.
– Маменька, что с вами? Вы случайно не больны? Не лишились ли вы рассудка? Звонарев ведь уже давно старик, а Глаша молода. Да я знаю, что и не богат он вовсе. Какая же это партия для вашей племянницы?
– Ну и что, что не молод он, зато знатного рода, шестой книги дворянской.
– И что же этот старик делать-то с ней будет? – спросил, сначала слегка улыбаясь, Владимир. А потом он и вовсе упал на спинку дивана и захохотал во все горло.
Смеялся он долго и искренне так, что у него выступили на глазах слезы.
– Да, уж, матушка… Ну и позабавили вы, меня. Вот, потеха-то будет на свадебку эту посмотреть. А не боитесь, что Глашка от такого мужа в бега подастся? – проговорил он, утирая слезы.
– По Глашке твоей давно уже розги плачут, – злобно прошептала мать. – Думаешь, я не знаю, что ты с ней тоже таскался? Или чаешь, что ее позор теперь кто-то другой, кроме Звонарева прикроет?
– Да, полно вам, маменька, злиться… Делайте, что хотите. Некогда мне – дела-с.
Владимир бодро сбежал со ступенек террасы, простучав каблуками щегольских опойковых сапог, и велел запрягать лошадь. Привычными движениями руки проверяли упряжь, деловито готовясь к предстоящей поездке, но с лица не сходила странная, блуждающая улыбка. Стараясь напустить обычную серьезность, он хмурился, сдвигал брови: но это плохо получалось. Против его воли начинала подергиваться верхняя губа, дрожал подбородок – Владимир фыркал и зажимал рот, давясь от наступающего внезапного смеха, и наконец, не стесняясь, он принимался громко и задорно хохотать, падая на скамейку. Руки судорожно держались за живот.
«Смешно, ему! Умник нашелся – советы мне давать! Как велю – так и будут все крутиться! Пока я еще тут хозяйка! Дай волю – он бы гарем здесь завел, навроде султана турецкого. И в кого он до баб такой падкий уродился? Ферлакур![64]» – думала про себя Анна Федоровна.
Вернувшись от Звонарева, Глаша тихонько, пока ее не видела Петровна, ушла прогуляться по саду. У Махневых был фруктовый сад, всего около двенадцати десятин земли. В нем прекрасно плодоносили некоторые сорта яблок, слив и груш. Особенно были хороши и душисты антоновка, белый и полосатый налив, апорт, боровинка и анис. Сад к этому времени стал полон созревших розовых, ярко-красных и желтых плодов, подернутых белым восковым налетом. Тяжелые гирлянды веток с потемневшими листьями склонялись до земли, влажный свежий воздух, густо напоенный душистыми яблочными ароматами, стелился над верхушками деревьев.
Глаза любовались этой щедрой, почти сказочной красотой, ноздри трепетно вдыхали пьянящий яблочный дух. Солнце стояло высоко, прямые и сильные лучи, играя на ветвях деревьев, ярко освещали весь полуденный сад. Глаша медленно шла, под ногами хрустел гравий, аккуратно убранные, ровные садовые дорожки были пусты. Порывы легкого ветра чуть натягивали тонкое шерстяное платье, выделяя скульптурные линии стройной Глашиной фигуры.
Позади захрустел гравий, она услышала чьи-то шаги. Оглянувшись, Глаша увидела, что к ней стремительно приближался Владимир.
После недавнего разговора с матерью, Владимира неприятно взволновала новость о возможном и скором замужестве Глафиры Сергеевны. Громко и настойчиво в нем заговорил собственник, теряющий одну из своих любимых игрушек. Несчастная его родственница занимала далеко не самое почетное место в коллекции женских душ и тел, так как, по его мнению, слишком быстро, без особых усилий и борьбы досталась ему в полное и безграничное распоряжение. Однако он осознавал, что в отличие от многочисленных любовниц из крепостных, Глафира представляла собой более тонкую и породистую штучку. Она была по-девичьи мечтательна и влюбчива, неопытна и ранима, хорошо к тому же образована. Перечисленные достоинства, в совокупности, придавали ей тот особый шарм, который был все еще интересен, избалованному женским вниманием, Владимиру. Да и потом, он считал, что открыл Глашину душу не целиком, только как несколько первых, самых важных страниц новой книги. Большая часть этой книги была им не прочитана. Иными словами, Глаша еще не была развращена настолько, насколько он этого желал. Особая прелесть виделась в том, чтобы лицезреть поэтапное, дальнейшее падение этой трогательной скромницы, доведение ее до самых небывалых высот своего развращенного воображения, картины которого, ему услужливо рисовала богатая фантазия.
Сам факт, что эта наложница может в скором времени выйти из-под его полного контроля, неприятно взволновал Махнева. Он поехал, как всегда по своим многочисленным делам, но мысли его были далеки от этих дел. Захотелось немедленно увидеть Глафиру Сергеевну, заглянуть ей в глаза, сжать до хруста тонкий стан. Воображение остро нарисовало картину того, как он, подойдет и заставит встать ее на колени. Затем, властно удерживая за нежное плечо, спустит перед ней брюки… Объехав вокруг усадьбы, Владимир Иванович разыскал ее в саду, глаза с радостью наткнулись на мечтательную одинокую фигурку, шедшую по прямой садовой дорожке.
– Вот, ты где ходишь, птичка моя, – чуть запыхавшись от быстрой ходьбы, сказал ей Владимир, рука ласково и сильно обняла талию.
– Здравствуйте, Владимир Иванович, – застенчиво и радостно отвечала она.
– Знаешь ли ты, cherie, что моя матушка тебя замуж за Звонарева решила выдать?
– Как за Звонарева?! – продолжая нелепо улыбаться, спросила, как громом пораженная, Глафира, – это потому она меня к нему сегодня утром посылала. Как же я сразу не догадалась. Господи, боже мой, Володя, да что же это делается? Он ведь, очень препротивный старик. Как же я жить-то с ним буду?!
Ее нижняя губа задрожала, ясные глаза молниеносно наполнились слезами. Она кинулась на грудь к Владимиру, словно пытаясь найти у него защиты.
– Да, не убивайся так, это – пустое занятие. Ты, же знаешь мою мамашу. Уж, коли ей чего в голову втемяшится… Может, не все так и плохо. До свадьбы еще какой-то срок назначат. Мало ли воды утечет? Может еще, по воле божьей, не сладится чего, – как девочку, уговаривал ее Владимир, гладя по мокрому от слез, лицу.
А потом, он с напускной веселостью, добавил: «Николай Фомич уже старик глубокий. Много ли ему осталось? Не успеешь оглянуться – и ты у нас вдовушкой веселой станешь».
– Что, вы, такое, Владимир Иванович, говорите? Это же грех: жить с человеком – и его смерти ждать. Он же не виноват, что стар.
– О, как вы добры, Глафира Сергеевна. Вот, вы его уже и жалеть начинаете.
А там и до любви – один шаг, – засмеялся он.
– Господь с вами, какая же к нему любовь может быть? Разве, что одно сострадание… Лишь его он достоин, да и то, если бы ума у старика хватило не позорить свои седины и не свататься ко мне. А так – он у меня одно отвращение к себе заслуживает.
– Все это очень умильно и высокопарно, однако меня смущает здесь другое. Сойдясь с вами достаточно близко, я имел не раз удовольствие убедиться в том, что женщина вы – чрезвычайно страстная. Боюсь, что от страстей своих телесных вы Фомича либо отравите поперед смерти его естественной, либо на сторону будете бегать, – проговорил Владимир, глядя в упор на Глашу. Его рука сильно сжала ее запястье, лукавые глаза смотрели с вызовом. – Меня же рядом не будет и Игната тоже… Не в одном же поместье живем. За несколько верст не набегаешься ко мне.
У Глаши высохли слезы, и она, плохо соображая, вся поддалась, потянулась к Владимиру. Встав на носочки, она обняла любовника за шею, губы принялись лихорадочно осыпать поцелуями знакомое, любимое лицо. Ее безрассудная и истовая нежность отозвалась в телах обоих жестоким и всесокрушающим желанием.
– Пойдем, скорее куда-нибудь, – Владимир оглянулся, ища глазами место, куда можно лечь.
И, наконец, его глаза наткнулись на старый заброшенный шалаш, сделанный из прутьев и еловых веток и стоящий в глубине фруктового сада. Поблизости никого не было, все многочисленные дворовые были в это время на полевых работах. Рядом с шалашом едва дымился, потушенный костерок. Пахнуло жжеными листьями. Он потянул ее за руку, увлекая за собой в сторону шалаша. Глаша, без слов поняла его движение, и как преступная сообщница, не возражая ни слова, проворно побежала за ним. Подойдя к шалашу и заглянув внутрь, они убедились, что он пустой. Не мешкая ни минуты, крепко стиснув зубы, слегка запыхавшийся от быстрой ходьбы, Владимир вошел в шалаш и резко развернул Глашу к себе спиной. Сильная ладонь надавила на плечи и шею, повелительным жестом он заставил встать ее на колени. Глаша почувствовала, как несколько иголок впились ей в ноги, ветки, торчащие из стен, оцарапали шею и грудь. Соломенная шляпка упала с головы и закатилась в темный угол. Не смотря на все это, Глаша не чувствовала никаких неудобств. Она вся выражала собой полное подчинение и готовность перед чуть грубоватым натиском любовника. Владимир, затаив дыхание, задрал кверху все нижние юбки, руки торопясь, приспустили книзу батистовые панталоны. Его взору предстала нежная, молочно-розовая плоть стройных и упругих ножек, чуть влажные ягодицы немилосердно соблазняли спелой округлостью. Спина беззастенчиво прогнулась, колени сами раздвинулись, завлекая желанного гостя. Солнце назойливо пробивалось сквозь решетчатые стены нехитрого шалаша, выделяя светлым пятном алчущее лоно с мокрыми, слипшимися от скользкой влаги, волосками.
Он вошел в нее сразу резко и грубо – с ее губ сорвался небольшой стон. Но эта первоминутная боль не могла идти в сравнение с тем удовольствием, которое она начала испытывать с самых первых толчков. На каждый толчок Глафира отвечала ответным движением, мощные выпады заставляли прогибаться гибкое тело.
– Божееее, Владимир, как хорошо. Я готова умереть за это. Я не смогуууу, не смогуууу жить без тебя.
– Так без меня или без моего толстого дружка? По-моему, ты его больше любишь.
– И без него и без тебяяяяя.
– Так оторви его, и носи с собой. Пусть, так и сидит в тебе. Глядишь, и с Фомичем не так скучно будет.
– Угу… ааааа.
Немного погодя, он сам лег на спину, быстро постелив на пол сюртук, и велел ей сесть сверху на полыхающий от возбуждения, каменный ствол.
– А теперь, детка, попрыгай на нем немного. Выжми из него, наконец, все соки.
Задрав высоко юбки, которые мешали ей свободно двигаться, Глаша походила на самоварную куклу. Изловчившись, она все же воткнула в себя большую розовую головку, с широким пульсирующим отверстием. И стала сначала медленно, а потом все быстрее, скользить по стволу вверх и вниз, а порой, раскачиваться как на лодочке, вправо и влево… Эти движения доставили ей большое удовольствие потому, что она могла сама контролировать все действо, еще сильнее прижимаясь к его плоти воспаленным и распухшим естеством.
Член ходил в узкой и скользкой норке, как хорошо смазанный маслом, поршень. На минуту она приподнялась над ним слишком высоко, длинный и толстый красавец в розовой круглой мясистой шляпе нечаянно выскользнул. Лицо Владимира Ивановича исказилось, словно от боли, стон неудовольствия сорвался с губ, семя стояло у самого верха, готовое вырваться наверх, как раскаленная лава, из дымящего кратера.
– Глаша, скорее сядь на него, скорее! Тише, тише… Вот так…Ааааа.
Спустя несколько минут, оргазм почти одновременно накрыл обоих, острой сладостной болью, пульсирующие и ударяющие в голову толчки, сводили с ума. Словно царапающая когтистая лапка прошлась по воспаленной точке в устье ее срамных губок, задержалась на его распухшей и плотной головке, а после, превратившись в молнию, ударила сверкающей волной в пах обоим любовникам, доводя до высшего абсолюта неземного блаженства.
Какое-то время Глаша лежала на Владимире, приходя понемногу в чувства. Потом приподнялась, с трудом шевеля руками и ногами. Мокрый и потерявший упругость, детородный орган легко выскользнул из ее расслабленного лона. Глаша вытерлась нижними юбками, ловкие ручки заботливо промокнули натруженный и лежащий на боку, член.
– Слушай, Глафира, я за последнее время, кажется, несколько раз уже спускал прямо в тебя. Боюсь, кабы твоему Звонареву не сделать щедрый подарочек, аккурат к вашему бракосочетанию, – сказал, ухмыляясь, Владимир.
До Глаши постепенно стал доходить весь ужас, сказанной им шутки.
«Господи, чего же я, глупая такая – ведь от этого же дети и родятся. А семени он мне вон, сколько вливал. И Игнат в меня, кажется, спускал. Что я наделала, беспечная? Надо у Тани спросить. Она-то, поди, знает, что делать. А может, как-нибудь обойдется?» – думала она, растерянно оправляя на себе платье и прическу.
Забегая вперед, хотелось бы удовлетворить интерес пытливого читателя: опасения Глафиры Сергеевны, к счастью для нее, оказались напрасными – она не была беременна.
Глава 14
Следующий день прошел без особых новостей. Дабы племянница без цели по имению не слонялась, и хлеб хозяйский зря не вкушала, барыня, как всегда, распорядилась загрузить ее работой. Сваленное в кучу белье, требовало тщательной штопки и утюжки, и еще один погожий денек был посвящен этому нудному занятию. Радовало одно – никто не мешал спокойно думать. Нестройный хоровод мыслей проносился в Глашиной русоволосой голове. Думалось о старике Звонареве, о том, как нелеп этот господин в роли будущего жениха и мужа. Чувство брезгливости охватывало душу при воспоминании о редких седых волосах, стеклянных маленьких глазах, семенящей походке этого жалкого старика. Она живо представила темные, затхлые комнаты, обставленные потертой старомодной мебелью – во рту появился тошнотворный привкус плесени, вкупе с запахом валерианы. Глашина рука помнила прикосновение холодных морщинистых ладоней – то были прикосновения, скорее покойника, нежели живого человека. Усмешка скользила по полным губам Глафиры от обиды за столь оскорбительный для нее мезальянс. Разве о таком женихе мечтала Глафира Сергеевна долгими ночами в институтском дортуаре? Да если бы о подобном кандидате узнали ее подруги, они бы, в лучшем случае, подняли на смех саму даже мысль… А в худшем: пожалели бы несчастную однокурсницу.
Надо отдать должное, мысли о Звонареве не приносили сколько-нибудь ощутимого страдания. Предстоящее замужество выглядело нереальным, происходящим вовсе не с ней. Явь казалась нелепее самого причудливого сна. Призраки неуклюже лезли из воспаленного сознания Глафиры, мешая трезво оценить события. Более всего думалось о Владимире. В эти минуты она бросала нитки с иголкой. Образ Махнева врывался в душу раскаленным облаком, заставляя впадать в полное оцепенение. Живот леденел от воспоминаний о смертельных ласках, руки, скучающие о любимом, бессильно падали на колени. Казалось, Владимир Иванович не позволит отдать ее под венец с нелюбимым, чужим человеком. Конечно, он спасет! Взор Глаши делался сумасшедшим, губы в горячке шептали что-то несвязанное, произнося как молитву, его имя. Она поняла, что не сможет самостоятельно распутать этот плотный клубок из собственных мыслей, эмоций, чувств и образов. Ах, как в эти минуты хотелось поговорить с Татьяной, излить душу и попросить доброго совета! Танюшина крестьянская логика и прямая житейская мудрость мнились тем спасением, коего не доставало пьяной от любви, Глафире.
Наконец, ближе к вечеру заглянула долгожданная подруга. В дверном проеме показалась рыжая, чуть лохматая голова без платка, она скорчила умильную гримасу и хитро подмигнула. Заговорческим шепотом пояснила, что придет к Глаше когда стемнеет, и все домочадцы улягутся спать.
За окнами вечерело. На исходе лета дни становились короче. Потянуло предосенней сыростью. Зарядил слабенький дождь, капли монотонно застучали о жестяный карниз. Глаша, не зная, чем себя занять, бессмысленно листала страницы старой, пожелтевшей книжки, буквы прыгали и расплывались в темноте. Влажный сумрак струился по углам маленькой комнаты, наводя смертельную скуку. Чтобы прогнать мрачные мысли, она зажгла восковую свечу. Пламя мягко осветило точеный профиль девушки – красивое лицо выражало нетерпение: долго не было Татьяны.
Некоторое время спустя, та проскользнула в комнату, худенькие ножки ступали мягко, по-кошачьи. Шерстяные овечьи онучи смягчали и без того, легкие шаги Татьяны. Выражение безмерной радости затаилось на ее конопатой мордахе, зеленые, как крыжовины глаза, жмурились от удовольствия. Посмотрев на строгие образа, она поспешно перекрестилась, любопытный деловитый взгляд прошелся по нехитрому убранству комнаты. Немного помедлив, подошла к кровати. Скрипнули старые пружины, проворные ручки достали из-за пазухи холщевый мешочек с едой. Узелок развязали, волнующе пахнуло пирогом с капустой. Почувствовав сильный голод, Глаша вспомнила, что за весь день, проведенный в работе, она почти не ела. Заботливые сухие ручки подруги сложили кроме большого куска пирога, несколько румяных яблочек и свежих, пахучих, хрустящих огурцов – их Татьяна воровато сорвала с господской гряды. Огуречная пора давно прошла, а эти чуть переросшие огурцы, не замеченные и не сорванные никем ранее, стали уместны за их нехитрым ужином. Бутыль ядреного хлебного кваса блестела запотевшим боком.
– Без соли, да без хлеба – худая беседа, – подмигнула рыжая гостья.
Девушки ели с большим аппетитом, довольные, что им никто не мешает. Вся ночь была впереди, можно было болтать хоть до рассвета.
– Таня, ты даже представить себе не можешь, что удумала моя тетка! – проговорила Глаша, уплетая пирог и, смахивая с лица прилипшие крошки.
– Господи, боже мой, чего же?
– Она собралась меня замуж за помещика Звонарева выдать.
– Батюшки святы! Уж, не умом ли она тронулась?! Он ведь стар, как сивый мерин, и сед, как лунь. Нашла жениха! Да такого жениха скоро в люльке качать придется, вместо младенца.
– То-то и оно, что старый он. Да к тому же, живет со своей сестрой. А она у него – почище нашей Петровны будет. Лютая, не в меру. Вот скажи, Танюша, как мне быть, что делать? Может, сбежать от них: куда глаза глядят?
– Бежать – дело нехитрое. Только, вот куда? Осень уж на пороге. Не успеешь оглянуться – зима сугробы наметет. Нашей сестре в одиночку тяжело. А вдруг, как лихие люди нападут, али снасильничают? Али волки на дороге загрызут? Да и голод – не тетка. Чем пробавляться-то будем? У паперти побираться? У зимы поповское брюхо – все крошки подберет.
– Да, твоя, правда. Глупая я, бессмыслицу горожу. О волках-то я и не подумала…
– О, дите неразумное! О волках она! О себе бы подумали. Стань овцой, а волки всегда готовы. Волку сеном брюха не набить, так создан. А человеку голова на что? Нееет, это дело с кондачка не решается, – задумчиво проговорила Татьяна, – и главное, что обидно – неужто во всей губернии вам славного жениха бы, не сыскалось? Да любой молодец на вас бы женился.
Это она из вредности, ведьма злобная, вас за хрыча старого отдать хочет. На пакости с нее станется, а за добро не прославится.
– Эх, Таня, кому я нужна? У меня денег ни гроша за душой. Я же без приданного. Кто меня замуж-то возьмет? Да, к тому же, и грешная я теперь, и «порченная», благодаря Владимиру Ивановичу…
– Ой, нашли, чем удивить! «Порченная» – она! Это-то, как раз, легко было бы сладить. Я бы вас научила как. Мужик он что? Он – как теленок. Его вокруг пальца в два счета можно обвести. Так бы обдурили, любой бы поверил, что «первым по тропе прошел», – сказала Танюшка и задорно рассмеялась.
Потом, испугавшись, что ее могут услышать в спящем доме, перешла на шепот. – Вы что же думаете, что одна такая «грешница» у нас? Да таких «грешниц» – пол деревни ходит. Ежели, все мужья правду узнали – знаете, сколько невест-то «порченными» объявили? В этом деле главное – не понести. А остальное – дело поправимое!
– Как это, Таня? – Глаша удивленно и с восхищением смотрела на подругу.
– А так это… Берешь петушиную кровь в склянке с собой в постелю, и подливаешь ее тихонечко на простынку в самый пиковый момент, или чуть раньше можно плескануть. Все равно, он в впотьмах ничего не разберет. Только перед тем, как с мужем в постель лечь – надо туды себе, в нутро квасцов вязких положить. От этих квасцов в срамных местах так узко становится, что палец еле проталкивается. И главное – кричать и стонать погромче! – снова рассмеялась Таня, – а потом, хоть кому эту простынь показывай! Хочешь – на ворота вешай! И жених горд, и невеста сидит скромницей. Вот такая наука, Глафира Сергеевна.
– Ой, Таня, как у тебя все просто… Какая же ты, умница!
– А чего же сложности наводить, ежели, дальше жить надобно. Закон требует – а ты отвечай! А коли знаешь, что нарушила закон перед богом, так Господь-то все видит! – молвила Танюша, высоко подняв, указующий к небу, тоненький длинный палец. После, выждав минуту, гордо сложила руки на груди, и с видом «третейского судьи» продолжала, – Боженька все видит и знает, что к любодейству вас тоже не по закону принудили. Батюшка мой говаривал: «Всякую пакость к себе примени, понеже другому от нее не сахарно». Небось, не очень-то барин спрашивал: желаете ли вы с ним сожительствовать без венчания? Захотел – взял силой! Вот оно, где просто… Ему оправдания не нужны. И защитники без надобности. А куда нам, бабам деваться? Вот и обманываем потихонечку, если уж припрет. Только нашего-то обману на копейку будет, супротив ихнего.
– Так-то, оно так. Только душу-то, как обманешь? Душу-то петушиной кровью не отмоешь.
– Да, Глафира Сергеевна, сразу видно, что вы – не от мира сего! Бабе-то, что для счастья надо? – Мужа хорошего, работящего и непьющего, и деток побольше. Вот детки-то душу вашу и отмоют, и отогреют. А уж коли, мало вам покажется – пост держите, да помолитесь в церкви истово, поклоны положите. Господь милостив – простит вам этот грех.
– Да, с хорошим мужем можно и деток родить, я страсть, как маленьких люблю, – мечтательно произнесла Глафира. Спустя мгновение, лицо омрачилось, – а каких деток я от старца рожу? Он, наверное, и не способен уже дите заделать… Да и не хочу я от него детишек. Ты даже представить себе не можешь, как он мне противен!
– Он-то, конечно, же не способен… Так, окромя его, что мужиков нет? – хихикнула в кулачек Таня.
– Да ну, тебя, Таня! Все тебе смешно… А может, мне в монастырь уйти в монашки, али белицей[65] хотя бы?
– В монастырь, голубушка, завсегда успеете… Только там таких красавиц и поджидают! Вы, себя в зеркале-то видели? С вашими персями и бедрами не по двору монастыря ходить в рясе монашеской, а в голом виде с полюбовником младым в теплых постелях нежиться. Не для монастыря вы уродились. Такой красотой и батюшку-то в грех вгоните. Ненадобно служителям церковным сие искушение! – говоря все это, Татьяна сильно веселилась, – придумала она: монастырь! Как увидит батюшка ваш круглый задок в наклоне – так всяку молитву враз и позабудет! Нет, нельзя вам в монастырь! А ежели и монашки одни в монастыре будут с настоятельницей, все одно – не ваше это место. Измаетесь более других, плоть свою усмиряя. Такую плоть спелую постригом не усмирить!
Смех душил Татьяну, ладошка, поднесенная к губам, едва сдерживала прорывающийся наружу громкие звуки.
– Эх, пошла бы в монастырь, да много холостых! Тосковать будут по мне молодушке – раскрасавице лебедушке, – нараспев затараторила рыжая умница.
Глашины щеки залились румянцем, от смущения она не знала, куда спрятать глаза. Стыдно было от слов подруги, от очевидной правдивости всего сказанного. Смущение Глашино быстро переросло в кокетство, чуть лукавая улыбка озарила ранее печальные глаза.
– Танюша, есть монастыри, где мужчин не видели долгими годами. Такие монастыри в лесах, да за глухими заборами стоят. Настоятельницы-схимницы и игуменьи с епископами общаются через письма и не более того. Вот туда мне и надобно…
– Нет уж, Глашенька, не надо против природы идтить. Не отлюбили вы еще свое. Ешь с голоду, а люби смолоду! Запретный плод познали, но утроба ваша сытости долго еще знать не будет. Себя только этой жертвой изведете. Оно и Боженьке не в радость будет, – Татьяна задумалась, – ежели бы Господь был против любви плотской, то всякое соитие грехом бы считалось. А как же тогда заповедь божья: «плодитесь и размножайтесь»? Вот! То-то и оно. А насчет Звонарева, вы пока сильно не горюйте. Если по уму действовать будете – так ставши женой его младой, сможете еще из старика «веревочки повить». Он вас, поди, еще и баловать, как малое дитя, начнет. А сестру его потихонечку урезоните. Глядишь, еще и лучше будет, чем под теткой жить. Все же – сама себе хозяйка. А я к вам в гости наведываться буду.
Немного подумав, Танюша добавила с важным видом:
– И вот еще что, Глафира Сергеевна, вы не серчайте на меня глупую, а только, я так разумею, что все ваши мучения душевные от книжек заморских, премудрых идут, тех, что под кроватью припрятаны, – проговорила Татьяна, вытаращив лукавые глазищи. После, она как чертенок, спрыгнула на пол и, заглянув под кровать, обличительным тоном сообщила, – вон они, лежат, пылятся! У, какие толстющие! Меньше бы читали эти бисовы словеса – проще бы жили, и на жизню правильно глядели. Учение, оно ведь не всякому полезно! А женщине такой, как вы красивой и полной, только кровь портит и в дурноту вгоняет, – немного подумав, она продолжила: – Был тут у нас один почтмейстер. Тоже все книжонки толстенные почитывал, да окрест деревень похаживал, словно журавель и мороковал о чем-то – сам с собой беседы вел. Остановится, спросит у себя что-то мудреное, да сам же туточки и ответ даст. И тешится, аки блаженный, – Татьяна фыркнула. – До того дочитался, что залез на самую высокую сосну и орал, как оглашенный. Еле сняли. С ума рехнулся. В лечебницу для душевнобольных увезли. Вот так! От большого-то ума тоже сходят с ума…
Глаша тихонько рассмеялась.
– Танюша, дай тебе волю – ты бы книги мои в печке сожгла. Чем тебе Байрон-то не угодил?
– Баронов никаких заморских не знаю, а и знать то не хочу! А только все это от лукавого идет. Пусти чОрта в дом, не вышибешь его лбом. – Татьяна наскоро и размашисто перекрестилась. – Ох, не к ночи будет помянут, а Барона вашего не грех и в печку сунуть.
– Бай-ро-на, Танюша, Бай-ро-на…, – Глаша все больше веселилась. Трепет свечи озарил откинутую назад изящную голову, блестящие глаза выдавали признаки легкой иронии.
Таня насупилась. Сделала вид, что обиделась: губы надулись, зеленые глаза притворно уставились в темноту за окном.
– Ладно, Танюша, не серчай. Ну его, Байрона. Не нужно мне сейчас его стихов. Пусть пока под кроватью лежит. Ты мне дороже всех стала за это время. Во всем поместье Махневых нет для меня души роднее, чем твоя. Я же сирота: меня, глупую, каждый может обидеть.
– Не обидют таперича. Я не дам, – конфузясь, отвечала ей подруга, – я вас тоже сильно полюбила. Жалко мне вас, больше дитя несмышленого.
Проговорив все это, девушки обнялись и прижались друг к дружке. Танина грубая от работы, маленькая сухая ладошка неумело гладила русую Глашину голову, склоненную к ней на плечо. Глаша прижималась к Татьяне как девочка, вдыхая медово-луковый аромат ее льняного сарафана.
– Ладно, Танюша, что нам «сиднем сидеть». Давай, ляжем в кровать. Лежа удобнее будет разговаривать.
Обе подруги быстро разделись. Оставшись в одних нательных рубашках, посмеиваясь и слегка конфузясь, легли рядышком под одно одеяло.
– Ох, Глафира Сергеевна, мне так стыдно перед вами раздетой лежать. Видите, какая, я тощая? Какому мужику понравлюсь?
– Таня, да брось ты! Кому надо – тому понравишься. Да и не надо говорить, что ты тощая. Ты немного худенькая… Тростиночка, ты моя. Хорошая… Лучше тебя и нет никого. И пожалуйста, зови меня теперь на «ты», хватит «выкать». Ты мне подруга, не чужой человек. Да и я для тебя не «барыня». Да и вообще, какая уж теперь, я барыня?..
От этих слов Танюша расчувствовалась, послышалось легкое всхлипывание и сопение. Немного погодя, в истовом порыве благодарности, худенькая ручка обняла Глашу за шею, несколько мокрых от слез поцелуев звонко припечатались к тугой барской щечке. Воцарилось многозначительное молчание, обе в душе умилялись друг другом. Образовавшаяся по воле жизненных обстоятельств, странная дружба между молодой дворянкой и простой крестьянской девушкой в эти минуты проросла крепкими корнями.
– Таня, дорасскажи мне про игрища Владимира и Игната. Расскажи, спал он с тобой?
– Глашенька, а может, ну его? Неприятно мне про то вспоминать. Срамно больно. Ну, да ладно, слушай.
Продолжение рассказа крепостной Татьяны Плотниковой:
Не раз еще Игнат хаживал за мной, таскал в баню к барину. Более всего, Глашенька, противно, что всякий раз меня заставляли в мужеские одежи рядиться и усищи клеить. Один раз даже бороду приспособили: длинную, как у попа. Все смешно им было на меня такую глядеть.
Оденут, бывало, в штаны и рубаху и заставляют по-мужицки баб еть, да ласкать по-разному. А меня обида враз одолевала. Неужто, я на свет уродиться должна была мужиком, да господь мне по ошибке не те органы приторочил? Бывало, еле сдерживаю себя, чтобы не разреветься, а все прихотям барским потакаю. Владимир Иванович, знай меня «Тишей» называет: «Тиша, поди сюда. Тиша, поди туда. Тиша, засади ей. Тиша, впихни». Срам божий, да и только… А потаскухи наши деревенские, полюбовницы его постоянные – такие уж бесстыжие! Знают же – что никакой я не Тихон, а изгаляются надо мной. Похоть им глаза застит. Маруська свою мохнатку нагло пальцами вывернет, и просит громко, чтобы барину потрафить: «Тиша, полижи мне язычком. Страсть, как охота…» Я на нее смотрю, как на убогую, а сама думаю: «Ну и стерва, ты, Маруська». А что делать? Приходилось играть сей паскудный спектакль. Стыдно говорить, как зачну с ними играться, так сама вся горю от желания… Вот она – утроба наша греховная!
Раз нарядили меня, как обычно, и приспособили мне между ног уд деревянный, по-ихнему «дилдо», не маленький, с шишкой большой. Смазали дилдо маслом, чтоб лучше скользил. Владимир Иванович мне сесть на стул приказал. Тогда на оргии было нас, девок, трое: я, Лушка и Маруська. Ну, и как всегда, барин с Игнатом.
Села я на стул, ноги широко расставила, дилдо энтот окаянный торчит между ног, что оглобля. Вот на эту самую оглоблю Маруська с Лушкой по очереди и садились. Не просто садились, а прыгали на ней и стонали кликушно, потиной едкой дышали мне в лицо. То передом, то задом. Мужиков раззадоривали. А Владимир Иванович с Игнатом все смотрели и потешались.
А потом сами с ними подолгу игрались – то на столах, то на лавках, то на табуретах всяких. Все в ушах стоны их любодейские стоят, и запах семени помню… Лушка так разошлась, каналья, что мало ей показалось: просит и просит еще. Она на «это дело» совсем ненасытная. Положили эту лярву на стол, ноги к верху, как на дыбе привязали и заставили меня тыкать ее долго в обе дырищи. Я аж, взмокла ее еть. Она спустит сильно, кричит, борозды на столе от ногтей ее вспаханы… Ну, чисто – чертовка! Потом проходит пара минут, опять спускать готова. Секель распух, как слива, дырки горят, а зад все елозит. Срам и только! Оба мужика смеются над ней. Не знают уже, чего ей толще засунуть. Барин говорит: «Лушка, прорва, ты у нас дождешься, мы тебе жеребца Игнатова приведем. На смерть тебя ухайдакает…» Посмотрели на нее малость, а после засунули ей тудыть бутыль из-под вина, да и бросили так лежать. Сами выругались матерно, и ушли из бани.
Лушка заныла, запричитала. Я уже уходить собиралась, как плачь за дубовой дверью показался. Вернулась тихонько и отвязала ее, окаянную. Бутыль из нее вынула. Вышла она, как миленькая, только дупло широкое опосля осталось, что голенище сапога. Я ей говорю: «Ну и блядища, ты, Лушка! Как же тебя черти окаянную разбирают. Дождешься – изнасилют тебя до смерти!» А она заморгала глазенками белесыми и ну реветь, как корова. Да громко как! Я испужалась, что в усадьбе услышат. Говорю ей: «Замолчи, дура! Хочешь, чтобы народ сюда сбежался? Если кто узнает – барин тебя точно со свету сживет! Одевайся и беги до дому».
Жалко стало ее. Эта дурища одевалась, а сама все плакала, сопли размазывала, на жизнь горемычную пеняла. Жаловалась: замуж теперь ее никто не берет… Да где мужика-то по ее аппетитам сыскать? Ей ведь не один мужик надобен, а цельная рота бравых солдат. А что мне ее слушать было? Своих печалей хватало.
А однажды велели мне прийти, как обычно. Переоделась в мужичка, жду начала спектакля. Смотрю: а подружек барина и нет. Может не подошли еще, а может, занемогли все разом. Не знаю. А только стою я, как свечка – одна на виду. С ноги на ногу переминаюсь. Не знаю: чем заняться. А барин с приказчиком сидят, вино пьют, разговоры непонятные ведут. Вдруг, Владимир и говорит:
– Ну что, Танюха, может, и ты нам на что-нибудь сгодишься? Хватит уж, поди, девой ходить. А то «Тишенька» твой уже всех бабенок наших переёб, а сам молодец, все нераспечатанный ходит.
Я испугалась: вот и мой черед пришел оглоблю его на себе испробовать… А Владимир уже прилично хмельным был в тот день, качало его из стороны в сторону. Долго возиться со мной не стал… Взял меня за шею крепкими пальцами и к себе подвел.
– Смотри, Игнат, какая шейка у нашего парнишки тонкая… Не то, что у баб наших спелых. Тошнит меня от их спелости… Боюсь я за себя… Что-то меня последнее время не на сиськи сдобные тянет. Знак нехороший. Ты не находишь, друже? Игнатушка, что ты делать-то со своим барином будешь, ежели мой жеребец на коров деревенских вставать откажется? Какие стада ты в этом случае мне погонишь? Ой, тошно мне! – и он засмеялся, но как-то нехорошо, злобно. Смеется, а глаза злые. – Ну, да ладно, чего рассуждать. Много я нынче выпил. А истина в вине оказалась… In vino veritas! In vino veritas! Что-то я сегодня философствую изрядно, пора и честь знать…
Танюша, детка, пойди сюда. Встань ко мне задом на кроватку, а попку подними повыше. Ты, прости меня, дружок, я для начала, не с христианского входа тебя распечатаю, уж больно твоя фигурка к этому располагает…
А дальше все было, как в тумане. Не хочу тебе, Глаша, подробности говорить. Помню все смутно. Больно сильно, совсем не сладко. Помню, что подтолкнул меня к кровати, рука на затылок надавила, брючки шутовские будто сами сползли до колен. Намазал барин меня мазью скользкой и зачал дело свое греховное… Сначала и вовсе у него не получалось. Уперлось и не идет. Я от боли еле терплю, глаза на лоб лезут! А он пихает и все тут – черт настырный! Выгнулась – сил не было терпеть. Барин прикрикнул на меня: мол, стой, не шевелись. Пообещал, что немного осталось. А тут Игнат еще подсобить ввязался. Взял меня за зад и держит крепко, чтобы не шевелилась зря. Так и вогнали шишку мне, да так глубоко! А потом задвигал во мне барин оглоблей, аж мудя пудовые по ногам шлепать стали. Из меня сознание вон и вышло.
Очнулась оттого, что вода по лицу полилась, Игнат холодной окатил. Больно в греховном ходу – сил нет! Гляжу: барин уж спит крепко на той же кровати. А тут у Игната кол между ног встал.
– Танечка, тебе семь бед – один ответ. Потерпи еще немножко сегодня. Услади и моего дружка, – а от самого винным духом сильно несет, – я тебя потихонечку… Да спереди, как бабам положено.
– Обманщик ты, Игнат! Говорил мне: что раз я в мужиковых одеждах спектакль поиграю – не тронет меня барин. А таперича не только барин, но и ты пристраиваешься.
– Танюша, я тебе целковый дам и кулек конфет. Не противься, милая. Видишь, сегодня все бабы больными сказались. А других искать не хотел. Ты ляг на спину, я тебя потихонечку.
Дальше что было? Да сами все знаете. Одно могу сказать, что Игнат чуть ласковей со мной обошелся, чем Владимир Иванович. А все равно больно было, да срамно. После всего он дал мне, как обещал, один целковый и конфет кулечек. И я домой поплелась. Еле дошла. Неделю потом болела.
Глава 15
Жаль, в темноте не видно лица и глаз… А глаза Глафиры от рассказа подруги не только расширились, но и томная нега на ресницы снизошла. Сердце билось у самого горла, меж ног влага обильно заструилась. В конце Татьяниного повествования, Глашина рука, словно проворный таинственный зверек, нырнула в родную, теплую и влажную норку. Мало нырнула, копошиться по-хозяйски начала. Бедра девушки задрожали…
– Таня, скажи, неужто тебе ни разу сладко не было?
– Было потом. Чуть позже, когда ранки от вторжения зажили. Меня ласками сильно не баловали. Так – поигрались немного, и вообще звать в баню перестали. У барина часто прихоти меняются, чаще погоды.
– Ну, ты, хоть раз спустила?
– Спустила несколько раз… с барином. И с Игнатом тоже… Мне к «этому делу» и привыкнуть, как следует, не удалось. Я же говорю: бог красой обделил… Порой, мне кажется: еще благодарить своих насильников должна – кабы не их паскудные спектакли, то и вовсе уд мужской во мне не побывал. Немного-то охотников на мою худобу находилось, – вздохнула Таня. – У меня какой теперь грех… Когда припрет сильно – рукоблудствую, пока похоть не отпустит. А она волнами так и катит, так и катит…
– Ой, Таня, сил моих нет больше! – Глафира не выдержав, легла на спину, сильные, стройные ноги раздвинулись сами собой.
– Я поняла тебя, Глашенька… Сама хотюча стала. Ты мне давно, страсть, как приятна. Только, лишь на грудки твои посмотрю, рука сама тянется. Создал же бог такую красоту! – Татьяна, не говоря лишних слов, повинуясь горячей плотской тяге, откинув одеяло и распахнув ворот тонкой сорочки, припала губами к Глашиной груди. Проворный язык в спешке, словно опасаясь, что отберут изысканное лакомство, стал ласкать тугие, спелые как вишни, соски подруги. – Боже, как ты хороша и вкусно пахнешь! А мягонькая какая!
Глаша, одурманенная желанием, мало давала отчет своим действиям. Благочестивость, нравственность, логика остались далеко позади: всесокрушающий зов молодого тела, веление страсти руководили ею. Даже в голову не пришло, что ласкают ее не мужские руки, а женские. В этот момент сие обстоятельство ничуть не волновало обеих.
– Танюша, дай свою ладошку, потрогай меня там, поласкай, прошу, – задыхаясь, говорила Глаша. Она торопливо, через голову сняла ночную сорочку и откинула ее в сторону. В темноте зыбко обозначились плавные контуры белого тугого тела. Рука, поймав горячую сухую ладошку подруги, настойчиво потянула ее книзу. Бедра двинулись навстречу.
– Какая же ты, вся горячая и мокрая… Сочнее тебя, девок не встречала. Ты лучше всех барчуковых полюбовниц. А тело твое – словно шелк…
Тане не надо было дважды объяснять, что от нее ждут. Проворный язычок и ручки стремились доставить Глаше наслаждение в каждой потаенной ложбинке. Печальный опыт, полученный на барских развратных оргиях, пришелся здесь, как нельзя, кстати. Никто еще так искусно не ласкал Глафиру. Танюша настолько была нацелена на «отдачу» в любовных утехах, что напрочь забывала о своем теле. Сделать барыне приятное – в этом состояло ее главное удовольствие.
Тело Глафиры сотрясали бурные оргазмы, длинные сильные ноги то раздвигались, то вскидывались во всю длину, поверх одеяла. Влажный живот ходил волнами, отзываясь на страстные ласки подруги, чья голова, склоненная у сочной расщелины венериного выпуклого холма, напоминала голову страждущего путника у лесного родника. Танин горячий язык доводил Глашу до полного исступления, ловко и проворно скользя по лабиринтам коралловой сочной плоти. Опытная Танюша нашла применение и своим длинным пальчикам, Глашина вагина судорожно сжималась от их настойчивого и дерзкого проникновения.
Вдруг, будто вспомнив что-то важное, Танюша резко остановила свои ласки, спрыгнула с кровати, послышалось легкое шуршание… Спустя минуту, Глашина рука нащупала странный предмет. Потом, поняла – что это. То был оставшийся зеленый, пупырчатый огурец, девушки не стали его есть, огурец – переросток. О, как теперь он оказался кстати!
– Знаешь ли, душенька, что я окаянная думала накануне, когда огурчики рвала? Я ведь знала, что именно этот так славно в твою норку сладкую войдет.
– Откуда же ты, цветик, знать могла, ежели промеж нас не было ничего? – задыхаясь, спросила Глафира.
– Откуда, откуда… Чувствовала… Видела глаза твои, лучше слов они говорили за тебя – что тело без ласки тоскует. Ну, тогда, когда рассказывала о шалостях барских. Я же прямо там, в лесу, так и хотела нужду твою облегчить, еле терпела, боялась: вдруг, кто увидит нас… Я же знала, что ты поболее других охоча до утех сладких.
– Ох…Вставь же его скорее…Прижми повыше… Ах….
Огурцу, рукам, губам – всему нашлось применение в ту странную ночь. Обе подружки предавались этим играм, вплоть до рассвета. Лишь под утро заснули крепко – дала знать усталость. Можно ли нам, дорогой читатель, осуждать этих девиц за безрассудство? Едва ли… Ведь они находились в тех летах, когда голос плоти звучит много сильнее голоса разума.
Почти в этого же самое время, за несколько верст от имения Махневых, новоиспеченный жених, помещик Звонарев Николай Фомич находился в самом хорошем расположении духа. Он и не ожидал, что на склоне лет его мирная и спокойная жизнь, похожая на подернутое ряской, старое, тухлое болотце, вдруг всколыхнется такой мощной и свежей волной. Брызги этой нежданной волны так приятно взволновали его уставшую и ленивую душу. Судьба на старости лет щедро преподнесла сей счастливый, как ему казалось, дар. Но, то был скорее не подарок судьбы, а лишь ее прощальный мираж…
Как говорилось ранее, помещик Звонарев перед предстоящим сватовством решил хорошенечко помыться. Припоминая с трудом, последнее посещение «храма Гигиеи»[66], жених приказал как можно жарче истопить старую покосившуюся баньку.
Верный слуга Захар с удивлением наблюдал за тем, как его барин с несвойственной ему энергией, браво семенил по направлению к бане, неся под мышкой березовый кудрявый веник. Рядом с ним, волоча длинную негнущуюся ногу, хромой погодкой тащился одноглазый сосед, бывший штабс-капитан Егоров. Худая рука штабс-капитана, свернутая кренделем, деловито держала медный, подернутый зеленью, тазик.
После нескольких заходов в парилку, раскисший и розовый, словно младенец, Николай Фомич сидел, развалившись и чуть дыша, возле прямого и сухопарого Егорова. Серая простынь закрывала рыхлое и дряблое тело старика, березовый лист трогательно приклеился к круглому лбу, обметанному красными от жара, пятнами. Оба товарища напарились сильно, как не парились никогда ранее.
«Поддай жару посильнее, да отходи меня веничком, Тихон Ильич», – только и слышал в тот вечер Егоров от своего, ранее вялого, соседа. – «Ух, как хорошо, а ну, шибче поддай!»
«Вот, дурень, старый…», – думал про себя Егоров. – «И зачем так жариться в его-то лета? Крякнет, еще чего доброго от натуги. Совсем зюзя разум потерял…»
– Ты, уж прости меня, старого вояку, Николай Фомич, голубчик, – прокряхтел штабс-капитан, – а только я тебе так скажу, без обиняков… И правду, в народе говорят: «Седина в голову – бес в ребро».
– Кхе, кхе… Этот ты о чем-с? – еле поднимаясь с лавки, спросил Николай Фомич.
– Ну, как это о чем-с… Ты, пошто так сильно напарился? Думаешь, чище будешь – более невесте по нраву придешься? Так я тебе скажу: глупости это все!
– Ну, помилуй, в чем же глупость моя? Мне ведь свататься скоро ехать надо.
А у меня из-под рубахи уже давно щами кислыми несет! – проговорив это, Николай Фомич утробно рассмеялся. От смеха простынь сползла ниже, оголив круглый живот, покрытый седым пухом. Под арбузным пузцом, в устье худеньких коротких ножек пряталось вялое мужское достоинство, похожее видом на бледную бородку убитого петуха с маленьким красноватым клювиком.
– Эх, вижу я: добро тебя обработала Анна Федоровна. Напрочь мозги последние съела!
– Да ладно, уж, не ворчи! Пойдем лучше к столу. Водочки выпьем. Закусим хорошенько.
Они прошли в небольшую банную горницу. Посередине комнаты горбился округлый обеденный стол, льняная застиранная скатерть покрывала его полностью, свисая кистями почти до пола. Запотевший пузатый лафитник с узким горлом, наполненный до краев ледяной анисовой водкой, манил немилосердно. Несколько хрустящих малосольных огурчиков живописно расположились на старом, треснувшем фарфором блюде, венчики укропа и смородиновый лист обрамляли их с пупырчатых бочков. В ноздри врезался головокружительный и острый запах ветчины, вызывая здоровый аппетит. В распоряжении двух старых друзей еще были граненые рюмки, две вилки и краюха ржаного хлеба с подгоревшим боком. Кусок холодной жирной телятины на деревянной тарелке с отбитым краем завершал сей незатейливый натюрморт.
Выпив пару рюмок и хорошо закусив, друзья повели неторопливую беседу.
– Право, жалко мне тебя, Николай Фомич… Не «по Сеньке шапку» ты выбрал!
– Ну, полно тебе, вояка, жалеть меня. Смотри, еще завидовать будешь!
– Уж, чему тут завидовать? – с горечью в голосе, возразил Егоров. – Опять же, не суди меня строго, а только я правду привык говорить. Без правды жить легче, да помирать тяжко. Я по совести считаю: плохая это затея – женитьба твоя… Что за бред тебе в голову пришел? Да и рассуди здраво: ну, на что она тебе, жена молодая, да к тому же – красавица писанная? Да была бы еще дурища деревенская. А эта-то образованная.
– Вот ты меня, Тихон Ильич, удивляешь… По твоему разумению, я на старой карге должон жениться? – умильно захихикал Николай Фомич.
– Да по моему размышлению, ты вообще не должен уже жениться! Бесы тебя тешут. Года не те – женихаться… Уехала давно твоя карета с бубенцами. И звона не слыхать. Не смеши, ты, народ!
– Да полно тебе, Тихон Ильич, никого я не смешу. Много ли, в свадьбе любой смеху?
– Так свадьба-то разная бывает. Молодые люди должны свадьбы играть. Каждому овощу – свое время! Ну, скажи: приведешь ты ее после свадьбы в дом, а дальше что? Будешь с ней за руку хороводы по саду водить?
– Ну, почему же, хороводы? – выражение восторженной мечтательности появилось на физиономии у Николая Фомича. – Ты, не представляешь даже, как она хороша! Стать, фигура – все при ней! А какие волосики и пальчики – так бы и съел, как конфетки…
– Уууу, слушать-то самому себя не тошно? Совсем сбрендил: как конфетки, говоришь! То-то, что конфетки… А дальше что? Какую любовь ты ей дать сможешь? Не в твоих силах уже сладость телесную молодой бабе обеспечить. Ей же детей надобно рожать. А ты-то, чай, уже и не способен на подвиги лихие… – штабс-капитан в смущении отвел глаза.
– А вот, мы выпьем еще с тобой моей Доппель – кюммели[67] и гляди: я, когда взбодрюсь – на многое еще сгодиться смогу, – Звонарев, хитро подмигнув соседу, погрозился крючковатым пальцем.
– Туман мозги застилает, вот и льстишь себе от сумасбродства…
– Эх, и какая красавица! Как вспомню – мурашки по телу бегут. Никто мне так не был люб, как она… Знаешь, она же и воспитана, по-французски говорить умеет. На фортепьянах играть… У меня же в зале, почитай уж, тридцать лет, фортепьяно стоит и пылится без дела. Вот на нем она мне менуэты играть будет, а я слушать.
– Только что: менуэты и мазурки и осталось тебе играть.
– Ну почему же… Она и книжки мне вслух читать будет. А я смотреть, да любоваться на нее стану.
– Как же, ты, не поймешь, сбежит она от книжек твоих и фортепьян пыльных. Не этого молодой женщине надо!
– Но-но! Сбежит! Пущай, только попробует! Пелагеюшка быстро ее за косу приведет. А в случае чего – я ведь и выпороть могу! – потом, чуть смягчившись, он добавил, – да нет, не верю: она хорошая больно… У нее из глазок ангельских доброта так и струится. Такая жена как Глашенька, мне на старости лет – честью и отрадой будет!
– Не велика честь, если все тебя рогоносцем звать-величать начнут?! – ехидно и въедливо прошептал Егоров, дыша в лицо соседа водочным перегаром, смешанным с запахом ветчины, сдобренной кайеном.[68]
– Знаешь, Тихон Ильич, – побагровев лицом и выкатив глаза, запальчиво отвечал Звонарев, – вот, ты, меня уж, и злить начинаешь! Полно, тебе ерунду городить! Врать, тебе не устать, а было бы кому враки слушать! – острый сухой кулак ткнулся в грудь. – Неужто, не заслужил я в жизни счастия?! – красные глаза увлажнились. Послышалось сопение, старик завозился, пытаясь справиться с внезапно набежавшими слезами. Но выпитая водка сослужила недобрую службу, обнажив старческую неуклюжую сентиментальность. Седая голова склонилась к столу, круглые плечи затряслись от глухих рыданий.
Штабс-капитан Егоров, верный и старый товарищ растерялся от такого поворота.
– Да, ладно тебе, Николенька, голубчик. Бог с тобой! Ты, право, как ребенок! Вот втемяшили-то думку нелегкую… Это все Анна Федоровна виновата!
Совсем тебя покоя ироды Махневские лишили! Ну, успокойся! Фомич, братец, не горюй! Хочешь – так женись…
Егоров неловко обнял друга. Вскоре лафитник наполнился новой порцией холодной анисовой из бутыли, что хранилась в погребе. Одноглазый штабс-капитан еще налил по рюмке себе и Звонареву.
– Давай-ка, лучше выпьем! А там уж – как бог решит… Пусть, так все и будет.
Было далеко за полночь, когда оба товарища подались домой, еле волоча пьяные ноги. Выйдя на свежий воздух, они чуть протрезвели. Влажная предосенняя ночь окутала землю мглистым холодным туманом, сырость пробирала до глубины стариковских косточек. Каждый поплелся к себе, думая о недавнем разговоре.
«Вот ведь незадача… Никак не возьму в толк: зачем это Анна Федоровна глупость такую придумала – женить Николая Фомича на своей молодой племяннице?» – рассуждал про себя штабс-капитан Егоров. – «Ладно бы, хоть богат он был, так нет… И не молод к тому же. И что за блажь в ее голову пришла? Я понимаю – она своенравна и капризна. Привычна к потаканию несуразных прихотей. Но не до такой, же степени блажить ей допущено, чтоб сие жестокосердие к родной племяннице проявлять. Креста на ней, что ли нет? А впрочем, когда Махневский род порядочностию и честью-то был славен? Норовом и спесью только и славились. А еще блудом богомерзким, да пакощью», – он смачно плюнул себе под ноги: «Ууу, слуги Приаповы!»
Николай Фомич, разомлев от бани и выпитой крепкой анисовки, споткнулся на пороге своего дома, с глухим грохотом покатилось из сеней ведро и ударилось о стоящее в углу, коромысло.
– Захар! Ты, что спишь, каналья? Не слышишь: барин домой воротился.
Сымай с меня сапоги и постель готовь. Жаль, Пелагеюшка в отъезде – совсем страх потеряли! Дрыхнут день-деньской!
Захар, спросонья, испугавшись шума, зевая и почесываясь, вывалился из людской к барину.
«Э, как барин-то набрался, так винищем и разит… И чего было, так напиваться? А еще в женихи метит… Жаль, нет дома Пелагеи Фоминичны – она бы быстро все в порядок привела. Не дала бы Егорову так барина напоить», – обеспокоился Захар.
– Николай Фомич, вы пошто так себя не жалеете? – с горечью в голосе спросил слуга, – почитай, без малого пять часов в бане парились. Вона, гляжу и на грудь приняли. У вас же сердце больное… Давно ли к дохтору посылали за каплями?
– Но-но-но, молчать мне! Кто слово тебе, холоп давал? Распустились все! Вот, возьмусь я за вас, как женюся, – выражение напускной суровости на лице вдруг сменилось сладкой мечтательностью, – послушай, Захарушка, ты видел же мою невесту Глашеньку?
– Это ту барышню, что к вам давеча от Махневых приезжала?
– Ну, ее, конечно… Ее, мою голубку…
– Ну, видал, и что с того?
– Правда, она хороша? Я влюблен в нее, как юнец безусый. А Егоров все заладил ерунду: не надобно жениться и все тут. А мне кажется – завидует он! – проговорив это, барин смачно икнул.
– Не холопское это дело – о делах барских рассуждать. Может, и прав ваш сосед. Вы бы, Николай Фомич, о здравии побеспокоились. Вона – лицо как жаром обметало… Да и Пелагея Фоминична не очень-то, кажись, рады будут сватовству-то вашему-с.
– Ой, я дурень старый: нашел, с кем о делах сердечных говорить! С холопом! Готовь мне постель и пшел вон! Спать хочу…
Как только седая голова коснулась холодной подушки, сон как рукой сняло. Его немного лихорадило при мыслях об предстоящих жизненных переменах. Не то, чтобы чувствовалось телесное и душевное томление, свойственное молодым людям, предвкушающим скорое вступление в брак. То было томление скорее другого порядка: не на шутку разыгрались нервы, больное сердце наполнила внезапная тревога. Острая игла мертвящего холода стала проникать в спину, занемела левая рука, кто-то невидимый во мраке ночи навязчиво пытался положить что-то тяжелое на грудь. Все сильнее кутаясь в стеганое одеяло, старик старался гнать подальше дурные мысли. Вот он представлял образ Глашеньки, ее походку, руки, милую улыбку, трогательный завиток у виска. Он не понимал: сон это или явь… Вот, Глаша повернулась к нему, головка откинулась назад, смех обнажил ровную полоску жемчужных зубов. Черты лица вздрогнули, взметнулись тонкие пальцы, ладони прикрыли лицо. Он настойчиво пытался убрать руки от ее лица, наконец, она сдалась: стан выпрямился, на него взглянули совсем другие глаза – не Глашины… Николай Фомич попытался припомнить… И, о боже! Пред ним стояла его покойная жена, Акулина Михайловна.
Молоденькая и хорошенькая, семнадцатилетняя красавица, голубое в цветочек платье нежно овевало ее милую, родную невысокую фигурку. Такой он помнил ее, когда сватался к ней. Один бог знает, как давно это было…
– Николенька, голубчик, пойдем со мной. Устал ты давно, измучился… Тебе отдохнуть пора. Пойдем, хороший, мой…
И она, взяв его крепко за руку, повела в Неведанное.
Время близилось к полудню, а барин все не вставал. Захар, боясь потревожить сон хозяина, старался ходить на цыпочках возле его комнаты. К счастью, в это утро из города вернулась сестра Николая Фомича – Пелагея. Она переоделась с дороги, строгий взгляд прошелся по усадьбе. Дав необходимые распоряжения, села пить чай с маковыми кренделями.
– Захар, а ты чего это Николая Фомича к столу-с не зовешь?
– Так они это… Того-с – еще почивают-с.
– А ну, буди его сейчас же! Хватит ему лежебочничать!
– Добудишься его… Как же… Почитай, полночи не спал, – ворчал Захар.
– Коленькааа, голууубчик, вставааай! Я из городууу вернулааась! – громко и нараспев прокричала она.
Пелагея заглянула в комнату к брату. Тот лежал, укрывшись с головой.
– Ну, ты право, как младенец. В комнате натоплено. На улице солнце вовсю жарит. Вставай, же!
Она подошла к окну, рука дернула длинный шнур, парчовые шторы распахнулись, сноп солнечного света ворвался в душный сумрак комнаты.
– Ты, посмотри, какая у тебя тут духотища и запах спертый. Ну, вставай же! – рука сдернула одеяло.
Крик ужаса наполнил старый дом помещиков Звонаревых.
На Пелагею смотрели мертвые стеклянные глаза, застывшая рука с грохотом ударилась о деревянный пол.
Глава 16
Время идет быстро, дни торопятся, обгоняя друг дружку, словно легкие облака в ветреную погоду. Прошли разудалые, полные песен и плясок воспожинки[69]. Незаметно наступила осень. А с нею дожди, слякоть, да хмурые долгие вечера. Живая палитра разноцветной летней сутолоки, пестронарядье садов, парков, аллей и цветочных клумб, словно по мановению кисти старого и злого художника, подернулись усталым, серокоричневым налетом. Уже отлетела золотая листва, откружили вихри листопадов. Стоял конец октября. Осенние вечера в поместье Махневых накрывали его обитателей беспросветной тоской и печалью. Даже бледные огни свечей не могли размыть эту серую, густую хмарь.
Глафире Сергеевне было неуютно и одиноко в такие вечера. Не помогали книжки – они казались наивными и неинтересными. Бесплодные мечтания, ранее уводившие в зеленые кущи и средневековые замки, обрывались и меняли свой обычный сценарий на самом интересном месте: белый конь с шелковой гривой, несший на себе некогда прекрасного рыцаря в блистающих на солнце доспехах, спотыкался о дорожный валун. Рыцарь грузно падал, скрежетало железо, забрало обнажало неприветливое, поросшее щетиной, лицо. Черные глаза с наглым вызовом таращились на Глафиру, злая усмешка кривила рот. А дальше было еще хуже: вместо алой розы в латных перчатках у рыцаря оказывалась кожаная плетка, свистящие удары разрубали тугой воздух. Казалось: еще минута, и удары градом посыпятся на ее голые плечи, руки и грудь. Рыцарь подходил ближе – Глаша с удивлением обнаруживала новую странность: блестящие латы во многих местах изъела рыжая ржавчина, нагрудник почернел и покрылся сеткой паутины, наплечники сбиты, рваные концы кольчуги торчат, как грязная исподняя рубаха. Еще шаг – и вдруг – нижняя часть доспехов начинала разваливаться: на землю с металлическим стуком падали поножи, налядвенники, наколенники и еще несколько погнутых пластин латного железа. Это обстоятельство почему-то ничуть не конфузило странного рыцаря. Самоуверенный взгляд, кивок головы – рыцарь глазами показывал то, на что Глафира должна обратить пристальное внимание. Она послушно следовала его настырному намеку, опускала глаза ниже. И…, о ужас! Между коротких волосатых ног рыцаря, обутого не в латные башмаки, а в деревенские онучи и лыковые лапти, раскачивался огромный фаллос, отягощенный, мохнатыми, пудовыми тестикулами. Он был настолько большим, что походил скорее на дубину. И эта самая дубина начинала расти прямо на глазах, минута – и тугая, красная, похожая на спелый персик, головка тяжело ударялась о землю, производя звук, падающего с высоты бревна. Бабах!.. Глаша встряхивала головой, прогоняя глупые мысли. Становилось жарко, стыдно и смешно от картинки, которую нарисовала ее богатая фантазия. Потом она опять грезила – бог, знает о чем. Но все грезы рано или поздно заканчивались ощущением похотливого дыхания возле ушей, перед глазами опять мельтешили вездесущие фаллосы.
Приаповы собратья теперь и снились ей, чуть ли не каждую ночь… Кожистые твердые стволы самых разных цветов и оттенков, размеров и форм без самих владельцев прыгали и бегали за Глашей. Иные собирались в хороводы, кружились и пели песни, раскрывая маленькие розовые ротики, посылали воздушные поцелуи, плевались молочным семенем, стараясь залить Глашины руки и ноги. Пальцы чувствовали теплую густоту сливок, изрыгаемых из хищно-округлых, раздутых отверстий. Во сне она искала полотенце, чтобы вытереть мокрые, скользкие руки.
Иногда ротики превращались в хитрые кротовые глазки: они вечно следили за Глашей и недвусмысленно подмигивали, предлагая заняться с ней любовью. Иные, крупные образцы вели себя и вовсе бесцеремонно. Они подлетали, громко жужжа, словно на крыльях, их мясистые тупые морды задирали подол платья, вгрызаясь в кружево нижнего белья. Мгновение – и они оказывались у цели, плотно ввинчиваясь тугими головами в неподготовленное Глашино нутро. Она возмущалась, стараясь отогнать одного из непрошенных гостей, но зуд, производимый дерзкими маленьким вторженцем, сводил тело приятной истомой. Бедра начинали поступательно двигаться, руки прижимали гладкий широкий ствол, заставляя входить все глубже и глубже. Спустя короткое время, ее накрывала волна сильнейшего оргазма. Непрошеный гость с важным видом выползал из развороченного нутра, и с чувством исполненного долга, крякая и делая «под козырек», удалялся, словно заезжий гусар.
Она просыпалась в холодном поту, руки сжимали голову, становилось стыдно от этих странных и греховных сновидений. «Наверное, я одержима…», – с тоской думала она. Женская неудовлетворенность, желание ощутить в себе долгожданный крепкий фаллос своего любовника вызывали появление во сне такого количества безумствующих фантомов. Владимир Иванович длительное время не приходил к ней в комнату и не приглашал к себе в баню. Мысли о том, кому теперь принадлежит изменчивое сердце и прихотливая и капризная плоть кузена, не давали ей покоя. Она старалась гнать от себя все воспоминания о его ласках и словах, но это плохо получалось. Если бы не крепкая, ставшая по странному стечению обстоятельств греховной, дружба с Татьяной, Глаше было бы совсем невыносимо пребывание в поместье своих дальних родственников.
Нельзя сказать, что эти отношения с подругой сделали ее сторонницей лесбийской любви. Слава древнегреческих трибад[70] Сапфо[71] и Мегиллы[72] не привлекала утонченную Глафиру Сергеевну. Она скорее уступала решительному натиску Татьяны, нежели сама инициировала эти тайные интимные встречи. Бурный темперамент и желания искушенной плоти требовали какого-то выхода. Этот выход находила Татьяна – она заласкивала подругу до полуобморочного состояния. Глаша в душе понимала, что эти отношения неправильны, противны природе, и что ей должно стать женой и спать с любимым мужчиной, родить от него детей. Понимала…, но с ленивым благодушием отдавалась в ласковые женские объятия. Татьяна же, наоборот, испытывала ни с чем несравнимое счастье и прилив душевных и физических сил оттого, что обладает такой красавицей, имеет возможность прикасаться к спелой и прекрасной плоти. Она забыла, как когда-то горячо осуждала однополую любовь. Доводы разума, совести, веры – все меркло перед жесточайшей тягой, перед сильным чувством к этой милой, нежной, чувственной и такой одинокой молодой женщине. Ей казалось, она поняла свое истинное предназначение. Хотелось стать своеобразным мужем для молодой барыни: в их интимных играх она играла ведущую, мужскую роль.
Осенними вечерами, ближе к ночи рыжеволосая, худая бестия тихонько открывала дверь комнаты Глафиры. Тонкие длинные ноги, ступая по-кошачьи, приводили к вожделенному предмету обожания. Извиваясь змеей, она обнимала, стоящую спиной Глафиру, сухие проворные ручки тискали большую грудь, теребили упругие соски, скользили по талии, дерзко, по-мужски задирали юбку, пальцы проникали во влажную расщелину пухлого лобка.
– Ты, еще не разделась, моя прекрасная, госпожа? – влажный шепот обволакивал голову. В эти минуты некрасивые черты лица приобретали какую-то одержимость: зеленые глаза темнели, в них появлялся языческий блеск; некогда бледные губы становились влажными и полуоткрытыми; рыжие волосы, выпущенные на волю из толстой косы, огненными локонами обрамляли узкое лицо. С Татьяной происходили сказочные метаморфозы. Она слишком часто ходила в баню, мылась пенным щелоком, натиралась душистыми травами. Худая и невзрачная дурнушка, вечно лузгающая семечки, словно по мановению волшебной палочки, превращалась в изощренную и дерзкую жрицу любви. Казалось, сама Мегилла, прорвавшаяся через кордоны веков и тысячелетий воплотилась в душе этой бедной крепостной девушки. Менялась Татьяна и внутренне: она все реже набожно молилась, не ходила и на исповедь.
– Таня, ну, не надо сегодня… – капризно отвечала Глаша, – мне не хочется… Я грущу…
– Глашенька, радость моя, отчего тебе грустить? Не вижу повода. Тетка отвязалась: пока не понукает со своим сватовством. Горе-жених, царство ему небесное, преставился. Уж и Сороковины давно минули. Отчего тебе грустить? По барину ты, скучаешь… Только это – пустое занятие. Я тебя и раньше упреждала, что непостоянен он, как ветер в поле – то прямо подует, то в сторону вильнет. Чего, о нем жалеть? Помяни, мое слово: не долго, ему изгаляться, и на него конец скорый придет. Душа его окаянная к бесам в котел упадет.
– Таня, ну, зачем ты, так говоришь? – испуганно возражала Глаша.
– А затем, что Ирод он анафемский, и нет ему прощения.
– Таня, ну кто без греха?
– Почему, ты, его оправдываешь? – голос Татьяны дрожал от негодования, – ты, любишь его до сих пор, а ему наплевать на тебя с высокой колокольни! Слышала, что бАлуется он теперь с новой полюбовницей. Из города ее притащил. Беленькая вся, и в кудряшках, как овца, француженка… Надолго ли, его любовь к этой «поганке» продлится?
– Это правда?! – глаза Глафиры почернели, навернулись, крупные, как дождевые капли, слезы.
– Правдивей не бывает.
– Таня, ты меня обманываешь. Этого не может быть!
– А разве я тебя хоть раз обманула?! Разве я обидела тебя хоть раз? Я жизнь свою за тебя отдам без остатка. Прикажешь умереть – и я умру!
– Ну, не надо, Танечка, не сердись и не кричи громко – услышат. Нет у меня души роднее твоей, и не будет.
И они принимались утешать друг друга, вытирать горячие слезы. Глаша, словно котенок, прижималась к теплому телу подруги, худенькие, но сильные руки сжимали ее крепкими объятиями. Глаша долго безутешно всхлипывала, вздрагивая круглым белым плечом. Они засыпали, уткнувшись мокрыми от слез, носами. Поспав так час, другой, она просыпалась, ощутив на себе ласковые руки подруги. Татьянино горячее дыхание и сильный язык заставляли трепетать скользкое, распухшее от дерзких проникновений, лоно. Ноги раздвигались все шире, повинуясь сильному желанию: рыжая бестия умела ласкать лучше любого мужчины.
Никто не догадывался о тайной связи двух подруг, никому и в голову не приходило, что дружба молодой барыни с крестьянкой может быть не просто дружбой.
Урожай в поместье, в основном, был собран, кладовые и амбары ломились от припасов. Глаша, как и прежде, была занята по хозяйству. Петровна старалась нагрузить ее работой: чтобы у девушки не было лишней минуты. С некоторых пор зловредная баба стала остерегаться племянницы Анны Федоровны. Случилось это после того, как дотоле тихая и безобидная барынька решила показать свой крутой нрав и дала отпор старой интриганке. Вспоминая этот случай, Глафира долгое время испытывала душевные переживания оттого, как могла в ней проявиться подобная решительность и дерзость. Она устала ощущать себя вечнообязанной своим покровителям, устала сносить хамские, беспардонные выходки главной тетушкиной распорядительницы. Порой, казалось: гори все синим огнем. «Откажут от дома – уйду, куда глаза глядят! Убегу вместе с Татьяной. Но, оскорблять себя и тем паче бить – я не позволю. И Таня за меня глаза любому выцарапает», – рассуждала Глаша.
В одно хмурое, дождливое утро Петровна, как всегда, вломилась в комнату Глафиры. Татьяна, ночевавшая с ней, ушла на заре. Перед самым рассветом она тихонько выскользнула из теплой постели и поцеловала подругу. Глаше было лень подниматься и закрывать комнату на щеколду. Она не была уже настолько беспечна, как раньше и старалась держать дверь на замке в любое время суток, но только не в это утро. Петровна толкнула наугад тяжелую дверь, и та с легкостью распахнулась. Решительными шагами она подошла к спящей молодой барыньке и бесцеремонно потянула одеяло. Оно соскользнуло, словно легкий шелк, и глазам Петровны предстало полностью обнаженное тело. «Отчего эта распутница спит без рубашки?» – промелькнуло в голове у горничной.
– Ах, срамница, ты, чего это разделась донага?! – маленькие глазки с любопытством и возмущением пялились на голые груди и живот. – Денег ни гроша, зато слава хороша!
Через секунду случилось то, чего она никак не ожидала… Глафира, словно тигрица ощерила зубы в ненавистной усмешке, захохотала громко и с вызовом. Вместо смущения и желания прикрыть наготу, она приняла такую фривольную позу, выставив напоказ грудь и выгнув крутое бедро, что Петровна невольно покраснела и попятилась.
– Ну, что старая кикимора, ты еще недостаточно налюбовалась моей красотой?! Смотри, ежели, тебе охота! – прокричала возмущенная Глафира.
– Ты, это чего? Чего? Прикройся, бесстыдница.
– Ах, это я бесстыдница?! Мадам, я нахожусь в своей комнате и в своей постели. А что вы, здесь делаете, потрудитесь объясниться. Молчите?!
Петровна пятилась к выходу, переступая короткими толстыми ногами, круглое лицо покрылось красными пятнами. И тут Глаша, словно вихрь, потемнев от злости глазами, проворно вскочила на ноги, схватила лежащее рядом полотенце, и со всего маху огрела любопытную тетку. Удар пришелся по щекастому лицу и пудовым отвислым грудям. Раздался оглушительный визг горничной, но несколько хлестких щелчков припечатались вдогонку первому.
– Будешь знать, старая карга, как вламываться ко мне без стука! – злобно прошептала она рядом с изумленной физиономией Петровны. Глаша выглядела со стороны, словно ведьма: распущенные, длинные волосы стояли дыбом, глаза метали молнии, голые груди дрожали от резких движений, сжатые кулачки сотрясали раскаленный воздух. – И еще: побежишь жаловаться барыне, я все расскажу Владимиру Ивановичу. Ты же знаешь, ха-ха, что он – мой любовник! Попрошу – и он прогонит тебя с глаз долой. Пойдешь в холод по домам побираться! Ты, поняла меня?!
– Поняла… – испуганно прошептала Петровна.
– То-то, же! Пшла, вон отсюда!
Через мгновение Петровна исчезла за тяжелой дверью, словно растаяла в воздухе. Чувствительной Глафире Сергеевне были несвойственны такие проявления гнева, она какое-то время лежала в постели, тяжело дыша, приходила потихоньку в себя. Но с тех пор, Петровна стала сильно опасаться бешеной родственницы хозяев, она зауважала некогда кроткую и затурканную Глашу.
– Представляешь, Таня, я сама от себя не ожидала, – рассказывала она позднее своей наперснице, – и что на меня нашло, зачем я полотенцем-то ее отхлестала?
– Всему своя мера, Глашенька, бывает. Видать, чаша терпения переполнилась на тот момент, раз твоя ручка барская отходила эту жабу по морде ее наглой, – отвечала ей Татьяна. – Да ведь и кровь в тебе дворянская взыграла. Где это видано, чтобы мерзкая холопка лезла без стука к госпоже? Пущай, свое место знает. Нашлась барская барыня![73] Ты хоть и бесприданница для них, и сирота бедная, а все же – далеко не им чета… Петровна ручку твою целовать должна, да в ножки кланяться, а она глумилась над тобой. Вина всему бесчинству – Анна Федоровна. Это она натравила на тебя, голубушку, эту мерзкую бабу. Жаль, меня там не было, я бы еще добавила.
– Ну, в этом-то я не сомневаюсь, – Глаша задорно рассмеялась, в глазах заплясали чертики, – уж, ты бы отвела душу, в ход не только бы полотенце пошло, что-нибудь потяжелее бы под руку подвернулось. Да, слава Богу, Таня, что тебя там не было. Наломали бы дров, ежели вдвоем на нее напали.
В поместье все шло своим чередом. Владимир с приказчиком частенько уезжали по делам. Анна Федоровна пребывала в меланхолии. Ее ненависть к Глафире усилилась с тех пор, как умер несостоявшийся жених – престарелый Николай Фомич. Барыня была на скромных похоронах и даже всплакнула для вида, в душе сокрушаясь о том, что не смогла испортить жизнь ненавистной племяннице. Племянницу словно хранил сам Господь, уводя от беды. Анна Федоровна не оставила своего замысла, сыскать ей жениха похуже, но пока не выдавался удобный для этого случай.
Выдать замуж такую красавицу, как Глаша было вовсе не сложно, несмотря на то, что она была без приданного. Анна Федоровна знала, что если племянницу одеть в красивое платье и отвезти на званый ужин или уездный бал – женихам не было бы отбоя. Но делать этого, ой как не хотелось… Она медлила в нерешительности, вынашивая в голове хитроумные и коварные планы. Говорят, что «под лежачий камень вода не течет». Но в отношении Глаши, эта вода однажды преодолела тяжесть неподвижного камня. К ней посватался мужчина, весьма приятной наружности, молодой и при деньгах.
Как-то раз, после завтрака лакей доложил Анне Федоровне о приходе двух господ.
– Ваш сосед штабс-капитан Егоров Тихон Ильич и с ним молодой человек незнакомый пожаловали-с. Велите пригласить?
В голове барыни промелькнула мысль: «И чего этому старому одноглазому вояке от меня надобно? Кажись, и на похоронах Звонарева он со злобой на меня поглядывал. Притащил еще кого-то…»
– Проси!
В комнату, прихрамывая, зашел Егоров, с ним рядом вышагивал симпатичный молодой мужчина. Серо-зеленый, сшитый по-военному сюртук, ладно сидел на его стройной широкоплечей фигуре. Роста он был среднего; аккуратно подстриженные, короткие светло-русые волосы были зачесаны на пробор; тонкий прямой нос скорее украшала, а не портила небольшая горбинка; из-под темных бровей и ресниц глядели светлые, почти голубые глаза. Во всем облике этого господина чувствовалась военная выправка, взгляд казался смелым и решительным.
– Доброе утро Анна Федоровна. Как ваше драгоценное здоровье?
– Спасибо, Тихон Ильич, я здорова, – она встала из кресла навстречу незваным гостям, – Григорий, вели подать чаю, – крикнула лакею.
Через пять минут стол был накрыт: янтарным светом отливала вазочка с яблочным вареньем; сдобные рогалики, обсыпанные сахаром, лежали на фарфоровом блюде, словно огромные заснувшие улитки; легкие струйки душистого пара поднимались от цветастых чашек, наполненных темно-коричневым китайским чаем.
– Что же вы, матушка, не были на Сороковинах у Звонаревых? Не смогли-с?
– Да, Тихон Ильич, я захворала тут немного. Не смогла прийти… Царствие ему небесное, нашему дорогому Николаю Фомичу… Так уж меня его смерть расстроила, и передать не могу-с, – в этом месте Анна Федоровна театрально всхлипнула, худая рука поднесла кружевной платочек к сухим глазам.
– Да уж… Мне-то он другом был еще со времен юности. И Пелагея, сестра его, до сих пор безутешна: одна ведь осталась, горемычная, – слеза набежала на одинокий глаз штабс-капитана. Он посидел в задумчивости пару минут, потом чуть приосанился, черты лица стали строже и определенней. – Ладно, чего уж там… Все там скоро будем. Царствие ему небесное, Николаю, другу моему, пусть спит спокойно. Я же к вам вот по какому делу приехал. Желаю представить вам сына моего полкового товарища. От всей души хочу рекомендовать: отставной майор, Мельников Сергей Юрьевич.
При этих словах молодой мужчина встал и с военной выправкой, щелкнув каблуком хромовых сапог, кивнул головой.
– Очень приятно! Какой, славный молодой человек. Сразу видать военную выправку.
– Он сударыня у нас настоящий герой. Воевал на Кавказе, в Крыму, командовал пехотным отрядом, имеет награды, после ранения вышел в отставку. Сейчас намерен жениться. – проговорил Егоров, с гордостью поглядывая на молодого майора.
– Да полно вам, Тихон Ильич, меня нахваливать, – ответил майор приятным голосом, губы растянулись в приветливой, чуть смущенной улыбке.
– Ну-с, жениться, намерен – это хорошо. Такому молодцу нужна и невеста хорошая, – проговорила барыня, догадываясь о причине визита этих господ. Выражение ее лица из приторно-благодушного перешло в задумчивое: словно неведомая тень легла на тонкие черты.
– А вот, мы за этим к вам и пожаловали-с. Ваш, так сказать, товар – наш купец, – Егоров разволновался, узкое лицо покраснело. – Эх, какой из меня сват! Давайте, без обиняков, Анна Федоровна. Я своего протеже к вам привез для знакомства с Глафирой Сергеевной. Не изволите ее позвать-с?
Анна Федоровна стояла в нерешительности, нервно поводя плечами. В голову назойливо, словно мухи, лезли мысли: «Этой бесстыжей Глашке, да такого жениха? Он хорош собою, да видимо, с состоянием приличным. Даже ко мне после смерти мужа такие красавцы не сватались, а я ведь не хуже была… Неужто, ей так повезло? Не бывать этому… Не могу я позволить!» Она вдруг деланно рассмеялась.
– Очень жаль, господа, я вынуждена огорчить вас. Племянницу мою Глафиру позвать я не могу-с, сие – невозможно.
– То есть, как невозможно? – брови штабс-капитана полезли от удивления на лоб.
– Именно так-с, что невозможно. Не хотела вам говорить, но видать придется, раз такая оказия случилась. Глафира Сергеевна, к несчастью, больны-с…
– Как больны? Я же видел ее пару месяцев назад, всю цветущую и в добром здравии, – пробормотал ошарашенный Тихон Ильич.
– А вот, так-с… Что сделать? Горькая судьба. У нашей красавицы чахотка вдруг открылась. Кровохарканье началось. Никто не ведал, не гадал, что такая страшная болезнь внутри ее давно поселилась.
– Так верно ее лечить надобно, – расстроено промолвил Сергей Юрьевич. – Позвольте мне увидеть ее, поговорить. Я хочу помощь свою предложить.
– Спасибо вам, огромное, господин Мельников. Это благородно с вашей стороны. Только не надобно. Мы сами при средствах. Мой сын Вольдемар никаких денег не пожалеет для излечения своей кузины. На днях на воды ее везем, лучших врачей приставим. Одно боюсь: как бы поздно не было… На все воля божья… А только принять вас Глафира Сергеевна не сможет. Она просила никого к себе в комнату не пускать, пока больна. А вам, молодой человек, ненадобно питать надежд на ее выздоровление. Вы хороши собой, и быстро свое счастье обретете. Простите господа, у меня от расстройства что-то голова разболелась, позвольте я покину вас?
– Да-да, – рассеянно бормотал Егоров, пятясь к выходу. Лицо выражало крайнюю степень досады, он будто не верил словам Анны Федоровны, – разрешите откланяться?
– Не смею вас задерживать, господа. – с достоинством проговорила Анна Федоровна.
Как только за ними закрылась дверь, барыня позвала к себе верную Петровну.
– Слышала?
– Да, матушка, слыхала.
– Быстро иди в комнату к Глашке, отвлеки ее чем-нибудь. Не дай бог, она гулять пойдет. Присмотри за ней, как следует.
– Бегу, бегу, матушка. Не беспокойтесь, все сделаю в лучшем виде.
Егоров с молодым майором шли по дорожке из усадьбы Махневых. Оба были сильно расстроены.
– И все же, что-то тут не так, – бормотал Егоров, сильнее прихрамывая на одну ногу.
Отставной майор Мельников и вовсе обескуражено молчал.
– Что-то не так. Ну, не верю, что Глаша так больна. Здорова она больно была, румянец во все щеки. Чахоточные так не выглядят, – рассуждал бывший штабс-капитан.
– Тетка сказала, что внезапно болезнь обнаружилась.
– Э, брат, эта тетка – сама себе на уме. Ей верить нельзя.
– Тихон Ильич, неужели она наговаривает на несчастную сироту? Это же грех, какой…
– Эти люди отродясь божьего гнева не боятся. Не смотри, что важные такие. Вся их важность гроша ломанного не стоит. Барыня отчасти виновата и в смерти Николая Фомича… Жил старик себе спокойно – век свой доживал. Так ведь, нет! Она ему мозги напрочь задурманила на старости лет, и в могилу тревогой этой свела. Кабы не ее интриги – пожил бы еще дружок мой, закадычный. И сынок у нее нелюдь. Пакостник и прелюбодей известный. Не удивлюсь, ежели он глаз свой блядский на кузину давно положил.
– Как так? Неужто, такое может быть? Может, мне встретиться с ним и поговорить начистоту?
– Не надо, Сережа, с ним разговаривать. Он хитрый, словно змей. Ласковыми речами тебя обовьет, ты правды никогда от него не дознаешься. Я ведь почему, Глафиру Сергеевну хотел тебе сосватать? Она не их, не Махневской породы. Не лжива и добропорядочна. Вы с ней хорошей бы парой были. Да видно: не судьба. Хотя, погоди, я попробую потом у слуг правду разузнать. Может, подкуплю кого. Не печалься раньше времени, дай срок, и все объяснится.
Глава 17
– Mademoiselle, постойте, куда же вы, Глафира Сергеевна, – он схватил ее за руку в узком коридоре, когда поблизости не было ни души. – Право, я соскучился давно, а вы меня избегаете. Вам не мила моя компания? Вы, верно, меня разлюбили?
– Перестаньте, Вольдемар, фиглярство вам не к лицу. К чему разыгрывать весь этот фарс? – ответила Глаша. Но сердце предательски забилось от прикосновения его руки: словно тысячи тончайших сладких нитей вошли в тело. Стоило ему натянуть эти невидимые глазу нити, и она тут же, словно тряпичная фантош[74], поплелась бы за ним в любое место, в любой уголок земли.
– Ну, не капризничай, иди ко мне, цветочек мой. Ты знаешь, как я тебя люблю.
– Так любите, что и не замечаете неделями?
– Есть за мной такой грех… Видишь ли, я человек деловой. Хлопот по хозяйству было много. Сбор урожая и прочие дела. Но, помню я о тебе все время. Бывало, усну, где придется, а перед сном одни мысли в голове: «Как же там спит, птичка моя, желанная? Как, Глашенька? Не скучает по мне? А Глашенька и думать обо мне забыла».
– Не кощунствуйте, Вольдемар, не говорите, что я забыла. Вам известна ваша власть надо мною.
– Ну, так иди, я тебя поцелую, прижму к себе, – сильные руки стиснули талию, долгий страстный поцелуй заставил задохнуться от нахлынувшего желания.
– А, как жеее, каак?
– Ну, что опять тебя тревожит? – спросил он, чуть отстранившись от раскрытых губ.
– Как француженка кудрявая? – с обидой в голосе проговорила Глаша.
– О, эти дворовые сплетники! Все же мало я их наказываю… Их сечь надобно, как Сидоровых коз! Распустили языки. Ты, кому веришь больше, мне – своему кузену или говорунам языкатым?
– Хотелось бы вам верить.
– Так в чем же дело? Я всегда был высокого мнения о твоих умственных способностях. Происхождение обязывает быть благоразумнее и не верить всяким нелепицам, которые распускают глупые холопы. А если бы они тебе сказали, что я сожительствую с Петровной или Маланьей, например? Ты бы, тоже поверила?
– Нет, не поверила.
– И правильно бы поступила. Не верь никому, если любишь меня. Как, я хочу обнять тебя голенькую… Мой конь так, и рвется в бой. Потрогай, его нежной ручкой.
– Ты, придешь, сегодня ко мне? – задыхаясь, спросила Глаша.
– Радость моя, Cherie, приходи лучше ты, к семи часам, к бане.
– Володя, я не хочу к бане. Там опять Игнат с тобой будет. Не заставляй меня делить и с ним ложе. Я много думала об этом. Это неправильно, не верно. Не по-христиански… Мы же не варвары – свальным грехом заниматься. Оргии языческие противны моей душе. Я хочу тебя одного любить.
– У меня на сей счет иные представления. И тебе о них известно. Но, желание дамы для меня – закон. Не хочешь разнообразия в любовных утехах – не надо. Мы будем там одни, Mon cher.
Как радовалась, ослепленная любовью Глаша. Она считала минуты до предстоящей встречи, подбирала наряд, перевивала русые волосы атласной лентой, примеряла матушкины гранатовые серьги – она хранила их в шкатулке.
«Надо бы пройти незаметно, в семь часов уже темно, меня никто не увидит. Я буду осторожна, как мышка», – рассуждала она, – «Таня?! А что же ей я скажу? Как с ней объясниться? Она не поверит никаким уловкам…»
В ответ на ее переживания, повинуясь какому-то звериному чутью, словно из воздуха, материализовалась рыжая растлительница.
– Глашенька, солнышко мое ясное, ты, куда же собралась?! – глаза смотрели с тревогой.
– Танечка, не шуми. Сядь, я все объясню, – тут Глафира запнулась, щеки густо покраснели, от предстоящих оправданий лицо вмиг подурнело, нос вытянулся, глаза смотрели в пол. – Ты, понимаешь, мне сегодня надобно уйти… Но, я ненадолго, я быстро ворочусь.
– Не лги мне, это – грех! Лжа, что ржа твою душу истлит. Я знаю, что сама грешу ежедневно, любя тебя, знаю, что ради тебя и бога забыла. Но, только он мне и судия на том свете будет, а не злые люди на грешной земле. Если я уродилась такой, что способна только женщину любить, то – не моя вина.
Беда – это моя и погибель. Бог знает, что мужикам не люба я была. Где мне счастия было сыскать? Куды податься? Может и простит мне господь мою пропастину. Но, твой грех, он – страшнее будет! Обидишь, солгав мне, – не будет тебе на этой земле покоя. Загубишь ты, душу мою – душу, зверушки непотребной, – в глазах Татьяны стояли слезы. – Ты, к нему идешь. С ним ложе делить будешь. Поманил – и ты побежала, словно песья матка – хвост набок. Хочешь брюхатой быть? Будешь. Мало он тебя мял, да топтал? Ничаво, нынче домнет – на нос позор полезет, да поздно будет. Али дите травить будешь? Ты же незамужняя. Грехов тебе мало? Праздной, да порожней гулять надоело?
– Таня, ну что ты, такое говоришь?! – Глаша заплакала, некрасиво скривив полные губы. – Какое дите? Зачем?
– Глаша, неужто, ты, ничего не разумеешь? Неужто страсть тебе весь свет застила? Али глупая ты? Чрево твое давно к бремени готово, груди налились – того и гляди, от спелости лопнут. То, что ты давеча не понесла, то судьба тебя от лиха пронесла. – Гневные слова сыпались на Глашу, словно раскаленные угли. – Разве, я тебя мало люблю? Разве, я плохо ласкаю тебя? Одумайся, не ходи ты к этому супостату злоумышленному. – Таня бросилась к ней в ноги, задрала подол светлого платья: сильные длинные руки обхватили круглые колени, горячие поцелуи посыпались на стройные лодыжки подруги.
– Танечка, опомнись! Ты, сошла с ума. Не надо мне ноги целовать. Прекрати!
– Глаша порывисто встала, одернув подол, и нервно заходила по комнате.
Она старалась говорить строго и убедительно, но взгляд падал на сидящую, на полу подругу, чьи опущенные острые плечи казалась до невозможности жалкими. Сидя на полу, Таня раскачивалась из стороны в сторону, потухшие глаза смотрели в одну точку.
Глафира не выдержала этой трагической сцены. Она подошла к Татьяне и, обняв ее за плечи, села рядом.
– Таня, ну послушай: да, я иду к нему. Не хочу тебя обманывать. Но свидание будет недолгим. Я не могу его ослушаться. Ты знаешь, что я живу здесь из милости. Мне никто, кроме тебя не нужен, – Глаша, поймала себя на мысли, что оправдывается перед Татьяной, как жена перед мужем. – И ничего страшного в том нет… – голос ее дрогнул.
– Не трудитесь, Глафира Сергеевна, – зеленые глаза полыхнули болотным огнем. – Не холопское это дело, вам господам указывать. Воля ваша: ступайте к своему любовнику. А ежели вам худо от любви демона вашего кудлатого станется, то вспомните еще свою Танюшку. Вспомните – да поздно будет!
– Таня! Постой!
Татьяна, вскочив на длинные ноги, выбежала из комнаты, как вихрь, дверь хлопнула так громко, что у Глаши заныло сердце – словно огромный колокол ударил языком в чугунную твердь своей чаши.
Глаша долго ходила по комнате из угла в угол: она не знала, что теперь делать. Хотелось побежать за подругой, попросить прощения. Но что-то удерживало. «Я побуду недолго с Владимиром, и вернусь. Таня вспыльчивая, но отходчивая. Она любит меня и все простит», – думала она. Глаша долго нервничала, находила себе оправдания, злилась на Татьяну, жалела ее, но когда стрелки часов в зале показали половину седьмого, она, накинув серый клок[75] с высоким капором, словно преступница бросилась бежать к злополучной бане.
Густые влажные сумерки спустились на унылые и по-осеннему поредевшие деревья, бревенчатые стены домов чернели, промоченные долгими дождями. Казалось, что деревенская, ранее бойкая жизнь, манящая вечерними посиделками и звонкими песнями до зари, пахнущая свежей травой и теплой землей, сулящая любовный непокой и короткий маятный сон на влажных от пота, простынях – вся эта живая суета куда-то исчезла. Пропала с концами: все присмирело, пригорюнилось, смирилось с неизбежностью конца. Где-то далеко, в теплых краях было весело и радостно, где-то люди танцевали, любили и пьянели от счастья. Где-то… Но, не здесь. Здесь Глаша всем осиротевшим сознанием ощущала безысходное, вселенское одиночество, предчувствие скорой погибели и полного забвения всего живого и самой себя, как маленькой частицы этого огромного, тоскующего подлунного мира. Этот мир послушно и обреченно вгонял сам себя в тягучую дрему, готовился к предстоящей зимней спячке. И не важно, что вслед за зимним холодом народится новая жизнь… До этой новой жизни будет лежать огромная снежная долина – без конца и края. Она старалась отогнать мрачные мысли, хотелось человеческого тепла, надежды, спасения. Хотелось чуда… Думалось, что это чудо и надежду на скорое счастье дадут одни лишь любимые руки, любимые глаза не предадут. Да, он обманывал, да, поступал неблагородно. Все меняется, изменится и он. Ему, наверное, также в душе холодно и одиноко. Он также хочет ласки и тепла. Эти мысли придали решимости, она шагнула навстречу холодному сумраку осеннего вечера.
Туфли вязли в размытой дождем, дороге. Она старалась идти возле деревьев по мокрой увядшей траве, но дважды поскользнулась, едва устояв на ногах. Подойдя к бане, увидела, что окна на втором этаже светлы от пламени свечей. «Это он для меня постарался, мой любимый», – думала она. На минуту показалось: послышались чьи-то голоса и смех. Остановилась, прислушалась: всюду была тишина, только ветер трепал ветки старых ив. Лунный свет свободно проходил сквозь голые верхушки, вся золотая листва плотным ковром лежала на холодной земле, прикрывая обнаженные корни, похожие на гигантских, заснувших змей.
Постучалась, двери распахнулись, на пороге стоял ее ненаглядный Владимир. На нем был надет шелковый шлафрок и туфли на босу ногу. Он протянул руку, она вошла и бросилась к нему на шею. Он обнял ее и тут же отстранил, подойдя к двери, крепко закрыл все замки и обернулся.
– Я рад, что ты пришла. Мне удалось-таки заманить мою птичку в железную клетку.
– Ты, опять шутишь? Какая железная клетка? Твои объятия для меня – рай земной.
– Поднимайся наверх, – посмеиваясь, приказал он.
Глаша увидела, что движения кузена отличаются от обычных, глаза блестят и взгляд какой-то странный. Вином от него не пахло, но вел он себя будто пьяный. Она поднялась наверх, дверь распахнулась… Глаша задохнулась от негодования.
Комната, как всегда, была освещена множеством горящих свечей, но свет дрожал рассеянно сквозь облака бурого тумана, клубящегося перед глазами.
В нос ударил какой-то неведомый запах: то ли табака, то ли восточных благовоний – она не поняла. С непривычки горло свело от внезапного кашля, выступили слезы, закружилась голова. Она шагнула вперед, и только тут до сознания дошло то, что она увидела: в разных углах комнаты, на креслах, пуфиках, диване в свободных позах сидели обнаженные женщины. Сначала показалось, что их слишком много – от обилия молочно-спелых грудей, пышных бедер, распущенных волос, длинных гладких ног и мельтешения голых рук. Она присмотрелась: женщин было четверо – Лушка, Маруська, Катька и одна белокурая, кудрявая незнакомка. Все они с наглым вызовом смотрели на Глафиру. В одном из кресел развалился Игнат и с любопытством наблюдал эту мизансцену.
– Вольдемар, qui est-ce?[76] Это и есть ваша аппети кузина? – спросила незнакомая блондинка, и встала во весь рост, тонкая рука отвела от лица вьющийся белый локон. Русские слова она произносила с небольшим французским акцентом. Глаша смогла внимательнее рассмотреть эту белокурую особу. Блондинка была довольно хорошо сложена: высокая и стройная она стояла без стыда, выставив напоказ белые груди, необычной удлиненной формы; неширокие бедра переходили в сильные, чуть тонковатые ноги; плоский живот заканчивался небольшим лобком, на котором не было волос – лобок, похоже, был выбрит. Это обстоятельство сильно поразило Глашу, глаза косились в сторону этого белого треугольника с трещиной посередине. Лобок блондинки походил на маленький пирожок, такие лобки бывали у совсем юных девочек. Глаша с жаром и любопытством подумала о том, как раскрывается эта маленькая голая раковина навстречу большому фаллосу. Подумала и тут же постаралась отогнать от себя все греховные мысли. Блондинка выглядела изящно, словно юная нимфа, если бы не ее лицо. Лицо выдавало возраст: голубые, распахнутые глаза с длинными ресницами и приподнятыми бровями были немного красны и затуманены; тонкая кожа вокруг век чуть примята; мелкая сеточка ранних морщин расходилась от глаз тонкими, словно паутинки, лучиками; заостренный аккуратный носик вздернут; крупный, не соразмерно маленькому лицу рот, чувственно полуоткрыт. Самым красивым в блондинке были ее густые, вьющиеся из кольца в кольцо, светлые, длинные волосы. Она знала, что ее роскошные локоны являются главным достоинством всего облика и часто трясла головой или откидывала их руками то вперед, прикрывая роскошную грудь, то назад, изящно обнажаясь.
– Мари, S’il vous plaît[77] прошу любить и жаловать: это моя славная кузина. Рекомендую: она очень горячая особа, хотя и ярая противница свободной любви. Не приучена еще, так сказать. Может ты, моя жрица искусная, бестия белокурая, блудница, рожденная у берегов Луары, приучишь сию скромницу к нашим веселым игрищам? – проговорил Владимир, театрально знакомя двух женщин.
– Comment vous appelez-vous?[78] – спросила блондинка, улыбаясь уголками губ.
– Je m' appelle[79] Глафира Сергеевна, – сухо отвечала Глаша, не сводя глаз с голого лобка французской красотки.
– Je suis très heureux de faire votre connaissance[80], Глаша. – лукаво отвечала блондинка, – Меня зовут Мари. Я думаю, что будет приличнее перейти на русский, тем паче, что не все в нашей компании знают мой родной язык. Я говорю с акцентом, но в России живу давно и можно сказать, почти обрусела.
Глаша надменно кивнула и, повернув голову к Владимиру, произнесла:
– Владимир Иванович, я вынуждена вас покинуть. Вам давно известно мое отношение к подобным мероприятиям. Вы подло обманули меня, сказав, что будете один на нашем свидании.
– Один на один с вами? Я же не сошел с ума, – он громко расхохотался. Глаза глядели бессмысленно, расширенные темные зрачки превращали их в два темных, бездонных колодца, посмотрев в которые, можно заглянуть в саму Преисподнюю. – Мне, дорогуша, сие занятие давно уж опостылело. Не хочу вас оскорблять: вы очень привлекательны, как женщина. Любой мужчина был бы счастлив – держать в объятиях такую красоту. Но я – совсем другое дело. Я смолоду искушен совсем другой любовью. Можете считать меня поборником свального греха, содомитом или адамитом, отступником, развратником, греховодником, сатиром и даже исчадием ада. Мне все это безразлично… Мне не интересно ваше мнение на сей счет. Пока меня интересует только ваша плоть, и то – «пока». Вам на замену тысячи девиц найдутся, что с удовольствием падут передо мной.
– Господи, какой ужас! Зачем я не послушала Татьяну? – невольно вырвалось у Глаши. Она развернулась и толкнула тяжелую дверь. И эта дверь была закрыта на замок.
– Это ты, про Тишу нашего говоришь? – глаза Владимира притворно округлились. – Это мой славный паренек тебя предупреждал? Я давно догадался, что ты, наша скромница и тихоня сожительствуешь с этой худой дворовой холопкой. Ай-яй-яй, как вы могли, Глафира Сергеевна, с вашим-то происхождением, так низко опуститься? Крепостная Танька не только ваш конфидент[81], что само по себе является cas curieux[82], но и любовница?!
Глаша густо покраснела и совсем не знала, что ему ответить. Его слова действовали на нее, словно хлесткие пощечины.
– Игнат, друже мой, ты понял?
– Давно все понял, – ответил Игнат с усмешкой.
– А ты, еще спрашивал: как наша институтка без утехи ходит при ее-то темпераменте? Переживал за несчастную. Хотел наведаться к ней. А ей ненадобен мужской пенис. Ей милее языки и пальцы, да плоские груди. Сознались бы честно в своих пристрастиях. Я уважаю вкусы своих дам, и сам порой, люблю наблюдать за дамскими утехами. Сказали бы правду, и я бы вам кучу искусных лесбиянок предоставил. Хотя, надо отдать должное, мы приучили тогда Танюшку к нашим утехам. Она прошла хорошую школу. Рад сударыня, что мой труд оказался ненапрасным. Хоть вам, сия худышка мужиковатая пришлась по вкусу и нужду жгучую облегчила, – Владимир продолжал глумиться над смущенной Глашей, – желал бы я понаблюдать за той картиной.
– Нет, Владимир Иванович, наша Глашенька – особа капризная. Ей сегодня язычок женский подай, а завтра и от уда мужеского не откажется. Я же помню, как она жарко отдавалась, – проговорил Игнат.
– Так, от уда хорошего, какая дура откажется? – посмеиваясь, отвечал барин.
– Господа, не кажется ли вам, что сей спор надо прекратить? Вы совсем замучили расспросами нашу милую красавицу. Я умираю от желания потрогать ее везде. Думаю, ей приятно будет сегодня испробовать всяческие ласки: и мужские, и женские, – проговорила Мари и плотоядно посмотрела на Глафиру, – Cherie, я думаю, что вам пора раздеться.
– Нет! Я прошу вас: отпустите меня, – взмолилась Глаша, по щекам побежали слезы.
Мари подошла к ней и лизнула языком щеку, поймав слезинку кончиком горячего языка. От ее нежного прикосновения по телу Глафиры пробежала дрожь.
– Mon cher, не надо так сердиться. Расслабься – станет легче. Я не враг тебе. Пусть, мужчины смеются. C'est La Vie[83]! Они часто злятся, когда женщины обходятся без них. Сие обстоятельство понижает их самооценку, раздутую до небес, как их огромные фаллосы, – проговорила тихо Мари, – я хорошо понимаю тебя: зачем страдать, когда рядом есть искусная подружка? Я сама не раз пользовалась услугами трибад во время моего пребывания в борделе а ля' рус, особенно в те дни, когда было мало клиентов. И не смотри на меня так удивленно, девочка, ты многого еще не знаешь в жизни. Ко многому должна привыкнуть. Но, с твоими данными не стоит унывать, ни при каких обстоятельствах. Владимира я знаю давно, еще со времен его студенческой юности. О, как я тебя понимаю: не любить этого демона – просто невозможно. Он пригласил меня к себе погостить ненадолго, я скоро уеду. Была бы моя воля – я забрала бы тебя с собой.
Глаша слушала все это, не веря своим ушам. Жгучая ревность к белокурой красавице сменилась небольшой признательностью за то, что та доверительно разговаривала с ней.
– Володечка, ну сколько можно? Хватит уже разговаривать. Мы устали ждать,
– проговорила Маруся капризным голосом. – Давай, выгоним ее. Зачем тебе эта гордячка?
– Цыц, Маруся, не распускай язык, пока я не велю!
– Ну, тогда давай, мы ее разденем.
– А вот это можно. А ну, девки, налетайте! Снимите все тряпки с этой красотки.
Глаша пятилась к выходу, а три фурии, налетев на нее, стали как попало срывать одежду. Она поняла, что сопротивление бесполезно: перед лицом мелькали злобные глаза, цепкие руки тормошили и дергали крючки барежевого платья, путались в подвязках, разрывали в клочья батистовые панталоны. Они старались ей сделать больнее, проводя эту унизительную процедуру. В какой-то момент стало страшно, что они могут ее убить.
Барские оторвы, словно свора голодных собак, почувствовали ее липкий страх и потеряли контроль над своими жестокими действиями.
– Но, но, девки, вы поаккуратней. В чем она назад пойдет?
– Голая побежит, – злобно отвечала Лушка, продолжая тормошить неуступчивую барыньку за длинные косы. Сильные руки хватали барахтающиеся ноги. Смеясь, девки сдирали с несчастной нижние юбки, рвали шелковые чулки. Кто-то из них пребольно дернул за лобок, вырвав пучок волос. Лушка старалась с силой развести в стороны голые ноги, показать зрителям всю срамоту и беспомощность Глафиры Сергеевны. Глаша, как могла, сопротивлялась чудовищному натиску. Вдруг, раздался оглушительный визг, крик от боли.
– Charmant! Вот, Игнат, смотри: и где твоя хваленная женская добродетель? Эти патлатые шлюхи похожи на злобных стервятниц. Дал бы я им приказ: убить ее – они бы сделали сие незамедлительно. Смотри: так и стараются сделать ей больнее. Похоже, Лушка укусила нашу барыню за грудь. Оттащи их. Они, от дури и зависти бабской, пожалуй, сорвут с нее и кожу.
– Вольдемар, утихомирьте своих подданных. Они совсем сошли с ума от опия, а может и сами по себе жестоки, – сказала Мари, спокойно взирая на эту картину. Ее саму сильно возбуждало то, что делали безумные холопки. По мере того, как обнажались участки тела Глаши, знакомый зуд проникал в ее потаенные чресла.
Игнат подошел к девкам и растащил их в стороны. Глаша лежала на полу – чуть живая: волосы были расплетены; развратницы сорвали с головы атласные ленты; их жесткие пальцы тянули их из волос, стараясь выдрать живые пряди; голые ноги в нескольких местах покрывали красные, вздутые борозды от ногтей; на обнаженном бедре красовался багровый кровоподтек; на белой торчащей груди пропечатался полукруглый синеющий отпечаток от Лушкиных зубов; один корсет прикрывал талию – его не успели содрать.
– Ну, дуры, такую плоть попортили! Нет, я вам больше не доверю такое тонкое дело, – проговорил Владимир. – Тебе больно, девочка?
Глаша не отвечала, она тихонько плакала, закусив нижнюю губу. Он приподнял ее с пола, аккуратно развязывая шнурки. Сняв корсет, прижал к себе и долгим поцелуем прильнул к соленым от слез, губам. Обнаженная, она уже не сопротивлялась. Казалось: ей все безразлично. В голове настойчиво и горько звучал один вопрос: «Зачем, я не послушала Татьяну? Как отсюда сбежать?»
– Вот видишь, лапушка, я преподал тебе маленький урок в ответ на твое непослушание. Твоя жизнь в имении полностью зависит от меня. Одно мое слово – и найдутся желающие не просто наказать тебя розгами, но и с удовольствием, заметь, с удовольствием – убить. Ладно, я поиграю в доброго барина и нежного любовника: твои ранки болят – я дам тебе лекарство. Это прекрасная травка, восточное зелье. Будет намного легче, боль пройдет, станет очень хорошо. Раньше я поил тебя водкой и вином – ты славно расслаблялась. Поверь: опий гораздо лучше… Для тебя я не пожалею хорошую порцию этого чудотворного зелья. Мне привезли его издалека. Нарочно для дам у меня есть бонбоньерка[84] с восточными сладостями. Сушеный фрукт, он называется инжиром или фигой; внутри его добавлен опий – чистейшего качества. Ты съешь его и вознесешься до небес.
– Владимир, ради памяти моих несчастных родителей, отпустите меня, Христа ради. Я уйду из вашего имения в женский монастырь, – проговорила Глаша, но голос звучал неуверенно. Когда он прижимал ее к себе обнаженной грудью, боль и обида куда-то уходили. На их место приходило предательски сильное желание. Она едва справлялась с ним, стыдно было признаться, что она все так же продолжала хотеть его близости.
– Assez, mademoiselle![85] Глупая гусыня, я был о тебе лучшего мнения, – он резко оттолкнул ее. – Ничего, мое зелье вмиг тебя сделает послушной. Странно, что опиумный дым до сих пор на тебя не подействовал. Я сейчас раскурю еще одну папиросу… Игнат, свяжи ей пока руки и ноги.
Он подошел к маленькому блестящему столику, длинные пальцы зажгли тонкую бумажную трубочку, вставленную в костяной мундштук. Он затянулся, закатив серые глаза, и с наслаждением выдохнул коричневатый дым. Казалось, Владимир впал в какой-то транс: сидя по-турецки в шелковом шлафроке, он походил на султана, его торс раскачивался из стороны в сторону, лицо побледнело, отяжелевшие веки прикрыли туманный взгляд, губы шептали восточную мантру. Затем он встал и, подойдя к связанной Глафире, от всей души дунул в лицо опиумным дымом. Дым, пройдя через губы и тонкий изрез чувственных ноздрей, попал ей прямо в горло, и нос.
Она закашлялась, глаза заволокло слезами. Некоторое время спустя, она почему-то послушно открыла рот. Владимир, чуть задержав в ее рту пальцы, положил на высунутый язычок какой-то сморщенный и неприглядный на вид, фрукт. Глаша раскусила его: зубы вязли в сладкой и удивительно тягучей клейковине, приятно похрустывали мелкие зернышки, небольшая горчинка послевкусия не испортила впечатления от диковинной восточной сладости.
– Как хорошо тебя Игнатушка связал: бедняжка, ты, не сможешь пошевелить своими ручками и ножками. Поверь: тебе так этого захочется. Ты будешь занимать у нас почетное место в партере. Игнат, посади нашу гостью в это красное кресло. Я хочу, чтобы ей были хорошо видны все подробности предстоящего спектакля.
Через несколько минут Глафира почувствовала себя очень необычно: боль утихла, во всем теле появилась необыкновенная легкость. Вдруг, кресло оторвалось от пола и взлетело вместе с ней в воздух. Покружив по комнате, оно остановилось в том месте, куда поставил его Игнат, но не упало на пол, а плавно покачивалось на двух аршинной высоте в дымных струях, стелящихся по комнате. От необыкновенного, внезапно нахлынувшего счастья, Глаша звонко рассмеялась. Громко ударили барабаны, празднично заиграли трубы, нежнейшими голосами откликнулись скрипки, невидимый оркестр торжественно заиграл праздничную увертюру. Глаша до этого момента не слышала этой дивной музыки. «Боже, как хорошо! Как хорошо играют музыканты!» – подумала она с восхищением. Закончилась божественная увертюра, и зал позади нее взорвался грохотом рукоплесканий и криками: «Браво!». Через пару минут послышалось соло необыкновенной, ангельской флейты, кровь стыла в жилах от неслыханных ранее звуков: то была музыка небесных сфер, музыка, уводящая разум далеко от земной суеты, в неведомые миры, она прорывалась сквозь броню времени, сворачивала тугие пласты галактических расстояний. Глашина грудь была мокрой от слез. Никогда ранее она не испытывала такой причастности своей души к тайнам божественного мироздания. То ей казалось, что ее душа огромна и может оказаться в любой точке Вселенной, то казалось, что она маленькая песчинка, лежащая на дне самого глубокого океана…
Флейта оборвала райское соло, и снова присоединился оркестр. Невидимый дирижер руководил всеми инструментами, создавая гармонию красивейшей в мире мелодии. Кроме звуков эта мелодия принесла свой запах и цвет. Сначала Глафира уловила легкий намек, едва различимый, размытый розовый флер. Словно ветер, собрав ночные запахи с далекой цветочной долины, принес их под утро к раскрытому окну спальни. Чем больше она концентрировала обоняние, поводя носом, как полевая мышка, тем более явственно стала ощущать благоухающий аромат розовых кустов. По обе стороны кресла коричневый туман немного рассеялся и приобрел голубоватые, серебристые тона. Внутри голубого свечения произошло легкое шевеление и преображение красок в бордовый цвет. Этот цвет стал стремительно приближаться, трансформируясь в более четкие, бархатистые очертания лепестков и плотных бутонов. Она поняла, что голубое пространство заполнилось охапками свежесрезанных темно-бордовых роз, чьи нежные, холодные на ощупь, нераскрытые головки хранили в себе хрустальные капли утренней росы. Вот откуда шел этот дивный запах.
Звуки божественной мелодии стали понемногу утихать. Огромные прожекторы ударили ярким светом на круглую желтую сцену, которая плавала чуть ниже, перед креслом Глафиры. Опять раздались аплодисменты. На сцену вышел Вольдемар, легким движением руки он скинул шелковый шлафрок. Шлафрок заскользил по стройным ногам и живой лужицей растекся перед ногами хозяина. Полежав немного, он превратился в красную, широкую и скользкую змею с золотистыми боками. Змея, приподняв ласковое лицо, мирно уползла в партер и свернулась замысловатым кренделем возле Глашиных ног.
Глава 18
Итак, Вольдемар вышел на середину круглой сцены. Аплодисменты стихли, зрители, затаив дыхание, ждали начало спектакля.
– Атансьон, дамы и господа! Начинаем наше действо. Я вижу, что почетные гости уже заняли свои места в партере. Антре, мои милые блудницы – ваш выход.
Четыре обнаженные женщины выскочили на середину сцены и, присев на колени, расположились полукругом около своего господина. Им нравилось играть в эту игру, они изображали из себя покорных рабынь: разноцветные головы с распущенными волосами были приклонены, глаза кротко смотрели в пол, весь вид говорил о том, что они готовы повиноваться каждому слову хозяина.
– Сейчас мы поиграем в старую восточную игру: Игнат завяжет мне глаза, а мои прелестницы по очереди, начнут ласкать моего жадного, до утех друга. Каждой из них дается ровно полминуты. Игнат будет следить за временем строго. Та, чьи губы и язык окажутся искуснее, та от ласк которой, мой пенис разрядиться жгучей лавой, получит от меня похвальный приз и пару золотых монет.
Игнат с улыбкой принес шелковый шарф и повязал его на глаза барину. Владимир сел на край бархатного кресла, крепкие ноги разошлись в стороны. От предвкушения удовольствия, его фаллос стал приподнимать розовую, глянцевую головку.
Первой подлетела Лукерья Потапова. Рухнув на колени перед барином, она раскрыла огромный чувственный рот и с наслаждением заглотила торчащий ствол. Склонившись над ним, Лушка смачно зачмокала, водя крупной головой вверх и вниз. Через распахнутую створку светлых, спускающихся почти до пят волос, обнажилась белая, широкая спина и мясистый, подернутый ямочками зад. Обнажились и сами пятки: круглые и… почему-то грязные. Глаше стало смешно от вида этих пяток, чмокающие звуки, заполнившие все пространство горницы, внезапно прервались громким, неуместным смехом. Все недоуменно посмотрели на Глафиру.
– Хорошее зелье, – Игнат крякнул от удовольствия.
Лушку было трудно оторвать от любимого занятия: по истечению положенного времени, Игнат почти с силой оттащил хваткую сладострастницу от распахнутых врат хозяина. Наступил черед Маруськи: та тоже хотела показать себя искусной любовницей. Она зазывно прогибала талию; оттопыривался круглый, смугловатый зад; тонкая рука нарочно уводила пряди распущенных, струящихся, словно черный шелк, длинных волос. Обнажалась узкая спина, дрожащая от вожделения, спелые ягодицы покрылись испариной. В какой-то момент Маруська раздвинула колени еще шире, и благодарным зрителям представилась впечатляющая картина: темнокрасный сжатый тоннель, в обрамлении черных волосков, и бархатистая, кофейная звездочка. Тоннель и звездочка блестели от выступивших соков и заметно пульсировали в такт Марусиным движениям. Глаша не смогла остаться равнодушной к этой возбуждающей сцене. До этого момента она весело и бездумно хохотала, охваченная легкой, все возрастающей блаженной радостью, которую принес ей наркотик. Постепенно на смену смешливому настроению пришло сильное телесное желание. Она попыталась дернуться, привстать – не пускали сильные веревки: они до боли врезались в нежную кожу рук и ног. Какая это была ужасная мука! Она сидела, ерзая задом, словно на горячей сковороде. Как и предсказывал Владимир, опий не только дал необыкновенное наслаждение, но и жесточайшее, сводящее с ума желание. Маруськино время закончилось, ее тоже с силой оттянули от Владимира, словно щенка от сучьего соска.
Владимир сидел, откинув голову назад, звуки наслаждения изредка срывались с его губ. За дело принялась Катерина. Она делала тоже, что и подруги, но ее голова совершала более энергичные движения, в надежде, что барин разрядится именно с ней, и она получит законную награду.
Когда подошла очередь Мари, она не бухнулась сразу же на колени, а постояла в задумчивости несколько минут, словно ленивая пантера, потерлась ногами о раздутый ствол, присела на корточки, разведя узкие колени и нежно поводя острым языком, едва коснулась красной, тугой головки. Владимир застонал от удовольствия. Она ласкала его как-то по-особенному: то захватывала полностью – и становилось странно, как такой огромный предмет почти целиком скрывается в недрах узкого горла; то порхала языком словно бабочка, сводя с ума легкими щекочущими прикосновениями.
– О, это ты прекрасная Мари. Я чувствую твое дыхание… Ты, так искусна, как ни одна из моих любовниц. Продолжай, я скоро взорвусь.
– Стыдись, мой мальчик, ты едва прошел первый тур. Рано, очень рано… Потерпи, я приласкаю твоего дружка дважды.
И все завертелось по второму кругу. Было видно: Владимир едва сдерживает себя, чтобы не разрядиться. И когда опять подошла очередь Мари, едва она коснулась нежными губами плотной головки звенящего ствола, как молочная влага выстрелила фонтаном и оросила лицо и грудь французской куртизанки.
– Я знал, что виктория будет твоей, моя светлокудрая бестия, – хрипло проговорил Владимир, снимая с головы шелковый шарф. Он посидел немного в кресле и нетвердыми шагами подошел к столику. Взяв кошелек, отсчитал три золотые монеты, вместо обещанных двух и вручил их Мари. – Уговор – есть уговор. Прими, сей скромный дар. Все мои главные подарки для тебя еще впереди.
– Владимир, но кроме денег, ты говорил о призе.
– Да, кажется, я что-то такое говорил. Так, что же хочет моя несравненная, Донна?
– Вольдемар, а можно сие пока останется тайной? Я выберу приз чуть позже.
– Разве, я способен отказать? Ты, меня приятно интригуешь. Бьюсь об заклад: ты что-то задумала. Уж не на Глафиру ли, глаз положила?
– Потом, все потом. Ты, лучше дай ей еще немного опия с фигой или дай подышать кальян. Я хочу довести эту нежную красотку до полной готовности. А, впрочем, смотри: не переусердствуй. Она мне нужна живая.
– У, проказница – гурманка! Я знал, приглашая ее сюда, что угожу твоему изысканному вкусу.
Мари обернулась к барским любовницам: те сидели чуть в сторонке, лица были обижены, губы надуты. Она подошла к девушкам и сунула каждой в руки по золотой монете. Те не ожидали такой щедрости, и удивленно таращились на свою благодетельницу.
– Не стоит благодарности, мои хорошие! Вы, славные женщины и достойны большего. В нашей компании удовольствие получил только наш дорогой хозяин. Мы тоже, можем позволить себе немного пошалить. Игнат нам в этом поможет. Его славный конь застоялся в стойле и готов скакать во весь опор. Мы поиграем в такую же игру, только без призов. Главный приз – это удовольствие. Встанем на колени кружком, приподнимем наши роскошные зады, а Игнат будет по очереди входить в каждую из нас, как конь в кобыл на зеленом лугу. И, кстати, это игра тоже пришла из восточных гаремов.
Кажется, я становлюсь поклонницей Востока.
– Вперед, смелые одалиски! – хрипло крикнула она.
Эта идея понравилась всем присутствующим. Девки с визгом, толкая друг друга, встали на колени, раздвинули ноги и выпятили круглые зады. Вальяжно и неторопливо к ним присоединилась Мари. Игнат буквально остолбенел от такого количества распахнутой женской плоти. Владимир, глядя на его замешательство, расхохотался.
– Игнат, ну, что же ты растерялся, приступай. Может, мне сделать ставки, в чьей конюшне твой жеребец уснет, уставши от работы?
То, что Глаша увидела дальше – доставило ей еще больше телесного страдания. Игнат совершал сильные выпады над телами голых эротоманок, те отвечали ему ответными волнениями горячей ненасытной плоти. Сделав несколько движений в одной вагине, он переходил в следующую. Оставшаяся без любимой игрушки сладострастница громко стонала в надежде получить назад желанного гостя. Игнат, как истовый и благодарный любовник старался одарить каждую своим вниманием и, увлекаясь бурным процессом, идя на зов сжимающегося чрева, порой задерживался чуть дольше в одной, пока не слышал требовательный призыв другой.
– Девки, не шевелитесь, стойте смирно – иначе он умрет над вами, – крикнул Владимир.
Глаша сидела все так же связанная по рукам и ногам – она неумолимо страдала. Ей безумно хотелось оказаться на месте одной из барских любовниц. Ее кресло уже не плавало в голубых струях, исчезли розы, смолк оркестр. Но громче оркестра в ней звучал голос плоти. Владимир раскурил еще одну иноземную папиросу и, подойдя к ней, наклонился над лицом.
– Ну как, моя птичка, сладкая? Тебе нравится мой спектакль? Не правда ли, я – гениальный режиссер. Все марионетки танцуют под моими чуткими руками… Я же до сих пор люблю тебя сильнее других тряпичных кукол. Ты свеженькая и не истрепалась, как иные действующие лица моих постановок. Чего же тебе, было надобно? Зачем, ты, противилась? Одно мое желание – и ты будешь целовать мне ноги, прося, хоть толику ласки. Я изучил тебя давно: ты ненасытна, словно Вавилонская блудница, но строишь из себя благочестивую матрону.
После этих слов он поцеловал ее, вдохнув дым опия в раскрытый, чувственный рот. Задохнувшись от поцелуя, Глафира снова поплыла в голубом пространстве. Владимир плыл рядом: его тонкие пальцы принялись теребить торчащие соски, ласково поглаживать нежную кожу грудей.
– Отпусти меня, любимый. Позволь, мне лечь под тебя или сесть. У меня больше нет сил: терпеть эту муку. Она пыталась поймать его руки губами и поцеловать.
– О, как я тебя распалил… Игнат прав, мое новое зелье отменно. Торгаш меня не обманул, – он смеялся, запрокидывая голову, – Mademoiselle, отчего вы, меня не слушались? Отчего, заставили применить к вам жестокость? Я не могу взирать спокойно на эти синяки, что оставили на вас безумные холопки. Меж тем, я мог бы их наказать за проявленную жестокость. Наказать на ваших глазах. Вижу: вы раскаялись. Но право, я еще чуточку вас помучаю.
Не лишайте меня этого изысканного удовольствия.
Его тонкие пальцы нырнули к ужасающе мокрой расщелине на Глашином лобке. Нежными поглаживаниями он теребил сочный бутон: Глаша таяла от неописуемого блаженства. Все, что она испытывала ранее, не шло ни в какое сравнение с новыми, невероятно острыми ощущениями. Она увидела странное волшебство: красный, упругий хоботок, прятавшийся в устье ее влажной расщелины, вдруг необыкновенно вытянулся и распух. Мало вытянулся, он видоизменился настолько, что стал походить на толстенькую, довольно крупную ящерку, которая упрямо перебирая передними лапками, рвалась наружу из родного домика. Ящерка, вне зависимости от желания хозяйки, крутила розовой головой, сверкала темными блестящими глазками, разевала маленький рот. «Фу, какая гадость! Как должно быть стыдно, что у меня между ног поселилось это животное…» – рассуждала, одурманенная Глаша. Изо рта ящерки показался длинный, раздвоенный язычок с острыми, тонкими, дрожащими концами. Язычок стремился вытянуться так, чтобы приклеиться к пальцам Владимира. Каждое прикосновение язычка вызывало в ней бурю, ураган удовольствия. Владимир почему-то не захотел долго баловать своим вниманием новорожденную ящерку, и на мгновение оторвал руку от Глашиного лона. Ящерка неуклюже и больно шлепнулась и, обиженно посмотрев на любовника, спряталась в мохнатый домик… Кузен заглядывал в затуманенные глаза Глафиры, изучая ее реакцию на подобные опыты. И тут он услышал ужасающий крик – то был крик раненной тигрицы, вой волчицы, гортанный клекот ночной птицы. Эти звуки вырывались из Глашиного полуоткрытого рта, глаза, подернутые поволокой, выглядели страшно и совершенно безумно.
– Я умираю, не убирай руку! Войди в меня, иначе – я прокушу твое горло!
Все действующие лица удивленно посмотрели в их сторону. Спустя минуту, закончил свою игру Игнат, остановившись в этот раз на Марусе. Мари подбежала к Владимиру и с любопытством посмотрела в сумасшедшие глаза Глафиры Сергеевны.
– Assez, Valdemar! Хватит на нее дышать опием. Она непривычна к этому занятию. Чего доброго – сойдет с ума или умрет. Будьте осторожны: вы и так дали ей слишком большую порцию с инжиром… Она давно готова. Отдайте ее мне. Я весь вечер жду этого момента, когда смогу ласкать эти спелые груди. У нее бархатная кожа. Порода сразу видна – вкусная штучка. Это и есть мой сегодняшний приз. Вы обещали мне его в самом начале.
– Ладно, забирай ее, моя ненасытная Мессалина. Я присоединюсь чуть позже.
Глаше развязали руки и ноги, и словно на крыльях она перенеслась на широкую кровать. Мари, обжигая горячим дыханием, сумбурно путая французские и русские слова, принялась истово ласкать распаленную желанием, Глафиру.
– Как ты, хороша моя русская госпожа. Я влюбилась в тебя с первого взгляда.
– Вы, тоже мне пришлись по вкусу. Скажите, отчего у вас там… нет волос? – туманно глядя на Мари, спросила Глаша.
– Я открою позже тебе все секреты, – прошептала Мари, все больше возбуждаясь от поцелуев. – Позволь, я буду ласкать тебя, моя прелесть.
– Да, да! – ответила Глаша, но тут же, капризно надула губы и выгнулась спиной, – вы ласкаете меня так же, как моя Танюша, а я хочу сильнее, хочу, чтобы в меня вошел настоящий… пенис.
– Глупенькая, будет тебе и настоящий. Разные будут к твоим услугам. Не лишай меня удовольствия вкусить твою сладость, твой аромат.
Глаша, поддавшись на уговоры, полностью и с наслаждением отдалась в руки белокурой блудницы. Мари истово ласкала ее тело, входя в потаенное лоно упругим языком и пальцами. Глаша сладострастно извивалась и кричала: волны экстаза необыкновенной силы сотрясали тело, сводя его приятными судорогами. Руки, распластанные по ширине кровати, хватали льняные простыни, пытаясь порвать плотную ткань. Ноги налились силой и вытянулись в длину так, что стали походить на березовые стволы. Стволы покрылись тонкими белыми ветками, молодые зеленые листья проклюнулись сквозь плотные почки. «Странно – из меня выросли ветки… Видимо, я стала деревом…» – рассеянно думала Глаша.
Мари показалось мало: она взяла из шкафа дилдо с ремешками и ловко прицепила к себе. Плотоядно улыбаясь, она продемонстрировала всей компании огромный деревянный фаллос и, покачав им перед носом удивленной Глаши, не медля, вогнала его в розовое нутро, распахнутых перед ней ног. Глаша изогнулась от сладких ощущений и стала двигаться навстречу: наконец она получила почти то, о чем мечтала. Мари с остервенением толкала дилдо в жадный, скользкий колодец. Спустя несколько минут, сильный оргазм снова потряс тело, сводя в гримасу красивое лицо. Мари тоже кончила и упала на грудь истерзанной Глафиры.
Глаша не чувствовала боли: казалось, она была готова к новым подвигам.
Она снова поплыла, покачиваясь на волнах. Только теперь вокруг ее ложа простиралось безбрежное море. Солнце светило в глаза, слышались крики чаек над водой. Легкий, морской ветерок нежно овевал лицо и голый живот. «Боже, как хорошо!» – подумала Глаша. – «А где же Мари»? Она скосила глаза и увидела, что Мари сидит на одной из ее длинных березовых ног и смотрит распахнутыми немигающими глазами. «Какие, красивые глаза… Я никогда не видела такой голубизны… Они, как это море», – грезила она. Вдруг, Мари встрепенулась и, погрозив крючковатым пальцем, вся как-то нахохлилась, кутаясь в длинные, белые кудри. Палец превратился в желтоватый птичий коготь, волосы в перья, чувственный рот стал красным клювом. Минута – и Мари, обернувшись огромной белой птицей, грузно оторвавшись от березового бревна, и широко раскинув тяжелые белые крылья, перевитые кудрявыми перьями, полетела в сторону туманного берега. Ее протяжный, и какой-то экзотический крик слился с криками толстых чаек.
Глаша лежала на воде, убаюканная слабыми волнами и думала о том, что, пожалуй, надо немного поспать, подставив лицо ярким солнечным лучам, но тут на горизонте показалась маленькая точка, по мере приближения точка превратилась в белый стремительный парусник, на борту которого стоял Владимир. Сверкая улыбкой, под приветственные крики встречающих, он бодро сбежал по деревянному трапу, перекинутому с парусника на берег.
Необыкновенно длинные руки кузена, вытянувшиеся на целую версту, схватили Глашу и вынули ее из соленой морской колыбели. Она почувствовала знакомые сильные объятия и задохнулась от счастья. Он долго нес ее куда-то, до тех пор, пока не принес на какой-то деревянный помост.
На этом деревянном помосте он принялся ласкать и целовать ее так, как она давно хотела: распахнутые сильные ноги, которые перестали быть березовыми стволами, а вновь стали человеческими, парили, словно в невесомости. Сильный упругий фаллос входил до такой глубины, что казалось, протыкает ее насквозь. Она не чувствовала боли – одно огромное наслаждение, доводящее до экстаза, до слез благодарности, до громких рыданий, до молитвы – заполоняло все ее естество. Никогда она не чувствовала себя такой счастливой, как в эти минуты.
Казалось, что любовный угар длится необыкновенно долго. На самом наивысшем пике этого райского блаженства, на самой крайней точке произошел чудовищной силы взрыв – будто гигантская пушка взорвалась в своем чреве, не выпущенным вовремя чугунным ядром. Свернулось пространство, остановилось время… Глаша летела в темный колодец, в котором отсутствовали какие-либо признаки жизни. Бездонный колодец обволакивал тело тягучим, холодным воздухом. Звуки и запахи тоже исчезли голова, обернутая в жесткий обруч, не могла понять, осмыслить происходящего. «Я умираю», – эта мысль пришла из глубин, засыпающего вечным сном, сознания. И тут же новый пушечный взрыв повернул время в обратный отчет.
Проснувшись, она ощутила сначала тупую, потом все более нарастающую боль. Она открыла глаза: безобразное, огромное и волосатое чудовище, склонившись над истерзанным телом, упрямо буравило болезненную и распухшую сердцевину, лежащую между широко распахнутых ног. Каждый толчок этого монстра вызывал в ней все более сильные страдания. Чертами лица монстр сильно напоминал Владимира, но это был не он… Чудовище, которое склонилось над ней, было чудовищем, рожденным совсем в ином мире – то было исчадие ада… Из клыкастой пасти фантома капала слюна, нос походил на свиное рыло, глаза налились кровью. Он гулко, со стуком шаркал об пол волосатыми, козлиными ногами – концы ног венчали раздвоенные копыта. Она зажмуривала глаза, встряхивала головой, и монстр пропадал, колышась в зыбком красном мареве, его место снова занимал Вольдемар. Но лицо ненаглядного кузена было настолько искажено безумием, настолько некрасиво и не похоже на самого себя, что монстр упрямо лез на его место. Мало лез, он стал отчего-то сильно расти, шириться, возноситься головой до деревянного потолка. Вернулись четкие звуки: крики, похотливые стоны. В нос ударил запах разврата. Возле ног почувствовалось назойливое шевеление: несколько позеленевших, подернутых трупными пятнами женских голов с развевающимися на ветру темными, как болотная тина волосами, лезли на нее, откуда-то снизу, из-под деревянного помоста, на котором она лежала и не могла сдвинуться с места – словно пришпиленная между ног длинным колом. Покрытые желтизной, длинные кривые руки мяли ей груди, жабьи рты, разрывающие трещинами круглые, обезображенные лица тянули холодные губы к ее пересохшему горлу. Женские головы злобно кусали и снова впивались холодными мертвящими поцелуями в истерзанную плоть. Их поцелуи походили на укусы ядовитых змей или пиявок. Они визжали и толкали друг дружку, пытаясь плотнее притиснуться к предмету вожделения.
Монстр, упрямо буравивший истерзанное лоно, вдруг содрогнулся от сильного оргазма и опал на нее, придавив всей тяжестью. Полежав немного, он приподнял голову: вместо красноватых глаз на нее смотрели пустые, мертвые глазницы. Она закричала от ужаса, но звук не шел из горла. Пустые глаза, вперившие мертвый взгляд, на этот раз полыхнули зеленоватым огнем, руки, покрытые черным волосом, превратились в искореженные ветки старого дерева. И тут же все пространство заполнилось непроходимым лесом: толстые, темные стволы сосен и дубов выросли на исполинскую высоту.
Кроны вековых деревьев терялись в темном небе. Но самого неба не было видно: одна зияющая чернота густилась на верхушках этих лесных гигантов. Потянуло запахом лесного болота, послышалось назойливое кваканье лягушек и гулкое буханье ночной совы.
«Я стала женой лешего… Это он входил в меня железным, горячим стволом. А эти женские головы – это лесные и болотные кикиморы… Какая страшная судьба», – подумала Глаша. Она хотела прочитать молитву, но не смогла связать и двух слов: обрывки фраз не складывались в предложения, губы слиплись, словно запаянные сосновой смолой.
В ответ на ее мысли гигантский леший захохотал так, что гром прокатился по ночному лесу, яркие молнии раскололи густой воздух. Он подрос еще немного, и его голова, упершись в сводчатый, деревянный потолок, с треском проломила его – палки и острые щепки как горох посыпались на чуть живую, Глашу. Кикиморы, копошащиеся в ногах, захлопали в скользкие жабьи ладошки, захихикали и одобрительно затукали. Дыра, проломленная в деревянном потолке, оказалась такой огромной, что Глаша увидела живое, темное небо, покрытое мерцающими звездами. Небо потекло живительной прохладой на испуганную девушку, устремляя яркие звезды в единый поток, этот поток ударил в нее фейерверком ослепительных вспышек. Потом все погасло.
Она открыла глаза: леший исчез, кикиморы уползли в топкое болото.
Деревья не пропали: она все также лежала в темном, холодном лесу. Вокруг витал запах болотной тины, зеленого мха, прелых осенних листьев и острый, смолянистый запах лесной хвои. Где-то вдалеке все так же бухала сова.
Глаза устремились на небо – оно стояло высоко и величественно, яркие звезды мерцали холодным светом. Взгляд наткнулся на белеющую точку: на краю одного из торчащих в потолке бревен, недалеко от гигантской пробоины, зацепившись за длинную нитку и слегка покачиваясь от порывов осеннего ветра, висела белая легкая тряпочка. И все бы ничего: тряпочка и тряпочка – пускай, себе висит. Какое ей дело до этой белой тряпки?.. Смутная тревога захолодила грудь, сердце, остро предчувствуя беду, забило, словно железный молот. Вглядываясь в белую тряпочку, Глаша вдруг поняла, догадалась, уловила глубинным подсознанием, что это не просто кусок ткани или разорванная простынь… Это худенькое женское тело, одетое в длинную исподнюю рубаху, подвешенное за шею, болтается в страшной петле. И это хрупкое, знакомое до боли тело, непоправимо мертво… Таня! Ужасный крик вырвался из Глашиной груди. Это – моя Танюша! Она не вынесла моего предательства. Она убила себя. Глаша кричала и билась, словно раненная птица, царапая себя по лицу от страшного, неизбежного, непостижимого горя. Через минуту сознание вновь покинуло ее.
Глава 19
Хмурое осеннее утро скупым холодным светом осветило место, которое можно было бы назвать разрушенным Вертепом, полем боя после битвы, руинами храма Диониса – любой подобный эпитет подошел бы к описанию того, что представляла собой банная горница дворянина и аристократа Владимира Махнева. Грязный, залитый вином пол, серый пепел от папирос, разбросанные простыни, подушки и одеяла, обрывки веревок, пустые бутылки, осколки битой посуды, обгоревшие свечи – все это немилосердно бросалось в глаза. Сразу становилось понятно, что прошедшей ночью в комнате произошло нечто малоприятное, греховное и даже страшное. Над всем этим полуживым пепелищем витал отвратительный, доводящий до тошноты запах – запах наркотического дыма. Никто посторонний не был вхож в «святая святых» барского Вертепа. А потому – некому было дать оценку этой живописной утренней картине.
Глаша проснулась. Она с трудом открыла стянутые в щелку глаза, и подняла голову: голова показалась такой тяжелой, будто в нее налили расплавленного чугуна. Приподнявшись на локти, почувствовала, что пол, стены и потолок – все разом бросилось в лицо, колокольный звон грянул в оба уха, к горлу стремительно подбежал ком. Едва успела повернуть голову набок, как ее вытошнило: коричневая кислая лужица растеклась по деревянной доске, на которой лежала щека. Стало мокро уху, волосы слиплись от этой неприятной жижи. Множественные спазмы мешали свободно дышать, выкручивало все внутренности. Озноб пробирал холодное тело, громко стучали зубы. Только тут Глашино сознание стало производить мутные картины прошедшей ночи. Она, наконец, поняла, что лежит в барской бане, вся обнаженная и истерзанная. Лицо залилось слезами, стало еще больнее голове, затем боль восстала во всем теле. Глаша с трудом повернулась на бок и огляделась: она лежала на широком деревянном столе. Глаза устремились в потолок – он оказался цел и невредим, вокруг не было деревьев, не пахло болотной тиной, куда-то подевался огромный Леший… Что это было? Отчего, я видела этот странный и такой живой сон? Она с трудом стала припоминать концовку ночного кошмара. Мне что-то ужасное примерещилось в конце… Но, что же? И она вспомнила: Таня! Я видела мертвую Татьяну. Правда ли это, или страшный бред?
Глаша порывисто села, перед глазами поплыли круги, боль казалась невыносимой. Эта боль сосредоточилась в нижней части живота, отдавала в поясницу. Рука коснулась опухшего лона, она приблизила ее к лицу и увидела: пальцы были испачканы кровью. Небольшое, полузасохшее кровавое пятно образовалось прямо под ней. Обида, жалость к себе вновь захлестнули душу. Что они сделали со мной? Неужто, их злоба и похоть не знала границ? Сама виновата. Зачем сюда пришла? Татьяна предупреждала меня – я не послушала. Если она покончила с собой – я тоже не буду жить.
Это решено! Надо взять себя в руки и уйти. Надо срочно отыскать Татьяну. Глаша кое-как слезла со срамного одра, босые ноги коснулись ледяного пола. Ее повело в сторону, сделала пару шагов – снова вырвало коричневой горячей слюной.
Она огляделась: все участники злополучной оргии спали, где попало. На одной из широких лавок лежали Лушка и Маруся. Запрокинув лохматые головы, и некрасиво разверзнув сонные рты, они выглядели настолько неприглядно, что мало чем отличались от ужасных фантомов из ночного кошмара. Полные руки Лукерьи свисали как плети, по двум сторонам лавки, к ладоням прилип мусор и серый пепел. Несвежая простынь прикрывала круглый живот; лобок, едва припорошенный редкими, белесыми волосами, казался отвратительным и жалким. Не краше была и Маруся… Катя спала в красном кресле, уткнувшись лицом в подлокотник, растрепанные волосы обнажали цепочку позвонков на выгнутой спине и темную полоску меж двух похудевших ягодиц. Игнат расположился на другой лавке, шерстяное одеяло, натянутое на голову, горбилось шершавым комом, из-под него торчали его волосатые, худые ноги с желтоватыми пластинами нестриженых ногтей.
Широкая кровать приютила еще двух персонажей: с одной стороны почивала обнаженная Мари; длинные светлые локоны беспорядочно разметались по подушке. В утреннем свете ее бледное тело смотрелось худым и опавшим. Помятое, спящее лицо походило на лицо покойницы. Что-то птичье проступало в чертах белокурой француженки. Заострившийся белый нос и крупные, словно растянутые постоянным развратом сизые губы, создавали это странное сходство.
Ближе к изголовью, на боку, скрючившись словно морская креветка, лежал обнаженный мужчина… Глаша не сразу узнала в нем знакомые черты. На минуту показалось – это совсем чужой, незнакомый, не близкий ей человек. Тело мужчины выглядело уныло: мертвящая бледность покрывала руки и ноги, плечи опали и странно сузились. Жалкий и сморщенный, похожий на безжизненный шнурок голубоватого оттенка, его детородный орган трусливо притулился в кудрявых зарослях сжатого паха. Конечно, это был Вольдемар! Ее ненаглядный кузен, ее жестокосердный любовник спал, окутанный наркотическим, ночным дурманом. Куда подевались дворянский лоск, сила, бравада и атлетическая красота знаменитого сердцееда? Гнусный порок, жажда похоти превратили это прекрасное тело в измученный призрак былого величия. По крайней мере, в это утро все выглядело именно так. «Господи, как они все омерзительны! Все они этой ночью трогали меня», – с отвращением подумала она и ее снова вырвало.
Пошатываясь, с трудом передвигая негнущиеся ноги, Глаша собирала разбросанную одежду. Слезы вновь подступили к горлу при виде разорванного белья и нижних юбок. Барежевое платье, с оторванным рукавом и сломанными крючками валялось под лавкой. Глаша кое-как натянула на себя разорванные вещи. Клок, к счастью, оказался не тронутым. Она подошла к выходу, рука толкнула почерневшую металлическую ручку – на удивление тяжелая дубовая дверь распахнулась почти без скрипа. «Кто-то из полуночников предусмотрительно открыл железный замок. Слава Богу, я могу уйти из этого Вертепа. Мне нужно срочно разыскать Татьяну», – думала Глаша, спускаясь по лестнице. Ей показалось, что Мари проснулась и проводила спешащую девушку мутным и рассеянным взглядом.
Входная дверь была закрыта, но ключ торчал в замочной скважине. Дрожащими от волнения руками, Глаша повернула тугой замок – дверь распахнулась, в сени прорвался свежий, холодный воздух. Изо рта пошел пар, обдало утренней, осенней сыростью. Но ей были не страшны, ни холодный воздух, ни пробирающий до костей, моросящий туман. Тело горело нервным огнем. Наконец-то она на свободе! Резкие порывы ветра вихрили редкие опавшие листья, большая часть пожелтевшей листвы плотным влажным ковром покрывала холодную землю. Примороженные круги узорчатого инея, образовавшиеся за ночь, запорошили этот огромный ковер. Вода в пруду окрасилась свинцовым цветом, ветер гнал зыбкую рябь, кидая к берегу мелкие волны. Откатываясь от гладких речных камней, они оставляли темные влажные круги на жестком, похожем на спекшуюся корку, желтоватом песке.
Глаша поспешила к усадьбе. Зубы стучали от напряжения. Несколько раз по дороге приходилось нагибаться над голыми кустами – ее немилосердно мутило. Подбежав к дому, она, на всякий случай, заглянула в свою комнату – комната была пуста. Глаша бросилась к девичьей, заглянула на кухню – Тани нигде не было. На кухне, напевая под нос тихую песню, широко расставив полные ноги, в пестрой цветастой юбке сидела Маланья и чистила медный таз.
– Малаша, ты не видела Таню? – тяжело дыша, спросила Глаша.
– Батюшки святы, вы чай, бежали от кого?
– Нет, Малаша, не бежала. Приболела я немного, – ответила Глафира, с трудом ворочая шершавым языком, и натягивая на глаза капор от плаща. Она старалась не поворачивать лицо к свету, чтобы Малаша не увидела следов прошедшей ночи. – Я Таню ищу… где она?
– Да, где же ей быть, рыжей каланче? Здесь, поди, где-нибудь околачивается, – шутливо ответила горничная. – Я не видала ее сегодня. Можа, спит ешо?
Глаша с жадностью выпила кружку кваса и пошла во двор – искать свою подругу. «Неужели, то видение было правдой? Неужели, Таня покончила с собой?» – страшные мысли путались в голове. Она обошла все хозяйственные постройки, заглянула в амбары и закуты – Тани нигде не было. Оставался лишь один заброшенный маленький домик, бывшая сторожка – легкая облупленная мазанка с покосившейся до земли крышей. Этот домик стоял недалеко от соснового бора. «Если, ее там нет, или она повесилась – я умру!»
– с отчаянием подумала Глафира. Едва отдышавшись, она распахнула дверь своей последней «надежды»… На грубо обструганной, потемневшей лавке, подложив под конопатую, бледную щеку острый худой локоть, накрывшись старым выцветшим салопом, спала ее несчастная «пропажа». От скрипа распахнутой двери, от холода, ворвавшегося в избушку, Таня приподняла маленькую голову, облаченную в черный с цветами платок. Увидев Глашу, она резко села, опустила подбородок, обветренные губы скривились от плача, зеленые глаза смаргивали крупные слезы.
– Таня, милая, как ты меня перепугала! Зачем ты, спряталась сюда? – Глаша бросилась к подруге, колени больно ударились об лавку.
А после были слезы, упреки, взаимная радость и снова слезы.
– Я, барыня, тут долго лежала и вот, что надумала, – с достоинством проговорила Татьяна.
– Таня, опомнись, как ты меня зовешь?! Какая я для тебя барыня?
– Не перебивайте меня, Глафира Сергеевна. Выслушайте, пожалуйста. Господь, верно, накажет меня за мои грехи. Не видать мне райского блаженства. А потому, как заслужила я кару такую. Еще более заслужила ее не за любовь свою греховную, а за то, что забыла: кто вы есть передо мной. Вы – барыня, я – холопка ваша. Разве холопке дозволительно перечить барской воле? Я вам в ножки кланяться должна только за то, что подпустили меня к себе так близко.
– Таня, не то ты говоришь. Перестань, мне мучительны эти речи. Это – я сумасбродная грешница, каяться должна перед тобой, что не послушала твоего совета, побежала за демоном в логово его ярыжное.
– Так, он тебя обидел, голубку мою? – гневно спросила Таня, вскочив на ноги. Старый салоп свалился на земляной пол. – Бес не пьет, не ест, а пакость деет!
– Таня, не пытай меня. Я все тебе после расскажу. Пойдем, в мою комнату скорее.
– Погодите минуту, Глафира Сергеевна. Я начала говорить, но не закончила. Много дум я за эту ноченьку мороковала, никогда прежде мне не было так тягостно. Все казалось: волки в стаю собрались и рвутся в избу, к горлу моему пасти приноравливают. Не дремалось никак, и вот, что я решила: не стану я больше связывать вас по рукам и ногам чувством своим греховным.
От блуда плотского сия тяга к вам во мне зародилась. Омрачение и на меня нашло. Кто с барином нашим общался хоть раз, бывал в лапах его, на оргии бесовской – тому никогда уж, праведным не стать. Похоть, как змеиный яд в жилы вошла. И меня сия доля пагубная не миновала.
– Таня, а я, по-твоему, святая? Я сама развратницей богомерзкой стала…
– Молчите, вы для меня – святая, такой и останетесь вовек. А только вот, что я скажу: если встретится вам человек хороший, добрый и соберетесь вы замуж за него – я первая этому рада буду. Уйду тогда сразу в монастырь, и буду в нем до конца дней жить и молиться за здоровье ваше и ваших деток. А любящих и бог любит.
– Таня, прекрати мне «выкать», и какое может быть замужество? Что, на тебя нашло? Мне сейчас даже мысли о супружестве противны. И с тобой я не расстанусь никогда, – с жаром ответила Глаша и тряхнула головой. Капор слетел с головы, обнажив растрепанные волосы, припухшие глаза и кровоподтек под разбитой губой.
– Глаша, это что?! Что он сделал с тобой?! – зеленые, распахнутые глазищи таращились на помятое лицо подруги. – Что за вред злорадный с тобой он сотворил?
– Танечка, пойдем скорее в дом. Я чуть живая. У меня всюду синяки и кровь, – проговорила Глаша и снова заплакала. – Он там был не один… Они накормили меня каким-то зельем, и у меня помутился разум. А пока я была не в себе, они надругались надо мной… Пойдем скорее, мне очень больно.
– Будь, он проклят! – в сердцах прокричала Татьяна.
– Не надо, Таня, не бери грех на душу. Его давно бог проклял.
Анна Федоровна, напуганная сватовством бравого майора Мельникова, отлично понимала, что ее плохо продуманный обман может с легкостью открыться. Миф о болезни Глафиры мог развенчать любой человек, живущий в поместье – девушка постоянно находилась на глазах у прислуги. А потому надо было спешить, как можно быстрее устроить ее судьбу и удалить подальше от дома Махневых. Она припомнила, что когда гостила у своей давней приятельницы мадам Расторгуевой, то видела пару раз, что к той в гости на чай захаживал дальний родственник, некий господин Рылов. Ее приятельница полушутя рассказывала, что его зовут Ефремом Евграфовичем, намекая на сложность произношения вычурного имени и нудный, порой невыносимый характер его носителя. Вспомнилось и то обстоятельство, что этот господин, ранее служивший в чине коллежского регистратора, недавно вышел в отставку, был небогат, холост и малопривлекателен. Рылов тогда еще пристально поглядывал на дам оценивающим взглядом, хмыкал и бормотал что-то под нос. Он казался очень странным господином, как будто немного «не в себе». Эти его «странности» не нравились дамам, они откровенно избегали его общества. Даже дворовые девки презрительно отзывались о нем и морщились от брезгливости, когда он с шумом сморкался в большой клетчатый носовой платок. Казалось, что Ефрем Евграфович простужен круглый год, о чем свидетельствовал его длинный, шмыгающий нос с красными от насморка ноздрями. Глаза его тоже вечно воспаленные, смотрели холодным, водянистым взглядом из-под опущенных кустистых бровей. Губы, тонкие словно нитка, кривились в полуулыбке, обнажая редкие коричневатые зубы. Эта вымученная улыбка была еще хуже, чем спокойное выражение непривлекательного лица. Его улыбка производила жалкое и вместе с тем гадливое ощущение. Волосы на голове выпали, на макушке красовалась, белая, округлая плешь. Единственное, чем господь не обделил Ефрема Евграфовича – это его необычайно высокий рост. Когда он разговаривал с мужчинами, то наклонял голову к собеседнику, с дамами и вовсе приходилось сгибаться в половину своего длинного, худого туловища. Да, он не выглядел привлекательно, к тому же был не богат, но зато холост, а значит – великолепно подходил на роль будущего мужа для ненавистной племянницы.
Надо ли говорить, что Анна Федоровна проявила несвойственную ей сноровку, деловитость, мастерство свахи и за неделю обстряпала предстоящее сватовство. Она не поленилась проехать по чуть примороженной осенней дороге к имению своей приятельницы, объяснилась с ней, встретилась с Ефремом Евграфовичем, который, не смотря на свой тридцативосьмилетний возраст, кажется, и не собирался жениться. Стоило огромных усилий, лести и хитроумных рассуждений, чтобы внушить незадачливому бывшему коллежскому регистратору, что он не только может стать новобрачным, но и сильно этого желает.
Словом, ровно через неделю принаряженный в новый, небрежно пошитый, долгополый фрак, Ефрем Евграфович, суетливо перебирая ходульными ногами, вошел в гостиную дома Махневых. Его представили Глафире Сергеевне. Глаша сделала книксен, приветствуя нового гостя, поздоровалась по-французски. Тетка вежливо, но холодно перебила ее.
– Глашенька, душенька моя, полно тебе церемонии разводить. Не смущайся и нашего дорогого гостя не смущай. Он человек простой, ему не до политесов. Говори по-русски, ангел мой.
– Да, да. Я попросил бы вас, Глафира Сергеевна без этих вот штук. Я человек деловой, смолоду люблю во всем порядок, однако излишнего чванства не потерплю. У меня и дома все по-простому. Я и жену свою желаю воспитать в должном почитании и трудолюбии, – важно проговорил Ефрем Евграфович. Лохматые брови сошлись на узкой переносице. Он засопел, зашмыгал носом и, вынув платок из фрачного кармана, трубно высморкался. – Прошу прощения…
Глаша, молча, кивнула в ответ. Надо ли говорить, что новоиспеченный жених произвел на нее гнетущее, почти омерзительное впечатление.
– Ефрем Евграфович, вот тут, вы не ошибетесь – Глашенька у нас известная мастерица… Она шьет великолепно и по дому присматривать умеет. Несмотря на происхождение, она не гнушается простой работы. И сготовить умеет, ежели понадобится. В ее руках всякая вещь порядок знает, – приторно улыбаясь, проворковала тетка.
– А вот это хорошо-с… Это я приветствую. Всякий труд похвален, – проговорил жених. Тонкие губы расплылись в улыбке, показывая темные, редкие зубы. Он поднялся и, заложив руки за спину, стал расхаживать по комнате. – Готовить у меня ненадобно-с, я кухарку держу. Хотя, могу и рассчитать, коли увижу, что жена смышлена и сноровиста. Потому, как в каждом хозяйстве копеечку беречь надо. Я человек экономный. Растрат не потерплю… И взяток брать не приучен – пирогами с казенной начиной[86] разговляться не привык. Меня и в службе все почитали, как человека аккуратного и кристальной честности. Мой начальник так и говорил: «На таких как вы, Рылов, наша канцелярия и держится». Я ведь первое время служил кассиром при нашей канцелярии. У меня завсегда порядок был во всех счетах и бумагах, и печати, где надобно-с проставлены. Потом меня назначили «чиновником для письменных занятий». И тут я снискал признание от строгого начальства. Я, по правде говоря, собираюсь снова на службу вернуться, как только спокоен буду, что дома меня жена поджидает с готовым обедом и прибранным хозяйством.
– Мы видим, Ефрем Евграфович, что вы человек положительный и всяческие похвалы заслуживаете, – заискивающе проговорила барыня. – Однако пейте чаек. Уже остыл.
– Премного благодарен. Я выпью. Смотрю: у вас тут кроме сахара, печенья всякие стоят, варенье и ватрушки…
– Ну, а как же? Все для дорогого гостя. Глашенька, поухаживай за Ефремом Евграфовичем.
– Спасибо, я сам. А только баловство все это…
– Что, помилуйте? – тетка удивленно посмотрела на гостя.
– А вот, эти излишества все. У меня в хозяйстве такого не водится. И не потому, что я скуп, как многие считают. Нет, я из принципа таких сластей не покупаю. У меня в доме и сахар-то лишь по праздникам на столе стоит. Убежден, что все сласти придумали люди ленивые и неблагочестивые. Практическому человеку милее жизнь аскезная. В труде наша радость добывается, а не в пряниках сладких. С пряником и дурак благостен будет. А ты попробуй без пряников блаженным быть…
Над столом зависла немая пауза. Во время которой, каждый думал о своем. Глаша сидела в полуобморочном состоянии, потупив глаза и, с усердием рассматривала плетеный узор на белой льняной скатерти – узор расплывался мутным пятном. «Боже, какой ужас! Что уготовила мне судьба? Меня уже тошнит от этого мерзкого господина. Неужто, я проживу с ним всю жизнь?» – думала она.
«Да уж, вот скаред-то какой… И сахар-то у него по праздникам. И пахнет от него дурно. Не переборщила, ли я? С таким-то мужем Глашка одичает», – думала тетка с оттенком небольшой тревоги. Но голос разума, воспоминание о провинностях племянницы немного успокоили ее: «Ничего, не умрет. Куда ей, бесприданнице идти? Я вон, всю жизнь вдовой прокуковала и не умерла. А это – какой-никакой, а муж».
Ефрем Евграфович думал о своем: «Хороша эта Глаша… Чай, завидовать мне начнут. А это ни к чему. Однако поживет у меня, пообтешется малость, к труду приучится, французский свой забудет. Да я и не разрешу ей на нем говорить, книжки тоже читать не дам, кроме Псалтыря. Глядишь, и получится из нее жена достойная. Жаль, что красива она, мне бы попроще… Хлопот бы меньше было. Интересно, а тетка-то деньжат даст за племянницей? Поди, не обеднеет?»
– А позвольте узнать, Глафира Сергеевна, что-то вы бледны и будто грустны? Я конечно, не Аполлон, и не богат, как князь или граф. Скажу даже более, хоть сие и очень обидно для меня. Таких как я, многие светские хлыщи и моты называют «человеком двадцатого числа»[87], имеющего «чин из четырнадцати овчин»[88]… Все так. – Ефрем Евграфович обиженно насупился и часто задышал. – Но человек я порядочный, и буду вам хорошим мужем.
Мне кажется, что вы более должны радости являть, так, как я вас беру в жены без приданного. Разве, мой поступок не о благородности душевной говорит?
– Она рада, Ефрем Евграфович, просто растерялась немного. Да, Глашенька?
– Madame, разрешите, я покину вас. У меня голова сильно разболелась, – Глаша порывисто встала.
– Иди, иди. Мы сами тут все обговорим. Нам многое обсудить надо. Детали свадьбы.
– Надеюсь, вы не собираетесь устраивать пышное торжество? – проскрипел гость. – Я полагаю… – тут он чихнул и снова принялся сморкаться.
Глаша не услышала его последних рассуждений. Она ушла, едва сдерживая себя, чтобы в сердцах не хлопнуть дверью.
Найдя в доме Татьяну, она тихонько поманила ее. Татьяна быстро поняла и, оставив работу, пришла в комнату к своей подруге.
– Таня! Это – какой-то морок! Ты, видела этого дурака в нелепом фраке?
– Долговязого, что к барыне пришел?
– Да, этого.
– Ну.
– Таня, он сватается ко мне! Его тетка где-то откопала.
– Ох, батюшки! Слышали вести – украли петуха с насести… Опять, хрен редьки – не слаще! Она точно спятила.
– Таня, он не просто противный, он мерзкий. Я не смогу с ним жить.
– Не шуми, Глашенька. После того, как ирод Махнев тебя измучил той ночью, ты сама поклялась, что при первой возможности, покинешь этот дом. Мало что ли, я раны тебе залечивала?
– Да, говорила, но я не хотела так, – И Глаша горько заплакала.
– Не плачь… Ты, главное, поставь условие, что замуж в чужой дом не пойдешь без своей горничной, а горничной при тебе я буду. Испроси тетку милость оказать и отпустить меня с тобой. Что я ей? У нее и без меня дворовых хватает. Отпустит, она вину свою чуять будет пред тобой. А ежели вдвоем будем, нам не страшно. Он по делам куда укатит, мы и наговоримся всласть, и поддерживать друг дружку будем. Глашенька, я за тебя убить могу. Если этот дурак будет обижать тебя, я отравлю его.
– Таня, ты с ума сошла… – прошептала Глаша, сквозь слезы разглядывая Татьяну.
– Сошла, Глаша. Я злая стала. Судьба ко мне доброй не была. Ныне творятся одне пакости, а добра-то малость. Отчего я всех жалеть должна? Выходи замуж за этого плешивого, а там, поглядим еще: кто верх возьмет. Ничего, родимая, догореваемся и до красных дней.
Через три дня начались приготовления к свадьбе. Владимир Иванович спокойно принял новость о замужестве Глафиры. Он только криво усмехался, когда мать рассказывала о новом женихе.
– Maman, до приезда в наш дом Глафиры Сергеевны я не наблюдал за вами подобного жестокосердия и взбалмошности. И долго же вы искали, прежде чем нашли такого избранника? Я не филантроп, но, и то поражен абсурдностью ваших поступков. То старец, рамоли[89] чуть живой, то это чудо-юдо канцелярское – Елистратишка[90], чинопер презренный… И где только вы их находите? Что плохого вам сделала несчастная сиротка? – иронично проговорил он. – Или в вас женская зависть говорит?
– Замолчи, замолчи! Я не желаю обсуждать с тобой свои поступки. Ты, забываешься! Я мать тебе, и не тебе – яйцу, курицу учить, – она притопнула от негодования, худое лицо покраснело от злости.
Приготовления к свадьбе были недолгими. Как и ожидалось, жених не пожелал тратиться на красивый наряд для невесты. Он вел себя так, словно боялся, что его могут обмануть. Красные глаза озабоченно посматривали по сторонам, брови хмурились, он что-то беспрестанно бормотал себе под нос, сморкался и делал записи в блокноте, подсчитывая потраченные рубли. Обрадовался он лишь тогда, когда тетка пообещала дать за племянницей триста рублей приданного. Не густо, но с этого момента глаза его повеселели. Он стал все чаще улыбаться, чем доводил Глафиру до нервного припадка.
– Таня, как гнусна его улыбка… Ему сказал бы кто, чтоб он глядел серьезно.
– Да кто же скажет? Умный к нему не подойдет, а дураку – и так сойдет… Не тревожь, ты, себя понапрасну. Говорю: дай срок и этот сгинет.
– Куда он сгинет, он же не стар еще?
– Удавлю его втихую, если обидит тебя, – злобно шептала Татьяна.
Глаше становилось муторно и страшно. Она понимала, что своим поведением может довести подругу до каторги. «Не надо мне Татьяну подстрекать своими жалобами. Она отчаянная – натворит еще беды. Пусть все идет, как идет. Я давно у Махневых стала куклой тряпичной. Хотели – насиловали, теперь – с рук сбагривают. А этот «растлитель» ходит и виду не подает, что издевался надо мной в бане со своими потаскухами. Посмотришь на него – благороден и чист, словно херувим. Никто же не видал его кривляния от опиумного дурмана. Как, худо мне… Уеду из поместья замуж – и никогда его не увижу… Как, я буду жить, не видя его?» – думала Глаша.
В ночь перед свадьбой ей приснился кошмар: залитая лунным светом снежная долина; тихо и пустынно; только снег скрипит под ногами. Вдалеке стоит церковь, купола серебрятся от сияния огромной белой луны… Тройка с бубенцами ждет у ворот. На Глаше длинное белое платье, фата, меховая шубка накинута на плечи. Она видит восхищенные взгляды дворовых, родственников, Владимир смотрит из толпы с немым укором. Руки тянутся к нему, губы шепчут его имя. Вдруг, из толпы выскакивает Татьяна и, напевая венчальную песню, хохоча и целуя Глашу в теплые щеки, поспешно ведет ее к карете. Захлопнулась дверка кареты, и тройка мчится к церкви. Чей-то голос над ухом вещает о том, что по дороге надобно заехать за женихом. Тройка сворачивает со снежной, утоптанной колеи и едет в сторону деревенского погоста. Лошади вязнут в высоком снегу; из горячих ноздрей идет пар; она слышит их загнанное дыхание. «Зачем, мы едем туда?» – спрашивает, удивленная Глаша. «Как, зачем? Не зачем, а за кем. А едем мы к погосту за женихом вашим – Звонаревым Николаем Фомичем», – отвечают ей. «Он же умер!» – силится сказать Глафира, но голос изменяет ей. Из горла слышен только шепот. И вот они подъехали к кладбищу. Глаша вышла из кареты, огляделась – вокруг одни кресты темнеют над могильными холмами, отбрасывая длинные тени на залитое лунным светом, белое поле. Снег мягким ковром окутал каждую могилу. Вокруг немая тишина и холод пробирает до костей. «Как должно быть холодно Николаю Фомичу лежать здесь под снегом», – думает тревожно Глаша. Тут взгляд уходит сквозь толщу снега и мерзлую черную землю. Она видит деревянный тесный гроб и маленького Николая Фомича со сложенными на груди ручками. Он напоминает ей спящего ребенка. Глаша начинает плакать от жалости к нему: «Это я виновна в его смерти… Я сильно хотела, чтобы он умер, вот он и умер. Я грешница великая».
Вдруг, покойник открывает глаза и смотрит на нее нежно и лукаво. Но Глаша понимает – ему хочется казаться живым, а он, на самом деле, бесповоротно и давно мертв. Она отводит взгляд от тусклых, подернутых потусторонним светом, холодных, страшных глаз. «Николай Фомич, довольно вам почивать. Собирайтесь-ка на Венчание. Вон, и лошади вас заждались», – бодро звучит голос невидимого распорядителя. И тут могила с легкостью распахнулась, холодная земля, окутанная снежным саваном, разверзлась – будто пуховое одеяло слетело с кровати. Гроб с шумом поднялся на поверхность.
Деревянная крышка гулко откинулась и съехала на снег рядом с могильным холмом. Николай Фомич бодро выскочил из тесного пристанища; короткие ножки, обутые в маленькие черные ботиночки, картонно потоптались на ровном снегу; ручки расправились; и он молодецки шагнул к Глаше. Рука, облаченная в зеленый сюртук, свернулась кольцом, приглашая невесту взять его под руку. Она осторожно протянула ладонь и ощутила жесткость деревяшки вместо живой и теплой руки. Как завороженная, Глаша пошла с ним в карету, села; лошади пустились мягкой трусцой, цокая копытами и звякая бубенцами. Жених ехал молча, робко поглядывая на нее. Она же воротила от него лицо в недоумении, что едет на Венчание… с мертвецом. Мертвец не желал, чтобы о нем плохо думали, и старался держаться молодцом. Он принялся озабоченно покрякивать и медленно поворачивал лицо, пытаясь заглянуть в Глашины глаза. Она упорно отворачивалась, делая вид, что смотрит в окно. Николай Фомич лез на нее всем корпусом, назойливо ловил ее взгляд. Руки ощущали влажный холод жесткого зеленого сюртука. Она попыталась отстраниться, отодвинуть это холодное тело, под ладонями оказалась странная мягкость: за сюртуком никого не было… То была одна тканевая шерстяная оболочка… Наконец, покойник добился своего: Глаша закричала в ужасе – на нее смотрели впалые глазницы с мертвыми, словно затянутые бельмом, зрачками. Распахнулась дверь, и мертвец выпал с грохотом на дорогу. Лошади пошли галопом, унося ее все ближе к церкви, подальше от зловещего погоста.
Глаша проснулась – было холодно и страшно – прочитала молитву и снова погрузилась в сон. Теперь виделось, что она уже стоит в самой церкви, возле аналоя с крестом и Святым Евангелием, дымят кадила – идет Венчание. Рядом с ней Ефрем Евграфович. Батюшка, приблизив венцы, нараспев произносит священные слова: «Венчается раб божий Ефрем рабе божьей Глафире…» Слова батюшки прерываются громким шумом. Но это не просто шум – это трубное сморкание Ефрема Евграфовича… Вдруг, из глубины храма доносится знакомый смех. К аналою решительной походкой приближается Владимир. Он отталкивает жениха и становится на его место. Глаша задыхается от немыслимого счастья. Владимир же смотрит на нее ласковым взором и, отбросив все приличия и христианские законы, начинает прилюдно целовать невесту. Страстный поцелуй длится безумно долго, сильные руки, не стесняясь, шарят по талии, спускаются ниже – и вот Глаша чувствует, что к своему ужасу и великому стыду, она лежит вся обнаженная перед аналоем, охваченная пламенем похоти. Вдалеке звучат гневные голоса родственников и знакомых. А батюшка грозит крестом и обещает придать анафеме бессовестных прелюбодеев.
Глава 20
Страшный сон прошел, наступило горькое пробуждение. Несмотря на отсутствие призраков, явь казалась такой же тягостной, как и ночной кошмар. Стоял ноябрьский хмурый день; снег выпадал и тут же таял в дорожной грязи; серое небо висело низко над землей. Гостей было немного: несколько человек со стороны жениха – престарелая полная тетушка, похожая на простую крестьянку в темном козьем платке; два невзрачных господина с бывшей службы Ефрема Евграфовича в серых, одинаковых пальто и черных шляпах; толстый, розовощекий господин с усами и в пенсне; мадам Расторгуева, разнаряженая, словно новогодняя елка – в причудливой розовой шляпе, с большими загнутыми полями и страусиным пером, три ряда жемчужных бус плотно облегали полную шею, атласный плащ с вышитыми синими цветами, отороченный серым каракулем, накинутый на плечи, плохо прикрывал затянутый лиф розового с фижмами платья, из лифа выступал огромный, припудренный бюст; было еще два незнакомых Глаше, пожилых господина; и две женщины, смахивающие на купчих – яркостью и простотой своих нарядов.
Анна Федоровна вышла к гостям в крытой шубке, отороченной соболем и элегантной меховой шляпке. Лицо барыни выражало собой строгость и уверенность в действиях. Вольдемар, вначале отказавшийся присутствовать на церемонии, в последний момент решился все-таки поехать на Венчание.
Он вышел во двор наспех одетый, заспанный, с небритым лицом. Прислуга и дворовые люди тоже пришли проводить невесту.
И что же Глаша? Как выглядела она в день, который является предметом ожиданий любой молодой девушки, день, который виделся в мечтах, снился во сне? Не смотря на то, что жених оказался скупым, не смотря на то, что тетка не любила ее, не смотря на то, что будущий брак не сулил ни счастья, ни любви, Глафира Сергеевна выглядела великолепно и свежо, как и большинство невест. Когда она, ступая узкими ступнями, облаченными в изящные светлые туфли, вышла на крыльцо – все ахнули от восхищения. Белое, невычурное, а скорее скромное шелковое платье на кринолине, охваченное по талии узким корсетом сидело на ней просто изумительно. Пышный матовый бюст прикрывала вставка из тонкого кружева, сбоку на лифе красовалась одинокая, но чертовски элегантная бледная роза. Еще три розочки были приколоты к венку на голове. Русые локоны, спускающиеся крупными завитками, прикрывала тонкая фата. Нежный фиалковый взгляд, под сенью длинных, опущенных ресниц казался кротким и немного бессмысленным.
Несколько минутами ранее, когда Татьяна помогла ей одеться и глянула на свою подругу в подвенечном наряде, она также громко ахнула.
– Радость моя, Глашенька, как ты хороша! Разве тебе такого жениха-то надобно? – она заплакала, качая головой, нараспев повторяя слова. – Эх, горе горькое по горям ходило, горем вороты припирало. Загубили, ироды проклятые, красоту твою. Загубили… Цветик мой… Да, за что же злоба-то людская тебе на голову-то свалилась? За что? Ты, же, как королевишна. И этот барчук Махневский, пущай теперь полюбуется, да локти покусает, что не ценил красоты такой.
– Полно, тебе, Танечка… Спасибо, за добрые слова. Опять скажу, что ближе тебя у меня нет никого на свете. Что поделаешь, видать, судьба такая – за нелюбимого идти. А Владимира красотой и сердцем любящим не удивишь. Что ж. Исполню им последний фарс для радости их алчущих сердец. Не плачь, Таня, прокачусь я до церкви на тройке с бубенцами. Ты меня не теряй. Сразу после свадьбы заеду за тобой. Пускай убьют, но без тебя я никуда.
– Иди, перекрещу тебя, – сказала Таня, едва справляясь со слезами.
Худенькая рука трижды осенила Глашу крестом, мокрые соленые губы коснулись нежной щеки. – Ну, иди, с Богом. Не грусти. Я буду молиться за тебя.
Восторженные взгляды провожали Глафиру до самой кареты. Дворовые тихонько шептались, осуждая барыню, за невзрачного жениха. То и дело слышались слова: «Погубили красоту, не пара ей этот плешивый…»
В карете Глаша молчала, она старалась сдерживать слезы, и потому нарочно таращилась на пустой пейзаж за холодным окном. Напротив – сидели кузен и Анна Федоровна. Тетка тоже молчала, натянуто улыбаясь, худые руки то нервно теребили носовой платок, то поправляли волосы, упрятывая под шапочку, выбившиеся седые завитки, то щелкали серебряной застежкой бархатного, в атласных рюшах ридикюля. Вольдемар, наоборот, казался совершенно спокойным: изящные руки были скрещены на груди; холодные глаза с вызовом и любопытством рассматривали невесту; усмешка скользила по бледным губам. А после он принялся зевать, слезы выступили на чуть припухших от сна глазах.
– Вольдемар, ты не выспался? – спросила его мать. Вопрос был праздный, без интереса. Прозвучал он лишь потому, что молчание в карете стало каким-то неуютным. – На что тебе ночь была дана?
– О, Maman, кабы вы знали, на что мне ночи даны – вы бы сильно удивились… – он громко расхохотался, глядя на Глашу. – Сие – тайна за семью печатями.
– Не говори глупостей, шаматон[91], знаем мы твои мистификации, – с нервной улыбкой ответила Анна Федоровна, – пил, поди, с друзьями до полуночи или в карты играл. Вот погоди, женю тебя – вмиг все баловство холостяцкое позабудешь. Правда, Глашенька? Мне кажется, что Владимира давно женить пора. Вот, сейчас сыграем твою свадьбу, а потом и за него примемся…
Глаша не проронила ни слова, только сухо кивнула в ответ.
У церкви их ждал жених. Владимир, увидя его, вызывающе прыснул в кулак.
И тут же на него зашикала мать, делая страшные глаза и пытаясь придать важность всей церемонии.
Что было дальше – Глаша помнила плохо, потому что с этого момента чья-то добрая, видимо ангельская рука, отключила в ней все эмоции и ощущения.
Не было ни печали, ни страдания. В этот момент она и вправду почувствовала себя бездушной куклой, двигающейся по воле кукловода. И это было хорошо. Иначе – она бы не вынесла, иначе – упала в обморок, иначе слезам и горю – не было бы конца и края. А может, в эти минуты ее спасала молитва верной подруги? Нескладная, худенькая Татьяна молилась за сироту так же истово, как могла молить лишь родная мать.
Перед глазами, как во сне, пылали свечи, дымили кадила, пел свадебный хор. Батюшка читал торжественную молитву и возлагал венцы на новобрачных. Глаша старалась не смотреть на жениха. Она смотрела либо сквозь него, либо мимо…
Когда новобрачные и гости спускались со ступеней церкви, кто-то окликнул Анну Федоровну и легонько потянул за рукав. Она порывисто оглянулась и увидела, что на ступеньках стоял штабс-капитан Егоров. Он был без шляпы, ветер трепал тонкие седые волосы, лицо выражало жестокую обиду и неприкрытую злость.
– Сударыня, я вижу, что не племянница ваша больна, а вы больны немилосердно! Не знаю только названия этой страшной болезни. Она похуже чахотки будет, хуже чумы бубонной. Вы, Анна Федоровна, душевно больны… – проговорил Егоров, глядя горящими от гнева глазами.
– Я не желаю с вами разговаривать в подобном тоне, милостивый государь. У нас все «лажено и гляжено» давно, без вашего на то участия, – барыня повела плечом и освободила рукав от цепкой хватки Егорова. – Прошу вас, оставьте меня! У меня нет желания слушать ваши несносные глупости.
– Ах, глупости?! Глупостью было надеяться на ваше благоразумие и порядочность… Знал бы я заранее о низости ваших намерений относительно Глафиры Сергеевны, я бы точно воодушевил Сергея Юрьевича на ее тайное похищение. Эх, и что только делается на белом свете! Разве бы плохой они парой были: мой Сережа и Глаша? Как, как вы могли поступить так подло? – с горечью проговорил Тихон Ильич, – знайте же, коварнейшая из женщин, вам дорого обойдется сей обман и гнусные интриги! За душу загубленную вами и сынком вашим ответ праведный будете держать, если не на этом свете, так на другом! Господь! – длинный, худой палец указал на небо, – он взыщет с вас за все грехи!
«Пошел к черту, старый дурак»! – подумала Анна Федоровна. Она сделала каменное лицо и надменно отвернулась от назойливого штабс-капитана. Тот горестно вздохнул и, что-то бормоча под нос, и отчаянно жестикулируя, пошел прочь от церкви.
Свадебный обед состоялся в доме Махневых. В зале накрыли большой овальный стол. На столе стояла различная закуска: Анна Федоровна не поскупилась на обед – хотелось произвести впечатление на гостей, особенно на мадам Расторгуеву, часть денег добавил жених. На столе красовались румяные поросята, громадный, фаршированный орехами, осетр, нежнорозовая малосольная форель, жареные рябчики, множество закусок и вин, шампанское и даже ананас с персиками.
Глаша почти ничего не ела, она отщипывала рукой кусочек пирога, мяла его в руках и опять оставляла на столе. Жених, наоборот, ел с большим аппетитом, забыв на время о своей аскезе и умеренности в еде. Глаша считала минуты, мечтая о том, чтобы свадебный обед закончился как можно быстрее. После нескольких тостов за здоровье молодых, Владимир, сидевший на другом конце стола, прямо напротив жениха и невесты и, изрядно принявший на грудь, стал вызывающе смотреть на Глашу. Потом он встал, наполнил бокал розоватым игристым вином, его губы кривились от ироничных усмешек.
– Господа, мне кажется, что давно уже всем горько…Горько!!! Горько!!!
Гости, радостно поглядывая друг на друга маслеными, от хорошей, сытной еды и отличного вина глазами, закивали и хором подтвердили, что, действительно, давно уже всем «Горько»… Какое это было мучение для Глаши! Хотелось, чтобы все эти жующие, набитые едой рты, онемели и захлопнулись навеки, чтобы они не могли развести в стороны измазанные жиром, губы. Чтобы они не кричали, а навек позабыли об этом сакральном слове – «Горько». Ей приходилось подниматься и подставлять щеку под холодные губы Ефрема Евграфовича. Его нескладная фигура склонялась к ее лицу, неуклюже оттопыривался тощий зад, тонкие губы вытягивались в сизую трубочку, один глаз прикрывался, как у филина, он звучно чмокал ее щеку. От него пахло мясом и чесночной закуской. Глашу мутило, как после той памятной ночи, когда Владимир отравил ее опиумом. Ее рука украдкой вытирала салфеткой мокрый след от тошнотворного поцелуя.
Ее жестокий любовник не унимался и кричал «Горько!» чаще, чем это требовалось. Глаша старалась не смотреть в его холодные глаза и вела себя как бесчувственная кукла, чем вызывала в нем желание сделать ей еще больнее. Когда его слишком частые крики вызвали недоумение даже у изрядно подвыпивших гостей, мать подошла к нему и что-то горячо зашептала на ухо, приглашая его выйти из-за стола и пройти в другую комнату.
– Вольдемар, ты ведешь себя несносно! Заканчивай свое фиглярство и соблюдай конвенансы[92]! Гостям ненадобно видеть твое пристрастное расположение к кузине. Ты хочешь, чтобы весь уезд на следующий день гудел о том, что Махнев вел себя неприлично на свадебном обеде? О нас и так говорят, бог знает что, – проговорила барыня, оказавшись с ним наедине, – вон, у церкви меня оскорблял этот шут гороховый – Егоров. С меня достаточно и этих волнений. А тут еще ты разошелся…
– Маплап, мне плевать на все сплетни и пересуды ваших идиотов гостей. Пусть, пьют, жрут и проваливают восвояси. Все эти свиные рыла не стоят моего мизинца. Я – здесь хозяин! Захочу – и вовсе прогоню всех со двора и жениха Глашкиного тоже!
– Володенька, сынок, ты пьян. Угомонись, не позорь мои седины. На что она тебе, Глафира? Разве мало дам, что сходят по тебе с ума? Пускай, уедет подальше от нашего дома. Не могу я…, не сумела ее полюбить. Не желаю жить с ней под одной крышей. Пожалей, ты меня…
– Пожалеть вас? – он расхохотался, – Maman, не стройте из себя невинную овечку. Вы – волчица в овечьей шкуре. Поздравляю, вам удалось сгубить жизнь сироты несчастной!
– Замолчи, паяц, мальчишка! Не тебе меня судить! Проваливай отсюда до утра. Иди, проспись. Смотри-ка, жалостливый нашелся! Любовница она твоя – этим все и сказано! Обойдешься, других себе найдешь!
После этого разговора Владимир, накинув пальто, ушел из дома: пьяные ноги вели его к любимому пристанищу – бане. Там его поджидали Игнат и Мари.
Что до Глаши, то она, едва дождалась окончания ненавистного торжества: в ушах еще долго слышался звон бокалов, чавканье, пьяный смех гостей – громче всех хохотала мадам Расторгуева, театрально распахивая круглые, подведенные глаза и, округляя красный, испачканный пирожным рот. За Расторгуевой ухаживал толстый господин в пенсне – она же бурно реагировала на его глупые, пошлые анекдоты, всячески поощряла его и откровенно кокетничала. Два одинаковых господина с бывшей службы Ефрема Евграфовича напились и спали прямо за столом, склонив маленькие, плешивые головы над своими тарелками, заваленными огрызками яблок, объедками и косточками от персиков. Тетка жениха, походившая на простую крестьянку, несколько раз за время свадьбы пустила слезу, а после, подперев красную щеку крупным кулаком, тихо напевала под нос заунывную малоросскую песню. Все остальные гости тоже веселились, кто как мог.
К вечеру все разъехались. Подали карету для жениха и невесты. Глаша, молча, оделась и пошла к выходу. На пороге стоял ее чемодан и связка с книгами. «Как скоро они собрали все мои вещи. Наверное, Петровна постаралась. А может, Таня не дала ей копошиться в моем белье», – грустно рассуждала Глаша. – «А где же он? Неужели, не выйдет меня проводить? Господи, о чем это я? Он, наверное, давно веселится… Ему не до меня».
Она остановилась и решительно подошла к тетке.
– Мадам, я хотела поблагодарить вас за приют и милость, которую вы мне оказали, – холодно произнесла Глафира. – Я никогда не забуду вашей доброты, а также времени, которое я провела в этом доме. Единственное, о чем хотела вас просить, так это – проявить напоследок доброту ко мне и разрешить Татьяне, моей верной подруге уехать вместе со мной. Она будет мне помощницей в делах и горничной.
– Глафира Сергеевна, ну что еще за вольности? Неужто вы без горничной не справитесь? Я по балам не езжу-с. А потому корсеты и кринолины вам будут без надобности, а значит и горничные не нужны-с, – встрял Ефрем Евграфович.
– Моя Татьяна будет помогать по дому, и прислуживать – не за деньги, а только за еду. Она вам, Ефрем Евграфович, ничего стоить не будет. От нее будет лишь польза, а не убыток, – решительно проговорила Глаша, но голос заметно дрожал от волнения.
– Конечно, конечно, Глашенька, я разрешаю Татьяне Плотниковой покинуть наше имение и жить с тобой. Возможно, я даже «вольную» впоследствии оформлю. Пускай, едет с тобой, раз вы так дружны, – тонкие губы разошлись в натянутой, сухой улыбке, – Ефрем Евграфович, покорнейше прошу вас согласиться. Таня – у нас девушка проворная. От нее в вашем хозяйстве одна польза будет.
– Ну, хорошо-с. О прибыли и убытках я сам, как хозяин буду судить. Пускай, завтра приезжает. А там – посмотрим.
– Прощайте, тетя, спасибо вам за Таню, – проговорила Глаша и покинула дом Махневых.
– Экая, гордячка, хоть бы руку тетушке поцеловала, поплакала бы на прощанье, – проговорила Петровна, вышедшая, как медведица из-за портьеры, когда за Глафирой захлопнулась дверь.
Барыня не произнесла ни слова, и ушла в свою комнату.
Несколько верст, проехала дорожная карета по чуть подмороженной дороге, пока не приехала к дому Ефрема Евграфовича. Это был одноэтажный, деревянный, некрашеный дом с маленьким флигелем. От него веяло какой-то сыростью и беспробудной скукой. Глаша сразу же вспомнила свой сон про погост. Примерно такую же тоску она испытывала теперь наяву, когда шагнула на порог этого холодного дома.
Ефрем Евграфович зажег несколько свечей.
– Так, как вы, Глафира Сергеевна, здесь впервые и вам, как моей жене и хозяйке надобно-с осмотреться, я зажег несколько свечей. А вообще у меня вечерами зажигается одна свеча в гостиной и то лишь до восьми часов. А потом я гашу ее, и спать ложусь. Вам тоже не следует лишний раз свечки жечь. Разве, что из крайности, какой – по нужде во двор, например, сходить. Да и то, как освоитесь – и без свечи дорогу найдете. Свечи – нынче дороги стали-с.
Внутри дома все было серо и неприглядно: на окнах висели старые, побитые молью, занавески горохового цвета; горшки чахлой герани стояли на узких, темных от въевшейся пыли, подоконниках; круглый стол и несколько старых стульев стояли посередине небольшой гостиной; в углу горбился выступающими боками потертый плюшевый диван. Глаша не нашла глазами ни одной полки или этажерки с книгами.
– Вот еще что хотел вам сказать-с… Вы, Глафира Сергеевна, платье-то свадебное снимите. Я за него много-с денег заплатил. А не то испачкаете. А у меня были намерения его продать потом на рынке, чтобы не остаться, так сказать, в накладе. Оно маркое сильно, и согласитесь – после церемонии совсем вам ненужное. Одного опасаюсь – покупатель бы нашелся… Уж больно узко платье в поясе… Ну да ладно, авось и найдется покупатель. Сдам его в лавку к портнихе. Она, глядишь, и подберет.
Глаша кивнула.
– Где у вас можно переодеться, Ефрем Евграфович?
– А вот, пожалуйте-с в спальню нашу. Там шкап стоит. Переодевайтесь-ка ко сну. Поздно уже. Спать надобно-с.
Глаша с трудом расшнуровала корсет и, стянув с себя подвенечное платье, с жалостью повесила его на спинку стула. Потом она принялась медленно снимать нижние юбки, чулки, раскалывать шпильки. Рядом что-то шоркнуло. Был полумрак, но глаза освоившись в темноте, увидели, что из-за портьеры выскользнула чья-то рука и по-хозяйски забрала со стула подвенечное платье.
«Господи, неужели это все происходит именно со мной? Какая, смешная судьба… За что мне такое наказание? Как я лягу рядом с этим чудовищем? В нем нет ни одной привлекательной черты: ни в лице, ни в характере. А он, поди, еще будет приставать?» – рассеянно думала Глаша, – «Господи, все несчастья, что обрушились последнее время на мою голову, совсем лишили меня разума. Я же – не девственница! А если этот болван обнаружит сие обстоятельство, и выгонит меня с позором на улицу? Тогда что? Зима уже на дворе… А впрочем, мне – все равно… Будь – что будет. Неизвестно, что хуже: замерзнуть на улице, или жить с этим Елистратишкой скаредным. И главное: как Таня-то могла забыть? Сама мне раньше рассказывала, как можно мужа обмануть, подлив на новобрачную постель петушиной крови. Тут такая тьма, что этот дурень бы ничего не заподозрил. И где теперь я эту кровь возьму?
Петуха что ли, пойти зарезать? А может, лучше Ефрема Евграфовича сразу зарезать? И петух невинный не пострадает… Господи, о чем только я думаю?»
– Глафира Сергеевна, вы легли уже? – прервал течение ее мыслей скрипучий голос мужа, – Там возле кровати таз с водой стоит, вы умывайтесь и ложитесь. Я скоро приду.
Сделав все необходимое и облачившись в тонкую ночную рубашку, Глаша приблизилась к кровати: руки почувствовали холод и сырость простыней.
Она легла, перевернулась на бок, в нос ударил въевшийся запах плесени и застарелого табачного дыма. С тоскою вспомнилась сухая, душистая, пахнущая лавандой и розовым маслом, постель в Махневском доме. Все познается в сравнении. Тогда хотелось – как можно скорее уехать из сиротской комнаты, теперь – она многое бы отдала, чтобы вернуться назад, на ту неширокую кровать, где недолго, но так погибельно сладко она была любима Вольдемаром. На ту кровать, где потом ее ласкали жаркие руки Татьяны. Она почувствовала, что уже скучает по своей подруге. «Он сказал, что завтра разрешит ей приехать. Но где она будет спать? В другой комнате? Я буду к ней убегать по ночам», – взволновано думала Глаша.
В темноте послышались шаркающие шаги и смущенный кашель.
– Можно-с? Вы легли?
– Да.
В проеме показалась высокая, словно каланча, фигура, облаченная в широкую ночную рубаху и колпак. В руках Ефрема Евграфовича горела свеча, ее пламя отбрасывало длинные уродливые тени. Глаша зажмурила глаза, чтобы не видеть этого нелепого, чужого и отвратительного человека. Он сел на кровать и положил тяжелую ладонь на ее ногу.
– Глафира Сергеевна, я уже не молод. И мне ненадобны все эти финтифлюшки, коими любят услаждать себя глупые и праздные людишки, что ездят в каретах, помадятся, носят белые панталоны и высматривают барышень в театрах. Я презираю таких, кто бездумно тратит средства своих родителей. А есть среди них и те, кто входят в растрату и проматывают государственные деньги – лишь бы коснуться аппетитной ручки какой-нибудь взбалмошной светской бабенки или сдуру бросить к ее ногам целую оранжерею цветов. Мне такие поступки неведомы и до глубины души противны. Как вы, наверное, успели заметить, я – не дамский угодник. А потому, поцелуйчиками и ласками вас одаривать, не намерен. Поцелуй еще заслужить надобно-с… Вы хоть и сирота, а девушка балованная – дворянских кровей. Видел я, как вы нос морщите, коли вам что-то не по нраву. Думаю, однако, что со временем это пройдет. Спать вы будете отдельно, я комнату потом покажу.
«Господи, какое счастье…» – летуче подумала Глаша.
– Я буду изредка вас навещать в надежде, что вы сможете зачать мне наследника. Других причин не вижу, для совместного времяпровождения в одной постели… Я полагаю: предназначение жены в том – чтобы помогать мужу во всех его делах, не перечить ему ни в чем и производить на свет потомство. А иначе и вовсе не было бы надобности для женитьбы.
После этих слов он лег рядом с ней. Нависла тишина. Глаша лежала молча и ждала, что будет дальше. Он привалился длинным, жестким телом; холодная ладонь погладила ее живот поверх нательной рубашки, поднялась выше; жесткие пальцы больно сжали грудь.
– Из вас, Глаша вышла бы отменная кормилица… Груди полны, и выкормят много детей. Вы верно много и с аппетитом кушаете, раз такие телеса холеные сумели взрастить. Поднимите ка рубашку повыше, я вас еще пощупаю.
– Ефрем Евграфович, вы не находите, что я не корова и не лошадь, чтобы меня щупать на наличие вымени, – обиженно произнесла Глаша.
– Помилуйте-с, а чем вам плоха корова? Славное животное, на мой взгляд.
Через пару минут его дыхание участилось. Он встал на колени меж ее раздвинутых ног. Глаша увидела, что он быстро-быстро заработал правой рукой… «Он, верно, приводит в готовность свой член…» – догадалась она. Послышалась возня, вздохи неудовольствия и едва заметное чертыханье.
– А ну-ка, подержите его своей ручкой. Я думаю, он воспрянет от ваших поглаживаний.
Глаша протянула руку, пальцы нащупали в темноте что-то маленькое и мягкое. «И это его фаллос?!» – мелькнуло в голове.
– Двигайте сильнее, так, так. Оооо, как славно… – прохрипел он.
Глаша дергала вялый пенис, он ненадолго твердел в ее руках – становились ощутимы истинные размеры детородного органа Ефрема Евграфовича… К сожалению, а может и к счастью (потому, что она не любила его), размер этого органа был более чем скромным. «Надо же, этот болван такой высокий и важный, а между ног у него сидит махонький мягкий воробышек. Я бы пожалела его, если бы он не был так спесив и глуп», – думала она. Как только замедлялось движение ее руки, пенис безжизненно падал, доставляя неудовольствие его владельцу.
– Раздвиньте пошире ноги, я попробую войти, – нервно приказал он.
Она подчинилась. Муж навалился всей тяжестью, долго кряхтел, пытаясь протолкнуть вялый отросток в нужном направлении. Все его попытки не увенчались никаким видимым успехом. Вдруг, она почувствовала, что он как-то напрягся и задрожал возле ее распахнутого бедра. Теплая жидкость пролилась на Глашину ногу, испачкав сорочку и простынь. Одновременно с этим, шея почувствовала мокрую струю, выпущенную изо рта мужа. Тяжелая голова лежала на ее плече и пускала от удовольствия вязкие, кислые слюни. В лицо пахнуло полупереварившимся в желудке мясом с чесноком, перегаром и запахом дешевого табака. «Какое же счастье, что он не любит поцелуи», – с омерзением подумала она и, выгнув шею, брезгливо вытерлась о край подушки.
Муж полежал какое-то время на боку, потом перевернулся на спину и многозначительно произнес.
– Надо было меньше кушать за обедом. Я, право, себя не узнаю…
– Не переживайте, Ефрем Евграфович, в следующий раз непременно получится, – сочувственно произнесла Глафира.
– Милочка, вы не правильно меня поняли. Я в общем-то не переживаю, так как знаю, что у меня по дамской части никогда осечек не случалось. Со мной такой казус впервые произошел. Возможно, здесь какая-то и ваша вина имеется. Я не утверждаю сие, но полагаю так…Словом, я удовлетворял многих женщин – и все они были вполне довольны.
– Они все от вас рожали?
– Нет-с, то есть… что вы имеете ввиду?
– А то, что вы мне говорили несколько ранее. Что с женщиной в постели надобно сходиться лишь для продолжения рода, – не без ехидства ответила Глафира.
– Вы полагаете, что поймали меня на лжи? – надменно произнес он.
– Я ничего не полагаю. Позвольте, я хочу уснуть.
– А я полагаю, что вы дерзки! И хорошо, что это наша первая ночь, иначе – я вас бы наказал, чтобы было неповадно дерзить своему мужу. Еще раз повторю: я силен как мужчина, а потому способен производить здоровое потомство.
Но Глаша почти не слушала его, сон одолевал ее русую голову. Ей приснился во сне теплый котенок, который мурлыкая, жался к ее рукам и ногам. А потом его усатая и полосатая мордочка оказалась меж ее раздвинутых ног, шершавый язычок дерзко и настойчиво коснулся нежного лона. «Киска, что ты, делаешь?» – сладко потянувшись, спросила Глаша. Но киска молча, продолжал ласкать Глашин распахнутый пирожок, пока тело не содрогнулось от сильного оргазма.
Ефрем Евграфович, не спавший в этот момент, с удивлением услышал и увидел в свете вышедшей из-за облаков луны, что стройное тело его молодой супруги странно выгнулось во сне; длинные ноги раздвинулись в стороны; спящая голова слегка приподнялась на подушке, обнажив поток длинных волос; изо рта вырвался неприличный и сладострастный стон…
Ефрем Евграфович долго не мог уснуть. Мрачные мысли начали одолевать его, вмиг протрезвевшую, голову: «Что она почувствовала во сне? Кто ей снился? Поздравляю тебя, дружок, ты женился на развратной и распутной эротоманке. Она и красива, как ведьма. Бесовская вакханка! Чую – хапну я с ней горя…» – удрученно думал он. – «Видишь ли, на смех меня поднимает… будто знает, какие отношения меж мужем с женой бывают. Будто опыт имеет.
И уд как умело поглаживала. Не смутилась, не отказалась в руки взять. О, господи! Она и устами, поди, умеет… Кто научил ее?»
Глава 21
– Как прошел марьяж? Какова была невеста? Хороша? – с улыбкой спросила Мари.
– Невесты все красивы. Белое платье с фатой обладает удивительным феноменом – облекать носительницу оного в ореол чистоты и божественной непорочности… – с усмешкой ответил Вольдемар, но его глаза не улыбались. – Ты, моя белокурая вакханка, смотрелась бы не хуже.
– О Вольдемар, ты, как всегда, не объективен ко мне. Час, когда я могла бы стать чей-нибудь невестой давно прошел – годы, да что там годы… порой, мне кажется – века минули с тех счастливых пор. Меня когда-то обманул мой жених. Это – долгая история. О ней не буду говорить. Одно могу сказать: я сильно его любила. Какой наивной я была. Еще наивней, чем твоя кузина. В итоге – жестокая судьба привела меня к вратам борделя.
– Мари, ты хочешь, чтобы я поплакал вместе с тобой? Я, к сожалению, давно бесчувственен к страданию. Ничто меня не может разжалобить: ни свои печали, ни чужие. Единственное, что заставляет меня двигаться, шевелиться, предпринимать какие-то поступки – это скука… Смертельная скука, как отрава, въелась в каждую каплю моей крови. Да, и потом, я думаю, что ты, Мари, сейчас вполне довольна жизнью. У тебя хороший доход, ты живешь в свое удовольствие.
– Это так…
– А Глаша, действительно, была чертовски хороша. Белое платье, розы… Эх, ежели я когда-нибудь женюсь, ха-ха, то непременно на такой, – вставил Игнат.
Трое друзей сидели за столом в банной горнице и, не торопясь, потягивали фронтиньяк[93]. Меж ними шла ленивая беседа.
– Жестокий ты, человек, Вольдемар. Почему ты не выдал Глашу за хорошего, порядочного, приятного внешне жениха? Откуда такое коварство? – спросила Мари, улыбаясь кончиками крупного рта.
– Mon cher, это – не моя заслуга. Это – Maman у меня такая добрая оказалась. С ее энергией она могла бы выдать кузину за самого черта, обставив все самым наилучшим образом и, внушив окружающим благость своих намерений. Перечить ей – невозможно.
– Так невозможно, или не захотел?
– Мари, перестань, меня пытать.
– Мне жаль эту девочку. Лучше бы ты отдал ее мне.
– О старая, Мегилла. Я догадался: ты на нее крепко глаз положила.
– Я для забав себе найду любое тело… хоть девушки, хоть юноши. Просто, я думаю, что с ее данными она могла бы сделать хорошую карьеру в самом лучшем борделе. И как следствие – разбогатеть. Или просто стать содержанкой какого-нибудь добропорядочного богатого господина, неискушенного частой сменой партнерш. Владимир, если твоя кузина сбежит от мужа или отравит его, – в этом месте Мари задорно расхохоталась, белые кудри пружинисто заплясали на худеньких обнаженных плечах, – ты дай ей мой адрес. Я с удовольствием решу ее проблемы.
– Уговорила, так и быть! А что ты, там про юношей говорила?
– Вольдемар, не узнаю тебя. Ты стал всерьез юношами интересоваться?
– Я же не спрашиваю Мари, почему ты иной раз предпочитаешь ласки женщин, нежели мужчин. Я понимаю твою порочную натуру и тягу к разнообразию. А ты мне глупые вопросы задаешь.
– Нет, нет, что ты, я вовсе не осуждаю тебя. В области удовольствий нет запретных тем и предосудительных поступков. Здесь допустимо все, что может вдохновить. Я просто хотела бы предупредить тебя о том, насколько скользок путь, по которому ты собрался идти.
– Скользок? Вот и прекрасно, не нужно специальных масел… – рассмеялся Владимир.
– О, шутник! Я не то имела ввиду. Обычно, если мужчина начинает любить особей своего пола, он редко возвращается к основам естества. Ну, пойми меня, мне просто очень жаль терять такой славный образчик, коим является твой фаллос.
– Мой фаллос всегда к твоим услугам!
– Это ты сейчас так говоришь, а когда тебя затянут путы содомии, тебе не нужна будет ни одна дама. Поверь мне…
– Я, вивёр[94], Мари, и живу одним днем. И предугадать течение событий я не волен… Сегодня меня тошнит от спелости грудей, плавности линий, округлости задов. Хочу другого. Я капризен и чудовищно прихотлив. Порою, сам себе не рад.
– Ясно, с тобой все ясно. Попробуй другое. Спешу тебя успокоить: ты не единственный в своих пристрастиях. Видимо, в тебе течет кровь благородного патриция. Весь древний Рим подвержен был таким изыскам. Я уж не говорю о греческих традициях. Тем женщины и вовсе были не нужны. Они вспоминали о женщинах, лишь тогда, когда нужно было производить новое потомство. Об этом много писали Аполлодор, Лукиан, Гомер и Геродот, пожалуй…
– О чем это? – удивленно спросил Игнат.
– Об однополой любви, мой друг. О ней. Все эти традиции восходят к древности. Такая любовь практиковалась и в Древнем Египте, Вавилонии, Асирии, Китае, Индии. Но воспевалась более всего, пожалуй, греками. Чего только стоит миф о Зевсе и Ганимеде[95]! Это – любимый миф всех содомитов. В нем есть религиозное оправдание страсти мужчин к юным мальчикам. С тех самых пор природа изредка дает рождение все новым «Ганимедам» на усладу похоти сильных мира сего. Иной юноша рождается настоящим мужчиной, с надеждой стать мужем и отцом. Но и на него найдется какой-нибудь «Зевс», который лаской, подарками, а порой и силой сделает его своим «Ганимедом». Содомиты, к сожалению, коварны.
– Мари, divine, я всегда знал, что ты необыкновенно умна для женщины. Снимаю шляпу и перед твоею образованностью, – с восхищением промолвил Владимир Махнев.
– Я благодарна тебе, мудрейший, за признание, – ответила Мари, – ты знаешь меня очень давно, но не все тебе обо мне известно. Пусть, я навсегда хоть немного, но буду для тебя загадкой.
– Мари, позволь мне поцеловать твою руку, ты – просто восхитительна, – Владимир встал на колени. Цепочка мелких поцелуев покрыла обнаженную руку белокурой француженки. – Ты одна меня понимаешь, – он положил голову на колени Мари, крепкие руки обхватили ее стройные колени. – Меня лишь смущает твой упрек в коварстве. Разве я похож на злодея?
Глаза Мари с любовью смотрели на Владимира, тонкие пальцы перебирали его волнистые волосы.
– Вольдемар, ты так хорош, и я люблю тебя безмерно. Но сердце мое болит в предвкушении потери. Возможно, это – эгоизм. Я грущу оттого, что тебя тянет к мужчинам.
– Не сгущай краски! Я лишь чуть-чуть попробую иное, и снова полюблю сладкие булочки. Разве, ты не поняла: насколько я всеяден, алчен и прожорлив? – Он начал дурашливо кусать Мари за ноги и живот, – я и это съем, и то съем, и другое… Р-ррр. Моя сладкая булочка с кремом.
– Ну, перестань, Володя! Ты – как ребенок! – смеялась Мари, чуть отодвигая колени от шаловливых укусов любовника. – Успокойся! – она еще раз улыбнулась и летуче поцеловала его в серые глаза. – Я поняла, что не смогу тебя переубедить. Не смею проявлять настойчивость в таком деликатном вопросе. Раз тебе это засело в голову, иди до конца. Если ты когда-нибудь пожалеешь – тебе некого будет винить. Это будет лишь твое решение. Еще более пожалеешь, если не пойдешь на этот шаг. Итак, теперь о практической стороне вопроса. Возможно, тебе здесь понадобятся мои советы. С кого ты намерен начать?
– Я давно думал об этом. Среди моих крепостных я не нашел подходящей кандидатуры. Не хочу дурных толков – их и так хватает. Да и потом все эти сермяжные рыла слишком уж прямолинейны и дурно воспитаны. А здесь должна быть тонкая душа, изысканная, с детства обученная на иное предназначение. Возможно, даже кастрат, – глаза Владимира мечтательно зажглись.
– Это точно, нашим деревенским только предложи. Они и за большие деньги не согласны будут! И ославят чего доброго, по глупости, – с усмешкой добавил Игнат.
– Игнат, да полно тебе. Этот грех бывает всюду. Помнишь, как мы застали кузнеца Федота со спущенными посконными портками перед его помощником – молодым, кудрявым Никитой? Ты долго потом смеялся глупости этой сцены. Просто, я сам с нашими связываться не желаю. Еще более из-за болтливости последних.
– Charmant! Кастрат – это хорошая идея. Только где же его взять в наших-то землях? – спросила Мари.
– Друзья, я не хотел опережать события… Одно скажу: на следующей неделе нарочный привезет мне ценную посылку. Сия посылка необычна – она живая. Ее мне турок Эфенди знакомый передал.
– Владимир, не мучайте же нас своими тайнами. Мы знаем, как вам по душе мистификации. Живая посылка – это как? – удивленно спросила Мари.
– Терпение, друзья, я расскажу немного предысторию этой оказии. Когда я был в служебной поездке на Российско-турецкой границе, три года тому назад, то свел знакомство с любопытными людьми. Всего о них я рассказать не смогу. Тем паче не назову и их имен. Скажу одно: это очень почтенные и знатные турки. Высокие чиновники на службе у султана. Турки – они, в общем, неразговорчивый народ, особенно не любят тем интимных… Не любят посвящать в свои секреты «неверных». Эти же оказались счастливым исключением. Скорее потому, что получили европейское образование. Они неплохо говорят по-русски, знают французский язык, прекрасно разбираются в искусстве, политике и множестве других вопросов. Мы часто вместе обедали, ужинали и сблизились настолько, что свободно рассказывали друг другу о национальных обычаях, традициях, особенностях культуры. Они мне рассказали кое-что об устройстве Османских гаремов, где:
«… Красавицы роскошно отдыхают, Как пестрые прекрасные цветы, Которые томятся и вздыхают В садах волшебной южной красоты…»[96]Многое мне было по душе. Уже тогда, я – любитель частой смены партнерш и безумных оргий, проникся уважением к обычаям того народа. Там каждая женщина с рождения мечтает попасть в гарем к султану. Все ее помыслы с раннего детства направлены на то, чтобы научиться ублажать мужчину так, чтобы он провел с ней не одну лишь ночь, а хотя бы несколько. Не каждой это удается. Наложницы Султана сами обнажаются с охотой, сами садятся у ног повелителя… Разве, это не мечта любого мужчины?
– О, Вольдемар, ты прямо как сладострастный турок рассуждаешь. Понятно теперь, кто отчасти сформировал твои пристрастия и вкусы. Жаль, что мы не в Османской империи живем. Хотя, ты и тут прекрасно преуспел на поприще устройства гарема из Лушек, Параш, Наташ и прочих русских пейзанок, – весело проговорила Мари.
– Напрасно, ты смеешься. Турецкий гарем – моя мечта. И вообще любой гарем – китайский, индийский, марокканский… У всех свои приятные особенности.
– Боже, как это все интересно. Ты расскажешь нам подробнее. Меня жутко волнуют разговоры о прекрасных одалисках и наложницах. Я слышала, что девочек из многих стран до сих пор воруют и везут в Стамбул. Что там они живут в серале, их воспитывают, обучают петь и танцевать. И, конечно же, их главная наука – наука любви.
– Все это так! Я вам потом о многом расскажу. Вернемся к моим турецким знакомым. Среди прочего, они научили меня употреблять опиум, гашиш и многое другое. Наверное, вы догадались, что эти беседы простирались на разные темы. Одна из важных – это чувственные наслаждения. Я много любопытного постиг из этих разговоров. Они, (признаюсь все же – их было двое, они братья) из щедрости душевной преподносили мне изысканные подарки: коня и двух девственниц в придачу. С девственницами я развлекся отменно… Одна была – грузинка, другая – строптивая итальянка. Это были очень юные и нежные создания. Почти девочки. Но, не о них речь.
– О, расскажи, нам очень любопытно, – глаза Мари горели от возбуждения.
– Мари, ну что о них рассказывать? Меня сейчас не женщины волнуют. Были у них некоторые особенности. Я потом о них поведаю. К слову сказать, братья свели меня с торговцем «сладкого товара» Мехмедом-эфенди. У него я купил благовония, притирки, мази, пахучие жиры и многое другое. У него купил и несколько рукотворных фаллосов, кои «дилдо» на Востоке и в Европе называются.
– Итак, скажи нам прямо: что за живую посылку тебе везут?
– На следующей неделе прибудет важный и дорогой для меня груз. Из Турции мне привезут юношу. Два месяца тому назад Мехмед-эфенди прислал письмо, в котором сообщил подробности. Скажу сразу: юноша – кастрат. Но не полный, слава богу. Говорю об этом, а у самого мурашки по спине… Виной всему – европейское образование и навязанная нам мораль, от которой я бегу, но сам же, к стыду, бываю скован ею с головы до ног.
– О боже, не интригуй нас, Вольдемар. Скажи одно: у юноши остался пенис?
– Да успокойся, пенис есть. Он даже способен заниматься любовью. Единственное, чего он не может – это произвести на свет потомство. Не по сердцу мне такие подробности, но Мехмед-эфенди поведал мне в деталях о том, что над мальчиком была произведена ужаснейшая операция в подростковом возрасте – «фалиби»… Это – отсечение тестикул. Его готовили к работе в серале или пению. Эскулапам показалось, что у него прекрасные вокальные данные, что он может петь сопрано.
– Он турок? – спросил Игнат.
– Нет, Игнат. Да будет тебе известно, что коварные турки не производят эти изуверства со своими «одноверцами». Коран это запрещает. Они уродуют, в основном, «неверных».
– Какой ужас! Хитроумный народ, – заметила Мари.
– Не нам судить о законах, обычаях и религии этого древнейшего народа. А потому, примем все как данность. Как я понял, юноша, скорее всего – итальянец. Мехмед-эфенди и сам затрудняется сказать, какого тот роду-племени. Дело в том, что он ему достался мальчиком. По-турецки мальчик не говорил и не понимал. Происхождение его покрыто пеленой тумана. Его украли работорговцы, но так и не сказали, чей он сын.
– А может, он ребенок знатных родителей?
– Кто теперь знает… В общем, Мехмед-эфенди вырастил его вместе с другими евнухами, воспитал. Он же и сделал его «фалиби».
– С каким жестоким человеком ты имеешь знакомство, – упрекнула Мари.
– Мари, я повторюсь: не нам судить обычаи других народов. Я вижу в этом дурной тон.
– Хорошо, не буду.
– Юношу зовут Шафак. По-турецки это означает «рассвет».
– А он по-русски говорит? – спросил Игнат.
– Да! – с гордостью ответил Вольдемар. – У юноши высокая цена. Он один стоит как тридцать душ моих крестьян. Все дело в том, что Мехмед-эфенди специально для меня в течение пяти лет учил мальчика русскому языку, истории, русским обычаям, танцам, манерам и прочим вещам, которые ему надо знать для жизни в нашем Отечестве. Мехмед-эфенди сказал, что Шафак знает теперь некоторые стихи Пушкина и Державина, и умеет их красиво декламировать. Турок очень лестно отзывался о красоте юноши и его широких познаниях в чувственных наслаждениях.
– Поздравляю тебя, Вольдемар. Хорошую ты себе игрушку приобрел, – заметила Мари. В ее голосе звучали грустные ноты.
– Мне кажется, что ты неискренне сейчас сказала.
– Нет, я рада за тебя. Все, что ты приобретаешь, имеет дорогую цену. Наверное, я плохо спала этой ночью. У меня на душе какое-то гнетущее предчувствие. Никак не могу избавиться от наваждения. А если юноша тебе надоест? Ты же быстро теряешь интерес к любой душе и к любому телу. Что тогда? Пошлешь его к кузнецу? Или заставишь грядки полоть? Я слышала, что евнухи очень влюбчивы, экзальтированны, порывисты в поступках. В них подчас больше истеричности, чем в женщинах. К тому же они мстительны и хладнокровны.
– Полно, Мари. У меня уже голова заболела от твоей мнительности. Давай, лучше выпьем вина и отдохнем немного. Я радуюсь, а ты меня печалишь.
– Прости, Mon cher, я более не буду.
* * *
Прошло несколько дней, и к дому Махневых подъехал крытый дорожный тарантас. Из него вышел странный на вид человек, довольно высокого роста. Он был закутан в теплый, не по погоде, зимний тулуп. На голове приезжего, словно стог сена, высилась лохматая овечья шапка. Он вошел в дом, с рук упали теплые варежки, обнажились смуглые, тонкие, как у обезьянки, длинные пальцы. Незнакомец шмыгнул носом, узкие кисти отворотили поднятый до ушей воротник, сняли мохнатую шапку. Оказалось – это был молодой человек удивительной внешности. Бросалось в глаза то обстоятельство, что он не просто не местный, но и, пожалуй, иностранец. Более того, удивительная внешность делала его похожим на посланника других миров. Он выглядел не просто красиво, но и потрясающе необычно. Юноша походил на огромную, изящную фарфоровую куклу. На смуглом, ровном, словно персик, гладком, безусом лице выделялись неестественно огромные синие глаза в обрамлении черных, необычайно длинных, загнутых к верху ресниц. Над глазами, словно две летящие птицы, изогнутыми линиями красовались бархатные брови. Нос имел такую ровную, аккуратную, классическую форму, что казалось, его изваял искусный скульптор. Яркие, сочные, чуть припухшие губы обнажали ряд мелких, острых, ослепительной белизны зубов. Темно русые густые волосы, зачесанные назад, спускались до плеч мягкими волнистыми локонами. «Похоже, в нем действительно течет княжеская или царская кровь», – с наслаждением подумал Махнев, – «откуда такая изысканная внешность?»
– Могу, я видеть месье Махнева Владимира Ивановича? – волнуясь, и сбивчиво проговорил юноша с сильным акцентом. От звуков его голоса по коже пробежал холодок. Это был удивительно приятный, певучий, грудной голос, более похожий на женский, чем на мужской.
– Сударь, я к вашим услугам. Разрешите представиться: меня зовут Владимир Махнев. Я являюсь хозяином этого поместья, – ответил Владимир.
– Очень рад, душевно рад нашему знакомству. Меня зовут Шафак, – глаза юноши засветились от счастья. Он опустил голову и низко, по-восточному поклонился, – Мехмед-эфенди передал для вас письмо, – обезьянья ладошка нырнула за пазуху и протянула большой бумажный пакет.
– Спасибо, Шафак. Я тоже рад нашему знакомству. Письмо я прочту чуть позднее. Вы раздевайтесь пока. У нас в доме жарко топят. Вам будет не холодно. Я отведу вас в вашу комнату. Она находиться рядом с моей.
Юноша снял толстый тулуп. Глазам Владимира открылась стройная, узкоплечая фигура, одетая в серый сюртук и белоснежную рубашку с кружевным воротником. Белизна кружевного ворота отливала голубоватым свечением от близкого соседства со смуглой, длинной шеей. Движения юноши отличались необычной плавностью. Походка была настолько грациозна, что казалось, он не идет по гладкому паркету, а невесомо парит, производя мимоходом причудливые балетные па.
Владимир показал Шафаку его комнату. Перед приездом гостя он велел ее немного переоборудовать на восточный манер. Один длинноворсовый желтый персидский ковер лежал на полу, другой – с красными цветами красовался на стене. Настенный ковер являл собой своеобразную витрину, на которой собралась шикарная коллекция холодного и огнестрельного оружия. Здесь были дорогие сабли: турецкий килич с массивной еланью, декорированный потемневшей резьбой; два узких шамшира из дамасской стали с легкими эфесами, покрытыми голубоватой глазурью; два кривых янычарских ятагана с костяными крыжами, отделанными резьбой и гравировкой. Ниже висело несколько изогнутых и прямых кинжалов из булатной стали, инкрустированных рубинами и сапфирами. Завершали коллекцию два дуэльных пистолета работы знаменитого Лепажа. Широкая, устланная шелковым покрывалом и множеством расшитых подушек кровать, стояла у стены с ковром. Турецкий медный кальян, коробка с благовониями, ваза с персиками и виноградом – все это было живописно расставлено на круглом полированном столике. У противоположной стены комнаты находился книжный шкаф, сделанный из красного дерева. Владимир специально собрал в него книги по истории, искусству, географическим исследованиям, словари и несколько томов со стихами русских и английских поэтов. Рядом стоял блестящий платяной шкаф и широкое мягкое кресло, выполненное на заказ итальянским мастером.
Когда Шафак ступил на порог своей новой комнаты, его синие глаза зажглись от восторга. С детской непосредственностью, округлив губы, и прижав узкие ладошки к худенькой груди, он принялся восторженно таращиться на богатое убранство нового жилища. Особенно его вдохновило дорогое оружие, висевшее на стенном ковре. Затаив дыхание, он долго смотрел на кривые сабли и кинжалы. Потом юноша немного подпрыгнул и бухнулся на колени перед Вольдемаром: взметнулись шелковые локоны, голова согнулась в глубоком поклоне.
– Владимир-эфенди, я благодарю вас за великодушный прием. Никогда ранее я не жил в такой чудесной комнате. Позвольте мне поцеловать кончики ваших ног?
– Шафак, ну что ты, право, встань. Я рад, что тебе понравилось. Но не надо передо мной вставать на колени. Это лишнее… Ты же не в серале. Мехмед-эфенди, наверное, рассказывал тебе о нашем этикете?
– Рассказывал, но я не могу сдержать восторга и своей признательности к моему господину, – он приподнял голову и стремительно поцеловал руку Вольдемара. Поцелуй оконфузил его, и он снова склонился в глубоком поклоне.
Владимир тоже немного смутился и вышел из комнаты.
Анна Федоровна была поставлена в известность, что новый гость приехал из далекой Турции, что он сын знатного вельможи и поживет пока в России в имении Махневых.
– Maman, не делайте удивленные глаза. Юношу зовут Шафак. Прошу привыкнуть к нему и не обижать. Он сын почтенных родителей, я хорошо знаком с ними. Отец послал его в холодную Россию, так как в будущем готовит ему карьеру дипломата… Наша задача – обучить его языку, чтобы он мог свободно говорить по-русски.
– Я – не против, пускай живет. Он, право, какой-то необычный… Конечно же, красив… Скажу даже, слишком красив, – задумчиво ответила барыня. – Скажи, Володенька, а что он кушает?
– Maman, вы спрашиваете об этом, словно собираетесь кормить мартышку или диковинного зверька, – рассмеялся Владимир. – Чего вам стоит самой спросить у него за обедом о кулинарных предпочтениях?
За обедом Шафак вел себя сдержано: он, молча и чопорно кивал слуге, когда тот спрашивал какое блюдо ему предоставить. Ел понемногу, пробуя на вкус каждую закуску, медленно жевал, прислушиваясь к новым ощущениям. Увидев белужью икру, спросил о том, что это за деликатес, и где его добывают. Получив небольшие разъяснения, попробовал ее на вкус. Смуглое личико скривилось от неудовольствия – словно он хватил хинину… Зато, как загорелись синие глазищи при виде подноса с пирожными, маковыми булочками и засахаренными цукатами… Сливочные пироженки молниеносно исчезали с подноса, оказываясь во рту смуглого сладкоежки. Тонкие пальчики хватали сахарные цукаты, подносили их к лицу, точеный носик с наслаждением обнюхивал сладость, секунда – и на лице Шафака появлялось неподдельное блаженство. Он глотал сладости, как голодный кот глотает пескарей. Владимир пристально и с интересом разглядывал свое приобретение.
«Боже, он красив, как статуэтка из слоновой кости… Ведет себя как ребенок, или как женщина. Вот оно – рукотворное создание восточных мудрецов. Кто из древнейших представителей рода человеческого первым дерзнул вторгнуться во «святая святых» матери-природы, и попытался на свой страх и риск изменить ее классические каноны? Кто был тот первый эскулап, который изувечил здорового мальчика и создал зловещего «Гомункула»? В какой реторте вырос первый диковинный цветок, с отсеченным варварской секирой, корнем? Неужели прекрасный голос стоил таких жертв? Или пышнотелые, гладкие и ленивые одалиски толкали мужей на совершение ужасного членовредительства? Неужто, женская греховная плоть в алькове сомкнутых ног ценится так высоко? За душу одного изувеченного мальчика можно возненавидеть весь женский род… И, не смотря на все это, я восхищаюсь и любуюсь этим рукотворным восточным божеством…» – думал Владимир.
А между тем смуглое «божество» уплетало сладости и ничуть не ощущало своей ущербности. Пожалуй, оно даже выглядело удивительно счастливым.
– Шафак, друг мой, не смею настаивать, но у вас может сильно разболеться живот. Не стоит поглощать сладости в таких огромных количествах, – с улыбкой произнес Владимир.
Юноша сильно покраснел, тонкие руки отставили от себя серебряный поднос, на котором осталась пара пирожных и одинокий, засахаренный абрикос.
Теперь все мысли Владимира были направлены на драгоценную игрушку. Он напрочь забыл о том: зачем, для какой похотливой надобности он приобрел этого юношу. Он обращался с ним как с ребенком, как с куклой, как с младшим братом.
– Ты, совсем сошел с ума от этого турчонка. Возишься с ним как с маленьким, – упрекала мать, – совсем не узнаю тебя, Володя. Похоже, тебе пора жениться и завести собственных детей – раз в тебе просыпаются отцовские чувства.
– Глупости, я просто хочу оказать гостю полное уважение. Я дал обещание его отцу, – отвечал Вольдемар.
«Где же на самом деле его отец? Не болит ли его сердце от потери сына?» – думал он. Глядя на юношу, он уже не сомневался, что в том течет благородная кровь.
Они вместе гуляли по заснеженным окрестностям поместья. Путаясь ногами за длиннополый тулуп, Шафак с наслаждением вышагивал по чистому скрипучему по снегу и, словно ребенок, рисовал на сугробах прутиком причудливые вавилоны. Махнев с трудом разбирал в них образы криворуких людей и долговязых собачек.
Синие глаза с восторгом рассматривали белые поля, покрытые инеем, ажурные деревья, стаю снегирей на березовой ветке, струйки дыма с занесенных снегом, деревенских крыш. Сняв рукавицу, турчонок трогал смуглой ладошкой искрящиеся на солнце снежинки, тонкие пальцы осторожно сминали маленький снежок. Ладошки быстро замерзали – снежок выскальзывал, Шафак принимался задорно хохотать.
– Шафак, не бойся, сделай снежок и кинь его в кого-нибудь из дворовых, – предлагал барин.
– Никак не буду, – скромно отвечал юноша. – Скажут: плохой турка, пусть едет к себе домой. А Шафак любит своего господина… – синие глаза темнели от откровенных признаний.
– А если я прикажу, то кинешь? – провоцировал его Владимир с лукавой улыбкой на губах.
– Если мой господин прикажет – Шафак умрет.
Теперь все свободное время Владимир проводил с юношей. Он возил его в город. Вдвоем они посещали магазины, кондитерские, рестораны. Заходя в торговую лавку, Шафак никогда не просил купить ему ту или иную вещь. Он лишь останавливал бег живых глаз, взгляд застывал на желаемом предмете, дыхание сбивалось, рот немного округлялся. По этим характерным признакам Владимир без ошибки угадывал, что его любимое «божество» умрет, если не купить ему вожделенную вещицу. Фарфоровые и тряпичные куклы, разноцветные бусы, жемчужные и даже, иногда, золотые украшения, страусиные перья, яркие ткани, китайские веера, индийские резные шкатулки, морские ракушки, перламутровые пуговицы, блестящие браслеты и другие немыслимые безделушки – все это в огромном количестве, и к великой радости заморского гостя, скупалось в разных магазинах и лавчонках, и доставлялось в поместье Махневых. Самой большой статьей расходов была покупка всевозможных сладостей: шоколадных бомбошек[97], разноцветных, словно стеклянные бусы, монпансье, пряников, пирожных, засахаренных фруктов, халвы и пастилы. К тому же, после небольших колебаний, под напором молящего взора, Владимир приобрел для Шафака клетку с двумя желтоперыми канарейками, стеклянный сосуд с золотыми китайскими рыбками и щенка белого шпица.
Радости Шафака не было предела. Синие глаза лучились от неземного счастья. С каждой минутой в юном сердце крепло сильное чувство. Это были не просто любовь и признательность раба к своему щедрому господину. Это было – слияние двух не сочетаемых, на первый взгляд, начал: сыновней любви к новому отцу, и греховной, капризной любви мальчика к любовнику-мужчине.
Глава 22
– Вот, так жених! Мало, что скряга куроед, мало что плешив и глуп, так он еще и по мужской части не ходок оказался! – с усмешкой повторяла Татьяна, – он, поди, еще мечтает о детях?
– Мечтает… Сказал, что я обязана ему сына родить, – отвечала Глаша. На губах играла презрительная улыбка.
– Радость моя, а ты не намекнула ему, что дети от «святого духа» только по Евангелию родятся. Так и ты ведь, не дева Мария, и он далеко не «святой дух», – глаза Татьяны лучились от смеха. – Слава богу, что немощен он по этой части. А потому и не обнаружил, что ты давно не девственна.
– Какое, ему сие обнаружить, – я, по-правде говоря, устала уже рубашку ночную менять. Сколько раз он на меня ложился, столько и мочил ее без дела.
– А я ведь, тогда ночью, как вспомнила, что склянку с кровью петушиной тебе дать позабыла, так меня словно кипятком обдало. Думаю: как там моя Глашенька? Прибьет еще этот долговязый мою голубку.
– Пустое все Танюша, прибить – не прибьет. А только чувствую, что раздражаю я его сильно. Все-то он присматривается, все принюхивается. Следит за мной. Экономией своей вконец замучил.
– Я Глашенька, и так уж ухожу к себе в комнатенку, когда он со службы ворочается. Глаза бы мои его не видели. И пахнет от него дурно. Потерпи, милая. Давай, доживем до тепла, а там видно будет.
– Ой, Таня, а дальше-то что? Куда идти? Мне все кажется, что уснула я накануне свадьбы и не проснусь никак. Долго сон этот страшный длится. А просыпаться – сил нет. Как хочется проснуться и увидеть, что все вокруг другое: чисто, красиво, муж добрый, да любящий…
– А ликом на Володю кузена похож? Да? – с ехидством спросила Татьяна, – моей любви тебе все мало.
– Таня, не мучай ты меня… Знаешь, что люблю я тебя, знаешь, что нет тебя дороже. Не судьба, видимо, мне быть счастливой женой. А раз так, то лучше нам вдвоем остаться. Куда только мужа моего денем?
– Поживем – увидим!
Больше месяца прошло с Глашиной свадьбы. Надо ли говорить, что муж оказался еще противней, чем она себе представляла. Днем он жалел ей масла и мяса из супа (о прочих деликатесах не могло и речи идти). Ночами изводил гнусавыми придирками и пристрастными допросами о том, кто был ей люб до свадьбы, и были ли у нее с кем-либо близкие отношения. Ревность и безмерная злоба в сочетании с половой слабостью приводили к тому, что он принимался щипать молодую жену за полные ноги и упругий зад – белая кожа вспухала багровыми и синими кровоподтеками. Глаша вскрикивала, но терпела его варварские выходки. После, он наваливался жестким, чужим и тяжелым телом, холодные губы тянулись к полной груди, кислая слюна заливала шею и подбородок. Через пару минут Ефрема Евграфовича начинало лихорадить как при «падучей болезни». Он упирался в Глашин лобок и терся вялым членом по ее животу и ногам, совершая неуклюжие, по-заячьи поспешные движения до тех пор, пока не наступала долгожданная кульминация. Он тут же отваливался на бок, и уже через пять минут по всему дому слышался его раскатистый храп. А Глаша с нескрываемым чувством отвращения вытирала излитое мимо семя.
Танюшина комната находилась в другом конце дома, но иногда до ее слуха долетали слабые крики и всхлипывания любимой подруги. Рыжая бестия корчилась на узкой постели от приступов ненависти к Глашиному мужу, ей так хотелось ворваться в супружескую комнату и убить ненавистного супостата. Она даже припрятала в своей комнате кухонный нож, на случай, если выбора не будет…
Когда муж засыпал глубоким сном, Глаша потихоньку выскальзывала из супружеской постели. Босые ноги несли ее по холодному деревянному полу прямиком к своей рыжей любовнице. Та с нетерпением ждала желанную, горячо-любимую, распутную подругу. В ее объятиях Глафира забывала обо всех тяготах и превратностях судьбы. Она даже была благодарна высшим силам за то, что ее муж оказался практически бесполезным любовником. Это обстоятельство снимало с нее огромный груз вины за добрачное грехопадение и освобождало от ответственности за нерождение детей от нелюбимого, чужого человека. А как была рада Татьяна! Она не ревновала, теперь у нее не было ни соперников, ни конкурентов. Теплая и заласканная до одури, испытавшая за ночь несколько оргазмов, Глафира выскальзывала под утро из цепких лапок Танюши и плелась в свою комнату. Утром муж уходил в Канцелярию Уездного Собрания (он восстановился на прежней службе), а Глафира спала крепким сном вплоть до самого обеда. Пока длился ее сладкий сон, легконогая Татьяна хозяйничала по дому, ходила на базар и помогала кухарке приготовить скудный обед. Татьяна проявляла огромную изворотливость, экономила, хитрила, но все-таки умудрялась принести Глафире к завтраку что-нибудь вкусное, необычное, лакомое, то, что никогда бы не одобрил скупой до умопомрачения, Ефрем Евграфович.
Глафира открывала сонные глаза: перед носом расплывалось белое, пушистое облачко. Чуть отлетев от носа, облачко превращалось в маленькую пироженку с воздушными, сладкими сливками. В сердцевине изысканного лакомства томилась маленькая глазированная вишенка.
– Танечка, ну зачем ты?! – хохотала заспанная прелестница, – съела бы сама.
– Как же, съем я? Не холопское это дело – пирожные по утрам лопать. Мы к этому не привычны. Это для моей царевны.
– Ну вот, опять ты за свое. Слово то, какое – «холопка». Не серди меня! Ешь вместе со мной.
За пару минут воздушное лакомство, купленное Татьяной в кондитерской, исчезало во рту обеих подружек. Облизывались пальчики, подбирались упавшие крошки, на лицах появлялось выражение мечтательного блаженства.
– Таня, я верю, что когда-нибудь все изменится. Мы уедем с тобой далекодалеко… И там в другой, счастливой жизни мы будем каждое утро есть на завтрак пирожные и запивать их душистым кофе. У нас будет много вкусной еды: окороков, ветчины, колбас, пирожных и даже мороженое…
– А это еще что?
– О, вкуснее мороженого ничего в мире не существует… Я ела его однажды, когда была маленькая, и были живы мои родители. Это было на Рождество, в гостях у генерала на детском празднике, на елке. Я помню маму, ее красивое платье с длинным шлейфом, у меня тоже было розовое в цветочек, длинное платье. И папу. Он смотрел на нас с улыбкой и гордостью. Все смутно теперь. Но я точно помню, что в конце обеда нам подали это самое мороженое в серебряных вазочках. Они так и сказали: «А теперь, дети, для вас есть сюрприз – мороженое! Кушайте помаленьку, не простудите горло». Это Таня, похоже на сливки с вишней и клубникой, только холодное, скользкое и какое-то радостное…
– Не знаю я никаких мороженых… Солодку, да малину знаю, а морожены есть – рылом не вышла. Не по чину нам.
– Таня, ну что ты… Опять обиделась. Я не для того рассказала. Я и сама только однажды его и пробовала. Это мы с тобой и сами сможем сделать: сливки заморозить с сахаром – получится эта вкуснотища. Вспомнила мороженое, и родители сразу вспомнились, – легкая грусть накрыла веселые глаза. Она нарочно раскрыла их широко и отвела в сторону, силясь не заплакать. Но предательские слезы закапали по щекам. Глаша упала на подушку, послышалось тихое всхлипывание.
– Сливок она захотела! Вот, размечталась о хорошей жизни, а сама мокроту развела, ну, будет тебе… не плачь, – уговаривала Татьяна. – Бог с ним, с морожным и пирожным. Живы будем – испробуем все. Вон, ироды махневские не плачут. Все, что хотят, то и лопают. Ни в чем отказа не знают. А тебя сиротку несчастную сбагрили этому скупердяю. Поесть лишний раз и то не дает. У скупого, что больше денег, то больше горя.
– Знаешь, Танечка, а в институте мне тоже часто хотелось кушать. Вернее, я постоянно хотела там есть. Вся еда была жутко невкусной. А хлеб кислый, не пропеченный. Мы с девочками все время ходили голодные. Даже мел ели.
Нас за то наша классная дама Аполлинария Карловна наказывала: без передников у доски ставила.
– Мел ели? Вот это да…
– Да, знаешь, как голодно было. А когда началась Восточная война, так нам совсем эконом мало еды стал давать. Иногда даже вместо утренних булочек, кусочек хлеба давали.
– Бедная ты, моя сиротка. Тяжко тебе пришлось, – Таня обняла свою подругу. Прошло несколько минут, каждая думала о своем.
– Таня, а что про Махневых слышно? Ты не встречала никого из поместья?
– Встречала…
– Кого?
– Маланью на рынке.
– Малашу?!
– А чего, ты обрадовалась? Аж, слезы высохли. Думаешь, что скучает по тебе тетка или Володя твой ненаглядный?
– Ты расспросила Малашу о том, как они там поживают?
– Поживают… Не последнее проживают. Лучше всех живут – не тужат. Лихо деньги нажить – а с деньгами можно и дураками жить.
– Ну, не томи. Он также с бабами в бане все ночи проводит?
– А вот тут не угадала, ты.
– Как, так?
– А так. Он полюбовницам отставку дал.
– Да? – глаза Глафиры загорелись от внезапной надежды.
– Хоть ты, Глашенька, и барской крови, а глупая, как и другие бабы. Чего в Володечке твоем, доброго-то есть? Токмо ему и слава, что хрен велик, – с усмешкой проговорила Таня. – Чай, надежда в сердечко закралась, что скучает он по тебе, раз прогнал всех? А вот и не скучает. Не знаю, чего там, у твого кузена на уме, потому как ум беса праведным людям познать не дано. А оно нам и не надобно. А только Малаша сказывала, что к нему в гости иностранец приехал – парень молодой. Красивый ликом, что твоя кукла. То ли турок, то ли грек, то ли итальяшка. Сие – неведомо…
– И что?
– А ничего… Все дивятся: он с этим турком день и ночь вместе. По театрам его таскает, на ярманки возит, одевает, наряжает, охоту на зайцев и лис устраивает.
– Так, что тут такого? Верно – это его товарищ, какой. Может, учились вместе?
– Не все так просто…
– А чего же еще?
– Сдается мне: здесь что-то другое. Малаша сказывала, а ей Лушка поведала, а той каналье передал Игнат: барин, мол, дает всем полюбовницам деревенским временную отставку. Устал, говорит, он с вами греховодничать. Мудя, мол, отдых требуют, поистерлись шибко. А вы без него не скучайте – ждите, когда позовет. И чтобы блюли себя, как подобает. Узнаю если, что кувыркались с кем – вмиг со свету сживу. Вот, ненасытная Лушка и жаловалась, что время идет, а барин все никак не отдохнул…
– А может, и правда – надоело ему греховодничать? Решил за ум взяться. Возможно, маменька его образумила?
– Ты сама-то веришь этому? Скорее земля разверзнется, чем барин наш развратничать перестанет. То – ему пятерых баб за ночь мало, а то – вдруг завязал шнурочек на одном месте. Не верю я в эту брехню.
– А зачем тогда он любовниц от себя устранил?
– Раз, своих устранил – значит на другое виды имеет. Ты думаешь, отчего он столько времени с парнем проводит?
– Так, он ведь мужеского пола. Не женщина ведь, переодетая?
– Не женщина, вроде. А помнишь, я тебе когда-то в лесу еще летом рассказывала о страшном грехе Содомском?
– Таня, ты думаешь, он с ним живет как муж с женой? – удивленно спросила Глаша.
– Угу… Как мы с тобой…
– Ну, ведь, мы же – другое дело. Мы ласкаемся от скуки. У нас же и фаллосов-то нет.
– Это ты – от скуки. А я тебя люблю. И мужчины мне теперь противны.
– Опять, ты, обиделась… Я все время не то говорю.
– Что говоришь, то и говоришь. Насильно милой не будешь. Хоть, одна ночь – да моя.
* * *
Как не странно – то, на что намекала Татьяна, то, для чего Владимир приобрел юного кастрата, то, что рисовало его извращенное воображение, наяву никак не происходило. Махнев проводил с Шафаком дни и ночи, присматривался, привыкал к необычному поведению этого экзотического смуглого юноши. Вечерами Шафак вслух читал стихи или пел на итальянском и турецком языках, иногда танцевал. Владимир наслаждался его грудным сопрано, привлекали и гибкие плавные линии стройного тела, когда Шафак полуобнаженный (на нем лишь были легкие, шелковые шаровары) танцевал перед ним. Этот восточный танец начинался, как правило, с плавных движений, после темп ускорялся, доводя гибкое, смуглое тело юноши почти до судорог. Шафак поражал барина своей экзальтированностью и бешеным темпераментом, который был виден в каждом движении тонких рук и ног. Глаза юноши темнели, как море в сильный шторм, влажные губы наливались и краснели, словно кораллы, дыхание становилось порывистым.
В ту ночь Владимир позвал Шафака в баню. Они остались вдвоем. Игнат, как и все любовницы, на время был отправлен в отставку. Даже верный сотоварищ не был допущен к подробной демонстрации приобретенного «турецкого чуда». Мари тоже давно покинула поместье Махневых. Он не хотел ни с кем делить своего прекрасного мальчика. Слишком он был дорог его сердцу, слишком волновалась его душа при виде голубых глаз и шелковых волос этого посланника других миров. Он настолько полюбил юношу, что не чувствовал привычного похотливого зова при виде смуглого полуобнаженного тела.
Ярко горели свечи, в печи потрескивал огонь. Владимир курил опиум и смотрел на танец Шафака. Внезапно танец прервался, скрестив ладони на худенькой груди, Шафак медленно опустился на колени. Голова упала на грудь, плечи задрожали, послышался жалобный детский плачь.
– Шафак, солнце мое. Ты плачешь? – удивленно спросил Владимир. – Что с тобой? Тебе плохо? Иди, ко мне.
Юноша подошел к кровати, упал на колени и зарыдал еще громче. Кальян был отставлен в сторону, Владимир встал на ноги, сильные руки подняли Шафака с полу и усадили на кровать.
– Почему, ты, плачешь? За одну твою слезу я готов убить десятерых человек. Скажи, в чем дело? – Владимир с трудом отнял мокрые ладошки от заплаканного лица мальчика и поцеловал его в смуглый лоб. Затем, пальцы смахнули слезы с длинных ресниц, вытерли щечки, оправили темные локоны. Юноша замер от ласковых прикосновений барина. Его глаза с вызовом и обожанием смотрели в лицо своего господина. Владимир почувствовал сильное волнение, но отодвинулся от Шафака.
– Так, отчего плакал мой мальчик? Что случилось?
– Шафак плачет оттого, что господин его не любит.
– И что ты, Mon cher, себе вообразил? Я полюбил тебя, мое сокровище, как только увидел в длинном, нелепом тулупе на пороге моего дома.
– Я давно не мальчик. Мне скоро восемнадцать лет. Я мужчина. И я страдаю без ласки…
– Для меня ты всегда будешь моим любимым мальчиком. Терпение, я понемногу привыкну, и тогда буду ласкать тебя ночи напролет. Иди ко мне, ближе. Я поглажу твои худенькие плечи… Твоя тонкая шейка… Знаешь, как давно мои пальцы тосковали о такой шейке. Ни одна женская шея не вызывает во мне столько неги, как твоя. А эта узкая спина и маленькие ягодицы… Боже, я сойду с ума, – ладонь Владимира гладила смуглое податливое тело. Жгучее, не ведомое ранее желание охватило двух сластолюбцев, – Видишь ли, я – гурман во всем. Не будем торопиться. Я хочу вкушать тебя маленькими кусочками, пить твою любовь маленькими глотками. Покури опиума вместе со мной, а потом я буду тебя целовать. У нас впереди вся ночь и еще много прекрасных ночей.
– Мой господин никогда не разлюбит Шафака?
– Нет, мой мальчик, нет такой силы, что оторвет меня от тебя. Наконец, я понял свое предназначение. Я счастлив, как, никогда.
Они немного покурили опиума. Владимир сидел в трансе: глаза были полузакрыты, в голове звучали заунывные восточные напевы: громкий и тягучий голос зурны прерывался дробью барабанов и шелестящим звоном турецкого бубна. Казалось: это не музыка, а горный водопад падает с огромной высоты, рассыпая миллионы бриллиантовых брызг, и каждая капля, попавшая в водоворот, издает хрустальный звон, проникающий не только в уши, а в само сердце. Над водопадом, распластав широкие крылья, в синем небе парит горный орел – это к звону бубна и ритму барабанов присоединяются звуки свирели и флейты.
То – не просто горный орел – это сам Владимир, раскинув сильные руки, летит над цепочкой горных хребтов. Ветер дует в лицо, принося запахи апельсиновых и лимонных деревьев, виноградной лозы, граната и оливок. Горячее солнце обжигает руки. Он пролетает над маковыми, розовыми и лавандовыми полями: живительные струи ароматов плотным ковром окутывают землю. Не надо прилагать физических усилий: потоки густого цветочного запаха, словно речные струи, поддерживают тело в воздухе, не дают упасть. Звуки флейты становятся сильнее. И вот, мощный поток влечет его все дальше – он уже не орел, а яркая звезда на темном ночном небосклоне. Звезде открыт каждый уголок подлунного мира. Звезда освещает путь одинокому каравану, идущему по ночной пустыне, горбы навьюченных верблюдов мягко колышутся в море потемневшего песка…
А вот и настоящее – Черное море. Легкие вдыхают ночной, соленый воздух. Сердце рвется от тоски и восторга. На берегу растут магнолии, платаны, кипарисы, орех и палисандр. Йодистый запах моря, ракушек, водорослей и песка смешивается с ароматами ночных деревьев. Звуки все громче, Владимир плавно приземляется на мраморные ступеньки. Перед ним огромный, белокаменный дворец. Округлые купола венчают золотые мусульманские полумесяцы. Шесть остроконечных минаретов, словно гигантские кружевные пики, направлены в темное, звездное небо. Его встречают чернокожие рабы с разноцветными опахалами из страусиных перьев. Их темные, мускулистые тела тонут во мраке ночи, одни белки выпуклых рыбьих глаз светятся, словно круглые фонарики под белыми люминесцирующими тюрбанами. Все слуги с шумом падают ниц перед Султаном Великой Османской империи. Владимир с гордостью понимает – это он Великий Султан. Ему подают носильный одр с красным балдахином, горячие босые ноги с наслаждением погружаются в нежный холод бархата внутренней обивки этого диковинного переносного шатра. Он садится в него, слуги плавно несут одр во дворец. Его взору открывается огромный, охваченный голубым свечением зал. Беломраморные, словно припудренные, расписные колонны поддерживают резной потолок хрустального купола, уходящего в синее небо. Зал так огромен, что меж колон гуляет гулкое эхо.
Он ложится на ковровый постамент: всюду разбросаны мягкие подушки, газовые, тончайшие ткани – голова упирается в пуховую нежность воздушной перины. Хочется поспать, взор туманится.
Но музыка звучит все громче, он открывает глаза и видит: чернокожий евнух ведет к нему вереницу женщин, накрытых шелковыми покрывалами. Покрывала скользят по гладким телам и падают под ноги прекрасным одалискам. Наложницы начинают танцевать, поводя крутыми бедрами, звон золотых и серебряных позументов и браслетов на руках и ногах сливается с шелестом бубнов. Полные, влажные груди колышутся в такт музыке, округлые животы ходят ходуном, гибкие талии сгибаются в вызывающе откровенных позах. Женщины безумно красивы. Кажется, он видит в хороводе знакомые лица: вот мелькнула толстозадая Лукерья Потапова; вот трясет длинными, черными, как уголь, волосами Маруся Курочкина; Мари в прозрачных шароварах похваляется голым лобком и торчащей грудью, прикрытой колечками белых волос; вот и Глафира Сергеевна, его обожаемая кузина, почти обнаженная, танцует восточный танец с обиженным лицом – голова ее, вместо паранджи, покрыта белой фатой; появляются и снова исчезают и другие знакомые, женские лица – их слишком много. Хоровод становиться бесконечным. Лица одалисок множатся узорными кругами, сияют, словно разноцветные стекла в детском калейдоскопе.
Звуки зурны и турецких флейт усиливаются, заунывная мелодия назойливо вливается в голову, размывая сознание и раскалывая череп на мелкие частицы странной материи. Минуя хрустальный купол дворца, обогнув минареты, частицы неведомой материи со свистом уносятся в темный небосвод. Полетав во Вселенной, разум Владимира возвращается обратно к хозяину. Ему кажется, что он не только Султан, но и Бог, ибо теперь ему открыты все законы мироздания. Во время полета разрозненных частиц сознания, каждая из планет открыла для него свои секреты.
Музыка стихает, кроме нее он слышит горячее женское дыхание. Дыхание наполнено страстным желанием телесной ласки, похотью, страданием неудовлетворенных одалисок. Боже! Как я один смогу удовлетворить жажду всех этих голодных тел? Все они – сладкая, липкая, греховная, ненасытная, стонущая от сладострастия, живая масса. Не видно лиц и фигур. Теперь перед глазами кишит и разрастается огромный телесный ком с множеством женских рук и ног, ртов и голых грудей. Ком гудит, словно пчелиный улей, и зовет Вольдемара на подвиги. Этому рою нужен только его фаллос, ком катиться за ним, скользя по мозаичному полу гигантского зала. Каждая рука пытается схватить героя за причинное место. Нет, о боже! Нет! Я не хочу! Тошнота подкатывает к горлу, плавятся беломраморные колоны, на голову с грохотом рушится хрустальный потолок, в ушах звенят тысячи стеклянных осколков. Мраморный мозаичный пол завален грудами сверкающего битого стекла. И вот, он один стоит среди руин Османского дворца. Куда подевался гарем? Куда сбежали чернокожие евнухи? Нет никого… Вдалеке послышался детский плач. Владимир оглянулся, глаза наткнулись на худенькую смуглую фигурку. Шафак! Мальчик мой! Иди ко мне, мой хороший. Я буду любить тебя больше всех. Ты – единственный, кто мне нужен. Спаси меня!
Он засыпает в объятиях смуглого юноши, забыв обо всем: о всех покинутых женщинах, о матери, о Глаше, о Игнате. Над ним во сне и наяву сияют одни лишь синие, прекраснейшие в мире, глаза.
Сон длился недолго, Владимир проснулся от осторожных ласк и горячих поцелуев. Он никогда не испытывал ничего подобного. Шафак взял инициативу в свои маленькие ладони, и повел Владимира новой тропой чувственных наслаждений… Недаром же, Мехмед-эфенди так долго обучал юношу любовному ремеслу.
Время летит быстро. В поместье отпраздновали Рождество. Анна Федоровна все пребывала в меланхолии, глядя потухшим взором на заснеженные поля и долины. Не радовали ни гости, ни новогодние ели. Более всего мать огорчало то, что ее обожаемый сынок теперь редко бывал дома. Днями напролет он ездил по каким-то делам, беря с собой окаянного турчонка. Именно этого турчонка Анна Федоровна и невзлюбила более всего. Теперь он, а не Глаша стал предметом ее жгучей ревности и недоверия. «И что он с ним возится целыми днями? Ходит за ним, словно лонлакей[98], – сокрушалась она, – ладно бы девица, так нет же – молодой человек… И почему он имеет такое влияние на Володю? Какие у них общие интересы?»
Эти же мысли не давали покоя и отставным любовницам. Особенно изнемогала Лушка. Любопытство ее было таким же безбрежным, как огромный океан. Она собирала все сплетни, обрывки разговоров дворовых, ходила гадать к деревенской гадалке, советовалась с Марусей – все было напрасно. Дело в том, что барин, опасаясь пересудов, теперь не посещал свою знаменитую баню. Никто не знал, в каком направлении двигалась его тройка с бубенцами, по каким заснеженным дорогам лежал ее скорый путь?
Для встреч с Шафаком Владимир облюбовал охотничий дом, стоящий на краю березового заказа. Постепенно он стаскал в него множество необходимых вещей: одежду, покрывала, подушки, кальян и любимые побрякушки Шафака. Домик хорошо отапливался, уютное тепло не покидало бревенчатые стены и холодными темными ночами и зимними морозным утром. К домику шла утоптанная дорога, по ней резвые лошадки привозили счастливых грешников в их тайную обитель. Здесь же было обустроено большая утепленная карда[99] с крышей для лошадей. Никто не мог добраться до этого тайного алькова, занесенного снегами и метелями. Ни одна живая душа не догадывалась о том, где барин коротает ночи. Ни одна… Кроме вездесущей Лукерьи Потаповой. Она излазила вдоль и поперек все заснеженные дороги, проваливалась в огромные сугробы, ее самокатные валенки вязли на снежных обвалах. Выбиваясь из сил, настырная баба, как волчица рыскала по следу обожаемого барина. И, наконец, ее любопытство было вознаграждено!
Несколько дней стояли трескучие морозы, но было безветренно. Следы от валенок и санных полозьев оставались в первозданном виде, не тронутые ни метелью, ни поземкой. Вот по этим следам и пробежала любопытная Лушка, от поместья до охотничьего заказа. Одному богу известно, как эта проныра проделала такой огромный путь в несколько верст, прежде чем очутилась у заветного домика. Зоркие глаза заприметили вертикальную струйку дыма, поднимающуюся над заснеженными березами и уходящую в стеклянный от мороза воздух. Тут же шла утоптанная санная дорожка. По этой дорожке и добежали Лушкины резвые ножки прямиком к тайному пристанищу барина. Несчастная сильно замерзла по дороге и только и мечтала о том, чтобы как можно быстрее очутиться в теплой избе, согреться и попить чаю. Она и хотела от радости постучаться в двери, но что-то удержало ее от столь решительного поступка. Может, она боялась гнева хозяев, а может, решила поосторожничать. Стараясь не шуметь, Лукерья Потапова обошла вокруг дома, мимо лошадиного стойла. Подкралась к окну. Небольшая шторка прикрывала окошко не полностью. Лушка прильнула к нему круглым носом. Перед ней, как на ладони, оказалась комната. В ней были двое! Это были мужчины… А далее, она смотрела и не верила своим глазам: на толстом напольном ковре, распластав стройные ноги, облокотившись на пурпурную мутаку[100]. лежал голый барин Владимир Иванович, возле его ног копошился другой обнаженный некрупный мужчина. Лушка пригляделась и узнала в нем смуглого юношу иностранца, проживающего у Махневых. Через минуту началось такое, о чем Лушка впоследствии вспоминала с негодованием, но забыть это действо не могла до конца жизни. Барин принялся целовать юношу, гладить и обнимать так страстно, как не делал никогда ранее ни с одной женщиной. Даже сквозь подмороженное окно было видно, что глаза его горят вдохновенным огнем, движения порывисты и откровенны. Лукерья забыла о том, что замерзла, забыла, что голодна – она вся так и приросла к этому окну. Пытливые глаза вбирали каждую деталь происходящей сцены. Развратная бабенка, видавшая ранее многие похотливые сцены и сама принимавшая участие в барских оргиях, отпрянула от стекла, когда меж двух любовников, наконец, произошло само содомское соитие. «Вот оно что! Вот, с кем отдыхают его мудя! Вот, на кого он нас променял! Мне намекали, а я не верила! Ну, погоди, голубчик, я тебя ославлю на все деревни, на весь уезд слава пойдет», – мстительно соображала она, с трудом выбираясь из заснеженного леса.
Глупая и недальновидная Лушка исполнила свое намерение. Не было ни одного двора, где бы она не растрезвонила эту ужасную новость. Она, словно куница, бегала по знакомым и подружкам, заглядывала на скотный двор, в кузню, в мастерские. Ее толстые пятки, облаченные в серые валенки, сверкали по дорогам, неся полоумную, оголтелую сплетницу на будущую погибель. «Барин-то наш, каков! Нехристь адовый! Он мужиков еть теперь зачал!» – только и слышалось всюду. В одном из дворов хозяйка огрела Лушку по морде мокрой тряпкой со словами: «Пошла вон, лярва потаскушная! Сама ты – нехристь адова!» В другом ее чуть не окатили помоями.
Поверил ей кто, или нет – нам не ведомо. Только на следующее утро Лукерью разбудил громкий стук в дверь. Накинув зипун, заспанная баба выскочила в сени. На пороге стоял Игнат. Черные глаза метали громы и молнии, казацкий ус дергался от напряжения.
– Игнатушка, сокол, как я рада, что ты ко мне пожаловал. А то совсем уж Лушку все позабыли. Идем в постель мою вдовую, она ешо вся теплая от моих телес. Я тебя приголублю. Тоскую я по ласке. Сил моих нет. Я баба в соку, а мужики-то нонче – не те пошли. Им не баб подавай, а чертей заморских, – полная, заголившаяся рука потянулась к рукаву Игнатова полушубка.
Игнат резко вырвал рукав, крупная ладонь ударила Лушку в распахнутый ворот ночной сорочки. Захватив ногами пустое ведро, женщина с грохотом полетела в угол сеней. Сильная боль пронзила Лушкину поясницу. Она взвыла, словно раненная собака, запричитала и заохала. Игнат подошел к ней вплотную, наклонился и злобно прошептал.
– Собирайся, сука! Пошли, можешь не одеваться!
– Кудааа?! – завыла она и затряслась от страха. Никогда ранее Игнат не вел себя так грозно и жестоко.
– Куда?! И ты еще спрашиваешь? Язык твой поганый вырывать пойдем!
– Игнатушка, не надо! Я не виновата! Отпусти меня! – плакала она, размазывая по щекам горючие слезы.
Железные пальцы приказчика схватили ее за полную шею, нога, обутая в новый, добротный сапог, пнула дверь – в сени ворвался морозный воздух. Лушкино тело сжалось от холода и страха. Минута – и она оказалась лежащей на снегу босиком и в одной тонкой исподней рубахе. Длинные белесые волосы развевались на морозном ветру, как мочала на заборе, голубые глаза застекленели от слез. Лушка дрожала так, что зубы прикусывали язык: во рту появился привкус крови. «Он отрежет мне язык!» – мелькнуло в ее голове.
– Игнатушка, пощади! Пощади, родимый! Не губи меня, дуру окаянную! – она бросилась к его ногам, руки схватили за сапоги. – Не губи, я… я… ведь тяжелая, а вдруг это твой ребеночек, – ляпнула она первое, что пришло на ум. До нее дошел весь ужас ею содеянного. Она поняла, какую совершила глупость. Как было спасаться? Чем оправдываться – она не знала.
– Врешь, ты все, блядь ярыжная. Не ждешь, ты дите! Врешь, чтоб от наказания уйти! – проговорил он, но пыл его немного поубавился, а на лице появилось задумчивое выражение.
В одну секунду Лушка вскочила на ноги и побежала назад в дом. Там она наскоро нацепила полушубок и валенки. Игнат догнал ее в два прыжка и волоком потащил во двор имения Махневых.
Глава 23
По приказу барина на одном из задних дворов поместья собрались многочисленные дворовые, прислуга, и крестьяне из близлежащей деревни. Все те, кого смог собрать решительно настроенный, приказчик. Крепостные жались от утреннего мороза, притоптывали валенками, слышался оживленный шепот, пересмешки, людской гул. На середину двора вышел Игнат. Говор толпы сразу поутих. Игнат прокашлялся. Его лицо покраснело, изо рта валил пар, шапка сдвинулась на затылок. Несмотря на холод, он вспотел – черные волосы липли на хмурый, тяжелый лоб.
– Православные! – громогласно обратился он к толпе, – я собрал вас для того, чтобы на ваших глазах свершилось правосудие над одной мерзкой холопкой. Она возомнила, что имеет право быть ровней своим господам. Эта богомерзкая тварь дерзнула опорочить честное имя своих хозяев. Тех благороднейших людей, которые давали ей кров и пищу. Она подняла руку на «святая святых» – на честь своего барина.
По толпе прошел гул, посыпались одобрительные реплики деревенских бабенок: «Давно пора прибить эту потаскуху! Нет ей пощады! Забей ее, Игнатушка!»
– Сейчас, на ваших глазах, в назидание всем, я отчленю ее поганый язык! Чтобы каждому из вас было неповадно брехать, что нипопади на своих господ, которые и так добры и милостивы к вам без меры! – зычно продолжал он.
Один из слуг вывел бледную, испуганную, дрожащую от холода Лукерью. Она была в валенках, но в одной тонкой исподней рубашке. Сквозь белую ткань просвечивали сжавшиеся от мороза, соски арбузных грудей, полный живот и темнеющее устье обнаженных ног.
– Вон, как отожралась, прорва, на хозяйских-то харчах! – крикнула в толпе какая-то пожилая женщина и погрозила сухоньким, темным от работы, кулачком.
Игнат подтащил Лукерью к деревянной колоде, где разделывали мясные туши. Сильная ладонь надавила на круглое плечо, Лушка упала на колени перед колодой. Ее бил колотун. В воздухе нависла тишина. Сотня глаз со звериным любопытством ждали, как Игнат будет выдирать язык из живого человеческого рта. Игнат склонился над несчастной.
– Высунь язык и клади на колоду. Я отсеку его топором, – проговорил он, дыша водочным перегаром. Он специально выпил для храбрости накануне зловещей экзекуции.
– Нет! – взвыла Лушка нечеловеческим голосом и замотала головой с сильно сжатой челюстью. – Пощади, Игнатушка! Люди добрые! Владимир Иванович, пощади, меня – дуру окаянную! Слова худого от меня более не услышите! Уйду в монастырь, буду за здоровье своих господ молиться, до самой смерти буду! – скороговоркой кричала она и тут же прятала язык за крепкие зубы, дрожащая ладонь прикрывала мокрый рот.
Владимира Махнева не было в толпе. Он и Анна Федоровна наблюдали за наказанием из окон своего дома. А потому не слышали безумных и жалостных криков виновной.
– Володя, все же, как-то, это все не комильфо… Мы же не язычники какие – языки и ноздри рвать. На дворе просвещенный век, – заметила барыня. Но глаза ее горели оживленным огнем.
«Настоящим хозяином сын становится. Холопов наказывает. И главное кого? Свою любовницу бывшую. Поделом ей. Другим неповадно будет. А то – распустили языки. Нет, с народом надо быть жестче. Они хорошего отношения не понимают. И воля таким образинам ни к чему. Дай им волю – они напьются, дома и посевы пожгут, да потравят. Дикари!» – размышляла она.
Меж тем, на улице Игнат тряс острым топором перед скрюченным от плача, Лушкиным лицом.
– Высунь язык, я говорю! Не уйти тебе от наказания. А в монастыре ты и без языка сгодишься. Там немые в цене!
Лушка мотала головой, сквозь сомкнутые зубы прорывался звериный вой.
– Ну ладно, не хочешь топором, я по-другому с тобой расправлюсь. Я пошел в кузницу за клещами. Тебе же хуже будет! Сейчас зубы выбью, и пол глотки с корнем вырву.
От этих слов несчастная заорала еще громче, потом странно задергалась и… обмочилась. Желтые струи побежали по полным ногам и залили весь снег возле деревянной колоды.
– Володя, сынок, выйди, посмотри, чего там? Накажи ты ее розгами и отпусти с миром. И так уж хорошо. И так страху на холопов нагнал.
Махнев нехотя оделся и вышел во двор. Он перехватил Игната, когда тот нес из кузни огромные лошадиные клещи.
– Игнат, скажи им, что я милую эту суку. Кровопролития не будет. Вот тебе мое решение: дай ей пятнадцать ударов розгами, – проговорил он. А потом усмехнулся и добавил, – а как поправится, отправь ее в ближайший гарнизон, в казармы к солдатам. Этой бляди не монастырь нужен, а тысячи крепких удов. Я добрый – пускай она получит то, чего желает.
Игнат объявил народу и обезумевшей Лукерье «барскую милость». Женщину привязали к столбу и избили розгами. Рубашка пропиталась кровью, изорвалась во многих местах, оголяя полное и белое Лушкино тело. Но Лушка почти не кричала от боли. Она знала, что «легко отделалась», а потому, в глубине души была безмерно счастлива такому повороту.
«Надо же, почти не кричала», – думал Игнат. – «Может ей приятно, я помню, как она любила, когда я сек ее плетью. Нет, она точно не тяжелая… Не может этого быть». Через две недели он с легким сердцем отвез Лукерью Потапову в солдатские казармы, заплатил прапорщику и велел держать ее на солдатском довольствии и использовать по назначению…
* * *
Глупая, несчастная баба поплатилась за свой болтливый язык. Барские холопы поутихли, стали еще больше уважать и почитать своего барина. А что за толки были, о чем судачили, в чем барин был грешен – о том все разом замолчали. Не холопское это дело – господам указывать. Все пошло своим чередом. После этой истории Владимир Иванович стал вести себя немного осторожнее. Но привычек и пристрастий не переменил. Жил в свое удовольствие.
Глаша все так же маялась с нелюбимым мужем. Серые будни были полны беспробудной тоски. Если бы не Татьяна, жизнь и вовсе была невыносимой. Мысль о том, что она не сможет вот так целый век прожить с ненавистным мужем, давно поселилась в душе у Глафиры. Что было делать? Бежать? Куда? Как жить дальше? Все эти вопросы мучили ее, и казалось, были неразрешимы.
Последней каплей в огромной чаше терпения стало еще одно событие. В один воскресный день Ефрем Евграфович проснулся в крайне раздраженном настроении. Он подозвал к себе Глашу.
– Глафира Сергеевна, я вчера до ночи подсчитывал наши расходы и пришел к неутешительному выводу: ваше содержание мне слишком дорого обходится. Одного мяса и масла я стал покупать вдвое больше. Не экономятся свечи, мыло, крупы и прочие продукты. Наш бюджет не выдерживает таких трат. Призывать вас к экономии я замучился. Из вас не вышло ни хорошей жены, ни экономной хозяйки. А эти ваши платья? Когда вы станете одеваться скромнее?
– Но, это, же мои платья. Они не вами куплены. А деньги? Тетушка давала за меня небольшое приданное. Отчего вам не пользоваться этими деньгами?
– Ах, вот вы как заговорили? Приданное свое вспомнили? Про эти деньги можете забыть. Не вашего ума дело – на что они мне надобны, – он соскочил со стула и принялся нервно выхаживать по комнате длинными, словно у цапли, ногами.
– А что вам от меня-то нужно?
– Что нужно?! Вот, мое решение: Татьяну отправьте Махневым, вы и без нее справитесь. Не велика барыня – горничных иметь. Она хоть и сноровиста, а все же мне лишние рты не надобны! И от шушуканий ваших куньих, да переглядок злокозненных я порядочно устал. Небось, все кости уже мне перемыли, пока я на службе государевой тружусь, рук не покладая? – Муж поморщился, оглядывая Глафиру. – И вам, голубушка, придется попоститься. Чтобы закрыть брешь в семейном бюджете, я должен перевести вас на месяц, на хлеб и овес. Вот, так вот! Не умрете. Оно вам даже пользу принесет. Гордыню усмирит. А то, я смотрю: дни идут, а вы все румянее становитесь. Словно на водах побывали. Вам остепениться надобно, а вы все порхаете. Словно и не замужем.
– Так… А по-вашему замужняя женщина должна через полгода в старуху превратиться? Скукожиться, чтоб вам под стать сделаться? – гневно прокричала Глаша.
– Как, вы смеете на мужа голос повышать? Кто, вам дал такое право?!
– Ефрем Евграфович, давно я терпела и молчала. А теперь скажу: не «по Сеньке шапку» вы выбрали. Зачем женились на мне? Чтоб голодом морить и злобу свою срывать оттого, что мужчина вы никудышный? А еще хвастали, что проблем с женщинами не знали. Знайте, я с Татьяной не расстанусь. Хоть жизни меня лишайте. Противны вы мне до невозможности. Прошу вас, не ходите ко мне ночами. Толку не будет. Детей я вам не рожу!
– Ах, ты потаскуха! – злобно прошептал муж и с размаху ударил Глашу по лицу. Она упала. Глаз немного припух. – Детей она не родит! Смотри у меня… Я устрою тебе жизнь веселую. Сама захочешь мужниной ласки, но не получишь ее вовек!
Хорошо, что Татьяны в это время не было дома, а то неизвестно, чем бы все закончилось. Стараясь не сгущать краски, зная горячий нрав подруги, Глаша рассказала ей о разговоре с мужем. Та отреагировала на удивление – спокойно. Только сделала примочку на Глашин глаз.
– Придется взять грех на душу, – сквозь зубы прошептала она.
– Какой грех, Танечка?
– Я отравлю плешивого.
– Ты, что? Нас же на каторгу отправят!
– Не бойся. Я все сделаю своими руками. Это не твой грех будет. Я давно уже это смороковала. Мне ворожея дала вот эти грибки, – худенькая ручка нырнула в карман и вытащила холщевый мешочек с неведомым зельем, – мы их истолчем в порошок и добавим ему в суп или кашу. Через день он начнет животом маяться. А еще через пару – богу душу отдаст. Это проверенное средство. Верное! И недели не пройдет, как ты вдовой станешь. Полно ему изгаляться. Поживешь с этим супостатом еще годок, и точно в старуху превратишься. Горе-то никого не молодит.
– Таня, я боюсь. Вдруг, как полиция прознает? Вдруг, нас выведут на «чистую воду»? Окажемся из-за него в Сибири.
– Владимирка[101] не про нас… Комар носу не подточит. Уж лучше сами, без него как-нибудь. Лихо жить в нуже, а в горе и того хуже.
С этого самого разговора Глаша и вовсе потеряла покой. Она ходила словно во сне, пока рыжая преступница готовила страшную месть для ее мужа.
В одно прекрасное утро, во время завтрака Татьяна подала хозяину тарелку со зловещей кашей. Ефрем Евграфович не спеша попивал бледный чаек и собирался уже приступить к еде.
Глаша стояла за дверью и наблюдала за происходящим. Все, что было далее, она видела как в замедленном действии. Сердце рвалось из груди, ужас застыл у самого горла, богатое воображение подкидывало страшные картины ареста, суда и каторги. Не успел муж протянуть руку и взять ложку, как она выбежала из комнаты, схватила тарелку и унесла ее на двор. Через минуту она вернулась, как ни в чем не бывало.
– Сударыня, и как это прикажете понимать? – спросил удивленный муж. Он так и остался сидеть с открытым ртом.
– Я… Я… просто кашу сожгла.
– При наших-то стесненных средствах, вы еще и кашу позволяете себе сжечь? А где была ваша помощница? Полный дом баб, а толку никакого. Голодным теперь на службу идти надо… Послал же господь женушку. Что толку, что красива? Красотой сыт не будешь! Никудышная хозяйка. Сосватали Махневы «кошку в мешке».
Он еще долго ворчал в передней, кряхтел и разговаривал сам с собой, пока за ним не захлопнулась входная дверь. Глаша медленно вошла в комнату Татьяны, села на кровать, руки упали словно плети, лицо побледнело.
– Таня, не говори ничего. Я так решила. Ни ты, ни я не возьмем грех на душу. Этот болван не стоит такой высокой цены. Теперь, я прошу тебя на меня положиться. Я что-нибудь придумаю. Я обязательно что-нибудь придумаю.
Не слушая возражений Татьяны, Глаша наскоро оделась в самое лучшее платье, уложила на голове крендель из собственной косы, накинула пальто и выскочила на улицу. Она взяла извозчика и поехала к поместью Махневых.
Часа через полтора она была уже на месте. Глаза с радостью смотрели на знакомые дома, заборы, сараи. Ей так захотелось войти в господский дом, броситься к тетке, рассказать ей обо всем. Но более всего хотелось увидеть ЕГО. Хотелось, но она вовремя одумалась. «Глупая я… Правильно, Таня говорит про меня, что я глупа и доверчива. Жизнь меня треплет, а я все надежды лелею. Кому пожаловаться захотела? У кого защиты решила искать?» – с горечью думала она. Ноги понесли ее к дому приказчика Игната. На удивление, он оказался дома и очень обрадовался, увидев Глашу на пороге.
– Ба, Глафира Сергеевна, какими судьбами? Рад видеть вас!
– Я ненадолго Игнат, – с волнением произнесла Глаша. – Мне очень нужно увидеть Владимира Ивановича. Я не хочу встречаться с ним в тетушкином доме. Скажи ему, что я буду ждать его через полчаса у бани. Скажи, что мне очень нужно с ним поговорить.
Через полчаса она была на месте, подошел туда и кузен. Она сильно волновалась перед встречей. Она не видела его несколько месяцев. Какой он стал? Как посмотрят его глаза? Что он ей скажет? А впрочем, говорить должна была именно она.
– Здравствуйте, Глафира Сергеевна. Вот не ждал, не гадал, что снова вас увижу и, главное, где? В моей обители. Откуда вы всегда бежали. Чем обязан вашему визиту? – проговорил он, глядя на нее все теми же серыми, с усмешкой, глазами, – выглядите вы прекрасно. Похоже, замужество, как не странно, пошло вам на пользу. Как там ваш Елистратишка поживает? А что, его мужское достоинство оказалось столь же длинным, как и он сам?
Игнат, присутствующий в начале разговора, рассмеялся высказанному предположению.
– Не думаю, что настолько длинным, – игриво заметил приказчик, – думаю, что настолько малым, как и его чин.
– Владимир Иванович, я здесь не для того, чтобы обсуждать гнусные подробности моей супружеской жизни.
– А для чего вы здесь? Желаете разнообразить унылую семейную жизнь и «наставить рога» вашей канцелярской крысе? Так, мы можем с Игнатом вам помочь в этом предприятии и по старой дружбе, совершенно от чистого сердца, оказать эту услугу. Правда, Игнат?
– Сущая, правда, – ответил, ухмыляясь, приказчик.
– Владимир Иванович, я прошу вас, – голос Глафиры звучал уверенно, как никогда, – это конфиденциальный разговор. Мне нужно поговорить наедине.
– Ну вот, зачем ты, Mon cher, Игната обижаешь? Он ведь тоже давно тебя не видел. Ну, будь, по-твоему. Игнат, оставь нас, пожалуйста.
Игнат ушел. Несколько минут бывшие любовники смотрели друг на друга.
– Пойдем, наверх. Там потеплее будет, – проговорил Владимир.
Они поднялись на второй этаж. Как давно Глаша не была в этой комнате. Здесь все было по-прежнему: так же красиво, мягко, уютно и… пахло развратом. Она вспомнила ту ужасную ночь, когда ее напичкали опиумом и долго насиловали. Вспомнила страшные видения, лешего, кикимор, утреннюю тошноту и кровь на столе.
– Слушаю тебя, Mon Cher, – прервал кузен ее мысли.
– Володя, ты знаешь, догадываешься, что моя жизнь с мужем просто невыносима. Я страдаю без меры. Помоги мне, я хочу уехать от него.
Казалось, он не слушает ее, а только смотрит.
– Иди ко мне. Я соскучился… Он часто спит с тобою?
– О чем ты? Он несостоятелен по мужской части.
– Как, совсем? – его брови приподнялись от удивления.
– Совсем…
– И как же ты, бедняжка? Ах, да там же Тишечка с тобой живет. Он сгодился тебе хоть немного?
– Володя, перестань, так Таню называть. Она не заслуживает этого. Если бы не она, я и вовсе бы удавилась давно.
– Понятно, она облегчает твою нужду.
– Причем, тут это? Мой муж не только никудышный любовник, он к тому же, отвратительный, скупой и глупый человек.
– Сочувствую… Это не я, это идея Maman – выдать тебя замуж за это убожество.
– Я знаю, что тетя невзлюбила меня с первых минут нашего знакомства.
– Таких, как ты, женщины не любят. Таких, любят только мужчины. Я смотрю на тебя и, черт побери, готов признаться, что сильно соскучился. Хватит, разговоров… Все разговоры потом.
– Я не за этим сюда ехала… – неуверенно пробормотала Глаша.
– Разве? Не лги себе. Именно за этим ты и ехала. Моя ласковая лапушка давно соскучилась по мне.
Куда девалась Глашина решительность, здравомыслие, деловой настрой? Во всем теле громко зазвучало одно лишь желание: отдаться в сильные и страстные объятия своего любимого. Плохо соображая, она принялась скидывать шляпу, платье, корсет. Тело лихорадило от предвкушения близости. Она так истосковалась по нему…
Он дернул ее за руку, и они оказались на постели. О, как нежно он ее целовал, как сильны были его объятия. Она опять слышала родной, знакомый шепот. «Вот, оно – счастье! Пусть вся жизнь улетает к чертям, пусть поворачиваются реки вспять, пусть рушатся горы, пусть сходится клином весь свет, пусть она полетит вместе с ним в Преисподнюю – нет такой силы, такого довода, такого слова, ради чего она могла бы пренебречь этим огромным счастьем – наслаждаться близостью с любимым. Да, он грешник. Да, пусть он сам Сатана – она не может оторваться от этих сладких объятий».
Глаза ее потемнели, губы горячечно раскрылись для поцелуев. Казалось, само время остановилось, и пространство стало тягучим, словно липовый мед. Он дерзко овладевал ею, она – истово, с радостью подчинялась… Сколько длилось это волшебство, она не знала. Когда проснулась, то увидела, что сквозь окно чуть брезжит утренний холодный рассвет. «Господи, я пробыла тут полдня и всю ночь», – мелькнуло в ее голове, – «Таня, наверное, сходит с ума, и муж… А, впрочем, на него мне плевать. Все решено». Она искоса посмотрела на кузена. Он спал, мерно посапывая. Не дожидаясь его пробуждения, из-за прилива сильной нежности, она принялась целовать его лоб, щеки, шею. Он заворочался, отмахнулся, и продолжал дремать.
– Володя, любимый мой, проснись, пожалуйста. Нам надо что-то делать.
– Нам? – недовольно проворчал он и сел. Потом он нехотя встал и с хмурым видом начал одеваться.
Глаша сидела на кровати, поджав под себя босые ноги, и с трепетом вглядывалась в его движения.
– Глафира Сергеевна, я понял из вашего вчерашнего рассказа, что вы намерены бежать от мужа. Это так?
– Да… так. Но, разве мы не вместе? Ты, же видишь, что мы созданы друг для друга.
– С чего вы взяли? Я помогу вам: дам денег и адрес в городе, где вы найдете заботу и приют. Мари… Вы помните ее? Она дала свой адрес, так как чувствовала, что рано или поздно, вы сбежите от супруга.
Глашины глаза заволокло слезами.
– Володя, давайте уедем вдвоем. Я люблю вас больше жизни! – она бросилась к нему в ноги. Губы принялись лихорадочно осыпать поцелуями его руки. – Согласитесь, я прошу… Я буду любить вас…
– Кто вам сказал, Глафира Сергеевна, что ваша любовь чего-то стоит? Удивляюсь вашей предсказуемости! Из раза в раз, вы мне одно и то же пытаетесь внушить. Ну, сколько можно? Вам самой не надоело? Я премного благодарен за все признания. Но, в свою очередь, хотел признаться, что нет для меня на свете скуки мучительней, чем праведная жизнь с такой, как вы… Все эти ахи, вздохи, гуляния под луной… Меня от этого вытошнит в первый же день. Вы помните, еще в начале нашего знакомства, я сказал, что вы переоцениваете меня. Я слаб и грешен. И совсем не таков, каким вы меня вообразили. Уж, лучше бы вы были безграмотны, как Лушка или Маруся. Глядишь – меньше бы фантазий в вашу голову входило. Ох, уж эти аристократки… Начиталась Байрона… А жизнь, она – другая. Она намного жестче.
– И сто тысяч раз скажу себе, что я глупа, – задумчиво пробормотала Глаша. – Но разве, так можно? Как, можно быть таким?
– Глашенька, душа моя темна, как самый темный колодец… Я и сам-то в ней броду не знаю. А еще вы меня судить беретесь. Думаете, я жалею о том, что развратил и погубил вас? Вы ошибаетесь. Мне вас не жаль! Все вы – как полевые цветы. Росли и цвели лишь для того, чтобы я рвал вас и топтал немилосердно. Признаюсь: ваш цветок был чище и красивее других цветов и требовал прозрачной воды, фарфоровой вазы и бережного отношения. Но, самое смешное – именно поэтому мне слаще было сорвать его без жалости и погубить с особым жестокосердием.
– Володя, вы больны…
– Я здоров. Я просто сильно отравлен излишествами плотскими, чтобы обратить свое внимание на такого ангела, как вы. Вы слишком просты для меня и примитивны. Я давно познал вашу душу. Вы этакий тип «вечно кающейся грешницы», которая в мыслях кается, а сама подол задирает. Оно, в общем-то, и неплохо, а для многих мужчин даже пикантно и большой простор фантазии дает. Для многих, но тех, кто не сильно искушен. А для такого, как я – вы скучны немилосердно, – он немного помолчал, глядя куда-то вдаль, – признайтесь, при всей кажущейся чистоте, у вас тоже в душе адом попахивает? Вы только вошли вчера ко мне, а я уже почувствовал за вами серный шлейф. За вашу душу тоже бесы ухватились крепко… Отмолитесь едва ли… Хотя, вы добрая, пожалуй, что отвертитесь. А вот, скажите мне на милость: отчего же вы, такая безгрешная выбрали себе в пристрастность такого порочного монстра, как я? Негодяя, который не раз унижал вас, оскорблял и выставлял на потеху? Не знаете? Так, я отвечу вам. Это потому, что сами вы в душе порочны. Я никогда бы не сказал этого, если бы не помнил ваши глаза… А знайте, что глаза являются зеркальным отражением наших душ. Ваши глаза светились пороком всякий раз, как видели мой фаллос. Вы сами о себе всего не знаете, а еще судить беретесь. Говорите, что я болен. А вы не больны? Ладно, хватит пустых разглагольствований. Я дам денег. На первое время вам хватит. Вот, адрес Мари. Идти к ней или нет – это ваше дело. Чуть позднее я встречусь с вашим мужем и уговорю его за определенную сумму наличных не разыскивать вас, а поскорее забыть.
Пока он разговаривал с ней, она медленно одевалась. Медлила оттого, что предчувствовала, понимала, что видит его в последний раз.
– Спасибо, Володя, и прощайте. Я буду, как умею, молиться за вас.
– Не трудитесь, сударыня. Не хлопочите напрасно. Меня уже не отмолить…
* * *
В тот же день Глафира уехала от мужа. Собрав немногочисленные пожитки, тайком от всех, вдвоем с Татьяной они поехали навстречу новой жизни…
Шло время, Владимир все так же забавлялся с Шафаком. Но переменчивость его натуры стала проявляться и по отношению к этому юноше. Сначала, он стал с ним чуть грубее, исчезли некоторая щепетильность и пристрастность… Потом, ему стало казаться, что Шафак слишком предсказуем и однообразен. Все то, что нравилось ему в начале, теперь приелось и стало раздражать. Бедный юноша, оказавшейся на чужбине, не мог никому пожаловаться или поделиться сомнениями. Все его отношения ограничивались одним барином. Остальной, чуждый ему мир, был слишком враждебно настроен к «иностранной кукле», кем он слыл среди прислуги и дворовых. Долгими часами Шафак был предоставлен самому себе. Это приводило его к частой меланхолии, а порой и к приступам истерии. Он мог часами плакать в подушку и ждать возвращения Махнева. Как только Владимир Иванович появлялся на пороге, Шафак бросался с криками и упреками к ногам своего господина.
– Владимир-эфенди, ты бросил меня. Тебя не было три дня! Шафак думал, что умрет от тоски. Зачем, ты разлюбил меня? – голос прерывался сильными рыданиями.
– Перестань, говорить глупости. Я просто был занят. У меня много дел. Идет посевная.
– Ты, не разлюбил Шафака?
– Нет, не разлюбил, – отвечал Владимир, но в голосе чувствовалось раздражение.
«Как он стал навязчив… Мне кажется, он как-то изменился… Подурнел, по-моему. В лице что-то переменилось и в фигуре тоже. Похоже, он потолстел! Конечно, все эти сладости, потребляемые в больших количествах, не способствуют стройности. Если так и дальше пойдет, то через год он превратиться в толстенную бабу. Мне говорили, что кастраты сильно полнеют с возрастом. Вон, и у этого щеки отвисли. А может, он от слез опух. Как он жалок! Глупое существо, созданное на потеху сладострастным туркам. Неведома зверушка… Гаремный страж. А я – хорош! Любитель экзотики! Куда теперь его девать?» – думал Владимир. – «А может, просто я устал от него? А может, у меня сплин? Должно же быть, ну хоть какое-то разнообразие.
Неделю тому назад, в театре я видел одного… Строен, светловолос, порывист. А взгляд так кроток. Похоже, он девственник. Хотя, среди артистов…Я думаю, что врядли на него не нашлось желающих. Как бы подступиться к нему? Надо обстоятельно сие обдумать».
– Шафак, солнце мое. Я люблю тебя по-прежнему. Ты только кушай поменьше – похоже, ты стал немного поправляться.
Эти слова любовника доводили несчастного до глубокого отчаяния. Он садился на строгий пост. Почти ничего не ел. Но потом срывался от печали, наедался и полнел еще сильнее.
Дошло до того, что барин отвез его в охотничий домик и не захотел забирать в господскую усадьбу. Долгое время Шафак был предоставлен самому себе. Он слонялся по лесу как дикий, загнанный зверек, тосковал и мучился.
Редкие приезды господина были для него, как восходы солнца среди кромешной тьмы.
– Володя-эфенди, лучше убей меня! Я измучен твоей холодностью… Я чувствую, что стал тебе противен. Я умру от ревности, если ты бросишь меня.
– Это не так… – уклончиво отвечал барин. Серые льдистые глаза смотрели в сторону – Владимир пытался скрыть чувство брезгливости, воровато поглядывая на несчастного юношу. Он с неудовольствием отметил, что глаза турчонка помутнели и заплыли от слез; овал лица стал тяжелее; нечесаные и немытые волосы слиплись и висели сосульками. Молящий взгляд Шафака невыносимо раздражал…
Потная обезьянья ладошка робко потянулась к лицу обожаемого барина. Владимир поспешно встал и, повернувшись к окну, уставился на зеленеющий пейзаж.
* * *
В августе 1859 года Владимир, в сопровождении нескольких девиц легкого поведения, которых он привез накануне из города, и приказчика Игната весело, беспечно и с размахом проводил время в своей знаменитой бане. Кутеж длился третьи сутки. Вольдемар, как всегда, баловался гашишем и опием. Он так втянулся в наркотики, что редкий день проходил без того, чтобы он не блаженствовал от страшного дурмана. Увеличивая дозу, он гнался за все более острыми ощущениями. Развратная фантазия толкала его на новые забавы и эксперименты. Видавшие виды проститутки теперь с осторожностью соглашались разделить его опасную компанию.
В тот злополучный вечер он перепробовал разные игры: хлестал любовниц плеткой, потом хлестали и его, наблюдал за сценами лесбийских ласк, ласкали и его… Словом, все было, как обычно. К вечеру он снова покурил кальян и задремал в объятиях двух голых проституток. Ему приснился сон, а может, он грезил от опия. Владимир почувствовал, что стало жарко и захотелось пить. Оказалось: он спускается по горной дороге. Высоко в небе немилосердно палит солнце. Дорога, виляя через колючки и дорожные валуны, спускается резко вниз. Владимир огляделся – вокруг нет ни деревца, только крутая каменистая дорога. Он понял, что ему предстоит преодолеть ее всю, чтобы оказаться на твердой земле. Внизу парили белые облака – до земли было очень высоко.
«Угораздило же меня забраться на такую высоту! К самому черту на рога!» – подумал он с досадой, – «надо как-то выбираться». Известно, что с горы бежать намного легче, чем идти под гору. Но в этом видении было все иначе: он делал шаг вниз – ему становилось тяжелее. Будто кто-то невидимый с каждым шагом подкладывал на плечи крупные валуны. Стало тяжело дышать, горячий воздух обжигал горло, язык распух и вываливался из судорожнооткрытого рта. Ноги заплетались, колени тряслись, как с похмелья. Через несколько шагов вдруг спасительно повеяло водой, запахло свежими цветами. Он посмотрел направо и увидел женщину в белом платье. Женщина молилась, низко опустив голову. Молилась и плакала. Он подошел ближе и обрадовался. Это была Глаша. Но она не заговорила с ним, ее глаза глядели с немым укором, в них светилась печаль. Он протянул руку, она покачала головой, отвернулась, и снова послышался шепот ее страстной молитвы. И вот, он снова на дороге. И снова ему тяжело идти. Слева он заметил знакомый силуэт Лукерьи Потаповой. Несмотря на сильную жару, она дрожала от холода. Полное тело, облаченное в одну исподнюю рубаху, тряслось, словно в лихорадке. Ноги, обутые в валенки, приплясывали на талом снегу. Желтые, подозрительные разводы мокрыми пятнами покрывали тонкий подол… Ему стало неловко за нее. Он хотел подойти и спросить: «Почему она раздета и мерзнет, не смотря на жару? Откуда взялся этот снег?» Он направился к Лушке – ему стало еще жарче, в глазах потемнело, пот заструился по спине. Он делал шаг навстречу, а Лушка улетала от него на три… Поняв бессмысленность своих попыток, Владимир опустился на землю. Лушка гневно и презрительно посмотрела на барина, хмыкнула, погрозила белым кулаком и отвернулась.
И снова крутая дорога. Теперь тут и там он видел много знакомых лиц. В основном – это были женские лица. Кто-то ему был рад и приветливо улыбался при встрече, а некоторые барышни с обидой отворачивались. Кто-то безутешно плакал, а некоторых он и вовсе не узнал. Чем ближе был конец дороги, тем тяжелее становился путь. Последние шаги он делал через силу. Владимир остановился, чтобы перевести дыхание. Глянул вниз. О, ужас! Вместо облаков внизу бушевало море огня. Отдельные языки пламени взлетали вверх, обжигая подножие горы. Все деревья и кустарники, находящиеся вблизи, почернели и обуглились, толстый слой серого пепла покрывал каменные валуны. Боже! Куда ведет эта дорога? Надо повернуть, надо уйти с нее. Я не хочу гореть в адовом пламени. Но ноги не слушались его. Он пытался сделать шаг назад, а сползал все ниже, пытался ухватиться руками за колючие кусты, но ветки не выдерживали веса и ломались, царапая в кровь горячие ладони. Камни сыпались из-под ног. Он все сильнее скользил вниз. В лицо полыхнуло сильным жаром. Показалось, он слышит ужасное дыхание огненной бездны, страшные крики, звериный рык. Справа от себя он увидел большую черную птицу. Она сидела на ветке обгоревшего, мертвого дерева и внимательно наблюдала за тем, как карабкается Владимир, пытаясь не ускользнуть в страшную бездну. Он присмотрелся: у птицы было лицо несчастного Шафака…
– Шафак, мальчик мой, спаси меня! Подай, мне руку! Я могу сорваться в Преисподнюю.
Шафак не проронил ни слова. Он взмыл в небо, покружил над головой Владимира, – от взмахов его черных крыльев пошел легкий ветерок. Стало легче дышать. Пахнуло морем, травой и лимонами. Владимир закрыл усталые глаза. А когда открыл, то увидел, что Шафак поднялся на немыслимую высоту и превратился в маленькую точку. Через минуту эта точка полетела стремительно вниз. Мгновение, и по лицу ударило огромное бархатистое крыло. От удара крыла голова Владимира запрокинулась, обнажилось матовое горло. Острый коготь птицы полоснул по этому живому стволу. Владимир захрипел, подавился кровью и камнем полетел в огненную бездну…
* * *
Последнее, что увидел пред собой Владимир Махнев – было лицо любовника Шафака, искаженное страшным гневом. Обезумевший от одиночества, тоски и ревности, маленький, несчастный юноша, словно хищный зверек, выдавив окно парной, пробрался внутрь барского Вертепа. Смуглые пальца иноземца крепко сжимали булатный кинжал. Владимир безмятежно спал, развалившись, меж двух пышнотелых красоток. Турок, ослепленный местью, подошел к нему и одним махом перерезал горло.
* * *
Прошло около получаса… От бревенчатой, плохо освещенной стены, на которой роились странные ночные призраки, отделилась высокая фигура. Это был господин в темном, длинном плаще, черный цилиндр бросал тень на невидимое лицо. В комнате запахло сыростью и летучими мышами. Гулко прозвучали его шаги… Невероятным было то, что никто из обитателей барского Вертепа не слышал и не видел этого странного господина. Все спали, и сон их на тот момент, внезапно стал мертвецки глубоким. Один из присутствующих прелюбодеев, истекая алой кровью, струящейся из глубокой раны на белую простынь, уснул уже навсегда…
Темный господин осмотрелся и медленно подошел к Владимиру.
– Ну, что мой сельский Казанова, с душой поэта и с привычками султана… Я думаю: увидимся мы снова – дитя порока и слуга кальяна. Мой дерзкий лицедей и чуткий кукловод, софист и циник… Браво! Славно! Ты славно потрудился на меня. И ждет тебя роскошная награда.
Он присел на край постели, рука, облаченная в темную перчатку, погладила русые кудри и бледный лоб Вольдемара, закрыла серые, стеклянные глаза.
– Ты отдохни немного – минет век один: я разбужу тебя и снова вдохновлю на подвиги лихие Дон Жуана… Немало слабых душ ты погубил – доволен я тобою, Вольдемар! Поспи, сынок. Не смог я уберечь тебя. На время выйди из игры. Но помни: скоро я вернусь! Нас ждут с тобой великие дела!
Темный господин запахнул полу длинного плаща, его высокая фигура затрепетала в полумраке комнаты, воздух содрогнулся огненным вихрем – раздался громовой хохот и господин пропал – будто его и не было… Свечи потухли, вокруг воцарилась зловещая тишина. Банная горница наполнилась едким запахом серы.
Глава 24 Эпилог
Прошло три года. Уже торжественно объявили царскую милость: 19 февраля 1861 года в день шестилетия вступления на престол Александра II им был подписан «Манифест и основное Положение об отмене крепостного состояния».[102] 5 марта царские курьеры зачитали эти законоположения в церквах после отслуженной обедни. По Манифесту крестьяне переставали быть собственностью помещиков и становились «свободными сельскими обывателями». Им предоставлялись гражданские права: вступать в брак, приобретать имущество на свое имя, заключать договора, выступать в суде, переходить в другие сословия, менять местожительства, заниматься торговлей и предпринимательством и прочие гражданские свободы.
Все вышеперечисленное было лишь на бумаге. Формально крепостные стали «свободными», но на деле, же ничего не изменилось. Была полная неразбериха с «выкупом земли». «Выкуп земель» представлял огромную кабалу. Крестьяне все также продолжали ходить на «барщину» и платить «оброки», и секли их не менее чем раньше, а даже более тех времен, когда барин был «добрым и вальяжным». Наивные и доверчивые крестьяне думали, что их господа спрятали «настоящую царскую волю», а подсунули «подложную». Иные думали еще дерзновенней – «народ царем обманут». Вспыхивали бунты, но их топили в обильной крестьянской крови.
А некоторые, особенно дворовые крестьяне и вовсе не обрадовались «новым законам», считая, что «одна воля хлебом кормить не станет» и куда они, горемычные деваться должны от «отцов-кормильцев». Они так и оставались в полном распоряжении своих бывших господ.
Все, что происходило с Глафирой Сергеевной за эти долгие три года, мы не будем описывать. Это предмет отдельного повествования. Скажем только, что Глаша получила неожиданное известие о смерти своих родственников Махневых. Судебный исполнитель с величайшим трудом разыскал ее и вручил теткино письмо, написанное незадолго до смерти последней. Эта новость потрясла, видавшую виды Глафиру, как гром среди ясного неба. Дрожащими от волнения руками, она раскрыла пожелтевший листок бумаги.
В прыгающих, слабых, без нажима буквах, по витиеватым кавыкам, она узнала тетушкин почерк.
«Дорогая, Глашенька!
Пишу тебе это письмо, а у самой нет полной уверенности в том, что оно дойдет когда-нибудь до тебя, и ты сможешь прочитать мою последнюю исповедь. Глашенька, дни мои сочтены, но совесть и душа неспокойны перед лицом неминуемой смерти. Я знаю, что причинила тебе большой вред. Ты была сиротой несчастной, но в нашем доме вместо ласки обрела лишь злобу и ненависть. Всему виной – моя неуемная гордыня. В этом и каюсь я перед тобой! Не знаю, простишь ли, ты меня… В этом месте строчки расплылись.
Сообщаю тебе, что в августе 1859 года мы похоронили нашего Володеньку.
Он был убит зверской рукой неизвестного душегуба. В этом месте тоже стояла размытая клякса. Полиция подозревала в убийстве иностранца Шафака, тем более что последний пропал, как сквозь землю провалился. А вместе с ним и булатный кинжал из коллекции оружия. Куда подевался этот страшный бесенок никто так и не узнал. Полиция обыскала все леса и поля в нашем поместье и в соседних деревнях, а его и след простыл. Сколько ни шло следствие, а виновный так и не найден. Хотели даже на Игната вину за убийство возложить, но потом его отпустили за недостаточностью доказательств. Дело до сих пор не закрыто. Шафак объявлен в розыск.
Со смертью Володи для меня померк весь белый свет. Я плакала и горевала дни и ночи, молила господа об упокоении души моего грешного сына. Пару месяцев назад меня хватил удар. Доктор пришел к неутешительному выводу, обнаружив у меня еще несколько смертельных заболеваний. Я знаю, что мне недолго осталось, а потому пишу тебе это письмо. Хочу покаяться перед тобой и в том, что самолично лишила тебя хорошей партии. К тебе, Глашенька, сватался достойный, красивый и состоятельный господин – отставной майор Мельников Сергей Юрьевич. А я обманула его, сославшись на твою мнимую болезнь. Не знаю, что двигало тогда моими поступками? Какая корысть была в твоем несчастье? Знаю, что предстоит ответ мне перед господом держать на божьем суде за то, что искалечила жизнь бедной сироте. Где, ты теперь? Что, с тобой? Прости, меня Глашенька! Прости, как сможешь. Не то – не будет мне на том свете покоя.
Я оставляю тебе в наследство половину состояния, мои драгоценности и ценные бумаги. Нотариус при встрече передаст тебе мною завещанное.
Твоя тетя Анна Федоровна Махнева. 6 января 1862 года.»
Судебный исполнитель сообщил о том, что Анна Федоровна Махнева скончалась 5 февраля сего года, ровно через месяц после написания этого письма. Он сообщил ошеломленной Глаше, что большая часть имущества Махневых была распродана за долги, которые произвел Владимир Иванович еще при жизни. Оказалось, что пять деревень были заложены им у государства под внушительные кредиты. После смерти барыни многое пошло «с молотка». На продажу выставлены господские дома. В одном из домов в настоящее время проживает бывшая горничная Махневых, а ныне распорядительница и опекунша всего имения – Варвара Петровна Акиньшина (та самая Петровна). Она в настоящий момент и ведает «выкупом» оставшихся крестьян и распоряжается осиротевшим хозяйством.
– Глафира Сергеевна, к сожалению, от завещанного вам имущества осталась лишь малая часть. Вот, эта шкатулка с драгоценностями вашей тети. А также несколько тысяч ассигнациями. Мы еще произведем проверку и ревизию долгов Махневых. Возможно, там были некоторые нарушения со стороны госпожи Акиньшиной. В этом нам предстоит детально разобраться.
Глашины руки приняли увесистую серебряную шкатулку, инкрустированную резьбой и мелкими рубинами. Она открыла ее. Глазам предстало несколько жемчужных ожерелий, пять колец, пара брошек и золотой крестик, завернутый в бумагу. На этой бумаге было написано:
«Это крестильный крест Володи. Он никогда не носил его. Когда был ребенком, все время срывал его с шейки и терял на улице. Я хранила его в этой шкатулке. Береги его, Глашенька».
Руки поднесли крест к губам, она почувствовала соленый привкус. Глаша целовала заветный крестик и безутешно плакала.
Ровно через неделю дорожный экипаж привез ее в знакомые края. Стоял душистый май. Точно такой же звонкий май, какой был тогда, когда она впервые приехала к Махневым. Кажется, что ничего не изменилось, но между тем пролетела целая жизнь. Прежде чем пойти к поместью, Глафира решила посетить местную церковь и помолиться за упокой усопших. Она долго стояла у иконы Христа и Девы Марии и оплакивала души своих близких родственников. Яркий свет восковых свечей прыгал и дрожал от набегающих слез.
Выйдя из церкви, она шла по дорожке, взгляд наткнулся на плохоодетую, оборванную, сгорбленную нищенку, которая сидела у церковного забора и, вытянув правую руку, просила подаяние.
– Подайте, Христа ради, на пропитание, – заунывно клянчила женщина.
Глаше показалось, что она знает этот голос. Она подошла ближе, присмотрелась. Это была Лушка! Правда, это была далеко не та Лушка, которую когда-то знала Глаша. От прежней полноты, лоска, разухабистых движений не осталось и следа. Исчез румянец с Лушкиных щек, пропали веснушки, не горели огнем голубые хитрые глаза. Как могла измениться эта женщина за какие-то три года! Из-под серого шерстяного платка на Глашу глядели заплывшие, красноватые глаза, цвет лица казался землистым, щеки опали и покрылись сеточкой ранних морщин. Лушка вся сгорбилась и хромала на одну ногу, обмотанную грязной тряпицей. И к тому же от нее разило вином и застарелой мочой. Стараясь не смотреть в Лушкины глаза, Глаша наклонилась и подала ей милостыню. Ей не удалось ускользнуть от въедливого взгляда нищенки.
– Ба, Глафира Сергеевна, какими судьбами! Смотрите-ка, кто нас почтил своим вниманием, – и она ткнула в бок свою товарку – толстую молчаливую бабу, закутанную в зимний зипун, несмотря на почти летнюю жару. – Махневская сиротка пожаловала. Недотрога, барышня! Смотри-ка, как нарядилась… Видать, разбогатела. Надо же!
Она соскочила с насиженного места и, ковыляя и прихрамывая на одну ногу, поскакала вслед удаляющейся Глаше.
– Нет, ты постой, милочка. Постой! Ты в церкви, не за упокой ли братца и тетушки молилась? Если за них, то – зряшное это дело! – Лушка злорадно осклабилась, обнажив почти беззубый, несвежий рот. – Они оба в аду горят, а черти под их котлы дровенки не устают подкладывать. Добрая она… Дай, я тебе за доброту твою в рожу-то харкну!
Глаша остановилась.
– Луша, постой, не кричи. Что с тобой приключилось? Отчего, ты хромаешь?
Лушкино серое лицо скривилось, словно от зубной боли, дрогнули белесые брови, на лбу расцвели красные пятна, уголки сизых губ скорбно опустились, и она заплакала, размазывая слезы грязными руками.
– Что случилось? A-то вы не знали?
– Я ничего о тебе не знала.
– Владимир Иванович тогда зимой принародно меня ославил, выставил на мороз, хотел язык оторвать.
– За что? – Глашины глаза распахнулись от удивления и ужаса.
– За то, что я правду о нем рассказала. За то, что он сожительствовал с мужиком-инородцем. Я же их тогда в охотничьем домике застукала. Увидала, как барин свой уд окаянный пихал в непотребное место. Увидала, да сдуру болтнула об этом. И поплатилась сполна. Язык он мне не отрезал, но исхлестал в кровь и в солдатский полк отдал. А я сразу же тогда после стояния на морозе али от страху заболела недержанием… Сплю ли, не сплю – сама не замечаю, как мочусь. Вот и запах от меня дурной идет… Сама не рада. А в казарме солдатской и вовсе ад кромешный начался. По двадцать мужиков за ночь обслуживала. Два раза «тяжелой» была, два раза скидывала дите. К вину с горюшка пристрастилась. А ногу мне палкой один солдат старый спьяну перебил. Оттого, что у него в тот день не стояло. Вот так… А сейчас и вовсе болячку подхватила какую-то – язвит меня всю по телу. Вот – отираюсь у паперти, подаяние прошу. Побираюсь тем, что люди добрые дают. Надеюсь, что господь приберет поскорее, ибо жизня такая плоше смертушки.
– Луша, возьми еще немного денег. Только постарайся не пить. Сходи к доктору, купи одежду, – Глаша протянула несколько купюр.
– За деньги благодарствую. Оголела я, как нищета одолела. А про вино, ты мне не говори ничего! Ты, барышня, не знаешь, как вино душу мою греет и боль от ран снимает. Пила и буду пить, покуда не подохну. Спасибо за деньги. Теперь мне надолго хватит тоску-печаль заливать. Прощай, красавица! Скажу, что зря я тебя не любила… Не махневской ты породы, потому и добрая. Живи, как бог положит. Прощай!
И она поковыляла восвояси, словно утка, загребая больной ногой дорожную пыль. Глаша постояла немного, глядя ей вслед, и побрела в сторону деревенского погоста.
Здесь под сенью огромных дубов и лип, распустивших свежие листья, в благоухании цветущих ландышей, хоронились деревянные, теплые от весеннего солнца кресты. Сын и мать были похоронены рядом. Глаша смотрела остановившимся взглядом на могильные холмики. На них проклюнулась зеленая трава, по рыхлой земле деловито спешили черные муравьи. Все дышало весной и теплой жизнью. Она не плакала, слезы куда-то пропали. Она лишь непонимающе таращилась на два одинаковых холма. Взгляд пропахивал толщу земли и утыкался в плотную деревянную крышку, заколоченного гроба. «Неужто, здесь так покойно и тихо лежит тело человека, которого, я любила больше жизни?» – думала она. – «Его волосы, которые я гладила, красивое лицо, руки, сложенные на спокойной груди… А глаза? Как могут не видеть, его живые, умные, вечно лукавые глаза? Нет, это какая-то ошибка… Он не мог умереть. Он сейчас подойдет ко мне и положит руку на плечо».
Глаша все сидела у могилок и думала о любимом и грешном кузене и своей тете. Подул легкий ветерок, зашелестели молодые листья на дубах. Она знала, что это ОН подал ей знак, что слышит и видит ее. Ей даже показалось, что ОН улыбается ей, и впервые его улыбка была так добра и так печальна…
* * *
– А что мужики, и почем у вас нынче «воля»? – спросил неказистый, рыжий мужичонка, сдвинув рваный картуз на затылок. Он стоял у обочины дороги, пошатываясь на раскоряченных, коротких ногах. Присыпанные пылью, голые пальцы выглядывали из прохудившихся сапог, красная полинялая рубаха топорщилась пузырем на впалой, тщедушной груди.
– А летом десятина – сто рублей, а зимой и вовсе – «околей»! Не поднять нам их «милость царскую»! Ввек не откупишься. На кой, така свобода нужна была? – с залихватской злобой ответил второй чернобровый мужик, зыркая красным, подбитым глазом. – Мы за барином покойным жили, как у «Христа за пазухой». Всегда сыты ходили, одеты, обуты. А сейчас кому мы нужны?
Все нас гонют куды-то. В общины собирают. А что, та община? Проку-то с неё? Все одно – обманут. Только раньше барин нас один наказывал, да и то – редко, али шутейно. А нонче всякая сволочь так и норовит зуботычину дать.
И управы на супостатов не сыщешь.
– Да, жаль, барина. Хоть он и грешен был шибко и до полу женского охоч, а все же хозяин какой-никакой. А теперь помер, и нет у нас «отца-кормильца». Осиротели мы. Не знаем, куды податься? – добавил третий мужичок в смуром[103] армяке, тот, что выглядел моложе.
– Помню, я вашего Владимира Ивановича. Иду как-то утром, голова с похмелья болит. Лихоманит – сил нет. Смотрю: коляска барина вашего едет-покачивается. Придержал он лошадей, наклонился ко мне и спрашивает: «Что, братец, худо?» Я в ответ: «Худо, барин, ох, как худо…» А он усмехнулся, глянул серыми глазами, протянул мне пятак и говорит: «На опохмелись, горемычный, выпей за мое здоровье». И дальше поехал…
– Жаль барина… Хороший был.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.
Примечания
1
Тысячу извинений (франц.)
(обратно)2
Этого не может быть (франц.)
(обратно)3
У меня бессонница (франц.)
(обратно)4
Рад с Вами познакомиться. (франц.)
(обратно)5
Корпия – нащипанные из старой хлопчатобумажной ткани нитки, употреблявшиеся как перевязочный материал вместо ваты.
(обратно)6
Доброе утро, Мадам (франц.)
(обратно)7
Декокт – тоже, что взвар или травяная настойка.
(обратно)8
Подобно Байрону (франц.)
(обратно)9
Фриштик – завтрак, от немецкого Fruhstiick.
(обратно)10
Приятного аппетита! (франц.)
(обратно)11
Божественная (франц.)
(обратно)12
Фарина, Иоганн Мария (1685–1766) – основатель парфюмерной фабрики в Кёльне, создатель одеколона.
(обратно)13
Прелестно, вкусно, ароматно (франц.)
(обратно)14
Что это? (франц.)
(обратно)15
Приа́п (др. греч.) – в античной мифологии древнегреческий бог плодородия. Изображался с чрезмерно развитым половым членом в состоянии вечной эрекции.
(обратно)16
Киршвассер – вишневая наливка. От немецкого Kirschwasser.
(обратно)17
Как дела? (франц.)
(обратно)18
Спасибо, хорошо! (франц.)
(обратно)19
Ваша очередь, сударыня! (франц.)
(обратно)20
Любовь заставляет танцевать (франц.)
(обратно)21
«Кёльнская вода» – обобщенное название одеколона от французского «Eau De Cologne», созданного итальянским парфюмером Йоганном Марией Фарина.
(обратно)22
Большое спасибо! (франц.)
(обратно)23
Конечно. (франц.)
(обратно)24
Beaute du diable – красота дьявола. Так французы называют красоту, свойственную лишь молодости и свежести. (Примеч. автора)
(обратно)25
Божественная (франц.)
(обратно)26
Пожалуйста (франц.)
(обратно)27
Пожалуйста, в ответ (франц.)
(обратно)28
Афей – безбожник. От латинского ateos – безбожник.
(обратно)29
Конкубина – наложница, сожительница, любовница, содержанка от латинского concubina, что в переводе означает: наложница, любовница.
(обратно)30
Листовка – водка, настоянная на черносмородиновом листе.
(обратно)31
Люнель – французское сладкое вино. Произошло от названия города Люнель во Франции, где производилось это вино
(обратно)32
Регалия – сорт дорогих сигар. От латинского regalis, что в переводе означает – царский.
(обратно)33
Жирандоль – большой фигурный подсвечник для нескольких свеч. С французского girandole, Итальянского girandola, что в переводе означает – сноп водных струй, ракет, канделябр. (Примеч. автора)
(обратно)34
Месье (франц.)
(обратно)35
Что это? (франц.)
(обратно)36
Почему? (франц.)
(обратно)37
Резигнация – безропотное смирение, полная покорность судьбе. От французского resignation. (Примеч. автора)
(обратно)38
Лоб лощить – просторечное выражение, означающее: прихорашиваться, причёсываться, наводить лоск.(Примеч. автора)
(обратно)39
Страсбургский пирог – паштет из дичи или гусиной печени, привозимый из-за границы в консервированном виде.
(обратно)40
Мараскин – сорт десертного ликера из кислых вишен; ликер этого сорта. От французского marasquin, и от итальянского marasca-род вишни.
(обратно)41
Журфикс – день недели в каком-либо доме, предназначенный для приема гостей. От французского «jour fixe», что в переводе означает – определенный день.
(обратно)42
Комильфо – Как надо, как следует; прилично (франц.)
(обратно)43
Апофегма – здесь: от греческого «изречение». Краткая сентенция.
(обратно)44
In vino veritas – хорошо известное латинское выражение. Имеет значение «истина в вине».
(обратно)45
Иерусалимская слеза – водка (Примеч. автора)
(обратно)46
Прягла – оладья, толстый блин, лепешка в масле. (Примеч. автора)
(обратно)47
Дормез – старинная дорожная карета, в которой можно было спать. От французского dormeuse, от dormir, что в переводе означает – спать.
(обратно)48
Кулига – лесная поляна, островок на болоте.
(обратно)49
Каженник, каженница – это человек, которого обошел (обвеял вихрем) леший, из-за чего случается потеря памяти, а то и помешательство, безумный бред, столбняк. «Каживать» – означало в древности искажать, портить, повреждать, извращать, уродовать, калечить, а «казиться» – беситься или сходить с ума. (Прим. Автора)
(обратно)50
Охальник. – старорусская, разговорная форма; срамник, тот, кто ведет себя непристойно.
(обратно)51
Бескаружный. – старорусская, разговорная форма; не знающий стыда, наглый человек.
(обратно)52
Соромские – бесстыдные, срамные.
(обратно)53
Ерофеич – старинная русская водка. Русское традиционное название спиртовых настоек на травах и пряностях (без добавления сахара). Произошло, по преданию, от имени цирюльника Ерофеича, вылечившего в 1767–1768 гг. графа Алексея Орлова от тяжелого желудочного заболевания подобными настойками и получившего право производить их на продажу.
(обратно)54
Титёшница – (разг.) баба с большими титьками
(обратно)55
Китайские травы – здесь. чай. (Примеч. автора).
(обратно)56
Оборы – завязки, продетые в боковые ушки лаптей; ими привязывали лапти к ноге. (Примеч. автора)
(обратно)57
Аматер – здесь: любитель, охотник до чего-либо. Произошло от французского «amateur», и от латинского «amator» – любитель.
(обратно)58
Тирбушон – прядь волос, завитая в локон. От французского tire-bouchon.
(обратно)59
Рафли – гадательная книга апокрифического характера, отмечавшаяся в русских индексах запрещенных, или «отреченных» книг.
(обратно)60
Можно войти? (франц.)
(обратно)61
Войдите. (франц.)
(обратно)62
Здравствуйте, тётушка. (франц.)
(обратно)63
Казовый – такой, что удобно, выгодно показать, выигрышный. На выход. (Примеч. автора)
(обратно)64
Ферлакур – ловелас, волокита. С французского faire la cour, что в переводе означает – ухаживать за женщинами, волочиться.
(обратно)65
Белица – женщина, живущая в монастыре, но не постриженная в монашество.
(обратно)66
Гигиея (греч.) – богиня чистоты и здоровья.
(обратно)67
Доппель – кюммель – очень крепкая анисовая водка с приправами. От немецкого «Doppel-kiimmel», что в переводе означает – двойная тминная водка, то есть крепкая, перегнанная. (Примеч. автора)
(обратно)68
Кайен – жгучий красный перец. От названия города Кайенна (Cayenne) во французской Гвиане.
(обратно)69
Воспожинки – время окончания после жатвы. (Примеч. автора)
(обратно)70
Трибада – греч. tribas, от tribein (тереть). Женщина, удовлетворяющая половое возбуждение посредством онанизма или при помощи другой женщины.
(обратно)71
Сапфо – царица трибад; древнегреческая поэтесса в 7–6 вв. до нашей эры жила на острове Лесбос, ей приписывают воспевание лесбийской формы любви.
(обратно)72
Мегилла – персонаж знаменитых трибадических разговоров в сборнике Лукиана «Разговоры гетер». Известная лесбиянка.
(обратно)73
Барская барыня – так часто называлась приближенная к помещице старшая горничная или влиятельная приживалка.
(обратно)74
Фантош – марионетка, кукла. От французского fantoche, и от итальянского fantoccio, что в переводе означает – кукла, чучело, марионетка.
(обратно)75
Клок – плащ, верхняя одежда женщин. От английского «cloak» – плащ
(обратно)76
Кто это? (франц.)
(обратно)77
Пожалуйста (франц.)
(обратно)78
Как Вас зовут? (франц.)
(обратно)79
Меня зовут (франц.)
(обратно)80
Рада с Вами познакомиться (франц.)
(обратно)81
Конфидент – лицо, которому доверяют секреты, тайны, с которым ведут интимные разговоры. От латинского confidens – доверяющий.
(обратно)82
Сas curieux – (франц.) – курьёза, забавная вещь, любопытный случай
(обратно)83
Такова жизнь (франц.)
(обратно)84
Бонбоньерка – изящная коробка для конфет. От Французского «bonbonniere», что в переводе означает – конфетная коробка.
(обратно)85
Довольно, сударыня. (франц).
(обратно)86
Пироги с казенной начиной – так говорили о наживе за казенный счет. (Примеч. автора)
(обратно)87
Человек двадцатого числа – так говорили о чиновнике. Обычно 20-го числа каждого месяца чиновникам выдавали жалованье. (Примеч. автора).
(обратно)88
Чин из четырнадцати овчин – так говорили о мелком чиновнике, коллежском регистраторе – чиновнике 14-го класса. (Примеч. автора)
(обратно)89
Рамоли – расслабленный, немощный, впавший в слабоумие человек.
(обратно)90
«Елистратишка» – презрительное, народное прозвище коллежских регистраторов за их низкий чин и полную бесправность. (Примеч. автора).
(обратно)91
Шаматон – бездельник, шалопай. От французского chômer, что в переводе означает – бездельничать, быть праздным.
(обратно)92
Конвенансы – приличия. От французского convenance, что в перевод означает приличие.
(обратно)93
Фронтиньяк – французское мускатное вино. По названию првинции Фронтиньяк, где это вино изготовлялось.
(обратно)94
Вивёр – так говорили о человеке с изысканным вкусом, с утонченными потребностями в отношении к материальной стороне жизни, вообще любящий пожить в свое удовольствие. От французского «viveur» – жить.
(обратно)95
Ганимед (Ganymedes) – в греческой мифологии, сын царя Троя и нимфы Каллирои, прекраснейший из смертных. По Эратосфену Зевс сделал Ганимеда своим возлюбленным.
(обратно)96
«Дон Жуан», Джордж Гордон Байрон. Отрывок из поэмы.
(обратно)97
Бомбошка – конфетка. От французского «bonbon», что в переводе означает – конфета.
(обратно)98
Лонлакей – лакей, нанимаемый приехавшим куда-либо путешественником. От немецкого Lohnlakai, что в переводе означает – наемный слуга. (Примеч. автора)
(обратно)99
Карда – зимняя загородка для скота. (Примеч. автора)
(обратно)100
Мутака – диванная подушка, тюфяк.
(обратно)101
Владимирка – большая дорога, идущая через город Владимир в Сибирь. Пошло от названия тракта Москва – Владимир и далее на восток, в Сибирь, по которому до проведения железной дороги отправлялись ссылаемые на каторгу и поселение. (Примеч. автора)
(обратно)102
Небольшая историческая справка. (Примеч. автора)
(обратно)103
Смурый – сшитый из смурого сукна. Смурое сукно – некрашеное крестьянское сукно из темной, грубой шерсти.
(обратно)
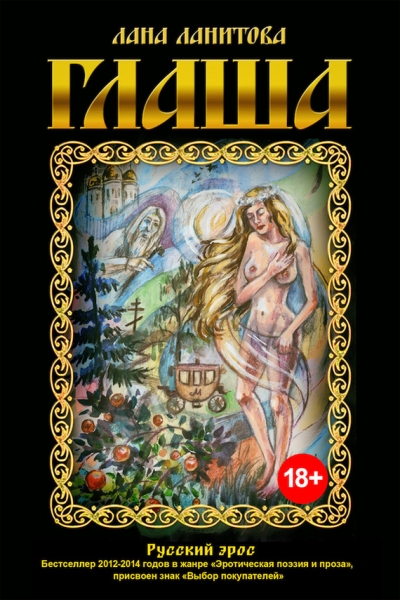


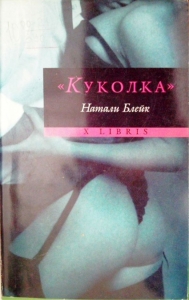







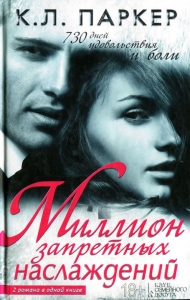

Комментарии к книге «Глаша», Лана Ланитова
Всего 0 комментариев