Джеймс Уиллард Шульц Ошибка Одинокого Бизона
С ИНДЕЙЦАМИ В СКАЛИСТЫХ ГОРАХ 1. ПО МИССУРИ
У отца моего была маленькая лавка огнестрельного оружия в Сан-Луи. Вывеска над ней гласила:
Компаньоном отца был мой дядя Уэсли Фокс, который, в сущности, никакого участия в деле не принимал. С тех пор как я себя помню, он был агентом Американской меховой компании в верховьях реки Миссури.
Каждые два-три года он приезжал к нам в гости, и приезд его являлся событием в нашей тихой жизни. Не успевал он войти в дом, как моя мать уже начинала печь хлеб, печенье, пудинги, пироги. Но дядя был человек неприхотливый и хвалил завтрак, состоявший только из кофе и хлеба с маслом. В тех краях, где он жил, хлеб ему случалось есть раз в год — на рождество. Пароходы, которые поднимались к верховьям реки дальше форта Юнион, были нагружены товарами Меховой компании, предназначавшимися для меновой торговли с индейцами, и на них не оставалось места для муки, считавшейся предметом роскоши.
Когда приезжал к нам дядя Уэсли, мать освобождала меня от уроков и позволяла не заглядывать в учебники. Я бродил с дядей по городу. В те дни Сан-Луи был небольшим городком. Больше всего любил я ходить с дядей к реке и смотреть, как подходят к пристани суда трапперов и торговцев, нагруженные шкурками бобров и других пушных зверей. Почти все трапперы были одеты в кожаные куртки, мокасины и самодельные меховые шапки. Все они носили длинные волосы, бакены и усы, казалось, подстриженные не ножницами, а ножом мясника.
Приезжая с Дальнего Запада, дядя Уэсли привозил мне подарки: лук в красивом чехле, колчан со стрелами или боевую дубинку. Это было оружие индейцев; с ним они охотились на бизонов или бросались в бой. А однажды дядя привез мне скальп индейца из племени сиуксов; волосы были заплетены в косу длиной около полуметра. Когда я спросил его, где он достал этот скальп, дядя усмехнулся и ответил:
— Я его нашел около форта Юнион.
Я видел, как мать укоризненно покачала головой, словно просила его не отвечать на мои вопросы. Тогда я заподозрил, что он сам снял этот скальп. Как узнал я впоследствии, догадка моя была правильна.
Как-то вечером я подслушал разговор родителей с дядей обо мне. Меня отослали спать, но дверь в мою комнату была открыта, я не мог заснуть и поневоле все слышал. Мать упрекала дядю Уэсли.
— Зачем ты привозишь ему подарки, которые только разжигают в нем интерес к трапперам и индейцам? — говорила она. — Нам и без того нелегко засадить его за книжку и приучить к занятиям.
Потом раздался мягкий, тихий голос моего отца:
— Тебе известно, Уэсли, что мы хотим отправить его в Принстон. Там он получит образование и сделается проповедником, как его дед. Помоги нам, Уэсли. Покажи ему темные стороны жизни в прериях, расскажи, какие опасности и лишения угрожают трапперам.
В нашей маленькой столовой висел портрет моего деда Фокса. Он носил парик, долгополый сюртук, очень высокий воротничок, черные чулки и башмаки с огромными пряжками. Я ни малейшего желания не имел быть проповедником и походить на деда.
Размышляя об этом, я заснул и не слышал конца разговора.
В ту весну дядя Уэсли прожил с нами только пять-шесть дней. Приехал он на месяц, но как-то утром к нам явился Пьер Шуто, руководитель Меховой компании, и долго беседовал с дядей. На следующий день дядя уехал в форт Юнион, где он должен был занять место одного агента, недавно умершего.
Я вернулся к своим учебникам. Родители следили за моими занятиями строже, чем раньше, и только по воскресеньям меня отпускали часа на два поиграть с товарищами. В те годы мало было мальчиков-американцев в нашем городе. Почти все мои приятели предками имели французов и по-английски говорили очень плохо. Я научился говорить на их языке, и впоследствии это мне пригодилось.
Постараюсь рассказать в нескольких словах о том, что случилось в следующем году. С тех пор прошло много времени, но и теперь, на старости лет, мне тяжело об этом вспомнить. Зимой, в феврале, мой отец заболел оспой и умер. От него заразились моя мать и я. Мать также умерла.
О смерти ее я узнал спустя много дней после похорон; и тогда мне самому захотелось умереть. Я чувствовал себя одиноким и покинутым всеми, пока не приехал за мной Пьер Шуто в своем великолепном экипаже и не отвез в свой дом. Я жил у него до мая, когда в Сан-Луи снова приехал дядя Уэсли.
Дядя старался «держаться молодцом», но я видел, что на сердце у него тяжело. Мы стали обсуждать вопрос о моем будущем.
— Том, — сказал он, — мне бы хотелось исполнить волю твоих родителей и дать тебе образование. Придется послать тебя к Цинтии Мэйхью, которая живет в Хартфорде, в штате Коннектикут. Твою мать она любила, как родную сестру. Она тебя приютит и позаботится о твоем образовании.
Я расплакался и заявил, что если он отправит меня в Хартфорд, я там умру. Неужели хватит у него духу отослать меня к чужим людям? Я захлебывался от слез и не мог успокоиться, хотя мне было очень стыдно плакать при дяде.
Но и он был взволнован не меньше меня. Смахнув слезинку, он посадил меня к себе на колени, ощупал мои руки и ноги, тонкие, как спички, и прерывающимся голосом сказал:
— Бедный мальчик! Какой ты худенький и слабый! О твоем образовании мы еще успеем подумать, а теперь я возьму тебя с собой, и ты поживешь у меня год-два, пока не окрепнешь. Но мы упакуем твои учебники, а также книги твоей матери, и ты будешь каждый вечер прочитывать несколько страничек. Согласен?
Конечно, я был согласен.
Осуществилась моя заветная мечта, мне предстояло увидеть равнины Запада, индейцев и огромные стада бизонов.
Дядя постарался сократить время своего пребывания в Сан-Луи, где ничто его теперь не удерживало. Быстро продал он нашу маленькую лавчонку, и 10 апреля 1856 года мы уехали из Сан-Луи на новеньком пароходе «Чиппева», недавно купленном компанией. Было мне тогда тринадцать лет, а на пароходе я ехал впервые. Когда колесо за кормой стало разбивать лопастями воду и пароход быстро поплыл вверх по течению, я пришел в восторг и готов был плясать по палубе, вспомнив, что нам предстоит пройти по реке около трех тысяч километров до места нашего назначения.
Как только мы распрощались с рекой Миссисипи и поплыли по мутным водам ее притока Миссури, я попросил дядю принести из каюты ружье и зарядить его; я ждал с минуты на минуту, что на берегу появятся бизоны. Но дядя заявил, что пройдет немало дней, прежде чем мы увидим этих животных. Чтобы доставить мне удовольствие, он принес на палубу ружье и два раза выстрелил в полузатонувшие бревна, прибитые к берегу, Снова зарядив ружье, он протянул его мне.
— Там, куда мы едем, даже мальчики должны уметь стрелять, — сказал он. — Целься в конец вон того бревна. Посмотрим, удастся ли тебе всадить в него пулю.
Долго я целился и наконец спустил курок. Вода всплеснулась у самого конца бревна, а пассажиры, толпившиеся на палубе, захлопали в ладоши и стали меня хвалить.
С тех пор я ежедневно практиковался в стрельбе. Мишенью мне служили полузатонувшие бревна или деревья на берегу. Однажды я выстрелил в дикого гуся, плывшего по реке. Птица раза два взмахнула огромными крыльями и поникла; ее унесло течением.
— Я его убил! — закричал я. — Дядя, я его убил! Правда, это был меткий выстрел?
Дядя помолчал, а потом очень серьезно сказал мне:
— Глупый мальчик! Надеюсь, таких выстрелов больше не будет. Ни один хороший охотник не убивает зря животных и птиц.
Эти слова я запомнил на всю жизнь. С тех пор я никогда не убивал ради забавы.
Мы миновали поселок Сан-Чарльз на Миссури. Отдельные фермы поселенцев попадались реже и реже и наконец остались далеко позади. В этих краях водилось много крупной дичи — главным образом белохвостых оленей, мясо которых нам подавали на обед. На закате солнца наш пароход приставал к какому-нибудь островку, и до наступления темноты мы охотились в ближайшем лесу и убивали диких индюков, считавшихся лакомым блюдом. Впрочем, я еще не охотился, а только сопровождал охотников.
В форту Пьер мы видели много индейцев из племени сиуксов. Этот форт, ранее принадлежавший торговой компании, был продан Соединенным Штатам, и теперь в нем стояли отряды солдат. Через два дня после отплытия из форта мы увидели первых бизонов: маленькое стадо бизонов-самцов вышло из реки на берег и помчалось к холмам.
В четыре часа пополудни на пароходе сломалась кормовая машина; нужно было заняться починкой. Как только мы пристали к берегу и узнали, что остаемся здесь на ночь, дядя взял ружье и отправился со мной на охоту.
Лес, тянувшийся вдоль реки, имел в ширину около километра. Между деревьями густо разрослись кусты, сквозь которые мы не могли пробраться. Шли мы по тропинкам, проложенным животными; эти тропы пересекали лес по всем направлениям. Я решил, что здесь водятся тысячи животных.
Там, где земля была влажная, ясно вырисовывались отпечатки копыт. Дядя указывал мне на следы оленя, лося, бизона и объяснял, чем отличаются одни следы от других. Рассказал он также, что лапа горного льва оставляет отпечаток почти круглый, а лапа волка — удлиненный. Затем он меня проэкзаменовал:
— Как ты думаешь, чьи это следы?
Секунду поколебавшись, я ответил, что это отпечатки копыт бизона.
— Верно! — воскликнул дядя. — Следы совсем свежие. Пойдем-ка по ним!
В лесу было сумрачно и тихо. Я думал об индейцах, которые, быть может, нас выслеживают; сердце у меня сильно билось, я с трудом переводил дыхание. Мне было страшно, каждую секунду я оглядывался, не гонится ли кто-нибудь за нами, ждал, что из кустов выпрыгнет зверь и растерзает нас своими острыми когтями или индейцы пронзят нас стрелами.
Но ни за что на свете я не признался бы в своей трусости. Стиснув зубы, я шел за дядей, не отставая от него ни на шаг. Когда он вдруг остановился, я налетел на него и вскрикнул от испуга: у меня мелькнула мысль, что дядя увидел врага и худшие мои опасения подтверждаются.
— Шш… — прошептал он и, притянув меня к себе, указал вперед.
Мы были у опушки леса, а шагах в ста от нас неподвижно стояли на лужайке три бизона-самца. Какие они были большие и косматые! Мне показалось, что у них совсем нет шеи. Забыв о том, с какой целью мы пришли сюда, я во все глаза смотрел на бизонов. Дядя протянул мне ружье и шепнул:
— Целься в того, который стоит дальше. Это молодой жирный бизон. Целься в спину ниже лопатки.
Я сжал руками ружье. Оно было очень тяжелое, и я всегда с трудом его поднимал, но сейчас мне показалось, что оно само поднялось к моему плечу: тяжести его я не почувствовал. Я спустил курок.
Когда рассеялось густое облако дыма, я увидел двух убегающих бизонов; третий, покачиваясь, кружился на одном месте; кровь лилась у него изо рта. Не успел я снова зарядить ружье, как животное тяжело рухнуло на землю.
Словно во сне, я стоял и смотрел на бизона; мне не верилось, что я его убил. Очнулся я, когда дядя Уэсли, похвалив мой меткий выстрел, сказал, что животное весит не меньше тонны. Он заставил меня лечь на бизона, и я увидел, что не могу дотянуться до его загривка, или, вернее, горба: бизон был около двух метров длиной.
Дядя показал мне, как нужно сдирать шкуру и рассекать на части огромную тушу. Мясники не справились бы с этой работой, не имей они при себе топора, но в те дни трапперы быстро и аккуратно рассекали тушу обыкновенным охотничьим ножом.
Прежде всего дядя подогнул передние ноги бизона и вытянул задние. Затем он взял животное за рога и медленно стал поворачивать огромную голову, слегка приподнимая в то же время всю тушу.
Через минуту бизон уже лежал на брюхе, подпертый головой, упиравшейся в землю. Если бы нам нужна была шкура, дядя перевернул бы животное на спину, ногами вверх.
Сделав надрез вдоль спины от головы до хвоста, он содрал с обоих боков шкуру и, подсунув нож снизу, подрезал ее на брюхе. Теперь бизон лежал ободранный, спиной вверх, на чистой, растянутой на траве шкуре.
Самым лакомым кусочком был так называемый горб, или на языке трапперов — «верхние ребра». Ребра эти приподнимались на спине, образуя горб как раз над плечами, и были покрыты толстым слоем жирного мяса.
Дядя Уэсли надрезал горб у самого его основания, затем отрубил заднюю ногу бизона и, пользуясь этой ногой как дубинкой, несколькими ударами отделил ребра от позвоночника и сбил горб, полетевший на разостланную шкуру.
Ловко работая ножом, он отрезал ноги и положил их на чистую траву; рассек позвоночник около третьего ребра и отделил заднюю часть туши; отделил ребра от грудной кости и сбил их с позвоночника все той же ногой-дубинкой. Теперь огромная туша была разделена на восемь частей. Наконец дядя вырезал язык, сделав предварительно надрез под нижней челюстью.
— Готово! — воскликнул он. — Теперь ты видел, как нужно рассекать тушу. Вернемся на пароход и позовем людей, которые помогут нам перенести мясо.
Путешествие продолжалось. Бывали дни, когда мы не видели ни одного индейца. Все чаще попадались нам стада бизонов, лосей, оленей; в этих краях животные почти не боялись человека. Миновав форт Кларк, мы прибыли в один из крупнейших торговых фортов. Американской меховой компании — форт Юнион, расположенный на северном берегу Миссури, в восьми километрах от устья реки Иеллоустон.
Постройка этого форта начата была в 1829 и закончена в 1832 году. Строения были обнесены высоким частоколом с двухэтажными бастионами, откуда выглядывали жерла пушек.
Когда наш пароход подходил к берегу, в форту подняли флаг, загремел пушечный выстрел, и толпа индейцев и служащих компании вышла нас встречать. Дядю Уэсли и меня повели в двухэтажный дом, где жили агенты и начальник форта.
Дядя Уэсли считался ценным работником. Часто объезжал он торговые станции Дальнего Запада, принадлежавшие Меховой компании. Случалось, что в течение нескольких месяцев он заведовал какой-нибудь станцией, замещая ее начальника, уехавшего в Штаты. По приезде в форт Юнион дядя узнал, что должен ехать дальше, в форт Бентон, начальник которого нуждался в его помощи. В те годы пароходы компании ходили только до форта Юнион, а товары, предназначавшиеся для дальних торговых постов, перевозились на плоскодонных суденышках — так называемых «габарах».
Лишь летом 1860 года было установлено, что верховья реки судоходны, и в июле «Чиппева» впервые отплыла в форт Бентов.
Когда мы приехал в форт Юнион, нас уже ждала габара «Минни». На нее перегрузили с «Чиппевы» часть товаров: ружья, аммуницию, табак, красную и синюю ткани, медную проволоку, китайскую краску киноварь и разные безделушки. Когда закончилась погрузка, мы тронулись в путь. Габарой командовал дядя Уэсли. В состав команды входили два гребца, рулевой, повар, один охотник со своей лошадью и тридцать французов из Канады, которые должны были тащить наше суденышко канатом на буксире; их называли кордельерами. В крошечной каюте на корме помещались две койки. На носу была мачта; парус поднимали, когда дул попутный ветер, что случалось очень редко. У бортов суденышка было по одному большому веслу; на палубе валялись шесты — в случае необходимости они служили баграми. На носу стояла маленькая пушка, а подле нее в ящике — картечь. Дядя сказал, что мы будем стрелять из пушки, если на нас нападут индейцы.
От форта Юнион до форта Бентон было около тысячи трехсот километров. Мы предполагали пройти это расстояние в два месяца, но после первого же дня плавания я решил, что мы вряд ли доберемся до форта Бентон через два года. С утра до ночи кордельеры, выбиваясь из сил, тащили габару на буксире. Жалко было смотреть на этих людей, тянувших длинную бечеву. Им приходилось идти по пояс в воде; спотыкаясь, брели они по сыпучему песку или грязи, в которой увязали до колен. Часто они срывались с крутого берега и падали в воду; земля осыпалась у них под ногами. Они пробирались сквозь колючие кусты, прокладывали тропинку вдоль берега или должны были расчищать путь для суденышка в тех местах, где нас задерживали полузатонувшие деревья и плавучие бревна.
Дня через два после отплытия из форта Юнион мы едва не потерпели крушения, и жизнь всех нас висела на волоске. В то время кордельеры шли по песчаной отмели, тянувшейся вдоль крутого берега. Впереди, у самой воды, лежала огромная туша мертвого бизона, объеденная хищными зверями. Когда первый кордельер подошел к ней, из-за туши выскочил большой гризли и двинулся прямо на него.
Испуганные кордельеры бросили бечеву и с воплями прыгнули в реку, так как не могли взобраться на крутой берег. Наше суденышко, подхваченное быстрым течением, налетело на затонувшее бревно и накренилось так сильно, что лошадь, стоявшая на палубе, скатилась за борт и повисла на веревке. К счастью, бревно не выдержало напора и треснуло; тогда гребцы подвели габару к берегу. Между тем гризли переправился на противоположный берег и удрал в лес, а французы, мокрые с головы до ног, столпились около туши и громко кричали и жестикулировали. Мы поняли, что случилось что-то неладное. Гребцы остались на габаре, а все остальные вышли на берег и побежали к группе кордельеров. Те расступились, и мы увидели лежавшего на песке человека, который громко стонал. Медведь настиг его и искалечил, а затем, испуганный, должно быть, воплями, бросился в реку и уплыл.
Раненого перенесли на борт судна, где дядя вправил ему сломанную руку и сделал перевязку. Охотник спас свою лошадь: прыгнув в реку, он перерезал веревку и вместе с лошадью добрался вплавь до берега. Кордельеры снова взялись за бечеву, и мы продолжали путь.
Несмотря на тяжелую работу, французы всегда были бодры и веселы. По вечерам, сидя у костра, они пели песни, но дядя их останавливал, боясь как бы пение не донеслось до слуха индейцев. Весь экипаж габары питался исключительно мясом, запивая его чаем. У дяди был ящик сухарей и несколько килограммов муки и сахару. Когда эти запасы истощились, он объявил, что хлеба я не увижу до рождества. Но меня это не испугало: если здоровые, сильные люди могут жить одним мясом, значит и я не пострадаю от мясной диеты. Река извивалась, как змея, среди равнин. Если бы можно было идти сушей, мы сократили бы расстояние в несколько раз. Иногда мы с дядей высаживались на берег, охотились в лесу, а затем поджидали габару за ближайшим поворотом реки. Вот тогда-то я убил первого оленя, лося, а также нескольких бизонов.
Но дядя Уэсли редко покидал судно. Он нес ответственность за целость габары и груза; за этот груз компания рассчитывала получить ценные меха на сто тысяч долларов. Когда я научился обращаться с ружьем, дядя разрешил мне сопровождать охотника Батиста Рондэна, ежедневно отправлявшегося на поиски дичи.
Батист Рондэн, мечтательный креол из Луизианы, не знал ни одного ремесла. Родители хотели дать ему образование, но он, по его словам, с детства питал ненависть к книгам. Когда ему пришлось зарабатывать на жизнь, он поступил на службу к Шуто и обязался снабжать дичью команду судов, ходивших по Миссури.
На охоту мы отправлялись с утра. Я усаживался позади Батиста на старую смирную лошадь, и мы ехали вдоль берега, высматривая дичь. Дичи было много, но убивали мы только тех животных, которые находились неподалеку от реки; затем судно приставало к берегу, и мясо переносили на борт.
Выслеживая дичь, мы не забывали об индейцах, исследовали все тропы и отмели и с высоких утесов осматривали окрестности. Индейцы внушали ужас кордельерам, отряды их часто нападали на суда.
Как-то вечером мы причалили к берегу километрах в семи от устья реки Ракушки. По словам дяди, исследователи назвали эту реку Ракушкой потому, что нашли в окрестностях ее много ископаемых раковин.
На следующее утро Батист оседлал лошадь, и мы отправились на охоту, как только кордельеры взялись за бечеву.
Мы поехали к устью реки Ракушки. На реке Миссури, как раз против места впадения в нее Ракушки, виднелся поросший лесом островок. Впереди мы увидели маленькое стадо антилоп, а на противоположном берегу Ракушки, ближе к Миссури, паслись сотни две бизонов.
Бизоны находились так далеко от нас, что мы смело подъехали к речонке, переправились через нее и остановились на опушке леса. Здесь Батист приказал мне ждать его, а сам, припав к земле, пополз по направлению к бизонам. Мне было страшно одному. На прибрежном песке я видел свежие отпечатки лап гризли, а гризли внушали мне непреодолимый страх. Я не смел сойти с лошади набрать земляники, росшей на лужайке.
Минуты казались мне часами. Батист скрылся в кустах. Приподнявшись на стременах, я видел только спины пасущихся бизонов. Вдруг плеск воды в реке за моей спиной заставил меня вздрогнуть и быстро оглянуться.
Между деревьями и кустами были широкие просветы, и то, что я увидел в один из этих просветов, показалось мне страшнее десяти гризли: к берегу, направляясь ко мне, шел по пояс в воде индеец. Я видел его лицо, выкрашенное красной краской, с синими полосами на щеках. Я заметил, что одежда его сделана из кожи, на левой руке у него щит, а в правой — лук и несколько стрел.
Все это я разглядел в одну секунду. Где-то неподалеку, справа от меня, треснула ветка. Быстро повернув голову, я увидел второго индейца, который натянул тетиву лука и целился в меня. В ужасе я заорал и ударил лошадь стволом ружья. Она рванулась вперед, и это спасло мне жизнь. Стрела прорезала рукав моей куртки; я почувствовал боль в руке выше локтя.
Я громко звал на помощь Батиста, направляя лошадь прямо в кусты. Оглянувшись, я увидел, что толпа индейцев, выйдя из леса, окаймляющего речонку, бежит ко мне. Впереди показался дымок, вырвашийся из ружья Батиста; раздался выстрел, и стадо бизонов помчалось на запад, к холмам.
Я надеялся догнать охотника и ускакать с ним вдвоем на старой лошади от пеших индейцев. Но через минуту надежда эта рухнула. Стадо бизонов вдруг круто повернуло назад к реке; его спугнул второй отряд индейцев, расположившийся у подножья холмов. Завидев нас, они перешли в наступление, и я услышал их боевой клич. Они преграждали нам путь на юг, а путь на север был отрезан рекой Миссури.
Я понукал старую лошадь, твердо решив догнать Батиста и умереть подле него; но индейцы, спустившиеся с холмов, уже настигали охотника. Я видел, как он поднял ружье и выстрелил, потом повернулся и, пробежал несколько шагов, прыгнул с обрыва в реку. Но у края обрыва он остановился и поднял руку, приказывая мне повернуть назад.
Повернуть назад! Я привык его слушаться и тотчас же остановил лошадь. Но, оглянувшись, я увидел, что шагов триста — не больше — отделяют меня от индейцев. В отчаянии я воскликнул:
— Что мне делать? О, что мне делать? Куда бежать?
2. ВСТРЕЧА С КУТЕНАИ
Не знаю, зачем я кричал. Никто не мог мне ответить, дать совет, прийти на помощь. Часто я замечал, что в минуту опасности человек вслух разговаривает сам с собой. Почему Батист приказал мне повернуть назад, хотя сзади наступают индейцы? Должно быть, я не понял его знака. Ясно, что спастись я мог, лишь последовав его примеру и прыгнув в реку.
Колотя лошадь пятками и ружьем, я погнал ее к реке, но не к тому крутому обрыву, с которого прыгнул Батист, а наискось, к мысу, врезавшемуся в Миссури неподалеку от устья Ракушки. На берегу я остановил лошадь и посмотрел вниз; у самой воды росли ивы, почва была болотистая; я понял, что увязну здесь вместе с лошадью.
Я оглянулся. Индейцы, спустившиеся с холмов, приостановились, но отряд, надвигавшийся со стороны реки Ракушки, бежал прямо на меня. Теперь между двумя отрядами образовался широкий прорыв. Круто повернув лошадь, я поскакал прочь от реки, на юг, к прорыву. Оба отряда тотчас же угадали мое намерение и попытались сомкнуть ряды. Безжалостно колотил я лошадь; она словно понимала, чего я от нее жду, и скакала во весь опор. Расстояние между двумя отрядами было шагов триста, а меня отделяли от прорыва четыреста шагов, но лошадь моя бежала гораздо быстрее, чем враги.
Громкими криками индейцы подбодряли друг друга. Я видел их раскрашенные лица, их блестящие глаза.
Расстояние между отрядами уменьшалось. Индейцы открыли по мне стрельбу, но я даже не пытался стрелять. Ненависти к врагам я не чувствовал, мне было страшно.
Я понимал, что им меня не догнать. Низко пригнулся я к шее лошади, чтобы не служить мишенью. С обеих сторон гремели выстрелы, жужжали стрелы. Одна стрела ударилась в мое ружье, отскочила от него и оцарапала мне руку. И в эту минуту я проскочил между двумя отрядами.
Долго еще я понукал лошадь, пока не сообразил, что опасность миновала, Тогда я повернул к речонке Ракукше, переправился через нее и поскакал по берегу Миссури навстречу габаре.
Завидев меня, кордельеры догадались, что дело неладно, и остановились. Суденышко пристало к берегу, и я верхом въехал прямо на палубу. Я был так испуган, что едва мог говорить. Выслушав мой бессвязный рассказ, дядя приказал всем кордельерам подняться на борт; через несколько минут мы пересекли реку, и кордельеры, высадившись на противоположный берег, снова взялись за бечеву.
Румвой, старый, испытанный работник, шел впереди разведчиком, а дядя Уэсли занял его место у руля. Наново зарядили пушку, и подле нее поставили одного из гребцов. Я с тревогой думал о Батисте. Дядя меня успокаивал, но я был уверен, что больше мы его не увидим.
Часа через два мы подплыли к острову, лежавшему против устья Ракушки, и вдруг — о чудо — из кустов, окаймлявших остров, вышел Батист; знаками он просил взять его на борт. Дядя послал за ним ялик. Поднявшись на палубу, он бросился ко мне, обнял меня и, похлопав по спине, воскликнул:
— Храбрый мальчуган! Ну что? Цел и невредим? Отделался царапиной на руке? Пустяки! Расскажи-ка мне, как тебе удалось спастись.
Но в эту минуту к охотнику подошел дядя Уэсли, и мне пришлось отложить рассказ о моих приключениях. Позднее я узнал от Батиста, что на нас напали индейцы племени кри, двигавшиеся, по-видимому, на юг, чтобы напасть на индейцев кроу и отнять у них лошадей.
Мы миновали остров. Батист показал мне высокий утес, с которого он прыгнул в реку. Вдруг из кустов у края пропасти выбежали индейцы и стали в нас стрелять. Но мы находились на расстоянии трехсот-четырехсот шагов от утеса, и пули не попадали в цель.
Дядя Уэсли бросился к пушке, повернул ее дулом к берегу и выстрелил. Немало картечи упало в воду или взрыло крутой склон оврага, но все же часть ее попала в самую гущу неприятельского отряда. Индейцы ударились в бегство, и больше мы их не видели.
Выше устья реки Иеллоустон начинались так называемые «бесплодные земли». С каждым пройденным нами километром берега становились величественнее и живописнее. На меня такое сильное впечатление производили грандиозные утесы, что я был буквально подавлен и не мог оторвать глаз от берегов. За каждым поворотом реки появлялись белые и серые замки, поднимавшиеся высоко над потолком, чудовищные купола и башни, созданные самой природой из выветрившегося песчаника. Казалось, мы плывем мимо средневековых городов; вот-вот — ждал я — из дверей башен и замков выйдут мужчины и женщины в средневековых костюмах.
В форт Бентон мы прибыли ровно через три месяца. В нашу честь подняли флаг и выстрелили из пушки. Служащие форта, а также пять тысяч индейцев племени черноногих толпились на берегу.
Никогда не видел я такого множества индейцев. Мужчины и женщины были высокого роста и очень красивы. Я заметил, что одежда их сделана из дубленой кожи, а длинные волосы аккуратно заплетены в косы. Многие, здороваясь с дядей Уэсли, пожимали ему руки и, казалось, рады были его видеть.
Дядя поздоровался с начальником форта Кульбертсоном, тот потрепал меня по плечу, и вместе мы направились к форту. Когда мы входили в ворота, навстречу нам выбежала высокая красивая индианка в ситцевом платье, клетчатой шали и вышитых мокасинах. К моему великому удивлению, она бросилась на шею дяде Уэсли и поцеловала его. Но еще больше я удивился, когда увидел, как обрадовался ей дядя. Сказав индианке несколько слов, которых я не понял, он обратился ко мне:
— Томас, это твоя тетя. Надеюсь, вы будете друзьями.
От неожиданности я так растерялся, что едва мог выговорить:
— Хорошо, дядя.
Женщина с улыбкой повернулась ко мне, обняла меня, поцеловала, стала гладить по голове, приговаривая что-то на языке черноногих. Голос у нее был удивительно чистый и мелодичный. Дядя перевел ее слова:
— Она говорит, что постарается заменить тебе мать. Просит, чтобы ты ее полюбил и всегда обращался к ней за помощью и советом.
Не знаю, почему я с первого же взгляда почувствовал симпатию к этой индианке; быть может, голос ее и ласковая улыбка сразу сломила мою робость и недоверие. Я схватил ее за руку и, улыбаясь сквозь слезы, прижался к ней. Вслед за дядей Уэсли и его женой я вошел в комнату, находившуюся в дальнем конце длинного строения из глины, которое замыкало форт с восточной стороны. Здесь, по словам дяди, нам предстояло жить в течение ближайших месяцев.
Комната была очень уютная, и я почувствовал себя как дома. Против двери я увидел большой камин из камня и глины; над ним висели на крючках ружья, пороховницы и патронташи. Два окна, выходившие во двор, пропускали много света. Перед камином стоял диван, покрытый шкурами бизонов. На полках в углу были расставлены тарелки и кухонная посуда. Дальний конец комнаты, отделенный перегородкой, служил спальней. Дядя мне сказал, что спать я буду на ложе из шкур, под окном, справа от двери.
На следующий день дядя показывал мне форт и знакомил со служащими — агентами, портными, плотниками, кузнецами, приказчиками. Все постройки форта были из камня и необожженных кирпичей. Входя в главные ворота, вы видели три длинных строения, замыкавших двор с трех сторон; строение, находившееся с восточной стороны, было двухэтажным. Высокая стена с пробитыми в ней воротами защищала форт с юга, выходила к реке и примыкала к задним стенам домов. В северо-западном и юго-восточном углах форта возвышались двухэтажные бастионы с пушками.
К вечеру разгрузили габару, внесли в дом наши сундуки и распаковали вещи. Мои учебники и книги, принадлежавшие матери, мы расставили на полках, в тот же вечер я под руководством дяди Уэсли принялся за учение. В следующем году я должен был поступить в школу.
Вряд ли какому-нибудь мальчику жилось лучше, чем мне, в этом форту, далеко за пределами цивилизованного мира. Каждый день приносил новые впечатления. Сотни индейцев приходили в форт обменивать меха на товары. Я завязывал с ними знакомство, изучал их наречия и обычаи. В этом мне помогала Тсистсаки (Женщина-птичка), жена дяди. У нее не было детей, и меня она полюбила, как сына. В ее глазах я был чуть ли не совершенством: что бы я ни делал, все было хорошо. Она дарила мне костюмы из дубленой кожи и мокасины, на которые нашивала узоры из игл дикобраза, выкрашенных в яркие цвета. Это была парадная одежда, но я пользовался каждым удобным случаем, чтобы надеть ее и прогуляться по двору, вызывая зависть всех мальчиков-индейцев.
Быстро пролетела зима. С наступлением весны дядя начал поговаривать о том, что мне пора ехать в Сан-Луи, а оттуда — в штат Коннектикут, к подруге моей матери, которая должна была позаботиться о моем образовании. Дяде я не возражал, но вел долгие беседы с тетей Тсистсаки. Как-то вечером мы с ней вдвоем повели атаку на дядю и долго убеждали его не отсылать меня из форта. Мы приводили такие веские доводы и в конце концов так горько расплакались, что дядя пошел на уступки и больше не заговаривал о моем отъезде.
Постоянным нашим гостем был племянник Тсистсаки, мальчик, старше меня на несколько лет. Звали его Питамакан — Бегущий Орел. Мы сразу понравились друг другу и вскоре подружились. Индейцы — во всяком случае индейцы племени черноногих — вкладывают в слово «друг» смысл более глубокий, чем мы, белые. Друзья-индейцы остаются друзьями до конца жизни и почти никогда не ссорятся. Не ссорились и мы с Питамаканом.
И дядя Уэсли и жена его радовались нашей дружбе.
— Питамакан — честный, добрый и смелый мальчик, — говорил мне дядя. — Он унаследовал все лучшие качества своего отца, великого воина; да и мать его
— славная женщина. Постарайся быть достойным его дружбы.
Если не считать Батиста Рондэна, снабжавшего форт дичью, Питамакан был единственным человеком, с которым мне разрешалось охотиться на бизонов и других животных, бродивших по окрестным равнинам. Охота, прогулки, учение заполняли день, и мне казалось, что время летит слишком быстро.
Прошло четыре года, а я ни разу еще не отходил дальше чем на семь-восемь километров от форта. Заветным моим желанием было съездить к Скалистым горам. С высоких холмов к северу и югу от реки отчетливо видны были одетые соснами склоны их и острые вершины.
Осенью 1860 года мне представился случай осуществить мою мечту. Короткие Шкуры — так назывался один из кланов племени черноногих, старшиной которого был отец Питамакана Белый Волк (Ма-куи-йи ксик-синум), — задумали заняться ловлей бобров у подножья Скалистых гор, и, к моей великой радости, дядя разрешил мне отправиться с ними.
В клан Короткие Шкуры (И-нук-сик) входило около шестисот человек, живших в девяноста вигвамах.
Было у них несколько тысяч лошадей. Клан снялся с лагеря, живописная процессия змеей поползла по равнинам. Вьючные лошади были нагружены кожаными раскрашенными мешками и сумками странной формы.
Привал мы сделали на берегу реки Тэтон. Я спал в вигваме Белого Волка, на ложе из бизоньих шкур.
Одним из удобнейших жилищ, какие можно переносить с места на место, является индейский вигвам. Обычно вигвам делается из шестнадцати больших бизоньих шкур, выдубленных и сшитых вместе нитками из сухожилий.
Это наружная «покрышка» вигвама имела форму конуса и натягивалась на длинные тонкие шесты; нижний ее край прибивали колышками, причем между ним и землей оставляли пространство вышиной в десять-двенадцать сантиметров. С внутренней стороны была натянута кожаная «подкладка»; на высоте полутора метров от земли ее привязывали к веревке, которая обегала вокруг всего вигвама и прикреплялась к вигвамным шестам. Нижний край подкладки не отставал от земли; грузом, придавливавшим его к земле, служили тяжелые сумки и мешки с запасом пищи и домашней утварью. Между покрышкой и подкладкой оставалось свободное пространство для циркуляции воздуха. Холодный воздух, проникая в вигвам, выходил вместе с дымом от костра в дыру, сделанную в верхней части покрышки. Но снизу подкладка защищала от холодного воздуха, и в вигваме было тепло даже в сильные морозы.
Медленно поднимались мы к верховьям реки Тэтой и через три-четыре дня раскинули лагерь у подножья Скалистых гор. Здесь мы прожили несколько недель, пока охотники не выловили чуть ли не всех бобров, водившихся в реке Тэтон и ее притоках. У Питамакана и у меня было двенадцать капканов, и ловлей бобров мы занимались сообща.
От реки Тэтон черноногие двинулись на север к реке Дюпюйе, оттуда — к реке Два Талисмана и, наконец, к реке Крутой Берег. Здесь бобров было мало. Мы с Питамаканом сделали промах: отправились в первый день на охоту. Только на следующий день пошли мы разыскивать местечко, где бы расставить наши западни. Но оказалось, что другие ловцы уже заняли все лучшие места около плотин, возведенных бобрами.
Мы пошли берегом южного притока реки и после полудня добрались до глубокого каньона, где не было никаких плотин и мазанок, построенных бобрами. Что нам было делать? Мы хотели принести в форт пятьдесят бобровых шкур, и нам не хватало тринадцати, а индейцы предполагали вернуться с реки Крутой Берег назад в форт Бентон.
Мы присели отдохнуть у края тропы, тянувшейся вдоль склона горы над каньоном. Вдруг Питамакан воскликнул:
— Слушай, мы еще поймаем тринадцать бобров! Видишь эту тропу? Она ведет через Спинной Хребет Мира проложена племенами, живущими по ту сторону Хребта, — плоскоголовыми и кутенаи. По этой тропе они спускаются с гор на наши равнины и охотятся за нашими бизонами. Ты видишь, что этим летом никто не ходил по тропе, да и теперь никто не пройдет, так как надвигается зима. Там, за горным хребтом, много рек и ручьев; конечно, в них водятся бобры. Завтра мы туда отправимся, и через несколько дней у нас наберется пятьдесят шкурок.
Этот план мне понравился. Оставив западни на тропинке, мы вернулись в лагерь, чтобы приготовиться к путешествию. Конечно, мы решили уйти тайком, ни слова не сказав Белому Волку, который мог помешать нашей затее.
В сумерках мы привязали неподалеку от лагеря двух лошадей и незаметно наполнили порохом и пулями наши патронташи и пороховницы. Мы проснулись на рассвете, когда все еще спали. Взяв с наших постелей две тяжелые бизоньи шкуры, мы потихоньку вышли из вигвама, оседлали лошадей и тронулись в путь. Позавтракали мы сушеным мясом и бизоньим жиром.
Тропа привела нас к тому месту, где мы оставили западни. Захватив их, мы поехали дальше. Подъем был легкий, и к полудню мы поднялись на вершину хребта. Дальше тропа тянулась вдоль узкого гребня, соединявшего хребет с высокой горой. С юга гребень этот срывался в пропасть, а вершина его напоминала лезвие зазубренного ножа; здесь нельзя было ни пройти, ни проехать. Северный склон, более отлогий, был усыпан камнями; за узкой полосой также зияла пропасть.
Вот по этому-то отлогому склону и пробегала тропа, но сейчас ее не было видно: давно здесь никто не проезжал, и следы копыт стерлись. Я стоял и смотрел, как скатываются по откосу камни и комья глины. Вздрогнув, предложил я Питамакану вернуться, но он и слышать об этом не хотел.
— Я уже бывал здесь раньше, — сказал он, — и знаю, что нужно делать. Я проложу тропинку, по которой мы поведем лошадей.
Взяв длинный и узкий камень, он начал выдалбливать тропу вдоль откоса, сбрасывая в пропасть куски глины. Я напрягал слух, но не слышал, как ударялись они о дно пропасти. До ближайшего выступа было не меньше ста шагов, но Питамакан быстро прошел это расстояние и вернулся ко мне.
Проложенная им тропинка годна была скорее для койотов, чем для лошадей, но Питамакан заявил, что она достаточно широка, и смело повел свою лошадь. Мне ничего не оставалось, как следовать за ним. Когда часть пути была пройдена, задние ноги моей лошади соскользнули с узкой тропинки, и она едва не покатилась по откосу. Пытаясь ей помочь, я потянул за повод, но земля начала осыпаться у меня под ногами. Видя это, Питамакан ускорил шаги, а затем побежал вместе со своей лошадью, крикнув мне, чтобы я следовал его примеру.
Никогда не забуду я этого перехода! И я и моя лошадь выбивались из сил, стараясь удержаться на узкой тропе. Камни срывались у нас из-под ног, и земля осыпалась, куда бы я ни ступил. Когда наконец мы добрались до выступа, где ждал нас Питамакан, моя лошадь была взмылена, а я обливался потом.
Питамакан, следивший за моей отчаянной борьбой, дрожал всем телом. Лицо его стало серым, как зола. Притянув меня к себе, он, задыхаясь, проговорил:
— О, я думал, что ты не дойдешь сюда! А я не мог тебе помочь! Я должен был стоять и смотреть! О, это моя вина! Нужно было сделать тропинку пошире.
Мы уселись на земле, и Питамакан рассказал мне, что после первого снегопада никто — ни человек, ни лошадь — не может здесь пройти, так как достаточно сделать шаг, чтобы вызвать снежный обвал. Как-то зимой на этой тропе погибли трое черноногих. Снежная лавина увлекла их в пропасть, а спутники их стояли и беспомощно смотрели на гибель товарищей.
— Когда мы пойдем назад, — добавил Питамакан, — я проложу здесь широкую тропу, хотя бы мне пришлось работать целый день.
Отдохнув, мы обогнули гору и словно попали в другой мир. Вокруг вставали гигантские горные вершины, склоны их были покрыты льдом. Как я узнал впоследствии, это были ледники.
Западное предгорье резко отличалось от страны, лежащей к востоку от Скалистых гор. Не было здесь беспредельных равнин, темный вечнозеленый лес покрывал склоны гор и ущелий. И воздух показался нам иным: влажный, тяжелый, он был пропитан ароматом растений, какие встречаются только в сыром климате.
Спускаясь с уступа на уступ, мы на закате солнца подошли к Соленым Источникам. Так назвал это место мой друг. Дальше этих источников он никогда не бывал.
На рассвете мы поехали дальше. Нам хотелось поскорее спуститься в долину, где можно найти бобров.
Тропа привела нас к речонке, окаймленной тополями и ивами; ивовая кора — любимая пища бобров. По-видимому, здесь водились бобры, но мы решили спуститься к низовьям, надеясь, что там ловля пойдет быстрее. Незадолго до заката солнца мы выехали на поляну, пересеченную рекой. Здесь была трава для наших лошадей, а в конце поляны мы увидели маленький пруд и пять мазанок, построенных бобрами.
— Вот подходящее для нас место, — сказал Питамакан. — Привяжем лошадей и постараемся убить оленя. Торопись! Скоро стемнеет.
Мы хотели въехать в лес, чтобы расседлать лошадей, как вдруг послышался топот и треск ломающихся веток. Мы замерли, держа наготове ружья. Мы думали, что на водопой идет стадо лосей.
Через минуту на поляну выехали тридцать-сорок индейцев — мужчин, женщин и детей. Заметив нас, мужчины поскакали в нашу сторону.
— Это кутенаи! — воскликнул Питамакан. — Нам от них не уйти! Не стреляй! Я думаю, они нас не тронут. Только не трусь! Притворись, что тебе не страшно.
Нас окружили воины — высокие мускулистые люди. Долго разглядывали они нас, не говоря ни слова. Было что-то зловещее в этом молчании, и мне стоило большого труда сидеть неподвижно в седле. Молчание нарушил их вождь.
— Ин-ис-сат! (Сойдите с коней!) — скомандовал он на наречье черноногих, и мы нехотя повиновались.
Воины также спрыгнули с седел и, по приказу вождя, отняли все, что у нас было. Один из них завладел моим ружьем, другой патронташем, третий сорвал с меня пояс, к которому были привешены нож и мешочек с кремнем, огнивом и трутом. Вождь и еще один воин схватили поводья наших лошадей. Мы лишились всех наших вещей, нам оставили только одежду.
Посмотрев на нас вождь расхохотался, и его примеру последовали все кутенаи. Затем, приказав им замолчать, вождь, коверкая слова, сказал на наречье черноногих:
— Вы оба — еще мальчики, и мы вас не убьем. Возвращайтесь к своему вождю и скажите ему, что мы никому не позволяем ловить наших бобров, — так же, как люди равнин не позволяют нам охотиться на бизонов. Теперь ступайте.
Мы повернулись и побрели по поляне. Один из воинов последовал за нами и несколько раз ударил Питамакана хлыстом по спине. Питамакан заплакал — не от боли, а от обиды, за которую не мог отомстить.
Оглянувшись, мы увидели, что кутенаи пересекли поляну и скрылись в лесу. Ошеломленные постигшим нас несчастьем, мы молча шли по старой тропе. Стемнело, пошел дождь, ветер завыл в лесу. Покачивая головой, Питамакан мрачно сказал:
— Если в эту пору года дождь льет в долине, значит в горах снегопад.
Мы проголодались, у нас не было ни съестных припасов, ни оружия, мы не могли развести костер, потому что кутенаи отняли у нас кремень и трут. А если Питамакан был прав, если в горах выпал снег и зима вступила в свои права, гибель наша неизбежна. Я вспомнил рассказы старых траперов, говоривших, что в Скалистых горах зима часто начинается в октябре. А теперь был уже ноябрь!
— Питамакан, мы погибли! — воскликнул я.
Вместо ответа он затянул «песню койота» — охотничью песню, которая, по мнению черноногих, приносит счастье.
3. ОГОНЬ, ПОЯВИСЬ!
— Не унывай, — сказал мне Питамакан, допев песню. — Может быть, мы и не погибнем. Прежде всего нам нужно укрыться от дождя. Посмотрим, нет ли пещеры там, наверху, у подножья скал.
Свернув с тропы, мы стали взбираться по крутому склону долины к подножью скал. Нас обдавало водой с кустов, сквозь которые мы прокладывали дорогу. До подножья почти отвесной каменной стены, поднимавшейся высоко над вершинами сосен, было несколько сот шагов, но когда мы добрались до цели, спустилась ночь. Груда камней преградила нам путь, и мы на секунду приостановились, не зная, в какую сторону идти.
— Конечно, пойдем по направлению к дому, решил Питамакан и, обогнув груду обломков, подошел к скалистой стене.
Здесь мы нашли маленькую пещеру и заглянули в нее, но было так темно, что мы ничего не могли разглядеть. Я услышал, как Питамакан потянул носом воздух.
— Чем здесь пахнет? — спросил он меня.
— Сыростью и мокрыми листьями, — ответил я.
— А мне кажется, что здесь пахнет медведем, — прошептал Питамакан.
Мы оба попятились и отползли подальше от страшной пещеры. Дождь перешел в ливень, ветер усиливался и хлестал по лицу, в лесу стонали и скрипели деревья, с треском падали на землю старые сухие сосны. Страшная была ночь.
— Дальше мы идти не можем, — сказал Питамакан. — Быть может, я ошибся. Медведи забираются в берлогу не раньше, чем выпадет снег. Вернемся и посмотрим, есть ли там медведь.
Мы вернулись к пещере, опустились на колени и, втянув ноздрями воздух, в один голос воскликнули:
— Киайо! (Медведь!)
— Но запах слабый, — добавил Питамакан. — Может быть, он остался с прошлой зимы. Запах медведя держится долго.
Я промок до костей и дрожал от холода. Щелкая зубами, я проговорил;
— Войдем!
Пробирались мы в пещеру ползком, часто останавливаясь и прислушиваясь. Вдруг мы наткнулись на кучу сухой травы, веток и листьев, зашуршавших под нашими руками.
— Брат, мы спасены! — радостно воскликнул Питамакан. — Медведь здесь был и приготовил себе постель на зиму; в месяц Падающих Листьев они всегда готовят себе постель. Но сейчас его тут нет. А если он придет, мы закричим и спугнем его.
Ползая по пещере, мы ощупывали стены и потолок пока не убедились, что наше новое жилище очень невелико. Затем мы зарылись в сухую траву и листья, прижались друг к другу и вскоре перестали дрожать.
Согревшись, мы заговорили о наших злоключениях, придумывая, как нам выпутаться из беды. Мы решили идти по следам наших врагов и, отыскав их лагерь, разработать дальнейший план действий; быть может, нам удастся вернуть все, что они у нас отняли.
Мы заснули. Проснувшись первым, я увидел, что идет снег. Я растолкал Питамакана, и мы вдвоем подползли к выходу из пещеры. Снежный покров был толщиной в четверть метра, и снег падал такими густыми хлопьями, что я едва мог разглядеть вершины ближайших сосен. Было не холодно, — быть может, два-три градуса ниже точки замерзания, но наша сырая одежда прилегала к телу, словно ледяной чехол. Щелкая зубами, мы уползали в глубь пещеры.
— Теперь, когда выпал снег, не имеет смысла отыскивать кутенаи, — сказал я.
— Верно! — согласился Питамакан. — Они увидят наши следы на снегу и быстро нас догонят.
— Он замолчал и даже не хотел отвечать на мои вопросы. Притих и я, но не надолго. Тревога моя возрастала с каждой минутой, я не мог молчать.
— Не лучше ли нам сейчас же отправиться в путь? — предложил я. — Попробуем перевалить через горный хребет.
Питамакан покачал головой.
— Ни один человек не может перевалить через горы, пока не настанет лето. Нас застигла зима. Смотри, здесь снег доходит нам до колен, а там, наверху, мы увязнем по самые плечи.
— Ну, значит, мы здесь умрем! — воскликнул я.
Вместо ответа он снова затянул песню койота. Глухо и заунывно звучал его голос в маленькой низкой пещере. Несколько раз пропел он эту охотничью песню. Мне стало жутко, я хотел, чтобы он перестал петь, но, вглядевшись в его лицо, я увидел, что он сосредоточенно о чем-то думает. Быть может, пение помогало ему собраться с мыслями. Наконец он оборвал песню и с улыбкой повернулся ко мне.
— Теперь я знаю, что мы должны делать!
— Что же? Говори скорей, — попросил я.
Вместо ответа он задал мне вопрос:
— Как по-твоему, в чем мы больше всего нуждаемся?
— Конечно, в пище, — ответил я. — Я умираю с голоду.
— Я так и знал, что ты это скажешь! — воскликнул Питамакан. — Вы, белые, только и думаете что о еде! Утром вы едите, в полдень едите и на закате солнца снова наедаетесь доотвалу. Если случится вам пропустить обед или ужин, вы говорите, что умираете с голоду. Нет, брат, сейчас мы не в пище нуждаемся. Мы можем жить без пищи недели две-три, а длинный пост нам не повредит.
Я ему не поверил: я думал, что человек может прожить без пищи лишь несколько дней.
— Да, не мясо нам нужно, а огонь, — продолжал Питамакан. — Мы умрем, если выйдем из пещеры и промокнем, а потом негде будет согреться и высушить одежду.
— Ну что ж? Придется нам лежать здесь и ждать, пока снег не стает, — сказал я. — Без кремня и огнива нам не добыть огня.
— Тогда мы пролежим здесь до лета. Эта страна не похожа на наши равнины. У нас снег выпадает и тает несколько раз в течение зимы, а здесь снежный покров лежит всю зиму, пока не уйдет Творец Холода, побежденный солнцем.
Он был прав. Я вспомнил, как дядя говорил мне однажды, что Скалистые горы преграждают теплому ветру «чинук» путь на запад. Тогда я придумал другой план.
— Пойдем к кутенаи и попросим их дать нам пристанище.
— Они нас отколотят и прогонят, а может быть, убьют. Нет, к ним мы не пойдем, — решительно сказал Питамакан. — Не унывай, огонь мы добудем.
Угадав мои мысли, он добавил:
— Я вижу, ты не веришь, что я могу сделать огонь. Ну так слушай! Огонь у нас был задолго до того, как пришли вы, белые, и принесли нам кремень и огниво. Я никогда не видел, как индейцы добывали его по старому способу, потому что мой народ получил кремни от белых еще до моего рождения. Но я частенько слышал рассказы стариков и думаю, что мне удастся добыть огонь. Это очень просто. Ты берешь маленькую сухую твердую палочку длиной с древко стрелы и вращаешь ее, держа между ладонями, или захлестнув тетивой лука, быстро двигаешь лук, как пилу, заставляя палочку вращаться. Конец ее вставляется в отверстие, просверленное в куске сухого дерева. Вокруг этого отверстия нужно положить куски сухой березовой коры. Вращающаяся палочка нагревает куски коры, и они загораются.
Хотя я и плохо понял это объяснение, но мне показалось, что Питамакан и в самом деле может добыть огонь. Он решил сделать эту попытку, когда кончится снегопад. Он боялся, что мы заболеем, если будем бродить по лесу, с ног до головы облепленные снегом.
В медвежьей берлоге мы пролежали целый день. К вечеру облака рассеялись, но стало гораздо холоднее. К счастью, одежда наша высохла; однако мы дрожали от холода и ночью не сомкнули глаз.
В темноте мы услышали тихие шаги по снегу. Какое-то животное пробиралось к нашей пещере. Что если это медведь, вспомнивший о своей теплой постели! Мы перешептывались, прислушиваясь к шагам. Черного медведя мы не боялись: эти трусливые животные никогда не нападают на человека. Но, быть может, хозяином пещеры был не черный медведь, а гризли! Мы оба наслушались рассказов об этом страшном звере. Прошлым летом одна женщина пошла в лес по ягоды и была растерзана гризли.
Когда шаги приблизились к пещере, мы с Питамаканом стали кричать во все горло. Орали мы до хрипоты, потом умолкли и стали прислушиваться. Все было тихо. Зверь, испугавшись нас, ушел, но мы не могли заснуть: мы боялись, что гризли бродит где-нибудь поблизости и, чего доброго, ввалится в нашу пещеру.
Рассвело, но солнце долго еще не показывалось из-за гигантских горных вершин, которые преграждали нам путь к равнинам. Мы устали лежать неподвижно, нам очень хотелось выйти из пещеры и размять ноги, но мы терпеливо ждали, пока солнечные лучи не согреют воздуха. Накануне я был голоден, как волк, а сейчас почти не чувствовал голода, и Питамакан мне сказал, что скоро я и думать не стану о еде.
— Но не можем же мы ничего не есть до самого лета! — воскликнул я.
— Конечно, не можем. Как только я добуду огонь, мы пойдем на охоту, а потом устроим удобное жилище. О, скоро мы здесь заживем, как у себя дома!
— А кутенаи? — возразил я. — Они придут и прогонят нас или убьют.
— Сейчас кутанаи спешат уйти подальше от горного хребта. Сюда они зимой не вернутся.
Мы подползли к выходу из пещеры и убедились, что ночью нас действительно посетил медведь. Он прошел вдоль скалистой стены и остановился перед пещерой, а затем, испуганный нашими воплями, убежал в лес. По отпечаткам лап на снегу мы определили, что это был не гризли, а черный медведь, и вздохнули свободнее: следующую ночь мы могли спать спокойно.
Мы оба были одеты по-летнему. Я щеголял в кожаных штанах и фланелевой рубахе. Питамакан — в гетрах из бизоньей кожи, штанах и такой же рубахе, какая была на мне, он получил ее в подарок от Тсистсаки. Не было у нас ни курток, ни носков, ни нижнего белья. Куртку заменяло нам одеяние, напоминавшее шинель с капюшоном и доходившее до колен. Оно было сшито из белого одеяла.
Я сказал Питамакану, что нам холодно будет ходить по снегу, так как ноги наши защищены только мокасинами из тонкой кожи.
— Этой беде можно помочь, — отозвался Питамакан.
Он снял верхнюю одежду и оторвал от нижнего ее края несколько длинных полос. Я последовал его примеру. Мы обернули ступни этими полосами и натянули мокасины.
Проваливаясь по колено в снег, мы сбежали по склону долины и вошли в лес. Здесь снег был не такой глубокий, но ветви сосен гнулись под тяжестью снежного покрова. Мы набрели на следы оленя и лося, вскоре увидели красивого белохвостого оленя, с любопытством на нас смотревшего. Олень был такой большой и жирный, что я снова почувствовал голод и жалобно протянул:
— Хаи-йя!
Питамакан меня понял.
— Не грусти, — сказал он, провожая глазами животное, которое убегало, помахивая хвостом, словно флагом. — Не грусти, завтра мы поедим жирного мяса — завтра или послезавтра.
Этому обещанию я не поверил, но вопросов задавать не хотел и молча побрел дальше. Спускаясь к реке, мы видели несколько оленей и много лосей. Должно быть, после снежной бури крупная дичь бежала с гор в долины.
Река не замерзла, и не было снега на длинных каменистых отмелях. Мы приступили к поискам орудий, необходимых для добывания огня. Прежде всего нам нужен был нож. В доисторические времена предки наши — мои и Питамакана
— искали остро отточенные камни среди речных и ледниковых наносов. Мы с Питамаканом искали «камень, похожий на лед», — так называют черноногие обсидиан. Я часто видел маленькие блестящие наконечники стрел, выточенные из обсидиана, но никогда не видывал неотделанных камней. Вот почему Питамакан нашел большой кусок обсидиана на той самой отмели, по которой я прошел несколько раз. Этот кусок, ржаво-черного цвета, напоминал по форме футбольный мяч и был покрыт какими-то беловатыми пятнами. Я не верил, что мы нашли обсидиан, но Питамакан разбил шар и показал мне сверкающие осколки.
Он никогда не видал, как делают из обсидиана ножи и наконечники для стрел, но из рассказов стариков почерпнул много полезных сведений и теперь решил ими воспользоваться. Вооружившись камнем вместо молотка, он начал осторожно постукивать им по одному из обломков и в конце концов расщепил кусок обсидиана на несколько тонких заостренных пластинок, или слоев, Подобрав остальные куски и сложив их в кучу под нависшими ветвями сосны, мы отправились разыскивать сухое дерево. Знали мы, что найти его нелегко, так как незадолго до снегопада шел дождь. Побродив около часа, мы спугнули стаю тетеревов, приютившихся под верхушкой упавшего дерева. Птицы вспорхнули и расселись на ветках большой сосны. Снова я почувствовал голод, и сейчас мне представился случай его утолить.
— Давай наберем камней и попробуем убить хоть одного тетерева, — предложил я.
Мы побежали к реке и, набрав камней в полы одежды, вернулись к дереву. Птицы еще не улетели, и мы стали бросать камни в ту, что сидела на нижней ветке. Напряженно следили мы за полетом камней и жалобно стонали: «Аи-йя!», когда наши снаряды пролетали мимо.
Должен сказать, что в метании камней индейские подростки менее искусны, чем белые мальчики. Они привыкли пользоваться другим, лучшим оружием — луком, из которого их учат стрелять с раннего детства. Вот почему Питамакан вскоре отдал мне все оставшиеся у него камни.
Правда, снаряды мои не попадали в цель, но некоторые ударялись в ствол дерева или со свистом пролетали меж ветвей. Однако птица сидела спокойно и один только раз взмахнула крыльями, когда камень задел сук под ней. Но последним снарядом я ее подшиб. Она спустилась на самую нижнюю ветку, а мы помчались к дереву и радостными криками спугнули остальных тетеревов.
Раненая птица, посидев секунду на ветке, вспорхнула и опустилась на лужайку. Питамакан рванулся вперед и уже протянул руку, чтобы схватить ее, но тетерев взмахнул крыльями, полетел и опустился на снег шагах в пятнадцати от него. Мы пустились в погоню. Птица была ранена — она раскрывала клюв, головка ее свешивалась на бок, и мы не сомневались, что добыча от нас не уйдет. Но не тут-то было! Как только мы к ней подбежали, птица снова вспорхнула и снова опустилась на снег в ста шагах от нас. Это повторялось несколько раз. Птица привела нас к речке и перелетела на другой берег. Недолго думая, мы последовали за ней. Тут было мелко, но мы промокли до пояса. За это время птица успела нас далеко опередить и вскоре скрылась из виду.
Мокрые и несчастные, стояли мы на снегу и грустно смотрели друг на друга. Я был так опечален, что не мог выговорить ни слова.
— Ничего не поделаешь! Идем, — сказал наконец Питамакан. — Мы должны найти сухое дерево и развести костер, чтобы высушить одежду.
Он направился к подгнившей сосне и отломил твердый сухой сук длиной в четверть метра. Эта палка годилась для сверла; она была приблизительно вдвое толще карандаша. На этот раз нам посчастливилось, и мы развеселились. Я сел на берегу реки и стал обтачивать конец палки. Сначала я тер его шероховатым камнем, потом скреб пластинкой обсидиана. Хрупкие пластинки ломались у меня в руках, пока я не научился обращаться с ними осторожно.
Тем временем Питамакан искал кусок сухого дерева, в котором следовало сделать отверстие для сверла. От стариков он слыхал, что дерево должно быть твердое, а из твердых пород здесь росла только береза.
Когда я обточил сверло, Питамакан еще не нашел ничего подходящего, а я рад был принять участие в поисках, так как окоченел, сидя на одном месте. Мы бродили вдоль реки, заходили в лес, осматривали чуть ли не каждое мертвое дерево. Но нам попадались только подгнившие березы, а гнилое дерево не годилось для нашей цели. Совершенно случайно мы нашли то, что искали. Под выступом скалы, защищенной от дождя, лежал большой кусок березы, срезанный, по-видимому, бобрами. В длину он был около метра и около четверти метра в диаметре. Долго мы терли шероховатым камнем поверхность его, пока не сгладили всех неровностей на пространстве нескольких квадратных сантиметров. Затем пластинкой обсидиана провертели в нем маленькую дырочку. Работа шла медленно, так как стекловидные пластинки ломались. К концу дня мы просверлили дырку и решили тотчас же испытать наши инструменты.
Мы подобрали несколько кусков сухой березовой коры, и я расщепил их на волокна. Питамакан вставил острие сверла в дырку, а тупой конец зажал между ладонями; вокруг дырки и острия мы положили волокна коры.
— Огонь, появись! — воскликнул Питамакан.
Вдавливая острие в дырку, он быстро начал вращать сверло между ладонями. Но дым не показывался. Что-то было неладно. Питамакан выдернул сверло, и мы ощупали и дырку и острие. Дерево нагрелось. Я предложил вертеть сверло по очереди как можно быстрее. О, с какой тревогой ждали мы результатов! Появится огонь или не появится? От этого зависела наша жизнь. Наконец у нас онемели руки, больше мы не в состоянии были вертеть палку. С отчаянием посмотрели мы друг на друга. Попытка закончилась неудачей. Надвигался вечер. Одежда наша начала замерзать на нас; от пещеры, служившей нам убежищем, мы были отделены рекой.
Положение казалось безнадежным; я сказал об этом Питамакану. Он не ответил ни слова и рассеянно смотрел вдаль.
— Все кончено, — проговорил я. — Здесь нам придется умереть.
Снова он ничего не ответил, даже не взглянул на меня, и я с ужасом подумал: «Уж не сошел ли он с ума?»
4. У НАС ЕСТЬ МЯСО
— Ну что ж, если они разорвутся, я отрежу прядь волос, — пробормотал Питамакан, с трудом вставая.
Треснула тонкая корочка льда, покрывавшая его гетры.
Теперь я был уверен, что разум его помутился. Ни один индеец, находящийся в здравом уме, даже и не помыслит о том, чтобы обрезать волосы.
— Питамакан, что с тобой? Ты болен? — спросил я, с беспокойством всматриваясь в его лицо.
— Что со мной? Ничего! — ответил он. — Мы вращали сверло недостаточно быстро, нужно вертеть его с помощью лука. Если завязки наших мокасин окажутся непрочными для тетивы, мне придется отрезать прядь волос и из них сделать тетиву.
Я вздохнул с облегчением, убедившись, что Питамакан не сошел с ума, но в его новый план я не верил. Уныло следя за ним, я смотрел, как он ощупывает ветви ив и берез. На берегу реки он подобрал два камня: один — большой и гладкий, другой — заостренный. Наметив молоденькую березку, ствол которой имел в диаметре около четырех сантиметров, он сгреб в сторону снег и положил у самого основания ствола большой камень. Приказав мне согнуть деревце, так, чтобы оно легло на большой камень, он заостренным камнем несколько раз ударил по стволу и перерубил его. Срезав затем верхушку, он показал мне палку длиною в метр. Это был лук — грубый, неоструганный, неотполированный, но упругий и вполне пригодный для нашей цели.
Завязки моих мокасин сделаны были из козлиной кожи, более прочной, чем ремешки из кожи бизона, которыми стянуты были мокасины Питамакана. Поэтому мы решили взять для тетивы мои завязки.
Захватив все наши орудия, мы вошли в лес, собрали хворосту и березовой коры и решили сделать последнюю попытку спастись.
Страшно было приступать к делу. Нам казалось — лучше оставаться в неизвестности, чем окончательно убедиться в неудаче. Но сидеть сложа руки мы не могли, так как снова начали мерзнуть. Решительный момент настал: Питамакан вставил острие сверла в дырку, обернул один раз тетиву вокруг сверла и, придерживая ладонью левой руки тупой конец палки, правой рукой сжал лук. Я положил расщепленные куски коры вокруг отверстия, и Питамакан, запев песню койота, стал двигать лук перпендикулярно сверлу вперед-назад, вперед-назад, словно пилу.
Сверло, зажатое петлей тетивы, быстро вращалось. Вдруг Питамакан выронил лук и вскрикнул от боли. Я понял, в чем дело: конец сверла обжег ему руку.
Мы поменялись местами. Обернув руку полой одежды, чтобы не обжечься, я все быстрее и быстрее двигал лук, а сверло поскрипывало, как пила. Через несколько секунд мне показалось, что тонкая струйка дыма просачивается между пальцами Питамакана, придерживавшего куски коры, которые мы положили вокруг дырки.
Убедившись, что глаза меня не обманывают, я радостно вскрикнул, но Питамакан пел и не слышал моего возгласа. Быстрее и быстрее вращалось сверло, из дырочки вырывался дым, но огня не было.
— Почему нет огня? — крикнул я. — Почему не загорается кора?
Питамакан тревожно следил за синим вьющимся дымком. Я ни на секунду не переставал пилить, но огня не было, да и дыму стало как будто меньше.
У меня потемнело в глазах. Я хотел бросить лук и отказаться от дальнейших попыток, как вдруг понял, почему наш опыт не удался. Питамакан так плотно придавливал бересту к дереву, что воздух не проникал в дырку, а где нет воздуха, там и огонь не горит.
— Подними руку! — закричал я. — Не надавливай на кору!
Он не сразу меня понял, но как только он отодвинул руку, береста вспыхнула.
— Огонь! Огонь! Огонь! — закричал я, быстро выдернув сверло.
— И-пу-куи-ис! И-пу-куи-ис! (Горит! Горит!) — ликовал Питамакан.
Он поднес к крошечному язычку пламени сухую березовую ветку, а когда ветка загорелась, побежал с пылающим факелом к собранной нами куче хвороста. Затрещала кора, огонь пробежал по сухим сучьям, и через минуту костер наш пылал. Питамакан воздел руки к небу и возблагодарил Солнце. Теперь нам не угрожала опасность замерзнуть.
Солнце садилось. В надвигающихся сумерках мы бродили по лесу, собирая сухие палки и ветки. Мы притащили к костру несколько упавших молодых деревцев длиной в четыре-пять метров. Я хотел бросить их в огонь и развести огромный костер, но Питамакан поспешно выхватил из огня три-четыре толстых сука.
— Белые ничего в этом деле не понимают! — воскликнул он. — Они тратят зря хворост и раскладывают такой большой костер, что к нему подойти нельзя — жар пышет в лицо. Потом они стоят в сторонке и мерзнут. Черноногие поступают иначе, и мы последуем их примеру, чтобы нам было и тепло и удобно.
Послав меня наломать побольше еловых веток, Питамакан построил остов шалаша у самого костра. Сначала он поставил треугольник из тяжелых толстых палок, которые наверху перекрещивались. Получилась трехгранная пирамида. Две стороны ее он заполнил косо положенными палками, опиравшимися на три основных шеста. Сверху мы их прикрыли еловыми ветками, положенными в несколько слоев. И в шалаше мы сделали мягкую постель из еловых веток.
Теперь у нас было удобное жилище. Костер пылал у самого входа. Мы вползли в шалаш и уселись на постель из еловых веток. Холодный воздух просачивался сквозь стенки шалаша, и дрожь пробежала у меня по спине. Тогда мы с Питамаканом сняли теплую одежду и прикрепили ее к шестам, преградив таким образом доступ холодному воздуху. Жар от костра проникал в шалаш и, нагревая растянутую над нами одежду, грел нам спины. Льдинки падали с нашей одежды, мы сидели в облаке пара.
Теперь, когда был у нас огонь и неминуемая смерть нам не грозила, у меня нашлось время подумать и о другом. Снова почувствовал я мучительный голод. По словам Питамакана, соплеменники его могли не есть в течение нескольких недель, но я не верил, что мы долго проживем без пищи. Однако выхода я не видел и считал невозможным добыть мяса. Когда я заговорил об этом с Питамаканом, он засмеялся.
— Будь храбрым, не бойся голода, — сказал он. — Повторяй про себя: «Я не голоден, я не голоден» — и скоро ты почувствуешь, что тебе не хочется есть. Но мы недолго будем поститься. Да знаешь ли ты, что я этой же ночью мог бы раздобыть мяса, если бы это было необходимо!
Я посмотрел на него в упор. Он нисколько не походил на сумасшедшего, а глаза его как будто смеялись. Ну что ж, если он шутит — беда невелика, хотя шутка его кажется мне нелепой, да и не время сейчас шутить; но если он говорит серьезно, значит в голове у него помутилось.
— Приляг и постарайся заснуть, — посоветовал я ему. — Сегодня ты работал больше, чем я. Сон тебя подкрепит. А я буду подбрасывать хворост в костер.
Он расхохотался так звонко и весело, что опасения мои рассеялись.
— О, я с ума не сошел и говорю серьезно. Ну-ка, подумай: не найдется ли какого-нибудь способа раздобыть еду?
— Конечно, никакого способа нет, — ответил я после минутного размышления. — Не шути. Мы попали в беду, а шуткой делу не поможешь.
Он посмотрел на меня с сожалением.
— Ты такой же, как и все белые. Они считают себя умнее нас, индейцев. А отними-ка у них ружья, порох, пули, ножи, одежду, одеяла, отними все их богатства — и они погибнут. Да, они не могут жить в тех условиях, в каких живем мы, индейцы, и живем неплохо.
Я чувствовал, что есть правда в его словах. Я сомневался, способен ли хоть один из агентов компании, самый опытный и настойчивый, добыть огонь, если нет у него под руками необходимых инструментов. А Питамакан добыл огонь. Неужели он может добыть и пищу?
— Где же ты достанешь мясо? — осведомился я.
— Там, в лесу, — ответил Питамакан, небрежно махнув рукой. — Неужели ты не заметил маленьких тропинок в снегу, проложенных кроликами там, где они пробирались сквозь кусты? В полночь, когда взойдет луна, я мог бы выйти из шалаша и расставить на этих тропинках силки, сделанные из завязок наших мокасин. И у нас был бы кролик… а быть может, два или три.
Как это было легко и просто! План Питамакана показался мне вполне осуществимым, и странно было, почему я сам до этого не додумался. Словно груз свалился с моих плеч, я успокоился и теперь только почувствовал, как мне хочется спать. Растянувшись на подстилке из еловых веток, я сказал:
— Питамакан, какой ты умный!
Не знаю, ответил ли мне Питамакан: я мгновенно заснул.
Ночью, когда угасал костер, мы просыпались от холода и подбрасывали хворост в огонь; потом снова засыпали.
Когда рассвело, снова пошел снег. Падал он не такими густыми хлопьями, как накануне, но по всем признакам снегопад мог затянуться. Теперь мы не боялись выйти из шалаша: в любой момент мы могли вернуться к костру и высушить одежду.
Перед уходом мы сделали две стрелы из ивы. Побеги ивы мы срубили острым камнем, концы обожгли на огне, древко остругали и сделали на нем зарубки, пользуясь нашим ножом из обсидиана. Я хотел заострить конец, но Питамакан сказал, что для охоты на птиц нужно иметь стрелы с тупыми концами, которые раздробляют кости крыльев. Накануне он усовершенствовал наш лук: остругал его и высушил перед костром. Лук стал более упругим и, по словам Питамакана, годился для стрельбы.
Мы зарыли тлеющие угли глубоко в золу и, убедившись в том, что до нашего прихода они не погаснут, тронулись в путь. Неподалеку от шалаша Питамакан устроил две ловушки для кроликов. Сделал он их из шнурка мокасина. Его способ расставлять силки оказался очень простым. Он согнул молоденькое деревце, которое росло у края кроличьей тропы, а верхушку его подсунул под сук другого дерева с противоположной стороны тропинки. Затем привязал к деревцу ремень так, что петля болталась над тропинкой на высоте четырех-пяти сантиметров. По обеим сторонам петли он воткнул в снег большие еловые ветки, чтобы ветер не сдул ее. Когда кролик, пробегая по тропе, почувствует, как петля затягивается у него на шее, он попытается высвободиться, начнет биться и дергать ремень. Верхушка деревца вырвется из-под сука, деревце выпрямится, а кролик, задушенный петлей, повиснет в воздухе.
Спускаясь в долину, мы искали тетеревов в зарослях молоденьких сосен. Кролики прыгали по тропинкам — белоснежные, красноглазые, с большими лапами. В одного из них Питамакан выстрелили, но стрела не долетела до цели.
Всюду виднелись звериные тропы, но падающий снег покрывал их, и мы не могли отличить новых следов от старых. Пройдя около километра, мы увидели крупную дичь — оленей и лосей, бродивших поодиночке и маленькими стадами. Когда мы приблизились к зарослям ивы, оттуда вышли олень, самка его и детеныш. Самка и детеныш убежали, а олень двинулся нам навстречу, потряхивая огромной головой, увенчанной широкими рогами. Я вспомнил рассказы трапперов о злобном нраве оленей в эту пору года и стал озираться, отыскивая дерево, на которое можно было бы влезть. Но вокруг росли такие толстые деревья, что я даже не мог обхватить руками ствол.
— Бежим! — прошептал я.
— Стой смирно! — отозвался Питамакан. — Если мы побежим, он за нами погонится.
Олень находился шагах в пятидесяти от нас. В сумеречном освещении леса глаза его — маленькие, злые — горели зеленоватым огнем. Походил он на чудовищного зверя, какого случается видеть во сне. У него была толстая отвисшая нижняя губа, из-под нижней челюсти торчали кисточки черных волос. В вышину, от загривка до копыт, он был больше полутора метров. Длинная шерсть была ржаво-серого, местами черного цвета.
Все это я заметил с первого взгляда. Снова олень тряхнул головой и, сделав два-три шага в нашу сторону, остановился.
— Если он сделает еще шаг, беги к дереву! — сказал Питамакан.
Затаив дыхание, мы ждали. Конечно, мы боялись этого оленя, да и как было не испугаться, когда мы стояли безоружные, по колено в снегу! Мотнув головой, он шагнул было вперед, но в эту минуту где-то треснула ветка. Олень оглянулся, свернул в сторону и побежал по тропе, вслед за самкой и детенышем. Как только он скрылся из виду, мы помчались в противоположную сторону и бежали не останавливаясь, пока не увидели наш шалаш.
Хорошо, что мы к нему вернулись. Снег покрывал кучу золы, и вода, просачиваясь, могла потушить тлеющие угли. Мы откопали их, развели новый костер и присели отдохнуть. На будущее время мы решили не отходить от костра, не сделав предварительно навеса из веток и коры над тлеющими углями.
— Идем! — сказал Питамакан. — Теперь мы повернем к верховьям речонки. Быть может, там нам посчастливится.
Отойдя шагов на триста от шалаша, мы наткнулись на следы медведя. Зверь прошел здесь недавно: очень тонкий слой снега покрывал отпечатки его лап. Следы привели нас к реке и видны были на другом берегу. По-видимому, медведь, переправившись через реку, двинулся в лес, к пещере, где провели мы первые две ночи. Отпечатки отчетливо видны были на песке у самой воды, и по этим отпечаткам мы определили, что здесь прошел черный медведь.
— Это тот самый медведь, который натаскал в пещеру травы и листьев! — воскликнул Питамакан. — Сейчас он идет в свою берлогу.
— Вот если бы мы могли убить его! — подхватил я. — Жирного мяса хватило бы нам надолго, а шкура у него теплая, мягкая, мы бы на ней спали.
— Если он заляжет в берлоге, мы до него доберемся, — сказал Питамакан. — Хороших стрел у нас нет, но мы возьмем большие тяжелые дубинки и проломим ему голову.
Шагая рядом с другом, я обдумывал его предложение убить медведя дубинками. Несколько дней назад этот план показался бы мне неосуществимым и нелепым, но голод и лишения многому меня научили. Я думал, что не побоюсь пойти с дубинкой на медведя.
Мне захотелось повернуть назад и подняться к пещере, но в эту минуту стая тетеревов выпорхнула из кустов, мимо которых мы проходили. Птицы опустились на ветки ближайших сосен и елей. Мы остановились в нескольких шагах от одного из тетеревов, который, казалось, не обратил внимания на наше приближение. Питамакан приладил к тетиве стрелу, прицелился и выстрелил.
Неудивительно, что он промахнулся! Стрела была сделана грубо и лишена оперения. Пролетела она на расстоянии четверти метра от птицы, ударилась в сук и упала на снег. Но тетерев даже и не встрепенулся. С тревогой смотрел я, как Питамакан прилаживает вторую — и последнюю — нашу стрелу.
Ззз!… Я завопил от восторга, когда стрела попала в цель и птица свалилась с ветки. Рванувшись вперед, я подхватил ее на лету и жадно ощупал жирное тельце.
— Мясо! Смотри, у нас есть мясо! — крикнул я, высоко поднимая добычу.
— Замолчи! Ты спугнул всех птиц, — сердито проворчал Питамакан.
Действительно, три тетерева, сидевшие на той же сосне, улетели, испуганные моими воплями. Питамакан, поднимая упавшие стрелы, посмотрел на меня укоризненно. Мне стало стыдно.
Мы знали, что на соседних деревьях еще сидят тетерева, но увидели их не сразу, так как их оперение сливалось со стволами деревьев. Наконец разглядели мы трех птиц на ближайшей сосне. Питамакан стал стрелять, а я поднимал и приносил ему стрелы.
Нам не везло. Он делал промах за промахом, и в конце концов тетерева, слегка задетые стрелами, улетели.
Мы перешли к другому дереву, и здесь Питамакану посчастливилось: он подстрелил двух птиц. Захватив добычу, мы поспешили «домой», к костру.
Я предложил зажарить сразу трех птиц и поесть досыта, но Питамакан заявил, что этого он не допустит.
— Одну мы съедим сейчас, одну — вечером, и одну — завтра утром, — решительно сказал он.
Мы были так голодны, что не стали ждать, пока дожарится наша птица. Мы сняли ее с углей, разделили пополам и съели полусырое мясо. Конечно, досыта я не наелся, но никогда ни одно кушанье не казалось мне таким вкусным. И, в сущности, съели мы немало: синие американские тетерева — крупные птицы. Поев, мы пошли за хворостом, а когда стемнело, уселись в шалаше перед костром и стали строить планы на будущее, которое представлялось нам далеко не в столь мрачных тонах, как накануне.
— Если бы у нас был хороший лук и настоящие стрелы, мы могли бы всю зиму кормиться тетеревами, — сказал я.
— Нам нужны лыжи, — возразил Питамакан. — Через несколько дней выпадет столько снегу, что мы будем проваливаться по пояс.
— Лыжи мы сделаем из дерева, — предложил я, припоминая рассказы трапперов.
— Но мы не можем ходить босиком. Через день-два наши мокасины развалятся. Посмотри, у меня уже разорвана подошва. Брат, если мы хотим дожить до весны, увидеть зеленую траву, вернуться к родным, нам нужна не только пища, но и нитки и иголки, кожа для мокасин, одежда и теплый вигвам. Скоро ударят лютые морозы.
У меня сжалось сердце. Я думал о еде и забыл обо всем остальном. Перечень нужных нам вещей привел меня в ужас. Иголки и нитки! Мокасины!
— Ничего не поделаешь, Питамакан, придется нам умереть, — воскликнул я. — Нам не раздобыть всех этих вещей.
— Раздобудем! — весело отозвался Питамакан. — И прежде всего мы сделаем хороший лук и настоящие стрелы с наконечниками из кремня или камня, похожего на лед. Завтра же примемся за работу… Слушай!
Я едва мог расслышать жалобный писк, но Питамакан сразу понял, в чем дело.
— Бежим! Кролик попал в силки! — крикнул он.
Мы выбежали из шалаша и бросились в кусты. Питамакан не ошибся: в петле, задыхаясь, бился кролик. Мы вынули его, снова наставили ловушку и, веселые и счастливые вернулись к костру.
В тот вечер мы съели не одного, а двух тетеревов. Мы зарыли их в золу, и на этот раз у нас хватило терпения подождать, пока жаркое будет готово.
5. ГНИЛАЯ ТЕТИВА
— Мой дед говорил мне, как это нужно делать. Вот смотри! — сказал Питамакан.
Положив на ладонь левой руки пластинку обсидиана, он постукивал по ней треугольным камнем, который держал в правой руке.
— Но есть и другой способ, — продолжал он. — Нужно нагреть пластинку на огне, а затем осторожно капнуть воды на ту часть ее, которую ты хочешь отколоть.
Не найдя кремней, мы принесли куски обсидиана, которые были спрятаны под нависшими ветвями сосны. А рано утром мы осмотрели ловушки и в каждой нашли по кролику. Теперь они висели на ветке дерева в двух шагах от шалаша; кролика, пойманного накануне, мы съели за завтраком.
Я тоже попытался сделать из куска обсидиана наконечник для стрелы. Но работа у нас не клеилась, а материала было мало. Мы испортили много пластинок: они раскалывались, если мы слишком сильно ударяли по ним камнем.
Решив испробовать второй способ, мы принесли расщепленную ветку ивы, которая должна была заменить нам щипцы, и положили горсть снега в выбоину камня, напоминавшего по форме блюдце. Решено было, что я буду нагревать обсидиан, а Питамакан — придавать пластинкам форму наконечника. Он выбрал почти треугольный кусок, длиной в четыре сантиметра, толщиной — в один. Одна сторона его была заострена, как лезвие бритвы, две другие — тупые.
Следуя наставлениям Питамакана, я взял пластинку щипцами за острый край, подержал над тлеющими углями, которые мы выгребли из костра, и лишь после этого поднес ее к огню. Питамакан опустил в воду кончик сосновой иглы и осторожно капнул водой на тот кусок пластинки, который мы хотели отколоть. Послышалось шипение, вода испарилась, но с пластинкой обсидиана, казалось, никаких изменений не произошло. Питамакан вторично капнул водой на то же самое место. От пластинки отскочил кусок величиной с ноготь мизинца. Мы оба радостно вскрикнули: опыт удался!
Вскоре мы убедились, что пластинку нужно держать наклонно — так, чтобы капля воды стекла по той линии, вдоль которой должна была пройти трещина. После двухчасовой работы мы сделали из куска обсидиана маленький наконечник для стрелы. Конечно, дед Питамакана с презрением выбросил бы этот наконечник, но мы были им очень довольны.
Работали мы целый день, и к вечеру у нас было пять вполне сносных наконечников. На закате солнца прекратился снегопад, и мы пошли посмотреть на силки для кроликов, но нашли их пустыми. Тогда мы перенесли обе ловушки на другую тропинку. Снегу выпало много, мы увязли выше колен, и ходить было очень трудно.
Нам предстояла работа, не менее трудная, чем выделывание наконечников: нужно было найти подходящий материал для луков и стрел. В тот вечер мы ничего не нашли, но на следующее утро, осмотрев силки и вынув из петли одного кролика, мы случайно наткнулись на деревца, похожие на ясень, из которого черноногие делают свои луки.
Сбегав в шалаш за большим плоским камнем, служившим нам наковальней, и за камнями, заменявшими ножи, мы срубили два прямых стройных деревца; стволы их имели в диаметре около пяти сантиметров. Древки для стрел мы решили сделать из прямых ветвей ивы. На берегу реки мы нашли несколько шероховатых кусков песчаника, которые могли заменить нам напильник.
Два дня потратили мы на изготовление луков и стрел. Луки мы обстругивали и обтачивали сначала кусками песчаника, затем ножами из обсидиана. Но мы боялись держать их на огне, так как дерево могло треснуть; поэтому наши луки были менее упруги, чем им следовало быть.
Немало потрудились мы и над выделкой стрел. Расщепив конец стрелы, мы вставляли в щель наконечник и привязывали его кроличьими сухожилиями. Для оперения мы пользовались перьями тетеревов и привязывали их к древкам теми же сухожилиями.
К счастью, кролики ежедневно попадались в силки, и мы не голодали, но нам надоело питаться одним кроличьим мясом.
Наконец луки и стрелы были готовы; оставалось сделать тетиву. Мы хотели взять для этой цели завязки от мокасин, но они были широкие, шероховатые и непрочные. Как-то вечером Питамакан решил отрезать прядь волос для тетивы, но, проснувшись на следующее утро, заявил, что ему приснился сон, который он истолковал как запрещение отрезать волосы. Все черноногие верили в сны, и я не стал спорить с Питамаканом, зная, что мои доводы не произведут на него никакого впечатления.
В то утро мы нашли в силках двух кроликов. И добычу и силки мы отнесли в шалаш, так как теперь те же ремни должны были пойти на тетиву. Один ремень разорвался, как только мы его высушили и натянули. Связав концы, мы скрутили из двух ремней веревку, которую натянули на лук Питамакана. А я остался без тетивы и должен был ждать, пока мы не убьем какого-нибудь крупного зверя, чьи сухожилия пригодны для тетивы. Я совсем не был уверен, что ремень на луке Питамакана окажется достаточно прочным.
— Попробуй-ка его натянуть, — предложил я.
— Нет! — возразил Питамакан. — Пусть лучше он порвется после первого выстрела.
Мы спустились в долину. Ярко светило солнце, но день был очень холодный, и деревья потрескивали от мороза. Не оберни мы ноги кроличьими шкурками, заменявшими нам носки, мы не могли бы далеко отойти от костра.
Звериные тропы в лесу перекрещивались и переплетались, напоминая сеть, раскинутую на снегу. Следуя по этим тропам, мы не проваливались в снег, но нам часто приходилось с них сворачивать, так как они вели не в ту сторону, куда мы шли.
Мы шли медленно и старались не шуметь. Нам хотелось подкрасться к какому-нибудь животному, отдыхающему в кустах. Из-под ветвей сосны выпорхнула стая тетеревов, но в них мы не стреляли, опасаясь — в случае промаха — испортить наконечники стрел. Попади стрела в сук или ствол дерева, расшатался бы плохо укрепленный наконечник. Мы решили на будущее время брать две стрелы с тупыми концами для охоты на птиц.
Какой-то черный зверек, прыгая по снегу, скрылся в зарослях. Подойдя ближе, мы увидели на снегу отпечатки лап куницы. Индейцы и трапперы часто приносили в форт глянцевитые шкуры этих зверьков, но никогда еще не видел я живой куницы. Я пошел было по ее следам, но Питамакан вдруг схватил меня за руку и указал на маленького рыжего зверька, который, добежав до конца длинного сука, перепрыгнул на соседнее дерево.
— Да ведь это только белка, — презрительно сказал я.
Но вслед за белкой пробежала по суку куница и прыгнула на то же дерево. Это был удивительно красивый зверек, гораздо крупнее домашней кошки.
Проваливаясь в снег, мы бросились к ели, но куница, преследуя белку, уже прыгнула на соседнее дерево. Белка заметалась, перескакивая с ветки на ветку, потом перелетела на сук ели, под которой мы стояли. Куница догоняла свою добычу, но вдруг, заметив нас, круто повернулась, отказалась от погони и, перепрыгивая с дерева на дерево, быстро скрылась из виду.
— Эх, жаль, что мы ее не убили! — воскликнул я.
— Не беда, — отозвался Питамакан. — Здесь водится много куницы, а до весны далеко, мы еще поохотимся.
Я промолчал. Мне казалось, что Питамакан сулит то, чего быть не может. Он обещал сделать иголки и нитки, но разве я мог этому поверить!
— Идем! — сказал я. — Холодно стоять на одном месте.
Мы подошли к зарослям ивы, где несколько дней назад на нас чуть было не напал олень. На снегу, выпавшем накануне, отчетливо виднелись оленьи следы: олень со своим семейством долго бродил в зарослях, а затем спустился к реке.
— Они находятся где-нибудь неподалеку, — сказал Питамакан, — но лучше не подходить к ним, пока у нас нет второго лука.
Выйдя из зарослей, мы увидели большого белохвостого оленя-самку. Она медленно шла к реке, изредка останавливалась и грызла нежные веточки ив и молодых березок. Мы спрятались за деревом и ждали, пока она не скрылась в ельнике.
— Она ляжет там на снегу. Идем! — воскликнул Питамакан.
Он двинулся к реке, а я покорно следовал за ним, недоумевая, почему он не идет прямо по следам самки. Наконец я не выдержал и спросил его об этом.
— Все лесные животные, ложась отдохнуть, поворачиваются мордой к тропе, по которой только что пришли, — объяснил он. — Иногда они бывают еще более осторожными: сделают круг и ложатся в сторонке, откуда им видна эта тропа. Если по ней идет охотник, они припадают к земле и лежат неподвижно, пока он не пройдет мимо. Потом потихоньку встают и убегают. Запомни одно: нельзя идти по следам животного, за которым охотишься. Когда ты определил по следам направление, которого держится олень, сверни с тропы и иди вперед, пока не увидишь холмика или зарослей — словом, удобного местечка, где животное могло бы лечь и отдохнуть. Тогда осторожно подходи к этому месту кружным путем. Если олень здесь не остановился, ты увидишь его следы. Если следов нет, иди вперед медленно, шаг за шагом.
Это объяснение показалось мне разумным; я сказал это Питамакану.
— Идем скорее, — добавил я. — Незачем зря терять время.
— Спешить некуда, — возразил он. — Нужно дать время животному лечь и задремать.
Но день был такой холодный, что долго ждать мы не могли. Подойдя к реке мы увидели, что вода у берегов замерзла, и только там, где течение было быстрее, виднелись длинные узкие полыньи. Мы прошли шагов двести по льду, к низовьям реки, и немного отдохнули, так как лед еще не был покрыт снегом. Подойдя к ельнику, мы не нашли свежих оленьих следов и убедились, что лань осталась в зарослях.
Отойдя от реки, мы двинулись в обход, пробираясь между деревьями. На ветвях лежали толстые подушки снега. Деревья росли здесь так близко одно к другому, что мы видели не дальше чем на десять шагов вперед. Я шел за Питамаканом, от которого зависела теперь наша судьба. У меня тревожно билось сердце. Если бы нам удалось убить оленя, насколько улучшилось бы наше положение!
Войдя в ельник, мы стали пробираться вперед шаг за шагом. Вдруг Питамакан задел плечом ветку ели, и снег посыпался тяжелыми хлопьями. Я видел, как шагах в десяти от нас поднялось облако снежной пыли, и заметил оленью самку, которая вскочила и, делая гигантские прыжки, бежала из ельника на открытую поляну. Но Питамакан успел в нее прицелиться и пустил стрелу.
— Я не промахнулся! — крикнул он. — Я видел, как опустился хвост!
Это был верный признак. Когда белохвостый олень, спугнутый охотником, обращается в бегство, он всегда задирает свой короткий белый хвост и помахивает им, словно маятником. Если животное ранено, хотя бы и очень легко, хвост мгновенно опускается.
— А вот и кровь! — воскликнул Питамакан, заметив красные пятна на снегу.
Но крови было очень мало. Я утешал себя тем, что древко стрелы, вонзившейся в тело, не дает крови вытекать из раны. Выйдя из ельника, мы побежали по следам оленя, но вскоре замедлили шаг: красные пятна на снегу попадались все реже и реже. Плохой знак!
Вскоре мы подошли к тому месту, где животное остановилось и оглянулось на пройденную тропу. По-видимому, олень стоял довольно долго, так как снег был хорошо утоптан, но здесь мы не увидели ни капли крови.
— Не стоит идти по ее следам, — печально проговорил Питамакан. — Она легко ранена, и боль не мешает ей бежать. Нас она к себе не подпустит.
Питамакан был огорчен больше, чем я, так как считал себя виновником неудачи.
— Не беда! — сказал я, стараясь его ободрить. — Оленей здесь водится много, а до ночи еще далеко. Идем! Быть может, в следующий раз нам повезет.
— Я очень устал, — пожаловался он. — Не вернуться ли нам к костру? Отдохнем, выспимся, а завтра пойдем на охоту.
Питамакан все время шел впереди, прокладывая тропу по рыхлому снегу. Неудивительно, что он устал. Я предложил занять его место и проложить дорогу к реке, а затем идти по льду и высматривать дичь, бродившую в лесу, окаймлявшем реку.
— Ты прав! — воскликнул он, и лицо его осветилось улыбкой. — Иди вперед. Скорее бы добраться до реки!
Через несколько минут мы уже шагали по льду, и Питамакан снова шел впереди. Впервые с тех пор, как мы вышли на охоту, я перестал сомневаться в успехе и с уверенностью сказал себе, что домой мы вернемся не с пустыми руками. Наши ноги, обутые в мокасины, бесшумно ступали по гладкому льду: конечно, нам удастся близко подойти к намеченной добыче, и на этот раз Питамакан не промахнется. Мы спугивали тетеревов, заметили двух-трех выдр, но на снегу вдоль реки и дальше, в лесу, виднелось столько следов крупных животных, что на мелкую дичь мы решили не обращать внимания.
Мы приближались к тому месту, где высокие сосны подступали к самой реке. И вот тогда-то надежда вспыхнула с новой силой: мы увидели, как осыпался снег с ветвей молодой ивы и деревце затрепетало, словно по нему ударили топором. Мы остановились прислушиваясь, но вокруг было тихо. Потом посыпались хлопья снега с куста неподалеку от нас. Питамакан сжал лук. Из кустов вышел лось и остановился, повернувшись к нам боком, в шагах двадцати от реки.
«Ну уж он-то от нас не уйдет!» — подумал я.
Затаив дыхание, я ждал, посматривая то на лося, то на Питамакана.
Питамакан прицелился, натянул тетиву и вдруг, круто повернувшись, сел прямо на лед. Тетива разорвалась!
Это был страшный удар: мы лишились добычи, и всему виной была гнилая тетива! Лось скрылся из виду, как только Питамакан опустился на лед. Долго сидел он с опущенной головой, жалкий и подавленный. Наконец он глубоко вздохнул, встал и предложил идти домой.
— Подожди! Попробуем связать концы ремня, — сказал я. — Быть может, он протерся только в одном месте.
Питамакан безнадежно покачал головой и зашагал по льду. Но через минуту он остановился.
— Нет у меня надежды, но все-таки попробуем.
Ремень был длиннее, чем требовалось для тетивы. Мы связали концы узлом, и Питамакан, приладив стрелу, медленно стал натягивать тетиву. Мне казалось, что ремень выдержит, но вдруг раздался треск: тетива лопнула снова, и на этот раз в другом месте. Об охоте нечего было и думать, если мы не раздобудем новой, прочной тетивы. Питамакан молча продолжал путь, а я следовал за ним, тщетно стараясь найти какой-нибудь выход.
Мы шли по льду, следуя всем извивам реки, так как слишком устали, чтобы идти кратчайшим путем по глубокому снегу. До вечера было еще далеко, когда мы подошли к нашему шалашу, разложили костер и поджарили кусок кроличьего мяса.
— Теперь и кроликов у нас не будет, — заметил я. — На ремне столько узлов, что из него не сделаешь хорошей петли.
— Верно, брат, — отозвался Питамакан. — Выход у нас один: если в той пещере за рекой залег медведь, мы должны его убить.
— Дубинками?
— Да, конечно. Я уже тебе говорил, что не могу отрезать прядь волос. Значит, нам не из чего сделать новую тетиву.
— Идем! — в отчаянии крикнул я. — Идем к пещере и поскорее покончим с этим делом.
Поев кроличьего мяса и напившись воды из источника, мы срубили острыми камнями две молодые березки. Вооружившись тяжелыми дубинками, мы поспешили к реке. Много снегу выпало с того дня, как нашли мы здесь отпечатки лап черного медведя, но и сейчас еще можно было отыскать его следы, ведущие к пещере.
6. МЕДВЕДЬ И ЛОСЬ
Мы шли по едва заметным следам, ведущим через лес к пещере у подножия скал. Что касается меня, то я не имел ни малейшего желания спешить. На полпути я остановился и окликнул Питамакана.
— Давай придумаем какой-нибудь план, — предложил я. — Обсудим, как взяться за дело.
— Не знаю, какой тут может быть план, — отозвался он, поворачиваясь ко мне.
— Мы подойдем к пещере, заглянем в нее и крикнем: «Эй, медведь, вылезай!» Он испугается и вылезет, а мы с поднятыми дубинками будем стоять справа и слева от входа. Как только он выйдет, мы изо всех сил ударим его по переносице. Он упадет, и мы будем его бить дубинками, пока он не издохнет.
Я припоминал рассказы индейцев и трапперов об охоте на медведей; никогда не слыхал я, чтобы медведя убивали дубинками.
— Та-ак, — протянул я, выслушав план Питамакана.
— Что? Почему ты замолчал? Что ты хотел сказать?
— Боюсь, что мы подвергаемся большой опасности, — сказал я. — Мне говорили, что зверь, загнанный в тупик, всегда защищается.
— Но мы никуда не будем загонять этого медведя, Мы займем места по обеим сторонам входа. Из пещеры он может бежать по склону прямо в лес. Он увидит, что путь свободен, и мы едва успеем нанести ему удар. Помни: бить нужно изо всех сил. Если он не упадет после первого же удара, мы его не догоним — он убежит в лес.
Мы побрели дальше. Слова Питамакана меня успокоили; теперь мне хотелось поскорее довести дело до конца. Судьба наша зависела от того, убьем ли мы медведя. Если он от нас уйдет, размышлял я, быть может, Питамакан преодолеет суеверный страх и срежет прядь волос для тетивы, Выйдя из лесу, мы стали карабкаться по крутому склону. Шагах в двадцати от пещеры мы сделали печальное открытие: тропа, по которой мы шли, круто сворачивала налево, а затем уводила назад, в лес. Мы переглянулись и Питамакан глухо сказал:
— Конец охоте. Медведь почуял наш запах и побоялся идти в пещеру. Значит, у него на примете какая-нибудь другая берлога.
«Плохо дело! — подумал я. — Неужели Питамакан не согласится срезать прядь волос? Постараюсь его убедить…»
Но убеждать его мне не пришлось. Осматриваясь по сторонам, я заметил справа от пещеры следы медвежьих лап, тянувшиеся вдоль подножия скал. Молча схватил я Питамакана за руку и указал ему на эти следы. Глаза его сверкнули, он улыбнулся во весь рот и чуть было не пустился в пляс.
— А, так вот почему тот медведь убежал в лес! — воскликнул он. — Другой медведь уже занял его берлогу, а он побоялся вступить с ним в бой. Идем, идем!
Но, пройдя несколько шагов, он остановился и задумался. Потом повернулся и посмотрел на меня как-то странно, словно впервые меня увидел. Вглядываясь в мое лицо, он, казалось, старался угадать, что я за человек. Не очень-то приятно, когда на тебя так смотрят! Сначала я терпел, потом рассердился и спросил, что ему нужно. Ответ был неожиданный.
— Мне пришло в голову, что там, в пещере, залег не черный медведь, а гризли. Конечно, я в этом не уверен. Как нам быть? Идти ли вперед — быть может, навстречу смерти — или вернуться? Если ты боишься, повернем назад.
Конечно, я боялся, но положение наше было отчаянное, а кроме того, мне стыдно было признаться в трусости.
— Идем, — сказал я, — идем! Я ни на шаг от тебя не отстану.
Мы вскарабкались по склону и остановились перед пещерой. Низкий ход был завален снегом, только в середине виднелась узкая щель: снег засыпал дыру, в которую пролез медведь. Следы, ведущие к пещере, были почти заметены снегом, и мы не могли определить, кто здесь прошел — черный медведь или гризли.
Одно было несомненно: зверь находился там, в этой темной берлоге, в нескольких шагах. Пар от его дыхания вырывался из узкой щели. Питамакан приказал мне стать справа от входа, а сам занял место слева. Когда я по его знаку поднял дубинку, он наклонился к щели и закричал:
— Пак-си-куо-йи, сак-сит! (Липкий Рот, выходи!)
Медведь не показывался. Ни одного звука не доносилось из пещеры. Питамакан крикнул еще несколько раз, но безрезультатно. Знаком приказав мне следовать за ним, он стал спускаться по склону.
— Придется просунуть жердь в пещеру и расшевелить его, — сказал Питамакан, когда мы вошли в лес. — Он спит и ничего не слышит.
Вскоре мы увидели сухую стройную сосенку. Быстро отломали мы полусгнившие ветки, и в нашем распоряжении оказалась жердь длиною в семь метров.
— Я сильнее тебя, — говорил Питамакан, взбираясь по склону. — Ты просунешь жердь в дыру, а я буду стоять у входа, и как только медведь вылезет, я его ударю дубинкой по голове. Жердь ты держи в левой руке, а дубинку в правой; быть может, и ты успеешь нанести ему удар.
Когда мы вернулись к пещере, я убедился, что воспользоваться советом Питамакана нельзя. Одной рукой я не мог протолкнуть жердь сквозь сугроб; тогда я воткнул дубинку в снег и обеими руками сжал жердь. Все глубже входила она в снежную глыбу; я увлекся, налегал на нее изо всех сил. Вдруг жердь прошла сквозь глыбу, а я потерял равновесие и упал ничком.
Падая, я слышал — что-то тяжелое ударило по концу шеста, находящемуся в пещере. Потом раздалось заглушенное сердитое ворчание, от которого у меня волосы зашевелились. Не успел я вскочить, как ворчание послышалось над самой моей головой и на меня навалилось тяжелое косматое тело. Острые когти вонзились в мою ногу. Я корчился, извивался, пытался, кажется, кричать, но так как я лежал, уткнувшись лицом в снег, то не мог издать ни звука.
Я был уверен, что на меня напал гризли и настал мой последний час. Вдруг, к великому моему изумлению, мне удалось высвободиться из-под тяжелой туши; я перевернулся на спину и мельком увидел Питамакана с занесенной над головой дубинкой. Тотчас же я вскочил, схватил свою дубинку и не мог не заорать от восторга; медведь барахтался в снегу, а Питамакан колотил его по голове. Я успел нанести два-три удара раньше, чем медведь перестал корчиться.
Только тогда я убедился, что это не гризли, а самый обыкновенный черный медведь, вдобавок не из крупных. Напади на нас гризли, нам обоим не пришлось бы вернуться к костру.
Не сразу принялись мы за работу. Сначала Питамакан должен был мне рассказать, как он стоял у входа и нанес медведю удар по голове, когда тот выскочил из пещеры, и как он осыпал его ударами, когда медведь примял меня. Мне тоже очень хотелось рассказать, что я испытал, когда на меня навалился медведь и я с минуты на минуту ждал смерти. Но слов у меня не хватило, да и острая боль в ногах давала о себе знать. Штаны мои были разорваны, ноги окровавлены, но раны оказались неглубокими. Набрав пригоршню снега, я приложил его к икрам.
Медведь был небольшой, но жирный, и поднять его мы не могли. Весил он, вероятно, не меньше девяноста килограммов. Мы взяли его за передние лапы и поволокли домой. Тащить его вниз по склону и по скованной льдом реке было нетрудно, но дальше начался подъем, и когда мы добрались до нашего шалаша, уже спустились сумерки. Несмотря на сильный мороз, мы оба обливались потом.
К счастью, у нас под рукой был запас топлива. Питамакан разгреб золу, прикрывавшую тлеющие угли, и развел костер. Мы отдохнули и поджарили кусок кроличьего мяса. Никогда еще не были мы так счастливы, как в тот вечер, когда сидели у костра, жевали безвкусное мясо и любовались нашей добычей.
Думаю, доисторические люди восхищались ножами из обсидиана, как великолепным орудием. Но мы привыкли пользоваться ножами из острой стали, и эти самодельные ножи жестоко испытывали наше терпение. Но в конце концов с их помощью мы содрали шкуру с медведя. Однако немало времени прошло, пока мы сделали разрез вдоль брюха, от нижней челюсти до хвоста. Подкожный слой жира был толщиной в пять сантиметров, и когда мы наконец содрали шкуру, вид у нас был такой, словно мы валялись в жиру. Взглянув на Большую Медведицу, я убедился, что было после полуночи, но Питамакан и не помышлял об отдыхе: сначала он хотел отделить сухожилия от костей и высушить их у костра.
Многие утверждают, что индейцы выделывали свои тетивы и нитки из ножных сухожилий животных. Это неверно. Сухожилия, которыми пользовались индейца, тянутся, словно ленты, вдоль позвоночного столба, длина и ширина их меняются в зависимости от размеров животного. У бизона эти сухожилия имеют около метра в длину, семь-восемь сантиметров в ширину и полсантиметра в толщину. Их нужно высушить, а затем они легко расщепляются на нитки.
Сухожилия, проходившие вдоль позвоночного столба убитого нами медведя, имели в длину около полуметра, но этого было вполне достаточно, чтобы сделать из них две тетивы. Мы их отделили от туши и положили на длинную толстую палку, к которой они пристали. Растянутые на этой палке, они сушились у костра. Тогда только мы улеглись спать, но часто просыпались, вскакивали и подбрасывали хворост в костер.
На следующее утро я решил полакомиться медвежатиной и поджарил кусок мяса на тлеющих углях. Но мясо оказалось таким вонючим, что я не мог проглотить ни кусочка. Питамакан поделился со мной остатками кроличьего мяса. Мой друг скорее согласился бы умереть с голоду, чем притронуться к медвежатине, так как черноногие считают медведя священным животным и близким родственником человека, а потому никогда его не едят.
По мнению черноногих, человек, убивший гризли, совершил такой же великий подвиг, как если бы он убил индейца враждебного племени, например, сиукса. Но охотнику разрешается взять, в виде трофея, только когти убитого зверя; шкуру он должен оставить. Знахарь, после многих молитв и жертвоприношений, имеет право отрезать полоску шкуры, чтобы заворачивать в нее священную трубку.
Питамакан, следуя заветам своих предков, хотел выбросить шкуру черного медведя, но когда я заявил, что собственноручно и без его помощи вычищу ее и растяну для просушки, он согласился поспать на ней разок и пользоваться ею и впредь, если его не будут преследовать кошмары.
Я охотно принялся за работу и вскоре очистил шкуру от жира и клочьев мяса. Тем временем Питамакан сделал две тетивы из сухожилий медведя. Сначала он растрепал их на нитки, затем скрутил из ниток веревку, которую высушил перед костром. Заострив сухую ветку березы, он сделал из нее шило и оставшимися нитками зашил наши разодранные мокасины. В полдень отправились мы на охоту, волоча за собой ободранную тушу медведя. Перейдя реку по льду, мы оставили тушу в лесу, надеясь воспользоваться ею как приманкой для других зверей.
Затем мы снова спустились на лед и пошли к верховьям реки. В тот день мы оба были уверены в успехе. Луки наши высохли и сделались более упругими, тетивами мы также были довольны. За ночь выпал снег, и мы легко могли отличить новые следы крупной дичи от старых следов. И лед, сковавший реку, был покрыт снегом, на котором отпечатывались копыта животных, переправлявшихся на другой берег; копытные животные редко осмеливаются ходить по гладкому льду: они боятся поскользнуться и повредить себе ноги.
Вскоре мы увидели тетеревов, стоявших рядышком у самого края полыньи, куда они слетелись пить. При нашем приближении они убежали в кусты, а затем вспорхнули и рассеялись на ветвях елей. Четырех птиц мы убили тупыми стрелами. Я убил только одну, так как стрелял гораздо хуже, чем Питамакан, который не расставался с луком чуть ли не с тех пор, как научился ходить.
Зарыв птиц в снег у самого берега, мы продолжали путь и наткнулись на следы нескольких лосей, которые перешли на северный берег реки, пересекли рощу и скрылись в густом ельнике. Мы побежали по следам и остановились там, где начинался ельник. Здесь Питамакан занял сторожевой пост, а меня послал в обход. Я должен был войти в ельник с противоположной стороны, пересечь его и вернуться к Питамакану.
— Тебе незачем пробираться потихоньку, когда ты войдешь в ельник, — сказал он мне. — Чем больше шуму, тем лучше. Лоси побегут назад, по старой тропе, и здесь я их подстерегу. Дай-ка мне одну из твоих стрел. Вряд ли тебе представится случай стрелять.
Теперь у меня осталась только одна стрела с наконечником из обсидиана, и однако я твердо решил убить сегодня лося. В то утро я, как и Питамакан, чувствовал себя сильным и верил в удачу. Все охотники знают это чувство и поймут меня, если я скажу, что нисколько не удивился, когда, войдя в ельник, увидел большого лося-самца, объедавшего веточки какого-то кустика.
Находился он шагах в пятидесяти от меня и не обратил внимания на шорох. Видеть меня он не мог — нас разделяла стена из молоденьких елочек. Но когда я вышел на просеку, он встрепенулся, мотнул головой и приготовился к прыжку.
Но я оказался проворнее его. Я натянул тетиву так сильно, что конец стрелы почти касался лука. Стрела рассекла воздух и вонзилась в бок лося.
Он побежал, я бросился за ним. Я кричал во всю глотку, чтобы спугнуть стадо и направить его по старой тропе к Питамакану. Мельком я видел лосей, прыгавших между елками, но все мое внимание было сосредоточено на пятнах крови на снегу, указывавших мне путь к моей добыче. Вскоре я наткнулся, на издыхающего лося; он лежал поперек бревна, покрытого снегом. Моя стрела пронзила ему легкие.
— Уо-ке-хаи! Ни-каи-нит-а ис-стум-ик! (Иди сюда! Я убил лося!) — закричал я.
Из дальнего конца ельника донесся ответ:
— Нис-тоа ни-мут-ук-стан! (Я тоже убил!)
Это была приятная новость. Как ни жалко было отойти хотя бы не надолго от моего лося, однако я побежал к Питамакану и увидел, что он убил большую жирную самку. Он выпустил три стрелы, и наконец животное упало на берегу реки.
Мы были так возбуждены успехом, что долго не могли успокоиться: делились друг с другом своими впечатлениями, хвастались меткими выстрелами. Наконец мы достали ножи из обсидиана и принялись за работу. Но работа шла медленно, так как ножи скоро делались тупыми. Провозились мы целый день и к вечеру содрали шкуры с обоих животных и перенесли мясо самки, убитой Питамаканом. Мясо самца, жилистое и невкусное, не годилось в пищу, но сухожилия его, шкура, печень и мозг представляли для нас большую ценность.
— Дела у нас по горло, — сказал Питамакан. — С чего мы начнем?
Стемнело. Мы собрали хворосту на ночь и грелись у костра.
— Прежде всего мы зажарим двух тетеревов, кусок печонки и ребра лося, — ответил я.
Нам обоим надоело кроличье мясо, и мы весело занялись приготовлениями к пиршеству. Сначала мы съели тетеревов и печонку, затем стали терпеливо ждать, пока не поджарятся ребра, висевшие на треножке над огнем. Я давно уже привык есть мясо без соли, а мой друг не ощущал в соли ни малейшей потребности. В те времена черноногие не употребляли соли, терпеть ее не могли и называли «ис-тсик-си-пок-уи» (жжет, как огонь).
— Ну, так с чего же мы начнем? — снова спросил Питамакан. — Нам нужны новые мокасины и лыжи, а также удобный вигвам.
— Сделаем прежде всего вигвам, — не задумываясь, ответил я. — Но как же мы его сделаем? Сначала нам придется убить двадцать лосей и выдубить шкуры, чтобы сшить покрышку для вигвама. На это потребуется много времени.
— Наш вигвам будет построен по-иному, — возразил Питамакан. — Когда ты ездил к верховьям Большой реки, ты должен был видеть жилища племени Земля. Вот мы и построим такой вигвам.
Поднимаясь с дядей по реке Миссури, я не только видел жилища племени Земля (Сак-уи Туп-пи), как называют черноногие племя мандан, но и заходил в них и убедился, что землянки эти очень теплые и удобные. Для постройки их нужны только столбы, шесты и земля. Мы с Питамаканом решили с утра приступить к работе и не ходить на охоту, пока наш дом не будет готов.
Место для него мы выбрали близко от реки и на расстоянии полутора километров от старого шалаша. Года два-три назад лесной пожар уничтожил на этом участке тысячи молоденьких деревцев, но пощадил вековые сосны и ели. За постройку мы принялись, не имея ни инструментов, ни гвоздей.
Вместо четырех тяжелых угловых столбов, какие забивают в землю манданы, мы выбрали четыре дерева, которые росли шагах в десяти одно от другого, образуя неправильный четырехугольник. Каждое дерево состояло как бы из двух деревьев, сросшихся вместе и раздвоившихся не очень высоко над землей. На развилины деревьев мы положили с двух сторон четырехугольника тяжелые шесты. Для того чтобы шесты посередине не провисали, мы соорудили две подпорки, на шесты положили более легкие жерди — и крыша была готова. В центре ее мы оставили небольшую дыру.
Теперь нам нужны были жерди для стен. Острыми камнями мы нарубили молодых деревцев, срезали с них ветки и приставили их к четырем сторонам крыши, оставив узкое отверстие с южной стороны. Оно должно было служить нам дверью. Затем мы покрыли стены и крышу еловыми ветками, а сверху насыпали на четверть метра земли. Так как стены нашего домика были не прямые, а с сильным наклоном, то слой земли держался на них. Вместо лопат мы пользовались лопатками лося, а за неимением тачки перетаскивали землю в шкуре.
Работали мы несколько дней не покладая рук. Наконец дом был готов. Как раз под квадратным отверстием в крыше мы развели костер, обложив его вокруг тяжелыми камнями. Постелью служили еловые ветки, накрытые медвежьей шкурой. Завесив дверь шкурой лося, мы присели у костра. Как мы гордились нашим уютным теплым жильем.
— Что же мы теперь будем делать? — спросил Питамакан, когда мы в первый раз завтракали в новом доме.
— Сделаем мокасины и лыжи, — предложил я.
— Эту работу мы отложим на вечер, а теперь…
Он так и не закончил фразы.
Что-то загрохотало, казалось, над нашими головами, — никогда не слышал я такого гула и грохота. Смуглое лицо Питамакана стало серым, как зола. Он вскочил и крикнул мне:
— Беги! Беги!
7. ГОРНЫЙ КОЗЕЛ
Мы выбежали из землянки. Грохот и гул нарастали. Мне казалось — мир рушится. Питамакан мчался прочь от реки, на юг, не успели мы пробежать и двухсот шагов, как шум внезапно стих. Задыхаясь, мы остановились, и я с трудом мог выговорить:
— Что случилось?
— Как! Разве ты не знаешь? — удивился Питамакан. — Вон с той горы сорвалась огромная ледяная глыба и понеслась в долину. Деревья, камни — все сметала она на своем пути. Я думал, что она сметет и наш дом.
Питамакану очень хотелось пойти на место обвала, но я убеждал его остаться дома и работать, пока мы не сделаем все нужные нам вещи.
Одну из шкур лося мы давно уже вымачивали в реке, чтобы затем легче было очистить ее от шерсти. Мы притащили ее в землянку и, положив на гладкое твердое бревно, стали скоблить тяжелым ребром лося, заменявшим нож. Край ребра мы заострили, но все-таки он был недостаточно острым, и нам приходилось изо всех сил на него надавливать, чтобы отделить волосы от кожи. Работая поочередно, мы только к концу дня сняли шерсть со шкуры.
Шкуру мы разрезали на две части. Одну мы высушили, из другой вырезали ремни для лыж. Скучная это была работа, так как мы не имели никаких инструментов, кроме ножей из обсидиана. Когда половина шкуры высохла, я долго втирал в нее мозг и печень лося, затем свернул ее и отложил в сторону дня на два, чтобы клейкость исчезла. Через два дня я ее вымыл, высушил и долго тер и скреб. Наконец мы получили большой кусок выдубленной кожи. Ее должно было хватить на четыре пары мокасин.
Мокасины мы с Питамаканом сделали очень большие, так как ноги мы обертывали кроличьими шкурками и на них натягивали обувь. Вместо иголки мы пользовались шилом, сделанным из кости лося; нитки мы заменяли сухожилиями.
«О-уам» («похоже на яйцо») — так черноногие называют лыжи. Но я не берусь определить, на что походили наши лыжи. Ободья мы сделали из березы, и ни одна лыжа не походила на другую — все четверо были разной формы. Как посмеялся бы над нашими изделиями индеец любого из племен, живших в лесах! Соплеменники Питамакана и другие индейцы прерий не пользовались лыжами, а я никогда не видел ни одной пары. Мы оба знали о них только понаслышке и, право же, неплохо справились с непривычной работой. Лыжи наши вышли тяжелые и неуклюжие, но вполне пригодные для ходьбы по глубокому снегу. Они погружались в снег только на несколько сантиметров.
Когда у нас готовы были мокасины и лыжи, поднялась метель, непрекращавшаяся двое суток. Мы поневоле отказались от охоты. Эти два дня мы занимались улучшением нашего жилья, построили очаг из тяжелых камней, которые согревали хижину, когда мы ложились спать.
Вход мы завесили шкурой лося, но пришлось оставить щель, в которую проходил холодный воздух, — иначе не было бы тяги. Мы мерзли, пока я не вспомнил, что манданы ставят в своих землянках заслоны между дверью и костром, чтобы холодный воздух поднимался к крыше.
Мы тотчас же сделали заслон из жердей и присели на постель у костра. Теперь из двери не дуло, и в землянке стало теплее. Однако по ночам, когда угасал костер и остывали камни, мы должны были вставать и подбрасывать хворост, чтобы не мерзнуть. Если мы хотели спать не просыпаясь, следовало позаботиться о теплых одеялах. Питамакан заявил, что здесь в горах водится белая горная коза с густой шерстью и шкура этой козы толще и теплее, чем шкура бизона.
На третье утро метель улеглась, и я предложил идти в горы охотиться на коз, но приятель мой наотрез отказался.
— Сегодня мы не пойдем на охоту, — заявил он. — Мне приснился дурной сон: медведь меня терзал когтями, а козел вонзил мне в бок острые рога. Быть может, этот сон предвещает несчастье. А может быть, я не должен спать на медвежьей шкуре. С тех пор, как мы на ней спим, мне часто снятся дурные сны.
— А я ничего во сне не вижу! — воскликнул я.
— Больше я не буду спать на этой шкуре, — решительно сказал Питамакан.
— О, сны никогда ничего не предвещают, напрасно ты обращаешь на них внимание, — отозвался я. — Белые не верят в сны.
— Пусть белые не верят, а мой народ верит, и я буду верить, — очень серьезно заявил Питамакан. — Во сне мы узнаем, что мы можем и чего не можем делать. Не говори со мной о снах, если не хочешь причинить мне зло.
Мне очень хотелось рассеять суеверие Питамакана, но он был крайне упрям, и я не стал с ним спорить, зная, что спор может привести к ссоре.
К счастью, он видел во сне только медведя и козла; следовательно, мы могли охотиться на других животных. Надев лыжи, мы побежали расставлять западни. Для куниц мы сделали небольшие западни, затем пошли к верховьям реки посмотреть на тушу медведя и убитого мною лося. Нашли мы только два скелета; кости были почти дочиста обглоданы росомахами, рысями и горными львами. Здесь мы устроили две большие западни, тяжелые брусья которых подперли старыми бревнами. Из такой западни не вырвался бы и самый крупный хищник, если бы пошел на приманку.
Когда мы покончили с этим делом, спустились сумерки, и мы поспешили домой. На снегу мы видели отпечатки копыт оленей и лосей, но у нас не было времени выслеживать дичь. Не успели мы войти в хижину, как снова поднялась метель, но это было нам наруку. Чем больше снегу, тем лучше: копытные животные не смогут от нас ускользнуть, и мы будем выбирать самых жирных.
Много снегу выпало в ту ночь, и на следующий день нам пригодились лыжи. Ярко светило солнце; Питамакан не видел дурных снов, и мы пошли на охоту за козами. Поднявшись на склон горы против нашей хижины, мы добрались до выступа, откуда видна была долина, где мы жили. У самой вершины горы, очень крутой и высокой, начиналось ледяное поле, обрывавшееся у края скалы, с которой несколько дней назад сорвалась снежная лавина.
Стоя на выступе, Питамакан повернулся лицом к востоку и указал мне на горный хребет, покрытый снегом. Темными были только отвесные скалы, на которых не лежал снег.
— Там, в горах, снег глубже, чем в долине, — сказал Питамакан.
С тоской смотрел он на стену из камня и снега, отделявшую нас от равнин и родного народа. Но он ни слова не сказал о своей тоске; я тоже молчал. Я, кажется, отдал бы все на свете, только бы вернуться к дяде, в форт Бентон. Правда, у нас была теперь теплая хижина, было мясо, оружие, лыжи, но будущее наше представлялось мне туманным. Кто знает, вернемся ли мы когда-нибудь к берегам Миссури? Казалось, сама природа восстала против нас.
Питамакан коснулся моего плеча и прервал мои размышления.
— Здесь, на склонах этой горы, я не вижу козьих троп, — сказал он. — Но посмотри на соседнюю гору. Там на выступах как будто виднеются следы.
Да, на сверкающем снегу видны были узкие тропки, тянувшиеся между соснами. Но животных, проложивших эти тропы, мы не могли разглядеть. Они были почти такие же белые, как и снег, и мы увидели бы их лишь в том случае, если бы они стояли на фоне темных сосен или скал. Расстояние между двумя горами было не больше полутора километров, но разделяло их глубокое ущелье, и нам пришлось спуститься к реке и пойти в обход.
Путь наш лежал мимо трех западней, расставленных неподалеку от реки. В первой мы нашли большую куницу с густым темным мехом, вторая оказалась нетронутой. Куницу мы вытащили из-под упавшего бруса и повесили на ветку дерева. Приближаясь к третьей западне, мы еще издали увидели, что нас ждет добыча. Мы ускорили шаги.
— Попалась рысь, — предположил я.
— Росомаха, — высказал свою догадку Питамакан.
Мы оба ошиблись. В западню попал горный лев; тяжелая перекладина раздробила ему шейные позвонки. Черноногие, а также племена кроу и большебрюхие высоко ценили шкуру горного льва; ею они накрывали седла. Мы знали, что можем обменять эту шкуру на четырех лошадей и считали себя богачами. Оставив льва в западне, мы стали взбираться на гору.
Сначала подъем показался нам легким, но чем дальше, тем труднее становилось идти. Выйдя из лесу, мы стали карабкаться по крутому склону. Здесь лыжи не могли нам пригодиться; мы их сняли и, проваливаясь по колено в снег, брели от выступа к выступу. Старательно обходили мы заросли низкорослых сосен: там, между этими соснами, намело столько снегу, что мы увязли бы по уши.
Хотя мороз был лютый, мы обливались потом, но стоило нам остановиться, чтобы перевести дух, мы тотчас же начинали дрожать. Не раз подумывал я о том, чтобы отказаться от охоты, но мысль о теплых козьих шкурах, казалось, удесятеряла мои силы.
О, как завидовал я в тот день птицам! Ворона Кларка, которая отличается неприятным, хриплым голосом, пролетела над моей головой и, спустившись на ветку сосны, стала выклевывать зерна из большой шишки.
«О, если бы могли мы летать, как она! — думал я. — Как быстро добрались бы мы до горных коз!»
Как это ни странно, но здесь, среди холодных, неприступных скал, птиц было больше, чем внизу, в долине, покрытой лесом. Стаями кружились около нас маленькие певчие птички. Я не знал, как они называются. Лишь много лет спустя один натуралист сказал мне, что это были зяблики с серыми хохолками
— северные птицы, которые любят холод и метель.
Видели мы также птармиганов — маленьких белоснежных птичек из рода тетеревов. Глазки, клюв и лапки у них черные. Они никогда не спускаются в долину и круглый год живут на склонах высоких гор. Оперение у них густое, и даже лапки до самых пальцев покрыты перьями. В сильные морозы они не садятся на ветви карликовых сосен, а ныряют в рыхлый снег, прорывают туннели и сидят под снегом. Эти птицы оказались не пугливыми: они подпускали нас к себе шагов на восемь-десять и тогда только улетали или убегали. Иные, посмелее, задирали хвостики, когда мы подходили близко, и даже делали вид, будто хотят на нас напасть.
Наконец мы поднялись на длинный и широкий выступ, обрывавшийся в пропасть. Дальше, за пропастью, тянулся следующий выступ, являвшийся как бы продолжением первого. И там, у подножия скалы, увидели мы горною козла. Козел был большой и старый, он сидел на льду, как сидят собаки, и в этой позе, столь непривычной для травоядного животного, было что-то странное. Нам стало жутко: мы никогда не видели такого диковинного козла. Морда у него была длинная, с огромной бородой; голова, казалось, вросла в плечи. Передние ноги его были гораздо длиннее задних, их покрывала длинная шерсть, и можно было подумать, что на нем надеты панталоны с бахромой. Над плечами шерсть его поднималась сантиметров на двадцать. Хвост — короткий — был так густо покрыт волосами, что походил на толстую дубинку. Рога, полукруглые, черные, загнуты были назад и казались слишком маленькими для такого крупного животного; по форме они напоминали серп. Питамакан разглядывал козла с таким же любопытством, как и я.
— Что с ним приключилось? — задал он мне вопрос. — Не болен ли он?
— Вид у него такой, словно он о чем-то грустит, — отозвался я.
И в самом деле, вид у козла был сумрачный. Свесив голову на грудь, он тоскливо смотрел вниз, в долину, как будто на нем тяжким бременем лежали все горести земные. Заинтересовавшись козлом, мы не сразу заметили его собратьев, разместившихся на небольших выступах над его головой. Насчитали мы тринадцать коз и козлов: одни лежали, другие стояли на снегу. Один старый козел лежал под ветвями карликовой сосны; изредка поднимал он голову, набивал рот длинными иглами и медленно их пережевывал. Мы не понимали, почему стадо не обратилось в бегство. Неужели животные нас не заметили?
— Подойдем к самому краю пропасти и посмотрим, как перебраться на следующий выступ, — предложил Питамакан.
Сделав несколько шагов, мы убедились, что козы давным-давно нас увидели. Две или три посматривали на нас с любопытством, старый козел, восседавший над пропастью, глянул разок в нашу сторону и снова погрузился в мрачные размышления. Остальные не обратили на нас ни малейшего внимания: они никогда не видели человека.
Подойдя к пропасти, мы убедились, что должны вскарабкаться на широкий выступ, находившийся на высоте пятидесяти метров от нас, пройти по этому выступу над пропастью, а затем спуститься к козам.
Никогда не забуду я этого подъема! Снег был глубокий, но мы сняли лыжи и, пользуясь ими, как лопатами, прокладывали шаг за шагом дорогу. Иногда снег осыпался под нашими ногами, и мы скатывались на несколько шагов вниз. Один раз Питамакан был с головой засыпан снегом, и мне пришлось его откапывать. Он уже задыхался, когда я его откопал.
Добравшись до выступа, мы надели лыжи, но снова сняли их, когда начали спускаться по склону. Спуск оказался легким, так как гора обрывалась вниз уступами, и на каждом уступе мы делали передышку. Приблизившись к широкому выступу, на котором находились козы, мы натянули тетивы луков. Я, как плохой стрелок, оставил себе только одну стрелу, а остальные четыре были у Питамакана.
Мы вступили на тропу, проложенную козами и тянувшуюся вдоль выступа, который имел в ширину от двадцати до тридцати шагов. Кое-где преграждали нам путь карликовые сосны и можжевельник и заслоняли от нас коз.
Обойдя заросли, мы чуть было не налетели на большого козла. Когда он нас заметил, шерсть на его спине поднялась дыбом, и он двинулся нам навстречу. Шел он, опустив голову и словно приплясывая, а мы, увидев его, и удивились и испугались. При виде этих острых черных рогов мороз пробегал по коже.
— Сверни с тропинки! Беги направо! — крикнул, толкая меня, Питамакан. — А я побегу налево!
Конечно, бежать мы не могли. Свернув с тропы, мы шли вперевалку, проваливаясь в снег. Но козел не спешил, и мы успели отойти на несколько шагов от тропы.
Поровнявшись с нами, он остановился, словно размышляя, что теперь делать. Но Питамакан не тратил времени на размышления. Он выстрелил и не промахнулся. Старый козел подпрыгнул и мотнул головой; вид у него был жалкий и глупо удивленный; потом он тяжело упал на снег. Мы добрались до тропинки и осмотрели добычу, такой густой длинной шерсти я не видел ни на одном животном. На голове, там, где начинались острые рога, я заметил черные наросты, похожие на большие бородавки.
— Понюхай их! — сказал Питамакан.
Я понюхал и почувствовал острый запах мускуса. Питамакан вытащил стрелу; должно быть, она пронзила сердце козла. Потом мы решили подойти ближе к стаду и убить еще несколько животных. Мы нуждались в теплых одеялах и хотели раздобыть четыре большие шкуры или пять маленьких.
— Что же ты стоишь? — спросил я, видя, что Питамакан не двигается. — Иди вперед!
Он поднял руку и как будто прослушивался. Глаза его расширились от страха.
— Что с тобой?!
Он не отвечал и тревожно посматривал по сторонам. Вдруг я услышал слабый, издалека доносившийся гул. По-видимому, этот гул и встревожил Питамакана. Мы взглянули на вершину горы, окинули взглядом ближайшие склоны, но, казалось, нигде не было снежного обвала.
Гул становился протяжнее и громче, нарастал с каждой секундой, а мы дрожали от страха, не понимая причины этого странного явления.
Мы прислушивались. Страшный гул доносился, казалось, со всех сторон.
— Бежим! — крикнул Питамакан. — Бежим отсюда!
8. СЛЕДЫ ЛЫЖ
— Куда же бежать? — спросил я. — Этот рев несется как будто отовсюду и ниоткуда.
Бросив взгляд на вершину горы, на склоне которой мы находились, я увидел длинное облако снежной пыли, тянувшееся к востоку от вершины и напоминавшее гигантский флаг.
— Послушай! Да ведь это ветер воет! — воскликнул я. — Видишь, как он сметает снег с вершины.
— Да, пожалуй, это ветер, — согласился Питамакан. — Но вой доносится и с севера, и с юга, и с востока, и с запада. Посмотри, там наверху ветер дует как будто со всех сторон.
Питамакан был прав: ветер сметал снег со склонов гор, высившихся против нашей горы. Через несколько секунд пики горного хребта затянулись белой дымкой, исчезли в вихре снежной пыли. Но здесь, на склоне горы, дул легкий западный ветерок. Я вспомнил, что зимой, когда пролетали над равнинами северо-западные ветры, вершины Скалистых гор всегда были затянуты серо-белыми облаками.
— Странно, — сказал я Питамакану, — ветра здесь нет, а вой его мы слышим.
— Да, — отозвался мой друг, — странно все в этой стране. Здесь живет Творец Ветра и другие лесные и горные боги. Брат мой, я боюсь, как бы они не разгневались на нас.
В первый раз дул этот страшный зимний ветер. С тех пор мы часто слышали протяжное завывание, доносившееся неведомо откуда. Но в долине и даже на склонах гор никогда не бывало сильного ветра. Всегда Питамакан бледнел и пугался, заслышав жуткий вой; я пытался рассеять его суеверный страх, но он не обращал внимания на мои доводы.
Скользя и падая, мы спустились на следующий выступ и внизу, шагах в десяти от нас, увидели коз. Было их семь штук — три старые козы, два козленка и два молодых козла. Они стояли, сбившись в кучу, и, даже не помышляя о бегстве, смотрели на нас снизу вверх. Вид у них был удивительно глупый и растерянный.
Питамакан убил одну из коз. Я натянул было тетиву, но передумал: я боялся промахнуться и потерять стрелу. Но нелегко было мне овладеть собой и отказаться от охоты.
Питамакан не терял времени даром. Все четыре его стрелы попали в цель, и я отдал ему свою. Он прицелился в старую козу, которая, сообразив наконец, что происходит что-то неладное, побежала, неуклюже подпрыгивая, по склону горы. Питамакан убил ее наповал.
Как дети, радовались мы удаче. Я перебегал от одной козы к другой, щупал густую шерсть, поглаживал длинные рога.
У нас не было веревки, чтобы связать убитых животных. Вот что мы придумали: сделав надрез на задней ноге козы, мы просунули переднюю ногу второй козы между сухожилием и костью, затем сделали такой же надрез на передней ноге и вставили палку, чтобы нога не высвободилась из зажима. Так сцепили мы всех убитых нами животных — их было пять — и поволокли по склону.
Спуск был крутой, но благодаря глубокому снегу мы не скользили и не скатывались в пропасть. Добычу нашу мы тащили, словно на буксире. Опасаясь снежного обвала, мы старались держаться ближе к лесу. Я ступал осторожно, словно человек, идущий по тонкому льду, часто оглядывался, смотрел, не осыпается ли снег. Питамакан меня успокаивал.
— Если сорвется лавина снега, мы успеем добежать до леса, — говорил он мне.
Мы благополучно спустились к подножью горы и стали сдирать шкуры с убитых коз. Но до вечера мы успели ободрать только одну козу. Остальных мы положили на кучу еловых ветвей, а Питамакан водрузил над ними длинную палку и набросил на нее свою верхнюю одежду, чтобы вид ее и запах отогнали хищников — львов, росомах, рысей, которые могли завладеть нашей добычей.
Быть может, меня спросят, почему мы положили коз на еловые ветки, а не зарыли в снег? Мясо недавно убитых животных начинает портиться через несколько часов, если зарыть его в снег, а на морозном воздухе остается свежим.
Питамакан проявил большое мужество, сняв теплую одежду. Дрожа от холода, он побежал домой, а я шел медленно и нес шкуру и голову козы. В тот день мы не успели вытащить из западней горного льва и куницу.
Когда я вошел в нашу хижину, Питамакан уже развел костер и повесил над огнем оставшиеся ребра самки лося. Одежда наша промокла насквозь; пришлось ее снять и высушить у костра. Как приятно было растянуться на постели из еловых веток, смотреть на веселые языки пламени и отдыхать после тяжелого дня!
В течение следующих дней работа у нас кипела. Мы содрали шкуры с коз, вычистили их и сшили из них мешок шерстью внутрь. Вечером мы оба залезли в этот мешок и крепко уснули. Впервые с тех пор, как мы покинули лагерь черноногих, мы не мерзли ночью и не просыпались, чтобы подбрасывать хворост в костер.
Немало времени отнимали у нас наши западни. Каждый вечер мы их осматривали и находили двух, трех, а иногда и четырех пушных зверей. Вооружившись ножами из обсидиана, мы сдирали с них шкуру. Это была утомительная работа, и шла она медленно, но мы охотно ее выполняли и гордились своей добычей. В нашей хижине всегда сушились, растянутые на обручах, шкуры куниц, росомах, рысей, а в углу постепенно росла кипа ценных мехов.
Много снегу выпало за эти дни. Когда мы доели мясо самки лося, снежный покров достиг почти двух метров в толщину. В течение двух дней мы питались козлятиной, но она издавала неприятный запах мускуса. По словам Питамакана, это была «не настоящая пища».
Находя, что луки наши недостаточно упруги, товарищ мой мечтал сварить клею и обклеить оба лука сухожилиями лося. Материала для клея у нас было много, но мы не знали, в чем его варить.
— Манданы делают горшки из земли, — сказал я однажды. — Быть может, и нам удастся сделать горшок, который не развалится.
Мы спустились к реке искать глину. Там, где берега были крутые, я стал сбивать палкой снег, тонким слоем покрывавший почти отвесную стену, и между двумя пластами гравия мы увидели толстый пласт глины. Отломав несколько больших кусков — глина была, конечно, мерзлая, — мы отнесли их в хижину. Здесь мы раздробили их на мелкие кусочки, дали им оттаять, а затем, добавив немного воды, стали разминать руками липкую массу.
Питамакан — искусный гончар — вылепил изящный горшок, наподобие тех, какие он видел в деревне племени мандан. Что же касается моего горшка, то стенки его были толщиной в два с половиной сантиметра, и вмещал он не больше двух литров. Когда мы обложили оба горшка тлеющими углями, мой дал трещину, а горшок Питамакана развалился.
Неудача нас не обескуражила. Снова принялись мы за работу. Питамакан налил воды больше, чем в первый раз, а я — гораздо меньше. Когда горшки были готовы, мы стали их обжигать. Второй горшок Питамакана развалился, как и первый, а мой — с толстыми стенками, уродливый по форме, — казалось, не пострадал от огня. Я поддерживал вокруг него большое пламя, потом отгреб угли в сторону. Горшок был темнокрасного цвета; когда мы ударили по нему палкой, он зазвенел.
Но с одной стороны его тянулась трещина, и мы побоялись сдвинуть его с места. Трещину мы залепили глиной, налили в горшок воды, положили туда копыто лося и два козьих копыта и, поддерживая слабый огонь, вываривали их целый день. Изредка подливали мы воды в горшок и терпеливо ждали результатов. Вечером Питамакан окунул палочку в горшок и потрогал жидкость пальцами.
— Ай-и! — с восторгом воскликнул он. — Настоящий клей!
Размягчив в горячем клее сухожилия лося, Питамакан облепил ими оба лука. На каждый лук пришлось по два сухожилия; то место посредине, где сходились их концы, Питамакан скрепил перемычкой. Когда работа была окончена, мы положили луки в стороне от костра, чтобы они медленно сохли. Утром, выбравшись из мехового мешка, мы первым делом натянули тетивы, испытали оба лука и убедились, что они стали эластичнее. Наскоро поев козлятины, мы отправились на охоту: нам предстояло запастись мясом на зиму.
Питамакан слыхал, что зимой белохвостые олени спускаются с высоких гор к большому озеру в стране племени плоскоголовых; следовательно, до весны мы их не увидим. Но североамериканские олени и лоси зимуют в горных долинах.
Спускаясь к реке, мы шли зигзагами и внимательно осматривали заросли ивняка, попадавшегося на нашем пути. Мороз был трескучий. Рукавиц у нас еще не было, и мы засунули руки в рукава, а луки и стрелы держали под мышкой. Мерзли ноги, так как старые кроличьи шкурки, которыми мы их обертывали, облезли и протерлись.
Проходя вдоль реки, мы увидели выдру — она ловила рыбу в темной полынье. Растянувшись на льду, она потянула носом воздух, осмотрелась по сторонам и вдруг нырнула в воду. Через несколько секунд она выползла на лед, держа в зубах большую форель. Она тотчас же начала есть ее, а мы потихоньку ушли. Нас она не заметила. Выдры близоруки, но слух у них чуткий и обоняние развито сильно. Мы решили устроить неподалеку от этого места западню, если нам удастся поймать для приманки рыбу.
Отойдя на километр от нашей хижины, мы увидели тропу, тянувшуюся к зарослям ив и разветвлявшуюся на узкие тропинки. Она напоминала глубокую колею, врезанную в снег; по обеим сторонам ее высились сугробы. Этот ивняк служил зимним пастбищем для оленей: на многих деревцах веточки и кора были обглоданы. Кое-где виднелись большие углубления в снегу — здесь олени отдыхали и спали в то время, как один из них стоял на страже: горные львы охотятся на оленей, и стадо всегда выставляет сторожевого.
Мы добрались до середины пастбища, хотя нам стоило большого труда пересекать на наших лыжах глубокие колеи. Вскоре мы увидели дичь — двух самок, двух детенышей и двух годовалых оленей. Заметив нас, старая самка-вожак побежала рысцой по тропе, увлекая за собой остальных. Сворачивая на тропинки, ответвлявшиеся влево от главной тропы, она старалась забежать нам в тыл. Когда мы преградили ей путь, она бросилась в противоположную сторону. Питамакан побежал направо, я — налево, и вдвоем мы загнали маленькое стадо в дальний конец ивняка.
Здесь кончались тропинки. Сделав гигантский прыжок, старая самка нырнула в рыхлый снег и стала прокладывать дорогу, поднимая облако снежной пыли. Остальные животные последовали задней, и только один из детенышей вернулся в заросли. Вскоре к нему присоединилась его мать.
Олени находились так близко от нас, что, казалось, мы могли коснуться их рукой. Стрела Питамакана вонзилась в бок старой самки, а мне посчастливилось убить бежавшего за ней детеныша. Оба упали, но два годовалых оленя перепрыгнули через них и бросились в заросли.
Мы преследовали теперь вторую самку и ее детеныша. Она вырвалась из ивняка и бежала по глубокому снегу — бежала быстрее, чем мы, хотя у нас на ногах были лыжи. Мы дивились ее силе. Но шагов через триста она устала и остановилась, заслоняя своим телом детеныша. Шерсть на ее плечах и спине стала дыбом; глаза горели злобой. Казалось, она решила защищать своего детеныша до последней капли крови. Когда мы подошли ближе, она перешла в наступление. Мы отбежали в сторону, а она, выбившись из сил, снова остановилась. Я отвлек ее внимание, а Питамакан подкрался к ней сбоку и пустил стрелу. Самка опустила голову, глаза ее мгновенно потускнели, и она упала. Такая же судьба постигла и ее детеныша. Слишком легко досталась нам эта добыча, но убивать мы должны были, если хотели жить.
Оставалось еще два годовалых оленя, и я предложил их не трогать. Питамакан посмотрел на меня с удивлением.
— Как! Дать им уйти? — воскликнул он. — А впереди холодная зима! Брат мой, ты глупости говоришь. Конечно, мы должны их убить. Да и неизвестно, хватит ли нам мяса до весны.
Мы загнали их в глубокий снег и убили. Не успели мы содрать шкуру с одного оленя, как начало темнеть, и мы поспешили домой: нужно было набрать хворосту на ночь.
На следующий день мы ободрали остальных оленей, разрезали мясо на куски и повесили эти куски на ветки; отсюда мы их могли постепенно переносить домой. Две шкуры мы решили вымочить в реке, затем очистить от шерсти и выдубить; остальные мы растянули на деревянных рамах, высушили, а затем накрыли ими наши постели.
Быстро летели дни. Мы осматривали западни, сдирали шкурки с пушных зверей, переносили куски мяса из ивняка к хижине и развешивали на деревьях. Выдубив две оленьи шкуры, мы занялись кройкой и шитьем. Кроил Питамакан, разрезая кожу ножом из обсидиана; в шитье принимал участие и я. Этой работе мы посвятили три или четыре вечера — и наконец могли похвастаться новыми рубашками, новыми штанами и рукавицами.
Наш глиняный горшок развалился, как только мы его сдвинули с места. Мы были очень огорчены, так как намеревались варить в нем мясо. Питаться исключительно жареным мясом вредно. В жизни северных индейцев вареное мясо играет такую же роль, какую хлеб — в жизни белых. Питамакан изголодался по вареному мясу, и так как шкур было у нас теперь много, то он и решил сделать котелок из кожи. Вырезав большой круг из шкуры годовалого оленя, он вымочил его в реке, а затем пришил края его к обручу из березы. Получился большой мешок с деревянным ободком, очень глубокий и широкий. Питамакан привесил его на ремне к перекладине крыши.
Бросив в костер несколько чистых камней — предварительно мы их вымыли, — Питамакан налил около двух литров воды в мешок и положил туда мясо, нарезанное тонкими полосками. Когда камни раскалились, он побросал их один за другим в мешок, а по мере того как они охлаждались, вытаскивал и снова нагревал. Этим способом варки мяса пользовались индейцы в те далекие времена, когда белые торговцы еще не привозили ни горшков, ни котелков.
Мясо мы варили недолго. Как только оно стало серым, мы его вытащили и с жадностью съели. Если мясо варить долго, оно становится менее питательным, И с тех пор мы чаще ели вареное мясо, чем жареное.
Зима окончательно вступила в свои права. На берегу реки мы часто находили следы выдр; зверьки переходили от одной полыньи к другой и ловили рыбу. Мы решили расставить западни, но сначала нам нужно было поймать рыбу для приманки. Удочки мы сделали из длинной тонкой жерди и веревки с петлей на конце.
Заглянув в полынью, мы увидели форелей и рыб «держи-ладья». Конечно, мы попытались поймать форель, но вскоре убедились, что с нею нам не справиться: форель издали замечала петлю и тотчас уплывала вниз по течению.
Но с рыбами держи-ладья дело пошло на лад. Эти большие красновато-черные рыбы весом около килограмма неподвижно лежали у самого дна и казались спящими. Они не уплывали, когда к ним спускалась петля; быть может, они ее принимали за водоросли. Накинув петлю, мы резко дергали жердь и вытаскивали рыбу, которая беспомощно билась в затянувшейся петле.
Поймав трех держи-ладья, мы поставили западни около трех полыней, куда выдры приходили на рыбную ловлю. Но зверьки долго не шли в западню; они очень пугливы, и нелегко заманить их в ловушку. Когда рассеялся запах человека, одна выдра соблазнилась приманкой и была убита упавшим брусом.
Западни мы расставляли в долине, к востоку и западу от нашей хижины, и было их у нас столько, что мы не могли осматривать их ежедневно; обход мы совершали в течение двух дней — сегодня утром шли на восток, завтра — на запад. Самая дальняя западня была на расстоянии десяти километров к западу от нашей хижины, и по каким-то неведомым причинам мы находили в ней добычу чаще, чем в других западнях. Питамакан называл ее нат-о-уап-и кияк-ак-ис — «солнечной» или «священной» западней.
Однажды, совершая утренний обход, мы подошли к этой дальней западне. В то утро нам не везло: ни одного пушного зверька мы не нашли в других западнях и все надежды возлагали на эту последнюю. Питамакан затянул песню койота, которая, по его словам, должна была принести нам счастье.
Еще издали заметили мы, что брус опущен. Подбежав ближе, мы увидели большую пушистую куницу и поспешили вытащить ее из-под бруса. Питамакан снова запел, вознося благодарность Солнцу, а я, рассеянно осматриваясь по сторонам, заметил на снегу следы, которые очень меня заинтересовали. С нетерпением ждал я, когда Питамакан допоет песню.
— Смотри, — крикнул я наконец, — вот следы медведя!
Нам обоим показалось странным, что медведь в глухую зимнюю пору бродит по лесу, вместо того чтобы лежать в своей берлоге. Мы бросились к этим следам и, разглядев их, с ужасом посмотрели друг на друга. На снегу ясно видны были отпечатки узких плетеных лыж. Здесь прошел человек — индеец, враг! И прошел недавно. А Питамакан только что пел во весь голос!
9. СКИТАНИЯ В ГОРАХ
Следы лыж, пересекая долину, тянулись с юга на север и вели к зарослям молоденьких сосен шагах в ста от нас. Здесь индеец задел ветку, и с деревца осыпался снег. Темно-зеленая сосенка резко выделялась на белом фоне. Быть может, индеец скрывался в зарослях.
— Мы должны узнать, там ли он, — сказал Питамакан. — Хотя нас он не слышал, но мы должны знать, откуда он пришел, зачем и куда идет.
Осторожно обойдя заросли, мы снова увидели следы лыж. Вели они прямо к реке, туда, где вода срывалась каскадами с гряды невысоких зазубренных камней. Отсюда человек направился к низовьям реки; на льду, запорошенном снегом, отчетливо виднелись следы.
Мы подошли к маленькому водопаду и с первого же взгляда поняли, зачем пришел индеец в нашу мирную долину. У самой воды снег был утоптан босыми ногами — здесь индеец босиком вошел в воду, а на утоптаном снегу были разбросаны обломки темно-зеленого камня, отбитые им от невысокой скалы, с которой извергался водопад. Питамакан поднял один из обломков н внимательно его рассмотрел.
— Так вот зачем он сюда пришел! Это мягкая порода камня, из которого кутенаи и плоскоголовые делают свои трубки.
— А как ты думаешь, откуда он пришел?
— Из лагеря своего родного племени. Горные индейцы зимуют на берегу большого озера, в которое впадает эта река. Снега там выпадает мало, и для лошадей всегда найдется корм.
— Но почему же следы тянутся не с низовьев реки? Он пришел к водопаду с юга и пересек долину?
— Верно! — воскликнул Питамакан. — Сейчас мы это узнаем.
Мы пошли назад, по следам индейца. Они привели нас к нашей западне.
— Удивительно, как это он не заметил ни западни, ни нашей тропы! — сказал я. — Посмотри, как резко видны на снегу следы наших лыж! Должно быть, он смотрел в другую сторону.
Миновав западню и продолжая идти по следам врага, мы приблизились к склону крутой горы, возвышавшейся над долиной. Здесь во многих местах снег был счищен со склона: по-видимому, индеец искал камень для трубок и, не найдя его, вынужден был спуститься к реке. Потому-то он и пересек долину.
Нам теперь было о чем подумать и поговорить. Вслед за этим индейцем могли прийти другие, также нуждавшиеся в камне для трубок. Рано или поздно они заметят наши следы. Вернувшись к западне, мы вытащили из нее куницу, а западню разобрали. Мы решили больше не приближаться к этому месту. Питамакан надеялся, что после первого же снегопада будет засыпана наша тропа, ведущая к западне. Но с этого дня мы уже не чувствовали себя в безопасности.
Когда мы сидели в хижине, нам казалось, что враг притаился где-то поблизости и караулит, чтобы нас подстрелить, как только мы выйдем. Отправляясь осматривать наши западни, мы старательно обходили те места, где враг мог устроить засаду. Питамакан жил в постоянной тревоге и, несмотря на мои протесты, решил принести нашу медвежью шкуру в жертву Солнцу. Он привязал ее крепко к толстому суку сосны и запел песню, умоляя Солнце защитить нас от врага.
Хотя мы давно уже потеряли счет дням, но после долгих вычислений решили, что на следы врага наткнулись мы в феврале. В конце марта настанет весна в прериях. Но здесь, в горах, снег будет держаться гораздо дольше — быть может, до мая. По словам Питамакана, мы должны были уйти отсюда в марте, так как с первыми признаками весны олени вернутся в горные долины, а вслед за оленями придут кутенаи.
— Как же мы отсюда уйдем? — удивился я. — Ты сам говорил, что горный перевал закрыт для нас до лета.
— Есть второй перевал, к югу отсюда, — ответил Питамакан. — Перевал Два Талисмана. Там нет ни одного опасного места.
— Значит, нам легко отсюда выбраться! Отправимся же в путь как можно раньше.
Он покачал головой.
— Нет, мы не можем идти, пока не растает снег в долинах, где зимуют кутенаи и плоскоголовые. Мы должны будем спуститься в эти долины и оттуда идти к тропе Два Талисмана.
— Зачем нам спускаться в страну кутенаи? Почему бы не пойти прямо на юг, к перевалу?
Питамакан грустно усмехнулся.
— Между этой долиной и тропой Два Талисмана тянутся глубокие каньоны, высятся горы, через которые могут перебраться только птицы. И вдоль всех ручьев и рек проложены тропы, ведущие к Спинному Хребту Мира. Тропы эти похожы на тропу, которая ведет к перевалу Два Талисмана, и мы будем блуждать, пока не нападем на верный путь. Я не узнаю верной тропы, если мы не спустимся к большому озеру, откуда она начинается. А у этого озера я бывал и запомнил вехи. И не забудь, что в путь мы можем тронуться не раньше, чем стает снег в низовьях реки. Иначе на снегу будут видны отпечатки наших лыж, и враги нас выследят и догонят.
— Поднимемся к старому перевалу, где мы уже однажды прошли, — предложил я.
— Быть может, дорога окажется менее опасной, чем ты думаешь. Посмотрим, много ли там снегу и нельзя ли как-нибудь перевалить через хребет.
Питамакан заявил, что не стоит зря тратить время, но я настаивал. Если нам представлялась возможность вернуться к родному народу, мы должны были ею воспользоваться. И в конце концов я его убедил. Солнечным утром мы тронулись в путь. Быстро бежали мы на лыжах по глубокому снегу и вскоре увидели Соленые Источники. На склонах гор, словно раскинутая сеть, тянулись и переплетались тропинки, проложенные козами. Издали рассматривали мы этих странных косматых горных коз. Они держались отдельными группами. Одни лежали на снегу, другие сидели и уныло смотрели в пространство или щипали лишаи, покрывавшие почти отвесную каменную стену, с которой ветер смел снег. Некоторые стояли на едва заметных выступах и казались приклеенными к скале.
Долго смотрели мы на них и наконец пришли к заключению, что они могут карабкаться на самые неприступные скалы и проходить там, где олень непременно сорвался бы и полетел в пропасть. Рассмешил нас один старый козел. Стоя на задних ногах, он объедал лишаи, покрывавшие стену, затем решил перебраться на верхний выступ. Так как для разбега не было места и прыгнуть было нельзя, он поставил передние ноги на край выступа и подтянулся кверху, словно человек, подтягивающийся на мускулах.
Выйдя из лесу, мы начали подниматься на вершину хребта и вскоре вступили в полосу буйных зимних ветров. К счастью, в тот день ветра не было. Лыжи мы сняли, так как здесь, наверху, снег был словно спрессован ветром в твердую массу, мокасины наши не оставляли никаких следов. На склонах, обращенных к северо-западу, снега совсем не было, а на горах, высившихся с противоположной стороны, лежал снежный покров толщиной в несколько метров.
Было уже после полудня, когда мы добрались до перевала, и с первого же взгляда я убедился, что здесь нам не пройти. Крутой склон, с которого несколько месяцев назад я едва не скатился вместе с лошадью, был занесен снегом. Сверху над ним нависли зеленоватые снежные глыбы, казалось вот-вот готовые сорваться с гребня горы, острого, как лезвие ножа. Я понимал, что сделай мы еще несколько шагов — произойдет снежный обвал. Мы стояли на тропинке, проложенной козами; здесь она обрывалась. Дойдя до опасного места, козы круто повернули назад.
— Смотри, даже они не посмели идти дальше! — сказал Питамакан. — Нам нечего здесь делать. Идем домой.
Я был так опечален, что за всю дорогу не сказал ни слова. Домой мы вернулись поздно вечером, усталые и хмурые. Убедившись, что за время нашего отсутствия никто не подходил к хижине, мы развели костер, поели, а затем влезли в меховой мешок и крепко заснули.
Летели дни, а ловля пушных зверей шла все хуже и хуже. Я глубоко убежден, что не только хищные, но и травоядные животные никогда не уходят далеко от того места, где они родились. Я проверил этот вывод на старом медведе гризли, у которого не хватало одного пальца на левой передней лапе. Раз в три недели он приходил к озеру Марии, спускался в долину Красного Орла, затем поворачивал на север к Скалистым горам, а оттуда снова возвращался к озеру. Этот обход он повторял регулярно. Если наблюдение это правильно, то понятно, почему мы все чаще находили наши западни пустыми: мы переловили всех зверьков, водившихся в окрестностях.
Дни становились длиннее и теплее. После девяти-десяти часов утра нельзя было ходить на лыжах. Под теплыми лучами солнца снег стал рыхлым и зернистым; часто мы проваливались в сугробы и, стоя на земле, смотрели вверх, словно со дна зеленоватого колодца. А из такого колодца выбраться было нелегко. К концу нашего пребывания в горах мы выходили только ранним утром, когда после ночных заморозков снег был покрыт твердой корой.
Как-то вечером мы услышали далекий крик диких гусей. Он послужил для нас сигналом. В последний раз обошли мы все западни, а на следующий день упаковали наши меха. У нас было восемь рысей, пять росомах, две выдры, три горных льва и семьдесят куниц. К счастью, шкуры весили мало, и мы так туго стянули их ремнями, разделив на две пачки, что тюки получились маленькие. В дорогу мы взяли оленины, разрезанной на тонкие полосы и высушенной. Не забыли захватить сверло и небольшой кусок твердого березового дерева для добывания огня.
Тяжелый мешок из козьих шкур пришлось оставить. Морозы уже миновали, и хотя по ночам бывало холодно, но мы всегда могли разложить костер. Питамакану жалко было бросать мешок; чуть ли не перед самым нашим уходом он привязал его к дереву и принес в жертву Солнцу.
Когда спустились сумерки, мы в последний раз поужинали в нашей хижине. Долго сидели мы у костра и молчали. Никогда еще хижина не казалась нам такой уютной. Мне не хотелось уходить отсюда; я хмурился, словно мне предстояло расстаться с близким другом.
Мы ждали несколько часов, прежде чем тронуться в путь. Когда мороз сковал снег ледяной корой, мы вышли из хижины, надели лыжи и, взвалив на спину тюки, двинулись к низовьям речонки. У меня слезы выступили на глазах, когда я в последний раз оглянулся и увидел дымок, поднимавшийся над крышей хижины.
Сначала идти было трудно и мы часто проваливались в снег, но после полуночи снежная кора затвердела и могла выдержать нас. Мы сняли лыжи и дальше шли в одних мокасинах.
Миновав водопад, мы вступили в страну, нами еще не исследованную. Долина стала шире; в реку, вдоль которой мы шли, впадали горные ручьи и речонки. Лед, сковывавший их, растаял, и нам приходилось перебираться вброд на другой берег. Не очень-то приятно было снимать мокасины, входить в ледяную воду, а затем снова обуваться, стоя на снегу.
В течение последних недель снежные лавины часто скатывались в долину, и мы привыкли к грохоту снежных обвалов. В ту ночь было несколько обвалов, и один раз снежная глыба упала чуть ли не за нашими спинами. Час спустя разорвался ремень, стягивавший тюк Питамакана. Мы присели на снег, чтобы его завязать, как вдруг над нами раздался грохот.
Я был уверен, что лавина обрушится ниже того места, где мы находились.
— Вставай! — закричал я. — Бежим назад!
Питамакан схватил меня за руку.
— Бежим вперед! Разве ты не слышишь, откуда доносится шум? Лавина обрушится прямо на нас или за нашими спинами.
— Нет! Она обрушится на то место, где мы стоим, или на несколько шагов впереди.
Мы спорили и топтались на одном месте, а шум усиливался с каждой секундой. Разбивались камни и льдины, трещали деревья.
Лавина приближалась, а мы, оглушенные, не могли разобрать, с какой стороны доносится грохот. Бросились мы было назад, потом вернулись на старое место и в конце концов остановились, не зная, куда бежать. Еще секунда — и мы увидели, как впереди, шагах в двадцати от нас закачались деревья и покатились по крутому склону горы, затем обрушилась снежная лавина, и гигантский белый холм вырос в долине, пересекая ее от подножья горы до реки. Все стихло.
— Видишь, я был прав! — воскликнул я. — Она упала впереди, а не позади нас.
— Да, я ошибся, — отозвался Питамакан. — Но знаешь, что нас спасло? Этот лопнувший ремень! Если бы мы здесь не остановились, лавина обрушилась бы прямо на нас.
Взвалив на спину тюки, мы стали перебираться через снежную гряду. На нашем пути попадались каменные глыбы, льдины, деревья и кусты, унесенные лавиной. Вдруг Питамакан наклонился, поднял что-то и протянул мне. Это была голова горной козы, почти расплющенная снегом.
— Вот какая бы судьба постигла нас, если бы не разорвался мой ремень, — мрачно сказал он.
— Должно быть, много коз гибнет во время снежных обвалов, — заметил я.
— Да, — подтвердил Питамакан. — Старые охотники мне говорили, что медведи, выйдя весной из берлоги, переходят от одной снежной лавины к другой и разгребают их, отыскивая животных, погребенных в снегу.
На рассвете мы вышли на широкую лужайку в лесу и, оглянувшись, увидели вершину горы, высившейся против покинутой нами хижины. Трудно было на глаз определить расстояние, но Питамакан утверждал, что за ночь нами пройдено не меньше двадцати километров. Здесь долина была шириной в полтора километра, а горы покрыты лесом до самых вершин. Дальше к западу они понижались, а километрах в тридцати от нас кончалась горная цепь. Мы думали, что большое озеро лежит неподалеку от этой цепи.
Здесь снегу было меньше, чем в верховьях реки, где мы провели зиму, и воздух согревался быстрее. Надев лыжи, так как снежная кора уже не выдерживала нашей тяжести, мы продолжали путь. Часа через два мы увидали лосей, а затем белохвостых оленей. Их было здесь очень много — не меньше, чем кроликов в прериях.
Солнце пригревало нас, снег стал зернистым, и мы наконец вынуждены были сделать привал. Мы расположились на песчаной отмели, разложили костер и поджарили сушеного мяса. Поев, мы растянулись на песке и спали до вечера.
Как только снег покрылся твердой корой, мы тронулись в путь, шли всю ночь, а на рассвете вступили в страну, где уже стаяли снега, зеленела трава, пели птицы. Питамакан стал передразнивать полевого жаворонка, заливавшегося где-то поблизости.
Мы стояли на опушке леса и смотрели на зеленую равнину, отлого спускавшуюся к западу, на рощи тополей и сосен. Я думал, что большое озеро лежит на западе, но, по словам Питамакана, оно находилось к юго-востоку, на расстоянии, двух дней пути. Вдруг товарищ мой упал на колени и с лихорадочной поспешностью стал выкапывать какое-то растение с зелеными листьями.
— Это корень «камасс»! — воскликнул он, показывая мне белую луковицу, с которой только что счистил землю. — Копай, копай! Видишь, как много их здесь! И ешь побольше. Это полезно.
Коренья, рассыпчатые и сладковатые, показались мне очень вкусными. Всю зиму мы питались одним только мясом, и организм нуждался в растительной пище. Впервые голод заставил нас забыть об осторожности. Положив на землю тюки и лыжи, мы ползали на четвереньках, выкапывая коренья и незаметно удаляясь от опушки леса.
— Довольно! — сказал я наконец. — Возьмем тюки и спрячемся в лесу. Я сыт по горло.
— О, подожди! — отозвался Питамакан. — Я еще голоден.
Вдруг из тополевой рощи, находившейся шагах в пятистах к западу от нас, выбежало стадо оленей. Мы присели на корточки и с недоумением смотрели на них, не понимая, кто их спугнул.
Через минуту выехали из рощи три индейца, а вскоре появились еще четверо: они преследовали оленей.
10. ВОЗВРАЩЕНИЕ
— Не двигайся! — крикнул Питамакан.
Он предостерег меня вовремя: я уже гитов был вскочить и бежать в лес. Олени неслись прямо на нас: а расстояние между ними и индейцами заметно уменьшалось. У меня было ощущение, будто я стал великаном. Припав к земле, я пытался спрятаться в траве, но мне казалось, что я, словно гора, возвышаюсь над равниной. Я старался съежиться, все мускулы мои напряглись.
— Бежим! — взмолился я наконец. — Разве ты не видишь, что они…
— Не шевелись! — перебил Питамакан. — Олени бегут против ветра. Скоро они почуют наш запах и свернут в сторону. Мы можем спастись, если будем лежать неподвижно. Враги не заметили нас.
Олени приближались к нам. Были они шагах в четырехстах, но нас не почуяли, хотя ветер усиливался.
— Скоро они свернут в сторону, — пробормотал Питамакан. — А если не свернут и ты увидишь, что индейцы скачут прямо на нас, бери лук. Будем стрелять, пока нас не убьют.
Я согласился с другом. У меня было две стрелы с наконечниками из обсидиана, и у Питамакана — три. Твердо надеялся я, что обе мои стрелы попадут в цель. Олени находились на расстоянии трехсот шагов от нас, и я был уверен, что нам не миновать смерти. Казалось мне, индейцы смотрят в упор на нас, а не на оленей.
Лук и стрелы лежали на земле подле меня и я уже протянул руку, чтобы взять их, как вдруг олени резко повернули направо. Индейцы поскакали за ними, быстро их нагоняя. Я понял, что всадники нас не видели.
Охотник, ехавший впереди, поднял ружье и выстрелил. Безрогий старый олень, вожак стада, мотнул головой, словно пуля обожгла ему шею, и снова круто свернул направо; за ним последовали остальные олени. Охотники повернули лошадей и открыли стрельбу.
— Беги! Беги в лес! — скомандовал Питамакан.
Схватив лук и стрелы, я помчался за ним. Кажется, никогда еще я не бегал так быстро, как в тот день. До леса было около ста шагов, и я уже начал надеяться, что мы успеем спрятаться за деревьями. Оглянуться я не смел. Охотники продолжали стрелять в оленей, а мы, добежав до наших тюков, остановились, чтобы их поднять.
И в эту самую минуту раздался боевой клич врагов. Нас увидели! Я оглянулся: индейцы скакали к нам, погоняя своих лошадей. О, как они кричали! От этих пронзительных отрывистых воплей мороз пробежал у меня по спине.
— Тюки придется оставить! — воскликнул Питамакан. — Бери лыжи и беги за мной.
Еще секунда — мы были уже в лесу. Здесь еще лежал глубокий снег. Я бросил на снег лыжи, всунул ступни в петли и хотел было бежать дальше, не завязывая ремней, но Питамакан крикнул мне, чтобы я покрепче привязал лыжи к ногам.
Твердая кора, покрывавшая снег, еще выдерживала нас, но слегка трещала под нашими лыжами. Здесь лес был редкий, но дальше начинался густой кустарник, а за ним темной стеной высились вековые сосны. Мы бежали к ближайшим кустам, а угрожающий рев звучал все громче.
Не нужно было оглядываться, чтобы угадать, когда враги наткнулись на связки мехов. Рев на секунду стих; поднялся спор, кому принадлежит находка. Потом они сошли с коней и побежали по снегу, стреляя в нас из ружей. Теперь преимущество было, казалось, на нашей стороне — конечно, в том случае, если нас не заденут пули. Спрятавшись за ствол дерева, я на секунду приостановился и оглянулся. Три индейца не рискнули идти по снегу; они стояли на опушке и стреляли, быстро заряжая ружья. Остальные четверо нас преследовали, и, не будь наше положение столь печально, я бы расхохотался, глядя на них. Они шли, словно пьяные, покачиваясь, вытянув руки, разинув рты. Если кора выдерживала их тяжесть, они ускоряли шаг и тотчас же проваливались по пояс в снег.
Я высунул из-за дерева капюшон моей старой шинели, надев его предварительно на лук. Я надеялся, что они будут стрелять в него, но они не попались на эту удочку, и я помчался дальше. Вокруг меня свистели пули; одна из них попала в дерево, мимо которого я пробегал, другая оцарапала мою левую щеку и мочку левого уха. Враги видели, как я поднес руку к лицу, и заревели от восторга: они думали, что я тяжело ранен. Питамакан приостановился.
— Беги! — крикнул я ему. — Я цел и невредим.
Снова загремел выстрел, — и мне послышалось, будто мой товарищ вскрикнул от боли, но он ни на секунду не замедлил бега. Я увидел на снегу пятна крови и похолодел от ужаса: я знал, что Питамакан будет бежать, пока у него хватит сил, даже если рана его смертельна.
С минуты на минуту я ждал, что он упадет. Но вот и ельник! Питамакан скрылся за елками, а я, подбежав к нему, спросил, тяжело ли он ранен.
— Пустяки! Кость не задета! — ответил он, прижимая руку к бедру. — Бежим! Мешкать нельзя.
От врагов нас заслонял теперь ельник, и мы благополучно добрались до леса. Издали доносились вопли индейцев; они что-то кричали нам, но мы, конечно, ничего не могли понять. Потом все стихло.
Не говоря ни слова, Питамакан стал взбираться на крутой склон. Грустно следовал я за ним. Дойдя до просеки в лесу, мы остановились. Отсюда видна была равнина. Индейцы вскочили на коней и вернулись к тому месту, где лежали два убитых ими оленя.
Мы сняли лыжи и уселись на них. Питамакан промыл снегом рану. Пуля содрала кожу и слегка задела мускул, но Питамакан заявил, что не чувствует боли.
Нелегко было нам примириться с потерей мехов; всю зиму мы работали не покладая рук, а теперь нашей добычей завладели враги. Питамакан взывал к своим богам, умоляя их наказать воров, а я вспомнил, что потеряли мы не только меха, но и наши орудия для добывания огня.
— Не беда! — сказал Питамакан. — Луки у нас хорошие, а сверло сделать нетрудно. Но, быть может, оно нам и не понадобится…
— Почему? — удивился я. — Должны же мы есть! И разве мы не будем разводить костер по ночам, чтобы согреться?
— Быть может, и не будем. Неужели ты думаешь, что эти охотники поедут домой, не попытавшись завладеть нашими скальпами? Скоро мы узнаем, что у них на уме.
Мы не спускали глаз с людей, обдиравших оленей. Один из них отошел в сторону и стал срезать ветки ивы. Остальные, содрав с оленей шкуры, резали их на длинные полосы.
— Так я и думал! — воскликнул Питамакан. — Сначала они сделают лыжи, а потом отправятся в погоню за нами. Идем!
Я послушно встал и последовал за ним. Питамакан сильно хромал, но утверждал, что нога у него не болит. Кора трещала под нами все сильнее и сильнее. Я понимал, что через час нельзя будет идти по снегу.
— Пока враги делают лыжи, мы должны уйти подальше, и тогда они нас не догонят, — сказал я Питамакану.
— Их семеро, а нас двое, — возразил он. — Когда снег станет рыхлым, они будут по очереди прокладывать тропу. Мы можем их обмануть: спустимся в равнину, пока они карабкаются на гору по нашим следам.
Мне эта мысль не приходила в голову. Будь я здесь один, без Питамакана, я углубился бы в горы и в конце концов был бы захвачен в плен.
Пока выдерживал нас снег, мы шли по склону горы, параллельно реке. Но вскоре мы начали проваливаться в снег по пояс. Тогда мы сняли лыжи и спустились к реке. На песчаном берегу снега не было. Мы то шли, то бежали, изредка приостанавливаясь, чтобы перевести дух.
К полудню мы уже стояли на опушке леса, окаймлявшего реку, и смотрели на равнину, откуда не так давно прогнали нас враги.
— И-кит-си-кум! Сап-ун-ис-тим! (Семь! Все здесь!) — крикнул Питамакан, указывая на то место, где лежали ободранные туши оленей.
— Да! Да! — подхватил я.
Семь лошадей мирно щипали траву; охотников не было видно. Мы не верили своим глазам, окидывали взглядом равнину и склон горы, но враги словно сквозь землю провалились.
— Должно быть, все семеро пошли по нашим следам, — сказал наконец Питамакан. — Если же они оставили караульного, то прячется он, вероятно, в роще. Спустимся вдоль реки и зайдем в рощу с противоположной стороны.
Так мы и сделали. Сердце мое сжалось от страха, когда мы приблизились к тому месту, где, быть может, скрывался враг. Словно тени, скользили мы между деревьями, и даже рыжая белочка, копошившаяся на ковре из сосновых игл, не слышала наших шагов. Здесь деревья росли редко, и мы всматривались в просветы, не видно ли врага. Когда мы подошли к дальнему концу рощи, нас испугал койот, выскочивший из-за деревьев. Мы думали, что замечены караульным. Меня бросило в жар, во рту пересохло.
Не забыть мне той минуты, когда я ждал ружейного выстрела.
Но опасения наши быстро рассеялись: вместо врага мы увидели безобидного койота. Он смело побежал вперед — в ту сторону, куда мы шли, и так как ветер дул нам в лицо, то можно было заключить, что впереди никого нет. Если бы скрывался там караульный, койот почуял бы его запах и свернул в противоположную сторону. Однако Питамакан пробирался вперед с величайшей осторожностью и сделал мне знак следовать его примеру. Наконец вышли мы на опушку и увидели, что койот дерзко прогуливается между лошадьми.
Подле убитых оленей лежали седла, одеяла и другие вещи охотников. Тут же нашли мы ивовые ветви и обрывки шкуры, из которой охотники смастерили себе лыжи. Седла были самодельные. Мы выбрали два седла и два одеяла и оседлали двух лошадей, показавшихся нам более выносливыми, чем остальные. Вскочив на них, мы отвязали пять других лошадей и уже хотели было погнать наш маленький табун в рощу, как вдруг я вспомнил о нашей пропаже.
— Питамакан! — крикнул я. — А наши меха? Где бы они могли быть?
— Вот, вот они! — ответил он, указывая на два тюка, валявшихся на земле.
Удивительно, как это мы их сразу не заметили! Быстро привязали мы их к седлам и поскакали на юго-запад! А в это время наши враги карабкались по склону крутой горы или же, измученные ходьбой по рыхлому снегу, сделали привал и ждали ночи, чтобы продолжать преследование.
Нам никакого труда не стоило гнать перед собой табун, и мы недоумевали, почему лошади с такой охотой нам повинуются, но через полчаса мы поняли, в чем дело. Пересекая ельник, мы увидели широкую тропу, которая, несомненно, вела к лагерю. Конечно, лошади рады были вернуться домой. Когда мы въехали на эту тропу, они начали ржать — верный признак, что лагерь близко.
За ельником снова начиналась открытая равнина, а дальше темнела полоса леса. И над лесом мы увидели дымок, а на опушке паслись лошади.
— Вот он — лагерь врагов! — воскликнул Питамакан. — Быть может, они нас уже заметили! Гони лошадей назад, в ельник!
Но легче было сказать это, чем сделать. Лошади рвались домой, и нам великого труда стоило повернуть их назад. Солнце медленно спускалось к горизонту. Спрятавшись в ельнике, мы ждали ночи, и тревога наша возрастала с каждой минутой. Что, если вернутся семеро охотников или какой-нибудь другой отряд нападет на наши следы? Тогда счастливый день закончится для нас печально, и мы не только лишимся всего нашего имущества, но и распрощаемся с жизнью.
На закате солнца показались в дальнем конце равнины два всадника; скакали они по тропе, ведущей к ельнику. В первую минуту мы не испугались, думая, что они отыскивают лошадей, отбившихся от табуна. Но догадка наша не оправдалась: всадники не смотрели по сторонам и ехали прямо к ельнику. Или они нас заметили и заподозрили что-то неладное, или же выехали навстречу охотникам, чьих лошадей мы угнали. Нам ничего не оставалось делать, как увести животных подальше от тропы. Мы хлестали их ветками, били палками, но никогда еще не приходилось мне иметь дело с такими упрямыми лошадьми. Они уклонялись от ударов, кружились между деревьями и норовили вернуться к тропе. В конце концов мы отогнали их на расстояние выстрела из лука. В это время всадники находились в ста шагах от ельника.
— Сойди с лошади и постарайся удержать ее за этими кустами, — сказал Питамакан.
Я соскочил с седла и одной рукой схватил лошадь за нос, а другой — за ухо. Если бы одна из семи лошадей заржала, гибель наша была бы неизбежна. Послышался топот, всадники въехали в лес. Мы ясно видели их, когда они скакали по тропе. Это были рослые мускулистые всадники с мрачными лицами и длинными развевающимися волосами. Оба держали в руках ружья.
Лошадь моя навострила уши, стала топтаться на одном месте и вскидывать голову, приподнимая меня над землей. Но отчаяние придало мне сил, и я цеплялся за ее морду. Мельком я видел, что Питамакан ведет такую же борьбу со своей лошадью, а остальные пять лошадей пугливо на нас косятся. Как я боялся услышать ржанье! Но ни одна из них не заржала.
Всадники быстро промчались по тропе и скрылись из виду. Топот копыт замер вдали. Тогда только вздохнули мы свободнее.
Зашло солнце. Медленно сгущались сумерки. Когда стемнело, мы снова вскочили на лошадей, оставив маленький табун в ельнике. Выехав на равнину, мы поскакали на юго-запад, а большой лагерь объехали, стараясь держаться от него подальше. Издали видели мы тусклый желтый отблеск костров, пылавших в вигвамах, слышали пение. В лагере лаяли собаки.
Всю ночь ехали мы по равнине, пересекали рощи, переправлялись через речонки. Весной, когда начинается таяние снегов, речонки эти превращаются в бурные потоки и во время переправы мы не раз могли утонуть.
Незадолго до рассвета мы выбились из сил и решили сделать привал. Привязав лошадей, мы легли на землю и крепко уснули, но с первыми лучами солнца были уже на ногах. Все тело мое онемело, за ночь я не отдохнул, да и Питамакан жаловался на усталость.
После полудня мы увидели большое озеро в стране плоскоголовых. Питамакан узнал это место.
— Здесь я бывал с моим племенем, — сказал он. — Лагерь наш находился на берегу озера. А там, дальше, вдоль речки, впадающей в озеро, тянется тропа, которая ведет в страну бизонов.
Широкая тропа была с незапамятных времен проложена горными племенами, но путешествовали они по ней только в летние месяцы. В этом году они здесь еще не бывали, и мы нашли на ней лишь отпечатки волчьих лап и оленьих копыт. Нужно было дать отдых лошадям. Мы сделали остановку и поели сушеного мяса. Лошади наши жадно щипали нежную весеннюю травку.
Отдыхали мы недолго. За нами тянулась тропинка, оставленная нашими лошадьми и пересекавшая зеленую равнину, и враги легко могли нас выследить. В течение целого дня мы ехали на восток, все дальше забираясь в горы. Но здесь горы были невысокие, и снег уже стаял. Благополучно миновали мы перевал Два Талисмана и, пожалуй, не заметили бы его, если бы не обратили внимания на то, что ручьи, попадавшиеся на нашем пути, текут в противоположную сторону.
На следующий день мы увидели зеленые равнины, тянувшиеся от подножья гор на восток до самого горизонта. Мы оба закричали от радости.
Спустя два дня мы остановились на вершине холма, откуда виден был форт Бентон и родная наша река Миссури. Разглядели мы людей, бродивших около форта и по берегу реки. Слезы выступили у меня на глазах, да и Питамакан был взволнован не меньше, чем я.
Погоняя измученных лошадей, мы спустились с холма в долину реки Миссури. Здесь повстречался нам мальчик-индеец, карауливший табуны. Узнав нас, он полетел, как стрела, к лагерю черноногих, раскинутому у стен форта.
Из вигвамов выбежали, люди. Их было несколько сот человек. Все говорили одновременно, перебивая друг друга, засыпая нас вопросами. Окруженные толпой, подъехали мы к форту. Служащие компании вышли узнать о причине суматохи; издали я увидел дядю и его жену.
В нашей комнате собрались приятели дяди; явился даже начальник форта. Меня усадили на почетное место и заставили рассказать о нашей зимовке в горах. С каким вниманием слушали меня эти старые трапперы, как жадно ловили они каждое мое слово! А когда я закончил рассказ, они не поскупились на похвалы. Никогда еще не чувствовал я себя таким счастливым!
Наконец все наши гости ушли, и я уселся на свою мягкую постель из бизоньих шкур. Тсистсаки суетилась, готовила ужин, достала для меня чистое белье, полотенце, кусок мыла, налила воды в таз. Дядя Уэсли ни секунды не мог посидеть спокойно: он вскакивал, подходил ко мне, похлопывал меня по спине. Казалось, он хотел удостовериться, что я действительно вернулся домой.
До конца жизни буду я помнить свои первые приключения в Скалистых горах.
11. ОТ АВТОРА
Томас Фокс стал моим другом в семидесятых годах прошлого века, когда я покинул цивилизованный мир и присоединился к торговцам и трапперам северо-запада. Часто приходилось нам в течение нескольких месяцев жить вместе в индейских лагерях или торговых фортах. Он любил рассказывать о своей молодости и пережитых им приключениях, и я постепенно узнавал различные эпизоды его жизни. В долгие зимние вечера сиживали мы у костра в вигваме или грелись у очага в одном из торговых фортов; он говорил, а я внимательно слушал. Рассказы его меня интересовали, и я часто записывал их, чтобы они навсегда остались в моей памяти.
Я уговаривал его написать свои воспоминания — настолько необычна и интересна была его жизнь. С большой охотой последовал он моему совету, но непривычная работа скоро ему надоела. Однако впоследствии, когда истреблены были в прериях все бизоны и мы поселились на ранчо, где жизнь текла тускло и монотонно, я снова убедил его продолжать записки.
Некоторые эпизоды своей жизни он записывал очень подробно, но иногда ограничивался датами и двумя-тремя фразами.
Не суждено ему было довести до конца записки. Когда-то пуля пробила ему легкие, и с тех пор здоровье его было подорвано. Зимой 1885 года он заболел воспалением легких, и смерть наступила быстро. Он обратился ко мне с последней просьбой: просмотреть его записки и привести их в порядок для опубликования.
Я сделал все, что было в моих силах; пусть читатель судит о результатах.
Черноногие и трапперы называли его А-та-то-йи (Лисица). Смелый и честный друг! Мы похоронили его на утесе, возвышающемся над долиной реки Два Талисмана, у Подножья Скалистых гор — Спинного Хребта Мира, который он так любил.
Когда засыпана была могила, Питамакан и я долго сидели подле свежего холмика. Закатилось солнце, повеяло холодом, и мы спустились в долину, где нас ждали лошади. Старый вождь плакал. Чуть слышно он сказал:
— Человек, оставшийся там, на утесе, был моим братом.
АПОК, ЗАЗЫВАТЕЛЬ БИЗОНОВ Вступление автора
Хотя Апок (Кремневый Нож) известен мне был давно, но познакомились мы с ним близко только зимой 1879/80 года. Был он в то время старейшим членом племени пиеган, входившего в Конфедерацию племен черноногих. Он и выглядел глубоким стариком. Когда-то высокий и стройный, он сгорбился, похудел, а кожа его походила на сморщенный коричневый пергамент.
Осенью 1879 года Джозеф Кипп, ныне умерший, построил торговый форт у места слияния рек Джудит и Уорм-Спринг-Крик; в настоящее время в окрестностях этого форта находится город Льюистаун (штат Монтана). Эту зиму я провел в форте с Киппом. С нами зимовали все кланы пиеганов, а также некоторые кланы племени блад из Канады. В этих краях было немало дичи — бизонов, лосей, оленей; индейцы много охотились; жили они счастливо и беззаботно.
Около нашего торгового форта жил старый Хью Монро, или Встающий Волк, который с 1816 года кочевал с племенем пикуни. Благодаря ему я ближе познакомился с Апоком и узнал историю его удивительной и романтической юности. Старики были закадычными Друзьями.
Монро родился в 1798 году, а Апок был на несколько лет старше. Однако в хорошую погоду они седлали своих лошадей, отправлялись на охоту и редко возвращались с пустыми руками. Как живописна была эта пара! Оба носили плащи с капюшонами, сделанные из одеял, которыми торговала Компания Гудзонова залива, оба не расставались со старинными курковыми ружьями. Они презирали современные скорострельные ружья. Сотни — нет, тысячи — бизонов, лосей и оленей, немало свирепых гризли и десятка два-три врагов-индейцев из племени сиу, кроу, кри, шайеннов и ассинибойнов — убили они из этих курковых ружей. Вот почему они так дорожили своим допотопным оружием.
О, как хотел бы я вернуть эти далекие дни, когда на равнинах паслись бизоны! Эти зимние вечера в вигваме Монро или Апока, когда я слушал их рассказы о былом! И я был не единственным слушателем: у костра всегда сидели гости — старики, вспоминавшие свою молодость, и молодые люди, которые с напряженным интересом слушали рассказы о приключениях своих дедов и о «зазывании бизонов». Молодежи не довелось увидеть, как зазыватели заманивали стада в пропасть, снабжая племя мясом на целую зиму. А зазывание бизонов было почетной, священной и очень опасной обязанностью Апока. Он был самым искусным зазывателем в Конфедерации племен черноногих. Соплеменники его верили, что он близок к богам, и почитали его больше, чем самого великого вождя. Сам Апок питал непоколебимую веру в свои талисманы и в своих «тайных помощников»; сновидения его — ночные скитания его тени — казались ему не менее реальными, чем жизнь наяву.
Конечно, Апок рассказал мне историю своей жизни не так последовательно, как изложена она здесь. По вечерам он рассказывал слушателям отдельные эпизоды, а я, задавая ему ряд вопросов, сам заполнял пробелы. Наконец мне удалось связать эпизоды в одно целое, и я надеюсь, что читателя заинтересует эта история не меньше, чем заинтересовала она меня.
Апок, Дарующий Изобилие, умер вместе с пятьюстами своими соплеменниками в резервации черноногих во время страшного голода 1881 — 1883 года.
Глава I
В памяти у меня остались две поговорки моего народа: одна из них — «бедность-несчастье», другая — «беден тот, у кого нет родных». В справедливости их убедились мы — я и моя сестра Питаки. Были мы близнецами. На десятом году мы потеряли отца и мать, а с ними и все имущество. И не осталось у нас ни одного родственника — ни мужчины, ни женщины.
Произошло это так: мы, пикуни, расположились станом на берегу реки Два Талисмана, а родственное нам племя каина охотилось на берегах Молочной реки, на расстоянии двух дней пути от нас. От гонца из племени кайна отец мой узнал, что Низкий Волк соглашается продать ему священную трубку, которую он давно хотел купить. За эту трубку Низкий Волк требовал одну лошадь, три оперения орла, серьги из раковин и стальное копье, отнятое моим отцом у людей, населяющих «страну вечного лета», которая находилась на юге.
Высокую цену назначил Низкий Волк за свой талисман, и в течение трех дней мой отец колебался, не зная, какое принять решение. Неразумным казалось ему отдавать лошадь за трубку. В те дни лошадей было мало, и ценились они высоко; многие из нашего племени все еще перевозили свое имущество на собаках, но молодые воины уже начали пригонять табуны с далекого юга — из страны испанцев. Страна эта находилась так далеко, что путешествие туда и обратно занимало два лета и одну зиму. У нас было только шесть лошадей; когда племя переселялось на другое место, нас — меня и Питаки — сажали на одну лошадь, две предназначались для отца и матери, а остальные три перевозили наш вигвам и все наше имущество.
В конце концов мать заставила отца моего принять решение. Она знала, как сильно хочет он иметь эту трубку. Старая рана в боку причиняла ему сильную боль, и он надеялся, что талисман его исцелит. Вот что сказала мать:
— Отдай лошадь Низкому Волку, муж мой. Пусть священная трубка будет у нас. В продолжение многих лет ходила я пешком рядом с собаками, когда мы снимались с лагеря. Я могу и теперь обойтись без лошади.
— Ты — добрая женщина, — сказал отец. — Я сделаю так, как ты говоришь, и ходить пешком тебе не придется. Мальчика я буду сажать на свою лошадь, а Питаки усядется за твоей спиной. Придет весна, и я снова буду воевать с нашими врагами и пригоню табун хороших лошадей.
Лагерь кайна находился недалеко от нашего, но зима стояла холодная, и решено было, что Питаки и я останемся дома и будем жить в вигваме индейца по имени Не Бегун, пока не вернутся наши родители. Питаки обрадовалась, потому что у Не Бегуна было пять девочек, с которыми она часто играла. Я же упрашивал отца взять меня в лагерь кайна: мне очень хотелось присутствовать при торжественной передаче священной трубки. Но пути богов неисповедимы. Может быть, именно они подсказали отцу приказать мне остаться дома и заботиться о сестре. На рассвете я привел лошадей, родители сложили вигвам, навьючили на лошадей поклажу и покинули лагерь.
— Не шалите, — сказала нам мать, садясь на лошадь.
— Да, будьте хорошими, послушными детьми. Мы вернемся через пять ночей, — добавил отец.
Мы обещали не шалить, попрощались с родителями и долго смотрели им вслед. Потом побежали завтракать в вигвам Не Бегуна.
Прошло пять ночей. Настал шестой день, солнечный и теплый. В полдень Питаки и я вышли из ложбины, где находился лагерь, и поднялись на склон холма, откуда открывался вид на равнину. Мы хотели издали увидеть наших родителей и побежать им навстречу. Но они не приехали. Когда стемнело, мы вернулись в лагерь.
— Завтра они приедут, — сказала Питаки.
— Да, конечно, завтра они приедут, — отозвался я.
Но они не приехали. Прошло еще два дня. С восхода до заката солнца просиживали мы на склоне холма и смотрели вниз, на равнину. И с каждым часом нарастало беспокойство. Отец сказал нам, что вернутся они через пять ночей, а он всегда был точен. Мы беспокоились, не заболел ли кто-нибудь из них. Быть может, мать упала с лошади и ушиблась.
Прошло еще два дня. Мы ждали их возвращения и вечером увидели вдалеке всадников. Их было восемь человек, и с ними одна женщина. Мы не сомневались в том, что эта женщина — наша мать. Должно быть, родителей сопровождают друзья из племени кайна, которым вздумалось посетить лагерь. Но когда они подъехали ближе, мы увидели, что все всадники были кайна.
Во всяком случае их мы могли расспросить о наших родителях. Мы сбежали с холма и бросились им навстречу.
— Где наш отец, где мать? — закричал я. — Какие вести привезли вы нам?
Они остановили лошадей и с удивлением посмотрели на нас. Наконец женщина спросила:
— Ваш отец? Мать? А кто они?
— Отца зовут Два Медведя, имя матери — Поет Одна, — крикнул я. — Десять дней тому назад они поехали в ваш лагерь за священной трубкой Низкого Волка. Конечно, вы их там видели?
Они долго смотрели на нас, потом молча переглянулись. Наконец один из них, покачивая головой, сказал:
— Вы ошибаетесь, дети. Вашего отца нет у нас в лагере. Этой зимой он ни разу к нам не приезжал. А я знаю, что священная трубка по-прежнему находится у Низкого Волка. Два дня назад я сам видел сверток с этой трубкой.
Питаки уселась на землю и воскликнула:
— Они умерли! Отец, мать — оба умерли!
Она заплакала, а женщина сошла с лошади и стала ее утешать.
— Не плачь, девочка, — сказала она. — Должно быть, они потеряли лошадей в пути и пошли их отыскивать.
Она посадила Питаки на свою лошадь, и мы все спустились в ложбину. Питаки перестала плакать и повеселела, но я знал, что отец и мать погибли.
Когда добрый Не Бегун узнал от меня, что кайна не видели наших родителей, он побежал в вигвам вождя, а вождь тотчас послал за прибывшими кайна. Услышав от них самих, что моего отца и матери нет в лагере и они туда не приезжали, он приказал отряду Ловцов, входившему в общество Все друзья, немедленно отправиться на поиски. В тот же вечер Ловцы покинули лагерь. Их было сорок или пятьдесят человек, и к отряду присоединились все мужчины нашего племени, имевшие лошадей.
Они вернулись через пять ночей. Эти пять дней сестра не переставала надеяться, но я был в отчаянии. Я знал, какую весть принесут нам воины. Нет, быть может, была у меня надежда — слабая надежда снова увидеть отца и мать, но последний луч надежды угас, когда я увидел хмурые лица воинов, вернувшихся в лагерь и направлявшихся к вигваму вождя. Питаки и я, держась за руки, последовали за ними и слышали, как вождь спросил:
— Ну, что вы узнали?
Предводитель отряда ответил:
— Ничего. Мы не нашли их следов на тропе, ведущей в лагерь кайна, и на берегах рек Барсук, Береза и Брошенные Бревна. Мы побывали в лагере кайна. Там их нет и не было.
— Быть не может, чтобы мужчина и женщина с шестью лошадьми, вигвамом и поклажей пересекли равнину, не оставив никаких следов! — воскликнул вождь. — Хорошо ли вы искали?
Предводитель отряда терпеливо и кротко ответил старику:
— Ты забываешь, что с тех пор, как Два Медведя и его жена покинули лагерь, был сильный снегопад и дул теплый ветер. Я уже не говорю о том, что по равнине проезжают всадники и проходят бесчисленные стада бизонов и антилоп, которые могли стереть следы шести лошадей.
— Но что же случилось с ними? — спросил вождь.
Воины один за другим высказывали свои догадки. Мало ли что может случиться с людьми, путешествующими по пустынным равнинам! Теперь я думаю, что воины враждебного нам племени убили их, завладели их вигвамом и пожитками, угнали лошадей. Но тогда была у меня только одна мысль: все кончено, никогда не увидим мы наших родителей!
Вдруг я почувствовал, что рука Питаки выскользнула из моей руки. Девочка упала и долго лежала словно мертвая. Не Бегун взял ее на руки и отнес в свой вигвам, а я последовал за ним. Когда жизнь вернулась к ней, она стала оплакивать родителей и долго не могла утешиться. Я не плакал, но было мне очень тяжело. В течение многих дней и многих месяцев мы грустили, и тропа, по которой предстояло нам идти, была каменистой тропой.
Не Бегун и его жена сказали нам:
— Не грустите, дети. Мы бедны, но наш вигвам будет также и вашим вигвамом. Для вас мы сделаем все, что в наших силах. Мяса у нас много, и голодать вам не придется.
Да, мы не голодали: Не Бегун был хорошим охотником. Но в его вигваме жило девять человек: Не Бегун, его жена, пять дочерей, дед, бабка, и для нас двоих оставалось мало места. Время шло, и наконец дочери Не Бегуна дали нам почувствовать, что мы здесь лишние. Две старшие дочери, когда их отца и матери не было поблизости, корили нас нашей бедностью, подсмеивались над поношенной нашей одеждой, отдавали нам приказания, словно мы были рабами. Я не обращал на них внимания, но больно мне было видеть, как плачет Питаки, обиженная злыми их словами. Зная, что скоро придется нам уйти из этого вигвама, я искал человека, который согласился бы нас приютить.
Как-то вечером Не Бегун стал бранить своих дочерей за то, что они нас обижают. В соседних вигвамах слышали его громкий голос. И когда две старшие дочери в слезах убежали, к нам в вигвам вошла маленькая худенькая старушка, которую звали Сюйяки. У нее был красивый, певучий голос…
Она села у входа, как и подобает женщине, а Не Бегун воскликнул:
— Добро пожаловать, Сюйяки! Добро пожаловать в мой вигвам! Чем могу я тебе услужить?
— О, вождь! Добрый вождь! Исполни мою просьбу, отдай мне этих двух детей, потерявших отца и мать. Ты знаешь, мой старик умер; тень его бродит среди Песчаных Холмов. Мои дочери и сыновья хотят, чтобы я жила с ними, но я не могу покинуть мой маленький вигвам. Всегда я поступала так, как мне вздумается, и не могу отказаться от своих привычек. Отдай мне детей, вождь! Пусть снова зазвенит в моем вигваме детский смех. Обещаю тебе — я буду им матерью.
Я заметил, что голос ее дрожит, а по щекам струятся слезы; я посмотрел на Питаки: глаза ее сверкали, она с нетерпением ждала, что скажет Не Бегун.
Вот какой он дал ответ:
— Боги добры. Мы с женой полюбили этих бедных детей и знаем, что здесь они несчастливы. В нашем вигваме тесно, а дочери мои… ну, не будем говорить об этом. Перед твоим приходом я молился, прося ответа, что мне делать. А ты пришла и дала готовый ответ. Возьми их, если они согласятся идти к тебе.
Не успел он договорить, как Питаки воскликнула:
— Мы пойдем к тебе, Сюйяки! Да, да, мы согласны!
Она повернулась к своей постели и начала свертывать бизоньи шкуры. Все засмеялись, видя, как она спешит.
Старуха посмотрела на меня. Я молча кивнул головой. Говорить я не мог: не было у меня слов, чтобы выразить мои чувства.
Когда мы уходили, Не Бегун на прощание сказал:
— Сюйяки, корми детей досыта. После охоты я буду приносить мясо в твой вигвам.
Его жена дала нам мешок с сушеным мясом и жиром. Переселяясь к Сюйяки, мы покидали клан Короткие Шкуры, к которому принадлежал наш отец, и уходили жить также в очень большой клан — Одинокие Едоки. Я не знаю, почему предки дали этому клану такое странное название. Члены его никогда не уединялись для принятия пищи и нередко устраивали пиры.
Сюйяки ввела нас в вигвам, раздула огонь в очаге и воскликнула:
— Вот мы и дома, дети, мои дети! Мой вигвам — ваш вигвам! Я перенесу свою постель; теперь я буду спать справа от входа. Ты, сын мой, — мужчина, а мужчине полагается спать в глубине вигвама. Ты, дочка, расстели шкуры слева от входа.
Добрая Сюйяки приютила нас в своем маленьком старом вигваме. Вещей у нее было мало; несколько мешков с одеждой, домашняя утварь, принадлежности, необходимые для дубления кож, занимали мало места, и в вигваме нам было просторно. Когда умер ее муж, имущество его перешло к трем женатым сыновьям, а некоторые вещи были зарыты в его могиле. Не имея лошадей, Сюйяки перевозила свои пожитки на собаках; у нее было восемь собак, больших и сильных, походивших на волков.
Не Бегун, верный своему слову, снабжал нас мясом; сыновья и дочери Сюйяки также нам помогали и приносили шкуры бизонов и оленей; эти шкуры шли на одежду и постели. Моей сестре никогда еще не приходилось дубить кожи, но теперь она охотно принялась за работу и вскоре научилась делать кожу мягкой. С помощью Сюйяки она сделала для меня пару мокасин и, увидев, что мне они впору, расплакалась от радости. С тех пор я носил зимой и летом обувь, сделанную руками моей сестры. На зимнюю обувь шли шкуры бизонов, на летнюю — тонкая кожа.
Я тоже не сидел сложа руки. С Не Бегуном и сыновьями Сюйяки я ходил на охоту и помогал им разрезать туши убитых животных и переносить мясо в лагерь. В свободное время я учился стрелять из лука. Лук и стрелы подарил мне Не Бегун. О, как я был рад, когда убил первого кролика и принес его в наш вигвам! Я вступил в отряд мальчиков — Москитов. Москиты входили в общество Все друзья, впоследствии они становились хорошими воинами и охотниками. Обучали нас старики, и я никогда не пропускал ни одного Урока.
Чему они нас учили? Запомнилось мне одно раннее утро, когда старик по имени Красная Ворона созвал нас, мальчиков, и повел к реке купаться. Выкупавшись, мы стали взбираться на холм, откуда открывался вид на равнину. Мы еще не дошли до вершины, когда старик сказал нам:
— Опуститесь на четвереньки и дальше пробирайтесь ползком, чтобы не заметило вас ни одно живое существо. Только глупец смело взбирается на холм и выставляет себя напоказ. Хороший охотник видит дичь, а сам остается невидимым и, подойдя ближе, убивает добычу. Хорошим воином считается тот, кто, увидев врага, находит способ застигнуть его врасплох либо удаляется никем не замеченный, если противник оказывается сильнее.
Ползком поднялись мы на вершину, спрятались в кустах и окинули взглядом равнину. Вскоре старик разрешил нам встать, сказав, что нигде не видно врага, но, быть может, где-нибудь поблизости рыскает неприятельский отряд. Немного времени спустя он спросил нас:
— Говорите, что вы видите?
— Бизонов.
— Антилоп.
— Стадо лосей.
— Да, но это не все, — сказал он. — Смотрите внимательно!
Долго всматривались мы в даль, пока не заболели у нас глаза, но больше ничего не могли разглядеть. Тогда старик указал нам на север, и мы увидели двух коршунов, круживших низко над равниной.
— За птицами следите так же, как и за животными, — продолжал Красная Ворона. — Будь вы разведчиками, вы должны были бы спуститься и пробраться к тому месту, над которым кружатся птицы. Вероятно, там лежит животное, убитое военным отрядом или каким-нибудь охотником. Нужно узнать, кто убил и в какую сторону ушел охотник или отряд.
Вот как обучал нас старик. Мы научились быть внимательными и осторожными, научились искать смысл во всем, что привлекало наше внимание. При виде медленно движущегося облака пыли мы знали, что чей-то лагерь перебирается на новое место. Если же облако пыли движется быстро, значит, по равнине мчится стадо или отряд всадников. Как я любил эти уроки ранним утром! А по вечерам мы собирались у очага, и старики рассказывали нам о наших богах, о сновидениях, о талисманах и амулетах…
В то время как старики учили меня, будущего охотника и воина, Сюйяки и ее подруги-старухи обучали Питаки всему, что должна знать женщина. Моя сестра училась стряпать, дубить кожи, шить платья и мокасины, которые она покрывала красивыми узорами из раскрашенных игл дикобраза. Впоследствии узнала она свойства всех целебных трав и листьев и стала лечить больных.
Сюйяки была добра к нам и никогда не унывала. Когда мы оплакивали родителей, она старалась утешить нас и развеселить. Бедность не угнетала ее. Она легко переносила все невзгоды и лишения и часто говорила о том, как мы разбогатеем, когда я подрасту и буду ходить на войну, пригонять лошадей, охотиться и обменивать меха на товары белых торговцев, не так давно появившихся на севере нашей страны. В то время не было еще торговцев на берегах Миссури и ее притоков.
Были мы бедны. Правда, мы не голодали, но на нашу долю доставались самые жилистые куски мяса. И одет я был хуже сверстников. Не имея лошадей, мы при переселении племени плелись позади вместе с нашими собаками, а некоторые мальчики смеялись надо мной. Тогда я молил богов помочь мне расти быстрее и успокаивал себя клятвой, что придет день, когда у меня лошадей будет больше, чем у них.
Прошло несколько лет, и наконец настал день, когда я убил первого моего бизона. Добрый наш друг Не Бегун подарил мне настоящий лук и настоящие стрелы с кремневыми наконечниками. На следующее утро мы с Питаки отправились на охоту. Я взял с собой всех наших собак, потому что твердо решил не возвращаться домой без мяса. В окрестностях лагеря было мало дичи, и лишь около полудня мы увидели маленькое стадо бизонов, пришедших на водопой к речонке. Я подполз к самому краю холма, у подножия которого протекала речонка, натянул тетиву, и стрела вонзилась в спину крупного бизона. Раненое животное обратилось в бегство, остальные последовали за ним. Мы с Питаки, погоняя собак, пустились в погоню и, пробравшись сквозь заросли, увидели раненного мной бизона. Мертвый, он лежал на траве. О, как я был горд! Питаки плясала вокруг огромного животного, обнимала меня и даже собак.
— Брат, — кричала она, — теперь мы ни в чем не будем нуждаться! Будем есть языки бизонов и лучшие куски мяса. Скорее, скорее! Разрежем тушу! Достань нож!
К счастью, нож у меня был — настоящий железный нож. Этот нож я купил у торговцев, отдав за него три шкуры бобра, подаренные мне Не Бегуном. Быстро содрал я шкуру с бизона, рассек тушу и, нагрузив собак, перевез мясо в лагерь. Как удивилась и обрадовалась старая Сюйяки, когда мы принесли мясо в вигвам! Старушка даже заплакала от радости. И после этого я всегда снабжал ее мясом и шкурами, а когда мне пошел пятнадцатый год, я купил у белых торговцев в кредит три капкана и стал ловить бобров. Зимой я отнес торговцам шкурки пойманных мной бобров и получил взамен три одеяла.
С тех пор как я начал охотиться на бизонов и ловить бобров, у меня появилась уверенность в собственных силах В семнадцать зим я много думал о будущем. Я твердо решил стать великим воином, таким же отважным и сильным, как Одинокий Ходок, старшина клана Короткие Шкуры и вождь племени пикуни. Все относились к нему с любовью и уважением, потому что был он человеком смелым, справедливым добрым и всегда помогал беднякам.
Когда настала весна, я участвовал в набеге на враждебное нам племя кроу. Во главе военного отряда стоял Не Бегун, а я исполнял при нем обязанности слуги. Выступили мы в поход, как только зазеленела трава, а домой вернулись в конце следующего месяца и пригнали табун славных лошадей. На мою долю досталось пять голов. Для нас троих пять голов являлись целым состоянием. Теперь мы могли ехать верхом, а не плестись в хвосте, когда племя кочевало по равнинам. Но я был недоволен собой, так как никакого участия не принимал в уводе лошадей. Мне поручено было сторожить тех, которых приводили Не Бегун и его воины из лагеря спящих кроу. А мне очень хотелось знать, хватит ли у меня храбрости пробраться в лагерь врагов и в случае необходимости вступить с ними в бой.
Когда настал месяц Спелых Ягод, я снова принял участие в набеге. На этот раз во главе отряда стоял Древний Барсук, молодой способный воин. Мы перевалили через Спинной Хребет Мира, вступили в страну племени неперсе и нашли его лагерь. Я исполнял обязанности слуги при Древнем Барсуке. Он назначил своим воинам место сбора, а мне приказал остаться и сторожить лошадей, которых они приведут.
— Нет, я хоть разок побываю в лагере, — сказал я ему и после долгих споров настоял на своем. Древний Барсук считал, что я еще слишком молод и потому не могу участвовать в таком опасном набеге.
Глава II
В лагере было около ста вигвамов. Находился он на восточном берегу реки, пересекающей широкую равнину. У самой воды густо разрослись виргинские тополя и кусты. Когда стемнело, мы выползли из леса, в котором прятались, пересекли равнину и залегли в кустах на расстоянии выстрела от неприятельского лагеря. Но враги не подозревали о нашем присутствии. Они пировали, плясали, вели беседу, и нам казалось, что они никогда не улягутся спать. Взошла луна, а при лунном свете наше предприятие становилось значительно более опасным, чем в темноте. Впрочем, мы знали, что при свете легче будет отыскать и увести лошадей, привязанных между вигвамов.
Было уже поздно, когда в вигвамах погасли огни. Наконец Древний Барсук отдал приказ трогаться в путь. Ружья у меня не было, а лук и колчан висели за спиной. Единственным моим оружием была военная дубинка, привешенная к правой руке. Лук я не мог держать в руках, — я знал, что обе руки должны быть свободны, так как мне предстояло отвязывать лошадей.
Миновав первые вигвамы, я понял, что значит войти в лагерь врага. Мне было страшно. Все пугало меня. Темные тени у входа в вигвамы могли быть ночными сторожами, охранявшими спящий лагерь. В любой момент мог кто-нибудь выйти и увидеть меня. У меня началось сердцебиение, когда я подкрался к трем лошадям, которые были привязаны к вбитым в землю колышкам между вигвамами. Перерезав концы веревок, я осторожно выбрался из лагеря, ведя за собой лошадей. Несколько раз я останавливался и прислушивался, не проснулись ли люди, спящие в вигвамах.
Я пересек равнину и, войдя в лес, привязал лошадей к деревьям. Вскоре присоединились ко мне товарищи; каждый из них привел двух, трех или четырех лошадей.
— Ты захватил трех? Молодец! — сказал мне Древний Барсук. — Теперь ты останешься здесь и будешь сторожить лошадей. Уже за полночь. Еще разок мы проберемся в лагерь, а затем отправимся домой. Подожди нас.
Я просил разрешения вернуться в лагерь, говорил ему, что все захваченные нами лошади крепко привязаны к деревьям и сторожить их не нужно. Снова мне удалось настоять на своем. Вот тогда-то я понял, что опасность возбуждает человека. Было мне очень страшно, и, однако, самое сознание опасности побуждало меня вернуться.
Когда мы снова подошли к лагерю, большие черные облака надвинулись с запада, и подул теплый ветер, предвещавший дождь. Мы разбрелись в разные стороны. Я пошел той же дорогой, по которой шел в первый раз, и вскоре увидел несколько лошадей, привязанных к колышкам. Одна из них — большая черная лошадь — стояла в сторонке. Она понравилась мне с первого взгляда, и я решил увести ее одну, зная, что по сравнению с ней остальные лошади немногого стоят. Я не сомневался, что она была прекрасным скакуном Осторожно подошел я к ней и провел рукой по глянцевитой шее. Лошадь не захрапела и не попятилась от меня, — по-видимому, нрав у нее был кроткий. Я перерезал привязанную к колышку веревку, два раза обмотал ее вокруг морды и повел за собой лошадь.
Луна скрылась за набежавшим облаком. Когда снова стало светло, я увидел Древнего Барсука, который крался к привязанным лошадям. Он дал мне знак идти дальше и я прошел мимо него, зорко осматриваясь по сторонам.
Вдруг за моей спиной раздался крик. Оглянувшись, я увидел человека, бегущего к Древнему Барсуку, который только что отвязал одну из лошадей. Они столкнулись лицом к лицу. Древний Барсук оттолкнул врага и повалил его на землю, а сам вскочил на лошадь и тут только заметил, что передние ноги ее связаны и она может либо идти очень медленно, либо скакать вприпрыжку. Он ударил ее каблуком в бок и заставил скакать. Все это произошло гораздо быстрее, чем я рассказываю. Проснулся весь лагерь. Когда я вскочил на свою черную лошадь, из вигвамов, размахивая оружием, выбежали люди; одного из них моя лошадь ударила копытом, и он упал. Загремели выстрелы, зажужжали стрелы, но я уже выехал из лагеря и оглянулся посмотреть, скачет ли за мной Древний Барсук. Лошадь его, смешно подпрыгивая, скакала довольно быстро, и люди, гнавшиеся за Барсуком и стрелявшие из луков, начали отставать. Но я знал, что в погоню за нами будут посланы всадники. Поэтому я решил подождать Древнего Барсука и спросить, что я могу для него сделать.
— Я ранен! Помоги мне! Спрыгни на землю и перережь путы! — крикнул он, подъезжая ко мне.
Едва я успел исполнить его просьбу и снова вскочить на свою лошадь, как из лагеря выехал отряд всадников. Я думал, что спасения нет, но Древний Барсук крикнул мне:
— Смелее! Скачи во всю прыть! Сейчас будет гроза, и в темноте они нас не догонят.
Действительно, надвигалась гроза, а я от волнения ничего не заметил. Внезапно ветер усилился, засверкала молния, загремел гром, и черные тучи затянули небо. При свете молнии я разглядел четырех всадников, быстро нас нагонявших. Один из них опередил остальных и понукал свою лошадь.
Заметив, что Древний Барсук отстает от меня, я стал сдерживать своего коня, а Древний Барсук спросил:
— Ты меня не покинешь? Стрела вонзилась мне в плечо, и я не могу стрелять.
Что я мог ответить, кроме:
— Я останусь с тобой!…
— Тогда постарайся остановить первого всадника.
Я оглянулся и в темноте с трудом разглядел приближающуюся темную фигуру человека. Когда вспыхнула молния, увидел в его руках ружье. О, как стало мне страшно! Я боялся этого человека, боялся его ружья — оружия гораздо более опасного, чем лук. Ни разу еще не сталкивался я лицом лицу с врагом. Часто слушал я рассказы наших воинов о том, какой восторг охватывал их, когда они шли в бой. Но мне он был непонятен. В эту минуту я думал о далеком маленьком вигваме, о сестре и доброй Сюйяки.
— Поверни лошадь! — крикнул Древний Барсук. — Поезжай ему навстречу, если не хочешь, чтобы он пустил пулю в наши спины.
Я задрожал, услышав эти слова, и стал про себя молить богов о помощи. И внезапно мужество вернулось ко мне. Сжимая рукоятку военной дубинки, я повернул своего черного коня и поехал прямо на воина из племени неперсе. Снова вспыхнула молния. Он увидел меня и выстрелил, но я пригнулся к шее лошади, и пуля пролетела над моей головой. Подскакав к нему, я замахнулся дубинкой. В эту минуту молния снова прорезала небо, и я увидел, что приклад ружья почти касается моего колена, а воин из племени неперсе насыпает порох. Я протянул руку, схватил ружье и изо всех сил рванул его. Оно осталось в моих руках, а противник уцепился за мою ногу. Я ударил его прикладом по рукам, он взвыл от боли и отпустил меня. Лошадь его метнулась в сторону, и воин закричал, призывая своих товарищей. Я не стал его преследовать и, повернув лошадь, поскакал назад, догонять Древнего Барсука. Наконец я разглядел его при свете молний и, подскакав к нему, закричал:
— Вождь! Я отнял у него ружье. Теперь он обезоружен.
— Да, но он преследует нас и зовет на помощь товарищей, — сказал Древний Барсук.
И как раз в эту минуту полил дождь, и снова засверкали молнии. Оглянувшись, я увидел врага, у которого отнял Ружье. Он гнался за нами и звал на помощь остальных.
— Постараемся ускакать от него! — крикнул мне Древний Барсук. — Повернем на север, — быть может, он потеряет наши следы.
Мы повернули на север и поскакали под проливным Дождем, но противник последовал за нами. Молнии уже не освещали небо. Затем мы свернули на восток, а ветер и шум Дождя заглушили топот наших лошадей. На опушке леса мы остановились и прислушались, но не услышали ни криков, ни топота: неприятель сбился со следа. Мы не знали, где находится наш отряд и наши лошади — справа или слева от нас. Наугад мы повернули вправо и медленно поехали по опушке леса, тихонько окликая товарищей. Неожиданно наткнулись мы на них; все были в сборе и поджидали нас. Тогда только Древний Барсук пожаловался в первый раз на боль в плече и попросил вытащить стрелу.
Под дождем и в темноте почти невозможно было выбраться из леса и вывести всех захваченных нами лошадей. Но оставаться в лесу до утра мы не могли, зная, что на рассвете все воины племени неперсе будут нас преследовать и нападут на наш след. Посоветовавшись с воинами, Древний Барсук сказал:
— Подождем здесь немного, но, даже если небо нескоро прояснится, постараемся выбраться из леса.
И опять боги были с нами. Творец Ветра захлопал своими большими ушами и угнал дождевые облака на восток. Когда выглянула луна, мы тронулись в обратный путь. Двое ехали впереди, остальные гнали лошадей. Славный захватили мы табун, и из сотни лошадей четыре принадлежали мне.
Ехали мы весь остаток ночи и весь следующий день, останавливаясь только для того, чтобы пересесть на свежих лошадей. Конечно, неперсе нашли наш след, но не смогли нас догнать. На пятый день мы поднялись на Спинной Хребет Мира и увидели зеленые равнины, принадлежавшие нашему племени пикуни. Только тогда мы отдохнули, выспались и поели свежего мяса.
Прошло еще несколько дней, и наконец вдали показались вигвамы пикуни. Гордо въехал я на своей большой черной лошади в наш лагерь. Воины, остававшиеся дома, приветствовали нас, и я слышал, как они выкрикивали мое имя. Трудно было пробраться верхом сквозь толпу. Я спрыгнул с лошади, а сестра моя и добрая Сюйяки подбежали ко мне и стали меня обнимать. Все хвалили меня — славные воины, старшины, знахари, — все те, кто до сих пор не обращал на меня никакого внимания. О, как я был горд и счастлив!…
Отдыхая в нашем маленьком вигваме, я рассказывал женщинам о славном набеге. И во всех остальных вигвамах только об этом и шла речь. К вечеру весь лагерь был оповещен о том, что я совершил величайший подвиг — захватил оружие, вырвал ружье из рук живого врага. Когда стемнело, Не Бегун пригласил меня на пир в свой вигвам и попросил принести ружье. В то время как мы пировали, пришел вестник от Одинокого Ходока. Вождь звал нас в свой вигвам, ему хотелось посмотреть мое ружье.
В вигваме Одинокого Ходока собралось много народа. В присутствии воинов и старшин я должен был рассказать о набеге. Они выслушали внимательно мой рассказ и заявили, что из меня выйдет толк.
— Иди тем путем, на какой ты вступил, и ты будешь таким же славным воином, каким был твой отец, — сказал один старый знахарь.
Все любовались ружьем, которое я отнял у воина из племени неперсе. Оно нисколько не походило на ружья с коротким стволом, какие мы покупали у торговцев, живших на севере. Ствол был длинный, восьмигранный. За это ружье один из воинов предложил мне двух лошадей, но я, конечно, не согласился его продать.
Мы вернулись домой как раз к тому времени, когда начались священные церемонии: возведение священного вигвама и принесение жертв Солнцу. В течение четырех дней воины молились, приносили жертвы, перечисляли свои подвиги и изображали стычки с врагами.
В великий для меня день я подробно рассказал о своих двух подвигах — об уводе лошадей и о захвате ружья, причем один из моих друзей играл роль воина из племени неперсе. До сего дня помню я, как восхваляли меня слушатели. Я только и мечтал о том, чтобы стать великим воином.
Когда настал месяц Падающих Листьев, произошло событие, навсегда отвратившее меня от войны. Без сомнения, боги хотели, чтобы я был в это время в вигваме Одинокого Ходока и услышал этот разговор. Один из воинов сказал вождю:
— Как я хотел, чтобы мой сын взялся за ум и бросил детские забавы! Но он только и думает что об играх. Часто говорю я ему о тебе, рассказываю, какие совершил ты в молодости подвиги и как сделался вождем нашего племени.
Последовало молчание. Наконец Одинокий Ходок глубоко вздохнул и сказал:
— Есть звание более почетное, чем мое. С радостью поменялся бы я сейчас местами с Маленькой Выдрой, зазывателем бизонов, дарующим изобилие. Я управляю племенем, я примиряю спорящих и веду в бой воинов, но не могу я прокормить племя. Надвигается зима, мы должны запастись мясом, а среди нас нет ни одного зазывателя бизонов. Завтра я пошлю гонца к кайна и попрошу Маленькую Выдру нам помочь. Могу ли я сказать ему, что он получит щедрую награду?
— Да, да!
— Так и скажи ему!
— Да, мы щедро его наградим! — закричали воины.
К вечеру весь лагерь был оповещен о том, что на следующий день мы перебираемся к реке Два Талисмана, где находилась ловушка бизонов. В то время наше становище было расположено к северу от нее, на берегу реки Крутой Берег.
Я вернулся домой и долго думал о том, что сказал Одинокий Ходок. Конечно, я много раз видел, как зазыватель заманивал стадо бизонов к краю пропасти и животные, испуганные громкими криками загонщиков, срывались со скал и разбивались насмерть. В детстве я привык к этой охоте и подвиг зазывателя не производил на меня впечатления. А Одинокий Ходок назвал Маленькую Выдру «дарующим изобилие». Какое прекрасное имя!
Вспомнил я, как почитали и любили воины Старого Ворона, нашего зазывателя, который недавно ушел от нас навеки в Страну Теней зазывать тени бизонов. Вспомнил, как кроток он был, как угоден богам, какие видел вещие сны. И я сказал себе: «Почему я не могу стать зазывателем бизонов, дарующим изобилие? Почему не могу я доставлять своему племени пищу, кров и одежду?» Да, бизоны — их мясо и шкура — удовлетворяли чуть ли не все наши потребности; имея бизонов, мы ни в чем не нуждались.
На следующий день мы перебрались к реке Два Талисмана и расположились лагерем в ущелье у подножия утесов, где находилась ловушка бизонов. Спустя два дня вернулись гонцы, посланные в лагерь кайна, и с ними прибыл Маленькая Выдра — седой, но бодрый старик. Он был очень молчалив. С ним была его старая жена, знахарка. Свой священный вигвам они поставили в стороне от нашего большого, шумного лагеря. На шкурах, — покрывавших остов вигвама, были нарисованы в натуральную величину два бизона — самец и самка.
Вечером Одинокий Ходок позвал Маленькую Выдру в свой вигвам. Мне хотелось послушать их разговор, и я пробрался сквозь толпу женщин, теснившихся у входа. Когда вошел старик, Одинокий Ходок крикнул ему:
— Добро пожаловать, Человек Солнца, Дарующий Изобилие! Сядь здесь, подле меня.
Со всех сторон раздались возгласы:
— Добро пожаловать, мудрый старик! Добро пожаловать в наш лагерь!…
Маленькая Выдра сел слева от очага. На нем были надеты куртка, штаны и мокасины из кожи бизона, раскрашенные священной тускло-красной краской. На плечи его была наброшена шаль с нарисованным на ней талисманом Маленькой Выдры — двумя бизонами, самцом и самкой. Рисунок был сделан черной краской, сердца обведены красной. В косички его были вплетены тесемки из меха выдры. По сравнению с вождем и воинами в ярких костюмах, расшитых иглами дикобраза, был он одет очень скромно. Как только он занял место возле очага, женщины подали угощение — язык бизона и пеммикан. Я заметил, что зазыватель бизонов отрезал маленький кусочек языка и, пробормотав слова молитвы, зарыл его в землю у своих ног. Затем стал он рассказывать о жизни в лагере кайна, а вождь сообщил ему все наши новости.
Пиршество продолжалось долго, и несколько раз священные трубки передавались из рук в руки. Разговор шел о стадах бизонов, которых Маленькая Выдра заманивал в ловушку, а я жадно прислушивался. Заметил я, с каким почтением все присутствующие — старшины, знахари, великие воины — относятся к этому зазывателю бизонов. Они не только почитали его, но и любили. Очень редко называли они его Маленькой Выдрой: у него было другое имя — Дарующий Изобилие. Опять и опять я думал о том, какое это прекрасное прозвище, что оно звучит почти как имя бога.
После пиршества я зашел в вигвам Не Бегуна.
— Вождь, — сказал я, — Маленькая Выдра — великий человек.
— В наших трех племенах нет ни одного человека, равного ему, — ответил Не Бегун.
— Думал я долго и вот к какому пришел решению: я хочу стать зазывателем бизонов, дарующим изобилие.
И я с тревогой посмотрел на Не Бегуна, не зная, что он на это скажет.
— Ты вступил на путь воина, иди этим путем, — сказал он после долгого молчания. — Начал ты хорошо; со временем ты будешь великим воином. А зазывателей бизонов мало, очень мало. На три наших племени остался только один — Маленькая Выдра. Нужно иметь могущественного «тайного помощника», быть очень угодным богам, чтобы стать зазывателем. Ты будешь искать способ заманивать стадо, доживешь до седых волос, и, быть может, ни разу не удастся тебе завлечь бизонов.
— И все-таки я хочу попытаться.
— Ступай к Маленькой Выдре, потолкуй с ним, — посоветовал он мне.
Я направился к старику в вигвам, но вскоре меня охватила сомнения, и я замедлил шаги. Имею ли я право приближаться к священному вигваму, тревожить вопросами такого мудрого человека? Я поплелся было назад, но, пройдя несколько шагов, остановился. «Сердце у него доброе, это видно по его лицу, — сказал я себе. — Я подойду к вигваму и спрошу, можно ли войти».
Глава III
Я подошел к вигваму и увидел двух черных бизонов, нарисованных на желтой коже. В вигваме горел костер. Я остановился у входа и крикнул:
— Маленькая Выдра! Дарующий Изобилие! Здесь ли ты?
— Да, да! Входи! — откликнулся он, и я вошел.
— А, это ты, сын мой! — сказал он, когда я подошел к костру. — Добро пожаловать. Садись. Час поздний. Что привело тебя в вигвам старика?
— О, Дарующий Изобилие, пожалей меня, помоги мне! — воскликнул я. — Я хочу стать зазывателем бизонов!
— А! Вот в чем дело! — отозвался он. — Боюсь, что я не в силах тебе помочь. Ты должен просить помощи у предков. Долго я постился, молился и искал способа заманивать стада, но каждая моя попытка заканчивалась неудачей, пока не нашел я «тайного помощника», который сказал мне, что нужно делать. Есть ли у тебя помощник?
— Нет, я еще не постился и не видел священного сновидения, — ответил я.
— Начни пост. После того как посетит тебя сновидение, постарайся заманить стадо. Постись и приноси жертвы до тех пор, пока не добьешься успеха. Но быть может, ты никогда не сделаешься зазывателем. И не забудь, что это очень опасная работа.
— Я не боюсь, — сказал я ему. — Дважды я был на войне. Я отнял ружье у живого врага.
— Сын мой, я сделаю для тебя все, что в моих силах, но, конечно, я не открою тебе тайных способов зазывания бизонов. Об этом я не смею говорить. Когда я буду зазывать стадо, займи место у самого края каменной гряды и следи за каждым моим движением.
Я пошел домой. В нашем маленьком вигваме было темно; моя сестра и старая Сюйяки спали. Я раздул огонь в очаге и разбудил их. Я не мог дождаться утра; мне хотелось тотчас же сказать им, какое я принял решение.
— Что с тобой, брат? — спросила Питаки. — Или ты опять идешь на войну?
— Нет, больше никогда не пойду я на войну.
— Но что случилось? Зачем ты нас разбудил? Уж не болен ли ты? — испугалась Сюйяки.
— Нет, я здоров, я счастлив. Разбудил я вас, чтобы сказать о своем решении: я буду зазывателем бизонов, дарующим изобилие.
— О брат мой, ты говоришь бессмысленные слова! — упрекнула меня Питаки. — Ты не сможешь стать зазывателем бизонов.
— Нет, сможет! И будет! — воскликнула старая Сюйяки. — Мы ему поможем. Боги, дайте мне дожить до того дня, когда мой сын заманит в ловушку стадо!
Мы разговаривали до рассвета, и было решено, что я начну поститься и постараюсь увидеть сновидение, как только Маленькая Выдра заманит стадо к утесам и снабдит мясом всех нас — весь наш лагерь.
Через несколько дней вернулись посланные на разведку воины и донесли, что на плоскогорье пасутся большие стада и в любое время могут приблизиться к ловушке. Вечером этого дня Маленькая Выдра начал четырехдневный пост, а все знахари нашего лагеря достали священные трубки, курили их в честь богов и умоляли их дать ему то, что он просит.
Никто не осмеливался приблизиться к вигваму зазывателя, опасаясь ему помешать. Из четырех его жен три перебрались в наш лагерь, а четвертая, старшая жена осталась в вигваме и вместе с Маленькой Выдрой пела священные песни. Два раза в день, утром и вечером, видели мы, как она спускалась к реке и пила, потому что пить воду в вигваме не разрешалось. Шла она тихими шагами, низко опустив голову, ни с кем не разговаривала, и с ней никто не разговаривал. Ее лицо и руки были выкрашены в черный цвет.
По вечерам я шел один или с сестрой к вигваму зазывателя, садился неподалеку и слушал пение. Странные это были песни, очень тихие, заунывные. Больше всего нравилась мне Песня древнего бизона. Я слушал ее, затаив дыхание.
— Брат, — шептала мне Питаки, — у меня замирает сердце.
— Потому что это священная песня, — отвечал я. — У меня тоже сжимается сердце; я вижу древних бизонов и вспоминаю те далекие времена, когда люди и животные могли разговаривать и понимать друг друга. Слушай внимательно: когда-нибудь мы с тобой будем петь эту песню.
Когда окончился четырехдневный пост Маленькой Выдры, Одинокий Ходок устроил пиршество в честь зазывателя. Все наше племя готово было явиться по первому зову Дарующего Изобилие. По окончании пиршества я подошел к Маленькой Выдре и попросил разрешения быть подле него, когда он поднимется на плоскогорье, у подножия которого находилась ловушка. Он обещал взять меня с собой.
На рассвете мы вдвоем поднялись на плоскогорье и встретили здесь четырех караульных. Мы остановились на вершине утеса, откуда тянулись две каменные гряды — одна на северо-запад, другая на северо-восток, — пересекающие плоскогорье. У края пропасти расстояние между грядами было не больше тридцати-сорока шагов; дальше оно увеличивалось и наконец достигало десяти сотен шагов. Плоскогорье заканчивалось широкой ложбиной, куда приходили на водопой стада. С другой стороны оно круто срывалось в пропасть, и внизу была устроена ловушка — корраль из бревен, хвороста и камней. Изгородь была такой высоты, что самый крупный бизон не мог через нее перескочить.
Стоя на плоскогорье, мы смотрели вниз, на равнину, тянувшуюся за ложбиной. Вдали виднелись три стада — одно к северу от ложбины, другое к западу, третье к востоку. Маленькая Выдра смочил слюной палец и поднял руку, чтобы узнать, откуда дует ветер.
— Ветер дует на восток, — сказал он. — Я не могу зазывать бизонов, которые пасутся на востоке: они почуют мой запах. Стадо, пасущееся на западе, очень невелико, не стоит его зазывать. Остается третье стадо. Оно пасется слишком далеко от нас, но, должно быть, придет скоро на водопой. Тогда я попробую его заманить. Пусть один из караульных пойдет к Одинокому Ходоку и скажет, что загонщики должны спрятаться за каменными грядами.
Я смотрел вниз, в ущелье, и вскоре увидел, что из вигвамов выбегают мужчины, женщины, дети-все, кто мог играть роль загонщиков. Поднявшись по крутой тропинке на утес, они направились к нам и вслух высказывали свои пожелания и взывали к богам о помощи. Когда они проходили мимо нас, караульные кричали:
— Слушайте приказ Маленькой Выдры! Спрячьтесь за каменными грядами и лежите неподвижно. Когда приблизится стадо, вы должны припасть к земле, как бы ни хотелось вам встать, и смотреть, что делает зазыватель. Когда животные поравняются с вами, вы должны встать, размахивать плащами и гнать бизонов к краю пропасти.
Маленькая Выдра сидел на земле и, не обращая никакого внимания на проходивших мимо людей, не спускал глаз с бизонов. Одинокий Ходок и начальники отрядов, входивших в общество Все друзья, подошли к нему и сели рядом.
Спустя некоторое время он повернулся к ним и спросил:
— Все ли в сборе?
— Да, четыреста загонщиков заняли места за каменными грядами, — ответил Одинокий Ходок.
— Пусть они спрячутся за первыми двадцатью грудами камней, — сказал Маленькая Выдра. — Думаю, что там они будут в безопасности.
Собрались почти все отряды наших воинов: Ловцы, Смельчаки, Носители Ворона, Все Бешеные Собаки, Бизоны и другие. Начальники отрядов отдали приказ своим людям. Все Бешеные Собаки — величайшие воины племени — спрятались неподалеку от края пропасти. Это было самое опасное место: здесь бизоны могли свернуть и растоптать всех, кто встретится им на пути.
Маленькая Выдра встал и пошел между каменных гряд; я последовал за ним. Он нес легкую, выдубленную шкуру молодого бизона. От пропасти до ложбины тянулись невысокие холмы. Поднимаясь на эти холмики, мы видели три стада. Шли мы вдоль западного крыла загонщиков, которых скрывали от нас груды камней. Люди лежали плашмя на земле, завернувшись в плащи из шкур бизонов. Плащи эти были цвета травы. Каждый прикрыл себе голову охапкой травы или ветками.
Дойдя до последней груды камней, я лег на землю, а Маленькая Выдра присел подле меня. Стадо, которое паслось на востоке, уже ходило, по-видимому, на водопой и сейчас медленно двигалось на северо-восток. Стадо к западу от нас направлялось в нашу сторону, но было еще очень далеко. Наконец, третье стадо рассыпалось по равнине: одни бизоны щипали траву, другие лежали, старые самцы дремали, стоя на солнцепеке. Животные находились слишком далеко, чтобы заметить людей, которые залегли за камнями. Повинуясь приказу зазывателя, они должны были лежать неподвижно, пока не пройдет мимо них стадо.
Было очень жарко, но лишь незадолго до полудня животные, казалось, почувствовали жажду. Не переставая щипать траву, они двинулись к ложбине, но часто останавливались или сворачивали в сторону. Лениво поднялись те, что лежали на земле, и наконец все стадо, сбившись в кучу, медленно побрело вслед за вожаками.
— Пора приниматься за работу, — сказал мне Маленькая Выдра. — Останься здесь и следи за мной.
Взяв шкуру бизона, он спустился в ложбину, пересек ее и поднявшись по отлогому склону, зашагал по равнине. Здесь также тянулись невысокие холмы. Первые холмики он обошел, очевидно не желая показаться стаду. Потом сгорбился и стал подниматься по склону одного из более высоких холмов; не доходя до вершины, он выпрямился и поднял голову. О, как пристально смотрел я на него! Впрочем, не один я! Сотни и сотни глаз следили за ним, сотни людей молились за его успех.
Когда Маленькая Выдра выглянул из-за холма, стадо находилось недалеко от него. Завернувшись в шкуру бизона и прикрыв ею голову, он сгорбился и стал бегать по склону, показывая животным верхнюю часть туловища. Вожаки — старые самки — сразу остановились, остальные напирали сзади, потом тоже остановились, стараясь разглядеть, чем вызвана задержка. Маленькая Выдра припал к земле и спрятался, потом снова выполз и стал бегать на четвереньках, подпрыгивая и брыкаясь. Как смешно было смотреть на него! Бизоны не спускали с него глаз. Вожаки попятились и свернули было в сторону. Казалось, еще минута — и стадо обратится в бегство. Зазыватель припал к земле и просунул голову сквозь кусты, которые росли на вершине холма. Думаю, что как раз в этот момент он и позвал бизонов. Но какой звук он издал? Я не расслышал, потому что находился слишком далеко от него.
Как бы то ни было, его «тайный помощник» помог. Одна из самок растолкала передние ряды и рысцой побежала к холму, остальные последовали за ней. Зазыватель повернулся и стремглав помчался к ложбине; шкура бизона развевалась и хлопала его по спине. Добежав до пригорка у края ложбины, он оглянулся. Стада еще не было видно.
Наконец показалась старая самка, а за ней и все стадо. Бизоны остановились на вершине холма, а зазыватель снова стал кружиться и подпрыгивать у них на виду. Затем повторил он свой призыв, и все стадо, сначала не спеша, потом все быстрее, побежало к ложбине. Маленькая Выдра спустился в ложбину, пересек ее и поднялся на плоскогорье, а бизоны — их было не меньше четырехсот — следовали за ним и быстро его нагоняли. Зазыватель поравнялся с грудой камней, за которой я лежал, и вскоре все стадо промчалось мимо меня. Впереди бежали самки и молодые самцы, за ними — детеныши и годовалые бизоны, а в арьергарде — грузные старые самцы. Только вожакам стада известна была цель этой погони — им хотелось посмотреть поближе на это странное животное, походившее на бизона, которое от них убегало. Быть может, какая-нибудь старая самка приняла его за своего пропавшего детеныша, забыв о том, что его задрали волки.
Как только бизоны пробежали мимо меня, я выскочил из засады и погнался за ними, громко крича и размахивая плащом. И остальные загонщики следовали моему примеру и выскакивали из-за каменных гряд, как только проносилось мимо них стадо. Сначала нас увидели животные, бежавшие сзади, они испугались и стали напирать на передние ряды. Между тем Маленькая Выдра свернул в сторону и подбежал к каменной гряде, тянувшейся на северо-запад; все загонщики, притаившиеся за этой грядой, вскочили, а вожак стада — большая старая самка — повернул на восток, но и здесь путь бизонам преградила цепь загонщиков, выбежавших из-за второй гряды. Свободной оставалась дорога на юг, к пропасти.
Преследуя Маленькую Выдру, бизоны бежали рысцой, но сейчас, испуганные громкими криками, помчались галопом. Топот копыт напоминал раскаты грома. Они взрывали сухую землю, и пыль нависала над ними серым облаком. Сквозь пыльную завесу мы, бежавшие сзади, видели, как выскакивают из засады загонщики, прятавшиеся за камнями у края пропасти…
Я догнал Маленькую Выдру; он шел медленно и с трудом переводил дыхание. Я заговорил с ним, но он мне не ответил. Он не спускал глаз с загонщиков и стада, и я догадался, что он молит богов о благополучном завершении дела.
Поднялся ветер и разогнал облако пыли. Когда пыль улеглась, мы увидели людей, толпившихся у края пропасти. Несколько старых бизонов свернули на восток и на запад и избегли смерти, а стадо сорвалось в пропасть Самки, самцы, годовалые бизоны и детеныши — все они спрыгнули с утеса и скатились вниз.
— Милостивы к нам боги! — воскликнул Маленькая Выдра. — Мой «тайный помощник» все еще со мной. Снова я наполнил ловушку мясом.
Мы ускорили шаги и, подбежав к краю пропасти, посмотрели вниз. Сотни мертвых и умирающих бизонов лежали на земле, но некоторые не пострадали от падения. Испуганно метались они в загоне, натыкаясь на высокую изгородь, а воины стреляли в них из луков. Женщины и старики сидели на изгороди, болтали, смеялись, пели, показывали друг другу самых крупных животных. Дети звали матерей, собаки лаяли и выли, а по крутой тропе спускались с плоскогорья загонщики; им предстояло сдирать шкуры и разрезать туши убитых животных.
— Ступай с ними и возьми то, что приходится на твою Долю, — сказал мне Маленькая Выдра. — А я останусь здесь. Радостно мне смотреть на людей, работающих в ловушке, потому что сейчас они счастливы.
— А счастье дал им ты, — отозвался я. — Мое решение неизменно: я тоже буду дарующим изобилие.
В коррале я отыскал сестру, старую Сюйяки и жену Не Бегуна; они разрезали тушу большого жирного бизона. Я помог им отнести мясо в лагерь, и мы сытно поели. Оставшееся мясо женщины разрезали на длинные тонкие полосы и стали его сушить.
В тот вечер в лагере куски мяса развешаны были повсюду на веревках и на помостах из веток, и в каждом вигваме женщины скоблили шкуры, очищая их от мяса. Маленькая Выдра обещал заманить в ловушку еще много сотен бизонов, чтобы в течение долгой зимы не ощущали мы недостатка в еде и одежде.
Поздно вечером я вошел в его вигвам. Он встретил меня приветливо, но я долго не решался задать ему вопрос, который не давал мне покоя. Наконец я пробормотал:
— Маленькая Выдра, я следил за тобой все утро, я видел все, что ты делал, но зова твоего не слышал. Ведь ты позвал бизонов?
Он усмехнулся и ласково ответил мне:
— Да, сын мой, я их позвал, но не могу научить тебя этому призывному крику. Я научился ему во сне и говорить о нем не смею. Если ты хочешь быть зазывателем, начни поститься и постись до тех пор, пока не придет к тебе на помощь кто-нибудь из твоих далеких предков.
«Должно быть, он подражает жалобному крику маленького бизона», — подумал я, возвращаясь домой. И я решил испытать это на первом же стаде, которое я постараюсь заманить.
Поститься я начал с вечера следующего дня. Я покинул лагерь, поднялся к верховьям реки и нашел убежище среди утесов, на широком выступе, нависшем над рекой. Ниже росла одинокая старая сосна, и верхушка ее приходилась почти на одном уровне с выступом. Ночью, когда ветер затихал, я прислушивался к странным звукам и плеску воды. Думал я, что в реке плещутся «подводные люди», и к ним я обратился с молитвой так же, как и к другим богам.
На следующий день вечером большой белоголовый орел опустился на верхушку сосны. Я долго молился ему — молился молча, опасаясь его спугнуть. Я надеялся, что тени его предков находятся где-нибудь поблизости, и к ним я воззвал о помощи. Потом я заснул, и тень моя странствовала в ночи, но помощи я не получил.
Наконец на пятый день приснился мне вещий сон. Да, теперь я могу о нем говорить, потому что впоследствии появился у меня другой «тайный помощник». Во сне моя тень встретила Древнего Лосося, и он обещал всегда мне помогать. Утром я проснулся счастливым, спустился с утеса к реке и напился в первый раз за четыре дня и пять ночей. Потом я пошел домой очень медленно, потому что ослабел от долгого поста.
К лагерю я приблизился как раз в тот момент, когда стадо бизонов скатывалось с утесов в ловушку. С треском и грохотом катились они по крутому склону, и облако пыли поднималось над их косматыми телами. Долго я смотрел, и казалось, что конца не будет этому живому потоку. Каким могущественным талисманом владел человек, заманивший стадо! В холодные зимние дни, когда нельзя охотиться, женщины будут стряпать у очага, приговаривая:
— Есть у нас мясо, потому что Маленькая Выдра, Дарующий Изобилие, позаботился о нашем племени.
И не найдется в лагере ни одного человека, который бы не вспомнил с любовью о зазывателе.
Не подходя к ловушке, я вернулся в лагерь, вошел в наш вигвам и лег. Кто-то меня увидел и сказал моей сестре, что я вернулся. Она тотчас прибежала и прежде всего спросила, не голоден ли я. Не дожидаясь ответа, она принесла миску с пеммиканом, уселась рядом и стала кормить меня, словно ребенка. Вошла старая Сюйяки.
— Они дали нам двух бизонов! — воскликнула она. — Но раньше чем приниматься за работу, я хотела повидать тебя. Ну что, хороший ли ты видел сон?
— Да, сон хороший. Мне кажется, теперь у меня есть сильный помощник, — ответил я.
— Я тоже видела вещий сон, — сказала Сюйяки. — Я скиталась по равнине и у реки, потом поднялась на вершину холма и присела отдохнуть. Вдали увидела я облако пыли и разглядела стадо бизонов, мчавшихся к утесам. Два ворона опустились на дерево, и один из них сказал другому: «Летим за стадом! Молодой Апок заманивает стадо бизонов в ловушку. Мяса много, мы с тобой найдем, чем поживиться». Когда они улетели, я увидела загонщиков, бегущих за стадом, увидела бизонов, скатывающихся в пропасть. А потом моя тень снова вошла в мое тело, и я проснулась. Сын мой, это вещий сон. Я знаю, что ты будешь зазывателем бизонов.
— Я тоже так думаю, — сказал я ей. — Как только ты и сестра высушите мясо, мы втроем уйдем из лагеря, и там, на равнине, я попробую заманить стадо.
Они вернулись в ловушку, а я долго лежал и думал о будущем.
Одна мысль смущала меня: не было у меня ни одной пули к ружью, отнятому у неперсе. Красные Куртки — торговцы с севера — продавали нам пули слишком большие для этого ружья. А мне не хотелось отправляться в путь без ружья пороха и пуль. Вдруг мне пришла мысль попросить Встающего Волка, белого юношу, который жил в вигваме Одинокого Ходока, сделать для меня несколько пуль. Он прожил с нами около года и хорошо говорил на нашем языке.
В тот же вечер я пошел к нему и показал ружье. Он взял свой патронташ и вложил в ружье пулю. Она оказалась как раз того калибра, какой мне был нужен. Из двадцати пуль, находившихся в его патронташе, он отдал мне десять. Как я был ему благодарен! С этого дня началась наша дружба, длившаяся больше шестидесяти зим. Ни разу мы с ним не поссорились, и этим я горжусь.
Пока женщины сушили мясо, я часто беседовал с Не Бегуном. Решено было, что он поможет нам перевезти вигвам на равнину, где я думал зазывать бизонов, а затем отведет моих лошадей назад, в лагерь. Вечером, накануне того дня, когда мы должны были тронуться в путь, я зашел в вигвам Маленькой Выдры и поделился с ним моими надеждами.
— Сын мой, ты еще слишком молод, — сказал он мне. — Боюсь, что тебя ждет неудача. Пока молись, постись и старайся увидеть вещие сны. Когда ты вырастешь и возмужаешь, сделай попытку зазвать стадо. Быть может, она окажется удачной.
Я сказал ему, что ждать не могу и завтра же отправляюсь в путь. Медленно побрел я назад, в свой вигвам. До этой минуты я не сомневался в успехе, но старик поколебал мою уверенность.
Я решил перебраться к устью реки Береза. Место это находилось на расстоянии дня езды от нашего лагеря; сюда не наезжали всадники и охотники, и дичь мирно паслась на лугах. Ехали мы не кратчайшим путем, а по берегу реки, чтобы не спугнуть бизонов. Было уже темно, когда мы раскинули вигвам в роще виргинских тополей, неподалеку от места слияния двух рек — Березы и Двух Талисманов. Рано утром Не Бегун отправился в обратный путь, взяв с собой наших лошадей. Как только он уехал, я позвал сестру и Сюйяки, и втроем мы стали подниматься по северному склону плоскогорья, крутому и каменистому. Добравшись до вершины, я осторожно поднял голову и осмотрелся по сторонам.
— Брат, смотри, смотри! — воскликнула Питаки. На равнине паслось стадо бизонов; было их около ста голов. Медленно поднимались они по склону холма, и я решил, что, как только скроются они за вершиной, я побегу к ним и постараюсь их заманить.
Глава IV
Стадо двигалось очень медленно. На самой вершине холма большой старый бизон остановился и повернулся в нашу сторону. Долго осматривался он по сторонам, помахивая коротким хвостом, словно подозревая что-то неладное. Мы знали, что видеть нас он не может: одни только наши головы поднимались над каменными глыбами, такими же черными, как наши волосы. Часто я замечал, что дичь каким-то образом узнает о приближении охотника, хотя находится, казалось бы, слишком далеко, чтобы увидеть его или почуять запах. Но этот старый бизон нас не почуял. Постояв некоторое время на вершине холма, он повернулся и рысцой побежал за стадом, уже скрывшимся в ложбине.
— Он ушел, — сказала старая Сюйяки. — Сын мой, принимайся за дело. О, я так волнуюсь, я вся дрожу! Ступай скорее! Сейчас мы узнаем, можешь ли ты это сделать.
— Да, брат, иди! — подхватила Питаки. — Брат, я молюсь за тебя.
Я положил ружье на землю, завернулся в шкуру бизона, вывернув ее шерстью вверх, и направился к холму, за которым скрылось стадо. Я так волновался, что мне трудно было дышать. Взбираясь по склону, я почувствовал, что у меня дрожат ноги, и должен был опуститься на землю. Я не понимал, что происходит со мной. Когда я крался в лагерь, мне тоже было очень страшно, но такого волнения я не испытывал даже в тот момент, когда отнимал ружье у врага. Я стал молиться своему «тайному помощнику"и почувствовал себя лучше. Я встал и пошел дальше.
На вершине холма я опустился на четвереньки и, прячась в высокой траве, заглянул в ложбину. Бизоны паслись на склоне следующего холма. Прикрыв голову шкурой, я встал и, сгорбившись, начал кружиться и прыгать. Они тотчас же меня заметили и повернулись в мою сторону, а я то показывался им, то прятался в траве. Потом опустился на четвереньки, начал брыкаться и мычать, как теленок.
Тут только понял я, что Маленькая Выдра издавал какие-то другие звуки. Детеныш бизона мычит очень тихо, иначе, чем теленок-детеныш коровы, которую вы, белые, завезли в нашу страну. И его не слышно на расстоянии ста шагов. Я перестал мычать, припал к земле и посмотрел на стадо. У меня сжалось сердце: бизоны мчались на запад — убегали от меня. И с ними улетела надежда стать зазывателем, дарующим племени изобилие.
Неудача подействовала на меня угнетающе: я почувствовал слабость, лег ничком на землю и, свернув шкуру, подложил ее под голову вместо подушки. Долго лежал я с за. крытыми глазами. Зашуршала трава, но я знал, кто идет и не пошевельнулся. Конечно, это была Питаки и с нею наша «почти мать». Они сели подле меня, и Питаки сказала:
— Брат, они убежали. О, как мне грустно!
— Да, все кончено, — ответил я. — Никогда не буду я зазывателем. Ни одного шага не сделали они в мою сторону. Сначала они на меня смотрели, потом задрали хвосты и убежали.
— Ну так что же! Не велика беда! — воскликнула неунывающая Сюйяки. — Не грусти! Неужели ты думал с первого же раза заманить стадо? Вспомни, что сказал тебе Маленькая Выдра. Ты должен молиться, поститься, видеть сны, снова и снова зазывать стада и в конце концов добьешься успеха.
— Верно, верно! — закричал я, быстро вставая. — Неудача привела меня в отчаяние, и я забыл о словах Маленькой Выдры. Я попытаюсь сто раз. Я попытаюсь десять сотен раз. Я буду зазывателем бизонов.
— Вот теперь ты говоришь мудрые слова. Конечно, неудача не должна тебя смущать. Никогда не впадай в отчаяние. А мы по мере сил будем тебе помогать. Посмотри на юг. Видишь, там пасутся стада бизонов. На них ты будешь учиться.
Действительно, на равнине между двух рек и к югу от реки Два Талисмана паслись стада. Но в то утро я решил не пытаться вторично. Мне хотелось поразмышлять о священных вещах. Вместе с сестрой я вернулся в вигвам, а Сюйяки осталась сторожить на вершине холма. Расположившись лагерем вдали от нашего племени, мы подвергались серьезной опасности, так как в любой момент мог показаться неприятельский отряд. Мы должны были заметить врагов издали, чтобы иметь время от них спрятаться.
Но в вигваме я пробыл недолго. На душе у меня было неспокойно, я не находил себе места.
— Пойдем, погуляем, — предложил я сестре.
Я взял ружье, и мы спустились в долину реки Береза. На западном берегу мы увидели в серых скалах широкие пласты черного камня; вы, белые, кормите этим камнем огонь и на нем раскаляете железо так, что оно становится мягким и можно ему придавать любую форму. Тогда мы еще не знали, что черные камни служат топливом. По мнению Питаки, Старик, создав мир, положил здесь черные пласты земля в знак скорби о каком-то умершем друге.
Мы поднялись на вершину утеса, прорезанного пластами черного камня; дальше, к западу, тянулся крутой склон холма. Здесь мы увидели место, огороженное камнями, а в центре круга — каменный очаг. Когда-то здесь стояли лагерем наши предки. Так же как делаем мы теперь, они обкладывали края вигвама камнями, чтобы не снесло его ветром. Но какой огромный был у них вигвам! В три раза больше самых больших наших вигвамов — из двадцати одной шкуры…
— Сестра, я хочу помолиться теням наших предков, — сказал я. — Они были мудрыми людьми. Быть может, их тени остались здесь и слышат нас. Быть может, они мне помогут.
— Да, брат, быть может, они здесь, — прошептала Питаки. — Я их боюсь. Но ты помолись им. Что бы ни случилось, я останусь здесь.
Храбрая была девочка моя сестра Питаки!
Долго молился я предкам, просил их послать мне вещий сон, открыть способ зазывать стада. Когда я окончил молитву, на вершине холма показались бизоны. Склон был прорезан узким ущельем, тянувшимся до самой вершины, и, спустившись в это ущелье, можно было незаметно приблизиться к стаду. Мне представился случай еще раз испытать себя, и я чувствовал, что следует им воспользоваться. Передав ружье Питаки, я ползком спустился в ущелье и, прячась в кустах, стал пробираться к стаду. Бизоны — было их около пятидесяти голов — жадно щипали траву, покрывавшую склон. Выглянув из расщелины, я увидел, что они находятся совсем близко. Завернувшись в шкуру, я начал прыгать и брыкаться. Я знал, что теперь они меня услышат, если я буду подражать мычанию молодого бизона. Но сначала я хотел привлечь их внимание, а затем уж заманить. Однако стадо, заметив меня, обратилось в бегство и скрылось за холмом. Я решил, что сначала нужно было замычать, а потом уже показываться бизонам.
Как бы то ни было, но вторая моя попытка закончилась так же, как и первая. Предки не помогли. Печальный, вернулся я к сестре, и мы побрели домой.
В вигваме нас ждала Сюйяки, которая целый день караулила, но не видела ничего, кроме пасущихся бизонов. Когда я ей сказал, что меня снова постигла неудача, она посоветовала мне не отчаиваться.
— Будь добр и весел, — говорила она. — Радуйся, что у тебя есть сестра, Сюйяки — вторая ваша мать и друзья в большом лагере. Радуйся, что ты побывал на войне и совершил славные подвиги. А теперь надвигается ночь. Поедим сушеного мяса, ляжем спать, и, быть может, тебе приснится вещий сон.
Но я ничего во сне не видел. Встав на рассвете, я поднялся на холм и увидел стадо бизонов. Одно стадо паслось там где я в первый раз пробовал заманить животных. Я сел на землю и, не спуская глаз с бизонов, старался придумать какой-нибудь новый способ, но мои попытки ни к чему не привели. Снова и снова я припоминал все, что делал Маленькая Выдра. Дважды я пытался ему подражать, но бизоны от меня убегали.
«Должно быть, они испугались моего зова», — подумал было я, но потом вспомнил: заманивая их вторично, я не успел их позвать, а они все-таки убежали.
Усталый и недовольный, я вернулся в вигвам. Сюйяки дала мне поесть, но я не чувствовал голода. Все утро провел я наблюдая бизонов, но ничего нового не придумал.
— Сюйяки, — сказал я, — настал новый день, и вокруг нас пасутся бизоны, а я не знаю, что мне делать. Во сне я ничего не видел и нового способа не придумал.
— Ну что ж! Попробуй их позвать так, как ты звал вчера, — быстро ответила она.
— Хорошо, я последую твоему совету, хотя не сомневаюсь в том, что они убегут.
Втроем мы поднялись на холм. Бизоны находились в ложбине, как раз между нами и следующим холмом. Почти все животные лежали на траве. Не имело смысла идти к ним, так как они заметили бы меня издали. Пришлось ждать, и ждали мы очень долго. После полудня бизоны лениво встали, и, пощипывая траву, двинулись в нашу сторону. По-видимому, они шли на водопой к реке. Угадав их намерение, я сказал, что буду ждать, пока они не подойдут совсем близко, и тогда попытаюсь их позвать.
Вдруг Питаки вскрикнула, схватила меня за руку и указала на противоположный берег реки. Я оглянулся и увидел всадников — их было пятнадцать человек, — которые спускались по крутой тропинке между двух рек. Это был неприятельский отряд. Всадники гнали небольшой табун лошадей, и я не сомневался в том, что они совершили набег на лагерь нашего племени.
— О, сын мой! — застонала старая Сюйяки. — Быть может, они увели наших лошадей.
— Во всяком случае они нас ограбят, если только заметят вигвам, — ответил я.
Они мчались по крутой тропе, спасаясь от преследователей, которые, несомненно, за ними гнались. Стадо бизонов, заметив их, обратилось в бегство и мчалось прямо на нас. Нам ничего не оставалось делать, как поскорее уйти с дороги.
— Бежим! — крикнул я. — Спрячемся в роще!
— А военный отряд? Они нас увидят, — возразила Сюйяки.
Вместо ответа я схватил ее за руку и побежал вниз по склону, вслед за сестрой, которая делала такие большие прыжки, что походила издали на какую-то странную птицу. Сюйяки не могла поспеть за мной. Я взял ее на руки — она была такая маленькая и легкая. Бежали мы к роще у подножия холма и были уже недалеко от нее, когда я услышал топот бизонов, и по склону покатились камни и обломки скал. Несколько камней пролетело над нашими головами, но я не останавливался и не оглядывался. Еще несколько шагов — и мы спрячемся за толстыми стволами виргинских тополей. Питаки уже вбежала в лесок и, выглядывая из-за дерева, кричала мне:
— Скорее! Скорее!
Вдруг большой камень ударил меня в плечо, я пошатнулся и упал ничком.
Позднее женщины мне сказали, что я долго лежал словно мертвый. Когда я открыл глаза, подле меня сидела Питаки, держа в руках ружье со взведенным курком. Я почувствовал острую боль в руке. Из-за деревьев вышла Сюйяки и радостно вскрикнула, увидев, что я открыл глаза. Она подбежала ко мне и стала обнимать, а я завопил от боли.
— Моя рука! — закричал я. — Должно быть, у меня сломана рука.
Действительно, рука была сломана. Сюйяки сказала, что мы вернемся в вигвам и там она сделает мне перевязку, а я стал расспрашивать о неприятельском отряде.
— Их здесь не было, — сказала она. — Спустившись с холма, они повернули и поскакали вдоль реки Береза. Нас они видели и, должно быть, решили, что здесь, в роще, находится большой лагерь. А бизоны перешли реку и покинули эту долину.
Мы вернулись в вигвам, и, когда мне сделали перевязку, я лег — у меня кружилась голова. Сюйяки села на опушке леса и стала караулить, не покажется ли кто-нибудь из нашего племени. Несомненно, наши воины преследовали врагов.
Под вечер вдали показались всадники. Сюйяки начала размахивать одеялом, и они подъехали к нам. Их было сорок человек. Найдя следы военного отряда ассинибойнов, они ехали быстро, и лошади их устали. Узнав, что враги их Далеко опередили, они решили отказаться от погони.
— Мы вернемся домой, — сказали они, — и приготовимся к набегу на ассинибойнов.
Я спросил, не помогут ли они нам вернуться в лагерь, и воины предложили перевезти на своих лошадях вигвам и все наши пожитки. Двое отправились на охоту, убили бизона и принесли мяса, а вечером все расположились возле нашего вигвама. Я лежал у костра, слушал их разговоры о будущем походе против ассинибойнов и смотрел танец племени Носящие Пробор. Конечно, мне пришлось рассказать о своей неудачной попытке. Кое-кто засмеялся и сказал, что теперь я должен отказаться от своего замысла.
— Недаром ты сломал себе руку. Это дурной знак — предостережение. Ты никогда не будешь зазывателем бизонов!
— Смейтесь, если хотите, — ответил я, — но я знаю, что рано или поздно все вы будете есть мясо бизонов, которых я заманю в ловушку.
Ранним утром мы тронулись в путь. Воины, отдавшие нам своих лошадей, ехали по двое на одной лошади. Меня везли на травуа Сюйяки, и, когда мы въезжали в лагерь, боль была еще сильнее. Друзья Сюйяки помогли ей поставить вигвам, Питаки со своими подругами принесла хворосту и воды, разложила костер и сделала постели. Мои друзья заходили в вигвам, справлялись о моем здоровье, утешали меня. А я не знал, что у меня столько друзей-молодых и старых! Стоит быть больным хотя бы для того, чтобы об этом узнать.
Поздно вечером пришел самый близкий мой друг — Не Бегун. Он только что был на совещании в вигваме Одинокого Ходока, и Маленькая Выдра обещал заманить еще одно стадо в пропасть. Я рассказал Не Бегуну о том, что произошло после того, как мы с ним расстались у реки Береза: рассказал, как пытался я дважды заманить бизонов и обе попытки ни к чему не привели. Я не понимаю, в чем моя ошибка. Не Бегун нашел, что действовал я правильно; по его словам, мне остается узнать одно: какой призывный крик нужно издать, чтобы бизоны направились ко мне. Долго строили мы догадки, но так и не нашли ответа.
Перед уходом мой друг сказал мне:
— Знаешь, что мы сделаем? Как только твоя рука заживет и ты сможешь ходить, мы вдвоем пойдем к Маленькой Выдре и попросим его сказать нам, почему бизоны бегут к нему.
— Да, я пойду с тобой, хотя бы мне пришлось на четвереньках ползти до его вигвама, — ответил я.
Когда Не Бегун ушел, я долго не мог заснуть и размышлял о том, откроет ли нам Маленькая Выдра свою тайну.
На следующее утро военный отряд покинул лагерь. Воины шли на ассинибойнов, чтобы отнять лошадей, которых те угнали, и заставить врагов заплатить скальпами за набег. Мы с Не Бегуном от этого набега не пострадали. Военный отряд вступил в бой с ассинибойнами неподалеку от их лагеря. Трое наших воинов были убиты, остальные отомстили врагам за набег, захватили семь скальпов и вместо пятидесяти лошадей, отнятых у нас, увели сотню. Я упоминаю об этом сражении потому, что в бою пал Древний Барсук, начальник отряда и добрый мой друг. Он был убит, когда пытался спасти одного из раненых.
Вечером этого дня Не Бегун послал свою жену к Маленькой Выдре узнать, можно ли нам прийти к нему. Он ответил, что будет рад нас видеть, и мы тотчас же направились к его вигваму. Его жена приготовила для нас угощение, и я рассказал о неудачных своих попытках заманить стадо. Он слушал внимательно и часто покачивал головой, словно хотел сказать: «Плохо, плохо. Не так нужно было делать». Но ни разу он меня не перебил. Когда я закончил рассказ, Не Бегун обратился к нему с такими словами:
— Маленькая Выдра, Дарующий Изобилие, мы взываем к тебе о помощи! Расскажи моему юному другу, «почти сыну», как заманиваешь ты бизонов. Слушай, Дарующий Изобилие! Наш зазыватель умер; он ушел в страну Песчаных Холмов и никому не открыл своей тайны. В племени кайна ты — единственный зазыватель. У наших братьев, северных черноногих, нет ни одного зазывателя. На все три племени остался ты один. Не мы, охотники, а ты, Маленькая Выдра, снабжаешь вдов и сирот мясом. Подумай, вдруг случится с тобой какое-нибудь несчастье! Великое несчастье постигнет нас, если мы останемся без зазывателя. Я думаю, что в каждом племени должно быть не меньше двух или трех зазывателей. Да, два-три на каждое племя! И я прошу тебя открыть тайну моему «почти сыну». Вождь, мы принесем тебе богатые дары, если ты сделаешь это для нас!
Долго не отвечал нам старик. Он смотрел на языки пламени и вертел в руках трубку. Я готов был крикнуть ему: «Говори же! Говори! Дай нам какой-нибудь ответ!» Наконец он поднял голову и сказал:
— Есть доля истины в твоих словах. Нам нужен еще один зазыватель… Да, один-два зазывателя на каждое племя. Во дни моей молодости зазывателей было много. Почему? Должно быть, потому, что тогда люди больше думали о священных делах, чем о войнах и набегах. Они были ближе к богам. И те давали им могущество зазывать бизонов и делать много других удивительных вещей. Теперь о твоем «почти сыне». Я не смею говорить о том, что видел во сне, что открыли мне священные тени. Но вот что могу я сделать: у Апока есть глаза, есть уши. В следующий раз, когда я буду зазывать стадо, он пойдет со мной, увидит и услышит, что я делаю. Но пусть обещает мне хранить тайну.
— О, клянусь тебе! — воскликнул я.
— Мы щедро вознаградим тебя за эту услугу, — сказал Не Бегун.
Старик выбил золу из трубки, а мы, поблагодарив его, вышли из вигвама. Я был так счастлив, что перестал даже ощущать боль в руке.
Жадно прислушивался я к ежедневным докладам караульных, которые приносили вести о пасущихся стадах. Каждый день видели они стада на севере, западе и востоке, но ни один бизон не приближался к каменным грядам. Прошло много дней. Знахари достали священные трубки и молили богов направить стадо к ловушке. Не только они — все племя молилось и приносило жертвы. Думаю, что мы трое — Питаки, Сюйяки и я — молились больше, чем все остальные. Самые ценные наши вещи принесли мы в жертву богам.
Как-то утром караульные донесли, что с севера приближается стадо. К вечеру волнение охватило весь лагерь: в стаде был один крупный белый бизон. В ту ночь никто не спал. Белый бизон — священное животное, и его шкуру мы хотели принести в жертву Солнцу. И в нашем вигваме долго никто не сомкнул глаз. Мы пели священные песни, а сестра шептала мне:
— Брат! Завтра, завтра ты узнаешь, как зазывают бизонов!
После полуночи женщины заставили меня прилечь, говоря, что я должен выспаться и набраться сил. Я задремал, но проснулся задолго до рассвета. Сюйяки дала мне поесть. С нетерпением ждал я, когда прикажут нам идти к каменным грядам.
Глава V
Конечно, могло случиться так, что стадо займет одно из дальних пастбищ, откуда нельзя будет его заманить. Эта мысль всю ночь не давала мне покоя, а когда рассвело, я не мог усидеть на месте. Я накинул на спину шкуру шерстью вверх и попросил Питаки привязать ее к поясу, так как я все еще не владел левой рукой. Потом я вышел из вигвама, сел у входа и стал ждать. В лагере никто не спал, во всех вигвамах горел огонь в очаге, слышался гул голосов, словно жужжание пчел в улье. Мужчины, женщины и дети-все ждали, когда их позовут к ловушке.
Вдруг увидел я, как один из караульных спустился по крутой тропе и побежал к вигваму Маленькой Выдры. Вскоре он вышел в сопровождении старика, и вдвоем они направились к утесам. Я испугался, не забыл ли обо мне зазыватель, и хотел было броситься за ним, как вдруг увидел его старую жену, которая быстро шла к нашему вигваму. Подойдя ко мне, она сказала:
— Юноша, меня послал к тебе мой муж. Сегодня ты не пойдешь с ним, потому что в стаде находится священное животное, и мы должны завладеть его шкурой. Мой муж боится, как бы ты не испугал бизонов. Если ты пойдешь с ним, они могут свернуть в сторону, и белый бизон уйдет от нас.
Она повернулась и побежала к вигваму Одинокого Ходока, где вождь и старшины ждали вестей от зазывателя. Я ничего ей не ответил. Я был так огорчен и раздосадован, что не мог выговорить ни слова. Ко мне подбежали сестра и Сюйяки.
— Брат, мы все слышали! — воскликнула сестра. — О, как нам жаль тебя!
— Ничего! Не отчаивайся! — сказала мне Сюйяки. — В следующий раз Маленькая Выдра позволит тебе идти с ним. А сегодня ты пойдешь с нами, спрячешься за грудой камней и будешь следить за ним. Быть может, ты узнаешь что-нибудь новое.
Как раз в эту минуту раздался голос глашатая, призывавшего нас занимать места за каменными грядами. Я вскочил, и втроем мы побежали к утесам. «Сюйяки права, — подумал я. — Если я спрячусь за последней грудой камней и буду следить за Маленькой Выдрой, быть может, мне посчастливится узнать его тайну».
У подножия утесов к нам присоединился белый юноша, Встающий Волк. Увидев меня, он очень удивился.
— Я думал, что сегодня ты пойдешь с Маленькой Выдрой, — сказал он.
— Я остался, потому что в стаде находится священный бизон, — ответил я. — Маленькая Выдра боится, как бы я не помешал ему заманить стадо в ловушку.
Вдруг я заметил, что Встающий Волк держит в руке инструмент, который далекое делает близким.
— Пойдем вместе к дальнему концу каменной гряды, — сказал я. — У тебя есть волшебный глаз; позволь мне посмотреть.
Он согласился, и мы поднялись на плоскогорье, откуда увидели большое стадо бизонов, которое паслось по ту сторону ущелья. Пощипывая траву, животные медленно двигались на север; по-видимому, они побывали на водопое незадолго до рассвета. К западу от каменных гряд я увидел второе стадо; оно было значительно больше первого и шло прямо к ущелью.
— Маленькая Выдра приказывает вам занимать места за камнями, — говорили караульные загонщикам, поднимавшимся по тропе.
Зазыватель сидел в стороне, на склоне плоскогорья, и не спускал глаз со стада; на нас он не обращал внимания. Я знал, что он сейчас молится «тайному помощнику», прося заманить в ловушку стадо, в котором находится священный белый бизон.
Бизоны по природе своей не похожи на антилоп, оленей и других животных, имеющих рога. Они не боятся никого, кроме человека. Когда стая волков, окружив одинокого старого бизона, загрызает его, он, кажется мне, недоумевает, как могли такие маленькие животные одержать над ним верх. Ведь сотни раз приближались они к нему, смотрели, как он щиплет траву, и бизону казалось, что они не способны причинить ему зло. Бизон видит не очень хорошо. Если охотник приближается медленно, бизон замечает его, когда тот подходит чуть ли не вплотную. Но слух у него хороший; он слышит малейший шорох и издали чует запах человека.
В то утро загонщики, занимая места за каменными грядами, ясно видели оба стада. Мы вчетвером дошли до конца восточной гряды и спрятались за последней грудой камней. Встающий Волк достал из футляра свой инструмент, раздвинул его и посмотрел на стадо.
— Я вижу белого бизона! Он пасется в центре стада. Это большая самка, — сказал Встающий Волк, протягивая мне трубу.
Так как левой рукой я не владел, то широкий конец трубы я прислонил к камням, потом заглянул в маленькое стекло. Мне ни разу еще не приходилось смотреть в волшебный глаз. Я ничего не увидел и сказал об этом Встающему Волку.
— Конечно, ты ничего не видишь, — засмеялся он. — Ведь труба направлена к небу, а ее нужно повернуть к стаду. Держи ее так, как ты держал бы ружье, и тогда смотри.
Я последовал его совету и — о чудо! — увидел белую самку и других бизонов. Находились они так близко, что, казалось, я мог коснуться их рукой.
— О, каким чудесным талисманом владеют белые люди! — воскликнул я. — Я знаю, что белый бизон находится далеко отсюда, и, однако, вижу его глаза.
Тогда и Питаки захотела посмотреть в волшебную трубу и, убедившись в ее чудесной силе, пришла в восторг. Но старая Сюйяки наотрез отказалась смотреть в трубу.
— Быть может, я глупа, — сказала она, — но волшебный глаз белых людей приводит меня в ужас: я боюсь ослепнуть.
Когда я снова взял инструмент, мимо нас прошел Маленькая Выдра. Он спустился в ложбину, пересек ее и стал подниматься по склону. Как я уже говорил, за ложбиной тянулись невысокие холмы. Зазыватель их обходил, не желая показываться стаду. Я навел на него трубу и следил за каждым его движением. На этот раз он отошел от нас дальше, чем тогда, когда я впервые за ним следил. Наконец он поднялся на вершину одного из холмов, хотя мне казалось, что бизоны находятся еще слишком далеко, чтобы можно было их позвать. Здесь он остановился, развернул шкуру бизона и стал размахивать ею на виду у всего стада. Потом я видел, как он быстро спустился с холма и три или четыре раза позвал бизонов. Голоса его я не слышал, но сразу догадался, что он их зовет; его грудь опускалась и поднималась, он то наклонялся вперед, то выпрямлялся. О, как напрягал я слух, тщетно пытаясь расслышать зов!
Снова поднялся он на холм и стал размахивать шкурой, потом еще раз позвал стадо. Следя за ним, я забыл о бизонах, которых он зазывал. Я направил на них трубу и увидел, что животные перестали щипать траву и повернулись в его сторону, а некоторые медленно к нему двинулись. Я посмотрел на зазывателя: снова размахивал он шкурой. И тогда все бизоны побежали к ложбине, а Маленькая Выдра помчался по равнине. Удивительно, как мог этот старик бежать так быстро! Завернувшись в шкуру и сгорбившись, он летел как стрела, перепрыгивая через камни. Стадо быстро его нагоняло. Когда он добежал до каменных гряд, бизоны уже спускались в ложбину. «Сейчас он свернет направо и спрячется за камнями», — подумал я.
Вдруг Встающий Волк — мы лежали бок о бок — толкнул меня локтем и указал на запад: оттуда мчалось второе стадо бизонов. Наше стадо, следуя за Маленькой Выдрой, спугнуло его, и сейчас оно лавиной катилось к каменным грядам, чтобы слиться с первым стадом и вместе с ним бежать от неведомой опасности. Не думаю, чтобы Маленькая Выдра, который убегал от настигавших его бизонов, видел это второе стадо. Не видели его и загонщики, лежавшие вдоль западной гряды камней, так как они не спускали глаз с первого стада, которое только что пересекло ложбину. Когда вожаки его миновали нас, я мельком увидел белого бизона — самку, ее голову и горб.
В эту минуту Маленькая Выдра свернул на запад и спрятался за грудой камней. Вожаки потеряли его из виду, но продолжали мчаться вперед, так как на них напирали животные, бежавшие сзади. И вдруг заметили они второе стадо, приближавшееся с запада, и повернули ему навстречу
Катастрофа произошла быстрее, чем можно о ней рассказать. Когда вожаки повернули на запад, загонщики, лежавшие вдоль западной гряды, вскочили, стали размахивать плащами и кричать, но было уже поздно. Все стадо уже повернуло вслед за вожаками, которые при виде загонщиков бросились было в сторону, но затем должны были уступить натиску животных, напиравших сзади. Пришлось им бежать навстречу врагу-человеку, и они не отступили перед опасностью. Храпя, мотая головой с острыми рогами, бизоны бросились прямо на цепь загонщиков. А тем ничего не оставалось делать, как обратиться в бегство. Из преследователей они превратились в преследуемых. Они рассыпались и побежали по равнине. Многие спаслись, но многие и погибли под копытами бизонов.
Каково было нам, прятавшимся за восточной грядой камней!
Пыль слепила нам глаза, мы не видели гибели наших близких, но знали, что многие обречены на смерть. И хуже всего было то, что мы не могли им помочь. Мы не смели шелохнуться, опасаясь, как бы стадо не рассыпалось по всему плоскогорью. Загонщики, прятавшиеся за камнями у края пропасти, вскочили и побежали за стадом. Они кричали, размахивали плащами, но, конечно, никого не могли спасти.
Бизоны перевалили через западную гряду, слились с другим стадом и галопом умчались прочь, а мы со Встающим Волком бросились к товарищам. Навстречу нам бежали загонщики, и мы услышали крик:
— Маленькая Выдра! Он погиб!
Называли и другие имена, но я их не расслышал. Думал я только о Маленькой Выдре, последнем зазывателе в наших трех племенах, который погиб под копытами бизонов и ушел в страну Песчаных Холмов. Я отыскал его. Он лежал плашмя на траве и, казалось, спал. Лицо его было спокойно. На желтой кожаной рубахе я увидел отпечаток огромного пыльного копыта, которое его убило.
Долго стоял я и оплакивал его. Он так и не научил меня зазывать бизонов, но сейчас я плакал потому, что любил и уважал его, доброго и кроткого, дарующего людям изобилие.
Пришла его жена; она рыдала и выкрикивала его имя. Тело его понесли в лагерь, чтобы похоронить. Вместе с сестрой и Сюйяки я побрел домой. В ту ночь и в течение многих дней оплакивали умерших. Семь человек были убиты, пятеро искалечены.
Вечером Не Бегун и я пошли в вигвам Одинокого Ходока, где собрались старшины и воины. Долго сидели мы в молчании, а трубка ходила по кругу. Каждый из нас думал о смерти Маленькой Выдры и семерых загонщиков.
Наконец Одинокий Ходок сказал:
— Он не должен был зазывать бизонов, когда поблизости паслось другое стадо. Он знал, чем это грозит.
— Что сделано, то сделано, — отозвался кто-то. — А теперь наши три племени лишились последнего зазывателя.
— Почему нет у нас зазывателей? — спросил старик Орлиное Перо. — Когда я был молод, каждое племя имело их несколько.
— Я тебе отвечу. Потому что теперь все одержимы желанием иметь лошадей, — сказал один старый знахарь. — Наши воины, молодые и старые, думают только о том, чтобы пойти на войну и угнать лошадей. Больше ничего не хотят они делать. Конечно, лошади нам нужны, но не могу я понять, зачем иметь человеку целый табун?
Его прервал молодой воин по имени Четыре Рога.
— Теперь не то, что было раньше! — воскликнул он. — Голодать мы не будем, хотя нет у нас зазывателя. Охотиться на бизонов я могу верхом и буду перевозить мясо на лошадях.
— Да, но не все могут это делать, — возразил Одинокий Ходок. — И вряд ли согласишься ты охотиться ежедневно, чтобы снабжать мясом вдов и сирот.
Помолчав, он добавил:
— Знайте все: тому, кто первым заманит в ловушку стадо бизонов, я дам десять лошадей.
Остальные подхватили, что они тоже подарят лошадей всякому, кто научится зазывать бизонов, кто заманит стадо в пропасть. Услышав это, я воскликнул:
— Своих лошадей вы отдадите мне! Я буду зазывателем…
Я запнулся, смущенный своей оплошностью: юноши не смеют говорить на собрании старшин; они должны молчать и слушать. Но напрасно я испугался: к великому моему изумлению, все присутствующие одобрили мое решение, а Не Бегун сказал:
— Да, к нему перейдут ваши лошади. Я знаю, что он будет зазывателем.
Когда снова заговорили об ужасном событии и гибели Маленькой Выдры, Четыре Рога заметил:
— Если бы можно было зазывать бизонов, сидя верхом на лошади, никакая опасность не угрожала бы зазывателю.
Мне запомнились эти слова. Придя домой, я повторил их Сюйяки, но она сказала, что вряд ли это возможно. Однако я с ней не согласился.
Когда покинул нас последний зазыватель, всем нам тяжело было оставаться около ловушки. Через некоторое время мы должны были двинуться на север к торговцам Красные Куртки, чтобы обменять бобров и другие меха на порох, пули и различные товары. Но теперь мы решили не откладывать этого путешествия и снялись с лагеря, как только выздоровели люди, искалеченные бизонами. У меня не было никаких ценных мехов: сначала я участвовал в набегах на враждебные племена и учился зазывать бизонов, а затем сломанная рука лишила меня возможности ставить капканы. Между тем мы нуждались во многих вещах; порох, пули, одеяла, ножи можно было получить только в обмен на меха, а я все еще не владел левой рукой.
— Ничего! — сказала мне сестра, когда я поделился с ней своими заботами. — Я пойду с тобой, и ты меня научишь ставить капканы.
Так мы и сделали. Наше племя медленно двигалось на север, часто делая привалы на берегу рек и ручьев; сестра, следуя моим указаниям, ставила капканы и смело входила по пояс в воду. Затем с помощью старой Сюйяки она сдирала шкуры с пойманных зверьков и привязывала их для просушки к ивовым обручам.
Когда мы прибыли в форт Красных Курток, у нас было сорок шкур бобров, две — выдр и несколько — норок. Я купил себе пороху, пуль, одеяло и нож, отдав за это десять шкур. Остальные шкуры моя сестра и Сюйяки обменяли на вещи, которые дороги всем женщинам: они купили иголок, ниток, бус, красной и синей материи для платьев и блестящий медный котелок. Пули я отнес ко Встающему Волку, а он их расплавил и сделал новые, подходящие к моему ружью. Вышло девяносто пять пуль, и Встающий Волк дал мне еще пять для ровного счета. Теперь я считал себя богатеем.
В форте Красных Курток мы пробыли неделю и вскоре двинулись назад, на юг. На Марайас настигла нас зима. Здесь мы провели самые холодные месяцы, затем переправились на другой берег Миссури, дошли до реки Джудит и жили здесь, пока не зазеленела трава.
Зимой я не мог привести в исполнение свою заветную мечту.
Поэтому я ставил капканы и охотился, а по вечерам сидел со старшинами и воинами, прислушиваясь к их беседе. Много времени проводил я дома с сестрой и нашей «почти матерью». Почему-то не хотелось мне навещать друзей, принимать участие в играх и плясках. Желание стать зазывателем бизонов никогда меня не покидало; я только об этом и думал, приносил жертвы, молился, надеясь увидеть вещий сон, но надежда моя не оправдалась.
Когда зазеленела трава, вождь и старшины стали поговаривать о том, чтобы сняться с лагеря и отправиться в форт Красных Курток. В следующем месяце туда должны были прийти северные черноногие, кайна, а также племя большебрюхих7, чтобы посоветоваться с нашим племенем относительно планов на лето.
Вечером, когда глашатай возвестил, что на следующее утро мы снимаемся с лагеря, я принял решение.
— Питаки, Сюйяки, слушайте! — сказал я, когда мы собрались у костра. — Завтра мы расстанемся. Вы с племенем пойдете на север и продадите Красным Курткам меха, а я буду бродить один, пока не научусь зазывать бизонов.
— Нет, брат, один ты бродить не будешь! — воскликнула моя сестра. — Мы пойдем с тобой.
— Да, твоя тропа — наша тропа! — подхватила старая Сюйяки.
— Нет! — возразил я. — Настала весна, а весной и летом военные отряды наших врагов рыскают по равнинам. Я один не попадусь им на глаза; если же вы пойдете со мной, придется брать лошадей и вигвам, а тогда нам не избежать встречи с врагами, и они убьют нас.
— Слушай, сын мой, вот как мы сделаем, — настаивала Сюйяки. — Вигвам, все наше имущество и лошадей мы оставим на попечение Не Бегуна и его жены, а сами пойдем с тобой. Втроем мы спрячемся от неприятеля не хуже, чем ты один. Мы будем тебе помогать, будем караулить, стряпать, шить мокасины, строить маленькие шалаши; без шалаша тебе не обойтись, когда начнутся дожди, а мокасины быстро изнашиваются в дороге.
— О, как весело будет странствовать втроем! — закричала Питаки. — Скажи — да, брат! Скажи — да!
— Дайте мне время подумать, — ответил я. — Мне хотелось бы посоветоваться с Не Бегуном.
Я встал и направился к вигваму Не Бегуна, а они последовали за мной.
Не Бегун одобрил план Сюйяки.
— Да, пусть они идут с тобой, — сказал он. — Женщины часто ходят с нами на войну, почему же они не могут участвовать в этом священном деле? Но вот мой совет: не покидай племени, пока мы не пересечем реки Миссури, а тогда ступай к реке Титон или Солнечной реке, что у подножия гор, — там военных отрядов меньше, чем в этих краях.
Возник вопрос, где и когда встретимся мы с нашим племенем. Не Бегун сказал, что с этим вопросом он обратится к вождю и старшинам; пусть они решат, когда и каким путем двинется племя на юг из форта Красных Курток. В тот же вечер он отправился к ним, а они сказали, что подумают об этом и примут решение, когда мы дойдем до Миссури.
Спустя несколько дней мы подошли к Миссури и немного выше водопада переправились на противоположный берег. Несколько лет тому назад наше племя нашло здесь странную новую тропу, которая тянулась по берегу от подножия водопада вверх по течению реки и выше порогов обрывалась там, где впадает в Миссури Солнечная река. Кое-где валялись круглые бревна. Мы знали, что эту тропу проложили белые, но не могли понять, для какой цели. Только теперь Встающий Волк рассказал нам то, что он узнал от представителей своей торговой компании Красных Курток. Оказывается, отряд Длинных Ножей отправился исследовать страну. По Миссури они поднимались на лодках, а затем перевалили через горный хребет и подошли к одному из фортов Красных Курток, расположенному на западном берегу Великих Соленых Вод. После вернулись они в свою страну. Доплыв до порогов на реке Миссури, они вытащили лодки на берег и волокли их по проложенной тропе.
По словам Встающего Волка, Красные Куртки были очень недовольны появлением Длинных Ножей в этой богатой стране. Они боялись, что те, узнав, сколько водится здесь бобров и других пушных зверей, вернутся сюда, построят форты и будут торговать с нами, жителями прерий. Наши вожди ответили на это, что было бы хорошо, если бы Длинные Ножи поскорее сюда вернулись. Пусть построят они форты на юге нашей страны, и тогда мы будем покупать у них ружья и другие товары.
О, какими мы были глупцами! Почему не догадались мы, почему не предупредили нас наши знахари о том, что появление этих первых белых людей, Длинных Ножей и Красных Курток, означает начало конца и повлечет за собой истребление всей нашей дичи, да и нас самих!
Когда мы раскинули лагерь на берегу Солнечной реки, нам приблизилось шесть человек. Мы приняли их за военный отряд северных черноногих, или кайна, но это были вестники, посланные к нам вождями племени плоскоголовых. Это племя просило у нас разрешения посетить нашу страну, поохотиться и обменять сушеный камас и горькие коренья на выделанную кожу бизонов.
В тот же вечер старшины собрались на совет и без споров согласились исполнить просьбу плоскоголовых. Решено было, что плоскоголовые принесут для обмена много кореньев и через пятьдесят дней встретятся с пикуни здесь, у устья Солнечной реки.
Таким образом, я знал теперь, когда и где найду я свое племя. Не имело никакого смысла поручать наше имущество и вигвам Не Бегуну и его жене, чтобы они отвезли наши пожитки на север, а затем сюда, к Солнечной реке. Мы отдали им только меха и лошадей, а вигвам и все остальное спрятали в густом кустарнике у реки. С собой мы взяли лишь самые необходимые вещи: теплые шкуры, кожу для мокасин, шило, иголки, нитки, кремень, порох, пули, мое ружье, лук и стрелы, а также блестящий медный котелок. Сюйяки заявила, что она боится оставлять его в кустах и ни за что с ним не расстанется. Когда наше племя двинулось по тропе, ведущей на север, мы тоже тронулись в путь. Кое-кто сказал нам на прощание:
— Опасное дело вы затеваете. Вы идете навстречу смерти.
Но последние слова Не Бегуна вдохнули в меня мужество.
— Смелее, — сказал он. — Я знаю, ты исполнишь то, что задумал.
День был теплый. Мы шли медленно и часто отдыхали в тени высоких тополей, окаймлявших реку. Вечером мы развели костер в кустах, поели и расположились на ночлег. Ночь прошла спокойно, а на рассвете мы проснулись и продолжали путь. Долина Солнечной реки, стекающей с гор и впадающей в Миссури, — одна из самых красивых долин в нашей стране Она покрыта травой, привлекающей бизонов и антилоп, а в рощах также водится крупная дичь. Мы шли вдоль северного берега, придерживаясь опушки рощ, заглядывали в ущелья, осматривали склоны холмов. Дичи было много. На холмах паслись стада антилоп и бизонов, в рощах мы спугивали оленей и лосей. Мне это не нравилось; я боялся, что спугнутые нами стада привлекут внимание бродячих военных отрядов.
Часто мы выходили на опушку леса и зорко осматривали долину и холмы. Убедившись, что неприятель не напал на наш след и дичь мирно пасется на лугах, мы, успокоенные, шли дальше.
Мы доели последний кусок мяса, и я должен был пополнить запасы. Когда солнце склонилось к западу, я стрелой убил оленя. Мы разрезали тушу, но, чтобы не обременять себя тяжелой ношей, взяли только язык и ребра. В роще мы развели костер и поужинали. Пока женщины чинили мокасины, я вышел на опушку, чтобы в последний раз окинуть взглядом долину. Долго стоял я, озираясь по сторонам, и уже собирался идти назад, как вдруг увидел стадо лосей, выбежавших из леса неподалеку от того места, где я убил оленя. Они спустились в долину, потом скрылись в ущелье, и в эту минуту я заметил какую-то тень, скользнувшую в высокой траве. Уже смеркалось, я видел плохо, но мне показалось, что темная тень похожа на человека.
Глава VI
Бегом вернулся я к костру.
— Сестра! Сюйяки! Бежим отсюда! — сказал я. — У опушки леса я видел какую-то тень. Мне кажется, это был человек.
Они не задали мне ни одного вопроса, вскочили и молча спрятали иголки, шила и нитки в маленькие мешочки. Потом мы распределили между собой поклажу, я взял оружие и мясо, и втроем мы вышли из рощи; дальше тянулся луг, а за ним начиналась вторая роща. Очень не хотелось мне пересекать открытое место, и я задумчиво посмотрел на противоположный берег реки, где густо разрослись деревья.
— Мелко здесь или глубоко — все равно мы должны переправиться через реку, — сказал я.
Вода едва доходила нам до колен. Мы благополучно выбрались на берег и вошли в лес. Здесь пришлось мне подождать, пока сестра и Сюйяки надевали мокасины, которые они не успели починить.
— Расскажи нам, что ты там видел? — спросила Сюйяки.
— Из рощи, где я убил оленя, выбежали лоси, а у опушки мелькнула какая-то тень. Она походила на человека. Потом она скрылась за деревьями.
— Быть может, это был медведь, — предположила Сюйяки.
— Да, это мог быть и медведь.
— Кто бы это ни был, но мы далеко отсюда не уйдем, — продолжала она. — Я должна вернуться к костру: там остался наш котелок.
Действительно, второпях мы забыли о медном котелке, а без него женщины были как без рук. Подумав, я ответил:
— Если это был враг, направлялся он к верховьям реки. И конечно, он не один. Быть может, они напали на наш след. Во всяком случае мы постараемся не попадаться им на глаза. Здесь, на этом берегу реки, мы останемся до ночи следующего дня. К тому времени враги уйдут, а мы вернемся за котелком.
Так мы и сделали. День мы провели в кустах у самой реки, а вечером переправились на другой берег, крадучись вошли в рощу и подползли к тому месту, где накануне раскладывали костер.
— Мой желтый котелок пропал, — прошептала Сюйяки.
Но мне было не до котелка. Еще раньше чем она заговорила, я уже знал, что котелка мы не найдем. Ветер развеял золу костра, и я издали увидел тлеющие угли. Очевидно, кто-то был здесь совсем недавно. У костра лежали раздробленные кости оленя, сложенные в кучку, а подле них — маленькая палочка, ею вытаскивали из костей мозг.
— Здесь был только один человек, — сказал я.
— Откуда ты знаешь? — удивилась Питаки.
Указав на кучку костей, я объяснил:
— Один человек поджаривал эти кости и ел мозг. Если бы их было несколько, каждый получил бы свою долю, и тогда кости валялись бы вокруг костра.
— Не все ли равно, сколько народу здесь было? — чуть не плача, перебила меня старая Сюйяки. — Я знаю только, что они унесли мой блестящий котелок.
— Брат, я очень голодна, — вмешалась Питаки. — Нельзя ли поджарить мяса и поесть?
Я тоже об этом думал. Все мы очень проголодались, так как со вчерашнего дня ничего не ели. Быть может, человек, побывавший возле нашего костра, все еще находился неподалеку, но голод одержал верх над благоразумием.
— Разведите костер и зажарьте побольше мяса, — сказал я женщинам, — а пока вы занимаетесь стряпней, я буду караулить.
Я отошел от костра и спрятался за деревьями, держа в руках ружье со взведенным курком. Спустилась ночь; пламя освещало стволы деревьев и землю у костра, а дальше притаились черные тени, и в темноте я ничего не мог разглядеть. Мне было не по себе; я зорко всматривался в темноту, прислушивался, не затрещит ли сухая ветка, не раздастся ли шорох ног, обутых в мокасины. Я решил стрелять, как только мелькнет какая-нибудь тень, а затем броситься вперед и использовать ружье как дубинку.
Долго стоял я на страже. До меня донесся запах мяса, и я почувствовал острый голод. Я видел, как моя сестра переворачивает куски мяса, и знал, что ужин скоро будет готов. И вдруг я вздрогнул: из леса выскочил кролик, пересек освещенный круг у костра и исчез в темноте. Кто спугнул его? Или враг крадется к нашему костру?
Широко раскрытыми глазами впивался я во мрак и, полуоткрыв рот, напряженно прислушивался. Кто испугал кролика? Койот или лисица? Нет! Я бы услышал шорох в траве. «Человек, враг, прячется в темноте», — сказал я себе.
Но, как назло, в эту минуту Сюйяки окликнула меня:
— Сын мой, иди, мы приготовили тебе поесть!
Я не ответил. «Зачем она кричит так громко?»- с досадой подумал я.
Снова она меня окликнула, еще громче, чем в первый раз:
— Иди же к костру, сын мой!
Едва замер ее оклик, как из темноты донесся голос:
— О, мое родное племя! Не стреляйте! Я иду, иду!
И к костру подбежала маленькая старушка, закутанная в кожаную шаль, расшитую иглами дикобраза. В руке она держала котелок, наш медный котелок! Я бросился ей навстречу и, посмотрев внимательнее, убедился, что вижу ее впервые. Кто это — человек или призрак?… Или, быть может, наши враги хотят заманить нас в ловушку? Нет! Только люди нашего племени могут говорить на языке пикуни так, как говорила она!
Старуха бросила котелок на землю, опустилась на колени подле Сюйяки и, обняв ее, воскликнула:
— О, какое счастье после всех этих долгих зим быть снова с вами, людьми моего родного племени! О, говори! Скажи мне что-нибудь. Я хочу снова услышать родную речь.
Сначала Сюйяки отталкивала старуху, пыталась высвободиться из ее объятий, но вдруг сама ее обняла и закричала:
— Я тебя узнала, хотя ты и стала совсем старой! Я тебя узнала по этому шраму около рта: ты Асанаки. Много лет тому назад, когда мы заключили на одно лето мир с кроу, ты вышла замуж за одного из них.
— Да, да! Это я! А ты… ты… О, столько зим прошло, и мы обе состарились. Я не знаю, кто ты.
— Сюйяки.
— Ты — Сюйяки! Мы были подругами. Вместе играли. О, Сюйяки, пожалей меня! Я так несчастна! — воскликнула незнакомая старуха.
— Не горюй, — сказала ей наша «почти мать». — Сейчас мы поедим, а потом ты нам расскажешь, как это случилось. что спустя столько зим мы встретили тебя здесь.
Сестра протянула мне мясо, приходившееся на мою долю, но обе старухи были так взволнованы встречей, что забыли о голоде.
— Расскажи нам, расскажи, как очутилась ты здесь совсем одна, — попросила Сюйяки.
— Я чувствовала, что должна вернуться к людям моего племени и умереть среди них, — ответила старуха. — Мой муж был добрый человек, я его любила, умер он месяц тому назад. Был у меня один сын, сильный и смелый. Прошлым летом, купаясь со своими друзьями в реке Лось, он вдруг вскрикнул и пошел ко дну — «подводные люди» увлекли его в свои владения. Когда умер мой муж, я поняла, что не могу больше оставаться с кроу. Кто они мне? Я их ненавидела. О пикуни они всегда говорили дурно, называли их трусами, ничтожными людьми. Как-то проходила я мимо вигвама, где пировали и курили вожди, и один из них крикнул:
— Ха! Пикуни? Они — трусливые псы!
Услышав это, я так рассердилась, что отодвинула занавеску у входа, заглянула в вигвам и сказала:
— Если пикуни — трусы, почему не вернетесь вы в долину реки Миссури, откуда они вас выгнали? Ведь это ваша страна, не так ли? Она принадлежала вашим отцам. Ну так отнимите же ее у трусливых пикуни.
Я опустила занавеску и побрела дальше, а они в ответ не сказали мне ни слова и долго сидели молча. Я их пристыдила.
У моего мужа было много родственников. Когда он умер, они забрали всех его лошадей и все имущество, а мне оставили одну старую лошадь. Как-то ночью села я на эту лошадь и поехала на север отыскивать родное племя. Вскоре после того, как я переправилась через реку Лось, лошадь пропала; на ночь я ее привязала, а проснувшись на рассвете, увидела, что лошади нет. Должно быть, она оборвала веревку и вернулась к своему табуну. Я продолжала путь пешком, питалась сушеным мясом, а потом ловила белок и поджаривала их на костре.
— О, неужели тебе не страшно было скитаться одной? — спросила моя сестра.
— Не страшно, но очень тяжело. Я боялась умереть раньше, чем найду родное племя. И я бы умерла, если бы не посчастливилось мне встретиться с вами. Когда я переправлялась через Миссури, плохо связанные бревна моего плота разъехались, и их унесло по течению, а вместе с ними и мою поклажу — лук, кремень, нож и веревку, из которой я делала силки для белок. Я повисла на одном из бревен; меня едва не унесло к порогам, но в конце концов я добралась до берега.
— Давно это было? — спросил я.
— Четыре дня тому назад.
— А мы переправились через Миссури пять дней назад. Приди ты на день раньше — ты бы нашла все племя около устья Солнечной реки, — сказала ей Сюйяки.
— А где же остальные? Где они? Почему вы остались здесь?
— Племя идет на север торговать с белыми людьми; через сорок шесть дней оно вернется к устью этой реки, — ответил я и предложил ей продолжать рассказ.
— Я потеряла кремень и не могла разводить огонь. И не было у меня веревки для силков. Тогда я начала голодать. Я бродила по ущельям и отыскивала съедобные коренья. Однажды, когда я отдыхала, вблизи послышались голоса. Я пробралась через кустарник и увидела, как вы втроем сдираете шкуру с оленя. Я не могла расслышать, на каком языке вы говорите; я думала, что вы — враги, люди, пришедшие из-за гор. Когда вы ушли, я взяла острый камень и отрезала ногу оленя. Поев сырого мяса, я пошла по вашим следам: я хотела узнать, кто вы. Ногу оленя я взяла с собой. Я старуха и вижу плохо. Скоро я потеряла ваш след. Долго блуждала я по лесу, но не могла напасть на след…
— Когда ты вышла на просеку, я тебя увидел и принял за врага, — перебил я. — Мы от тебя бежали.
— Вот почему я никого не нашла у костра! — воскликнула она. — Я боялась подойти к нему и долго ждала. Наконец я подкралась ближе, когда угли еще тлели, и первое, что я увидела, был ваш блестящий желтый котелок. О, как я обрадовалась этой находке! У меня был огонь, я могла приготовить суп. Схватив котелок, я побежала к реке и наполнила его водой. Потом я раздула тлеющие угли и бросила в котелок кусок мяса. Пока варился суп, я поджарила кости и съела мозг. «Если враги должны прийти, пусть приходят, — думала я. — Но перед смертью я хочу поесть горячего супа».
Когда я утолила голод, благоразумие вернулось ко мне. «Еды мне хватит на много дней, — подумала я. — Стоит ли подвергать себя опасности и оставаться здесь, у костра? Я захвачу запас мяса и пойду дальше отыскивать родное племя».
Я прикрыла огонь землей и золой, чтобы угли не угасли, потом отошла в сторонку и легла спать. Рано утром я вернулась к туше оленя и острыми камнями срезала мясо с костей. Я повесила его сушиться на ветвях деревьев неподалеку отсюда, а немного спустя раздула огонь и снова поела супа я мяса. Перевернув сушившееся мясо, я заснула, а проснувшись, побрела к костру, чтобы на ночь прикрыть угли золой. Подойдя ближе, я увидела пламя костра и вас, сидящих вокруг. Я услышала твой голос, Сюйяки: ты окликнула своего сына. О, как я обрадовалась! Старая моя подруга, дети мои, как я рада, что встретила вас!
Храброй женщиной была эта старуха. Пешком, одна пришла она сюда от реки Лось, не страшась военных отрядов, медведей, быстрых рек. Она знала, что путника на каждом шагу подстерегает гибель, но опасность ее не пугала. Я не сомневался, что она отыскала бы родное племя, даже если бы и не встретилась в ту ночь с нами; в пути она питалась бы мясом убитого мною оленя. Должно быть, у нее был сильный «тайный помощник"и боги были с нею. «Не может ли она мне помочь?»- подумал я.
— Асанаки, — сказал я, — ты спросила, как очутились мы здесь одни. Я тебе отвечу: я хочу стать зазывателем бизонов. Быть может, ты придешь мне на помощь?
Долго думала она, раньше чем ответить.
— Вряд ли я могу тебе помочь, — сказала она наконец. — Мой муж был зазывателем, хорошим зазывателем. Много бизонов заманил он в ловушку у рек Горный Баран и Язык. Бывало, прячась за каменной грядой, я видела, как он размахивал шкурой бизона, потом поворачивался и бежал, а бизоны следовали за ним.
— И больше он ничего не делал? — спросил я. — Разве он их не звал? Должно быть, он издавал какой-то звук, и бизоны шли на его зов.
— Не знаю, не слыхала, — ответила она. — Он никогда об этом не говорил.
Я понял, что, подобно другим зазывателям, муж Асанаки хранил свою тайну.
— Когда кроу были изгнаны пикуни из этой страны, — продолжала Асанаки, — больше всего горевали они о потере ловушки бизонов, которая находится недалеко отсюда. Я часто слышала, как вспоминали о ней старики. По их словам, это была лучшая ловушка во всей стране, потому что от края пропасти тянутся невысокие холмы и пригорки.
— Я ни разу о ней не слыхал. Сюйяки, скажи, почему мы никогда не заманивали бизонов в эту ловушку? — спросил я.
— Неудивительно, что ты никогда о ней не слышал. Мы ее забросили задолго до твоего рождения, — ответила она. — Это недоброе место; там произошло несчастье. Через год после моего замужества мы пошли туда зазывать бизонов. В то время лучшим нашим зазывателем считался Белый Медведь. Был у нас еще один зазыватель, гораздо моложе и неопытнее, чем Белый Медведь; звали его Видит Черное.
Мы расположились лагерем неподалеку от ловушки, а через несколько дней дозорные принесли весть, что на равнине показались большие стада бизонов. Белый Медведь начал свой четырехдневный пост, а по окончании поста послал жену за вождем. Когда вождь вошел в его вигвам, зазыватель сказал ему:
— Мне приснился дурной сон. Здесь я не буду зазывать для вас бизонов.
— Что же ты видел? — спросил вождь.
— Меня посетили два сновидения, и оба предвещают беду. В первом сновидении мой «тайный помощник» сказал мне, что там, у края пропасти, подстерегает нас беда. Я проснулся, а когда снова заснул, увидел я людей, собравшихся у каменных гряд, а женщины оплакивали умершего. По равнине мчалось стадо бизонов, а в толпе стоял какой-то незнакомый человек и смеялся. Я посмотрел на него пристально и увидел, что это воин из племени кроу. Чем дольше я смотрел, тем громче он смеялся, и вдруг исчез, словно сквозь землю провалился. Вождь, это предостережение. Духи кроу витают около этой ловушки; они причинят нам зло. Здесь я не буду зазывать бизонов.
Вождь ни слова не сказал в ответ. Вернувшись в свой вигвам, он призвал старшин и объявил им, что Белый Медведь видел дурной сон и теперь отказывается зазывать бизонов. Когда узнал об этом Видит Черное, он пришел к вождю и попросил его послать загонщиков к каменным грядам.
— Белый Медведь боится, но я ничего не боюсь! Я заманю бизонов!
Когда дозорные возвестили, что большое стадо приближается к каменным грядам, Видит Черное стал подниматься на скалу, а загонщики заняли свои места. Видит Черное был неопытным зазывателем; он ушел далеко вперед навстречу стаду. Слишком близко подошел он к нему. Когда он повернулся и побежал к ловушке, одна большая самка нагнала его и сбила с ног, и он погиб под острыми копытами бизонов… Тогда наше племя покинуло ловушку и больше никогда к ней не возвращалось.
— Завтра я увижу эту ловушку, — сказал я, а обе старухи посмотрели на меня так, словно я сошел с ума.
Долго упрашивали они меня не приближаться к ловушке, но я отмалчивался, а потом мы улеглись спать. В ту ночь одна только Питаки спала спокойно; обе старухи беседовали до рассвета, вспоминая давно прошедшие дни, а я не мог заснуть, потому что меня преследовала мысль о ловушке бизонов, находившейся неподалеку. «О, если бы удалось мне стать зазывателем! — мечтал я. — Когда плоскоголовые и пикуни встретятся у Солнечной реки, я заманю для них большое стадо».
Каждый прошедший день я отмечал чертой на шомполе ружья; когда меня стало клонить в сон, я сделал новую насечку.
На восходе солнца мы поели, и я обратился к старухам:
— Мои «почти матери», посоветуемся, что нам делать. Что делать мне? Как научусь я зазывать бизонов?
— Молись, постись, думай о своих сновидениях, — быстро ответила Сюйяки.
— Присматривайся к бизонам, следи за ними, постарайся представить себе, будто ты сам бизон, — сказала мне Асанаки.
— Брат, следуй обоим советам, — сказала сестра, — а мы втроем будем караулить. Но сначала ты должен добыть нам мяса.
— Опасно оставаться в этой долине, — вмешалась Сюйяки. — Это обычная тропа для военных отрядов племен прерий, идущих в набеги на племена за горами.
Она говорила правду, и я решил покинуть долину. Но сначала хотелось мне увидеть ловушку призраков — ту, которую кроу считали лучшей в стране.
— Мы поднимемся на скалы у края пропасти и проведем там одну ночь, а на следующий день уйдем из этой долины, — сказал я.
Мы тронулись в путь, но обе старухи следовали за мной очень неохотно.
Задолго до полудня мы подошли к ловушке. Здесь долина внезапно суживалась, и на обоих берегах реки вставали Утесы, не столь высокие, как у реки Два Талисмана, но еще более отвесные. Дальше долина снова расширялась.
Ловушка находилась на северном берегу, у подножия Утесов; такой большой ловушки я никогда не видывал. Много зим прошло, с тех пор, как в последний раз пользовалось ею наше племя, но толстые бревна ограды еще не сгнили. Я подумал, что здесь поместится десять сотен живых бизонов, не говоря уже о тех сотнях, которые упадут мертвые на дно пропасти. Я перелез через ограду и прошелся у подножия скалы. Ступал я не по земле и камням, а по настилу из костей, рогов и копыт. Не знаю, какой толщины был этот настил. Кости сгнили и трещали у меня под ногами, но рога и копыта были еще твердые и только слегка потемнели…
Женщины, стоя у ограды, смотрели на меня. Я вернулся к ним и сказал, что хочу подняться на вершину, а они пусть идут в рощу на берегу реки и там ждут меня. Много лет назад охотники проложили тропу, ведущую со дна пропасти вверх, на скалу, которая с другой стороны спускалась отлого и дальше сливалась с равниной. Я шел по ней и думал о том, сколько людей проходило здесь в дни охоты. Поднявшись на вершину, я подошел к каменным грядам, начинавшимся от края пропасти. Расстояние между ними было значительно больше, чем между грядами у ловушки Два Талисмана. Посмотрев в сторону равнины, я увидел прерывающуюся цепь невысоких пригорков и холмов. Я стал спускаться по откосу; мне хотелось посмотреть, где кончаются гряды камней. Шел я долго; здесь каменные гряды были вдвое длиннее, чем около нашей старой ловушки, и расстояние между ними все увеличивалось. Там, где кончались гряды, я увидел спуск в широкую ложбину; кое-где росли кусты, на дне ложбины блестела вода. О да, это была огромная ловушка! Все племя должно было принимать участие в охоте, все занимали места за каменными грядами, и никто не сидел сложа руки в вигваме, когда зазыватель вел бизонов к пропасти.
Дальше за ложбиной паслись стада. По следам на траве я увидел, что сегодня утром здесь прошло стадо. Прямо здесь я помолился всем богам раскрыть мне секрет зазывателя, чтобы я мог заманить бизонов для моего народа.
Было уже после полудня, когда я снова подошел к центру ловушки. Проходя вдоль каменной гряды, я заметил, что груды камней невелики и расположены на большом расстоянии одна от другой. У меня развязался шнурок мокасина, я присел на землю, чтобы завязать его, и вдруг увидел у самых своих ног один из тех редких священных камешков, которые так высоко ценит мой народ. «Как попал сюда этот камешек? — удивлялся я. — Кто мог его потерять?»
Я поднял его и спрятал в мешок, где хранил кремневые наконечники стрел. Эниским — могущественный талисман. Много лет назад наши предки умирали с голоду, потому что бизоны покинули старые пастбища. Тогда одна девушка нашла такой камешек, благодаря ему бизоны вернулись из далеких стран, и весь народ был спасен. Я чувствовал, что посылкой этого волшебного камня боги дают мне знак — они со мной.
Я бежал по склону, и весело было у меня на душе. Вдруг раздался шум и топот. Едва я успел броситься ничком на землю и спрятаться в высокой траве, как передо мной появилось стадо антилоп и помчалось прямо в мою сторону. Я должен был сесть и замахать руками, иначе животные налетели бы на меня и растоптали своими острыми копытами. Они пробежали так близко от меня, что я мог коснуться их ружьем, и вскоре скрылись из виду. Я был уверен, что не мои женщины их спугнули. На четвереньках подполз я к краю пропасти и посмотрел вниз, в долину. У меня прервалось дыхание: отряд из восьми всадников гнал десять лошадей в ту самую рощу, где должны были ждать меня женщины.
Глава VII
«Быть может, женщины заметили их издали и успели спрятаться», — успокаивал я себя. Я полагался на чуткий слух и зоркие глаза Сюйяки; она всегда была настороже. Но как тревожно было у меня на душе! О, если бы мог я сквозь зеленую листву деревьев видеть то, что происходит сейчас там, в роще! Я находился слишком далеко, и, если женщины звали меня на помощь, я не мог их услышать. Что, если военный отряд захватил их в плен? Я весь задрожал, представив себе, как мою сестру ведут в неприятельский лагерь. Во что бы то ни стало я должен был пробраться в рощу и попытаться спасти моих близких. Но мог ли я один победить восьмерых?
Отползая от края пропасти, я молил богов указать, что мне делать. Я встал и побежал вниз по тропе. Спустившись с горы, на четвереньках пополз к реке, прячась в кустах и высокой траве. У края воды я оглянулся и увидел, что один из воинов поднимается по той самой тропе, по которой я только что спустился. С вершины утеса он хотел осмотреть окрестности. Это означало, что отряд намерен сделать привал в роще. А что, если воин заметил следы моих ног на тропе? Я вспомнил, что кое-где она была занесена песком. Быть может, я по неосторожности ступил на песок.
Я не спускал глаз с воина и с минуты на минуту ждал, что он, увидев свежие следы мокасин, побежит назад, в рощу, чтобы предупредить товарищей. Но он ни разу не остановился и, поднявшись на вершину, сел у края пропасти.
Я вошел по колено в воду; кусты, которые росли на берегу, скрывали меня от глаз врага. Осторожно ступая, я добрался до рощи, выполз на берег и скрылся за деревьями. Извиваясь, как змея, я полз в кустах и вдруг остановился: впереди, между двух ив, мелькнула какая-то коричневая тень Я подполз ближе, поднял голову и увидел большое солнце из красных, желтых, белых и черных игл дикобраза. Я знал, что это солнце вышито на коричневом кожаном одеяле Асанаки Старуха сидела ко мне спиной, закутанная в одеяло. Что, если она обернется и вскрикнет при виде меня? Я отполз в сторону, встал и переломил сухую ветку. Услышав треск, она оглянулась, увидела меня и не испугалась. Сделав мне знак, чтобы я молчал, она отвернулась и что-то сказала так тихо, что я не расслышал. Слева от нее раздался шорох, и я увидел сестру и Сюйяки, сидевших в кустах. О, как я обрадовался! Словно тяжелая ноша скатилась с моих плеч.
Я подполз к Сюйяки и прошептал:
— Где они?
— Неподалеку от реки, в роще тополей, — ответила она. — Мы были там, когда послышался топот. Мы убежали и спрятались среди ив. Нам было видно, как они сошли с лошадей и некоторых стреножили. Пока они собирали хворост для костра, мы потихоньку уползли сюда, к реке. Я видела — у них есть мясо; они будут стряпать и есть.
— Кто они? — спросил я.
— Не знаю. Я так испугалась, что не успела их разглядеть.
— Брат, быть может, это люди нашего племени, — вмешалась Питаки — Помнишь, за два дня до того, как мы подошли к Миссури, отряд, возглавляемый Желтой Рыбой, выехал на разведку.
— Мы должны знать, враги они нам или друзья, — сказал я. — Если враги, нам угрожает опасность, потому что, бродя по роще, они могут найти наши следы. Вы втроем оставайтесь здесь, а я подползу к ним и разузнаю, кто они.
Женщины мне не возражали; они были очень храбры — моя сестра и обе старухи Медленно стал я пробираться вперед. Я полз очень осторожно, не задевая ни сучка, ни тростинки. Узкая полоса, поросшая ивами и кустами, отделяла большую тополевую рощу от реки Я пересек эту полосу и понял, что дальше ползти опасно, так как здесь кончался кустарник. Приподнявшись на локте, я раздвинул кусты и увидел отряд. Семь человек сидели вокруг костра и ели. У одного из них, сидевшего ко мне спиной, торчало в волосах одно-единственное орлиное перо, и по этому перу я узнал, что они — наши враги, кроу или ассинибойны.
Долго размышлял я, как следует мне поступить, и наконец решил остаться там, где я был. Если кто-нибудь из них направится в мою сторону, я вскочу, выстрелю, побегу к реке, переправлюсь на другой берег и таким образом уведу их от того места, где прятались женщины.
Они расположились на лужайке, и я отчетливо мог разглядеть всех сидевших у костра Их было семеро, восьмой остался караулить на вершине скалы Справа от меня жадно щипали траву лошади, которых они отняли у одного из племен, живущих по ту сторону гор Из восемнадцати лошадей четыре были стреножены, все они, за исключением одной маленькой гнедой лошадки, производили впечатление здоровых, сытых животных Две или три волочили по траве веревку Пощипывая траву, они медленно приближались к зарослям, где скрывались женщины. Я встревожился. Когда враги пойдут за лошадьми, наше убежище, несомненно, будет открыто Я твердо решил пристрелить первого, кто направится в мою сторону.
Утолив голод, люди ближе придвинулись к костру и закурили трубку, переходившую от одного к другому. Потом все улеглись спать. Я понял, что они очень устали и, вероятно, будут спать до вечера, не потрудившись сменить караульного на скале.
Долго смотрел я на них. Закутанные в одеяла, они лежали неподвижно, словно мертвые. Мне пришло в голову, что женщины будут обеспокоены моим долгим отсутствием и, чего доброго, отправятся на разведку, чтобы узнать, не попал ли я в беду. Тихонько пополз я назад. Лошади паслись очень близко от нас, и я не знал, что делать. Если я уговорю женщин спрятаться где-нибудь в другом месте, караульный их увидит, как только они выйдут из рощи. Тогда мелькнула у меня одна мысль, и как раз в эту минуту ко мне подползла сестра и шепнула:
— Не угнать ли лошадей? Тогда они не найдут нас здесь.
Об этом думал и я.
— Слушайте внимательно, — обратился я к женщинам. — Враги откроют ваше убежище, как только начнут загонять лошадей. Я нашел способ спасти вас: я сам соберу лошадей и угоню их далеко отсюда Враги проснутся, бросятся за мной в погоню, и вы будете в безопасности. Как только они уйдут, переправьтесь на другой берег и поднимитесь на склон Столовой горы. Там вы спрячетесь среди каменных глыб и будете меня ждать. Ждите терпеливо. Быть может, я вернусь через два-три дня, а оленины вам хватит на несколько дней.
— Но если ты не придешь… Нет, нет, об этом я говорить не буду, я знаю, что ты вернешься к нам, — сказала Сюйяки.
— Не бойся! Конечно, я вернусь, — ответил я. — А теперь мне пора идти. Угнать лошадей будет нетрудно: видишь, некоторые волочат за собой веревку.
Я встал, повесил ружье за плечи, вытащил нож и, подкравшись к одной из стреноженных лошадей, перерезал ремни. Подняв голову, я, к великой моей досаде, увидел, что моя сестра перерезает путы второй лошади Знаком приказал я ей вернуться к старухам и видел, как она поползла назад. Освободив двух других лошадей, я схватил конец одной из веревок, волочившихся по траве, и, перехватывая руками, потихоньку подошел к лошади. Она не испугалась меня, и мне никакого труда не стоило взнуздать ее веревкой. Через минуту я уже сидел верхом.
Все время посматривал я в ту сторону, где спали враги. Потом я начал собирать лошадей, чтобы вывести их из рощи, как вдруг снова увидел сестру. Верхом на лошади она загоняла отбившихся в сторону животных. Я подъехал к ней.
— Сойди с лошади! Не мешкай! И ступай к Сюйяки. Но в ответ она только покачала головой
— Слушайся меня! Сойди с лошади и беги назад! — приказал я.
Но она упрямо качала головой.
— Тогда я сам тебя сниму, — сказал я, подъезжая к ней вплотную.
— Если ты это сделаешь, — прошептала сестра, — я закричу. Оставь меня. Тебе нужна будет моя помощь.
Не знаю, как бы я поступил, но как раз в эту минуту один из спящих проснулся и что-то крикнул своим товарищам. Нас заметили. Я видел, как человек побежал к нам, доставая стрелу из колчана.
— Видишь! Один ты не справишься. Я помогу тебе угнать лошадей! — крикнула Питаки.
И мне ничего не оставалось делать, как согласиться с ней. Она была права: я действительно нуждался в ее помощи.
Лошади жадно щипали траву и не хотели трогаться с места. Мы бросались от одной к другой, хлестали их веревками, кричали, а отряд врагов был на расстоянии ста шагов. Одна большая серая лошадь все время останавливалась. Я боялся оставить ее здесь, потому что верхом неприятель мог нас догнать. Я схватил ружье и пристрелил ее. Выстрел испугал остальных; они перешли в галоп как раз в ту минуту, когда в воздухе зажужжали стрелы. Стрела вонзилась в бок одной из лошадей. Раненое животное заржало от боли и рванулось вперед, испуганные лошади помчались быстрее. Мы выехали из рощи на берег реки.
— Сестра, мы спасены — наши старухи и мы с тобой! — крикнул я. — Но не будь тебя, мне бы никогда не удалось загнать лошадей.
— Ха! Я говорила, что тебе пригодится моя помощь, а ты мне не верил, — засмеялась Питаки.
О, как я ею гордился! Хоть и была она девушкой, но ни одному воину не уступала в храбрости.
Мы оглянулись. Враги уже выбежали из леса и продолжали преследовать нас, хотя ясно было, что погоня ни к чему не приведет. Караульный, делая огромные прыжки, бежал по тропе.
— Спешить некуда, — сказал я Питаки, — но очень медленно тоже нельзя ехать. Как бы они не догадались, что мы стараемся увести их подальше от рощи.
Я надеялся, что отряд врагов не вернется в рощу, и надежда меня не обманула. Когда караульный догнал воинов, они после краткого совещания пошли по нашим следам. Ясно было, что они думают проследить нас до самого лагеря, откуда мы, по их мнению, вышли.
— Сестра, они вступили на тропу, конца которой никогда не увидят, — сказал я.
Я знал, как следует нам поступить; от реки мы должны были свернуть в сторону и ехать по безводной равнине. Я объяснил сестре, куда мы поедем, и сказал, что и мы, и наши лошади будем страдать от жажды. На это она ответила:
— Если тебя не страшит жажда, значит, и мне не страшно.
Мы ехали по берегу, а на некотором расстоянии от нас следовали враги. Потом мы заставили лошадей войти в воду, и я сказал Питаки:
— Пей побольше. До следующей ночи мы не увидим воды
Пили мы долго, и наконец я почувствовал, что больше не могу сделать ни одного глотка. Тогда я заставил Питаки взять мое кожаное одеяло вместо седла; мы поднялись по склону равнины и погнали лошадей на восток. Враги, видя, что мы направляемся к прериям, тотчас же повернули и пошли за нами. Они не пили у реки, видимо не желая терять время.» Тем лучше! — подумал я. — Жажда начнет их мучить раньше, чем нас ".
Солнце склонилось к западу, когда мы выехали на равнину. Спустилась ночь, и мы потеряли из виду отряд, но я знал, что при свете луны они найдут наши следы, и радовался этому: мне хотелось увести их подальше от реки.
Всю ночь мы ехали по высокой равнине между реками Миссури и Титон, не позволяя нашим лошадям замедлять бег. Ночью раненая лошадь стала сильно хромать, и мне пришлось ее пристрелить. Когда рассвело, мы расположились на отдых. Лошади щипали траву, Питаки спала, а я караулил. Нигде не видно было ни бизонов, ни антилоп; они держались ближе к воде и до первого снегопада не покидали речных долин. Зимой они переселялись на равнины, потому что снег заменял им воду.
Солнце стояло еще очень низко, когда я разбудил Питаки и сказал ей, что мы должны ехать дальше. Ей очень хотелось спать, и жажда начинала ее мучить, но ни одной жалобы я от нее не услышал. Она поймала свою лошадь, взнуздала и быстро вскочила на нее.
— Питаки, — сказал я, — после полудня здесь пройдет отряд врагов. Они будут измучены, будут изнывать от жажды. Воины увидят, что тропа ведет дальше, в глубь этой безводной страны. Им придется свернуть с тропы, чтобы утолить жажду, а ближайшая отсюда река — Титон — находится на расстоянии одного дня ходьбы. Вернутся ли они сюда, когда утолят жажду? Не думаю. А если вернутся — их ждут новые страдания. Едем дальше.
Долго ехали мы по направлению к реке Миссури, потом круто свернули к низовьям Солнечной реки. Мы объезжали все холмы и зорко всматривались по сторонам. Солнце поднималось все выше и выше, а усталые лошади все сильнее страдали от жажды. После полудня я почувствовал, что у меня распух язык. Мы с трудом могли говорить. Конечно, Питаки страдала сильнее, чем я, но она не жаловалась, и я дивился ее мужеству и выносливости.
К вечеру мы подъехали к реке, и лошади, почуяв воду, помчались галопом. Мы растянулись на песчаном берегу и, пригоршнями черпая воду, долго пили. Утолив жажду, мы умылись, намочили волосы и засмеялись.
— Я не чувствую больше усталости, — сказала Питаки, — но мне очень хочется есть.
— Придется подождать до утра, — отозвался я. — Сейчас темно, и нельзя охотиться.
По правде сказать, я не хотел стрелять из ружья, так как выстрел мог привлечь внимание какого-нибудь неприятельского отряда.
Лошади, напившись, вышли из воды и стали щипать траву, а когда взошла луна, мы переправили табун на другой берег и, привязав четырех лошадей к колышкам, расположились на ночлег. Долго я думал, но не мог решить, что мне делать с лошадьми. Если я их оставлю, придется водить их на водопой, кормить, а на ночь привязывать или стреноживать; возни с ними будет много, а я хочу стать зазывателем бизонов и не должен терять время зря. Да и не безопасно скитаться с табуном по равнинам; табун не хуже, чем дым сигнального костра, может привлечь внимание неприятеля.
В сущности мне самому лошади были не нужны, хотя, если прибавить к моему табуну эти шестнадцать голов, я бы стал одним из самых богатых воинов в нашем племени. Но я хотел подарить этих лошадей сестре. Она была достойна награды. Не будь со мной Питаки, я бы не мог угнать табун и бежать от вражеского отряда. После долгих размышлений я решил отвести лошадей к Столовой горе и поступить так, как посоветует мне Сюйяки. Приняв это решение, я заснул.
Я обладаю способностью просыпаться в заранее определенный час. Открыв глаза, я посмотрел на небо и, отыскав Семерых, увидел, что ночь на исходе. Как раз в этот час я и хотел проснуться. Я разбудил Питаки, спавшую под кустом, мы вскочили на лошадей и поскакали по холмистой равнине в сторону Столовой горы. Я хотел до рассвета покинуть долину реки, где пролегала тропа, ведущая через Спинной Хребет Мира, — излюбленная тропа всех военных отрядов.
Лошади, сытые и отдохнувшие, бежали рысью; луна освещала нам путь. Мы были веселы и голодны. Нам попадались стада бизонов и антилоп, олени и лоси выбегали из леса, и вид всей этой дичи остро напоминал нам о голоде. Один раз Питаки попросила меня выстрелить в стадо бизонов, но, когда я сказал ей, что не хочу привлекать внимание неприятелей, она умолкла.
Когда взошло солнце и, словно в огне, запылали горные вершины вдали, мы убедились, что находимся среди крупных холмов, глубоких ущелий и длинных каменных гряд. За эти несколько часов мы покрыли большую часть расстояния от реки до Столовой горы.
Я ехал впереди, а Питаки гнала за мной лошадей. На дне ущелья увидел я двухгодовалого бизона, который щипал траву. Я сошел с лошади и убил его, а пока я сдирал с него шкуру, Питаки, достав кремень и трут, разложила костер в маленькой осиновой роще. Мы зажарили язык бизона и, разрезав его на две равные части, съели все, до последнего кусочка.
— Я бы хотела, чтобы наша» почти мать"и Асанаки пировали вместе с нами, — сказала Питаки.
— Скоро они будут угощаться ребрами и печенью, — отозвался я. — Лучшие куски туши мы навьючим на одну из лошадей.
Сестра чуть слышно прошептала:
— Быть может, мы не найдем их на склоне Столовой горы. Быть может, мы никогда их не увидим.
Я разделял ее опасения, но вслух сказал:
— Будь спокойна, скоро ты их увидишь.
Мы поймали одну из лошадей и стали навьючивать на нее мясо. Сначала мы расстелили шкуру бизона шерстью вниз, покрыв ею лошадь с головы до хвоста. Потом мы связали вместе боковые ребра, горб бизона и самые жирные куски мяса, положили их на спину лошади и завернули в шкуру. Этот тюк мы крепко-накрепко привязали к лошади двумя длинными веревками.
После этого мы отправились в путь. Снова я ехал впереди, а Питаки гнала за мной наш маленький табун. Дорога становилась все труднее, холмы все круче. Часто нашу тропу пересекали глубокие ущелья. Нам не терпелось увидеть нашу «почти мать», и мы понукали лошадей, медленно взбиравшихся на крутые склоны.
Было уже после полудня, когда мы подъехали к склону Столовой горы. Склон был усеян голышами и каменными глыбами, а выше переходил в почти отвесную каменную стену. Здесь мы остановили измученных лошадей, и я, взяв свое кожаное одеяло, стал размахивать им, давая сигнал: «Идите к нам!» Тотчас из-за груды камней выскочили две женщины и побежали вниз по склону. Мы погнали лошадей им навстречу. Старухи плакали; плакала Питаки, да и я сам, радуясь, что вижу их целыми и невредимыми, с трудом удерживался от слез. Они сняли нас с лошадей и долго целовали и обнимали, шепча благодарственные молитвы Солнцу, сохранившему нам жизнь…
— Садитесь, дети, здесь, на траве, — сказала нам Сюйяки, — и расскажите обо всем, что с вами было.
— Нет, не сейчас, — возразил я. — Там, у подножия горы, мы оставили лошадь, на которой привезли вам жирное мясо бизона. Мы зажарим его и поедим, а потом будем держать совет.
— Настоящая пища! Он нам привез настоящей пищи! — воскликнула Асанаки. — Да, да, устроим пир!
Мы спустились к подножию горы, где остался наш табун, и расположились на отдых на берегу маленькой речонки, протекавшей к северу от Столовой горы. Пока женщины возились у костра, я рассказывал, как мы завлекли неприятеля в безводную страну. Сюйяки начала было бранить мою сестру за то, что та ослушалась и ускакала вместе со мной, но я прервал ее.
— Вы должны радоваться, что Питаки поступила по-своему, — сказал я. — Не будь ее со мной, мы бы все четверо погибли.
— Если бы вы видели, как мы бежали во всю прыть, когда отряд врагов покинул долину! — начала свой рассказ Сюйяки. — Мы переправились вброд через реку, а страх удесятерил наши силы. Шли мы, не останавливаясь, до вечера, а когда стемнело, улеглись спать в ущелье. Нам было страшно, всю ночь мы думали о вас обоих и не могли сомкнуть глаз. Сюда мы добрались только к вечеру следующего дня. Сначала мы думали, что здесь никакая опасность нам не угрожает, но, когда зашло солнце, увидели на склоне горы старую медведицу-гризли с двумя медвежатами; она бродила неподалеку от того места, где мы спрятались, и, перевертывая лапами камни, искала муравьев. Подняться выше мы не могли, так как за нами вставала неприступная скалистая стена. Бежать мы тоже не решались, опасаясь, что медведица за нами погонится. Спустилась ночь, а медведица все не уходила. Как мы боялись, что она поднимется выше и найдет нас. Конечно, мы не могли заснуть и всю ночь дрожали от страха и молились. Когда рассвело, мы убедились, что медведица ушла. Спустившись к ручью, мы утолили жажду, потом вернулись к подножию скалистой стены и днем спали по очереди. Пока одна спала, другая караулила. О, как мы обрадовались, когда увидели вас! Дети, Солнце и боги заботятся о нас! Великие опасности встают на нашем пути, и всегда удается нам их избежать.
Услышав это, я вспомнил о своей находке, достал из кармана «камень бизона"и показал его Сюйяки. Я рассказал ей, как нашел его у своих ног, когда завязывал мокасин, и как стадо антилоп предупредило меня о близости врага. Обе женщины заявили, что эниским — великий талисман, и Сюйяки тотчас же привязала его к моему ожерелью из медвежьих когтей.
— Всегда носи его на груди; он должен принести тебе счастье, — сказала она.
Настал вечер. Я вбил в землю колышки и на ночь привязал четырех лошадей, а затем вчетвером мы построили вигвам из кольев и хвороста, чтобы заслонить пламя нашего костра. Когда все было готово, мы развели костер в вигваме и стали совещаться, как быть с лошадьми. Я подарил их всех сестре, а она отдала двух Сюйяки и двух Асанаки. Сюйяки отказалась принять подарок, заявив, что, если бы ей захотелось ехать на лошади, мы всегда позаботимся о том, чтобы она не шла пешком. Опасно было нам оставлять этих лошадей, но, раз они у нас были, не хотелось их терять. Мы решили стреножить и привязать их здесь, в этой узкой маленькой ложбине, а заботу о них взяли на себя женщины. Днем женщины должны были сидеть на склоне Столовой горы и караулить, а ночью спать в шалаше. Здесь, среди холмов и ущелий, вряд ли угрожала им опасность быть замеченными каким-нибудь неприятельским отрядом.
Потом речь зашла обо мне. Мы говорили до поздней ночи, но наша беседа ни к чему не привела; я не знал, какой путь мне избрать, чтобы найти способ зазывать бизонов. Когда все заснули, я долго об этом думал. Все время вспоминалась мне древняя ловушка кроу. Наконец я заснул. Проснувшись утром, я стал припоминать, что мне снилось, но запомнилось только, как я блуждал по склону Столовой горы, а гигантская каменная стена, казалось, призывала меня, и голос звучал глухо и заунывно, как вой ветра: «Пук-си-пут! Пук-си-пут! Ман-и-ка-и, пук-си-пут!» («Приди! Приди! Юноша, приди!»)
Этот сон я рассказал женщинам, и Сюйяки воскликнула:
— Ступай на зов! Поднимись на вершину горы и начни пост. Быть может, ты увидишь вещий сон. А мы будем ждать тебя здесь.
— Да, да, брат! — вмешалась Питаки. — А ружье ты оставь мне! Я никогда из него не стреляла, но знаю, что не промахнусь. Если кто-нибудь приблизится к нам, я прицелюсь и пальцем нажму вот это, и враг упадет мертвым.
Мы все засмеялись.
— Ружье останется у тебя, — сказал я ей. Наскоро поев, я стал готовиться к подъему на Столовую гору.
Глава VIII
Чтобы взобраться на вершину Столовой горы, нужно было обойти ее и приблизиться к ней с противоположной стороны-с запада, а затем подниматься по крутому каменистому склону. Подъем показался мне очень трудным. Было уже после полудня, когда я, задыхаясь, вскарабкался на плоскую вершину.
Подойдя к самому краю пропасти, я посмотрел вниз. Находился я так высоко, что наши лошади в ложбине показались мне совсем маленькими, не больше собак. Мне хотелось найти обеих старух и сестру, но их не было видно, я знал, что они притаились среди каменных глыб.
Тогда я окинул взглядом окрестности. О, какая величественная картина представилась моим глазам! На северо-востоке маячили холмы Душистая Трава, на востоке вставали горы Медвежья Лапа, на юго-востоке тянулись покрытые лесом темные холмы Горный Лес. Словно гигантские черные змеи, извивались среди холмов реки Миссури, Титон и Морайас и их притоки; ближе, как казалось мне, у самого подножия Столовой горы, зеленела широкая долина Солнечной реки, катившей свои воды к Миссури. На равнинах я разглядел большие черные пятна; я знал, что это стада бизонов…
Долго сидел я у края пропасти и смотрел на страну моего народа. Потом я сложил на вершине горы две невысоких стены из камней; между стен я сделал себе постель из травы, покрывавшей вершину. Наружную стену, обращенную к пропасти, я возвел для того, чтобы во сне не скатиться вниз, а вторая стена должна была защищать меня от резкого западного ветра.
Пост начался. Я улегся на ложе из травы и стал молиться своему «тайному помощнику», всем нашим богам и великой горе, на вершине которой я лежал. Я просил их послать мне вещий сон, открыть тайну зазывателя. И так я лежал там, молился и тревожился за женщин. Солнце склонялось к западу, возвращаясь домой на отдых. Вдруг за моей спиной послышался шорох. Я повернулся на другой бок и посмотрел в расщелину между камнями в западной стене. Мне стало страшно. Неужели враги выследили меня? Нет! Это был горный баран, старый-старый, с огромными рогами. Он щипал траву, изредка останавливаясь и посматривая по сторонам. По западному склону загрохотали камни, и на вершине показались четыре овцы с ягнятами. Поднялись они по той же тропе, по какой поднимался и я.
Я следил за прыжками ягнят, потом, бросив взгляд на юг, разглядел какую-то темную тень, притаившуюся за каменной глыбой. Я не спускал глаз с этого места, и вскоре над камнем показалась темная уродливая голова и шея с беловато-желтыми полосами — это была росомаха. Не успел я хорошенько ее разглядеть, как ягнята, резвившиеся на лужайке, подбежали к каменной глыбе, и росомаха прыгнула на одного из них. Он заблеял, потом я услышал, как затрещали шейные позвонки.
Ягнята бросились врассыпную, а их матери направились было к глыбе, но росомаха на них зарычала. Этот маленький зверь рычал так грозно, что даже мне стало жутко. Неудивительно, что овцы обратились в бегство, и на вершине осталась только мать растерзанного ягненка. Она беспомощно топталась на одном месте, глядя, как росомаха пожирает свою добычу.
Росомаха продолжала рычать и раздирать когтями ягненка, хотя он давно уже был мертв. Это было такое отвратительное зрелище, что я не выдержал, взял лук и стрелы и направился к ней. Она зарычала даже на меня и, казалось, не прочь была вступить в бой. О, как сверкали ее злые глаза!
— Вот тебе! Получай! — сказал я.
И стрела вонзилась ей в грудь. Она попробовала вытащить ее зубами, потом вздрогнула и упала мертвой. Я осмотрелся по сторонам. Овца уже ушла. Тогда я поднял растерзанного ягненка и швырнул в пропасть. Я долго прислушивался; наконец он долетел до склона, и я услышал глухой удар.
Росомаха — священное животное. Поэтому я наточил нож, содрал с нее шкуру, а мясо и кости бросил в пропасть. Вернувшись к своему ложу из травы, я снова лег. Я был недоволен собой; я знал, что нужно сосредоточиваться на мысли о богах и священных вещах, но сначала мне не давала покоя мысль о женщинах, остававшихся внизу, а потом меня отвлекли бараны и росомаха.
Когда солнце стало заходить за горы, я встал и, подойдя к краю пропасти, увидел, как женщины повели лошадей на водопой. Стемнело, и я вернулся к своей постели. Меня мучила жажда, и на душе было неспокойно. Долго не мог я заснуть. Лежа на спине, я смотрел на Семерых. Наконец веки мои сомкнулись, но, проснувшись, я заметил, что Семеро сверкают почти на том же самом месте, где сверкали перед тем, как я заснул.
Однако я видел сон; во сне я беседовал со Столовой горой-с ее тенью. Помню, голос я слышал отчетливо, но ничего не мог разглядеть, словно был окутан густым туманом. Я сказал ей:
— Ты звала меня, и я пришел. Пожалей меня, открой мне тайну!
— Ты ошибаешься, я тебя не звала, — ответила мне гора. — Но раз уж ты пришел, я постараюсь тебе помочь. Что нужно тебе от меня?
— Научи меня зазывать бизонов, заманивать их в пропасть.
— Ха! Я не знаю, как это делается. Много лет назад люди заманивали бизонов в пропасть там, в низовьях Солнечной реки, но я не обращала на них внимания. Мне нет дела до ползающих, бегающих, летающих тварей. Все они недолговечны, а мы, горы, никогда не умираем. У нас своя жизнь; зачем нам следить за жизнью людей?
— А я-то думал, что ты звала меня и хочешь мне помочь! — воскликнул я.
— Я могу дать тебе совет. Если ты хочешь стать зазывателем, ступай туда, где люди некогда зазывали бизонов. Наблюдай этих животных, изучай их, постись и молись; быть может, ты добьешься успеха.
Замер ее голос, и я проснулся. Как это ни странно, но гора сказала мне то, о чем я сам упорно думал перед тем, как заснул. Я встал, взял лук, колчан и шкуру росомахи и стал спускаться с горы. Луна освещала мне путь. Спустившись к речонке, я напился, прошел мимо дремавших лошадей и, войдя в рощу, неслышно приблизился к маленькому шалашу. Стоя у входа, я долго прислушивался к мерному дыханию спящих женщин. Потом я улегся прямо на землю и крепко заснул.
Разбудил меня громкий вопль. Выйдя из шалаша, Питаки увидела лежащего на земле человека и испуганно вскрикнула, потом, узнав меня, расхохоталась и позвала старух. Те встревожились, не понимая, почему я так скоро вернулся. Не рыскает ли в окрестностях военный отряд? Они были очень огорчены, когда узнали, что я так и не открыл тайны зазывателя.
— Зато я получил добрый совет, — сказал я. — Я буду следить за бизонами, вернусь к старой ловушке кроу и буду жить там, пока не научусь зазывать стада.
— Но сначала ты должен поесть и отдохнуть, — ответила мне Сюйяки.
Я отдыхал целый день, а вечером мы держали совет. Сюйяки заявила, что не отпустит меня одного к ловушке. Речная долина-тропа всех военных отрядов, а они втроем — она, сестра моя и старая Асанаки — будут обо мне беспокоиться. Да и опасно им оставаться здесь без меня. Что, если нападет на них гризли или какой-нибудь неприятельский отряд случайно найдет их убежище?
— Если вы пойдете со мной, лошадей придется оставить здесь, и, быть может, мы больше их не увидим, — сказал я.
— Брат, не думай о лошадях! — воскликнула Питаки. — Конечно, мне бы хотелось их иметь, но еще больше хочу я быть с тобой, подле тебя. Мы освободим их от пут и оставим здесь, а если мы их не найдем, когда вернемся сюда… ну что ж, плакать я не буду!
— Вы пойдете со мной, а лошадей мы постараемся сохранить, — решил я.
Под моим руководством женщины сделали для четырех лошадей широкие кожаные путы. На следующее утро я надел их на тех лошадей, которые, как казалось мне, были вожаками маленького табуна. Я позаботился о том, чтобы путы не сдирали кожу и не впивались в тело. В ущелье протекала речонка, а на берегах ее росла сочная трава, и я надеялся, что наши лошади никуда отсюда не уйдут; если же они захотят вернуться домой, на запад, то путь им преградят неприступные скалы. Да, я почти был уверен в том, что наш табун останется в ущелье, если только не наткнется на него какой-нибудь неприятельский отряд.
Женщины разрезали мясо бизона на длинные полосы и засушили их; я знал, что запасов сушеного мяса хватит нам на много дней Они разделили между собой поклажу, а я взял свое оружие, порох, пули и четыре веревки, которыми мы привязывали лошадей. Затем мы тронулись в путь, к реке. После полудня мы подошли к речной долине и остановились зорко осматриваясь по сторонам. В дальнем конце долины высилась скала, у подножия которой находилась старая ловушка кроу, а внизу, у наших ног, раскинулась большая тополевая роща. Здесь Сюйяки предложила нам построить маленький вигвам из кольев и веток.
— Мы втроем поселимся в этом вигваме, а ты будешь поститься и бродить по окрестностям, — сказала она.
— «Почти мать», где же твой здравый смысл? — спросил я. — Почему хочешь ты спрятаться как раз на тропе военных отрядов, проходящих по этой долине? Да, пожалуй, тропа пролегает в стороне от рощи, но ты знаешь не хуже, чем я, что здесь воины останавливаются на отдых и разводят костры.
— Что же нам делать? — спросила она.
— Мы построим вигвам в поросшей кустами ложбине, там, где кончаются каменные гряды, в той ложбине, откуда зазыватель заманивает стадо, — ответил я. — Правда, она находится не очень далеко от тропы, но воины никогда туда не заглядывают, и их разведчики смотрят только на равнины. А эта ложбина им не видна — не видна даже с утеса над ловушкой.
— Все это так, — согласилась Сюйяки, — но кое о чем ты забыл: подумай о призраках кроу, которые скитаются в тех краях. Их нужно бояться не меньше, чем живых врагов. Мы их не видим и не слышим, а они приходят ночью, прикасаются к человеку и вселяют в него смертельную болезнь, хотя он даже не чувствует их прикосновения.
— Да, об этом говорили мне старики, но я им не верю. Больше людей гибнет от молнии, чем от злых призраков. Мне кажется, никакая опасность нам не угрожает. Там, у каменных гряд, я нашел «камень бизона», а ты сама говоришь, что это могущественный талисман.
— Сюйяки, он прав, мы будем жить в ложбине, — сказала Асанаки. — А если и водятся там призраки кроу, то беда не велика, потому что я хорошо говорю на их языке. Я помолюсь их богам, и призраки примут нас за настоящих кроу и не причинят нам зла.
— Вы оба против меня, — вздохнула Сюйяки. — Я не буду с вами спорить, но мне страшно, очень страшно.
Спустя немного времени она спросила:
— А ты, сын мой, где будешь ты поститься?
Я указал на утес, возвышавшийся как раз против скалы над ловушкой бизонов.
— Видишь этот тополь, который растет у самого края пропасти? Помоги мне устроить в ветвях его помост. Там я буду поститься.
— Но ведь тебя увидит каждый проезжающий мимо отряд! — воскликнула сестра.
— Да! Но воины подумают, что это погребальный помост, и не посмеют к нему приблизиться, — ответил я.
— Но почему не хочешь ты поститься где-нибудь в стороне от тропы? — осведомилась Сюйяки.
— Потому что это священное место. Оттуда мне будет видна ловушка, а меня все время тянет к этой древней ловушке кроу, — пояснил я.
Спускались сумерки. Женщины вошли в рощу, развели костер и принялись за стряпню, а я стоял на страже, пока не надвинулась ночь. Когда взошла луна, мы набрали жердей, вышли из рощи и направились к утесу, круто обрывавшемуся в реку, которая в этом месте была очень глубока. Дерево, невысокое, но с толстыми ветвями, росло на откосе, корни его глубоко уходили в трещины в скале, промытые водой. Поднявшись на вершину утеса, я увидел, что спуститься к дереву можно только на веревке. Первой спустилась моя сестра, а затем я последовал за ней. Старухи остались на вершине и сверху подавали нам на веревках жерди.
Я влез на дерево и стал устраивать помост между двух крепких сучьев, а Питаки снизу протягивала мне жерди. Я очень боялся, как бы она не поскользнулась и не упала в воду. Когда помост был готов, старухи, перевязав веревкой несколько охапок травы, спустили их с вершины, и я устроил себе ложе из травы. Когда все было кончено, я приказал женщинам крепко держать веревку и помог сестре влезть наверх; затем я сам поднялся на утес, и мы вернулись в рощу.
— Теперь разложите костер и зажарьте побольше сушеного мяса, чтобы вам хватило его на четыре или пять Дней, — сказал я женщинам. — Потом я отведу вас в ложбину.
Я знал, что, разводя костер, мы можем привлечь внимание врагов, но другого выхода у нас не было. Судьба нам покровительствовала, и никто нас не потревожил. На рассвете мы переправились через реку и по крутой тропинке поднялись на скалу, у подножия которой находилась ловушка.
В предрассветных сумерках мы шли между каменных гряд, и женщины пугливо жались ко мне.
— О, как мне страшно! — прошептала Асанаки. — Много лет назад загонщики кроу прятались за этими камнями. Здесь гнали стада к пропасти. Конечно, духи их витают около ловушки. Мы — их враги, и они могут причинить нам зло.
— Да, — пробормотала Сюйяки, — кроу не простят нам того, что мы завладели этой страной. И тени их постараются нам отомстить.
— Смотрите! — воскликнула моя сестра. — Уже светает а днем призраки теряют свою силу.
Я видел, что Питаки боится этого места не меньше, чем старухи. Однако она пыталась побороть страх и ободрить спутниц.
В ложбине, где кончались каменные гряды, паслось большое стадо бизонов. Завидев нас, животные испугались и обратились в бегство. В воздухе стоял острый запах бизонов. В ближних водоемах вода была мутная и грязная, а кустарник примят, но в дальнем конце ложбины мы нашли маленькое чистое озерцо, на берегу которого густо разрослись кусты.
— Слушайте, — обратился я к женщинам, — днем вы должны прятаться в зарослях. Конечно, бизоны будут приходить на водопой, но вы их не гоните. Если же они направятся к зарослям, тогда спугните стадо, иначе оно вас растопчет. Я знаю, что здесь никакая опасность вам не угрожает. А вы не беспокойтесь, даже если я не вернусь через пять дней. Я буду поститься и не сойду с помоста, пока не увижу вещего сна или не смогу больше поститься. Оставайтесь здесь, а я ухожу.
— Оставь мне твое ружье, — сказала сестра. — Если сюда забредет медведь, я убью его.
Я отдал ей ружье, порох и пули и вернулся к реке. Переправившись на другой берег, я вышел в рощу, где мы жарили ночью мясо. Вдруг я споткнулся о человеческий череп, который упал с полусгнившего погребального помоста, видневшегося в ветвях дерева. «Быть может, это череп человека, которого звали Видит Черное, — подумал я. — Быть может, эта пустая костяная коробка некогда хранила тайну зазывателя».
Долго смотрел я на череп, и вдруг мне пришла в голову странная мысль: что, если я возьму его и положу рядом с собой на помост? Не поможет ли он мне открыть тайну? Я осмотрелся по сторонам, прислушался, но ничто не нарушало глубокой тишины, и нигде не видел я ни одного живого существа. Быстро нагнувшись, я поднял череп и пошел дальше.
Солнце уже взошло, когда я поднялся на вершину утеса. Здесь я оставил нашу самую длинную веревку. Придавив один ее конец тяжелой каменной глыбой, я спустился по веревке к дереву и влез на помост. Затем я улегся на узкое ложе из травы, прикрылся кожаным одеялом и справа от себя положил колчан и лук, а слева — череп. Коснувшись рукой черепа, я прошептал:
— О, древняя голова, помоги мне! Если известна тебе тайна зазывателя бизонов, открой ее мне…
До поздней ночи придумывал я способ зазывать бизонов. Я обращался с молитвой ко всем нашим богам, к моему тайному помощнику и к черепу, лежавшему подле меня; я просил их послать мне вещий сон. Наконец я заснул. Проснувшись утром, я не мог вспомнить, видел ли я что-нибудь во сне. Я чувствовал себя здоровым и бодрым, хотя мне очень хотелось есть и пить…
Я встал и, подойдя к краю помоста, окинул взглядом долину. Маленькое стадо бизонов паслось у подножия той самой скалы, с которой много лет назад срывались в пропасть другие стада. Два больших волка крались за стадом; иногда они садились на траву и, навострив уши, ждали, не отобьется ли от стада один из детенышей. При виде мирно пасущихся животных я успокоился, — значит, не было поблизости неприятельских отрядов.
Настал вечер. Есть мне уже не хотелось, но жажда мучила все сильнее и сильнее. Я заснул и увидел вещий сон. Тень моя встретилась с соколом, обратилась к нему с просьбой о помощи и получила ответ: «Иди к этой древней ловушке, наблюдай за бизонами, и ты найдешь, что ищешь».
О, с каким счастливым ощущением я проснулся! Но была еще глубокая ночь, и я снова крепко заснул. Когда я проснулся опять, уже наступил день. Я дрожал от холода. Оказалось, что во сне я сбросил с себя кожаное одеяло; оно свешивалось с помоста и, конечно, упало бы в реку, если бы на самом кончике его не лежала моя левая нога. Я протянул руку и втащил его. Вдруг до меня донесся громкий крик. И что, вы думаете, я увидел, когда осторожно подполз к краю помоста и посмотрел вниз?
Глава IX
На другом берегу реки я увидел человека, который указывал пальцем прямо на мой помост и что-то говорил пятерым воинам, стоявшим за его спиной. Он видел мое одеяло, видел, как я втащил его на помост; должно быть, он объяснял своим спутникам, что мертвец не может поднять свесившееся одеяло. «Я попал в западню, — подумал я. — Если они переправятся через реку и взберутся на утес, мне от них не уйти». Не успел я это подумать, как воины разбились на две группы. Трое начали переходить вброд реку выше утеса, а остальные трое выбрали для переправы место ниже утеса, где было не так глубоко.
Вскоре я потерял их из виду, но не сомневался в том, что они поднимутся на утес и будут стрелять в меня и сбрасывать сверху камни. Что мне было делать? Прыгать с такой высоты?
Потом надежда вернулась ко мне: я вспомнил, что жерди моего помоста связаны двумя крепкими веревками. Я повесил на спину лук и колчан, а череп бросил в реку. «Иди, — сказал я, — но я прошу простить меня, мертвая голова, ты стала мне добрым помощником». Я услышал плеск, когда череп коснулся воды.
О, как я спешил, отвязывая веревки от жердей и веток! Потом я связал вместе обе веревки в одну и конец ее привязал к дереву. Обернув руки одеялом, чтобы не содрать с них кожу, я стал медленно спускаться по веревке с утеса. Веревка кончилась, а до воды было еще далеко, но мне ничего не оставалось делать, как прыгнуть. Я оттолкнулся ногами от утеса, выпустил конец веревки и упал в воду. Здесь река была очень глубока, я опускался все ниже и ниже, и казалось мне, что я тону. Обеими руками я рассекал воду и наконец начал всплывать. О, какое облегчение я почувствовал, когда высунул из воды голову и глубоко вздохнул! Я лег на спину и предоставил течению уносить меня. Надо мной высился утес и дерево — одинокий тополь, с которого я спустился. Я мог ясно разглядеть помост, но знал, что сверху его не видно, так как он заслонен ветвями.
Мне хотелось знать, как поступят воины, когда вскарабкаются на утес и увидят веревку, спускающуюся к дереву. Ждать пришлось недолго: с вершины утеса полетели большие камни и с плеском упали в реку. Я услышал военный клич племени ассинибойнов.
Воинов я не видел, и они не могли меня увидеть: они стояли на вершине утеса, а я плыл у самого подножия скал, нависших над рекой, и почти касался каменной стены. Долго кричали они и скатывали по откосу большие камни, а меня все дальше и дальше уносило течением. Теперь я знал, как следует мне поступить. Придерживаясь берега, я увидел на желтом песке отпечатки ног тех трех воинов, которые вышли здесь из воды. Ступая по их следам, я выбрался на сушу, нырнул в кусты и, пробиваясь сквозь заросли, дошел до той самой рощи, где три ночи назад сделали мы привал. До меня доносился грохот падающих камней и воинственные крики врагов. Я был спасен: воины не видели, как я покинул помост…
Не знаю, долго ли швыряли они камни в дерево, не подозревая того, что все их усилия тщетны. Я пересек рощу и спустился в овраг, заросший кустами. Мое кожаное одеяло пропало. Тетива намокла. Я положил лук и стрелы сушиться на солнцепеке.
Длинным показался мне этот день. Плывя по реке, я, конечно, утолил жажду, но вскоре мне опять захотелось пить. От долгого поста я ослабел, и у меня кружилась голова. И мысль о сестре и других двух женщинах не давала мне покоя. Хорошо, если они послушались меня и днем прятались в зарослях. Но если они вышли из кустов, враги могли их заметить.
Когда высохла тетива моего лука, у меня легче стало на душе: теперь я не был безоружен. Однако я решил обратиться в бегство, если враги откроют мое убежище. Но счастье мне не изменило. В полдень я увидел, как воины, крадучись и припадая к земле, пробежали по опушке леса и скрылись из виду. Они не нашли моих следов, да и нелегко было их найти. Пробираясь от реки к оврагу, я избегал пыльных тропинок, проложенных зверями.
Как я обрадовался, когда стемнело и я получил возможность покинуть свое убежище! Я понятия не имел о том, где находится вражеский отряд — прячется ли он в роще либо же продолжает путь к верховьям или низовьям реки. Казалось мне, что воины рыщут где-нибудь поблизости, надеясь напасть на след одинокого врага, которого они согнали с дерева сновидений.
Луна еще не взошла. В темноте я ползком добрался до реки и, высоко держа над головой колчан и лук, переправился на другой берег. По тропинке я поднялся на скалу и, прячась за каменными грядами, направился к тому месту, где должны были ждать меня женщины. И снова счастье мне улыбнулось: я не увидел и не спугнул ни одного стада. Взошла луна, когда я спустился в ложбину и подошел к маленькому озерцу и зарослям, где, как надеялся я, спали женщины.
— Питаки! «Почти мать»! Асанаки! Где вы? — окликнул их я.
И тотчас раздался голос Сюйяки:
— Мы здесь, сын мой!
Они подбежали ко мне, обняли и в один голос спросили:
— А где же твое кожаное одеяло?
Я уселся тут же па траву и рассказал им все, что со мной случилось с тех пор, как мы расстались. Сестра протягивала мне кусочки жареного мяса, и я, не прерывая рассказа, с жадностью ел. Я начал дрожать, так как промок до костей, а ночь была холодная. Сюйяки заставила меня взять ее одеяло.
— Возьми его, — сказала она. — Мы с Асанаки можем завернуться в одно одеяло.
Когда я окончил свой рассказ, заговорила Сюйяки.
— Ясно, что боги с нами, — начала она. — Вспомни путь пройденный нами с тех пор, как мы расстались с нашим племенем. На каждом шагу угрожала нам опасность, и, однако, мы целы и невредимы. Во сне ты, сын мой, получил добрые советы от Столовой горы, и она прислала тебя сюда, где ты получил указание от сокола. Сын мой, это место нам не по душе, оно пугает нас, сотни призраков охраняют древнюю ловушку, и призраки эти нам враждебны. Но у тебя есть могущественный талисман, и мы останемся здесь, пока ты не откроешь великой тайны
— Завтра мы подумаем и посоветуемся, как следует нам поступить, — ответил я ей
Затем мы улеглись спать. Когда я проснулся, первая моя мысль была о врагах. Где они? Ушли или прячутся у реки, надеясь завладеть скальпом человека, которого они прогнали с утеса? Хотел бы я, чтобы они ушли своей дорогой! Наш запас мяса истощился, а я не смел охотиться, пока они находятся где-то поблизости.
Вскоре проснулись женщины. Сюйяки разделила оставшееся мясо и дала мне самый большой кусок. Мы ели и вели беседу. Я узнал, что за время моего отсутствия приходили на водопой к ближайшему озерцу два стада, но, почуяв человека, обратились в бегство. Я встревожился. Какой-нибудь случайный отряд мог спуститься в ложбину, чтобы узнать, кто спугнул бизонов. И если стада, приходя на водопой, будут обращаться в бегство, мне не удастся открыть тайну зазывателя. Ясно было, что мы должны выбрать другое место для стоянки.
Мы решили не привлекать внимания вражеских отрядов и, пока не стемнеет, оставаться в ложбине. Вскоре после восхода солнца большое стадо спустилось к водопою, находившемуся к западу от нас. Прячась в кустах, я близко подполз к животным. В стаде были самки, самцы не старше двух зим и детеныши, старые самцы держались пока в стороне от стада и бродили поодиночке или отдельными группами. Среди маленьких рыжих бизонов было несколько новорожденных, остальным шел второй-третий месяц. Те, которые уже умели бегать, все время гонялись друг за другом и доставляли немало хлопот матерям, боявшимся, как бы детеныш, отбившись от стада, не стал добычей волков
Все утро пролежал я в кустах, не спуская глаз с животных. Снова и снова задавал я себе вопрос, что должен я делать, чтобы бизоны, увидев меня, не обратились в бегство, а последовали за мной. Снова припомнил я, как зазывал стадо Маленькая Выдра. Я видел в подробностях все, что он делал, но зов его до меня не долетал, и я не узнал тайны зазывателя.
После полудня я увидел второе большое стадо бизонов, которые, пощипывая траву, направлялись как раз к тому месту, где мы лежали Женщины спали Я разбудил их и сказал
— Придется уйти, мы можем спугнуть это стадо. Я хочу, чтобы бизоны приходили сюда на водопой. Иначе я никогда не научусь зазывать стада.
Мы собрали свои пожитки, выползли из ложбины и спрятались в кустах между каменных гряд. Старухам не нравилось это место; они завели разговор о призраках, и Асанаки стала молиться на языке кроу. Но моя сестра заявила, что духи кроу ее не пугают.
— С тобой я никого не боюсь, — сказала она мне. — У тебя есть талисман.
Когда солнце спустилось к вершинам гор, я оставил Питаки лук и стрелы, взял свое ружье и пополз к краю пропасти Я хотел с вершины скалы осмотреть окрестности и узнать, ушли ли враги. Когда я полз между каменных гряд, над моей головой пролетел сокол «Не забудь, — сказал я, — что ты обещал мне помогать» Мне показалось, что он хочет ободрить меня, и я почувствовал радость.
На четвереньках я подполз к пропасти, припал к земле и посмотрел вниз; одна только макушка моя торчала из травы Тихо и мирно было в долине; я нигде не видел дыма, и ничто не указывало на близость врага. Взглянув на утес, где я постился, я едва мог узнать дерево сновидений, которое росло над пропастью, на нем не осталось листвы, и почти все его ветви были сломаны. Враги осыпали его градом камней, пока не увидели сквозь обнаженные ветви мой помост. Я засмеялся, представив себе, как были они удивлены, когда узнали, что я их перехитрил.
Хорошо, что к краю пропасти я подполз осторожно, как змея, крадущаяся к своей жертве! Хорошо, что, когда Старик сотворил этот мир, он сделал мою скалу выше, чем тот утес на другом берегу, где я постился: там, на том утесе, прятался дозорный. Когда в долину спустились вечерние тени, он вышел из-за каменной глыбы и стал размахивать плащом. Четыре раза повторил он свой сигнал, потом расстелил на земле одеяло и уселся.
Окинув взглядом долину, я увидел его товарищей, выходивших из той самой рощи, где мы жарили мясо. Их было пятеро, не считая дозорного, я узнал отряд, от которого бежал. Подойдя к утесу, они остановились и заговорили с дозорным, потом вшестером двинулись на запад и вскоре скрылись в надвигающейся ночи. Я знал, что они покидают эти края. Потеряв надежду найти меня, они продолжили путь. Шли они войной на племена, жившие по ту сторону гор.
Я вернулся к женщинам.
— Отряд ушел отсюда, — сказал я им.
— Как? Ты опять видел этих шестерых? — удивилась Сюйяки.
Я объяснил, что дозорный вызвал их из рощи, и они двинулись к верховьям реки. Она сказала, что это новый знак — боги с нами.
Много дней назад, когда мы шли речной долиной, я заметил маленький островок на реке, неподалеку от древней ловушки бизонов. Я предложил женщинам перебраться на этот островок и устроить там нашу стоянку. Старухам мой план понравился, и мы тотчас же отправились в путь. Островок находился неподалеку от берега, река здесь была мелкая, и мы перешли ее вброд. Остров густо зарос кустами, а в центре его раскинулась тополевая роща. Трудно было найти более безопасное место для нашей стоянки. Отряды воинов не прячутся на островах, если нет поблизости утеса или горы, откуда караульный обозревает окрестности. Здесь же берега реки были низменные.
Мы были так голодны, что ночью почти не спали. На рассвете я взял лук, стрелы и ружье и пошел к дальнему концу острова искать дичь. Вскоре на южном берегу показались три лося. Они пришли на водопой, и я надеялся, что, утолив жажду, они захотят отдохнуть на островке. Я не ошибся. Они напились и вброд перешли рукав реки, отделявший берег от островка. Вышли они на маленький мыс неподалеку от зарослей, где я спрятался.
Я был рад, что не придется стрелять из ружья. Мне не хотелось громким выстрелом будить всю долину. Положив ружье на землю, я взял стрелы и лук и пробрался сквозь кусты к узкой тропинке, по которой должны были пройти лоси. Ждать мне пришлось недолго. Лоси гуськом вышли на тропинку; они мотали головами, стараясь не задеть за острые сучья и ветви и не исцарапать новых нежных рогов.
Я спрятался за дерево у самой тропы; когда первый лось поравнялся со мной, я выстрелил, и стрела вонзилась между ребер. Я взял еще одну стрелу и ранил второго лося, но третий обратился в бегство раньше, чем я успел натянуть тетиву. Однако первые два лося были ранены смертельно: я слышал, как они бились в зарослях. Когда я подошел к ним, они уже не дышали. Я позвал женщин, и мы быстро содрали шкуры с животных и разрезали мясо на длинные полосы. Питаки тотчас же начала скрести ножом одну из шкур, приготавливая для меня одеяло.
Мы разложили костер из тополевой коры, которая почти не дает дыма, зажарили ребра лося и сытно поели. После полудня я помог женщинам построить вигвам из кольев, веток, коры и травы. Теперь мы могли разводить костер в этом вигваме, не опасаясь привлечь врагов. Все мы работали не покладая рук, так как знали, что на островке нам придется прожить много дней.
На следующий день я предполагал спрятаться неподалеку от ловушки и следить за стадами бизонов, приходящих на водопой, как велел мне сокол. Но вечером Питаки убедила меня изменить этот план.
— Брат, — сказала она, — времени у нас еще много, ты успеешь открыть тайну зазывателя, а я не могу не думать о лошадях, которых ты мне подарил. Конечно, они мирно пасутся в ущелье, но я боюсь, как бы у тех четырех, на которых ты надел путы, не были повреждены ноги. Пойди туда и надень путы на других лошадей.
— Правду ты говоришь, — ответил я. — Сделай новые путы, а завтра, на рассвете, я отправлюсь в дорогу.
Задолго до рассвета я взял ружье, немного мяса и покинул островок. Направлялся я к Столовой горе, тускло маячившей в лунном свете. Я шел быстро и ни разу не останавливался. Было около полудня, когда я спустился в маленькое ущелье. Лошади паслись на южном берегу речонки; увидев меня, они захрапели и обратились в бегство. Я пересчитал их; пропала одна лошадь — одна из тех, на которых я надел путы. За эти несколько дней животные одичали, и мне не сразу удалось их поймать. Путы не повредили ног лошадям, но все-таки я их надел на других лошадей. Потом я отправился на поиски пропавшей лошади. Вскоре я нашел ее на берегу речонки; половина ее была съедена, а на земле я увидел следы огромных медвежьих лап.
Я должен был или убить этого медведя, или увести лошадей из ущелья. Если я оставлю их здесь, лошади, на которых надеты путы, будут съедены. Я решил помериться силами с медведем. Не велик подвиг — охотиться на гризли, имея в руках одно из тех ружей, какими пользуетесь теперь вы, белые. Ваше ружье стреляет несколько раз подряд, а у меня было курковое ружье. Я знал, что, если первая пуля не убьет гризли, он меня растерзает раньше, чем я успею снова зарядить ружье. Для меня гризли был не менее опасным противником, чем воин враждебного племени. Долго я колебался. Наконец я зарядил ружье, спрятался в кустах, в сорока шагах от мертвой лошади, и стал ждать.
Гризли пришел, «когда начало смеркаться. Выйдя из зарослей, он направился к мертвой лошади. Величиной он был с самку бизона, но, конечно, гораздо ниже. Он шел смело напрямик; черные медведи осматриваются по сторонам, пока не убедятся, что опасность им не угрожает, но гризли никого не боится. Подойдя к мертвой лошади, он разгреб лапами траву и ветки, которыми покрыл свою добычу, потом оторвал большой кусок мяса от бедра и стал его пережевывать. Воспользовавшись тем, что он стоит неподвижно, я прицелился в правое его ухо и выстрелил. Гризли упал как подкошенный; пуля пронзила ему мозг, но он долго еще содрогался, словно хотел подняться и растерзать того, кто причинил ему боль.
Когда жизнь покинула его, я подошел к нему и принес его тело в жертву Солнцу. Себе я взял только когти и узкую полоску меха; в нее я хотел завернуть священную трубку, которую надеялся со временем приобрести. Потом я поел мяса, которое взял с собой, залег в кусты и проспал всю ночь. Домой, на островок, я вернулся к вечеру следующего дня. Женщины обрадовались, узнав, что я убил гризли, а сестра моя воскликнула:
Будь я мужчиной, я бы могла носить ожерелье из его когтей.
— Ты и теперь имеешь право носить эти когти, — отвечал я. — Ты помогла мне угнать лошадей, ты совершила подвиг. Возьми когти и сделай из них ожерелье.
Она приняла подарок и с гордостью надела на шею ожерелье.
Настали для нас мирные, спокойные дни. Военные отряды не рыскали больше в окрестностях; во всяком случае их не было видно. Каждое утро, на рассвете, я шел один либо с сестрой к ловушке или к дальнему концу каменных гряд, откуда следил за стадами, приходившими на водопой. В сумерках я возвращался на наш маленький островок и, поев, ложился спать.
Бизонов было очень много. Мирно паслись они на лугах, так как не настала еще та пора года, когда самцы переходят из одного стада в другое и нападают друг на друга. День за днем следил я за стадами; их было восемь-десять в окрестностях ловушки. Случалось, что детеныши отбивались от стада, а матери бросались за ними в погоню, спасая от волков, рыскавших поблизости. Не раз видел я, как стадо внезапно обращалось в бегство, хотя я знал, что не охотники его спугнули.» Почему они бегут? Что должен я сделать, чтобы они погнались за мной?»- снова и снова задавал я себе вопрос, но ответа не находил.
Быстро летело время — слишком быстро, казалось мне. Мы вели счет дням; каждый вечер сестра моя или я делали новую насечку на шомполе ружья. Изредка мы их пересчитывали: столько-то дней прошло, столько-то осталось; скоро вернется наш народ и племя плоскоголовых к устью реки. Все чаще призывал я на помощь всех наших богов, моих» тайных помощников ", в особенности сокола. Давно уже принесли мы им в жертву все ценные наши вещи, но помощи от них я не получил.
Тяжело было у меня на сердце в тот вечер, когда я сделал сорок пятую насечку на шомполе ружья. Через пять-шесть дней вернется наше племя, а я так и не открыл тайны зазывателя. Я чувствовал, что не могу встретиться с моими соплеменниками, пока не найду способа заманивать бизонов…
Проснувшись на следующее утро, я поел жареного мяса и на рассвете тронулся в путь. Со мной была Питаки. Подойдя к концу каменных гряд, мы увидели, что за ночь два новых стада приблизились к ложбине. Потом мы направились к краю пропасти, чтобы осмотреть долину. Но все было спокойно; я не увидел ни одного военного отряда. У подножия скалы паслось еще одно большое стадо, медленно спускавшееся к реке. Я знал — пройдет и этот день, а тайна так и останется неразгаданной. Стада будут пастись, отдыхать, ходить на водопой, и ничего нового не случится. В эту минуту я был уверен, что никогда не научусь зазывать бизонов.
— Покарауль ты вместо меня, — сказал я Питаки.
Завернувшись в шкуру лося, служившую мне одеялом, я лег на траву и заснул. Снилось мне, что сокол кружит над моей головой, но не успел я обратиться к нему за помощью, как Питаки схватила меня за плечо.
— Брат, проснись, проснись! — кричала она. — Посмотри на бизонов! Что-то случилось со стадом.
Глава Х
Я вскочил и посмотрел вниз. Бизоны спустились к реке, и несколько животных вошло по колени в воду. Вдруг одна самка отошла от стада и галопом помчалась прочь от реки. Бизоны, еще не вошедшие в реку, посмотрели ей вслед, потом рысцой побежали за ней. Топот копыт привел в волнение все стадо; вскоре на берегу реки не осталось ни одного бизона; все ускоряя бег, они неслись за самкой и, поднявшись по склону холма, скрылись из виду.
— Как ты думаешь, почему они убежали? — спросила Питаки.
— Самка заметила, что нет с ней ее детеныша, — предположил я. — Быть может, она спрятала его в кустах и забыла разбудить, когда стадо двинулось на водопой. А теперь она вспомнила о волках и побежала его спасать.
— Да, должно быть, так и было, — согласилась Питаки.
Я сел подле нее и задумался.
— Сестра, — сказал я, — будь у меня чудесная способность наших предков превращаться в животных, я мог бы зазывать бизонов. Я бы превратился в самку бизона и, подойдя к стаду, притворился, будто потерял детеныша. Я бросился бы его отыскивать, увлекая за собой все стадо.
И вдруг меня осенила мысль: а ведь это и есть ответ на мои молитвы и приношения. Именно это подсказывает сокол, раскрывая секрет. Я накроюсь шкурой бизона, на лошади приближусь к ним и увлеку их за собой к пропасти.
— Сестра! — воскликнул я. — Теперь я знаю, что нужно делать. Я могу превратиться в бизона, в» почти бизона ", я обману животных и увлеку их за собой. Вставай скорее! Вернемся в вигвам.
Мы спустились к реке и переправились на островок. Старухи сидели в тени большого тополя, около вигвама. Я рассказал им о том, как стадо бежало по следам самки и как пришла мне в голову мысль превратиться в» почти бизона ", чтобы заманить животных. Когда я закончил рассказ, они обе вскочили, обняли меня и заплакали от радости. Сюйяки сказала, что мы наконец вознаграждены за скитания, молитвы и жертвоприношения.
Потом, воздев руки, она стала взывать к Солнцу:
— Я стара! Недалеко то время, когда я должна буду уйти в страну Песчаных Холмов. О, Солнце, защити меня! Сохрани мне жизнь! Я хочу хоть разок увидеть, как сын мой зазывает для нашего народа стадо бизонов.
— Конечно, ты увидишь — и не один, а много раз, — сказала ей Асанаки.
Мурлыча какую-то песенку, женщины развели костер и стали жарить мясо.
Через несколько дней наше племя должно было вернуться к устью реки. Вот почему я решил немедля отправиться к Столовой горе, привести лошадей, а потом попытаться верхом на лошади заманить стадо бизонов. Поев, я покинул островок, захватил с собой кусок жареного мяса, ружье и веревку. Женщинам я приказал свить уздечки из оставшейся шкуры лося; я хотел, чтобы мы вчетвером верхом отправились к низовьям реки, навстречу нашему племени.
Поздно вечером добрался я до ущелья у подножия Столовой горы, но было уже слишком темно, чтобы отыскивать лошадей. Я спал до рассвета, а проснувшись, увидел, что лошади пасутся на склоне горы. Три из стреноженных мной освободились от пут. Я поймал четвертую, взнуздал ее и перерезал путы. Потом я поел, вскочил на лошадь и погнал табун к низовьям реки. Лошади отдохнули, отъелись, и мне никакого труда не стоило вести табун.
После полудня я въехал на высокий холм. Отсюда открывался вид на долину реки. Я остановил лошадь, осмотрелся по сторонам и хотел было ехать дальше, как вдруг увидел вдали длинную темную ленту, движущуюся по направлению к реке. Лента эта напоминала гигантскую змею; голова змеи скрылась в роще, а хвост ее извивался между холмов. Ошибки быть не могло: племя плоскоголовых спускалось к низовьям реки на несколько дней раньше назначенного времени. В первую минуту я обрадовался: теперь нам не грозит нападение неприятельских отрядов. Но, поразмыслив, я понял, что приход плоскоголовых помешает моей попытке заманить бизонов к древней ловушке кроу. Тогда я хлестнул лошадь и поскакал галопом, гоня перед собой табун. Остановившись на берегу против островка, я крикнул женщинам:
— Преградите путь табуну! Остановите его, а мне принесите веревки!…
Они быстро исполнили мое приказание. Для старух и для Питаки я поймал трех лошадей, а также выбрал и для себя свежую лошадь, маленького гнедого жеребца. Потом я сообщил старухам о приходе плоскоголовых и сказал, что нужно во что бы то ни стало их остановить. Пусть устроят они стоянку к югу от ловушки. Я боялся, как бы не спугнули они бизонов, которые паслись на равнине.
— А теперь, — добавил я, — соберите ваши пожитки и поезжайте навстречу плоскоголовым. Передайте им мои слова. Я вас провожу.
Сюйяки засмеялась:
— Он говорит, чтобы мы собрали наши пожитки, а у нас нет ничего, кроме медного котелка. Сын мой, сегодня утром мы доели мясо лося, которого ты убил.
— Не беда! — отозвался я. — Плоскоголовые вас накормят. А скоро и я пойду на охоту. Не мешкайте! Собирайтесь в путь.
Я их проводил по берегу реки, и они поехали навстречу плоскоголовым, а я повернул лошадь назад. Отъехав немного, я окликнул сестру и попросил ее дать мне одеяло из шкуры бизона вместо шкуры лося, которая была у меня. Она подъехала ко мне, передала свое одеяло и объявила, что вместе со мной вернется к ловушке. Она хотела посмотреть, как я буду зазывать бизонов.
— Ну что ж! Ты увидишь, как они снова убегут от меня, — отозвался я.
— Нет, нет, теперь они не убегут! — воскликнула она. — О, как я горжусь тобой! Я — сестра Апока, зазывателя бизонов, дарующего изобилие…
На закате солнца я привязал лошадь Питаки к бревну изгороди около старой ловушки. Ведя моего жеребца на поводу, мы поднялись по тропе на скалу и, шагая между каменных гряд, спустились к ложбине.
— Сестра, — сказал я, — давно уже преследует меня одна мысль. Однажды слышал я, как Четыре Рога сказал:» Зазывателю всегда грозит опасность, потому что он — пеший. Было бы хорошо, если бы он мог зазывать бизонов, сидя верхом на лошади ". Его слова запомнились мне, я не переставал о них думать. И если стадо пасется неподалеку от ложбины, мы сейчас узнаем, можно ли зазывать бизонов, сидя верхом на лошади.
На это моя сестра ничего не ответила. Я посмотрел на нее и увидел, что она опять молится.
Скоро мы поднялись на холм, находившийся между скалой и ложбиной, и с вершины этого холма увидели небольшое стадо, которое паслось по ту сторону ложбины. Я оставил сестре ружье, приказал ей спрятаться за грудой камней и вскочил на лошадь.
Как я уже говорил раньше, за ложбиной начиналась цепь низких холмов. Прячась за ними, я близко подъехал к стаду, припал к шее лошади, накрылся шкурой бизона, вывернув ее шерстью наружу, и выехал из-за холма. Медленно приближался я к стаду. Наконец бизоны меня увидели и подняли головы. Тотчас же я повернул лошадь назад, к ложбине, уцепился одной рукой за гриву, свесился вниз и тростинкой начал щекотать лошадь между задних ног. Она стала брыкаться, а я оглянулся и увидел, что стадо бежит за мной.
Был ли я рад? О, никогда еще я не был так счастлив. Мне хотелось выкрикивать слова благодарности богам, но я удержался от этого. Выехав из ложбины, я поскакал по направлению к пропасти, а бизоны быстро меня нагоняли. Если бы выскочили сейчас загонщики, стадо лавиной скатилось бы со скалы в ловушку. Видя, что бизоны меня нагоняют, я выпрямился, стал кричать и размахивать шкурой. Потом я свернул направо, а испуганное стадо повернуло налево и, миновав каменную гряду, умчалось на запад. Снова я повернул лошадь и направился к тому месту, где должна была ждать меня сестра. Но она уже бежала, приплясывая, мне навстречу.
— Ты их заманил! Ты их заманил! — кричала она. — О, брат, они бежали за тобой!
Она заставила меня сойти с лошади и крепко обняла. Мы оба были вне себя от радости и вряд ли сознавали, что делаем.
По тропе мы спустились к древней ловушке, Питаки вскочила на свою лошадь, и мы поскакали отыскивать плоскоголовых. Они еще не спустились к низовьям реки, и мы знали, что нужно их искать в верхнем конце долины.
Было уже темно, когда мы увидели красный отблеск костров и вигвамы, раскинутые у опушки большой рощи. Въехав в лагерь, я стал расспрашивать встречных, не видели ли они наших двух старух. Многие из женщин племени черноногих были замужем за плоскоголовыми, и дети их и мужья говорили на нашем языке.
Наконец одна из женщин пикуни отвела нас к тем, кого мы искали. Вождь плоскоголовых пригласил их в свой вигвам. Услышав наши голоса, они выбежали нам навстречу, и Сюйяки спросила:
— Ну что? Удалось тебе заманить бизонов?
— Да, да, — закричала моя сестра. — Все стадо бежало за ним к каменным грядам!
Плача от радости, старухи обняли меня, стали целовать и вознесли хвалу богам за их доброту ко мне. Вокруг теснились плоскоголовые. Старый вождь вышел из вигвама, приветствовал меня на родном мне языке и спросил:
— Что я слышу! Правда ли, что ты верхом на лошади заманил стадо бизонов?
— Да, правда, — ответил я. — Сегодня я это сделал.
Он взял меня за руку и повел в свой вигвам.
— Входи! Юный знахарь мой, входи! Мой вигвам — твой вигвам.
Я вошел, и он усадил меня на почетное место — на свое ложе из шкур в глубине вигвама. За нами последовали старшины и воины, а у входа толпились люди. Женщины угощали меня мясом и сушеным камасом, но я был так взволнован, что не мог есть. Да и плоскоголовым хотелось поскорее услышать мой рассказ. Отодвинув блюдо, я рассказал, как верхом на лошади заманил бизонов к пропасти, на дне которой находится древняя ловушка кроу. Слушатели были поражены; они вскрикивали от удивления и хлопали себя руками по губам… Потом они сообщили мне последние новости, спросили, как я думаю, придет ли мое племя в назначенный день к устью реки. И снова речь зашла о совершенном мною подвиге. Вождь сказал:
— Быть может, ты согласишься заманить для нас стадо? Многие из моего племени никогда не видели, как бизоны лавиной скатываются со скалы в ловушку. Я сам видел это только однажды и очень хотел бы посмотреть еще раз.
— Если мои вожди позволят мне, я постараюсь заманить для вас стадо, — ответил я.
Было уже поздно, когда все гости разошлись по своим вигвамам, и мы легли спать.
Утром я долго беседовал с вождем. Я просил, чтобы плоскоголовые покинули долину реки и обошли ловушку бизонов. Вождь охотно согласился исполнить мою просьбу. Когда взошло солнце, вигвамы были уже сложены, поклажа навьючена на лошадей, и вереница всадников змеей поползла к югу, прочь от реки. Вместе с вождем и тремя воинами я спустился к подножию скалы и показал им древнюю ловушку кроу. Подойдя к подгнившей изгороди, они вскрикнули от изумления, увидев толстый слой рогов и костей, покрывавший землю. Сколько животных погибло здесь в былые дни!…
— Как богаты вы, племена черноногих! — сказал мне вождь. — Беспредельны ваши равнины, и нужно путешествовать много дней, чтобы пройти их из конца в конец. А бизонов у вас столько, что за год вы не съедаете и десятой части годового приплода.
Да, я был рад, что живу на открытой равнине, а не в лесах, как плоскоголовые. Но и плоскоголовые не считались бедным племенем. Вместо бизонов и антилоп была у них другая крупная дичь и очень много лошадей.
Осмотрев ловушку, мы поднялись на равнину и вскоре присоединились к длинной веренице всадников… Ехал я впереди, рядом с вождем. Солнце заходило за горы, когда мы спустились к устью Солнечной реки. Тотчас же я пошел отыскивать то место, где мы спрятали наши вещи. К великой моей радости, никто не наткнулся на наш тайник в кустах, и все вещи были целы. Эту ночь мы спали в нашем собственном вигваме, на мягких шкурах. Но ужинали мы в гостях. Меня пригласил на пир вождь плоскоголовых, а женщины провели вечер со своими друзьями. Было уже поздно, когда мы вернулись в вигвам и улеглись спать.
На следующий день караульные принесли весть, что вдали показались пикуни. Когда весть разнеслась по всему лагерю, мужчины, женщины и дети нарядились в лучшие свои одежды. Воины вскочили на коней, я последовал их примеру, и мы поехали навстречу пикуни.
Поздно вечером вел я беседу с Не Бегуном. Встретились мы с ним раньше, но поговорить не успели. Он показал мне только моих лошадей и сообщил, что ни одна не пропала. Когда я вошел в его вигвам, он крикнул:
— Добро пожаловать, Апок, Дарующий Изобилие! Твоя сестра и Сюйяки обо всем мне рассказали.
Тогда я высказал вслух то, о чем все время думал:
— Один раз я заманил бизонов, но, быть может, больше мне никогда не удастся зазвать стадо. Я боюсь еще раз испробовать свои силы.
— Не будь трусливым, — сказал мне Не Бегун. — Конечно, ты научился зазывать бизонов, и неудачи быть не может. Два месяца мы с тобой не виделись; расскажи мне, что случилось за это время.
Когда я окончил свой рассказ, нас позвали в вигвам Одинокого Ходока, где мы застали вождя плоскоголовых и старшин обоих племен. Снова пришлось мне рассказывать о том, как верхом на лошади я заманил бизонов. Все слушали внимательно; трубка, переходившая из рук в руки, погасла, а Одинокий Ходок забыл ее разжечь.
Рассказав, как бизоны последовали за мной к древней ловушке кроу, я заметил, что слушатели недоверчиво относятся к моим словам. Раздосадованный, я крикнул:
— Дайте мне возможность еще раз заманить стадо, и тогда вы узнаете, что я открыл тайну!
— Будь по-твоему, сын мой! — отозвался Одинокий Ходок. — Две ночи мы будем отдыхать здесь, потом переселимся к древней ловушке, починим изгородь, и ты заманишь для нас стадо.
Вернувшись в свой вигвам, я долго не мог заснуть. Мне было страшно; я жалел о том, что вождь принял мое предложение. Что, если постигнет меня неудача? Я знал, что не найду покоя, если не удастся мне заманить бизонов в ловушку.
В течение следующего дня между плоскоголовыми и пикуни шла оживленная меновая торговля. Потом охотники из племени плоскоголовых переправились на другой берег реки и убили много бизонов, а вечером оба племени пировали. Меня и Не Бегуна приглашали то в один, то в другой вигвам, и я должен был снова и снова рассказывать о своем подвиге. Но говорил я мало и без всякого воодушевления. Тревожно было у меня на душе. Хотелось остаться одному, сосредоточиться и молиться.
Утром мы снялись с лагеря и отправились в путь. Ехали мы по южному берегу реки и, доехав до ловушки, расположились станом как раз против нее. Вожди обоих племен отдали приказ, чтобы никто, кроме караульных, не смел переправляться на другой берег. И все лошади паслись на южном берегу.
По примеру Маленькой Выдры и других зазывателей я раскинул свой вигвам в стороне от большого лагеря. Вместе с, караульными я переправился через реку, поднялся на скалу и увидел стадо бизонов, которые паслись неподалеку от ложбины.
— Следите за бизонами и известите меня, когда они приблизятся к каменным грядам, — сказал я караульным. — Сегодня я начну поститься.
Я чувствовал смущение. Казалось мне — я был еще слишком молод, чтобы отдавать приказания.
Асанаки по-прежнему жила в нашем вигваме. Когда пришли пикуни, она отыскала двух своих дальних родственников, но предпочла остаться с нами, а мы были обрадованы ее решением. Но сейчас мне пришлось отослать ее и Питаки в вигвам Не Бегуна, так как с этого дня начался для меня пост. Сюйяки выкрасила себе лицо и руки черной краской и осталась со мной в вигваме. Вместе мы пели Песню древнего бизона и другие священные песни…
Настал третий день поста. Вечером вернулась Сюйяки, ходившая к реке, и сказала, что старая ловушка уже исправлена. Сюйяки встретила мою сестру, которая знаками сообщила ей, что воины построили высокую прочную изгородь.
— Боюсь, что напрасно они работали, — сказал я. — Вряд ли удастся мне заманить бизонов в пропасть.
— Как не стыдно тебе говорить такие слова! — прикрикнула на меня старуха. — Вспомни два прошедших месяца. Разве ты не видишь, что боги тебе покровительствуют? Конечно, ты заманишь стадо в ловушку. Споем-ка еще разок Песню древнего бизона.
Ее слова меня подбодрили. Мы спели Песню бизона и Песню волка и все другие древние песни, а когда стемнело, легли спать.
Настал четвертый, и последний, день поста. На рассвете подбежал к моему вигваму караульный и сказал, что большое стадо бизонов показалось по ту сторону ложбины, как раз против каменных гряд. Я послал караульного к Не Бегуну с просьбой привести мне маленького гнедого жеребца. Когда его привели, я взял шкуру бизона и хлыст, а затем вскочил на лошадь. Переправившись через реку, я поднялся на скалу и увидел очень большое стадо, двигавшееся по направлению к ложбине. Я сказал четырем караульным:
— Пусть один из вас переправится на другой берег и позовет людей. А вы трое останьтесь здесь и предупредите загонщиков, чтобы они шли медленно и не показывались стаду.
Ведя лошадь за уздечку, я отошел в сторону и уселся на землю. Я не спускал глаз с бизонов и молился. Вскоре услышал я тихие шаги людей, пробиравшихся вдоль каменных гряд, но я на них не смотрел. Подошел Не Бегун и сел подле меня. Когда он заговорил, голос его дрожал, и я заметил, что руки его трясутся, словно от холода. Я тоже весь дрожал.
— О, сын мой, — сказал он, — я так боюсь за тебя, что у меня даже в глазах темнеет. Неужели постигнет тебя неудача? Нет, во что бы то ни стало ты должен заманить стадо в ловушку!
— Молись за меня! — ответил я. — О, как мне страшно идти туда! Но я должен и я иду!
С этими словами я встал, вскочил на лошадь и, проехав между каменных гряд, спустился в ложбину. Выехав на равнину, я остановил лошадь у подножия холма, заслонявшего от меня стадо, и оглянулся. Загонщики шли вдоль каменных гряд, и я подождал, пока все они не заняли своих мест… Тогда я выехал на холм. Стадо увидело меня, и в эту минуту я снова обрел уверенность в своих силах.
Когда первая самка повернула голову и уставилась на меня, я припал к шее лошади. Длинная шкура закрывала и меня и мою лошадь, и для животных, смотревших на меня издали, я был бизоном — быть может, несколько странным, но все-таки бизоном. Я не дал им присмотреться внимательнее. Повернув лошадь, я пощекотал ее хлыстиком между задних ног, а когда она начала брыкаться, поскакал к каменным грядам. Стадо тотчас же последовало за мной.
Прислушиваясь к оглушительному топоту копыт за спиной, я мчался все быстрее и быстрее, пересек ложбину и выехал к каменным грядам. Стадо меня нагоняло. Тогда я повернул на восток и, проехав между нагроможденных камней, скрылся за восточной грядой. О, как я был счастлив, когда, оглянувшись, увидел, что бизоны мчатся прямо к пропасти! Из-за гряд выскакивали загонщики; они кричали, размахивали плащами, заставляя животных ускорить бег. Гремели копыта, облако пыли вилось над стадом. Срываясь со скалы, бизоны лавиной катились в пропасть. Когда последняя старая самка рухнула вниз, загонщики по тропинке сбежали к ловушке.
Я остался один между каменных гряд. Подъехав к краю пропасти, я сошел с лошади, опустился на землю и посмотрел вниз. Гигантские туши громоздились одна на другой, воины добивали искалеченных животных.
Когда был убит последний бизон, женщины тоже вошли за ограждение и вместе с мужчинами начали сдирать шкуры с животных и рассекать туши. Целый день кипела работа. Долго сидел я на вершине скалы, потом спустился к ловушке. Мужчины и женщины приветствовали меня громкими возгласами:
— Апок! Апок! Вот идет Апок, Дарующий Изобилие!
Долго не смолкали крики. Вы можете себе представить, как счастлив я был.
Так я стал зазывателем бизонов. В течение многих лет заманивал я стада для моего племени и для других — сиксика, кайна, а также для большебрюхих. Работы было много, и от четырех племен я получал щедрые дары. Со временем и другие молодые люди научились зазывать бизонов, но в моем племени я был единственным зазывателем. А затем белые построили Форт-Бентон, и торговцы стали скупать у нас шкуры бизонов. На шкуры был большой спрос. Наши воины ежедневно ходили на охоту и убивали бизонов, в прериях гнили и поедались волками тысячи и тысячи туш бизонов. В лагере всегда было много мяса.
Теперь никто не нуждался в моих услугах. Через три года после постройки форта я в последний раз заманил стадо для моего племени. С тех пор я должен был или сам ходить на охоту, или посылать кого-нибудь, когда запас мяса в нашем вигваме приходил к концу.
О, как бы я хотел, чтобы белые никогда не появлялись в нашей стране!
ОШИБКА ОДИНОКОГО БИЗОНА 1. ЗАКОН ОХОТЫ
Было мне четырнадцать лет, а сестре моей Нитаки тринадцать, когда настал этот тяжелый день, памятный всем нам. Но в этот день мы и не подозревали, какие невзгоды, какую беду навлекут на нас гордость, гнев и непреклонность моего отца. Как ты сам узнаешь, все это случилось по его вине.
В месяц Новой Травы мы, пикуни, или южные черноногие, как называете нас вы, белые, стояли лагерем на берегу реки Титона, неподалеку от холмов, которым мы дали имя «Четверо». Много нас было в те дни; в лагере насчитывалось восемьсот вигвамов, приютивших до четырех тысяч мужчин, женщин и детей.
И потому, что было нас так много, праотцы наши сообща выработали ряд правил, касавшихся охоты, и правилам этим подчинялись все. Вот одно из них: когда все племя нуждалось в большом количестве бизоньих шкур для одежды или новых вигвамов, охотник не имел права выходить один на охоту, так как он мог спугнуть стадо бизонов, которые паслись в окрестностях лагеря, и лишить других охотников добычи. Был у нас такой обычай: старшины племени приказывали юношам следить за бизонами, и если какое-нибудь стадо приближалось к лагерю, разведчики немедленно сообщали об этом старшинам. Затем лагерный глашатай объезжал все вигвамы и от имени вождя приказывал всем охотникам седлать лошадей и явиться на место сбора — к вигваму вождя. Сам вождь возглавлял отряд охотников. На быстрых конях они долго преследовали убегающее стадо, а по окончании охоты равнина бывала усеяна тушами убитых бизонов. Суровая кара грозила тому, кто нарушал правила охоты. По приказу вождя отряд Ловцов, входивший в союз братств Друзья, наказывал виновного. Ловцы срывали с него одежду, били его хлыстом, а иногда разрушали его вигвам и убивали лучших лошадей. И все считали наказание заслуженным, так как существование нашего племени зависело от удачной охоты на бизонов. Эти животные всегда доставляли нам пищу, кров и одежду.
Однажды, в месяц Новой Травы, кто-то из воинов пожаловался старшинам на недостаток шкур для вигвамов: многие охотники, охотившиеся поодиночке, спугивали стада и лишали своих товарищей добычи. Старшины выслушали жалобы и немедленно приказали глашатаю объявить всему лагерю о запрещении охоты на неопределенное время. Тотчас же посланы были на разведку юноши из отряда Носители Ворона, — на их обязанности лежало следить за стадами бизонов, которые паслись на равнинах, и ежедневно докладывать старшинам о передвижении отдельных стад.
Мой отец сидел в нашем вигваме, когда мимо проехал глашатай, выкрикивавший приказ старшин и напоминавший о каре, которая ждала всех ослушников.
— Ха! Эти старшины только и делают, что отдают нам приказания, словно мы дети! — воскликнул отец. — Не боюсь я их угроз и на охоту пойду, если захочу.
Думали мы, что он шутит, но дня через два он вдруг спросил мою мать:
— Сисаки, много ли осталось у нас мяса?
— Сегодня утром мы съели последний кусок свежего мяса, а сушеного осталось еще на один день, — отозвалась мать.
— Отлично! Будем сидеть сложа руки, пока не кончатся все наши запасы, а затем отправимся на охоту. Моей жене и детям я привезу много мяса, хотя бы пришлось мне нарушить все правила охоты.
— О муж мой! Подумай, как накажут тебя Ловцы, если ты ослушаешься старшин! Не нарушай приказа. Мяса в лагере много. Я возьму несколько кусков у наших родственников и друзей.
— Ха! Эти Ловцы не посмеют меня тронуть! — воскликнул отец. — Послезавтра я пойду на охоту. А тебе я запрещаю просить мяса у наших друзей. Никогда и ни у кого мы не брали съестных припасов и брать не будем.
— Но вспомни, сколько раз соседи обращались ко мне за помощью! Я им давала мясо, жир и даже пеммикан. А теперь мы впервые нуждаемся в помощи, и, конечно, они нам не откажут.
— Если бы мы умирали с голоду, все равно я не позволил бы тебе брать у них мясо, — заявил отец. — Всегда меня считали хорошим охотником, который может прокормить семью. С того дня как мы с тобой поселились в одном вигваме, не было у нас недостатка в съестных припасах, и этим я гордился. Быть может, я хвастал своей удачей на охоте, но все знают, что нет мне равного во всем лагере. Да, жена, много зим прожили мы с тобой вместе и будем дальше так жить, ни к кому не обращаясь за помощью. Даже к братьям твоим или моим я запрещаю тебе идти. Говорю в последний раз: если вождь не поведет всех воинов на охоту за бизонами, я послезавтра пойду охотиться один. Я все сказал.
Конечно, решение, принятое отцом, встревожило не только мою мать, но и нас с сестрой. Когда он вышел из вигвама, чтобы вести на водопой наш табун, мать долго плакала и повторяла снова и снова, что нам не миновать беды. Одна была у нас надежда: быть может, большое стадо бизонов приблизится к нашему лагерю, и вождь поведет на охоту всех мужчин нашего племени.
На следующее утро караульные донесли, что на открытой равнине к югу от реки пасется очень большое стадо, но нет возможности незаметно к нему приблизиться. О, как хотелось нам, чтобы за ночь это стадо передвинулось на север, к реке! Но надежды наши не сбылись. На рассвете лагерный глашатай объявил, что стадо по-прежнему пасется в центре равнины. Снова повторив приказ старшин, он убеждал охотников терпеливо ждать.
Когда он проехал мимо нашего вигвама, отец засмеялся. Жутко нам было слушать этот смех.
— Ха! Они запрещают нам идти на охоту, а у нас в вигваме не осталось ни куска мяса! Они приказывают нам быть терпеливыми и голодать! Ну, что ж! Пусть другие охотники повинуются старшинам, но уж я-то раздобуду свежего мяса. Да, Одинокий Бизон идет на охоту и берет с собой Черную Выдру.
Черной Выдрой назвали меня, когда я родился. Лишь много лет спустя заслужил я другое имя — Вождь Вигвамный Шест, которое ношу и по сей день.
— О муж мой, пожалей меня, — взмолилась мать. — Если ты любишь наших детей, если любишь меня — не ходи на охоту! Останься здесь, с нами, пока вождь не снимет запрета.
— Да! Остаться здесь и голодать или просить помощи у соседей! Люблю я и тебя и детей. Вот потому-то и иду на охоту. Черная Выдра, ступай, пригони табун!
Я взглянул на мать, надеясь, что она заступится и запретит мне идти на охоту. Но она покрыла голову одеялом и заплакала. Знала она, что отца не заставишь изменить решение.
Взяв веревку, я вышел из вигвама, поднялся на равнину, у склона которой раскинулся лагерь, и погнал наш табун на водопой. В то время было у нас больше ста голов. Отец ждал меня у реки. Поймав двух быстрых лошадей, приученных к охоте на бизонов, он выбрал лошадь и для меня. Мы их оседлали и пересекли лагерь, держа путь на запад. Когда мы проезжали мимо вигвама Белой Антилопы, начальника отряда Ловцов, он показался у входа и спросил, куда мы едем. Мой отец смотрел прямо перед собой и ничего ему не ответил, словно не видел его и не слышал. Несколько раз я оглядывался: Белая Антилопа смотрел нам вслед, — должно быть, он решил узнать, куда и зачем мы едем.
Выехав из лагеря, мы повернули на юго-запад, к холмам, лежащим у подножия Спинного Хребта Мира. Проезжая мимо одного из холмов Четверо, мы увидели на его вершине караульного из отряда Носители Ворона. Знаками приказывал он нам вернуться в лагерь, но мой отец обратил на него не больше внимания, чем на Белую Антилопу. Ехали мы то галопом, то рысью и к полудню остановились у подножия холмов. Вдали паслись старые бизоны, а на склоне заметил я жирного трехгодовалого самца, который при виде нас обратился в бегство.
— О, убей его, отец! — воскликнул я. — Его легко догнать.
— Нас ждет добыча получше этой, — отозвался отец. — Сегодня вечером я привезу в наш вигвам мясо жирной самки.
Больше я не сказал ни слова. Поднявшись на вершину одного из холмов, мы спрыгнули с седел и окинули взглядом равнину, тянувшуюся на восток до самого горизонта. Вдали паслось большое стадо бизонов — триста или четыреста голов, — за которым в течение нескольких дней следили Носители Ворона. Животные по-прежнему занимали центр широкого плоскогорья; кое-где в неглубоких ямах сверкала дождевая вода, и я понял, почему бизоны не идут на водопой к реке. Караульные были правы: пока стадо не покинуло плоскогорья нельзя было незаметно к нему приблизиться.
Отец закурил трубку и долго не спускал глаз с большого стада. Наконец мы снова вскочили на коней и, поднявшись на вершину следующего холма, посмотрели вниз. В ущелье между двумя холмами увидели мы сорок — пятьдесят самок с детенышами. Среди них была одна очень крупная, жирная и, по-видимому, недойная.
— Теперь ты видишь, сын мой, что не следовало мне убивать того молодого бизона, — сказал отец. — Солнце милостиво к нам: оно посылает завидную добычу.
Я ничего не ответил: мысли мои сосредоточены были на том, что ждет нас, когда мы вернемся вечером в лагерь. Отец не сомневался в том, что Ловцы не посмеют его наказать за нарушение правил охоты, но я не разделял его уверенности.
Отец приказал мне ждать на вершине холма, пока он сам спустится к выходу из ущелья. Затем я должен был въехать в ущелье с другой стороны и спугнуть бизонов: увидев меня, они помчатся по направлению к равнине и пробегут мимо отца.
Все случилось так, как он предполагал. Завидев меня, бизоны задрали хвост и, делая огромные прыжки, понеслись по ущелью. Отец перерезал им дорогу, подъехал к жирной недойной самке и спустил тетиву лука. Стрела по самое оперение вонзилась ей в бок. Одного выстрела было достаточно. Красным потоком хлынула кровь из ноздрей, самка остановилась, покачнулась и рухнула на землю.
Я подъехал к отцу, мы спрыгнули с седел и начали свежевать тушу. Самка оказалась очень жирной: ребра горба были покрыты слоем белоснежного жира толщиной в три пальца. Отец радовался удаче. Рассекая тушу и вырезая язык и лучшие куски мяса, он громко пел песню койота, или охотничью песню; потом, потирая руки и улыбаясь, сказал мне:
— Ну вот, сын мой, есть у нас теперь мясо. Думаю, что и ты, и твоя мать, и сестра не прочь полакомиться. Ха! А старшины приказали нам сидеть в лагере и голодать. Нет! Пока у Одинокого Бизона хватает сил сгибать лук, семья его голодать не будет.
Когда рухнула на землю жирная самка, мы с отцом забыли о стаде, которое вырвалось из ущелья на равнину. Только теперь, навьючивая мясо на лошадей, заметили мы далеко на востоке густое облако пыли. Смутно догадывались мы, что происходит, но ни слова друг другу не сказали. Отец вскочил в седло и стал подниматься по склону холма; я последовал за ним, и, поднявшись на вершину, мы натянули поводья и взглянули на равнину. Догадка наша оказалась правильной: бизоны, вырвавшись из ущелья, помчались прямо к большому стаду и спугнули его; теперь оно бежало на юг, прочь от нашего лагеря. В течение нескольких дней караульные следили за этим стадом, и весь лагерь терпеливо ждал, когда оно спустится к реке, но мой отец забыл о нуждах племени и думал только о себе. Упрямый и гордый, он один повинен был в том, что стадо обратилось в бегство и широким черным потоком неслось на юг.
Я посмотрел на отца. Он хмурился, улыбка сбежала с его лица. Но через минуту морщины на лбу разгладились, и он сказал холодно и спокойно, словно размышлял вслух:
— Ну, что ж! Я спугнул стадо, но кто в этом виноват? Не я! Дети мои должны есть досыта, хотя бы мне пришлось нарушить все законы нашего племени.
Конечно, я ничего на это не ответил. Мы поехали домой. Зашло солнце. Смеркалось, когда мы завидели лагерь. Перед вигвамами стояли мужчины и женщины и смотрели на нас. Все молчали, никто не сказал нам ни слова. Молчание, странное, тревожное молчание, встречало нас и провожало. Не знаю, почувствовал ли отец это враждебное отношение толпы. Мы подъехали к нашему вигваму и спрыгнули с седел. Мать ждала нас у входа. Молча взяла она мясо и понесла его в вигвам.
Предоставив мне расседлать лошадей, отец последовал за матерью.
— Жена, дочка! — весело крикнул он. — Я привез вам жирного мяса. Приготовьте поскорее ужин. Знаю, что вы голодны.
Я вошел в вигвам и сел на свою постель из звериных шкур. Мать ничего ему не ответила. Я видел, как дрожали ее руки, когда она разрезала язык бизона на тонкие полосы. Эти полосы и ребра она стала поджаривать на красных угольях костра.
Отец отложил в сторону лук и взял ружье, стоявшее у изголовья его постели. Это ружье он купил прошлым летом в торговом форте Компании Гудзонова залива. Внимательно осмотрев его и любовно погладив ствол, он поставил его в ногах постели. Из ружья он стрелял редко, так как мало было пороха и пуль. Охотясь на бизонов, он брал лук и стрелы, а оружием белых пользовался только на войне. Купив у белых несколько ружей, наши черноногие прогнали враждебное нам племя кроу к реке Иеллоустон. И кроу вынуждены были покинуть пастбища, раскинувшиеся к северу от реки Миссури.
Поджарив мясо, мать дала каждому из нас по большому куску. Себе она не взяла ни кусочка, и отец спросил, не больна ли она.
— Тяжело у меня на сердце, — ответила мать. — Знаю я, что ты навлек на нас несчастье.
— Ха! — воскликнул отец. — Сними тяжесть с сердца. Чего ты боишься? Неужели ты думаешь, что Ловцы посмеют меня тронуть? Кто из наших воинов может со мной равняться? Разве не совершил я подвигов больше, чем кто бы то ни было из них? Сколько раз я водил их по тропе войны, сколько раз мы одерживали победу над врагами! Да стоит мне захотеть, и меня изберут вождем племени! Полно, успокойся и ешь вместе с нами.
Да, отец верил, что стоит ему захотеть, и он будет избран вождем племени. Однако он ошибался, и я это знал. Играя с товарищами и бегая между вигвамами, я часто слышал разговоры о моем отце. Запомнились мне слова старика Низкого Медведя. Не зная, что я нахожусь поблизости, он говорил воинам, собравшимся в его вигваме:
— Чтобы стать вождем, нужны храбрость, щедрость, тихий, спокойный нрав и — прежде всего — доброта. Одинокий Бизон храбр, он — великий воин. И щедрость его всем известна: многим вдовам и сиротам он уделяет часть своей добычи. Но сердце у него гордое и нрав вспыльчивый: из-за пустяков он приходит в бешенство. Да, когда он говорит с друзьями или нетерпеливо слушает их, видно, что себя он считает выше всех. Вот почему я говорю: не быть ему вождем!
Вернувшись домой, я передал матери слова Низкого Медведя. Выслушав меня, она долго молчала и наконец ответила:
— Каковы бы ни были его недостатки, но нас он любит. Помни об этом всегда.
Взглянув на сестру, я заметил, что она тоже не ест. То она, то мать с испугом посматривали на шкуру, завешивавшую вход в вигвам, вздрагивали и прислушивались к малейшему шороху. Их тревога передалась и мне: делая вид, будто обгладываю ребро, я не спускал глаз с двери.
Вот потому-то мы и не заметили, как чьи-то руки бесшумно приподняли шкуру, служившую задней стенкой вигвама, и крепко сжали шесты. Не видел этого и отец: он сидел лицом к выходу, медленно пережевывая куски мяса, и напевал песню койота. И вдруг вигвам наш зашатался, — Ловцы раскачали шесты и повалили его на землю. Потом бросились они к отцу и схватили его за руки, он не успел пустить в ход нож, которым резал мясо.
Заревев от гнева, он попытался вырваться из рук Ловцов. Моя мать поспешила к нему на помощь.
— Отпустите его! — кричала она. — Говорю вам, отпустите его!
Сестра с плачем убежала в темноту, а я стоял как вкопанный, не зная, что делать. Собралась толпа. Люди, закутанные в одеяла из звериных шкур, стояли вокруг нас и молчали. Что-то жуткое было в их молчании: казалось, все считали справедливым то наказание, какому Ловцы хотели подвергнуть отца.
Восемь человек крепко его держали, остальные завладели его оружием и взяли мясо, которое он в тот день привез. Затем выступил вперед начальник Ловцов и плеткой ударил моего отца по спине. Удар был слабый, но громко щелкнула плетка из невыделанной кожи, опустившись на тонкую кожаную куртку отца. Кто-то застонал в толпе. Мать с воплем рванулась вперед, но ее удержали. Удержали и меня, когда я бросился к начальнику Ловцов. Шесть раз опускалась плетка, но отец не дрогнул и не вскрикнул.
Тогда сказал начальник Ловцов:
— Все вы видели, как наказан был человек, нарушивший законы охоты. Будьте мудры: повинуйтесь приказам старшин. Помните, что наши законы созданы для блага всех нас. Пусть знает каждый ослушник, какое ждет его наказание.
Ловцы освободили нас троих и молча удалились, за ними последовала толпа.
Отец опустился на ложе из звериных шкур и закрыл лицо руками. Вернулась сестра и, плача, взяла меня за руку. С нами остался кое-кто из наших родственников и друзей. Они помогли матери поставить вигвам и разложить маленький костер. Потом, предложив нам сушеного мяса и пеммикана, они ушли вслед за толпой.
Три раза подбрасывала мать сухие ветки в костер, а отец по-прежнему молчал и не отнимал рук от лица. Жестокое постигло его наказание. Удары плеткой были слабые и почти не причинили боли, ребенок и тот мог бы вынести эту боль. Но оскорбительно было такое наказание. Мы, черноногие, считаем, что воспоминание об унижении стирается лишь со смертью обидчика. Вот почему мы браним детей, но никогда их не сечем. Ударить ребенка — значит сломить дух его.
Костер догорал, а мать уговаривала отца лечь и заснуть. Он сидел неподвижно и ни слова не сказал в ответ. При тусклом свете тлеющих углей мы трое улеглись на мягкие шкуры и оставили его одного. О, как хотелось мне его утешить! Засыпая, я мысленно твердил: «Это его вина. Он сам навлек на себя наказание». Но в эту ночь я любил его больше, чем когда бы то ни было. Долго я метался и думал о том, как встретит он рассвет, что принесет ему следующий день.
Ночью я слышал стоны отца и тихий голос матери:
— О мой муж, мой муж! Что мне делать? Как успокоить тебя?
2. РАЗЛУКА С ПЛЕМЕНЕМ
Проснувшись на рассвете, я увидел, что отец по-прежнему сидит на ложе из звериных шкур и не спускает глаз с костра. Должно быть, он просидел так всю ночь. Его лицо показалось мне измученным и постаревшим.
Мать заговорила с ним.
— Нам нечего есть. В вигваме не осталось ни куска мяса. Могу ли я пойти к моим братьям и попросить у них мяса, чтобы накормить детей? — спросила она.
— Да, ступай. Накорми детей и поешь сама. Я есть не буду. Ни одного куска не проглочу я, пока мы не покинем этого лагеря, — ответил он.
— О, что ты говоришь! — испугалась мать.
— Больше я не пикуни! Я отрекаюсь от этого племени. Ступай принеси мяса, поешь и уложи все наши вещи. К полудню лагерь останется далеко позади.
Сестра и я с ужасом прислушивались к его словам. Покинуть лагерь! Навсегда расстаться с родными, друзьями, товарищами наших игр! Сначала мы не поверили, думали, что он шутит, но мать знала его лучше, чем мы. Однако она не теряла надежды: быть может, он изменит свое решение. Молча вышла она из вигвама и вскоре вернулась со своим братом, которого звали Глаза Лисицы, и Белым Волком, младшим братом моего отца. Принесла она мяса и стала поджаривать его на угольях.
— Одинокий Бизон, брат, правда ли, что ты хочешь нас покинуть? — спросил Белый Волк.
— Да, — с горечью отозвался отец. — Вчера ты видел, как меня отхлестали. Я навсегда опозорен. Неужели ты думал, что я останусь с этим неблагодарным племенем? Вспомни, что я для него делал! Вспомни, сколько раз я выигрывал битвы и обращал в бегство врагов! И никогда не отказывал я в помощи. Женщины, дети приходили в мой вигвам, и я давал им мяса. А меня отхлестали за то, что я охотился, когда моя семья голодала! Нет! Я не останусь с этим неблагодарным народом!
— Брат, ты нарушил правила охоты… правила, которым подчиняемся все мы — и простые воины, и старшины…
— Знаю, знаю все, что ты можешь сказать, — нетерпеливо перебил отец. — Я охотился в стороне от большого стада, не намеренно я его спугнул. Это произошло случайно. Но Ловцы не дали мне времени объяснить, как было дело. Брат, не спорь со мной. Я принял решение: как только наши вещи будут уложены, я уеду отсюда навсегда. Но мне бы хотелось получить оружие, которое отняли у меня Ловцы. Постарайся взять его у них. А если они не отдадут… Ну, что ж! Я сделаю новый лук и стрелы, а со временем куплю другое ружье.
— Одинокий Бизон, старший мой брат, — сказал Белый Волк, — ты думаешь только о себе. Вспомни о жене и детях и ради них останься с нами. Если же в пылу гнева ты хочешь на время нас покинуть, — иди, но иди один. Навести родное нам племя черноногих — каина. Поживи с ними, пока не угаснет твой гнев, а потом возвращайся к нам.
— Слова Белого Волка — мои слова, — сказал Глаза Лисицы. — Не разлучай сестру мою с ее родственниками, не заставляй ее скитаться вместе с тобой. Подумай о том, что ты подвергаешь опасности и ее жизнь и жизнь твоих детей. Рано или поздно вас настигнет военный отряд одного из враждебных нам племен, все вы будете убиты. Прошу тебя, останься с нами.
— Ну, если так, то я не принуждаю Сисаки и детей следовать за мной. Они могут остаться с вами. Что вы на это скажете, жена, дети?
— Ты знаешь, что твоя тропа — также и моя тропа, — ответила мать, едва удерживаясь от слез.
— Слышите? — воскликнул отец. — Конечно, она меня не покинет. Да и дети не захотят с нами расстаться. Верно ли я говорю, сынок, дочка?
— Да, — шепотом отозвались мы оба.
— Ну и ступайте куда хотите! — сердито крикнул Глаза Лисицы. — А когда попадете в беду, вспомните, что я вас предостерегал и старался удержать в лагере.
С этими словами он вышел из вигвама.
— Брат, больше я не буду с тобой спорить: все равно это ни к чему не приведет, — сказал, вставая, Белый Волк. — Пойду попытаюсь взять у Ловцов твое оружие.
В это утро с удивительной быстротой распространялись слухи по всему лагерю. Когда Белый Волк отправился исполнять поручение отца, в наш вигвам вошел вождь племени, а за ним следовали знахари и воины.
— Одинокий Бизон, что это значит? — начал вождь, усаживаясь рядом с отцом на ложе из звериных шкур. — Говорят, что ты хочешь навсегда нас покинуть? Покинуть племя, всех родных и друзей? Конечно, это пустая болтовня.
— Нет, это не пустая болтовня, тебе сказали правду, — ответил отец. -Я вас покидаю навсегда… я, моя жена и дети.
Больше он не прибавил ни слова и упорно молчал, хотя вождь и те воины, что пришли с ним, по очереди убеждали его изменить решение. Долго доказывали они ему, что необдуманный его поступок навлечет беду на всех нас, и наконец ушли, рассерженные молчанием и упрямством моего отца.
Когда моя мать приготовила завтрак для сестры моей и для меня, вернулся Белый Волк с оружием отца. Увидав свое ружье и лук, отец развеселился.
— Ха! Значит, не придется мне делать новое оружие! — воскликнул он. — Сегодня я убью бизона, и вечером мы будем пировать. Живей, сынок! Поешь мяса, которое дали нам соседи, и пригони наш табун.
Тяжело было у меня на сердце, и я не чувствовал голода. Чтобы успокоить мать, я проглотил несколько кусков мяса и, выйдя из вигвама, побежал к равнинам, где паслись табуны. Когда я пригнал лошадей к реке, вигвам наш был уже сложен и все вещи упакованы.
Пришел Белый Волк и помог мне поймать одиннадцать лошадей, которые были нам нужны, — пять вьючных, четыре верховых и еще две, предназначавшиеся для того, чтобы тащить травуа.
— Племянник, — сказал он мне, когда мы вели лошадей в лагерь, — племянник, сегодня кончилось твое детство. Твой отец ведет всех вас навстречу великим опасностям. Обещай мне быть мужчиной, не отступать перед врагом и по мере сил защищать мать и сестру.
— Я сделаю все, что в моих силах, — ответил я.
— Я знал твой ответ. Возьми… — И с этими словами он протянул мне свой лук и колчан со стрелами. И колчан и чехол для лука сделаны были из шкуры великолепной длиннохвостой выдры.
— О, как бы я хотел уйти с вами! — добавил Белый Волк. — Но сейчас об этом и думать нечего. Тетка твоя больна. Быть может, впоследствии…
Он не договорил, но я угадал его мысли: тетка моя никогда не выздоровеет, а когда жизнь ее оборвется, дядя будет свободен и поспешит к нам. Но куда?… Отец ни слова не сказал о своих планах. Знали мы только, что он хочет навсегда покинуть лагерь.
Пока мы седлали верховых лошадей, а на остальных навьючивали поклажу, мой отец стоял поодаль и торопил нас, не скрывая своего нетерпения. Собралась толпа. Женщины, помогавшие матери укладывать вещи, довели ее до слез своими причитаниями; старухи плакали вместе с ней и говорили, что не переживут разлуки с той, которая всегда им помогала.
Плакала моя сестра, прощаясь с подругами, да и я едва удерживался от слез, когда мои товарищи-подростки окружили меня и старались ободрить и утешить. О, как не хотелось мне расставаться с ними!
Воины обступили моего отца и убеждали его не покидать родного племени. Конечно, их уговоры ни к чему не привели, да и вряд ли он их слушал. Когда погрузка была закончена, он приказал матери сесть на лошадь и ехать по тропе, ведущей на восток, к низовьям реки. Мы с отцом погнали табун, а за нами ехала сестра, которой поручено было присматривать за вьючными лошадьми и травуа.
Мы покинули лагерь. Я смотрел на равнины и холмы, на долину реки, поросшую лесом, где, быть может, скрывались враги, и казалось мне, что я навеки расстаюсь с друзьями и родными.
Все утро и добрую половину дня ехали мы рысцой. Там, где река делала повороты, мы поднимались из речной долины на плоскогорье, чтобы сократить расстояние. За всю дорогу отец мой не проронил ни слова. Быть может, он сожалел о том, что в пылу гнева дал клятву покинуть родное племя. Лицо его было печально.
После полудня мы чаще и чаще натыкались на следы дичи. Путь нам перерезали тропы, проложенные лосями, оленями, бизонами. В лесу мы видели много оленей и лосей, и наконец вдали показалось стадо бизонов, спускавшихся по склону равнины к реке. Отец приказал нам остановиться, а сам поехал дальше и скрылся за деревьями. Мы втроем молча ждали сигнала, нам было не до разговоров.
Бизоны гуськом пересекли долину и вошли в лес, окаймлявший реку. Нас они не заметили, так как мы притаились в кустарнике. Мы не спускали глаз с тропы, по которой только что прошли бизоны, и думали, что вскоре помчатся они назад, когда отец мой их спугнет. Но, как узнали мы впоследствии, отец проехал дальше чем следовало и миновал лесную тропу, ведущую к реке. Заметив свою ошибку, он повернул назад и поскакал к бизонам, когда животные уже спускались к реке и, выстроившись в ряд, утоляли жажду. Крутой обрыв на противоположном берегу помешал им переправиться через реку, поэтому они бросились назад, в лес, и помчались прямо к зарослям, где притаились мы трое.
Было их около двухсот голов. Стук копыт, треск валежника и ломающихся веток предупредил нас об их приближении.
— Выезжайте из зарослей! Торопитесь! За мной! — крикнул я матери и сестре, но топот заглушал мои слова, хотя я кричал во все горло.
Не знаю я на свете ничего страшнее разлива реки, внезапно сломавшей зимний ледяной покров, и бега бизоньего стада, катящегося лавиной.
Не успел я предостеречь мать и сестру, как стадо уже налетело на нас и понеслось дальше, увлекая за собой наш табун, вьючных лошадей и нас самих: лошади наши, обезумев от ужаса, становились на дыбы, и нам великого труда стоило удержаться в седле.
Справа и слева напирали на мою лошадь два огромных бизона с острыми рогами, сзади, сливаясь в сплошную массу, мелькали косматые головы, впереди бежали вожаки стада, которое, налетев на нас, расступилось, а затем снова сомкнулось, охватив нас тесным кольцом.
Всегда попадаются в стаде бизоны, которые бегут быстрее любой лошади. И, как всем известно, самая быстрая лошадь не может долго следовать за стадом и начинает отставать раньше, чем охотник успеет сделать двадцать выстрелов. А у бизонов дыхание прекрасное и мускулы крепкие, вот почему могут они бежать, не останавливаясь, в течение целого дня.
Посмотрев направо, я увидел мою мать; шесть или восемь бизонов отделяли ее от меня. Слева, впереди мчалась сестра, обеими руками уцепившись за гриву лошади, между нами темнели только две косматые коричневые спины. Несколько лошадей скакали бок о бок с бизонами, но почти весь наш табун опередил стадо и теперь находился в безопасности, рассыпавшись по склону холма.
Моя мать ехала на большой сильной лошади, послушной и выносливой, и за нее я не боялся, но сестре угрожала серьезная опасность. Ее трехгодовалый жеребец был еще плохо объезжен, и я видел, что сестра не может с ним справиться, так как оборвался ремешок, служивший уздечкой. Мы должны были вырваться из стада, и как только открывалось свободное местечко между косматыми телами, направлять туда лошадей. Но без уздечки этого нельзя было сделать. «Нитаки погибнет, если я ее не спасу», — мелькнуло у меня в голове. Припомнились мне слова моего дяди: «Кончилось твое детство… Обещай мне быть мужчиной… защищать мать и сестру».
Да, я должен был спасти сестру. Но как подъехать к ней? Нас разделяли бизоны… И вдруг я вспомнил: за спиной у меня висит лук, полученный от дяди. Как я мог забыть о нем?
Быстро вытащив лук из чехла, я с великим трудом натянул тетиву. Дядя отдал мне свой лук — лук взрослого охотника, и мне, мальчику, пришлось напрячь все силы, чтобы согнуть его. Потом достал я стрелу из колчана, приладил ее к тетиве и выстрелил. З-з-з… — и стрела вонзилась в спину бизона. Должно быть, она задела сердце. Огромное животное сделало еще два прыжка и упало, а я, повернув лошадь, занял освободившееся место и выстрелил во второго бизона, отделявшего меня от сестры. Первая стрела легко его ранила, но вторая сделала свое дело: бизон остановился как вкопанный, а стадо, напиравшее на него сзади, разделилось на два потока.
Между тем лошадь сестры начала брыкаться. Почувствовав, что подпруга лопнула и седло сползает, Нитаки взвизгнула и в первый раз оглянулась, словно призывая меня на помощь. Еще один прыжок лошади — и сестра, разжав руки, выпустила гриву и высоко подпрыгнула вместе с седлом. У меня замерло сердце: я понимал, что ей грозит неминуемая гибель, если она слетит с лошади.
Несколько шагов отделяло меня от нее. Я ударил свою лошадь луком, и в два прыжка она покрыла это расстояние. Вытянув руки, я обхватил сестру за талию как раз в ту минуту, когда лошадь ее поднялась на дыбы. С трудом притянул я ее к себе и положил поперек седла, так что ноги ее свешивались в одну сторону, а голова — в другую. У меня не хватило сил приподнять ее и усадить.
Снова сомкнулись вокруг меня бизоны, и я заметил, что лошадь моя, которой пришлось теперь везти двух седоков, выбивается из сил. Если бы она споткнулась и упала или остановилась, мы погибли бы под копытами бизонов. Все сильнее и сильнее хлестал я лошадь, но почти не надеялся на спасение. Казалось мне, что эта лавина косматых тел влечет нас к смерти.
И вдруг положение резко изменилось. Не знаю, что побудило вожака-бизона круто повернуть налево — туда, где между берегом реки и склоном равнины росли старые тополя. Стадо ворвалось в рощу, а я, подъехав к первому толстому дереву, остановил взмыленную, дрожащую лошадь. Справа и слева от меня промчались, стуча копытами, бизоны.
Матери моей нигде не было видно: должно быть, она отстала от стада. Я выехал из-за дерева и посмотрел назад. О, как обрадовался я, когда увидел ее вдали! Она ехала вместе с отцом. Я дрожал всем телом, у меня кружилась голова. Нитаки соскользнула с седла и, измученная, опустилась на землю.
Моя мать бросилась к ней и крепко обняла.
— Не верится, что все мы целы и невредимы! — говорила она. — Храбрый мальчик, ты спас сестру! Я все видела. Не знаю, как я выбралась из стада. Я так испугалась, что перестала править лошадью, она сама вырвалась на свободу.
— Вы спаслись от великой опасности, и сегодня же я принесу жертву Солнцу, — весело сказал отец. — А там, у реки, я убил жирную самку. Пойдем отыщем вьючных лошадей, раскинем вигвам, поедим и отдохнђм. А потом мы с тобой, сынок, пригоним табун. Несколько лошадей умчались со стадом, но скоро они от него отстанут.
К вечеру работа была сделана. Когда стемнело, мы собрались у костра, пылавшего в вигваме, и забыли на время все наши невзгоды. Я был горд и счастлив: в тот день я не только спас сестру от страшной смерти, но и впервые убил бизона. Был я неплохим стрелком, так как часто охотился на кроликов и тетеревов, но согнуть лук сильного воина и тремя стрелами убить двух больших бизонов — это подвиг для мальчика, который видел только четырнадцать зим.
Отец осмотрел мой лук и подивился, как удалось мне его согнуть.
— Должно быть, волнение придало тебе сил, — сказал он. — А ну-ка, попытайся, согни его сейчас.
Я попытался, но не мог согнуть. Тогда отец взял лук и слегка обстругал его.
Очень хотелось нам знать, куда мы держим путь, но ни мать ни мы с сестрой не осмеливались приставать к отцу. Наконец, он сам открыл нам свои планы.
— Ну, вот мы и распрощались со старшинами племени пикуни и с Ловцами, — начал он. — Теперь мы можем делать все, что нам вздумается. Сначала хотел я перевалить через Спинной Хребет Мира и поселиться с племенем плоскоголовых, но не по душе мне их страна: там много лесов, а бизоны в лесах не живут. Нет, мы пойдем в страну большебрюхих и с ними будем жить. Нам они почти братья, а вождь их, Короткий Лук, — близкий мой друг. Если посчастливится нам, мы отыщем их лагерь дней через пять-шесть. Думаю, они расположились где-нибудь у подножья гор Медвежья Лапа.
Так как к родному нашему племени мы уже не могли вернуться, то план отца показался мне неплохим. Болышебрюхие в сущности входят в состав племени арапахо, но зим пятьдесят назад шесть-семь кланов откололись от племени. Причиной послужила ссора, происшедшая из-за белой самки, убитой во время охоты на бизонов: несколько человек заявляли свои права на белого бизона. С тех пор большебрюхие всегда были нашими союзниками и пользовались нашим покровительством, как говорите вы, белые. Но в покровительстве они вряд ли нуждались, так как были смелыми воинами. Мы им позволяли охотиться на наших равнинах, и часто раскидывали они лагерь поблизости от нас. Многие большебрюхие хорошо говорили на нашем языке, но ни один черноногий не мог овладеть их языком. Как ни старался я, но никогда не удавалось мне правильно произнести хотя бы одно слово на языке большебрюхих.
Мы должны были тронуться в путь не раньше полудня, так как мать настояла на том, чтобы запастись сушеным мясом. С утра принялась она за работу и с помощью Нитаки стала разрезать на тонкие полосы мясо убитых нами бизонов. Женщины работали, а мы с отцом сидели на склоне равнины, откуда видны были окрестности. Не хотелось нам быть застигнутыми врасплох каким-нибудь военным отрядом.
Зорко смотрели мы по сторонам, но ничто не указывало на близость врагов. Бизоны и антилопы гуськом спускались на водопой к реке или мирно паслись на равнине. Спокойно щипали они свежую зеленую траву; мы знали, что стоит им почуять приближение людей, немедленно обратятся они в бегство. Все утро мы сидели на склоне у реки и ждали сигнала матери, чтобы привести лошадей.
Наконец мы увидели, что она размахивает одеялом. Мы вскочили, и как раз в эту минуту показались два всадника, скакавшие по той самой тропе, по которой ехали мы накануне.
— Ха! Двое из племени пикуни! — воскликнул отец и больше не прибавил ни слова.
Он не ошибся: подойдя к нашему вигваму, мы увидели Белого Волка и Глаза Лисицы. Они снова приехали, надеясь убедить отца вернуться в лагерь. Долго они говорили, настаивая на том, чтобы мы вместе с ними отправились в обратный путь.
Отец терпеливо их выслушал, а когда они умолкли, сказал:
— Братья, тяжело мне расставаться с вами, но после того что случилось, я не могу вернуться. Но не навсегда мы вас покидаем: жить мы будем с большебрюхими, а это племя часто встречается с пикуни. Когда мы раскинем лагерь по соседству с вами, вы можете навещать меня, но никогда я не войду в лагерь пикуни. Я все сказал. Пора нам трогаться в путь, здесь дороги наши расходятся. Ступайте своей дорогой, и пусть Солнце защитит вас от всех опасностей.
Снова попрощались мы с ними и поехали на восток, вниз по речной долине. День был теплый, солнце ярко светило, согревая нас после долгой холодной зимы. К вечеру мы расположились на отдых. По словам отца, мы должны были на следующий день спуститься к реке Марии неподалеку от того места, где эта река впадает в Миссури.
Раскинули вигвам, и мать поджарила для нас мясо.
Шесть-семь лошадей мы привязали к колышкам, других стреножили. Затем вместе с отцом я поднялся на невысокий холм, чтобы при свете заходящего солнца осмотреть окрестности. На равнинах мирно паслись стада.
— Ха! Врагов по близости нет. Славный денек! — сказал отец, усаживаясь подле меня и доставая из сумки табак и трубку.
Сидели мы на склоне холма, возвышавшегося над крупным поворотом реки. Внизу, у наших ног, тянулась зеленая долина, у самой воды темнела узкая полоса леса, спускавшегося к низовьям реки. Вдруг я увидел, что из леса, за поворотом реки, выбежало стадо бизонов и помчалось к равнине. Я толкнул локтем отца и молча указал ему на стадо.
— Ха! Это мне не нравится, — пробормотал он и спрятал в сумку табак и трубку, которую так и не успел набить.
Бизоны поднялись по склону на равнину. Больше мы не обращали на них внимания и не спускали глаз с темной полосы леса откуда они выбежали. Вскоре показались на опушке три оленя и понеслись к низовьям реки.
— Черная Выдра, нам грозит беда, — сказал мне отец. — Люди — должно быть, военный отряд — вошли в лес. Направляются они к верховьям реки.
Не успел он договорить, как на лужайку вышло человек тридцать. Да, это был военный отряд, и путь он держал в ту сторону, где мы раскинули лагерь. Как только воины пересекли лужайку и скрылись в лесу, мы вскочили и стремглав побежали вниз по склону, к нашему вигваму.
— Если они выслали разведчиков, мы погибли, — простонал отец.
Я это знал. Пробираясь по лесу, разведчики, конечно, заметили бы наш вигвам, раскинутый на опушке. Как боялись мы, что они нападут на мою мать и сестру раньше, чем успеем мы до них добежать!
3. КИ-ПА И СА-КУИ-А-КИ
Холм, на склоне которого мы сидели, служил как бы прикрытием для нашего вигвама, раскинутого у подножия его, и заслонял его от той части речной долины, где находился военный отряд. Когда мы сбегали по склону, враги не могли нас заметить, даже если бы они вышли на опушку леса. Пересекая долину, мы увидели наш табун и погнали его к вигваму. Издали отец стал кричать:
— Скорей! Помогите поймать верховых и вьючных лошадей! Приближается военный отряд.
Но мать и сестра уже почуяли опасность, увидев, как мы гоним табун.
Захватив с собой веревки, они бросились нам навстречу, и мы начали седлать лошадей. Отец вкратце рассказал о появлении военного отряда в долине реки.
— Не пугайтесь, — добавил он. — Если они не выслали вперед разведчиков, мы успеем уложить все вещи и ускакать. Складывайте вигвам, а я отправлюсь на разведку.
С этими словами он повесил через плечо лук и колчан, взял ружье и ускакал.
Быстро разобрали мы наш вигвам. Я выдернул колышки, которыми были прикреплены к земле края шкур, служивших стенами вигвама, мать свернула шкуры и вытащила шесты — шестнадцать шестов, являвшихся остовом палатки. Эти шесты она привязала к двум лошадям, а сестра уложила в парфлеши съестные припасы и те немногие вещи, какие взяли мы с собой в дорогу. Когда был завязан последний вьюк, мы вскочили на коней.
Должно быть военный отряд не выслал вперед разведчиков, или же они находились на другом берегу реки и нас не видели.
Вернулся отец, ездивший на разведку.
— Нам нечего бояться, — сказал он. — Враги пешие, нас не догонят. Жена и ты, Нитаки, пересеките долину реки и поднимитесь по склону на равнину. Поезжайте рысью. Мы последуем за вами и будем гнать табун. Как только стемнеет, мы повернем на восток, снова спустимся в долину и раскинем лагерь.
Солнце уже зашло. Когда мы выехали на равнину, сгустились сумерки. Отец часто оглядывался, но врагов не было видно. Мы стали подниматься на вершину холма, и отец с тревогой сказал мне:
— Боюсь, как бы нам не попасть в западню. Быть может, отряд с противоположной стороны поднялся на холм, вместо того чтобы подвигаться к верховьям реки. Кто знает, не поджидают ли они нас там, на вершине? Сынок, ты один справишься с табуном, а я поеду впереди.
Подъем был крутой, и лошади шли шагом. Отец хлестнул свою большую сильную лошадь и обогнал мать, ехавшую впереди.
Вдруг на вершине холма показались — словно из-под земли выросли — враги. Они выстроились в ряд и стали стрелять в нас из луков и четырех ружей. Дикие их вопли сливались с оглушительными выстрелами.
Одна из вьючных лошадей заржала протяжно и упала. Как ни был я испуган, однако заметил, что это была та самая лошадь, которая тащила на себе боевое снаряжение отца и священную его трубку. Я забыл сказать, что отец мой владел священным талисманом — Трубкой Грома.
Убита была вьючная лошадь, а через секунду неприятели ранили мою сестру: стрела вонзилась ей в левую руку чуть-чуть повыше локтя. Нитаки пронзительно взвизгнула, а мать закричала:
— Они ранили мою дочь! Она умирает! Убейте и меня!
— Тише! — прикрикнул на нее отец. — Она жива! Поверните лошадей и спуститесь в долину.
Он поднял ружье и выстрелил в воинов, бежавших нам навстречу.
Наш табун уже обратился в бегство. Галопом поскакали мы вслед за ним, подгоняя испуганных вьючных лошадей. В воздухе свистели стрелы. Воины нас преследовали и пытались набросить лассо на лошадей. По странной случайности им не удалось поймать ни одной лошади, а когда они подняли лассо, мы уже спустились с холма и оставили их далеко позади.
По приказу отца мы пересекли речную долину, переправились через реку на другой берег и въехали на равнину. Здесь мать упросила нас остановиться. Осмотрев раненую руку Нитаки, она ловко вытащила стрелу из раны, которую перевязала мягким куском кожи. Кость оказалась незадетой. Несмотря на сильную боль, Нитаки ни разу не вскрикнула.
Зато мать заливалась слезами и говорила отцу:
— О муж мой, видишь, до чего довело нас твое упрямство, твоя вспыльчивость! И это только начало! А знаешь ли ты, что Трубка Грома и все твои талисманы достались врагам?
— Знаю, — хмуро отозвался отец.
Мы видели, как он был расстроен. Он очень дорожил священной трубкой и считал, что без помощи этого талисмана молитвы его не могут дойти до Солнца и других наших богов.
— Я должен найти трубку! Во что бы то ни стало, я должен ее найти! — воскликнул отец, когда мы снова вскочили на коней и поехали дальше.
— Никогда ты ее не найдешь, — сказала мать.
— Нет, найду, и она снова будет у меня! — с непоколебимой уверенностью заявил отец. — На нас напал военный отряд ассинибуанов. Конечно, они задумали совершить набег на племя пикуни. Если твой народ с ними не повстречается, они к концу месяца вернутся в свой лагерь. Туда-то и отправлюсь я искать свою трубку, а ты с детьми останешься у большебрюхих.
Мать ничего на это не ответила. Я же подумал, что отец рассуждает неразумно: легко проникнуть ночью в неприятельский лагерь и увести лошадей, но отыскивать среди нескольких сот вигвамов тот, в котором хранится трубка, а затем завладеть ею, казалось мне несбыточной мечтой.
— Муж мой, — снова заговорила мать, — тебе представляется случай вернуть трубку и в то же время загладить свою ошибку. Поедем домой и предупредим наше племя о приближении военного отряда. Стоит тебе кликнуть клич — и все наши воины за тобой последуют. С их помощью ты разобьешь неприятельский отряд и завладеешь трубкой.
— Если хочешь, называй пикуни своими соплеменниками, но для меня они чужие,
— ответил отец. — Пусть ассинибуаны проникнут ночью в их лагерь и уведут всех лошадей. Какое мне до них дело?
Как горько было нам слушать эти слова!
Добрую половину ночи ехали мы по равнине, держа путь на восток. Затем мы повернули на юго-восток и наконец спустились к реке. В большой тополевой роще сделали мы привал, сняли с лошадей поклажу и улеглись спать.
Утром, как только забрезжит свет, мы натощак тронулись в путь и ехали, не останавливаясь, до полудня. Когда солнце высоко поднялось на небе, мы расположились на отдых и утолили голод.
К вечеру мы увидели место слияния рек Титона и Марии и, переправившись через оба потока, поехали берегом Миссури. Вдруг услышали мы стук топора, доносившийся из рощи тополей. Мы остановили лошадей и увидели, как задрожала верхушка одного из деревьев и высокий тополь с треском рухнул на землю.
— Ха! — воскликнул отец. — Там работают белые. Ни один индеец не станет рубить большое зеленое дерево.
Смело поехали мы к роще и на лужайке у реки увидели белых людей, строивших большой бревенчатый дом. Тут же на земле стояли ящики, бочки, лежали мешки с товарами, а к берегу причалены были три большие лодки, в которых белые привезли свои товары.
Остановив лошадей, мы с любопытством рассматривали странный лагерь. Один из белых выступил вперед и знаком предложил нам подъехать ближе. Когда мы подъехали к лужайке, он подошел к отцу, пожал ему руку и, продолжая объясняться знаками, пригласил в свой вигвам.
Я не спускал с него глаз. Был он стройный, невысокий, длинноволосый, но на лице у него, как и у нас, волос не было. На его длинной синей куртке ярко блестели большие пуговицы. Обут он был в мокасины. Отец увидел эти мокасины, разглядел на них узоры из игл дикобраза, весело улыбаясь, спрыгнул с лошади и сказал нам:
— Я уверен, что это тот самый человек, о котором мы столько слыхали. Он ведет торговлю с племенем Земляные Дома. И знаком он спросил его, верно ли это.
— Да, я тот, о ком ты слышал, — ответил ему белый, по-прежнему объясняясь знаками. — Добро пожаловать в мой вигвам.
Мы последовали за ним в рощу и увидели большой красивый вигвам. Навстречу нам вышла молодая женщина; весело улыбаясь, она знаком пригласила нас войти; ее вигвам — наш вигвам, сказала она.
Нужно ли говорить тебе, сын мой, кто были эти люди? Да, так встретился я впервые с Ки-па и Са-куи-а-ки, отцом и матерью Вороньего Колчана, близкого твоего друга. Умер Ки-па, а Са-куи-а-ки… вот сидит она подле тебя, сын мой, голова у нее седая, а лицо изборождено морщинами. Давно миновали счастливые дни нашей юности. О Са-куи-а-ки, друг мой, хотел бы я вернуть эти дни!
Мы вошли в вигвам, и нас угостили мясом бизона и кушаньями белых людей. Подали нам вареных бобов, я их ел в первый раз в жизни, и они нам очень понравились. Поев, мы раскинули наш собственный вигвам и вышли на лужайку посмотреть, как работают белые люди.
В форте Красных Курток я бывал раза два, но с Длинными Ножами повстречался впервые. Однако многие из нашего племени вели с ними торговлю в их форте при устье реки Иеллоустон, где находилась деревня индейцев племени Земляные Дома, которых вы, белые, называете манданами. Там-то и увидели они Ки-па и Са-куи-а-ки. Ки-па понравился им больше, чем все остальные Длинные Ножи. Часто рассказывали они о его щедрости и о тех подарках, какие от него получили. Один белый художник, живший в форте, нарисовал Горб Бизона и Орлиные Ребра, двух индейцев из родственного нам племени северных черноногих, и люди, видевшие эти рисунки, говорили, что нарисованные индейцы точь-в-точь похожи на живых.
Сын мой, эти первые Длинные Ножи, пришедшие в нашу страну, были людьми опрятными. Они заботились о своей наружности. На лицах их волос не было, а волосы на голове они гладко причесывали. Начальник их всегда носил синюю куртку с блестящими пуговицами. И с нами они были вежливы. Нимало не походили они на тех жестоких белых людей, которые наводняют теперь нашу страну. Эти люди, грубые, грязные, бородатые, притесняют нас, а нам, индейцам, противно смотреть на их лица, заросшие волосами.
На следующий день после нашего приезда Длинные Ножи достроили одну из комнат форта и перенесли туда все свои товары, которые привезли по реке из большого форта на реке Иеллоустон. Долго-долго смотрели мы на красивые и полезные вещи, разложенные на полках: были тут одеяла, пояса из красной и синей материи, бусы, браслеты, серьги, краски, иголки, шила, ножи, ружья и пистолеты, котелки, тарелки и чашки из какого-то твердого металла, западни для бобров и седла.
Мой отец глаз не мог отвести от этих седел. Были они сделаны из черной блестящей кожи, на луке блестели медные головки гвоздей. Красивые были седла и очень удобные.
— Сколько стоит одно седло? — обратился мой отец к Ки-па.
— Двадцать шкурок, — последовал ответ.
Разумеется, Ки-па имел в виду шкурки бобров.
— Шкурок у меня нет, — сказал отец, — но я привез четыре капкана, которые купил на севере, в форте Красных Курток. Я поймаю двадцать бобров и куплю седло.
Ки-па протянул ему две западни.
— Я их дарю тебе, — сказал он. — Теперь у тебя есть шесть капканов, и скоро ты раздобудешь двадцать шкурок.
У берегов Большой реки и реки Марии много было плотин и мазанок, построенных бобрами. Мы с отцом расставили западни, а на следующее утро нашли в них четырех бобров. Быстро содрали мы с них шкурки и вернулись домой, а мать и Нитаки растянули шкурки на ивовых обручах для просушки.
На седьмое утро мы принесли домой пять шкурок.
— Есть у меня теперь двадцать три шкурки, — сказал отец. — Как только они высохнут, я их обменяю на седло, а тебе, жена моя, куплю белое одеяло.
— Нет, этого ты не сделаешь, — возразила мать. — Мы обменяем шкурки на ружье для Черной Выдры.
Отец с удивлением посмотрел на нее.
— Как! Да ведь он еще мальчик! Мальчики не стреляют из ружей.
— Ну а наш сын будет стрелять из ружья, — заявила мать, — и ружье я ему куплю, хотя бы мне пришлось продать несколько лошадей. Он стрелял из лука взрослого охотника и спас жизнь своей сестре. Если может он стрелять из лука, то, конечно, научится стрелять и из ружья. Не забудь, муж мой, что со всех сторон угрожает нам опасность, и это твоя вина: ты заставил нас покинуть родное племя, ты увел нас из большого лагеря, где мы жили в полной безопасности. А теперь мы нуждаемся в защите.
— Но он еще не постился, не видел вещего сна, и нет у него «тайного помощника». Он еще слишком молод…
— Он может завтра же начать пост, — перебила мать. — А если он слишком молод, чтобы сражаться с врагами, то хотела бы я знать, кто заставил его вести жизнь, полную опасностей?!
— Ну, будь по-твоему, — отозвался отец.
Когда высохли шкурки, мы отнесли их Ки-па, а взамен получили ружье и белое одеяло для матери. Ки-па дал нам пороху, сотню пуль и два запасных кремня. Ружье было, конечно, кремневое. О, как я обрадовался, когда отец вручил мне его!
Ки-па сам показал мне, как заряжают ружье, и подарил маленькую металлическую мерку для пороха.
— Если ты возьмешь пороху больше чем следует, ружье может взорваться в твоих руках, — предостерег он меня.
Под вечер этого дня мать ушла к Са-куи-а-ки, отца также не было дома. Нитаки и я сидели в нашем вигваме. Из конского волоса она делала голову для новой куклы, а я, положив на колени ружье, не мог им налюбоваться. Очень хотелось мне пострелять из него.
Наконец я не выдержал и сказал сестре:
— Нитаки, идем на охоту!
Захватив с собой любимых кукол, она следом за мной пошла в лес.
Мы спрятались в густом ивняке, окаймляющем берег Большой реки. Шагах в десяти от нас пролегала широкая звериная тропа, которая пересекала долину и спускалась к самой воде. Я терпеливо ждал, зная, что по этой тропе ходят животные на водопой.
Вдруг Нитаки толкнула меня локтем.
— Слышал? — прошептала она.
— Нет.
— В лесу треснула ветка.
Мне стало стыдно: я, охотник, должен был слышать все шорохи. Напряженно мы прислушивались, но ничто не нарушало тишины. Наконец на тропу бесшумно вышел лось — большой лось с новыми, совсем еще короткими рогами. Зимняя шкура его облезла, и был он, конечно, тощий, но в месяц Новой Травы все животные тощи.
О, как я волновался! Но и Нитаки волновалась не меньше меня: она прижималась ко мне и дрожала всем телом. Разинув рты, смотрели мы на приближающегося лося. Сердце мое билось так быстро, что я с трудом мог поднять ружье.
Затаив дыхание, я прицелился и спустил курок. Порох зашипел и вспыхнул, из ствола вырвался черный дым, и загремел выстрел. Лось высоко подпрыгнул, рванулся вперед и бросился прямо к реке, а мы с Нитаки побежали за ним. Сестра растеряла всех своих кукол, а я от волнения забыл основное правило охотника: сначала зарядить ружье, а затем уже выходить из-за прикрытия.
Но на этот раз не было необходимости заряжать ружье. Издыхающий лось в несколько прыжков пересек песчаную полосу берега и с плеском упал в воду. Нитаки и я бросились за ним в реку и поймали его за задние ноги. Мы не могли вытащить большое тяжелое тело на песок, но нам удалось подтянуть его к берегу. Нитаки, стоя по пояс в воде, обняла меня и поцеловала.
— Кормилец семьи! — назвала она меня, а я гордился своим подвигом.
Ножа у нас не было, и мы не могли содрать шкуру с лося. Мокрые с головы до ног, побежали мы домой и встретили отца и Ки-па, которые, заслышав выстрел, поспешили к реке. Мы показали им убитого лося, истец, сдирая с него шкуру, похвалил меня за меткий выстрел и побранил за то, что я отлучился без спроса.
— Военные отряды бродят в окрестностях, — сказал он, — и детям опасно уходить из лагеря.
Так выстрелил я в первый раз из ружья, и первая моя пуля попала в цель.
Мы продолжали ловить бобров, так как отцу моему хотелось иметь черное кожаное седло. Ки-па предложил ему подарить седло, если отец пойдет к пикуни и уговорит их не торговать больше с Красными Куртками, а приносить бобровые шкурки и другие меха в форт Длинных Ножей. Конечно, мой отец ответил на это отказом и объяснил, почему он навсегда покинул родное племя.
Ки-па пристально смотрел на него, а потом покачал головой и сказал ему знаками:
— Ты поступил неправильно. Угаси гнев в сердце своем и вернись к родному народу. Да, они тебя отхлестали, но ты сам навлек на себя наказание. Ты нарушил закон охоты.
— Они не смели меня бить, — ответил знаками отец, и так быстро двигались его руки, что трудно было его понять. — Я кормил вдов и детей. Я не отступал перед врагами и первый бросался в бой.
— Да, и потому-то ты первый должен был повиноваться закону, установленному для всего племени, — сказал Ки-па.
На это отец ничего не ответил. Плотнее завернувшись в одеяло, он ушел и в продолжение нескольких дней почти не разговаривал с нами. Когда гнев его остыл, мать снова напомнила ему, что я должен начать священный пост и обрести «тайного помощника». Он согласился с ней, и все мы вышли из лагеря искать удобное местечко, где бы я мог поститься.
Мы осмотрели долины Большой реки и реки Марии, но подходящего места не нашли. Когда мы возвращались долиной реки Марии в лагерь, отец решил построить для меня помост на дереве. Матери это не понравилось.
— Похоже на то, будто мы его хороним, — сказала она.
Тебе известно, сын мой, что наш народ не зарывает покойников в землю, а кладет их на помосты в ветвях деревьев.
— Пустяки, — отозвался отец. — Пусть он постится на дереве.
Вскоре мы нашли подходящее дерево: старый тополь, ветви которого низко спускались к земле. Рос он довольно далеко от лагеря, и сюда не доносился стук топоров белых людей, работавших на лужайке. В течение целого дня мать и сестра устраивали для меня помост. Между двух толстых суков они положили длинные крепкие жерди, разостлали на них мягкие шкуры бизона. Над помостом они протянули кусок старой кожи, когда-то служившей покрышкой для вигвама,
— этот навес должен был защищать меня от дождя и солнца.
На закате солнца я вскарабкался на помост, завернулся в одеяло и лег, положив подле ружье.
— Призывай на помощь все живые существа, населяющие землю, воздух и воду, — сказал мне отец. — Быть может, кто-нибудь из них согласится стать твоим «тайным помощником». Я тоже обращусь к ним с мольбой. Эх, нет у меня своей священной трубки!
— Нитаки и я каждый день будем приносить тебе воду, — сказала на прощание мать.
Они ушли, оставив меня одного на помосте. Спустилась ночь. Я проголодался, но сон бежал от меня. Думал я, что никогда не засну в этой чуждой мне обстановке. Всегда я проводил ночь в вигваме, и ни разу не приходилось мне спать на открытом воздухе. С тревогой я прислушивался к таинственным ночным шорохам.
В лесу кричали совы.
— О большеухие! — обратился я к ним с мольбой. — Пусть одна из вас будет «тайным моим помощником».
В долине и на склоне холмов перекликались волки, собираясь на ночную охоту.
— О мудрые охотники, помогите мне! — прошептал я. — Когда я засну, будьте благосклонны к тени моей, скитающейся в ночи.
Я призывал на помощь птиц, порхавших в темноте вокруг меня, и каких-то невидимых зверьков, копошившихся в сухих листьях у подножия дерева. Исполняя приказание отца, я обращался за помощью ко всем живым существам, населяющим землю, воздух и воду. Потом попытался я заснуть, но не мог сомкнуть глаз.
Олени или лоси проходили под ветвями моего дерева. Изредка они останавливались и щипали молодые побеги. Немного спустя какое-то другое животное приблизилось почти неслышной поступью к дереву. Прислушавшись к сопению и чавканью, я догадался, что это медведь — быть может, «настоящий» медведь-гризли. Но я не испугался. Гризли был мне не страшен. Только черные медведи умеют взбираться на деревья, но черные медведи — трусы и бегут от человека.
Потеряв надежду заснуть, я снова стал призывать на помощь все существа. Вдруг я вздрогнул и стал прислушиваться: приближались какие-то ночные хищники. Их было много. Я уловил шарканье ног в мокасинах. Люди! Они остановились как раз под ветвями моего дерева и стали разговаривать на незнакомом мне наречии. Это были не пикуни, не большебрю-хие и не вороны. «Должно быть, ассинибуаны», — подумал я.
Справа и слева от меня тянулись длинные шесты, положенные на суки по обеим сторонам помоста для того, чтобы я не скатился во сне на землю. Я перегнулся через шест и стал всматриваться в темноту.
4. АССИНИБОЙНЫ
Ночь была такая темная, что я мог разглядеть только смутные очертания людей. Было их много — человек сорок-пятьдесят. Мне понравилось наречие, на котором они говорили, — оно резко отличалось от грубого языка большебрюхих и других племен, живших по ту сторону Спинного Хребта Мира. Голоса людей звучали мягко и дружелюбно, но я понимал, что не мирные намерения привели их сюда. Отряд этот задумал совершить набег, их разведчики наткнулись на форт белых людей, а также видели наш вигвам и табун. Я знал, что должен опередить ассинибуанов, пробраться в лагерь и поднять тревогу.
Казалось мне, беседа их тянулась очень долго. Наконец они тронулись в путь, а когда их шаги замерли вдали, я, захватив ружье, спрыгнул с помоста и побежал домой, но не по тропе, а сквозь заросли, так как боялся встречи с неприятельским отрядом. Быть может, враги слышали шорох в кустах и треск ломающихся веток, но меня это не смущало. «Они подумают, что лось или олень бежит от людей», — решил я.
Два раза я спотыкался и падал, раньше чем выбрался на просеку. Быстро миновал я форт и корраль — загон, куда помещали на ночь наших лошадей и лошадей Ки-па. У белых было двадцать лошадей, которых они привели из форта, находившегося при устье Иеллоустона.
Белые спали в достроенной комнате торговой станции. Я не стал их будить, зная, что они все равно меня не поймут. Побежал я прямо к нашему вигваму и разбудил спящих.
— Приближается военный отряд… большой отряд… кажется, ассинибуаны, — сказал я отцу.
— Должно быть,-ответил он. — Женщины, не шумите. И оставайтесь здесь, пока я вас не позову. А я пойду разбужу Ки-па.
У Ки-па сон был чуткий. Когда отец подошел к его вигваму и тихонько его окликнул, он тотчас же к нам вышел. Языка нашего он не понимал, а в темноте нельзя было объясняться знаками, но отец мой нашел выход. Положив на землю ружье, он взял Ки-па за обе руки и правую приложил к его шее, потом он обе его руки вытянул и соединил концы пальцев и наконец положил левую руку ему на грудь и накрыл ее правой рукой.
И Ки-па его понял. Разбойники… ассинибуаны… их много… — вот значение этих трех знаков. В ответ Ки-па взял за руки отца и объяснил ему, что «все должны идти в форт». Он разбудил своих помощников, и они тотчас же вышли, держа в руках ружья. Затем он приказал Са-куи-а-ки привести мою мать и сестру в достроенную комнату форта и заложить дверь болтом. К этой комнате примыкали с запада и востока две недостроенные. Белые разбились на два отряда, один из них направился в западную комнату, а другой, к которому присоединились мы с отцом, расположился в восточной. Во главе нашего отряда стоял Ки-па. Щели между бревен еще не были законопачены, и мы легко могли просунуть в них дула ружей. Прямо перед нами находился корраль.
— Ну, пусть идут ассинибуаны! — сказал мой отец. — Только бы они не мешкали. То-то мы повеселимся!
Да, отец мой любил войну.
Долго стояли мы, поджидая неприятеля, но ничто не нарушало тишины. Быть может, ассинибуаны хотели увести лошадей под покровом темноты, а быть может, ждали, когда взойдет луна. Второе предположение оказалось правильным. В полночь увидели мы на востоке бледный отсвет восходящей луны.
Когда луна ярко осветила долину, показались враги. Думали мы, что они придут из долины, но догадка наша не оправдалась: ассинибуаны появились со стороны реки; ползком приближались они к форту. Их заметил один из белых и тихим свистом позвал нас. Все мы выстроились вдоль южной стены комнаты. Восемь ассинибуанов ползли по лужайке. Шепотом сказал я отцу, что в неприятельский отряд входило человек сорок или пятьдесят, а отец знаками передал мои слова Кипа. Тот приказал нам не стрелять, пока он не даст сигнала.
Ближе и ближе подползали ассинибуаны, и наконец мы могли отчетливо их разглядеть. Воины были закутаны в кожаные одеяла, перехваченные на талии поясом; каждый держал в зубах лук, а из колчана торчали стрелы. Ружей у них не было.
Вскоре они разделились на две группы: четверо двинулись на запад, четверо — на восток. Часто они останавливались и прислушивались. Те четверо, которые были нам видны, прошли шагах в пятидесяти от нашей комнаты. Около задней стены корраля они встретились со второй четверкой.
Мы видели, как все они влезли на частокол и посмотрели вниз. Потом стали искать вход в корраль, а вход находился как раз около нашей комнаты.
Сначала они осмотрели западную стену корраля, затем двинулись в нашу сторону.
Вдруг из рощи, где были раскинуты вигвамы, донеслись выстрелы и торжествующие крики. Мы знали, что это значит, главный отряд ассинибуанов окружил наши два вигвама и стрелял в них, думая, что убивает нас, спящих.
Услышав выстрелы, восемь человек, за которыми мы следили, приостановились в нерешительности. И вот тогда-то один из белых выстрелил, не дождавшись сигнала. Впоследствии он говорил, что произошло это случайно. Тогда и мы стали стрелять, а первым выстрелил Ки-па. Вспышка пороха ослепила нас, и мы не попали в цель.
Поверишь ли, сын мой? Когда рассеялся дым, мы увидели, что убит только один человек, остальные семеро бежали к берегу. Да кое-кому из них не суждено было добежать до реки!
Белые, караулившие в западной комнате, выскочили из дома и стали стрелять в беглецов. Было у них шесть ружей, а убили они троих ассинибуанов. Между тем мы снова зарядили наши ружья и выбежали на лужайку, но было уже поздно: четверо уцелевших прыгнули в реку.
Крики, доносившиеся из рощи, смолкли, как только загремели наши ружья. Снова спустилась тишина. Отец мой четыре раза гикнул, а затем громким голосом запел песню победителя.
— Пусть они знают, на кого посмели напасть! — сказал он мне.
До утра мы оставались в форте, и никто не сомкнул глаз, но ассинибуаны нас больше не тревожили. Когда рассвело, Ки-па приказал бросить четырех убитых в реку.
Все наши съестные припасы хранились в вигвамах. Двое белых остались сторожить лошадей, а мы все отправились в рощу. Шли мы очень медленно и, раньше чем войти в лагерь, кольцом окружили маленькую рощу.
Как мы и предполагали, ассинибуаны давно ушли. Оба вигвама имели жалкий вид. Кожаные покрышки были продырявлены стрелами и пулями. Стрелы густо усеяли наши ложа из звериных шкур, и было их столько, сколько игл на дикобразе. Но все вещи оказались на своих местах. По-видимому, ассинибуаны не успели войти в вигвамы и обратились в бегство, как только началась стрельба около форта. Убедившись, что враги ушли из рощи, отец послал меня за матерью, сестрой и Са-куи-а-ки.
Женщины приготовили всем нам поесть, а затем Ки-па и Са-куи-а-ки переселились в форт и перетащили туда все свои вещи; мы же перенесли наш вигвам к самым стенам корраля. Начиная с этого дня мы не выгоняли наших лошадей на равнину, паслись они на опушке леса.
Когда волнение в лагере улеглось, мой отец впал в уныние. Он не позволил мне вернуться на мой помост и поститься.
— Наш сын не обретет «тайного помощника», сколько бы ни постился, — сказал он матери. — Боги прогневались на меня за то, что я потерял Трубку Грома.
В течение нескольких дней мы не ходили смотреть наши западни для бобров. Когда же мы убедились, что неприятельский отряд покинул эти края, бобры, попавшие в ловушки, уже начали гнить.
Снова расставили мы западни и поехали на охоту. Отец, скакавший на быстрой лошади, убил одной стрелой молодого бизона. Он был метким стрелком. Выходил ли он на охоту пеший, или скакал верхом — стрелы его всегда попадали в цель.
Зная, что путь к родному племени для нас отрезан, мы — мать, сестра и я — рады были бы остаться в окрестностях форта. Но отец мой скучал: с белыми не было у него ничего общего. И потеря трубки не давала ему покоя. Да и мать моя считала, что эта потеря предвещала для всех нас беду.
Наконец набралось у нас достаточно бобровых шкурок, чтобы купить седло. Отец отнес их Ки-па и обменял двадцать три шкурки на седло и кое-какие вещи для моей матери и сестры. На следующее утро мы должны были покинуть лагерь и отправиться на поиски большебрюхих.
Узнав об этом, Ки-па вручил нам подарки, которые просил передать старшинам племени большебрюхих.
— Скажите им, что я останусь здесь в форте. Пусть несут они сюда бобровые шкурки.
В тот день отец мой был весел и счастлив: Ки-па подарил ему талисман, дарующий огонь, — тонкий, круглый кусок камня, похожего на лед и наделенного волшебной силой. Нужно было подержать его над пучком сухой травы или листьев так, чтобы подали на него лучи солнца, — талисман притягивал священный огонь с неба, и трава загоралась. Отец был уверен, что этот талисман могущественнее, чем пропавшая Трубка Грома.
На следующее утро тронулись мы в путь, и путешествие наше прошло без всяких приключений. К вечеру второго дня мы отыскали лагерь большебрюхих, раскинутый на берегу Маленькой — или, как вы, белые, ее называете, Молочной
— реки, к северу от западных отрогов гор Медвежья Лапа. Мы въехали в лагерь, и нам указали дорогу к вигваму Короткого Лука. Был он вождем племени и близким другом моего отца.
Весть о нашем приезде опередила нас. Мы подъехали к вигваму, сошли с коней, и отец мой откинул занавеску у входа, как вдруг из-за вигвама выбежал вождь, бросился к отцу и, обнимая его, воскликнул:
— Я тебя увидел раньше, чем ты меня! Я дарю тебе трех лошадей!
Таков был обычай в те далекие времена. Друзья, встречаясь после долгой разлуки, старались удивить друг друга и порадовать каким-нибудь подарком. Отец подосадовал, что не он первый порадовал друга подарком, но радушный прием был ему по душе.
— Мой вигвам — твой вигвам, — сказал Короткий Лук. — Входи, отдохни и поешь.
Женщины вышли из вигвама, поздоровались с моей матерью и сестрой и начали снимать с лошадей поклажу. Потом помогли они матери раскинуть вигвам, а я погнал лошадей на пастбище, стреножил вожаков табуна и вернулся в лагерь.
Наш вигвам был уже разбит, постели сделаны, все приведено в порядок. Родители и сестра сидели в вигваме Короткого Лука. Я присоединился к ним, а женщины поставили передо мной тарелку с мясом.
Короткий Лук, рослый и красивый, был человеком храбрым и великодушным, потому-то избрали его большебрюхие вождем всего племени. Он владел могущественным талисманом — небесным огнем, ниспосланным молнией. Я знал историю этого талисмана. В далекие времена отец его отца вышел на охоту, а в колчане у него было только три стрелы. Дичи в лесу водилось много, но ему не повезло, и долго бродил он по лесу. Наконец подошел он на расстояние выстрела к большому оленю. Он спустил тетиву, но промахнулся, а кремневый наконечник стрелы, ударившись о скалу, разбился.
Ближе подкрался он к оленю, выстрелил, снова промахнулся и нигде не мог найти второй стрелы. Пошел он дальше. Олени, почуяв его приближение, бросались в заросли раньше, чем успевал он прицелиться. Осталась у него только одна стрела, и он не хотел рисковать.
На закате солнца увидел он молодого оленя, который стоял на крутом берегу реки. Осторожно пополз он к нему, а олень безмятежно щипал траву и не чуял беды. Подкравшись к нему совсем близко, охотник прицелился и спустил тетиву. Со свистом пролетела стрела над спиной оленя и упала в реку.
Тогда сказал себе охотник:
— Я — хороший стрелок, но сегодня я промахнулся трижды и потерял три стрелы. Видно, не ждать мне удачи. Пойду-ка я домой.
Он отправился в обратный путь и шел быстро, но темная ночь застигла его далеко от лагеря. Черные грозовые тучи заволокли небо, и в двух шагах ничего не было видно. Часто он спотыкался и падал и наконец чуть было не полетел с крутого берега в реку. Тогда решил он дальше не идти и ждать рассвета. Вытянув руки, прошел он еще несколько шагов, нащупал ствол большого тополя и опустился на землю.
Разразилась гроза, молния разрезала небо, ветер гудел над его головой, но дождя не было. И вдруг в нескольких шагах от испуганного охотника молния ударила в старое сухое дерево. С оглушительным треском повалилось оно на землю, ломая ветви соседних деревьев. И кора на упавшем дереве загорелась. Сначала появилась только маленькая искорка, но с каждой минутой разгоралась она ярче и ярче, и вскоре весь ствол был охвачен огнем, зарево осветило лужайку, и человек увидел мертвого оленя — большого самца, лежавшего около дерева, в которое ударила молния. Подивился он, кто убил этого оленя и почему медведи или волки его не сожрали.
И наконец полил дождь, холодный, пронизывающий, и человек промок до костей. А огонь медленно поедал сухую кору расщепленного дерева. Молния — страшное, смертоносное оружие Птицы Грома — зажгла этот огонь, а к священному огню приближаться опасно.
Но охотник был храбрым человеком. Кожаная его одежда пропускала влагу, и, дрожа от холода, сказал он себе:
— Возьму-ка я щепку, загоревшуюся от священного огня, и разложу костер, чтобы согреться.
Поборов страх, направился он к дереву, чтобы отодрать кусок горящей коры. Проходя мимо оленя, он остановился. Глаза животного были широко раскрыты, и казалось оно живым. Человек наклонился и потрогал его рукой: тело было еще теплое и мягкое.
И вдруг он все понял: Птица Грома сжалилась над ним. Узнав, что потерял он три стрелы, она зажгла этот огонь и убила оленя, чтобы охотник утолил голод. И страх покинул человека. Смело подошел он к горевшему стволу, взял кусок коры и разложил большой костер. Кремневым ножом он вырезал кусок мяса из бока оленя, поджарил его и съел. Потом прислонился спиной к стволу тополя и стал греться у костра.
Гроза пронеслась. Засверкали на небе звезды, взошла луна, но человек ничего не видел: он спал. А во сне тень его, скитаясь по земле, встретила Птицу Грома, и птица повелела ему всегда поддерживать огонь, упавший с неба.
На рассвете он проснулся, вспомнил свой сон и слова Птицы Грома. Из влажной глины сделал он горшок и положил в него кусок гнилого дерева и красный уголек. Глиняной крышкой он прикрыл горшок, но сделал в ней дырочку, чтобы огонь мог дышать. Сын мой, огонь, как и человек, умирает, если нечем ему дышать. И охотник понес домой огонь, упавший с неба.
Войдя в свой вигвам, приказал он женщинам затоптать старый костер и, раздув уголек, тлеющий в горшке, разложить новый. И начиная с этого дня священный огонь не угасал в вигваме. На ночь прикрывали его золой, а когда племя кочевало по равнинам, женщины несли огонь в глиняной посуде. Переходил он от отца к сыну и, должно быть, и по сей день живет в вигваме сына Короткого Лука.
Теперь ты знаешь, сын мой, историю того огня, вокруг которого сидели мы в лагере большебрюхих. И вскоре ты поймешь, почему рассказал я тебе об этом.
— Какие новости принес ты мне? Что делается в лагере пикуни? — спросил Короткий Лук, протягивая отцу зажженную трубку.
— Я навсегда покинул пикуни. Я не вернусь к этому неблагодарному племени, — ответил отец.
— Не может быть! — воскликнул Короткий Лук, испытующе всматриваясь в наши лица.
— Будет так, как я сказал! — громко крикнул мой отец.
Потом рассказал он, что заставило его покинуть лагерь пикуни. Когда он умолк, спустилась тишина, и никто не прерывал молчания. Отец рассердился.
— Ха! Почему вы молчите? — спросил он. — Или вы не рады, что я вошел в ваше племя?
— Я говорил тебе, брат, что мой вигвам — твой вигвам, — отозвался Короткий Лук. — А теперь я скажу: мой народ — твой народ. Но вот тебе мой совет: поживи с нами, а потом вернись к родному племени. Ни мы и никто другой не заменят тебе пикуни.
— У пикуни нет сердца! К ним я не вернусь. Я останусь с вами, — сказал отец.
Позднее, когда в вигваме вождя собрались воины и старшины, отец передал им слова Ки-па и рассказал о постройке нового форта. Эта новость обрадовала большебрюхих. Они редко посещали форт на реке Иеллоустон, потому что в тех краях жили индейцы враждебного им племени сиу, а форт Красных Курток находился далеко на севере. Вот почему они охотно согласились вести торговлю с Ки-па и решили заняться ловлей бобров. Нам показалось, что все большебрюхие рады были принять нас в свою среду.
Так как далеко не все большебрюхие говорили на нашем наречии, то отец, разговаривая с ними, пояснял свои слова знаками. Рассказал он о нашей встрече с военным отрядом ассинибуанов и о пропавшей священной трубке. Когда он закончил свой рассказ, все ему посочувствовали, а Короткий Лук сказал:
— Брат, это тяжелая потеря. Что же ты будешь теперь делать?
— Есть у меня другой талисман, я его получил от белого торговца, — ответил отец. — Этот талисман притягивает огонь с неба. А трубку свою я отыщу. Ассинибуаны — трусы, собаки! Я проберусь в их лагерь и найду трубку.
Человек, сидевший против моего отца по другую сторону костра, засмеялся презрительно и недоверчиво. Все покосились на него. Наклонившись вперед, он знаками сказал отцу:
— Ассинибуаны — храбрые воины. А пикуни — трусы, собаки!
Потом он встал, завернулся в одеяло и медленно вышел из вигвама.
Мой отец был так удивлен, что в первую минуту растерялся и ничего не ответил. Наконец он повернулся к Короткому Луку и спросил:
— Так ли я его понял? Кто он?
— Ассинибуан, — ответил вождь. — В начале прошлой зимы он и его жена пришли к нам пешком. Он сказал, что поссорился со своим племенем и навсегда его покинул. Нас он просил сжалиться над ним и приютить его. Мы исполнили его просьбу. Он живет в вигваме Черного Кролика, стережет его лошадей и приносит ему свою охотничью добычу.
— Я его проучу! Никто не смеет называть меня собакой, трусом! — крикнул отец, бросаясь к выходу.
— Нет, брат! — воскликнул Короткий Лук, удерживая его за руку. — Здесь, в нашем лагере, ты не должен с ним драться. Мы обещали взять его под свою защиту и не нарушим данного слова.
— Но он обругал меня… пикуни!
— Ты первый стал ругаться, — напомнил ему Короткий Лук. — Послушай, ведь не тебя он ругал, а пикуни. Ты же сам говорил, что навсегда ушел от своих соплеменников. Пусть он их ругает. Не всђ ли тебе равно, если ты теперь не пикуни?
Мой отец отталкивал вождя, который удерживал его за руку. Ему хотелось бежать за ассинибуаном, но, услышав последние слова Короткого Лука, он перестал сопротивляться, без сил опустился на ложе из звериных шкур и умолк. Кажется, только теперь начал он понимать, какие последствия влечет за собой его поступок. Да, перестав быть одним из пикуни, он потерял право их защищать. Гордость его была задета, а он не мог стереть оскорбление, нанесенное ассинибуаном.
Вскоре ушли мы в свой вигвам и улеглись спать. Так закончился наш первый вечер в лагере большебрюхих.
Я спал плохо. Мне не давала покоя мысль о наших лошадях. Перед тем как лечь спать, я хотел еще раз проверить, хорошо ли стреножены вожаки табуна, но устал и поленился идти на пастбище. Как только рассвело, я потихоньку встал, оделся и пошел посмотреть на лошадей. Идти мне пришлось пешком, потому что весь наш табун мы выгнали на пастбище. Отец не видел необходимости привязывать лошадей к колышкам перед вигвамом, так как каждую ночь большебрюхие посылают отряд юношей, на обязанности которых лежало караулить табуны и предупреждать о приближении неприятельских отрядов.
Я внимательно осмотрел долину реки и поднялся на равнину, где паслись табуны, принадлежавшие большебрюхим, но нигде не видно было наших лошадей.
5. В ЛАГЕРЕ БОЛЬШЕБРЮХИХ
Взошло солнце, а я, потеряв надежду найти наш табун, вернулся в лагерь.
— Лошади наши пропали! Кто-то угнал наших лошадей! — крикнул я, вбегая в вигвам.
— Никто не мог их угнать. Просто-напросто ты их не нашел, сынок, — спокойно отозвался отец. — Если бы они пропали, то вместе с ними были бы уведены и табуны большебрюхих, и в лагере поднялась бы тревога.
А сейчас все спокойно. Ты ошибся, сынок. Отдохни, поешь, а потом мы с тобой отыщем табун.
В эту минуту Короткий Лук вышел из своего вигвама и стал выкрикивать имена воинов, которых он приглашал на пир. И первое имя было имя моего отца. Отец побежал к реке, умылся, расчесал и заплел волосы в косы, натер лицо и руки священной красно-бурой краской и отправился в вигвам Короткого Лука.
Как только он ушел, мать спросила меня:
— Уверен ли ты, что наших лошадей украли?
— Совершенно уверен, — ответил я. — Я их искал в лесу, у реки, я поднимался на равнину. Их нигде нет. Я знаю, что враги их угнали.
Мать вздрогнула.
— Ну, что ж! Я этого ждала, — задумчиво проговорила она. — Не видать нам счастья, пока Одинокий Бизон не вернется к пикуни. Если бы жили мы в лагере пикуни, лошади наши остались бы целы.
Сестра заплакала. Лошадей — и особенно маленьких жеребят — она любила больше, чем своих кукол.
Между тем в вигваме Короткого Лука Черный Кролик объявил, что ассинибуан и жена его скрылись. Ушли они тайком среди ночи и унесли все свое имущество, свои седла и лассо.
Услышав это, отец воскликнул:
— Мой сын прав! Сегодня утром он нигде не мог найти наших лошадей и решил, что их украли, а я ему не поверил. Да, лошадей украли, их увел этот ассинибуан!
— Сейчас мы узнаем, украдены они или нет, — сказал Короткий Лук.
И он приказал лагерному глашатаю созвать юношей и отправить их на поиски нашего табуна.
Пир продолжался, но отец ничего не мог есть.
Старуха, мать Короткого Лука, заглянула в наш вигвам и сообщила нам, что ассинибуан со своей женой покинул лагерь, а отец мой думает, что он-то и угнал наш табун. Мы с матерью разделяли опасения отца и не ошиблись. Вскоре вернулись юноши, посланные на разведку, и объявили, что лошадей наших не нашли, но видели следы их в траве, ведущие к низовьям реки. Как выяснилось впоследствии, один из ночных сторожей видел ассинибуана, бродившего ночью среди табунов. Думая, что он входит в караульный отряд, сторож не обратил на него внимания и ничего ему не сказал.
После недолгого совещания отец мой и Короткий Лук решили, что преследовать ассинибуана не стоит, так как он успел ускакать далеко от лагеря. Теперь нужно было узнать, где находится его племя, а затем попытаться увести лошадей.
— Да, так я и сделаю, — сказал отец. — Все равно я должен был идти за своей трубкой в лагерь ассинибуанов. Кто из молодых воинов пойдет со мной?
— Брат, тебе придется идти одному, — ответил Короткий Лук. — Прошлым летом мы заключили мир с ассинибуанами и не можем его нарушить.
Отцу это не понравилось. Большебрюхие пользовались покровительством наших трех племен — пикуни, черноногих и крови — и без нашего согласия не имели права заключать мир с нашими врагами. Отец пожаловался на это матери.
— Верно, — сказала она ему. — Но тебя это не касается: ведь ты теперь не пикуни.
Эти слова задели отца. Он не ответил ни слова и долго молчал. Наконец приказал он моей матери приготовить запасную пару мокасинов: решил он отправиться в путь этой же ночью и отыскать лагерь ассинибуанов.
В то время большебрюхие находились в долине Молочной реки. Днем отец еще раз заглянул в вигвам Короткого Лука и долго с ним беседовал. Вождь обещал ему заботиться о нас, пока он не вернется. После полудня отец отправился в священный «вигвам для потенья», чтобы очиститься перед дальней дорогой.
Когда зашло солнце, взял он свое ружье и сверток с сушеным мясом, военным убором, веревками и запасными мокасинами и распрощался с нами. Мать и сестра смотрели ему вслед и плакали.
У нас осталось три лошади — подарок Короткого Лука. Мать ездила в лес за дровами, а я охотился. Хотя я был еще мальчиком, но на мне лежала обязанность кормить семью. В лагере большебрюхих у меня было много сверстников-друзей; особенно привязался я к трем подросткам, матери которых были родом пикуни. Эти трое, да и другие мальчуганы, говорили на моем родном языке. Прежде мы часто вместе играли и охотились на кроликов. Но теперь я не принимал участия в их играх. Мне случалось убивать бизонов, — мог ли я после этого охотиться за кроликами?
Беспокоила меня также мысль о нашем будущем. Родное племя мы навсегда покинули, отец ушел, и мы не знали, вернется ли он когда-нибудь, и были мы бедны, очень бедны. Имея только трех лошадей, мы не могли перевозить на них все наши пожитки и вигвам, когда племя снималось с лагеря. Не удивительно, что мне было не до игр.
Юноши в лагере большебрюхих не обращали на меня внимания. Для них я был слишком молод. Они не принимали меня в свою среду, никогда не приглашали на свои собрания. Со мной им не о чем было говорить. И я чувствовал себя одиноким.
Спустя три дня после ухода отца большебрюхие переселились к верховьям реки, где водилось много бобров. Короткий Лук дал двух лошадей для перевозки нашего имущества, но нам самим пришлось идти пешком. И никто не предложил нам лошади, хотя сотни лошадей бежали без поклажи. И целый день брели мы пешком под палящим солнцем.
Как непохожи были эти большебрюхие на наших соплеменников! Пикуни — добрые люди. Никогда не допустили бы они, чтобы гости их шли пешком
Вечером, когда мы раскинули вигвам, я сказал матери, что мне пора приниматься за работу.
— Я буду ловить бобров, а шкуры их обменяю на лошадей. Если отец не пригонит домой нашего табуна, лошади у нас все-таки будут. А потом я пойду на войну и отниму лошадей у наших врагов.
— Ты — храбрый мальчик, — ответила мать. — Ты будешь ловить бобров и охотиться для нас. Но раньше чем идти на войну, ты должен увидеть вещий сон и заручиться «тайным помощником». Тебе не позволят отлучиться из лагеря, если ты еще не постился и нет у тебя «тайного помощника».
Я согласился начать священный пост, а мать с сестрой пошли в лес и построили для меня помост на дереве.
На закате солнца Короткий Лук позвал меня в свой вигвам, и я немедленно явился на зов. Он выкрасил мне лицо священной красной краской, а на лбу нарисовал черную бабочку — знак счастливых сновидений.
Мать и сестра устроили помост в ветвях большого старого тополя в ущелье, к югу от реки. Вряд ли могли заглянуть сюда враги. А большебрюхие, зная, что я пощусь, ни за что не приблизились бы к этому месту и не нарушили бы моего одиночества.
Когда я влез на дерево и растянулся на помосте, мать и сестра вернулись в лагерь. Спустилась ночь, и я крепко заснул.
Четверо суток провел я на этом помосте. Каждое утро мать и сестра приносили мне воду, спрашивали здоров ли я, и потихоньку уходили.
Первые два дня мне очень хотелось есть, потом я перестал думать о еде. Часами лежал я на своем помосте и припоминал рассказы стариков о том, как обрели они во сне «тайных помощников». Когда я засыпал, тень моя блуждала по горам и равнинам и беседовала с тенями древних животных — тех первых животных, населявших землю, которые, как, наши праотцы, говорили только на одном языке — на языке пикуни.
Да, я беседовал с ними, просил у них помощи, но сны мои обрывались. Я просыпался и лишь смутно мог припомнить, что видел во сне. Быть может, сон мой тревожен потому, что я беспокоился об отце. Мысль о нем не покидала меня. Я представлял себе, как бредет он ночью, печальный и одинокий, отыскивая лагерь ассинибуанов, а днем прячется в зарослях. Знал я, что на каждом шагу угрожает ему опасность.
Сын мой, настала четвертая ночь. Я ослабел от голода и уже терял надежду увидеть вещий сон. Снова стал я припоминать рассказы стариков и предания нашего племени, которые знал с детства. Наконец я заснул.
Слушай, сын мой, вот что приснилось мне. Усталый, шел я по равнине. Было мне жарко и хотелось пить. Я спустился в долину, где протекал ручей; утолив жажду, я уселся на берегу. Ворон пролетел над моей головой. Я воззвал к нему о помощи и, повернувшись, долго смотрел ему вслед, но он ничего мне не ответил. Когда он скрылся из виду, я снова повернулся к ручью. На песке, у самой воды, сидели в ряд четыре животных, которые водятся на земле и в воде. Не могу тебе сказать, что это были за животные. Ты знаешь, мы никогда не произносим вслух имен наших «тайных помощников».
Один из этих зверьков сказал мне:
— Мы слышали, как ты взывал о помощи. Что с тобой? Не можем ли мы помочь тебе?
— Да, да, помогите мне! — воскликнул я. — Долго скитался я по равнинам, ко многим животным обращался за помощью, и никто не откликнулся на мой зов.
— Да, мы слышали, как призывал ты Древнего Ворона. Мы — четверо братьев, четверо древних животных. В далекие времена мы и твои праотцы жили в дружбе. И теперь мы согласны быть твоими «тайными помощниками». Следуй за нами в наш вигвам.
Жили они не в вигваме, а в пещере. Вдоль стен тянулись ложа из травы, а на стенах висели красивые одежды. С любопытством осматривался я по сторонам. Один из братьев снова заговорил со мной, и вдруг все четверо превратились в людей. Да, сын мой, все древние животные могли в любое время принимать облик человека. Братья еще раз обещали мне свою помощь, а затем позволили мне уйти.
Тень моя вернулась к моему телу, я проснулся и припомнил свой сон. О, как я был рад, что закончился для меня тяжелый пост! И обрел я не одного, а четверых помощников. До рассвета я лежал на своем помосте, потом спустился на землю, побежал домой и рассказал свой сон матери и Короткому Луку.
Узнав, что я окончил священный пост, юноши в лагере большебрюхих приняли меня в свою среду, стали приглашать на свои собрания и заглядывали в наш вигвам, чтобы поболтать со мною. Больше я не чувствовал себя одиноким. Я ездил с ними на охоту и привозил домой мясо и шкуры убитых животных. Я расставлял западни и каждое утро находил в них двух-трех бобров. В то время как я постился, один из воинов побывал в форте Ки-па и привез домой красивые одеяла, бусы, табак, ножи и западни. Теперь все племя загорелось желанием обменивать меха на товары белых людей, все стали ловить бобров. У большебрюхих много было лошадей, и стоили они дешево. За хорошую лошадь, приученную к охоте на бизонов, я отдал трех бобров. Вьючную лошадь можно было купить за одну бобровую шкурку. Те, у кого не было капканов, охотно покупали у меня бобров, сами сдирали с них шкурки и сушили их. Мы трое — мать, сестра и я — работали с утра до ночи и были бы счастливы, если бы мысль об отце нас не тревожила. Летели дни, а он не возвращался. Однажды моя мать прошла по всему лагерю и оповестила всех о том, что она дает обет сжечь во славу Солнца священный вигвам, если одинокий путник к нам вернется.
Каждое утро мать и сестра ходили со мной к реке, где расставлены были западни, и помогали сдирать шкурки с бобров. Я купил много лошадей, и теперь нам не пришлось бы идти пешком, если бы большебрюхие вздумали переменить место стоянки.
В те дни, когда не нужно было идти на охоту, я сам выгонял на пастбище своих лошадей. Много было у меня с ними возни. Они упорно возвращались к тем табунам, с которыми паслись раньше, а я хотел, чтобы они привыкли одна к другой и паслись вместе. Одних я привязывал друг к другу короткими веревками, других стреноживал, но некоторые все-таки убегали к старым своим табунам, и каждый день рыскал я по пастбищу, отыскивая их. Домой я приходил в сумерках, ел и ложился спать.
Думали мы, что лагерь ассинибуанов находится при устье реки, не очень далеко от места нашей стоянки. Этот путь можно было пройти пешком в пять дней. После ухода моего отца мы начали считать дни, и каждый вечер я делал зарубку на палке. Прошло двадцать дней. За это время он успел бы дважды спуститься к устью реки и вернуться назад. Мать сказала нам:
— Дети, тревожно у меня на сердце. Боюсь, что больше не увидим мы вашего отца.
Я разделял эти опасения, но старался успокоить мать.
Как-то вечером я делал тридцатую зарубку на палке, как вдруг чья-то рука отодвинула занавеску у входа, и в вигвам вошел отец. Он едва держался на ногах и, наверно, упал бы прямо в костер, если бы я не подбежал к нему и не обнял за плечи.
Поддерживая его под руки, мы подвели его к постели и помогли ему улечься.
Я заметил, что нет у него ни колчана, ни лука. «Где же они? — дивился я. — И где его прекрасный боевой наряд в коробке, украшенный бахромой и рисунками? Почему правая его рука распухла и почернела?» О, как он исхудал! Скелет, обтянутый кожей. Большие его глаза ввалились. Нас он словно не замечал и дико осматривался по сторонам.
Взгляд его пал на мешок, в котором хранились талисманы. Мешок этот подвешен был к шесту вигвама, над постелью. Дрожащей рукой указал он на него и прошептал:
— Сними его с шеста. Вытащи из него все, что там есть. Я повиновался, засунул руку в мешок и достал подарок Ки-па — талисман, притягивающий огонь с неба. Я показал его отцу.
— А! Вот он! Я забыл взять его с собой, — слабым голосом проговорил он.
Мать подала отцу деревянную тарелку с похлебкой. Ел он с жадностью и попросил еще. Потом захотелось ему мяса, но мать не дала.
— Сейчас же дай мне мяса, я умираю от голода, — приказал он.
Мать покачала головой и ответила:
— Нет. Нельзя. Сначала отдохни, а потом можешь поесть мяса.
Он закрыл глаза и тотчас же заснул, сжимая в руке талисман Ки-па. Мы подбрасывали хворост в костер и не спускали глаз с отца. Пришел Короткий Лук, осмотрел распухшую руку своего друга и сказал, усаживаясь подле меня:
— Много он страдал, но теперь скоро поправится.
Проснулся отец среди ночи и снова попросил есть. Мать дала ему похлебки и мяса, он с жадностью набросился на еду и съел все до последнего кусочка. Тогда только заметил он, что в вигваме сидит Короткий Лук.
— Ха! Это ты, друг мой! — сказал он. — Я рад тебя видеть.
— Вот ты и вернулся к нам, — отозвался Короткий Лук. Мы также рады тебя видеть.
— Не надеялся я вернуться к жене и детям, — проговорил отец. — Слушайте, вот что случилось со мной:
«Четыре ночи шел я долиной реки и наконец спустился к устью. На рассвете пятого дня увидел я вдали дымок, поднимавшийся над долиной. Я знал, что это дым костров в лагере врага. Позднее показались на равнине всадники, выехавшие на охоту.
Я спрятался в зарослях и ждал ночи. Враги завладели моей Трубкой Грома, которая нужна была мне для молитвы, но у меня остался другой талисман — подарок белого человека. Я хотел притянуть с неба огонь, надеясь, что тогда Солнце заметит меня и услышит мой зов. Я раскрыл коробку с боевым снаряжением, стал искать волшебный кусок льда, но не нашел. Я был уверен, что взял его с собой в дорогу. Неужели я его потерял? Тяжела была мне эта потеря.
Настала ночь, и я приблизился к лагерю врага. Тускло мерцали огни в, вигвамах. Сначала хотел я найти лошадей, а потом пробраться в лагерь и отыскать Трубку Грома. Взошла луна, когда я вышел на пастбище, где паслись табуны ассинибуанов, но моих лошадей нигде не было видно.
Тогда решил я сначала отыскать трубку, а потом угнать один из табунов, принадлежащих ассинибуанам. Лагерь был раскинут на открытой поляне, и мне пришлось пробираться ползком и прятаться в высокой траве. Когда я находился на расстоянии сотни шагов от первых вигвамов, справа от меня послышался шорох. Это была «настоящая змея». Не успел я свернуть в сторону, как она ужалила меня в руку. В ужасе я едва не закричал и вскочил, а змея сорвалась с моей руки. Я поднес к губам ужаленную руку и, высасывая кровь из ранки, бросился бежать. Не знаю, почему побежал я прочь от Маленькой реки, на юг, к Большой реке, и стал взбираться на холм. Рука моя распухла и горела, словно охваченная огнем. Никогда еще не испытывал я такой мучительной боли.
Я спустился с холма в долину Большой реки и увидел ручей, струившийся в ущелье. Без сил упал я на берегу ручья и сунул руку в холодную жидкую грязь. Сначала я почувствовал облегчение, но вскоре боль снова усилилась; казалось мне, что грязь нагревается от огня, пожирающего мою руку. Когда рассвело, я понял, что дело плохо. «Сейчас пойду я по тропинке, ведущей в Страну Песчаных холмов», — подумал я и потерял сознание.
Когда я пришел в себя, как вы думаете, где я был? На островке на Большой реке! Как я попал туда? Не знаю. Сколько времени провел на островке? Тоже не знаю. Пропали мои стрелы и лук, мое боевое снаряжение, мокасины и сушеное мясо. Должно быть, в беспамятстве я бросил в реку все свои пожитки или забыл их где-нибудь на берегу. Искать их не имело смысла. Рука моя распухла до локтя, но боль утихла. Я побродил по островку, нашел какие-то съедобные коренья и съел их.
Когда спустилась ночь, я покинул островок и вплавь добрался до северного берега. Я не знал, где нахожусь. Поднявшись на равнину, я стал ждать рассвета, и когда, наконец, рассвело, увидел на севере Волчьи горы. Сначала я не поверил своим глазам. Неужели мог я, скитаясь в беспамятстве, зайти так далеко? Немедленно тронулся в обратный путь. Знал я, что по равнинам рыщут военные отряды, но опасность меня не страшила. Нужно было спешить, малейшее промедление грозило смертью, потому что я потерял свое оружие и мне нечего было есть.
Проходили дни. Съедобных кореньев попадалось все меньше и меньше, и я терял силы. Наконец увидел я долину Маленькой реки и стал подниматься к истокам. Когда вдали показались тусклые огни, я едва передвигал ноги. Если бы пришлось мне идти еще несколько часов, я не добрался бы до дома».
— Ха! Тебе повезло, — сказал ему Короткий Лук. — Из тех, кого ужалит «настоящая змея», редко кто остается в живых.
Отец ничего не ответил — он снова заснул. Когда ушел Короткий Лук, мы тоже улеглись спать.
Проснулся я на рассвете. Отец спал крепким сном. Я попросил мать ни слова не говорить ему о тех лошадях, которых я выменял на бобровые шкурки. Поев, я вышел на пастбище, поймал двух лошадей и вместе с сестрой поскакал к реке, где были расставлены западни. Сестре я сказал, что сегодня хочу поскорее закончить работу, а затем пригнать наш табун к лагерю, вызвать отца и показать ему что мы приобрели за время его отсутствия. Я думал, что он обрадуется, увидев табун в сорок голов. Когда отец тридцать дней назад покинул лагерь, было у нас только три лошади — подарок Короткого Лука.
Накануне я расставил западни дальше к верховьям реки, куда не заходили другие ловцы бобров. Там, где тянулась вдоль реки роща молодых тополей, бобры — эти маленькие дровосеки — проложили тропы, по которым таскали к реке зеленые тополевые ветки. С этими ветками они переправлялись к противоположному крутому берегу, где находились их жилища, и погружали их на дно реки. К зиме они собирали большие охапки веток, а когда лед сковывал реку, они тащили ветки в свои жилища и объедали кору. Белые палки с объеденной корой они спускали под лед, и течение их уносило.
Весной и летом они не запасались ветками. Запасы на зиму они делали, когда листья, падающие с деревьев, возвещали приближение холодов. Но и теперь бегали они каждую ночь по тропинкам, ведущим от реки к роще, и я был уверен, что найду бобров в трех моих западнях.
Мы привязали лошадей на опушке леса и крадучись стали спускаться к реке. Я держал наготове ружье, надеясь подстрелить оленя или лося, пришедшего на водопой.
Вдруг раздался громкий плеск неподалеку от того места, где была расставлена первая западня. Казалось, какое-то большое животное плескалось в реке.
— Стой здесь, а я пойду вперед и посмотрю, — сказал я сестре.
Сделав несколько шагов, я оглянулся: сестра шла за мной по пятам. Знаками я приказал ей остановиться. Она покачала головой и ответила также знаками:
— Нет, я пойду с тобой.
Спорить я не стал. Кусты скрывали от нас реку, и мы не видели, какое животное плещется в воде.
6. ВСТРЕЧА С ПИКУНИ
Ползком я пробирался сквозь заросли и, наконец, раздвинув кусты, увидел реку. Сердце у меня замерло: большая старая медведица-гризли стояла на задних лапах в воде и мотала головой, словно высматривала добычу. Два крохотных медвежонка сидели на берегу и смотрели на мать.
Вдруг за ее спиной показалась головка бобра. Зверек набрал воздуха в легкие и скрылся под водой. Медведица быстро повернулась, подпрыгнула и опустилась на все четыре лапы, взбаламутив вокруг себя воду. Когти правой ее лапы застряли в звеньях цепи, привязанной к моей западне. Рванувшись вперед, она вытащила на поверхность воды западню, и я увидел большого бобра, попавшего в ловушку. Медведица разинула пасть, схватила зверька и двинулась к берегу.
У меня в глазах потемнело от бешенства. Я не хотел лишиться этой западни, и жалко мне было бобра, которого я мог обменять на сильную вьючную лошадь. Но я боялся медведицы: много слышал я рассказов об охотниках, растерзанных гризли — самым опасным из всех зверей. Однако гнев одержал верх над страхом.
Старая медведица добралась до берега. Оба медвежонка привстали на задние лапы и втягивали носом воздух, словно старались угадать, что держит она в пасти.
Колышек, к которому привязана была цепь западни, я вбил довольно далеко от берега, опасаясь, как бы бобр не выбрался на сушу и не освободился из западни. Должно быть, зверек только что попал в ловушку и пытался высунуть головку из воды, когда к реке подошла медведица.
Вдруг цепь натянулась, и медведица, разжав клыки, упустила бобра. Тихонько заворчала она от удивления и повернулась, чтобы снова поймать зверька.
Она стояла боком ко мне, и я решил не упускать удобного случая. Прицелившись ей в спину, я спустил курок. Медведица заревела от боли, а я вскочил, повернулся, чтобы убежать, и сбил с ног сестру. Я не знал, что она стоит за моей спиной. Конечно, Нитаки вскрикнула, и медведица услышала ее крик.
Я схватил сестру за руку и помог ей встать.
— Беги! — сказал я, оглядываясь через плечо.
Медведица громко ревела и, продираясь сквозь заросли, шла прямо на нас. Кровь лилась из ее разинутой пасти. «У нас есть надежда на спасение, — подумал я. — Эта алая пенистая кровь хлынула из простреленных легких. А если легкие прострелены, медведица скоро издохнет».
Нитаки бежала к опушке леса, где мы оставили лошадей. Я от нее не отставал, но медведица нас догоняла.
Снова вспомнил я слова Белого Волка: «Защищай мать и сестру. Круто свернул я в сторону, замедлил бег и громко крикнул, чтобы привлечь внимание медведицы. Забыв о Нитаки, она бросилась по моим следам. Я летел как стрела, но расстояние между нами уменьшалось с каждой секундой. Бросив ружье в кусты, я развязал пояс, сорвал с плеч одеяло и, скомкав его, швырнул через плечо. Медведица поймала его на лету и вонзила в него когти, а я успел добежать до молодого тополя и, как белка, вскарабкался на дерево.
Оглянувшись, я увидел, что медведица оставила одеяло и приближается огромными прыжками. Она громко сопела, и морда ее была покрыта кровью. Внезапно она тяжело упала на землю, а я, видя, что враг мой лежит неподвижно, издал победный клич.
Спрыгнув с дерева, я позвал сестру.
— Нитаки, беги сюда! — кричал я. — Медведица умерла!
— Уверен ли ты в этом? — откликнулась она.
— Да, да, уверен! Иди скорей!
Взявшись за руки, мы подошли к медведице. Величиной она была чуть ли не с самку бизона. Какая огромная голова! Какие маленькие глазки! А когти на передних лапах были длиной с мою ладонь. Мы, индейцы, всегда думали, что медведи сродни людям и мало чем от них отличаются. Вот почему я не мог взять шкуру убитого зверя. Только знахари имели право отрезать кусок меха, чтобы завернуть в него священную трубку.
Но когти принадлежали мне по праву. Они были моим трофеем так же, как скальп является трофеем того, кто убивает врага. Я хотел сделать из них ожерелье и носить его на шее: пусть знают все, что я совершил подвиг. Ножом срезал я когти с передних лап, а Нитаки принесла мое разорванное, залитое кровью одеяло, и в него мы завернули когти. Потом я отыскал свое ружье и зарядил.
Мы спустились к реке. Медвежат на берегу уже не было. Я вошел по пояс в воду, выдернул колышек и вытащил на берег западню с попавшим в нее бобром. Клыки медведицы не испортили меха. Быстро содрали мы шкуру с бобра и снова поставили западню. В двух других западнях мы не нашли зверьков.
Вернувшись на опушку леса, мы вскочили на копей и поехали домой. Проезжая пастбищем, я отыскал наших лошадей и погнал их к лагерю. Мать поджидала нас. Когда мы пригнали табун к самому вигваму, она позвала отца.
— Посмотри, как работал твой сын, пока тебя не было! — сказала она. — Это его лошади — все, кроме тех трех, которых подарил тебе Короткий Лук.
— Не может быть! — воскликнул отец.
— Брат ловил бобров и обменивал шкурки на лошадей, — вмешалась Нитаки. — А мы ему помогали. Каждое утро мы ходили с ним к реке.
Отец ни слова не ответил. Он уселся на землю и, прислонившись спиной к вигваму, не спускал глаз с лошадей.
— А вот еще одна шкурка, — сказала сестра, протягивая ему шкурку бобра. — Еще одна шкурка — еще одна лошадь.
Я развязал одеяло и положил его к ногам отца.
— Я убил медведицу. Я совершил подвиг. Вот ее когти. Смотри, какие длинные!
Как ты думаешь, порадовался он моей удаче? Засмеялся? Похвалил меня? Нет! Искоса посмотрел он на когти медведицы, отвернулся и пробормотал:
— Все счастливы, все довольны, мне одному не везет. Я беден, очень беден, ничего у меня нет.
— Нет, нет, отец, ты не беден, эти лошади твои… — начал было я, но мать меня перебила.
Она сердилась. Я видел, как сверкали ее глаза.
— А кто виноват в том, что ты беден? — крикнула она. — Ты! По твоей вине мы потеряли всех лошадей. Еще раз говорю тебе: вернемся к родному племени!
— Никогда! Никогда не вернусь я к пикуни! — резко оборвал ее отец. — Слушайте, жена и дети, — продолжал он, и голос его звучал мягче, — скоро я отдохну, соберусь с силами и снова пойду отыскивать наших лошадей и Трубку Грома. И в следующий раз я вернусь не с пустыми руками.
С этими словами он встал и, опираясь на руку матери, вошел в вигвам.
Летели дни. Я продолжал ловить бобров. Лошадей у нас было много, и теперь мы хранили шкурки, чтобы впоследствии обменять их на товары Ки-па. Отец отдыхал, сытно ел, и силы к нему возвращались. Но в дождливые дни у него болела рука, ужаленная змеей.
Однажды лагерный глашатай, проходя между вигвамами, возвестил о том, что на следующее утро племя снимается с лагеря и двинется к устью реки Марии, где находился торговый форт Ки-па. Услышав это, отец заявил, что чувствует себя здоровым и может отправиться в путь.
Путешествие прошло без всяких приключений. Через два дня мы раскинули вигвамы в долине Большой реки, неподалеку от форта. Ки-па рад был нас видеть. В честь старшин племени большебрюхих устроил он пир, и на этот пир позвал отца. Мать моя подружилась с Са-куи-а-ки, целые дни проводили они вместе.
Большебрюхие осаждали торговое помещение форта, где разложены были на полках товары. Много народу набилось в комнату. Всем хотелось поскорее пробраться к прилавку и обменять бобровые шкурки на материю, ружья, ножи. В лагере нашем было не меньше двух тысяч шкурок, а через пять-шесть дней они перешли в руки Ки-па, и полки в торговом помещении форта опустели. Но вскоре получена были новые товары. Из форта на реке Иеллоустон прибыли три большие лодки с грузом. Никогда еще не видели мы таких красивых вещей, как те, какими торговал Ки-па. Нравились нам яркие цветные одеяла, каких не было у Красных Курток, торговавших на севере. Всем хотелось иметь такое одеяло, и в лагере не осталось ни одной бобровой шкурки. Старшины собрались на совет и решали вопрос, где ставить западни на бобров.
В гости к Ки-па приехал белый начальник со своими помощниками. Жил он, по словам Ки-па, в далекой стране, которая лежит за великим соленым озером. Ему хотелось знать, как мы живем и какие животные водятся в нашей стране. Для него мы убивали зверей, птиц, насекомых, которых он решил увезти с собой на родину. Он скупал у нас не только шкуры, но и кости бизонов, лосей, медведей и других животных, больших и мелких.
Однажды пришли мы к нему в гости — мой отец, Короткий Лук и я. Он поймал паука и пришпилил его булавкой к куску бумаги. Потом положил он паука под какую-то странную трубу. Если посмотришь в эту трубу — крохотная вещь покажется тебе очень большой.
Нам он приказал посмотреть в трубу на паука. По очереди подходили мы к трубе и заглядывали в нее. Мороз пробежал у меня по коже, когда я увидел паука. Я и не знал, что у него такая отвратительная голова, такие злые глаза и огромная пасть.
Потом он заставил нас посмотреть на каплю воды, и мы увидели, что копошатся в ней черви. Это было страшное зрелище. Белый человек сказал нам, что в каждой капле воды много таких червей, но, конечно, мы ему не поверили. Просто-напросто белый человек был знахарем, колдуном, этих червей он бросил в воду, чтобы показать нам, какой он великий колдун.
Старшины порешили вернуться к Маленькой реке и заняться ловлей бобров у ее истоков. Рано утром оповестил нас об этом решении лагерный глашатай. Но и часа не прошло, как приказали ему снова объехать все вигвамы и выкрикивать: «Завтра мы не снимаемся с лагеря. Едут сюда пикуни. Едут наши друзья».
Нам эту весть принесла жена Короткого Лука, опередившая лагерного глашатая.
Лицо отца потемнело, брови сдвинулись, и пришлось нам скрывать нашу радость.
— Если они раскинут вигвамы около нашего лагеря, мы немедленно отсюда уйдем, — сказал он матери.
Она промолчала. Мы с Нитаки выбежали из вигвама и остановились у входа; вскоре подошла к нам мать. Видели мы, как Короткий Лук, старшины большебрюхих, их воины и знахари выехали навстречу пикуни. А в вигваме сидел мой отец и посылал проклятья родному народу. Тяжело было у меня на сердце. Я видел слезы на глазах матери. Хотелось мне войти в вигвам и сказать отцу, что плохо он поступает, ненавистью отравляя нашу радость. Но я не посмел этого сделать.
Вскоре вернулся Короткий Лук со своими спутниками, а с ними ехал вождь Одинокий Ходок и старшины пикуни. Нас они не заметили и направились к вигваму Короткого Лука.
Мы не спускали глаз с долины реки. Наконец выехали из лесу первые всадники, а за ними, извиваясь словно змея, спустилась в долину процессия ехавших верхом пикуни. Остановились они на поляне у реки и начали снимать с лошадей поклажу. Мы побежали к ним, а навстречу нам летели радостные приветствия. Отыскали мы наших родственников — Глаза Лисицы, Белого Волка, их жен и детей. Сколько было смеха, сколько пролито слез! Женщины и девочки всегда плачут от счастья.
Когда женщины раскинули вигвамы и пошли за водой и хворостом, Глаза Лисицы, Белый Волк и другие воины повели меня к реке, усадили на берегу и заставили рассказать обо всем, что с нами случилось с тех пор, как расстались мы с пикуни. Внимательно слушали они меня, передавая друг другу трубку, ни разу не перебили, пока я не рассказал им о встрече с медведицей, не показал ожерелья из когтей.
Тогда один старый воин хлопнул в ладоши и воскликнул:
— Ха! Этот мальчик настоящий пикуни! Неужели я сказал — мальчик? Какой же он мальчик? — Он — мужчина, воин!
— Аи! Правду ты сказал.
— Правдивы твои слова, древний старик! — подхватили остальные.
О, как обрадовался я этим похвалам!
Когда я закончил свой рассказ, воины долго молчали. Наконец заговорил Белый Волк:
— Что мне сказать о старшем моем брате? Стыдно мне за него! Должен был бы я на него рассердиться. Плохо он поступает, а хуже всего то, что свою жену и детей он подвергает великим опасностям. Но знаю я: несмотря ни на что, он — человек добрый и смелый. Одна беда — слишком он горд. И вот что я скажу: пожалеем его. Он несчастен. Он потерял свой талисман, потерял своих лошадей, змея его ужалила. Жалок он, очень жалок. Будем к нему снисходительны. Сделаем все, чтобы вернулся он в наш лагерь.
И воины согласились с Белым Волком. Хотелось им, чтобы отец помирился с пикуни. Я отыскал мать и сестру, и мы пошли домой. Отец на нас рассердился.
— Конечно, вы побывали в лагере пикуни. С ними вам веселее, чем со мной, — сказал он.
— Не сердись, — ответила мать. — Ты знаешь, что всегда рады мы быть с тобой.
Он промолчал.
В нашем вигваме собрались гости. Первыми явились Белый Волк и Глаза Лисицы. Пришли и другие воины, друзья отца, которые не раз сражались бок о бок с ним. Ласково приветствовали они его, курили трубку, рассказывали о своей жизни и уходили, упрашивая его заглянуть к ним в вигвам.
Никогда еще не видел я отца таким пасмурным и молчаливым. Впервые он молчал и слушал, что говорили другие. Ему не о чем было говорить: новых подвигов он не совершил, его преследовали неудачи, а рассказывать о них он стыдился.
Белый Волк и Глаза Лисицы ушли от нас последними. Говорили они обо всем — только не о том, что было у них на уме. А хотелось им уговорить отца вернуться к пикуни.
Вечером пришел юноша, посланный вождем пикуни, Одиноким Ходоком. Великий вождь звал отца в свой вигвам выкурить трубку и принять участие в пиршестве. Отец вскочил и завернулся в свое одеяло. Сердце забилось у меня быстрее от радости: думал я, что отец пойдет на зов. У матери сияли глаза. Вдруг отец нахмурился, снова опустился на ложе из звериных шкур и проворчал, обращаясь к юноше:
— Скажи твоему вождю, что я болен и не могу прийти.
На следующее утро вождь пришел в наш вигвам и долго сидел с нами. Вел он себя так, словно мы по-прежнему жили в лагере пикуни, словно не было никакой ссоры. Говорил он о давно прошедших временах, вспоминал те далекие дни, когда он и мой отец были молоды. А отец, слушая, припоминая, развеселился, забыл об обидах и сам говорил немало. Мы радовались, на него глядя, надеялись, что гнев его остынет и скоро, скоро раскинем мы вигвам в лагере пикуни.
Каждый день ходили пикуни в форт Ки-па и обменивали шкурки бобров на товары белых людей. Купили они все, что привезено было на трех лодках, и требовали новых товаров.
— Как хорошо, что белый торговец поселился в нашей стране, в сердце наших прерий! — говорили мы. — Теперь ни в чем не будем мы нуждаться.
Сын мой, как жестоко мы ошибались! Я не осуждаю Ки-па. Был он хорошим человеком и не желал нам зла, но люди, пославшие его, задумали недоброе дело. Виноваты и мы, индейцы. Мы были недальновидны. Если подумать — мы ведь не нуждались в тех товарах, какие привозили в нашу страну белые торговцы. Предки наши сами делали свое оружие и одежды и жили счастливо. Будь мы мудрее — мы последовали бы их примеру. Вторжение белых было для нас началом конца. Для них мы истребляли нашу дичь, мы соблазнились пестрыми бусами, цветными одеялами и табаком, ружьями и огненной водой, мы позволили им укрепиться в нашей стране, и в конце концов отняли они у нас нашу землю. Близка наша гибель, и вместе с нами погибнут все народы прерий.
Не помню, сколько дней провели пикуни и большебрюхие в долине реки Марии. Счастливые были дни — дни пиршеств, плясок, стрельбы в цель из ружей, купленных у Ки-па.
— Поберегли бы вы пули для врагов, — предостерегали старики.
Но стрелки над ними смеялись. Дешево стоили пули. За одного бобра белые давали двадцать пуль, а бобров в ручьях водилось много.
Наконец Одинокий Ходок и Короткий Лук порешили, что настало время, когда пикуни и большебрюхие должны сняться с лагеря и разъехаться в разные стороны. Весь хворост в долине был собран и сожжен. Охотники, рыскавшие по равнинам, разгоняли дичь. Всем хотелось ловить бобров, и ловцов в обоих лагерях насчитывалось слишком много. По приказу вождей лагерные глашатаи объявили, что отъезд назначен на следующее утро. Большебрюхие возвращались к Маленькой реке, пикуни держали путь на юг.
И Одинокий Ходок и Короткий Лук были верными друзьями моего отца. Вечером пришли они в наш вигвам, вслед за ними явились Белый Волк и Глаза Лисицы, а также воины пикуни. Одинокий Ходок, говоря от имени всех собравшихся, просил отца примириться с родным племенем.
Когда он умолк, заговорил Короткий Лук. Повторял он слова Одинокого Ходока.
— Как! Неужели слух меня не обманывает? — воскликнул отец. — Не ты ли мне говорил, что твой вигвам — мой вигвам, твой народ — мой народ?
— Да, я это говорил и говорю сейчас, — отозвался Короткий Лук. — Но как друг твой, я тебе советую вернуться к родному племени.
— Нет, я останусь с тобой. Теперь я здоров. Скоро я пойду снова отыскивать лагерь ассинибуанов, найду свою трубку и пригоню табун.
— Брат, нелегкое дело найти трубку. Удастся ли оно тебе? — сказал Белый Волк.
— Ночью я проберусь в лагерь и буду заглядывать в вигвамы, пока не увижу трубку. А тогда я проникну в вигвам и завладею ею или унесу ее потихоньку, когда все спят.
— Ты задумал опасное дело, — возразил Белый Волк. — Не успеешь ты отойти на десять шагов от вигвама, как враги поймают тебя и снимут скальп.
— Возвращайся лучше к нам, — сказал Одинокий Ходок. — Вернись хотя бы ради жены и детей.
— Да, чтобы вы снова меня отхлестали! — крикнул отец. — Довольно! Не будем говорить об этом! Я остаюсь с Коротким Луком.
Молча вышли из вигвама наши родственники и друзья, а Короткий Лук сказал отцу:
— Будь готов. Утром мы снимаемся с лагеря.
Не стоит говорить о том, как были опечалены мы трое — мать, сестра и я. Мы надеялись, что этой беседой будет сломлено упрямство отца. Мечта наша не сбылась. Снова прощались мы с родным племенем, снова шли навстречу неведомым опасностям.
Три дня спустя мы вернулись вместе с большебрюхими к Маленькой реке. Отец мой был теперь здоров и не хотел сидеть сложа руки. Часто брал он мое ружье и ходил на охоту или ставил западни на бобров. Первые двадцать шкурок решил он обменять на ружье для себя.
Нитаки, моя мать и я не скучали в лагере большебрюхих. Как я уже говорил, многие большебрюхие взяли в жены женщин из племени пикуни, и дети их говорили на моем родном наречии. Когда не было у нас работы, а отец уезжал на охоту, мы вспоминали те счастливые дни, когда пикуни и большебрюхие жили бок о бок в окрестностях форта Ки-па.
Вечером, накануне нашего переселения, мать долго беседовала с Са-куи-а-ки, женой Ки-па. Нитаки и я не знали, о чем толковали они так долго; часто спрашивали мы мать, о чем совещалась она с Са-куи-а-ки, а мать отвечала:
— Когда-нибудь вы все узнаете. Если сбудется то, о чем мы говорили, все мы будем счастливы.
Лето стояло теплое. Под лучами солнца зрели и наливались соком ягоды на кустах. Однажды, в ясный солнечный день, отец, ездивший смотреть западни, вернулся веселый и довольный, к седлу его были привязаны три шкурки.
Мы трое сидели у входа в вигвам, смотрели на отца и радовались его удаче. Казалось нам, что солнце светит ярче в те дни, когда отец смеется и поет. Могли ли мы знать, что этот яркий солнечный день закончится для нас бедой?
7. ТАЛИСМАН БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ
Слушай, сын мой, вот что случилось с нами. На закате солнца отец и Короткий Лук сидели в тени нашего вигвама, беседовали и курили. Отец заговорил о своем талисмане — о камне, который похож на кусок льда. Этим камнем он только что зажег свою трубку.
— Много видел я талисманов в лагере пикуни и в лагере большебрюхих, — сказал он, — но мой талисман — самый могущественный.
— Кто знает? — отозвался Короткий Лук. — Быть может, ты ошибаешься.
— Что ты хочешь этим сказать? — удивился отец.
— А вот что: это талисман белых людей, и, пожалуй, не годится он для нас, жителей прерий. Что, если Солнце разгневается на тебя за то, что ты воруешь у него огонь? С этим талисманом я бы не стал молиться Солнцу.
— Ха! Ничего ты не понимаешь! — воскликнул отец. — Я знаю, что это могущественный талисман. Ты хвастаешь своим костром, зажженным молнией, а я не вижу от него толку.
— Не говори так, — возразил Короткий Лук. — Священный огонь был дарован нам молнией и в течение многих зим живет в нашем вигваме.
— Мне нет дела до твоего огня! — сердито крикнул отец. — Он мне не нужен, да и в тебе я не нуждаюсь!
Больно нам было слушать, как разговаривает он с лучшим своим другом. А вождь ни слова не ответил. Молча вернул он ему трубку, встал и направился к своему вигваму.
Докурив трубку, отец выбил из нее пепел и крикнул:
— Черная Выдра, ступай приведи лошадей! Собирайте вещи, складывайте вигвам! Сегодня же мы уедем отсюда.
— О нет! Не сердись! — взмолилась мать. — Короткий Лук на тебя не сердится. Просто-напросто он тебя жалеет. Зачем сказала она это слово?
— Не хочу я, чтобы кто-нибудь меня жалел! — вскипел отец. — Ни в чьей помощи я не нуждаюсь. У меня есть талисман посильнее огня, посланного молнией. Приведите лошадей! Складывайте вигвам! Я ухожу из этого лагеря!
Что было нам делать? Мать и сестра, не смея возражать отцу, стали складывать вигвам, я побежал за лошадьми. Когда я вернулся, все наши вещи были уложены. Мы оседлали лошадей, навьючили на них поклажу и тронулись в путь.
По всему лагерю разнеслась весть о ссоре отца с вождем. Пять-шесть женщин стояли поодаль и с грустью посматривали на нас, подойти к нам они не смели, боясь отца. Прибежали друзья мои и Нитаки, но мужчин не было видно. Никто не пришел попрощаться с отцом. Когда мы выезжали из лагеря, воины делали вид, будто нас не замечают.
Так расстались мы с большебрюхими. Отец верхом на моей лучшей лошади ехал впереди. Мать, сестра и я гнали табун.
Вечером мы раскинули вигвам на берегу реки, где были расставлены западни. Молча мы поели и рано улеглись спать. Я спал на поляне, где паслись лошади, стреноженные или привязанные к колышкам. Ночь прошла спокойно, но несколько раз приходилось вставать и отгонять койотов: они подкрадывались к колышкам и грызли ремни.
Утром мы нашли трех бобров в западнях и содрали с них шкурки. Затем отец объявил нам, что поедем мы к кроу — воронам.
— О нет! Только не к ним! — воскликнула мать. — Почему бы не поехать нам к черноногим или к индейцам племени кровь?
— А чем отличаются они от пикуни? — возразил отец. — Говорят они на одном языке и только называются по-разному. И правила охоты у них одни и те же. Нет, мы будем жить с кроу. Там я могу охотиться, когда мне вздумается.
— Но они наши враги, — напомнила ему мать.
— Враги пикуни, но не наши, — сказал отец. — Ты забываешь, что мы уже не пикуни. Нас они примут в свою среду, рады будут заручиться дружбой Одинокого Бизона.
А теперь, сын мой, я тебе расскажу, кто такие эти кроу. Некогда вся наша страна принадлежала им. Да, да, эти равнины, горы, долины до реки Белли, протекающей на севере, были их владениями. Затем предки наши приобрели лошадей, а позднее купили ружья у торговцев Красные Куртки и прогнали кроу далеко на юг, за реку Иеллоустон. Завладев страной, пикуни заключили мир с кроу. Обе стороны решили, что река Иеллоустон будет границей, разделяющей владения двух племен. Но мир оказался непрочным: пикуни и кроу всегда между собой враждовали. Вожди обоих племен заботились о сохранении мирных отношений, но не могли удержать молодых воинов, рвавшихся в бой. Либо молодые пикуни нападали на кроу, либо юноши кроу совершали набег на лагерь пикуни — и началась война. В то лето, о котором идет речь, вспыхнула такая война.
Мы сложили, вигвам и отправились в страну кроу. Ехали мы ночью, а днем загоняли табун в заросли и сами прятались в кустах, боясь встречи с каким-нибудь неприятельским отрядом.
На третье утро мы подъехали к форту Ки-па. И он и Са-куи-а-ки удивились, узнав о планах отца, и долго убеждали его не ехать к кроу, но он и слушать не стал. Шкурки бобров он обменял на ружье, порох и пули, а для матери и сестры купил по новому одеялу и красной материи на платья.
В форте мы провели один только день, и моя мать снова вела долгую беседу с Са-куи-а-ки. Хотелось мне знать, о чем они совещаются. В ту пору Са-куи-а-ки еще не говорила на нашем языке, и объяснялись они знаками. Я следил за ними, но они стояли так близко друг к другу, что я не видел их рук.
Убедившись, что мой отец не изменит своего решения, Са-куи-а-ки дала матери новое белое одеяло, синей материи на платье, ожерелье, красной краски и сказала:
— У меня есть близкий друг — женщина из племени арикари. Жила она с родным моим племенем мандан в вигваме моего отца. Теперь она живет в лагере кроу. Один из старшин, Пятнистая Антилопа, взял ее в жены. Мы зовем ее Женщина-Кроу. Передай ей эти подарки, скажи, что ты — мой друг и я прошу ее быть тебе другом.
Мать рада была исполнить это поручение. Обрадовалась и мы с сестрой: хоть один человек в лагере кроу встретит нас дружелюбно.
Расставшись с Ки-па, мы направились туда, где в настоящее время находится форт Бентон. Там хотели мы переправиться через Большую реку; от таяния снегов в горах вода поднялась высоко. Ехали мы по тропе, по которой не так давно проехали пикуни, державшие путь на юг.
Первый день мы провели у подножия гор, поросших лесом. Отдохнули, выспались и на закате солнца продолжали путь. На рассвете мы увидели реку Стрелу. Раньше чем спуститься в глубокую узкую долину, мы с отцом поднялись на утес посмотреть, нет ли в окрестностях неприятеля. Сойдя с лошадей, мы подползли к краю утеса и заглянули в ущелье, на дне которого протекала река.
Всходило солнце, а в ущелье еще лежали ночные тени. Когда их прогнал дневной свет, мы увидели реку. Ивы и тополя спускались к самой воде. На противоположном берегу — отвесная каменная стена с выступами и зазубринами. Ни одного живого существа не было видно — ни одного, кроме старого бизона, лежавшего на песчаной отмели. Но вглядевшись пристальнее, мы убедились, что он мертв.
Я спросил отца, почему так пустынно вокруг, почему не идут животные на водопой к реке.
— Ничего странного в этом нет, — сказал отец. — Разве ты забыл, что этой дорогой едут пикуни? Несколько дней назад они делали привал у реки, охотились и спугнули стада.
Мне стало стыдно, что я об этом не подумал. Я хотел было встать и последовать за отцом, который направился к тому месту, где мы оставили лошадей, как вдруг заметил горного барана, стоявшего внизу, на выступе утеса, справа от нас. Мяса у нас не было, и мы хотели отправиться утром на охоту. Я подозвал отца и показал ему горного барана.
— Хорошее мясо! — сказал он. — Пойдем направо и сверху его подстрелим.
Идти нам пришлось недалеко — шагов двести. Припав к земле, мы посмотрели вниз. Горный баран находился как раз под нами, он улегся на выступ и пережевывал траву.
Конечно, стрелять должен был мой отец. Медленно подвигал он ружье к краю пропасти. Как вдруг я заметил, что на узком выступе между нами и горным бараном появилось какое-то бурое пятно. Тронув отца за руку, я показал ему пальцем вниз. Он быстро отодвинул ружье и свесился над пропастью. Это был лев, большой горный лев. Он полз к горному барану и готовился спрыгнуть с выступа прямо на спину жертвы.
Затаив дыхание, следили мы за хищником. Он крался, припав брюхом к земле; казалось, нет у него ног и ползет он, как змея. Вытянув длинный хвост, он не спускал глаз с барана, а кончик хвоста слегка подергивался.
Баран жевал жвачку и, мотая головой, посматривал то направо, то налево — не угрожает ли ему опасность. Если горный баран пасется один, он всегда начеку и ни на минуту не засыпает. Но обычно бродят они небольшими стадами и спят по очереди. Когда барана-караульщика начинает клонить ко сну, он бодает одного из спящих товарищей и, разбудив его, ложится. Много раз я сам это видел.
Одинокий старый баран, лежавший на выступе, зорко посматривал по сторонам, но, конечно, не мог увидеть врага, который полз по верхнему выступу. Изредка лев приостанавливался и, свесив голову вниз, следил за намеченной добычей. Потом медленно полз дальше.
Вдруг с утеса сорвался камень, ударился о выступ, на котором лежал баран, и скатился на дно ущелья. Животное быстро подняло голову, а лев, смотревший на него сверху, не успел отодвинуться от края выступа и застыл, неподвижный, как скала.
Я видел черные глаза барана, осматривавшего утес, но головы льва сразу даже не заметил.
С любопытством наблюдали мы с отцом каждое движение льва и его жертвы. Зимой мы часто находили следы горного льва на снегу, но впервые посчастливилось нам увидеть, как он охотится.
Приближалась развязка. Лев находился как раз над горным бараном и, поджав задние лапы, готовился к прыжку. Теперь только заметил я, что горный баран лежит у самого края пропасти. «Когда лев прыгнет ему на спину, — думал я, — баран рванется в сторону, и они вместе скатятся вниз и разобьются об острые камни».
Но этого не случилось. Лев сделал прыжок, тяжело опустился на барана и, вонзив в него когти, вцепился клыками ему в шею. Затрещали кости, и баран издох мгновенно. Все это произошло гораздо быстрее, чем я рассказываю. Лев оттащил тяжелую тушу от края пропасти.
Вот тогда-то мой отец выдвинул ружье над пропастью, выстрелил и промахнулся. Лев зарычал и, бросив свою добычу, оглянулся, не зная, с какой стороны угрожает ему опасность.
Прицелившись в него, я спустил курок, и моя пуля, пробив спинной хребет, задела сердце. Когда рассеялся дым, я увидел льва, распростертого на каменном выступе.
— Я его убил! Я убил горного льва! — закричал я.
— Да, сынок, ты его убил, и я радуюсь твоей удаче, — отозвался отец. — В лагере кроу ты можешь обменять эту шкуру на десять лошадей. Спустись на выступ и столкни барана и льва в ущелье. Мы их подберем, когда раскинем вигвам на берегу реки.
Найдя удобный спуск, я добрался до выступа и посмотрел вниз. Дно ущелья было усеяно острыми камнями, и я, желая сберечь шкуру льва, решил не сбрасывать его вниз и столкнул одного барана. Тяжело упал он на камни, и глухой стук эхом прокатился по долине.
— Отец, — крикнул я, — уведи мою лошадь! Я сдеру шкуру со льва здесь, на выступе.
Долго возился я с этой шкурой. Когда я спустился, наконец, в долину, отец уже вырезал лучшие куски мяса из туши барана.
— Не везет мне, — печально сказал он. — Как мог я промахнуться, стреляя в льва?
— У тебя новое ружье, — напомнил я ему. — Ты стрелял из него впервые.
— Нет, тут не ружье виновато. Должно быть, судьба меня преследует. Сегодня я слишком устал, но завтра утром я достану мой талисман — кусок льда, притягивающий огонь с неба, и помолюсь богам. Быть может, Солнце надо мной смилуется.
В тот день мы решили не раскидывать вигвама. Поев, мы улеглись в кустах у реки. Мать, сестра и я спали, а отец караулил и следил, за тем, чтобы наши лошади не вышли на поляну. В полдень я встал и сменил отца. Немного спустя проснулась и мать и стала выскабливать шкуру льва.
Я бродил по берегу реки и наткнулся на место стоянки пикуни. Костры их погасли, но под толстым слоем золы еще тлели угли: значит, не больше суток прошло с тех пор, как племя покинуло это место. Широкая тропа вела отсюда к верховьям реки. Как мне хотелось пойти по этой тропе!
Я вернулся к нашим лошадям, сел на землю и задумался. Счастливо начался для меня этот день! Отец прав: один удачный выстрел принес мне десять лошадей. Индейцы племени кроу высоко ценили львиную шкуру. Они считали ее великим талисманом, делали из нее колчаны и ею покрывали седла, когда готовились к стычке с врагами.
Вспомнил я горного барана. Зоркие были у него глаза, однако горный лев легко с ним справился. «Мы похожи на этого барана, — думал я. — Путешествуем по стране, где рыщут военные отряды, и если случится нам с ними встретиться, мы окажемся такими же беспомощными, как горный баран в когтях льва». Казалось мне, что встреча с врагами неизбежна и никогда не доберемся мы до лагеря кроу. А если придем мы к ним в лагерь, как примут они нас? На радушный прием я не надеялся.
Вечером перед отъездом мы с отцом поднялись на склон равнины и осмотрели окрестности. Вокруг все было спокойно. Мы увидели стадо антилоп, несколько волков и койотов, одинокого бизона-самца, спускавшегося на водопой к реке. Пролетел орел, унося в когтях кролика.
Мы хотели вернуться в лагерь, как вдруг внимание наше было привлечено странным поведением бизона. Остановившись неподалеку от нас, он замотал головой, потом несколько раз высоко подпрыгнул, встал на дыбы и передними ногами начал бить по воздуху. Проделывал он эти движения с проворством, удивительным для такого большого и неповоротливого животного. Зрелище было забавное, и я не мог удержаться от смеха.
— Не смейся, — остановил меня отец, — вдруг это волшебство! Что, если это древний танец бизонов? В далекой древности бизоны научили этой пляске наших предков, и мы по сей день храним память о ней. Никогда еще не видывал я пляшущего бизона. Смотри внимательно! И слушай! Мне чудится, что он поет!
Бизон широко расставил ноги и снова замотал головой. Я прислушался и уловил какой-то глухой шум, напоминающий жужжание пчел или тихий, протяжный вой ветра в горах. Вой оборвался внезапно: бизон рванулся вперед, закрутил хвост крючком и помчался вниз по склону, прямо к тому месту, где мать и Нитаки упаковывали наши вещи. Завидев бизона, лошади наши разбежались, а мать и Нитаки, побросав узлы, спрятались за большим тополем. Бизон пролетел мимо них, бросился в воду и, переплыв реку, вылез на сушу. Снова помчался он как стрела. Мы следили за ним, пока он не скрылся в надвигавшейся ночи.
— Черная Выдра, сын мой, — сказал отец, — нам довелось увидеть чудо. Мы присутствовали при древней пляске бизонов.
Я был согласен с отцом. Впоследствии я часто вспоминал этот странный случай и однажды рассказал о нем Ки-па. Он засмеялся.
— Ничего чудесного в этом нет, — сказал он. — Просто-напросто бизон поел какой-нибудь ядовитой травы, и у него заболел живот. Бедняга вертелся и прыгал, не зная, как избавиться от боли.
Быть может, Ки-па был прав. Но все же многое кажется необъяснимым, многого я не могу понять.
Когда мы спустились в долину, мать и сестра уже оправились от испуга и с любопытством выслушали наш рассказ о древней пляске бизонов.
Оседлав лошадей, мы выехали из речной долины. Старая тропа, проложенная пикуни и кроу, вела отсюда к Желтой реке. Это был кратчайший путь, но отец решил ехать другой дорогой, обогнуть Черную гору и отроги Снежных гор, а затем свернуть к реке. Думал он, что на этом пути мы не повстречаем врагов.
Ехали мы всю ночь, и восход солнца застал нас среди равнины. На открытом месте мы не могли сделать привал, да и воды поблизости не было. Мы продолжали путь и к полудню спустились в долину Желтой реки. Остановились мы на просеке в лесу. Мать набрала хворосту и попросила отца поджечь его талисманом, притягивающим огонь с неба, но отец покачал головой и сказал:
— Этим талисманом я не смею пользоваться для повседневных дел. Мы поедим, а потом я его достану и помолюсь Солнцу.
Я взял сверло, с помощью которого добывали мы огонь, и разжег костер, а мать поджарила кусок баранины, разрезанной на тонкие полосы.
Утолив голод, отец стал готовиться к священнодействию, а нам приказал петь вместе с ним священные песни. Он выкрасил лицо и руки красно-бурой краской, содрал волокна с куска сухой коры, скатал их в комок и положил его перед собой на землю. Из мешка моей матери он взял щепотку душистой травы и посыпал ею комок волокон.
— Хотя нет у меня моей Трубки Грома, но мы споем четыре священные песни, какие поются, когда снимают с трубки покровы, — сказал он, доставая свой талисман, завернутый в четыре покрова из раскрашенной кожи.
— Пойте песню антилопы, — приказал он нам. И мы запели вместе с ним, а он снял первый из четырех покровов. Затем спели мы песню волка и песню грома.
Когда сняты были второй и третий покровы, мы затянули четвертую священную песню — песню бизона. Отец поднял руки над головой, вытянул указательные пальцы и согнул их — это был символический знак бизона.
— Хаи-йю! Бизон! Хаи-йю! Одежда моя! Кров мой! — пели мы, не спуская глаз с отца.
Медленно снимал он последний, четвертый, покров. Чей-то голос заставил нас вздрогнуть. Я поднял голову. Мы были окружены врагами.
8. СНОВА В ПУТЬ
О, как я испугался! Мы трое — мать, сестра и я — перестали петь.
— Пойте! Пойте, если вам дорога жизнь! — хрипло прошептал отец.
И мы повиновались. Искоса посматривал я то на отца, то на врагов и пел, хотя сердце у меня сжималось от страха. А отец четыре раза простирал руки к священному талисману и наконец снял последний покров и поднял талисман высоко над головой. Когда песня была допета, он воскликнул:
— О тайный мой помощник, явившийся мне во сне! О Солнце, и вы, боги земли и неба, смилуйтесь над нами! Вам в жертву приношу я ароматный дым!
И с этими словами повернул он к солнечным лучам кусок льда, притягивающий огонь с неба. Тонкая струйка дыма поднялась над сухими волокнами, и они ярко вспыхнули.
Я посматривал на наших врагов, и внимание мое привлек один воин, который стоял в двух шагах от отца. Рослый, красивый, был он одет в пышный боевой убор. Я разглядел его щит и колчан из кожи выдры. Стоял он, скрестив руки, и в правой руке сжимал боевую дубинку. Насмешливая улыбка пробегала по его лицу, когда он смотрел сверху вниз на моего отца. Должно быть, думал он: «Ну, что ж! Подождем, пока не закончится эта глупая церемония, а потом вам не сдобровать!»
Но когда вспыхнули сухие волокна коры, воин громко вскрикнул от удивления и, указывая на пылающий комок, сказал что-то своим спутникам. Следуя его примеру, они уселись на траву перед нами.
Отец словно и не замечал их. Вытянув руки, захватил он пригоршню ароматного дыма и умылся им. Потом долго молился Солнцу, прося помощи и защиты от всех опасностей.
Трудно мне припомнить, о чем я в то время думал. Я был так испуган, что мысли спутались у меня в голове. Я даже не подивился мужеству моего отца, который перед лицом врагов спокойно совершал обряд. Мало кто способен проявить такое самообладание.
Сгорели волокна, ветер развеял последние струйки ароматного дыма, и отец, оборвав молитву, взял четыре куска кожи, чтобы завернуть в них талисман.
— Хай! — окликнул его человек с дубинкой.
Отец поднял голову.
Воин указал на талисман и сказал на языке знаков:
— Дай мне его. Я хочу его рассмотреть.
— Не могу исполнить твою просьбу, — знаками ответил отец. — Это могущественный талисман, освященный Солнцем. Сейчас ты узнаешь его силу. Вытяни руку.
Воин повиновался. Отец повернул его руку ладонью вверх и приблизил к ней кусок льда, притягивающий огонь с неба. На ладони показалось красное пятнышко.
— Ха! — вскрикнул воин.
Резко отдернул он руку, осмотрел ожог и что-то сказал своим товарищам. Те, изумленные, ударили себя руками по губам и долго о чем-то говорили. Отец завернул талисман в куски кожи и спрятал его в мешок.
Человек с боевой дубинкой пристально следил за ним, а когда талисман был спрятан, сказал — конечно, знаками:
— Мы были там, в лесу, и увидели вас издали. Сначала хотели мы вас убить и завладеть вашими лошадьми. Теперь другое у нас на уме: будем друзьями.
— О, как я рада! — прошептала мать, сидевшая подле меня.
— Он нас боится — думает, что Солнце наделило нас своим могуществом, — шепотом отозвался я.
Как выяснилось впоследствии, я не ошибся. Отец ответил воину:
— Хорошо. Будем друзьями.
— Мы — чейенны. А вы кто? — спросил воин.
— Прежде был я одним из пикуни, — ответил отец, — но я ушел от них. Теперь мы четверо ни в одно племя не входим. Идем мы на юг, там отыщем кроу и раскинем вигвам рядом с их вигвамами.
— Кроу — дурные люди. Ступайте лучше к моим соплеменникам. Скажите, что вы встретили меня, Пятнистого Волка, и я послал вас к ним. Они добрые люди, они будут вашими друзьями.
— Я об этом подумаю. А где твое племя?
— Оно охотится среди Черных Холмов, в долинах рек, впадающих в Большую реку. Тебе нетрудно будет их найти, — сказал воин.
— Они нас не тронут. Приготовь нам поесть, — прошептал отец, обращаясь к матери.
Мать и сестра начали открывать парфлеши. Воины — их было пятнадцать человек
— ушли в глубь леса, но вскоре вернулись и принесли мяса. Они расположились неподалеку от нас, разложили костер и занялись стряпней. Начальник отряда, Пятнистый Волк, остался и долго беседовал с отцом. Он сказал, что они, чейенны, задумали совершить набег на племена, живущие по ту сторону гор.
— Хотим мы осмотреть их страны, и несдобровать тому, кто встретится нам на пути, — сказал он и громко расхохотался.
В тот день никто из нас не спал. Казалось, опасность нам не угрожала, но мы не были в этом уверены — мы боялись военного отряда. А чейенны спали до вечера. Я стерег лошадей и держал наготове ружье. Следил я, как солнце ползет по небу, и ждал с нетерпением той минуты, когда вернется оно домой, на отдых, в свой вигвам. Хотелось поскорее уложить наши пожитки, вскочить на коня и уехать подальше от реки. Тогда только буду я уверен, что чейенны не желают нам зла.
На закате солнца я пригнал табун и привязал к деревьям верховых и вьючных лошадей. Мать поджарила мясо, и вождь чейеннов поел вместе с нами. Снова уговаривал он отца ехать к Черным Холмам и поселиться с чейеннами. Отец сказал, что об этом он подумает, но если поедем мы к чейеннам, то не теперь, а позднее, когда Пятнистый Волк вернется к своему племени и расскажет о нас. Тогда можем мы рассчитывать на радушный прием.
Настал час отъезда. Мать и сестра навьючили на лошадей поклажу и привязали к ним шесты от вигвама, а я оседлал верховых лошадей. Чейенны также собрались в путь. Пятнистый Волк обнял моего отца и мы вскочили на коней.
Отец ехал впереди. Нам он приказал следовать за ним и не оглядываться. Мы не смели ослушаться, но у меня дрожь пробегала по телу. Хотелось мне посмотреть, что делают чейенны, — быть может, ждут они сигнала вождя, чтобы осыпать нас стрелами. Но ничего не случилось. Мы выехали из лесу, переправились через реку и стали подниматься по склону равнины. Тогда только мы оглянулись: чейенны ехали речной долиной, держали они путь к верховьям реки, значит, они решили нас не убивать. Мы избежали великой опасности, нам хотелось от радости петь.
Отец мой засмеялся чуть ли не в первый раз с тех пор, как мы расстались с пикуни.
— Я знал, что Короткий Лук ошибается, — сказал он. — Мой кусок льда, притягивающий огонь с неба, сильнее всех других талисманов. И вовремя я его достал. Чейенны убили бы нас, если бы мой талисман не привел их в трепет.
— Одинокий Бизон, муж мой, ты смелый человек! — воскликнула мать. — Ты не прервал обряда, когда отряд застиг нас врасплох. Не понимаю, как мог ты побороть страх.
— Это было легко, — ответил отец. — Правда, сначала я испугался. Но когда чейенны увидели, как я притянул огонь с неба, я понял: они нас не тронут.
Ехали мы недолго, потому что очень устали и хотели спать. Спустившись к реке «Она их раздавила», мы расположились на отдых и спали до утра, днем мы тоже спали по очереди. Под вечер мы ели мясо, которое поджарила для нас мать, а она рассказывала нам, почему этой реке дано было название «Она их раздавила». Недалеко от устья ее, где берега обрывистые и крутые, тянулся над самой водой пласт красно-бурой земли. Наше племя издавна пользовалось этой землей как священной краской. Каждое лето приходили сюда пикуни и подкапывали берег, собирая красную землю. Рыли они все глубже и глубже, хотя старики предостерегали их и предвещали несчастье. И предсказание сбылось произошел обвал, три женщины засыпаны были землей и погибли. С тех пор никто не приходил сюда за священной краской, и реку, носившую название Краска, стали называть «Она их раздавила».
На следующее утро мы остановились у подножия Черной горы и провели здесь день. Тихо было вокруг. Казалось, мы четверо — единственные люди на земле, и до сего дня животные ни разу не видели человека. Отец объяснил нам, что на этих равнинах пикуни охотятся очень редко, так как все военные отряды, вторгающиеся в нашу страну, направляются прямо к Черной горе, чтобы с вершины ее обозреть окрестности. Они приходят и уходят, не останавливаясь здесь для охоты. Вот почему животные, населяющие этот край, — олени, антилопы, лоси, бизоны — почти не боятся человека.
Моя очередь караулить пришлась на вторую половину дня. Незадолго до заката солнца я взял лук и пошел на охоту, так как истощились у нас запасы мяса. Ружье я оставил, опасаясь привлечь выстрелом внимание врагов. Мне не нужно было далеко идти; днем я видел оленей и лосей, направлявшихся к ущелью, которое начиналось неподалеку от того места, где мы раскинули лагерь. Я догадался, что они идут на водопой.
Я вошел в ущелье и увидел большой, глубокий пруд, сжатый каменистыми берегами. Звериные тропы вели от пруда к выходу из ущелья и извивались по отлогим его склонам.
Я спрятался в кустах, окаймлявших одну из боковых троп. Вскоре показалось стадо антилоп, их вожаком был крупный самец. Припав к земле, я ждал, пока вожак пройдет мимо того места, где я спрятался. Тогда я вскочил и, напрягая все силы, натянул тетиву. Стрела попала в цель. Вожак высоко подпрыгнул, рванулся вперед и упал. Антилопы, напиравшие на него сзади, круто повернули и обратились в бегство. В нескольких шагах от тропинки лежала моя стрела, окрашенная кровью: она вонзилась между ребер животного и прошла навылет. Этим выстрелом я гордился — я понял, что рука у меня сильная, и стреляю я не хуже взрослого охотника.
Спустившись на тропу, я наточил нож о плоский гладкий камень и начал сдирать шкуру с антилопы, но не успел закончить начатое дело: в кустах, на склоне ущелья, раздался шорох, сопение, чмоканье. «Медведь!» — подумал я. В два прыжка добрался я до того места, где лежал мой лук. Когда я схватил его, из кустов вышел огромный старый гризли.
Я повернулся, бегом спустился с тропинки, обежал пруд и, поднявшись на противоположный склон ущелья, оглянулся: медведь опустил передние лапы на мою антилопу и сдирал мясо с ребер. Я побежал в лагерь и разбудил отца. Взяв ружья, мы боковыми тропами поспешили туда, где осталась моя добыча. Медведь пожирал мясо и не заметил нас. Мы выстрелили. Он упал прямо на антилопу, судорога пробежала по огромной туше, и он издох. О, как мы обрадовались!
Оттащив медведя от антилопы, мы содрали с нее шкуру и вырезали лучшие куски мяса. Срезая когти с передних лап гризли, отец решил взять также кусок медвежьей шкуры.
— Правда, нет у меня теперь Трубки Грома, — сказал он, — но скоро я ее отыщу. И у меня есть другой могущественный талисман — кусок льда, притягивающий огонь с неба. Этот талисман я заверну в кусок шкуры.
Приняв такое решение, он вырезал широкую полосу меха со спины медведя, и мы с торжеством понесли ее в лагерь.
В тот вечер мы четверо были веселы и счастливы. Мы выспались, отдохнули, и удачной охотой закончился день. Когда зашло солнце, мы тронулись в путь, направляясь к широкой тропе, которая тянется у подножия Снежных гор.
Солнце всходило, когда мы завидели долину реки Ракушки. Спускаясь по склону, поросшему кустами и вишневыми деревьями, мы заметили, что вишни уже созрели и ветви маленьких деревцев гнутся под тяжестью ягод. Мать и Нитаки хотели остановиться здесь и нарвать вишен, но отец запретил им и думать об этом.
— Мы должны спуститься в долину и спрятаться в лесу, где нас не увидят враги, — сказал он, — а вечером вы можете сюда вернуться за ягодами.
Проезжая между деревцами, мы срывали вишни. Нам очень хотелось пить, во рту пересохло, а сочные ягоды утоляли жажду. Жалко было оставлять их на ветвях.
В тополевой роще на берегу реки мы сделали привал. Пока мать и сестра раскладывали костер и поджаривали мясо антилопы, мы с отцом осматривали тропы, пересекавшие рощу и тянувшиеся вдоль реки. Мы нашли следы, оставленные животными, но нигде не видно было отпечатка ноги человека или золы костров. Казалось, кроу, пикуни и другие племена никогда не останавливались здесь на отдых.
Утром я караулил, пока остальные спали. В роще было много травы, и я следил за тем, чтобы лошади не разбрелись по долине. Часто выходил я на опушку и окидывал взглядом поляны и склоны равнины. Бизоны спускались на водопой к реке и долго стояли в прохладной воде или, выйдя на берег, ложились на траву. На звериных тропах нашел я отпечатки медвежьих лап: по-видимому, медведи побывали здесь недавно. Мне хотелось подстеречь их, но утро было такое жаркое, что медведи не показывались, — должно быть, залегли они где-нибудь в прохладном местечке.
После полудня меня сменил отец. Я заснул, но спал недолго. Мать и Нитаки не могли забыть о вишнях, им хотелось поскорее набрать их. Разбудив меня, они спросили, не пора ли нам идти за вишнями. Я пошел в лес и отыскал отца. Он сказал, что мы с ним вдвоем поднимемся на равнину, — если вокруг все спокойно, мы дадим сигнал женщинам. Я привел двух лошадей — для матери и Нитаки: они хотели набрать много ягод — больше, чем можно было донести, — чтобы засушить их на зиму.
Поднявшись на равнину, мы долго осматривали окрестности. Ничто не указывало на приближение военного отряда. Наконец я встал и начал размахивать одеялом. Женщины стояли на опушке рощи и ждали сигнала. Тотчас же вскочили они на лошадей и поехали к вишневым деревцам. Теперь ягоды показались нам еще вкуснее, чем утром. Мы наелись до отвала и начали наполнять вишнями парфлеши. Отец нам помогал, а мать посмеивалась над ним: не часто видишь воина, собирающего ягоды для сушки.
Крик сестры заставил нас вздрогнуть. Мы оглянулись и посмотрели в ту сторону, куда она показывала: одинокий всадник гнал наших лошадей к низовьям реки. Издали мы не могли их разглядеть, однако не сомневались в том, что это наш табун. Сначала вор гнал их лесом и отъехал на большое расстояние раньше, чем подняться на открытую равнину.
Мы не верили своим глазам. Неужели нас постигла новая беда? Молча стояли мы и смотрели вслед табуну. Наконец отец вскочил на лошадь, на которой приехала моя мать, а мне приказал сесть на лошадь сестры.
Мы пустились в погоню, но трудно нам было сидеть на женских седлах. Мы остановились, сняли седла и поехали дальше. Но с самого начала я знал, что погоня бессмысленна. Я привел для матери и сестры двух старых вьючных лошадей, которые не могли бежать быстро, как мы их ни колотили пятками. И все-таки мы надеялись, что совершится чудо и мы догоним врага.
Сначала ехали мы долиной реки, потом повернули на восток и поднялись на равнину. Здесь отказались от погони. Всадник и лошади далеко нас опередили. Мы увидели лишь пятнышки на синем фоне, когда табун переваливал через гряду холмов. Мы следили за этими пятнышками, пока они не скрылись из виду. Потом повернули мы лошадей и поехали назад, к нашему лагерю.
Отец, сгорбленный, молчаливый, ехал впереди. А я не мог примириться с потерей лошадей. Это были мои лошади. Я их любил, гордился ими, а теперь они были навсегда для меня потеряны. Уж так и быть, признаюсь тебе: на обратном пути я плакал.
Мать и сестра встретили нас на опушке леса и молча последовали за нами к тому месту, где остались наши вещи. Здесь мы сделали еще одно открытие: враг рылся в наших вещах и похитил седло моего отца и мешок, в котором хранился талисман — кусок льда, притягивающий огонь с неба. Пропали также мой лук, стрелы и прекрасный колчан — подарок Белого Волка.
Отец, не говоря ни слова, спустился к реке и сел на берегу. Мать начала разбирать наши пожитки, решая вопрос, что взять с собой и что оставить. Кроме вигвама и вигвамных шестов, было у нас восемь вьюков, а мы могли взять только два; нам четверым предстояло идти пешком.
Матери тяжело было отбирать вещи, которых мы не могли взять с собой. Она к ним привыкла, дорожила ими и не хотела их бросать. Подойдя ко мне, она уселась на траву и заплакала. Плакала и сестра. Я сам с трудом удерживался от слез.
Вернулся отец и сказал нам:
— Солнце заходит. Укладывайте вещи. В путь!
— Нет, нет! — закричала мать. — Я не хочу идти дальше! О, вернемся назад! Вернемся к нашему племени. О муж мой, подумай, можем ли мы бродить пешие по равнинам, где рыщут неприятельские отряды? Мы потеряли все! Враги украли Трубку Грома и другой твой талисман, они угнали наш табун, а вспомни, как работал твой сын, чтобы купить этих лошадей! Муж мой, мы беззащитны, враги убьют нас! Пойдем назад, отыщем лагерь нашего народа!
Я всматривался в лицо отца. Он слушал внимательно, взвешивал слова матери. Казалось мне, он подчинится ее воле. Но мечты мои развеялись, когда он воскликнул:
— Нет! Назад мы не пойдем! Мы должны идти дальше. Не хочу я жалким бедняком возвращаться к пикуни. Я отведу вас к кроу, а потом снова пойду в лагерь ассинибуанов за лошадьми и трубкой.
Но все-таки слова отца вдохнули в меня надежду. «Не гнев, а стыд мешает ему вернуться к пикуни, — подумал я. — Он стыдится своих неудач, стыдится того, что по его вине стали мы жалкими бедняками. Если бы удалось мне купить новый табун, отец, пожалуй, склонился бы на наши просьбы и повел нас домой, к пикуни».
Долго мы не могли решить, какие вещи взять с собой, какие оставить; — в конце концов каждая мелочь была нам нужна. Взяли мы вигвам — одну покрышку без шестов, — нашу одежду, несколько одеял, принадлежности, необходимые для дубления кожи, порох и пули и два желтых металлических котелка; котелки мы закупили у Красных Курток на севере, отдав за них сорок бобровых шкурок. Вьюки мы привязали к нашим двум лошадям, а оставшиеся вещи даже не попытались спрятать. Мы бросили их в роще и побрели на юг.
Спустившись к реке, мы сняли мокасины и вброд перешли реку. Я первым выбрался на берег и, обуваясь, увидел на песке свежие отпечатки ног человека. Следы вели к лесу. В кустах я нашел пару изношенных мокасинов. Вокруг трава была примята. Я догадался, что здесь лежал человек, который нас выследил, а затем угнал наших лошадей. Внимательно осмотрел я мокасины и вспомнил, что уже раньше видел этот странный узор из красных, синих и желтых игл дикобраза и три полоски на голенище. Сомнений быть не могло: эти мокасины носил воин из отряда чейеннов.
Я вернулся к реке и показал отцу свою находку. Отец не мог вспомнить, видел ли он раньше эти мокасины, но мать их узнала и даже описала наружность человека, который их носил: высокий, стройный, длинноволосый, в косы вплетены тесемки из меха выдры.
— Не все ли равно, какой он на вид? — воскликнул отец. — Он нас проследил и ограбил. Слепы мы были и не видели, как он шел по нашим следам.
— Я не думаю, что он нас выследил с согласия своего вождя, — сказал я.
— Ты прав, — подхватила мать. — Вождь чейеннов — славный человек. Он не желал нам зла.
Отец злобно расхохотался.
— Славный человек, говорите вы? А я уверен, что вождь послал лучшего своего бегуна и разведчика, чтобы завладеть моим талисманом. Ну, что ж! Быть может, когда-нибудь я повстречаюсь с этим чейенном.
Впервые пришлось нам так долго идти пешком. Мы с отцом не чувствовали усталости и могли идти всю ночь, но мать и сестра выбились из сил и едва передвигали ноги. Когда Семеро показывали около полуночи, Нитаки заплакала, села на землю и заявила, что дальше идти не может.
— Ты поедешь верхом! — воскликнул отец.
Мы сняли большую часть поклажи с лошади, которую вел отец, и посадили сестру на маленький вьюк. Снятую поклажу мы навьючили на другую лошадь. Несчастные животные храпели под тяжестью ноши. Я мысленно говорил себе, что по вине отца страдаем не только мы, но и наши животные.
От реки Ракушки до реки Иеллоустон расстояние большое; еще длиннее кажется путь, когда идешь пешком, а все дождевые лужи высохли. Когда рассвело, мы находились еще очень далеко от реки, на берегах которой охотились кроу. Нам очень хотелось пить; отца и меня жажда мучила сильнее, чем женщин. Мы едва могли говорить. Мне казалось, что во рту у меня песок.
Мать о чем-то меня спросила, но голос мой звучал так хрипло, что она не расслышала ответа. Тогда она простерла руки к восходящему солнцу и воскликнула:
— О великое Солнце, правящее миром! Сжалься над нами! Вразуми мужа моего, который заставляет наших детей так жестоко страдать!
Прислушиваясь к ее молитве, отец опустил голову и не сказал ни слова. Потом он пошел дальше, а мы, усталые, поплелись за ним. На юге виднелись поросшие кустами берега Иеллоустона, а дальше тянулась широкая долина реки Горный Баран. Было около полудня, когда мы приблизились к гряде холмов, за которыми начинался спуск в долину.
«Еще несколько сот шагов — и мы подойдем к реке, напьемся и выкупаемся», — подумал я.
Вдруг на вершине холма показался всадник. Он посмотрел на нас, потом повернул лошадь и спустился в долину. Мы остановились, но как только он скрылся из виду, продолжали путь. Не все ли было нам равно? Мы умирали от жажды и не боялись стрел врага.
9. В ЛАГЕРЕ КРОУ
Подымаясь на вершину холма, мы ждали нападения и держали наготове ружья. Но никто на нас не напал. Мы посмотрели вниз, на речную долину, и увидели одинокого всадника. Он переправился на противоположный берег и поскакал к низовьям реки.
— Ха! Не враг и не друг, — сказал отец. — Ему нет до нас дела.
Вдали, ниже места слияния двух рек, вился дымок: значит, кто-то раскинул там лагерь. Мать недоумевала, кто бы это мог быть, но я думал только о том, чтобы поскорее утолить жажду. Бегом спустились мы к реке. Измученные лошади, почуяв воду, насторожили уши и охотно последовали за нами. Пили мы долго, и никогда еще вода не казалась нам такой вкусной. Потом мы выкупались, сняли с лошадей поклажу и принялись за еду. У нас еще оставалось немного мяса. Поев, мы улеглись в тени деревьев, а отец караулил, пока мы спали. Когда стемнело, отец нас разбудил.
— Все спокойно, — сказал он, — но на закате солнца с низовьев реки донеслись три выстрела.
Взяв наши одеяла, мы вошли в чащу леса и снова улеглись спать. Усталость еще давала о себе знать; есть нам не хотелось, и мы снова заснули. Заснул и отец.
Ночь прошла спокойно. На рассвете я проснулся, когда все еще спали. С берега реки снова увидел я дым, поднимавшийся над долиной. Лошади наши мирно щипали траву. Я вышел из лесу и увидел пять антилоп, которые паслись на поляне. Прячась в кустах, я подкрался к ним и пристрелил одну антилопу. Теперь у нас было мясо на завтрак.
Мы сытно поели, и усталость прошла бесследно. Думали мы, что люди, раскинувшие лагерь в долине, приедут сюда, чтобы разузнать, кто мы такие, но никого не было видно. Солнце высоко стояло на небе, когда мы уложили наши вещи и снова тронулись в путь.
Переправившись через реку, мы увидели широкую тропу, ведущую к низовьям. Мы придерживались этой тропы, потом перешли вброд реку Горный Баран и, миновав тополевую рощу, наткнулись на форт белых людей, в точности походивший на тот, который построен был Ки-па при устье реки Марии. У самого форта был раскинут вигвам.
Пятеро белых с женами и детьми выбежали из форта, а из вигвама вышел еще один белый с женой. Привязав лошадей к дереву, мы направились к ним, а они с любопытством нас рассматривали. Белый, стоявший у входа в вигвам, выкрасил лицо и руки черной краской. Нас это удивило: оплакивая наших умерших, мы окрашиваем лицо и руки в черный цвет. Странным показалось нам, что и у белых есть такой же обычай.
Неприятно, когда смотрят на тебя в упор, а белые и их жены не спускали с нас глаз. Мы чувствовали себя связанными, и нам трудно было подойти к ним просто и поздороваться. Однако мы преодолели смущение, и все мужчины пожали руку отцу и мне. Таков обычай белых. Нелепый обычай! Впервые мы узнали о нем, когда побывали на севере у Красных Курток.
После того как все подержали нас за руку, белый человек, выкрашенный в черный цвет, — он был начальником форта, — спросил знаком, кто мы и откуда пришли. Отец ответил ему так же, как отвечал чейеннам: идем мы от пикуни, с которыми расстались навсегда.
Тогда белый человек пожелал узнать, где находятся сейчас пикуни и видели ли мы форт на Большой реке и начальника этого форта — человека, который взял в жены женщину из племени мандан. Отец отвечал, что в этом форте мы бывали не раз, начальник форта, Ки-па, — наш друг, и у него мы купили ружья; пикуни и большебрюхие ведут с ним торговлю и приносят ему шкурки бобров.
Такой ответ понравился белому человеку, выкрашенному в черный цвет. Он засмеялся, хлопнул в ладоши и сказал знаками:
— Я очень рад. Ки-па — мой близкий друг. Входите. Я вас угощу,
Мы вошли в дом. В первой комнате разложены были на полках товары белых людей, во второй комнате мы увидели большой очаг, на горячих угольях стояли горшки с пищей.
Белые один за другим умыли лицо и руки и утерлись белой тряпкой. Умылся и человек, выкрашенный в черный цвет. С удивлением смотрели мы на него: по нашим обычаям, человек, оплакивающий умерших, не должен умываться среди дня. Но еще больше мы удивились, когда увидели, что черная краска не смывается и даже не оставляет следов на белой тряпке. Неужели зрение нам изменило или краска эта была волшебной?
Одна из женщин заметила наши удивленные взгляды и что-то сказала своим друзьям. Все посмотрели на нас и стали смеяться, а женщина объяснила нам знаками:
— Он не похож на других белых людей. Это — «черный белый человек».
Вглядевшись в его лицо, мы убедились, что он отличается от белых не только цветом кожи. Волосы у него были короткие, черные, курчавые; губы толстые, синевато-красные, нос очень широкий, глаза большие, с блестящими белками. Женщина сказала правду: он не походил на других белых людей; это был «черный белый человек». Мы не могли решить, нравится он нам или нет.
Женщины подали нам еду на тонких металлических тарелках, и мы поели супу, мяса и вареного маиса; маис выращивают на своих полях манданы. Потом отец мой беседовал и курил с белыми, и мы узнали, что они ждут со дня на день кроу, которые вели с ними торговлю. В продолжение нескольких месяцев кроу ловили бобров в верховьях реки Горный Баран. Мы решили остаться в форте и здесь встретиться с кроу. После полудня раскинули мы наш вигвам, сделав новые шесты из молодых тополей.
Вечером «черный белый человек» и его жена кроу пришли к нам в гости. Он расспрашивал нас о пикуни, хотел знать, почему мы с ними расстались. Сказал он, что пикуни — плохие люди: всегда сражаются они с кроу, но смелыми воинами их не назовешь. Потом рассказал он нам, сколько раз водил кроу в бой и скольких пикуни убил. Не очень-то приятно было нам это слушать, но я обрадовался, заметив, что его рассказ рассердил отца. Это был добрый знак: хотя отец и бранил пикуни, но по-прежнему чувствовал себя одним из них.
Проходили дни, а кроу не появлялись. По берегам обеих рек водились бобры, и каждый вечер ставил я западни. Днем я охотился и привозил мясо в наш вигвам и в торговый форт.
Отец ничего не делал, был молчалив и хмур. Говорил он только о своих талисманах и лошадях и мечтал вновь отправиться в страну ассинибуанов.
Прошло около месяца. Однажды после полудня в долине показались кроу. Ехали они к низовьям реки и гнали тысячные табуны и много вьючных лошадей. Вождь, старшины кланов и старые воины далеко опередили процессию. Приблизившись к форту, они начали стрелять из ружей, приветствуя белых. Одеты они были в боевые костюмы, и я никогда еще не видел таких красивых нарядов. Их одежда, щиты и украшенные перьями головные уборы были не хуже, чем у пикуни.
Мы стояли у входа в вигвам и смотрели на подъезжавших кроу. Отец не вышел из вигвама. Кажется, он не знал, что ему делать. Не было у него ни лошадей, ни подарков для старшин, и он стыдился пойти к вождю и сказать: «Я бедняк. Сжалься надо мной».
Воины сошли с коней неподалеку от нашего вигвама, с любопытством на нас посмотрели и, поздоровавшись с белыми торговцами, вошли в форт. Остальные начали раскидывать вигвамы на опушке леса и снимать с лошадей вьюки.
Как только вигвамы были раскинуты, мать достала подарки, которые Са-куи-а-ки поручила передать женщинам из племени арикари. Крикнув сестру и меня, она отправилась в лагерь кроу. О, как смотрели они на нас, когда мы проходили по лагерю, спрашивая знаками, где находится вигвам Пятнистой Антилопы! Одни ничего нам не отвечали, другие посылали в дальний конец лагеря. И никто не улыбнулся нам, никто не спросил, кто мы такие. Впоследствии я сообразил, что им незачем было спрашивать: по узорам на наших мокасинах они узнали в нас пикуни. Наконец обошли мы весь лагерь, и какая-то старуха указала нам вигвам Пятнистой Антилопы. Войдя, мы увидели молодую женщину, которая с удивлением на нас посмотрела, улыбнулась и предложила сесть.
Мы уселись, и мать знаками спросила ее:
— Ты из племени арикари?
— Да, — ответила женщина.
— Нет ли у тебя подруги из племени мандан, которую взял в жены белый торговец?
— Да, да, — быстро ответила она. — Где моя подруга? Ты ее видела?
Мать передала ей мешок с подарками, сказав, что их посылает ей подруга. Встретили мы ее на Большой реке, где ее муж строит торговый форт.
Красивой женщиной была эта арикари и, пожалуй, не старше, чем я. Когда она вынула из мешка одеяло, материю и бусы, лицо ее осветилось улыбкой.
Тогда мать сказала ей:
— Твоя подруга — также и моя подруга, и я прошу тебя — сжалься над нами. Мы покинули наших соплеменников, потому что муж мой рассердился на них. Неприятельские отряды угнали наш табун, завладели талисманами моего мужа и всем нашим имуществом. Муж говорит, что мы должны жить с кроу. Но мы бедны, нет у нас подарков для старшин. Пожалей нас: поговори со своим мужем. Пусть он заступится за нас перед старшинами.
— Я тебе друг, не бойся, — ответила Женщина-Кроу. — Мой муж — старшина, и другие старшины прислушиваются к его словам.
Она достала из своего парфлеша новое красное одеяло и пояс, расшитый иглами дикобраза. Одеяло она подарила моей матери, а пояс — сестре. И тогда, сын мой, я подружился с Женщиной-Кроу, и дружба эта не прерывалась и по сей день. Но встретившись впервые в лагере кроу, мы и не предполагали, что на старости лет суждено будет нам жить здесь, вместе с Са-куи-а-ки, в лагере моего народа.
Придя домой, мы увидели, что отец по-прежнему сидит понурившись, в своем вигваме. Старшины вернулись из форта и разошлись по вигвамам, но никто не заглянул к отцу, никто не прислал ему приглашения выкурить вместе трубку. Это был дурной знак: если племя не захочет нас принять, если старшины нас прогонят, близок наш конец. Воины — те, что потеряли друзей и родных в битвах с нашими соплеменниками пикуни, — выследят нас и убьют. Мать рассказала отцу о своем свидании с Женщиной-Кроу и упомянула о ее обещании нам помочь. Он усмехнулся и ответил, что в таких делах женщины плохие помощницы.
Медленно тянулось время. Настал вечер, и когда мы уже потеряли надежду завязать добрые отношения с кроу, в вигвам вошла Женщина-Кроу, а следом за ней ее муж, высокий грузный воин с веселым добродушным лицом. Нам он понравился с первого взгляда.
Присев на ложе из шкур, он знаками сказал отцу:
— Жена моя говорит, что вы хотите жить с нами.
— Да, — ответил отец, — мы хотим жить с кроу. Мы ушли от пикуни. В сердце моем злоба против них.
— Хорошо, я тебе помогу, а ты мне расскажи, почему ты покинул свой народ и давно ли это случилось.
Отцу стыдно было рассказывать о том, как воины его отхлестали, поэтому он сказал только, что поссорился со старшинами, которые запретили ему охотиться на бизонов, а он нарушил этот запрет. Рассказал он также о наших злоключениях — о потере талисманов и двух табунов и о том, как пришлось нам бросить наши пожитки. Когда он закончил рассказ, пришел вестник от вождя кроу, которого звали Горб Бизона. Вождь звал отца в свой вигвам.
— Я уже говорил с ним о тебе и просил за тобой послать, — сказал Пятнистая Антилопа. -Пойдем к нему.
Они ушли, и мы долго их ждали. Женщпна-Кроу осталась с нами и развлекала нас рассказами о своей жизни с кроу и о Са-куи-а-ки. Вернулся отец с Пятнистой Антилопой, и Женщина-Кроу ушла с мужем домой. Тогда отец рассказал нам о том, что произошло в вигваме вождя.
— Собрались там все старшины племени. Меня они заставили рассказать, почему я хочу жить с кроу и почему ушел от пикуни. Потом они долго совещались. Конечно, слов я не понимал, но догадывался, что трое отказываются меня принять, а Пятнистая Антилопа и Горб Бизона меня защищают, и остальные с ними соглашаются. Наконец трое недовольных должны были уступить, и вождь сказал мне знаками — хорошо объясняется он знаками: «Я и дети мои, здесь собравшиеся, говорим тебе; мы не любим пикуни, мы ведем с ними войну, тебя мы не знаем. Быть может, сердце у тебя доброе и язык твой говорит правду. Скоро мы узнаем, так ли это. Можешь раскинуть вигвам в нашем лагере и охотиться вместе с нами, а мы будем за тобой следить. Если мы увидим, что ты хороший человек, мы тебя примем в свою среду, и ты станешь кроу».
— Вспомни, как радушно приняли нас большебрюхие; кроу на них не похожи, — сказала мать. — Слушай, муж мой, и не сердись на меня за то, что я тебе скажу: если ты любишь своих детей и меня, будь осторожен. Держи язык за зубами, не давай воли гневу, когда эти люди будут тебя раздражать. Если ты вспылишь, все мы погибли.
Нитаки и я удивились, услышав, как откровенно разговаривает она с нашим вспыльчивым отцом.
— Да, я буду осторожен. Я постараюсь задушить гнев, — спокойно ответил отец.
Так началась для нас новая жизнь в лагере кроу. Кое-кто из них относился к нам дружелюбно, но большинство не обращало на нас внимания, словно мы были собаками. Когда мы проходили мимо, они притворялись, будто нас не замечают. Отца редко приглашали на празднества и на собрания старшин, и один только Пятнистая Антилопа звал его в свой вигвам. Отец был обижен. Когда жили мы с пикуни, место его было среди старшин, так как все признавали его великим воином.
Через десять дней кроу покинули форт белых. Так же как пикуни, большебрюхие и другие племена, думали они только о том, чтобы купить товары белых торговцев. За эти товары они платили мехами и шкурами бизонов. Охота на бизонов привела мало-помалу к полному истреблению этих животных, которые доставляли нам пищу и кров, и когда мы стали бедняками, белые завладели нашей страной. Сын мой, если бы знали мы, какая ждет нас судьба, мы не позволили бы ни одному белому вторгнуться в нашу страну.
Шкурки пойманных мною бобров я обменял на трех лошадей; еще трех подарила нам Женщина-Кроу и ее муж, и теперь было у нас восемь лошадей. Я радовался, что не придется нам идти пешком, когда кроу снимутся с лагеря. Как-то вечером пришла в наш вигвам Женщина-Кроу и сказала, что старшины решили перебраться к реке Ракушке и там ставить западни на бобров. К реке Ракушке! Но ведь протекала она по стране нашего родного племени, и неподалеку от нее раскинули лагерь пикуни!
— Кроу не смеют идти туда! — воскликнул отец. — Это не их земля! Она принадлежит пикуни!
— Ну так что же? Ведь ты теперь не пикуни, — напомнила ему мать.
И отец опустил голову, не прибавив больше ни слова. Но позднее он завел об этом речь с Пятнистой Антилопой, сказал, что пикуни охотятся в долине Желтой реки, цепью гор отделенной от Ракушки, и посоветовал кроу не ходить в те края. Пятнистая Антилопа тотчас же уведомил об этом других старшин, и они собрались на совет.
От Женщины-Кроу узнали мы, чем кончилось совещание: старшины решили идти к реке Ракушке.
— Когда-то эта страна принадлежала нам, — сказали они, — пикуни ею завладели, потому что у них было много ружей, купленных на севере, у Красных Курток. Ну, что ж! Теперь и у нас, кроу, ружей много, и мы не боимся пикуни.
— Посмотрим, чем кончится дело, — сказал мой отец. — Кроу забывают о том, что пикуни соединятся с тремя другими племенами прерий, если начнется война.
Вместе с племенем кроу тронулись мы в путь; ехали мы той самой тропой, по которой пришли к форту. Счастье нам улыбнулось. Слушай, сын мой: в роще на берегу реки Ракушки мы нашли оставленные нами седла, постели и другие вещи. Но четыре наши вьючные лошади не могли тащить столько вьюков, и часть вещей мы отдали Женщине-Кроу.
Племя раскинуло лагерь у поворота реки, и мужчины занялись ловлей бобров. Теперь я был таким же искусным ловцом, как и мой отец, но каждое утро ходил он со мной осматривать западни. Он говорил, что боится отпускать меня одного, так как не доверяет кроу. Боялся он также оставить нас одних в лагере, чтобы самому сделать еще одну попытку отнять у ассинибуанов трубку и лошадей.
Я знал, что отец прав. Почти все кроу нас не любили. Но матери и сестре я не сказал об этом ни слова: видел я, что они и без того боятся кроу. Наш вигвам был раскинут рядом с вигвамом Пятнистой Антилопы, которого мы считали своим защитником, за хворостом и за водой мать всегда ходила вместе с Женщиной-Кроу. В лагере у меня не было друзей. Когда я встречался с подростками и юношами, они переглядывались и смеялись надо мной. Их языка я не понимал и рад был, что не понимаю. Вряд ли мог бы я терпеливо выслушивать ругательства, которыми они меня встречали. Я знал, что они смеются над моей бедной одеждой. Ну, что ж! Я был беден. Я носил простые кожаные штаны и кожаное летнее одеяло, а они щеголяли в матерчатых одеялах, носили красивые серьги, браслеты и зеркальца, привешенные к запястью. И работать им приходилось мало; они выгоняли лошадей на пастбище и больше ничего не делали, а я работал с утра до вечера. Нам нужны были лошади, и мы с отцом ловили бобров. Часто ходили мы на охоту и приносили мясо не только в наш вигвам, но и в вигвам Пятнистой Антилопы.
Ловля бобров шла удачно. Было у нас три западни. Утром мы вставали раньше всех и уходили подальше от лагеря, чтобы не встречаться с другими ловцами. Старательно ставили мы наши западни и часто шли по пояс в воде вдоль берега, чтобы не оставить на земле запаха, который мог отпугнуть зверьков. Вот почему набралось у нас бобровых шкурок больше, чем у других ловцов.
Но не могли мы состязаться с «черным белым человеком», жившим в лагере кроу. У него было тридцать западней, и он раздавал их ловцам — по две, по три на человека, требуя за это половину добычи. Сам он ничего не делал; нарядившись в лучшее платье, он садился у входа в вигвам, курил и рассказывал о стычках своих с врагами.
Отец его не любил и частенько говорил нам:
— Хотелось бы мне встретить этого хвастуна подальше от лагеря. Здесь он окружен друзьями и помощниками, но если мы сойдемся один на один, неизвестно, кто из нас окажется сильнее.
Около месяца прожили мы у поворота реки. Когда переловлены были почти все бобры, старшины собрались на совет. Одни хотели подняться к верховьям реки, другие — спуститься к низовьям и раскинуть лагерь неподалеку от устья реки Между Ивами.
После долгих споров решено было послать разведчиков к верховьям и к низовьям; им поручили узнать, где больше водится бобров. Из лагеря они выехали утром. В тот день мы с отцом запоздали, так как я долго отыскивал наших лошадей. Когда отправились мы смотреть наши ловушки, отряд разведчиков, направлявшихся к низовьям, уже покинул лагерь.
В нашем вигваме истощились запасы мяса. Завидев стадо антилоп, спускавшихся на водопой к реке, мы подкрались к нему и убили двух самцов. Содрав с них шкуру и вырезав лучшие куски мяса, мы продолжали путь. Первая западня оказалась нетронутой, во второй западне мы нашли бобра, вытащили его из воды и содрали с него шкурку, третья западня исчезла, но на берегу, у края откоса, мы увидели свежие отпечатки мокасинов. Широкая и еще сырая борозда осталась там, где тащили по откосу бобра и западню. Дальше земля была взрыта копытами трех лошадей. Три разведчика посланы были к низовьям, они опередили нас и украли нашего бобра и западню. О, как были мы возмущены и как беспомощны!
У кроу не было ни законов, ни правил, касающихся охоты. Мы не могли потребовать, чтобы воры были наказаны, и не могли наказать их сами. Взяв оставшиеся две западни и мясо убитых антилоп, мы печально поехали домой.
Войдя в вигвам, отец рассказал о потерь западни и назвал кроу ворами, не признающими никаких законов. Но мать его перебила.
— Не понимаю, почему ты жалуешься, — сказала она. — Ты ушел от пикуни, потому что тебе не по вкусу пришлись их законы. Я думала — теперь ты доволен. Ты живешь с людьми, у которых нет никаких законов.
Жестокие это были слова, жестокие и правдивые. Как ты думаешь, сын мой, что ответил отец? Ничего! Не знал он, какой дать ответ, и промолчал.
Когда стемнело, в лагере поднялась суматоха. Воины бегали из вигвама в вигвам, перекликались, пели военные песни, громко о чем-то говорили. Очень хотелось нам знать, что случилось.
В вигвам заглянула Женщина-Кроу и объяснила знаками:
— Разведчики наткнулись на маленький лагерь пикуни в низовьях реки. Утром все наши воины спустятся к низовьям и нападут на лагерь. Я боюсь за вас. Когда они вернутся, вам несдобровать. Я хочу, чтобы завтра вы четверо переселились в наш вигвам.
— Сколько вигвамов насчитали разведчики? — спросил отец.
— Они говорят, что в лагере восемьдесят вигвамов.
Она направилась к выходу, потом оглянулась и сказала знаками:
— Не бойтесь. Я скоро вернусь,
10. ОДИНОКИЙ БИЗОН, ВЕЛИКИЙ ВОИН
— Ха! Восемьдесят вигвамов! Это клан Короткие Шкуры, — сказал отец.
— Короткие Шкуры! — шепотом повторили мы трое. Это был наш родной клан. В него входили все наши родственники по отцу.
— Да, конечно, Короткие Шкуры, — продолжал отец. — Ни один клан никогда не разбивает лагеря отдельно. Какие они безумцы, что подошли так близко к стране кроу! Жена, дети, наше место с ними. Ночью мы должны пробраться к ним, предупредить о наступлении кроу и принять участие в битве. Восемьдесят вигвамов! Сто пятьдесят воинов против всего племени кроу! Мало надежды на победу.
— Как же мы проберемся к ним? — спросила мать.
— Ночью, когда в лагере все заснут, мы потихоньку выйдем из вигвама, поймаем четырех лошадей и поедем к низовьям реки.
— А все наши вещи придется здесь оставить, — сказала мать. — Перед уходом я их отдам Женщине-Кроу.
— Нет, этого ты не сделаешь, — возразил отец. — Я не хочу, чтобы из-за нас она попала в беду. Ее обвинят в том, что она нас предостерегла.
— Верно! Об этом я не подумала, — согласилась мать. — И она и ее муж были нашими защитниками и друзьями.
В это время снова заглянула к нам Женщина-Кроу.
— Я боюсь, как бы меня здесь не увидели, — сказала она. — Завтра я вам помогу.
Она ушла. Мы снова встретились с ней лишь через много зим.
Мать и сестра вынули из парфлешей все свои вещи и пересмотрели их. Они хотели надеть лучшие платья, хотя бы в этих платьях пришлось им умереть. Отобрав кое-какие мелочи, а также шила, иголки, нитки, они решили взять с собой два узелка. Остальные вещи они, вздыхая, уложили снова в парфлеши и старательно завязали ремешки. Я не понимал, зачем они это делают, если все наши пожитки приходится оставить в вигваме.
— Прикройте угли золой, — приказал им отец.
Долго сидели мы в темноте и ждали, когда лагерь погрузится в сон. Тревожные мысли мелькали у меня в голове. Успеем ли мы предупредить пикуни? Будет ли завтра бой? Где встретим мы следующую ночь? Быть может, в стране Песчаных Холмов!
Казалось нам, крики и песни не смолкнут до утра. Наконец кроу улеглись спать, и погасли костры в вигвамах. Взяв наши ружья и четыре веревки, мы с отцом выползли из вигвама и, припав к земле, стали прислушиваться. Ничто не нарушало тишины. Луны не было, но при свете звезд мы видели, что никого поблизости нет. Мы осторожно встали и, обойдя вокруг вигвама, убедились, что за нами не следят. Из соседнего вигвама донесся голос Пятнистой Антилопы: он разговаривал во сне.
Отец вернулся за матерью и сестрой, и вчетвером мы покинули лагерь и вошли в рощу. За рощей начиналось пастбище, где паслись табуны. Мы поймали четырех лошадей, конечно, это были ленивые, старые вьючные лошади. Быстрые, горячие кони не подпустили бы нас к себе.
Седел у нас не было, уздечки мы заменили веревками. Так как река в этом месте делала поворот, то мы, желая сократить расстояние, выехали на равнину. Лошадей мы хлестали концами веревок, били их пятками, заставляя перейти в галоп. Тяжело было матери и Ни-таки скакать без седла на этих старых лошадях, но они не жаловались.
Рассвело, а мы еще не спустились к низовьям реки.
— Быстрее! Быстрее! — кричал отец. — Сейчас кроу ловят своих коней.
— Мать и Нитаки устали погонять ленивых кляч, и мы с отцом подхлестывали не только своих, но и их лошадей. Вдали показался дым костров.
Взошло солнце, когда мы увидели вигвамы. Лагерь был раскинут неподалеку от того места, где впадает в реку Ракушку речонка Между Ивами. Кроу не ошиблись: мы насчитали восемьдесят вигвамов. Подъехав ближе, мы разглядели священные рисунки на них, — это были вигвамы клана Короткие Шкуры.
«Сто пятьдесят воинов против всего племени кроу! — подумал я. — Нет надежды выиграть битву».
Кто-то увидел нас издали, поднял тревогу, и все население лагеря высыпало нам навстречу.
— Берите ружья! — кричал отец. — Приведите лошадей! Приближаются кроу.
Забыты были все обиды. Глаза отца сверкали. Пикуни встретили его так, словно он никогда их не покидал.
Когда он спрыгнул с лошади, Белый Волк обнял его, улыбнулся нам и спросил:
— Кроу! Где они? Когда придут сюда? Сколько их?
— Сюда идет все племя! — ответил отец. — Нам остается только бежать. Нас слишком мало, чтобы драться с ними. Скорее! На коней!
— Брат! Или рассудок твой помутился? — удивился Белый Волк. — Виданное ли это дело, чтобы пикуни бежали от кроу! Сколько раз мы с ними сражались — и всегда побеждали!
— Да, но теперь нас мало. Одни Короткие Шкуры не могут…
— Но мы не одни, здесь все наше племя, — перебил его Белый Волк. — Остальные кланы раскинули вигвамы за поворотом реки, а мы поднялись выше, потому что здесь хорошие пастбища.
О, как я обрадовался! А отец, размахивая ружьем, воскликнул:
— Зовите же их! Скорее! Пусть кто-нибудь их предупредит. Повеселимся мы сегодня!
Один из подростков вскочил на лошадь и поскакал в главный лагерь. Воины разошлись по своим вигвамам и надевали боевые уборы, а мальчики пригнали лошадей. Мы четверо вошли в вигвам Белого Волка. У моего отца не было боевого наряда, и Белый Волк дал ему свой головной убор из шкурок ласточки, украшенный двумя рогами. Лицо и руки он выкрасил священной красно-бурой краской. Я последовал его примеру.
— Зачем ты это делаешь? — воскликнула мать. — Ты не пойдешь в бой вместе с воинами.
— Почему? У меня есть тайный помощник, — возразил я.
— Да, он пойдет с нами. Жена, не бойся! Радуйся, что твой сын хочет за тебя сражаться, — сказал отец.
И мать умолкла.
Пригнали лошадей. Белый Волк дал нам двух прекрасных коней, и не успели мы их взнуздать, как прискакали воины из главного лагеря. Топот копыт напоминал раскаты грома.
Громко приветствовали они моего отца, со всех сторон раздавались крики: «Ок-йи Ни-таи Стум-ик!» Все улыбались, все были рады его видеть. А он видел их радость, и лицо его осветилось улыбкой, когда он отвечал на приветствия: «Ок-йи, братья!»
С отрядом старшин приехал и Одинокий Ходок. Обняв моего отца, он сказал:
— Я рад, что ты сегодня с нами. Расскажи нам о кроу. Где они? Много ли их?
— Мы жили в их лагере, у поворота реки Ракушки, — ответил отец. — Вчера их разведчики наткнулись на лагерь Коротких Шкур, но главного лагеря они не видели. Сегодня все племя кроу придет сюда, чтобы стереть с лица земли эти восемьдесят вигвамов. Скоро будут они здесь.
— Добрые вести! Добрые вести, дети мои! — воскликнул Одинокий Ходок. — А теперь посоветуемся, как нам получше их встретить. Одинокий Бизон, что ты скажешь?
Снова, как и в былые времена, обратился он за советом к моему отцу, первому воину нашего племени. И все, затаив дыхание, ждали, что скажет отец.
Зорко окинул он взглядом долину реки и твердо сказал:
— Пусть не знают враги, что нас много и мы их ждем. Пусть наши старики сидят у входа в вигвамы. Женщины будут, как ни в чем не бывало, дубить кожу и присматривать за детьми. Мальчики отведут лошадей в дальний конец лагеря. Мы, воины, разобьемся на два отряда: один отряд спрячется в лесу, на берегу реки Ракушки, другой — в зарослях у речонки Между Ивами. Я уверен, что враги спустятся в долину между этими реками и поскачут прямо к лагерю, так как не ждут они засады. И когда они проедут мимо нас, мы нападем на них с тыла.
— А что, если они не спустятся в долину и подъедут к лагерю с другой стороны? — спросил Одинокий Ходок.
— Мы выслали караульных. Они нас известят, какой путь избрали кроу, — возразил Белый Волк.
И все старшины признали план моего отца удачным.
Стариков усадили у входа в вигвамы, женщинам приказали заниматься обычной работой. Так как в маленький лагерь Коротких Шкур пришли все женщины и дети из главного лагеря, то им велели спрятаться в вигвамы: слишком густо населенный лагерь мог возбудить подозрения у кроу. Стариков из главного лагеря заставили изображать воинов нашего клана. Они сидели отдельными группами между вигвамами, делая вид, будто беседуют и курят, но оружие находилось у них под рукой, и почти у каждого старика хватило бы силы натянуть лук.
Закончены были все приготовления, и мы с нетерпением ждали кроу. Но ждать нам пришлось долго. Солнце высоко стояло на небе, когда с холма спустился караульный и объявил о приближении кроу. Направлялись они к долине между двумя реками, а далеко позади ехали женщины на лошадях, впряженных в травуа. На этих травуа думали они увезти домой добычу из нашего лагеря. Это известие нас развеселило. По-видимому, кроу не сомневались в победе.
— Займем поскорее наши места! — крикнул один из воинов.
— Нет, еще рано, — возразил отец. — Подождем, когда они спустятся в долину.
Вскоре прибежал второй караульный и возвестил, что кроу спускаются с холмов в долину.
Одинокий Ходок вопросительно посмотрел на отца,
— Не пора ли нам спрятаться? — сказал он.
— Да, пора! — отозвался отец.
Он повел отряд воинов к зарослям, окаймлявшим речонку, а Одинокий Ходок со своим отрядом спрятался в лесу. Мы притаились в кустах и не смели пошевельнуться. Отец должен был дать сигнал к наступлению и повести свой отряд в бой»
Сын мой, я невольно залюбовался этими кроу, рысью спускавшимися с холмов в долияу. Пышные боевые наряды отливали всеми цветами радуги. Длинные хвосты их головных уборов из орлиных перьев развевались по ветру. Каждый воин держал в левой руке щит, окаймленный перьями. Даже лошадей они покрыли краской и разукрасили орлиными перьями, выкрашенными в желтый, красный, синий и зеленый цвет. И было их много — больше тысячи человек, и каждый держал наготове лук или ружье, Я боялся их! Казалось мне, нам не удастся остановить эту лавину людей.
Ехали они молча, но когда старики, женщины и дети, завидев их, разбежались с воплями в разные стороны, они запели боевую песню, и голоса их звучали как раскаты грома.
Лошадь моя стояла в кустах рядом с лошадью отца.
Он, вытянув шею, следил за приближающимися врагами и удерживал воинов, готовых броситься в атаку. Знаками он говорил им: «Рано! Еще рано!» Мы должны были выскочить из засады, когда враги проедут мимо нас.
Мы ждали, посматривая то на отца, то на кроу, скакавших между рекой и речонкой. Были они еще далеко от нас, когда непредвиденный случай разрушил хитро задуманный план моего отца.
Слева от меня сидел на большом вороном жеребце воин Красное Перо. Жеребец этот был выдрессирован для скачек; горячий и порывистый, он на скачках всегда приходил первым. И сейчас, заслышав топот копыт и возгласы кроу, решил он, по-видимому, что начались скачки. Он кружился на месте, выгибал шею, мотал головой, а Красное Перо напрягал все силы, чтобы его сдержать. Но лошадь оказалась сильнее всадника. Она поднялась на дыбы, рванулась вперед и, выскочив из зарослей, понеслась навстречу врагам. Красному Перу грозила смерть. Мы должны были спешить ему на помощь.
Когда раздался боевой клич отца, мы выехали из зарослей, хотя кроу находились слишком далеко, чтобы стрелы наши могли долететь до них.
Завидев нас, враги еще громче запели и стали хлестать коней. Вот тогда-то из леса выехал Одинокий Ходок со своими воинами. Этого кроу не ждали. Они поняли, что разведчики их ошиблись и сражаться им предстоит не с одним кланом, а со всеми пикуни. Они попали бы в западню, если бы не вырвалась из зарослей лошадь. И кроу обратились в бегство. Старшины, воины, юноши — все повернули своих коней и поскакали в ту сторону, откуда приехали. А мы гнались за ними.
Сказать ли тебе всю правду?… Сын мой, стыдно мне признаться, но в те дни лошади у кроу были лучше, чем у нас. Кроу часто делали набеги на племена, жившие в стране вечного лета, и угоняли табуны быстрых и сильных коней. А у нас лошади были низкорослые: мы их отняли у племен, живших по ту сторону гор.
Ясно было с самого начала, что не догнать нам главного отряда кроу. Однако мы не отказались от погони. Те из кроу, у которых лошади были похуже, начали отставать, а мы, стреляя из луков и ружей, отправляли их в страну теней. Впереди скакали четверо пикуни: мой отец на лучшей лошади Белого Волка, Одинокий Ходок на своей вороной кобыле, Оперенный Хвост и Красное Перо на вороном жеребце. Мы же заметно отстали. Когда мы поднялись на склон равнины, я увидел вдали Женщину-Кроу: бросив травуа, она ехала назад к реке Ракушке.
Кое-кто из нас, видя, что погоня бессмысленна, повернул назад, остальные упорствовали, надеясь, что кроу в конце концов устыдятся, остановятся и примут бой. Но не тут-то было! Кроу думали только о бегстве, а всех отставших мы уже убили.
Мы хотели вернуться в лагерь, как вдруг заметили вдали лошадь, бившуюся на земле. Подле нее стоял воин с ружьем. Мы подскакали к нему. Должно быть, у лошади его была сломана нога, а товарищи бросили его на произвол судьбы.
Мой отец опередил Одинокого Ходока и Красное Перо. Как узнал я впоследствии, он настойчиво повторял:
— Это мой враг! Оставьте его мне! Оставьте его мне!
— Да, да! Он твой! — кричали ему в ответ.
Сын мой, каково было мне в эти минуты! Отец мчался, к врагу, который целился в него из ружья. «Долго преследовала нас судьба, но самое худшее случится сегодня», — думал я.
Ближе, ближе подъезжал отец к кроу. То наклонялся он к шее лошади, то свешивался с седла, чтобы не служить легкой мишенью. Внезапно загремел выстрел, но пуля попала не в отца, а в лошадь. Пронзительно заржав, она поднялась на дыбы и упала. Но отец уже спрыгнул на землю и бежал к врагу. На бегу он выстрелил — не в кроу, а вверх, в небо.
Силы обоих противников были равны — оба разрядили ружья. Сжав руками дуло, они держали оружие высоко над головой, как держат боевую дубинку. Кроу стоял как вкопанный. Отец подбежал к нему, не спуская глаз с ружья. Он хотел, чтобы враг ударил первый. Держа ружье косо над головой, он ждал. Кроу с размаху опустил ружье, но оно скользнуло по ружейному стволу, не задев отца. Тогда отец, бросив свое оружие на землю, схватил обеими руками ружье кроу и завладел им.
Этот кроу не был трусом: он не дрогнул. Неподвижно стоял он и смотрел на отца. Я его узнал — это был старшина клана. Звали его Болотный Лось. Когда мы жили с кроу, он обращался с нами как с собаками. Женщина-Кроу советовала отцу остерегаться этого человека и избегать с ним ссор.
«А теперь он за все заплатит!» — подумал я.
— Убей его! Убей! — кричали отцу пикуни.
Но отец не нанес удара. Медленно отступил он назад и поднял свое ружье.
— Нет, я его не убью! — крикнул он нам. — И вы не убьете. Он — мой. Я хочу, чтобы он жил.
И знаками сказал он кроу:
— Ступай домой. Ступай и думай день и ночь о своем позоре. Помни: я, с которым ты обходился как с собакой, — я беру у тебя ружье и дарю тебе жизнь. Ступай!
Кроу повернулся и побрел по равнине. Знали мы, что свой позор уносит он с собой: соплеменники его видели издали все, что произошло, и отныне не бывать ему старшиной. Отец мой совершил великий подвиг. Да, величайшим подвигом считается отнять оружие у врага, если враг не ранен и полон сил.
Молча следили мы за кроу, который плелся, опустив голову и сгорбившись. Жуткое это было зрелище: наш враг из вождя превратился внезапно в человека, не имеющего власти, потерявшего почетное место в среде своих соплеменников.
Восторженные крики толпы пикуни прервали тишину.
— Одинокий Бизон! Великий воин! — приветствовали воины отца.
Лошадь отца была убита, и мы поехали вдвоем на моей лошади. Кто-то запел песню победы, мы подхватили хором и пели не умолкая, пока не подъехали к лагерю.
Проезжая по равнине, мы насчитали девятнадцать убитых кроу, а у пикуни не было ни раненых, ни убитых. Старики, женщины, дети выбежали нам навстречу, выкрикивая наши имена, и благодарили Солнце за победу; женщины плакали от радости. Сколько похвал выпало на долю моего отца! Его воспевали пикуни как первого воина нашего племени. Долго толпились они вокруг него, наконец он вырвался от них и вошел в вигвам Белого Волка, чтобы поесть и отдохнуть.
Измученные бессонной ночью, мы четверо спали до вечера. Днем пикуни перенесли свои вигвамы к вигвамам нашего клана. Разведчиков послали узнать, что делают кроу.
В сумерках Белый Волк стал созывать гостей на пир, и вокруг нашего костра собрались лучшие воины племени, и среди них Одинокий Ходок и Глаза Лисицы, Когда отпировали и трубка пущена была вкруговую, Одинокий Ходок попросил отца рассказать о наших скитаниях. Отец повиновался и говорил долго, перечисляя все наши злоключения.
Тогда сказал Одинокий Ходок.
— Брат, мы надеемся, что ты останешься с нами.
Отец посмотрел ему прямо в лицо и ответил:
— Я стыжусь самого себя. Был я глупее малого ребенка. Я хочу остаться с вами. Я признаю все законы нашего народа и буду им подчиняться.
— Твои слова наполняют сердце мое радостью, — сказал Одинокий Ходок. — Брат, ты потерял все. Я дарю тебе пять лошадей.
И все воины, находившиеся в вигваме, последовали примеру вождя, и мы получили в подарок тридцать пять лошадей.
Утром женщины принесли нам кожаную покрышку для вигвама, мягкие шкуры для постелей, парфлеши с сушеным мясом, пеммиканом и сушеными ягодами. Принесли они также седла для вьючных лошадей, лассо и посуду. К вечеру были у нас все необходимые вещи. Нам подарили две западни, и теперь мы снова могли ловить бобров для Ки-па.
На следующее утро вернулись разведчики и объявили, что кроу покинули долину Ракушки и держат путь на юг, в свою страну. Больше мы их не видели.
Мы ловили бобров в речках, которые берут начало в Снежных горах. Потом мы двинулись на север и снова раскинули вигвамы возле форта Ки-па.
Белый торговец устроил пир для наших старшин. Когда мужчины закурили трубку, мать сказала, что Са-куи-а-ки зовет нас четверых в свою комнату. Мы встали и пошли на зов.
В дверях отец остановился и воскликнул от удивления: прямо перед ним висела на стене его священная трубка — Трубка Грома. Он не верил своим глазам. Повернувшись к Са-кун-а-ки, пытался что-то сказать, но не мог выговорить ни слова.
Са-куи-а-ки сняла со стены трубку, завернутую в куски меха, бережно положила на его протянутые руки.
— Возьми ее. Она твоя, — сказала она.
— Где ты ее нашла? — спросил отец.
— Ки-па послал говорящую бумагу начальнику форта на реке Иеллоустон и просил отыскать трубку. Он купил ее у того самого ассинибуана, который ее похитил, — знаками ответила она.
— Я за нее заплачу! С радостью заплачу! Сколько лошадей? Сколько шкурок? — спросил отец.
— Тише! Друзьям не платят.
И отец подчинился ей.
— Ха! Так вот что вы затеяли, вот о чем беседовали в форте Ки-па, — сказал я матери.
И, улыбаясь сквозь слезы, она кивнула головой.
На этом, сын мой, я закончу свой рассказ.
СЫН ПЛЕМЕНИ НАВАХОВ 1. БИТВА У ПУЭБЛО МЕДВЕДЯ
— Да, белый человек из племени черноногих, все было так, как тебе говорили. Родом я навах, и если бы воин из племени тэва не задел меня случайно копьем, я бы до конца своих дней остался навахом. Этот удар копьем сделал меня индейцем-тэва — надеюсь, неплохим.
Так ответил мне старый «летний кацик» через переводчика Легкое Облако.
Как-то поздней весной сидели мы в летней киве пуэбло Сан-Ильдефонсо. С кациком меня познакомили мои приятели в Санта-Фэ. Они сказали ему, что хотя я и белый, но сердце у меня — черноногого индейца, так как вырастило меня племя черноногих. Он пригласил меня в свое пуэбло, поместил в одной из чистеньких комнат с выбеленными стенами и дал право посещать священную киву. Но этого мне было мало. Я хотел узнать историю его жизни — жизни доблестной и богатой приключениями, о которых я кое-что слыхал. И он обещал рассказать мне о себе — рассказать в те часы, когда он отдыхал от работы. А работал он много: возделывал маисовые поля, восстанавливал оросительные каналы.
Вот почему этот апрельский день застал меня в старой деревне индейского племени тэва. Я испытывал чувство благоговейного трепета, когда впервые спустился по лестнице в эту подземную киву, комнату, имевшую шагов сорок в поперечнике, где в течение многих веков кацики, старшины и вожди кланов индейского племени собирались на совещания. Подножье лестницы находилось за очагом, где горел священный огонь, а неподалеку виднелось небольшое отверстие, изображавшее ход в Сипапу подземный мир. Вдоль стены кивы тянулся широкий выступ из необожженных кирпичей — скамья, на которой обычно восседали старшины племени. Над ней были нарисованы на серой стене две огромные змеи в оперении, между ними — отец Солнце, мать Луна и дети их — звезды, а также символические изображения облаков, дождя и ветра. Мне хотелось узнать значение этих рисунков, но во время первого моего посещения кивы я никаких вопросов не задавал. Я стал рассказывать об обрядах черноногих и сумел заинтересовать старого кацика. Убедившись, что, несмотря на белый цвет кожи, я являюсь истинным черноногим, он, в свою очередь, рассказал мне о нравах и обычаях тэва и разрешил присутствовать при совершении многих обрядов, о которых белые до сих пор не имели представления. Два месяца прожил я в пуэбло, и он почти каждый день водил меня в киву. Здесь, в тихом прохладном подземелье, рассказал он мне историю своей жизни. За это и за многие другие знаки внимания я глубоко ему благодарен.
Рассказ старика я записал со слов переводчика Легкое Облако. Радостно было мне слушать его и записывать; надеюсь, и вы с удовольствием прочтете историю жизни кацика Уампуса.
Историю моей жизни я хочу рассказать черноногому белому, другу всех индейских племен, населяющих пустыню, долины и горы.
Родом я навах. Нас было четверо — мой отец, мать брат и я. Брат, Одинокий Утес, на три года моложе меня, был болезненным и слабым. Я помогал матери ухаживать за ним, и во мне видел он вторую мать.
Какими были навахи в дни моей молодости, такими остались они и по сей день. Это племя столь многочисленно, что навахи не имеют возможности жить все вместе. Отдельными кланами кочуют они по пустыне и горным равнинам, мужчины охотятся, женщины и дети собирают съедобные коренья, орехи и ягоды. Мой отец был вождем, главой клана, в который входило около двадцати семейств. С ними мы кочевали, с ними раскидывали лагерь. Скитались мы вдоль реки Сан-Хуан и к северу от нее; ходили на восток, в бесконечные прерии, где много было бизонов и где мы лакомились жирным мясом; ходили на юг, до гор Апашей; вершины этих гор покрыты снегом, а склоны одеты хвойным лесом; ходили на запад, до Колорадо, и в такую забирались глушь, что сердце сжималось от страха.
Мой отец охоту считал работой трудной и скучной. Когда ему удавалось добыть достаточно мяса, чтобы прокормить нашу маленькую семью в течение нескольких месяцев, он созывал мужчин нашего и других кланов и вместе с ними грабил окрестных жителей. Такие набеги доставляли ему радость и развлечение. Обычно уводил он своих воинов на юг и нападал на испанские поселки. У испанцев он отнимал прекрасных лошадей, седла, одежду, ружья, копья и ножи и возвращался к нам с добычей.
Но иногда, — скорее для развлечения, чем ради наживы, — нападал он на пуэбло в долине Рио-Гранде и в других равнинах, где жили мирные индейцы-землепашцы, засевавшие свои поля маисом. За это моя мать всегда его бранила.
— Если ты хочешь воевать, — говорила она ему, — оставь в покое бедных землепашцев, они мирно возделывают свои поля и никого не трогают. Сражайся лучше с испанцами, которые мало-помалу завладевают нашей землей и скоро совсем отнимут ее у нас.
На это отец отвечал:
— Я буду сражаться с испанцами и с землепашцами, потому что землепашцы живут в мире с испанцами.
Часто говорил он ей:
— Подожди, когда-нибудь я совершу набег на этих землепашцев и возьму все, что у них есть. Тогда и тебе и детям хватит припасов на несколько зим. Больше не придется тебе собирать коренья и орехи. Будешь сидеть в своем вигваме, стряпать, есть и толстеть.
А мать отвечала:
— Никогда не знала я праздности. Не было у меня ни одного дня отдыха и никогда не будет!
Весной, когда мне пошел десятый год, мы раскинули лагерь в горах у реки Сан-Хуан. Через месяц олени и лоси, набравшись ума, стали избегать охотников, и нужно было перебраться на новую стоянку. Созвали совет, и мой отец предложил пойти на юг, к каньону Челли, где водились антилопы. Когда-то в этом каньоне жили предки нынешних землепашцев из пуэбло.
Действительно, мы нашли там много дичи — антилоп, оленей, горных коз. Каждый день отец приносил в наш вигвам туши и шкуры животных. Убедившись, что мяса хватит нам на несколько месяцев, он с пятью воинами нашего клана вздумал совершить набег на испанские поселки. Но вскоре он вернулся, а когда моя мать стала его расспрашивать, он засмеялся и сказал:
— Я вспомнил о тебе и решил не трогать испанцев. Настало время, когда я должен исполнить обещание. Эту зиму ты будешь отдыхать, стряпать, есть и толстеть.
— Зачем ты надо мной смеешься? Зачем дразнишь свою бедную жену? грустно спросила мать.
— На этот раз я не дразню тебя! — воскликнул он. — Я вел моих воинов, чтобы напасть на испанцев. Мы подошли к пуэбло тэва, которое находится у Больших Источников. Здесь остановились мы на отдых и с горных высот посмотрели вниз, на равнину. И увидели, что в этом году тэва посеяли маиса больше, чем когда бы то ни было. Вокруг пуэбло зеленели маисовые поля. И, глядя вниз, на эту богатую житницу, вспомнил я о тебе, моей жене. Я сказал себе: «Если мы нападем на испанцев, я угоню лошадей, захвачу ружья, одежду, быть может, еще несколько скальпов, но все это у нас есть. Одного нет у нас — припасов на зиму. Не порадовать ли мне жену? Вместо того, чтобы идти войной на испанцев, я вернусь домой, а когда у тэва на полях созреет маис, я приду с большим отрядом и соберу жатву. Ну, довольна ли ты?
— Ты хотел меня обрадовать, но на сердце у меня тяжело, ответила мать. — Ты отберешь у тэва маис, ты убьешь хлебопашцев, завладеешь их пуэбло и отнимешь все их имущество. Оставь в покое мирное племя тэва и иди войной на испанцев.
— Нет, я совершу набег на пуэбло тэва! Будет у тебя не только маис, но и платья, одеяла и материя, вытканная руками тэва. Этого хватит тебе на всю жизнь.
Не успел отец выговорить последнее слово, как в наш вигвам вбежали женщины и спросили мать, правда ли, что мой отец хочет завладеть пуэбло тэва у Источников, ограбить его и снять маис с полей. Когда она ответила, что таково его решение, они ушли, напевая, приплясывая и смеясь. Их радовала мысль, что скоро перейдут к ним богатства тэва.
Но на следующее утро старшина нашего клана подошел к отцу и, дрожа от гнева, сказал ему:
— Не пытайся завладеть этим пуэбло тэва! Как пришла тебе в голову эта мысль?
— Давно уже я обещал жене добыть много припасов, чтобы не нужно ей было собирать орехи и коренья. Теперь я исполню обещанное.
— Напрасно пришли мы сюда, в этот каньон! — воскликнул старшина. — Зачем вздумалось тебе остановиться по дороге к испанскому поселку? Зачем посмотрел ты с вожделением на маисовые поля тэва? Эти тэва жестоко отомстят тебе, если ты погубишь их посевы. Слушай! Я приказываю тебе сегодня же уйти из каньона. Лагерь мы раскинем в другом месте, и тогда ты забудешь о пуэбло тэва и пойдешь сражаться с испанцами.
— Старик, мне тебя жаль. Я уважаю старость и спорить с тобой не стану. Но знай, что ты ошибаешься, и не бойся за меня. В пуэбло тэва живет человек триста, не больше. Настанет день, когда я поведу против них шестьсот воинов и одержу великую победу.
Старшина встал, пробормотал что-то себе под нос и, не прибавив больше ни слова, ушел в свои вигвам. Он был очень стар. Отец и другие воины думали, что он впал в детство. Но пришло время, когда я понял, что он был великим мудрецом.
— Ха! Как бестолковы эти старики! — воскликнул мой отец. — Могут ли какие-то тэва одержать верх над навахами!
Несколько дней он отдыхал, а потом посетил вождей других кланов племени навахов. Вскоре они явились в наш лагерь и, созвав совет, стали обсуждать план нападения на пуэбло. Решено было поставить караульных, которые будут следить за пуэбло. Когда настанет пора жатвы, мой отец соберет воинов у подножья горы из красного камня, находящейся к западу от пуэбло, и оттуда поведет их в наступление.
С тех пор семь-восемь юношей стали неустанно следить с горных высот за пуэбло тэва. Через каждые два-три дня их сменяли новые разведчики, передававшие друг другу приказ моего отца — не нападать на тэва, даже если те, выйдя из пуэбло, забредут в горы. По ночам разведчики должны были спускаться с гор к маисовым полям, смотреть, как наливаются початки, и несколько початков посылать отцу.
Пуэбло тэва, на которое хотел напасть мой отец, называлось Уалатоа — пуэбло Медведя. Иногда называли его: «Пуэбло, которое лежит внизу», потому что раскинулось оно у подножья гор, а к востоку, за горным хребтом, находились другие селения тэва.
Теперь я расскажу о жителях Уалатоа, за которыми следили разведчики-навахи. Как-то после полудня один из тэва вскапывал свой участок земли. Наутро он пришел снова и увидел на рыхлой земле следы чужих мокасин. Он кликнул приятелей, работавших на соседних полях, и все они заявили, что эти следы оставил человек, обутый в мокасины навахов. Спустя несколько дней они снова увидели в поле такие же отпечатки мокасин. И не раз молодые тэва, охотившиеся в горах за индюками, видели навахов, которые за ними следили, но не делали попытки их преследовать. Об этом тэва донесли летнему кацику пуэбло, а тот созвал совет в южной киве. На совете все высказали предположение, что навахи хотят собрать жатву, когда созреет маис, как делали они в далеком прошлом. В пуэбло Медведя воинов насчитывалось мало, а навахов было столько же, сколько листьев маиса в полях. Как бороться с ними? Или сидеть за стенами пуэбло и смотреть, как навахи собирают жатву и уносят маис, которым питалось население пуэбло?
— Нет, этого мы не допустим? — крикнул военный вождь. Предоставьте дело мне. Сегодня же переберусь я через горный хребет и посоветуюсь с военными вождями других пуэбло. На этот раз мы сумеем дать отпор нашим врагам навахам. В тот же вечер военный вождь с пятью воинами покинул Уалатоа. Шли они не отдыхая, всю ночь, а наутро пришли сюда, в это пуэбло «Откуда вытекает река», которое испанцы, как тебе известно, называют пуэбло Сан-Ильдефонсо. Название это бессмысленно, но название тэва имеет глубокий смысл, ибо здесь Рио-Гранде вытекает из длинного и узкого каньона и мягко катит свои воды по широкой цветущей равнине. Когда тэва сотни лет назад построили это пуэбло, они дали ему название Покводж — «Откуда вытекает река».
Здесь, друг мой, в этой самой киве, военный вождь Уалатоа совещался с вождем Покводжа. Потом послали они вестников к военным вождям других пуэбло племени тэва -Намб, Тезук, Сан-Хиан, Санта-Клара и Похоак. И вскоре все вожди явились на совет и дали клятву: когда подойдет время жатвы, они соберут своих воинов и явятся по первому зову вождя Покводжа, чтобы дать отпор навахам. На следующий день военный вождь пуэбло Уалатоа вернулся домой и после долгой беседы со старшинами пуэбло послал в горы разведчиков, приказав им следить за отрядами навахов, которые, в свою очередь, следили за созреванием маиса. Но разведчики тэва были так осмотрительны и осторожны, что навахи даже и не подозревали об их присутствии.
Вскоре один из разведчиков моего отца принес созревшие початки маиса: зерна их набухли и побелели, а кисточки почернели и съежились. Отец тотчас же послал вестников к вождям других кланов. Подошло время жатвы, и воины должны были собраться у трех источников на Рио-Пуэрко, на расстоянии одного дня пути от пуэбло Уалатоа. Мы отправились в путь. Один за другим присоединились к нам другие отряды, и собралось нас несколько сотен. Разведчики снова принесли несколько початков, и мой отец, осмотрев их, приказал начать наступление, когда солнце склонится к закату. Услышав эти слова, воины (их было человек пятьсот-шестьсот) стали петь и плясать, а женщины смеялись, толкуя о том, как весело им будет грабить пуэбло тэва, где много есть красивых платьев и одеял, бирюзовых ожерелий и браслетов, а также съестных припасов.
— Я с вами не пойду. Я останусь здесь с детьми, — сказала моя мать, обращаясь к отцу.
— Не пойдешь? — крикнул он. — Нет, пойдешь! И мальчиков возьмешь с собой. Я хочу, чтобы они были свидетелями нашей победы. То, что увидят они в пуэбло тэва, сделает их настоящими воинами.
Мать сказала мне:
— Как приказывает твой отец, так мы и должны поступить. Ступай приведи лошадей и помоги мне оседлать их и привязать поклажу.
Я повиновался. Мой отец, верхом на горячем испанском коне, уже тронулся в путь, уводя за собой счастливых, весело распевающих воинов. Моего больного брата мы посадили на самую смирную лошадь и потащились в хвосте вереницы женщин и детей. Когда мы покидали стоянку, одна из наших собак уселась на землю и, задрав морду к небу, жалобно завыла.
— Слышишь, слышишь! Мы с ней чуем беду. Нас ждет великое несчастье, — сказала мать.
Она заплакала, а я не знал, что думать. Моя мать и старшина советовали не трогать мирных тэва и, казалось, боялись их, тогда как отец не сомневался в победе. За моей спиной висел мешок из оленьей кожи, куда я спрятал свой лук и стрелы — простые заостренные палочки, которыми я стрелял в кроликов. Я размышлял о том, удастся ли мне вонзить одну из этих стрел в грудь индейца племени тэва.
Ехали мы всю ночь, а под утро отряд остановился в глубокой горной долине. Здесь мы оставили лошадей и поклажу, а сами стали пробираться вдоль обрывистого склона горы. Незадолго до рассвета мы подошли к пуэбло тэва. Тогда мой отец сказал громко, чтобы слышно было всем:
— Старики, женщины и дети, спрячьтесь здесь в кустах и смотрите, как мы, мужчины, разобьем этих землепашцев-тэва! Мы спустимся вниз, к маисовым полям, и притаимся в траве, а когда люди выйдут на работу, мы нападем на них, перебьем всех и ворвемся в пуэбло. Как только мы завладеем пуэбло, я поднимусь на крышу дома и буду размахивать одеялом. Тогда бегите сюда все и распоряжайтесь несметными богатствами тэва. Вперед!
Было еще темно, и вскоре воины скрылись из виду. Женщины и дети рассыпались по склону и попрятались в кустах. Мать повела Одинокого Утеса и меня на восток, высматривая местечко, где бы можно было спрятаться. После долгих поисков она остановилась у подножья невысокой скалы. Забравшись в густой кустарник, она уселась и усадила нас подле себя.
Бледный дневной свет рассеял ночную мглу. Небо стало красным, и мы ясно могли разглядеть пуэбло тэва внизу, у наших ног. На крыше одного из домов в восточном конце деревни стояли трое мужчин. Больше никого не было видно, и мать не понимала, почему женщины не идут по воду к источнику. Мы смотрели на зеленые маисовые поля и не могли угадать, где спрятался отец. Показалось солнце; все выше поднималось оно над горизонтом, а в пуэбло по-прежнему не видно было людей, если не считать троих на крыше. Мать стала беспокоиться и не могла усидеть на месте.
— Вашему отцу грозит опасность! Я это знаю! — повторяла она снова и снова.
Внезапно тихое пуэбло ожило. Трое мужчин на крыше начали кричать и размахивать одеялами, и в ответ на их сигнал отряд воинов выступил из леса у восточной окраины деревни и направился к маисовым полям, а из пуэбло вышли сотни других воинов и двинулись к полям с западной стороны. Вместо трехсот мужчин из пуэбло Уалатоа, с которыми хотел сразиться мой отец, выступили против него все воины из семи пуэбло племени тэва. Раздались оглушительные выстрелы и вопли людей, умирающих там, в зеленых полях. Всюду видели мы воинов, убивающих друг друга. И тогда прочь от пуэбло Уалатоа побежали воины моего отца, а тэва преследовали их и никого не щадили. Беглецы карабкались по склонам гор. Мы вскочили на ноги.
— Что мне делать, что мне делать с моим слабым, больным мальчиком? — кричала моя мать.
Увидев выбоину у подножья утеса, она побежала туда, а нам приказала следовать за ней. Это была узкая неглубокая пещера: у задней стены лежали листья, хворост и трава, собранные семейством лесных крыс. Мать быстро вытащила несколько охапок хвороста, а мне и брату велела залезть в пещеру. Сверху она закрыла нас листьями и ветками. Потом сказала нам, что она сама спрячется где-нибудь в другом месте, а мы должны лежать смирно, пока она не вернется. Одинокий Утес стал просить, чтобы она спряталась вместе с нами.
— Не могу, для меня нет места, — всхлипывая, сказала она.
Еще раз приказав нам не шевелиться, она ушла.
Пыль слепила нам глаза и забивалась в горло. Одинокий Утес хныкал, а я умолял его не шуметь. Мы знали, что битва еще не кончена: снизу доносились выстрелы, крики, вопли раненых и ликующее пение воинов тэва. Потом раздалось шарканье ног, обутых в мокасины. Воины тэва, поднялись на склон горы и остановились перед нашей пещерой. Они громко разговаривали и как будто спорили. Вдруг один из них воткнул копье в собранный крысами хворост, которым мы были прикрыты. Острый конец копья вонзился мне в плечо. Тогда я был еще маленьким и невольно вскрикнул от испуга и боли. Тотчас же они разбросали прикрывавший нас хворост. Два воина-тэва, раскрашенные черной краской и разукрашенные орлиными перьями, вытащили нас из пещеры. Я увидел боевую дубинку, занесенную над головой брата. Рванувшись вперед, я вцепился в руку воина и вонзил в нее зубы.
— Он слабый, больной! Не смей обижать моего брата! — кричал я, забыв о том, что они не могут меня понять.
2. СЫНОВЬЯ НАЧИТИМЫ
Воин-тэва не понял моих слов, но боль в укушенной руке заставила его поморщиться. Брата он не ударил, но меня схватил за горло и, отстранив от себя, занес над моей головой дубинку. Потом вдруг усмехнулся и сказал своим товарищам.
— Мышонок хочет защитить слабого. Кажется, я пощажу и того и другого.
— Нет, нет! Убей обоих! — крикнул воин, стоявший за его спиной.
Тогда я ничего не понял, но впоследствии узнал об этом разговоре.
Между тем сверху донесся шум: на склоне горы завязалась новая драка. Четверо тэва бросились туда, а мы остались одни с человеком, захватавшим нас в плен. Он разжал руку, сжимавшую мне горло, и взял меня за плечо. Взглянув на меня и на моего испуганного брата, он перевел взгляд на склоны горы, где слышались крики. Я узнал голос матери, потом услышал ее вопль: «О бедные мои мальчики! Я ухожу…» И все стихло. Я понял, что она убита. Тогда я попытался выхватить нож, торчавший за поясом врага, но воин только засмеялся и крепче сжал мое плечо. Одинокий Утес тоже слышал отчаянный вопль матери. Он закачался, как тростинка на ветру, и упал к нашим ногам.
Воин наклонился, поднял его и понес. Не выпуская моей руки, он стал спускаться с горы. Я шел за ним. Последний крик матери еще звенел в моих ушах. Она умерла! Теперь меня не заботило, что будет со мною. Я думал, что человек, взявший нас в плен, приведет меня и брата в пуэбло и там убьет на глазах у своих соплеменников.
Мы спустились к подножью горы и пересекли поле, усеянное телами убитых навахов. Среди них я увидел лишь несколько трупов тэва. У входа в пуэбло толпились женщины и дети; они смотрели на нас во все глаза; дети показывали на меня пальцами и что-то кричали — должно быть, выкрикивали бранные слова. Воин заговорил с одной из женщин, и она последовала за нами. Мы пересекли площадь пуэбло и остановились перед домом из необожженных кирпичей. Потом вошли в комнату с выбеленными стенами.
В углу я увидел постель, накрытую одеялами и шкурами бизонов; на нее воин посадил моего брата. Одинокий Утес очнулся, но выглядел больным и жалким. Он сидел понурый, грустный. Мужчина и женщина о чем-то говорили. Их язык показался мне очень странным. Потом мужчина ушел, а женщина, подойдя к очагу, взяла несколько ломтиков маисового хлеба и предложила их брату и мне. Мы не притронулись к ним. Она принесла нам воды, но мы не стали пить. Мы слышали, как толпа воинов с пением вернулась на площадь, но я их не видел, потому что окно комнаты было завешено шкурой, а дверь — занавеской. Я сказал брату, что воины празднуют победу над нашим народом. Он ничего не ответил и стал плакать.
— Мать! О моя мать!…
— Тише! Скрывай свое горе! — сказал я ему. Но он не мог удержаться от слез.
Женщина оставила свою работу, подсела к нему, обняла и ласково что-то сказала, приглаживая его волосы. Я подумал, что вряд ли стала бы она его ласкать, если бы нас обоих хотели убить, когда на площади соберутся все тэва. «Ну что ж, — решил я, — если меня пощадят, я при первом удобном случае убегу вместе с братом и буду жить только для того, чтобы стать могущественным воином и отомстить за смерть матери».
Вернулся человек, взявший нас в плен. С ним пришли две женщины, которые тотчас же вступили в спор с женщиной ласкавшей брата. Видя, как они показывают на нас пальцами, я догадался, из-за чего завязался спор. Я был уверен, что они требуют нашей смерти, а она старается нас защитить. Тогда я почувствовал к ней благодарность и посмотрел на нее внимательнее. Это была худенькая маленькая женщина, лет сорока, с добрым лицом и кроткими глазами. Говорила она тихо и внятно. В то время как две другие женщины смотрели на меня с ненавистью, она мне улыбалась и кивала, словно хотела успокоить, сказать, что не даст в обиду меня и брата. Тогда женщины повернулись к человеку, взявшему нас в плен, и стали что-то кричать ему. Он задумчиво посмотрел на них, потом взглянул на меня и брата и ничего им не ответил.
Вдруг Одинокий Утес повернулся к двери и пронзительно крикнул:
— Смотри, смотри: ожерелье нашего отца!
Я оглянулся. В дверях стоял человек. У него на шее висело хорошо знакомое мне тяжелое ожерелье из бирюзы с подвешенным к нему орлом, вырезанным из раковины. Все обернулись и посмотрели на вошедшего. Он мрачно улыбнулся и что-то сказал, указывая на ожерелье и ружье, которое держал в руке. Я узнал ружье. Этот человек убил моего отца!
Войдя в комнату, он поставил ружье отца и свое собственное в угол, сел и отдал какое-то распоряжение двум женщинам. Они принесли ему сосуд с водой, табаку и трубку. Он стал курить, беседуя с человеком, взявшим нас в плен. Потом сказал несколько слов женщинам, и те принялись за стряпню. По-видимому, это был его дом. Спустя немного, женщины подали каждому из нас чашку с похлебкой из бобов, маиса и мяса и ломтики маисового хлеба. Одинокой Утес посмотрел на свою чашку, отвернулся и ни слова мне не ответил, когда я уговаривал его поесть, чтобы набраться сил, так как мы еще не знаем, чего нам ждать от тэва. Я же съел все, что мне дали, а когда я покончил с едой, маленькая женщина ласково улыбнулась. Казалось, она была мной довольна.
Когда все поели и ушли, маленькая женщина снова налила в чашку горячей похлебки и подала ее брату. Вдвоем мы уговаривали его поесть, и он послушался. Потом она ласково заговорила с нами и несколько раз повторила одни и те же слова, указывая то на себя, то на дверь, но мы ничего не понимали. Я попробовал объясниться на языке знаков, который знаком навахам и всем другим кочевым индейским племенам, но она не знала ни одного знака. Индейцы, живущие в деревнях и занимающиеся земледелием, не знают языка знаков.
В течение дня многие воины-тэва входили в комнату, где сидели я и Одинокий Утес. Почти все смотрели на нас с ненавистью и что-то говорили человеку, взявшему нас в плен, и маленькой женщине, которая, как мы догадались, была его женой. Настала ночь. Тэва плясали и пели на площади, а маленькая женщина увела нас в другую комнату и велела лечь на ложе из одеял и звериных шкур. Потом она ушла, а мы с братом стали оплакивать отца и мать и сетовать, почему отец не послушался старого шамана. Мы хотели убежать, как только тэва улягутся спать. Но глаза наши сомкнулись, и мы заснули, а разбудила нас маленькая женщина. Ночь прошла. И угасла надежда на бегство.
Вскоре мы услышали голос человека, что-то кричавшего на площади. Индеец-тэва, захвативший нас в плен, и его жена быстро встали, взяли свое оружие и одеяло и вывели из дому меня и Одинокого Утеса. На площади собралось несколько сот мужчин и женщин. Я увидел много лошадей и испанского жеребца, на кокором ехал накануне мой отец. Одинокий Утес, узнав коня, громко вскрикнул. Человек, захвативший нас в плен, поднял брата и посадил на оседланную лошадь. Толпа вышла из пуэбло. Мы пересекли равнину и подошли к подножью горного хребта, тянувшегося на восток. Гуськом начали мы подниматься по узкой тропинке. Шли мы все утро, а когда солнце высоко стояло над головой, половина пути была пройдена, и начался спуск в долину. Далеко внизу сверкала широкая извилистая река — Большая река, или Рио-Гранде, как называют ее испанцы. Солнце склонилось к закату, когда мы спустились к реке. На другом берегу я увидел большое пуэбло, окруженное маисовыми полями. Человек, взявший нас в плен, указал на него пальцем и сказал: «Покводж, Покводж». Потом ткнул себя пальцем в грудь и снова повторил: «Покводж», давая нам понять, что там он живет.
Невольно я повторил за ним «Покводж», и так в первый раз произнес я слово на языке тэва.
Мы переправились через реку и вошли в пуэбло Покводж, которое испанцы называют Сан-Ильдефонсо. Когда мы входили в узкие ворота, я сказал Одинокому Утесу, что через несколько дней мы отсюда убежим. С тех пор прошло семьдесят лет, а я все еще живу в Покводже. Здесь и брат мой, Одинокий Утес. Он погребен на песчаном берегу реки. Позднее я расскажу тебе о страшном его конце.
Войдя в ворота — единственные в стенах пуэбло, — мы направились к площади. С четырех сторон ее окаймляли дома, одноэтажные и двухэтажные. Узким переулком мы вышли на другую площадь и остановились у подножия лестницы, прислоненной к стене дома в северном конце площади. Человек, захвативший нас в плен, снял брата с седла и поставил его на землю. Нас окружила толпа женщин и детей, а воин дал нам знак следовать за его женой, которая стала взбираться по лестнице. Мы поднялись на крышу и подошли ко второму этажу дома. Откинув занавеску у двери, женщина ввела нас в комнату, поцеловала брата и уложила его на постель в углу. Он тотчас же заснул.
Пока маленькая женщина разводила огонь в очаге, я осматривался по сторонам. В верхнем этаже дома было три комнаты, а мы находились в средней. Комната, выходившая на восток, служила, по-видимому, кладовой — в ней хранились запасы маиса. Дверь в другую комнату не была завешена, и я увидел, что там, на стенах, висят богатые одежды, щиты, головные уборы, шкуры лисиц и других животных.
Разведя огонь, женщина взяла сосуд и пошла за водой. По обеим сторонам очага стояли различные сосуды, большие и маленькие, некоторые были красиво разрисованы. Были здесь также всевозможные плошки и чашки из глины, обожженные и раскрашенные маленькой женщиной, которая, как я впоследствии узнал, считалась самым искусным гончаром в деревне. Некоторые рисунки на сосудах и плошках показались мне знакомыми. Где мог я их видеть? И вдруг я вспомнил: в каньоне Челли, где была наша стоянка, еще сохранились ветхие, полуразвалившиеся жилища древних землепашцев, предков нынешних тэва. Женщины нашего клана пользовались старыми сосудами и чашками, найденными в этих домах.
Я еще рассматривал рисунки, когда женщина вернулась, а следом за ней вошел ее муж, который принес сноп маисовых початков. Он бросил их на пол возле очага и знаками приказал мне снять колчан и лук и сесть подле спящего брата. Между тем женщина вскипятила воду, сварила маис и, разбудив брата, предложила ему поесть. Он плакал и отказывался, а она взяла его на руки и поцеловала и, ласково нашептывая ему что-то на ухо, уговорила отведать маиса. Новое кушанье так ему понравилось, что он с жадностью поел. Все время женщина его обнимала, а ее муж, улыбаясь, смотрел на них. Когда брат утолил голод, женщина раздела его, уложила и накрыла одеялом. Я был удивлен: я не мог понять ее привязанности к ребенку враждебного племени.
На восходе солнца мужчина разбудил меня, и вместе с ним я пошел к реке, где мы выкупались. Брат еще спал, когда мы вернулись в пуэбло. Мы поели маисовых лепешек и сушеного мяса, а потом мужчина дал мне понять, что я пойду с ним на маисовое поле. Это поле находилось к востоку от пуэбло, и, кроме маиса, здесь росли тыквы, бобы, дыни и пшеница. Он разрезал дыню и протянул мне несколько тонких ломтиков. Это лакомство показалось мне удивительно вкусным. Видя, с какой жадностью я ем, он засмеялся и знаками объяснил, что я могу есть вволю. Мы начали обрывать початки маиса и складывать в кучу, а к полудню вернулись в пуэбло. Я обрадовался, увидев, что брат сидит на постели. Женщина умыла его, одела, расчесала его длинные волосы и нарумянила щеки. Выглядел он здоровым и бодрым, каким я давно уже его не видел. Он охотно поел похлебки, которую сварила для нас маленькая женщина.
— Ешь побольше, — сказал я ему. — Ты должен набраться сил к тому времени, когда мы отсюда убежим.
После полудня я снова ушел с человеком, взявшим нас в плен. Мы оседлали лошадь и привесили к седлу два больших мешка из оленьей кожи. Эти мешки мы наполнили собранными утром початками и, вернувшись в деревню, разгрузили мешки у подножия лестницы, которая вела в наш дом. Маленькая женщина спустилась вниз и стала шелушить маис, а потом отнесла его на крышу высушить. В тот день мы четыре раза возвращались на маисовое поле. Проходя по площади пуэбло, я задыхался от злобы, потому что мальчики и девочки тэва смеялись и дразнили меня, пока мой спутник их не прогнал. Я был уверен, что они называют меня рабом. «Ну что ж? — думал я. — Недолго я буду рабом. Настанет день, когда я жестоко отомщу им за насмешки».
Каждый день наш хозяин работал со мной в поле. Вдвоем мы собирали жатву, а потом запрягли лошадей и стали возить дрова из леса, запасая топливо на холодные зимние месяцы.
Так прошло три месяца, а нам с братом ни разу не представился случай бежать из пуэбло и вернуться к родному народу. А потом выпал снег и одел белым покровом горы. Я понял, что придется ждать лета, так как зимой нас всегда смогут догнать по следам.
Между тем брат становился с каждым днем все сильнее и крепче и наконец избавился от болезни, которая терзала его с самого дня рождения. На четвертый месяц нашей жизни в пуэбло я сказал ему, что нам придется здесь остаться, пока не растают снега. Его ответ так меня удивил, что я долго не мог выговорить ни слова.
— Брат, — сказал он, — я не хочу отсюда бежать.
— Как? Ты не хочешь вернуться к нашему народу? — спросил я наконец.
— Нет! Я хочу остаться здесь.
— Почему?
— Потому что я люблю эту женщину и она меня любит. Для нас она вторая мать. И ее мужа я люблю, он ласковый и добрый.
Правда, они были добры к нам. Они сытно кормили нас и хорошо одевали. Маленькая женщина так сильно привязалась к Одинокому Утесу, что не отпускала его от себя ни на шаг. Ее муж защищал меня от нападок детей. Но почему, почему они так поступили? Этого я не мог понять. В тот день я больше не говорил с братом о побеге. Я думал, что с наступлением весны Одинокий Утес захочет вернуться к родному народу.
К тому времени мы с братом стали понимать язык тэва. Одинокий Утес знал больше, чем я, потому что маленькая женщина учила его новым словам и объясняла их значение. Он мог свободно говорить на языке тэва, а я еще не пытался произносить известные мне слова. Ни языка, ни обычаев тэва я не хотел знать. Каждый день думал я о том, как нам убежать из пуэбло и вернуться к нашему народу. Но неожиданно все для меня изменилось и я захотел научиться чужому языку.
Наш дом находился на южной площади. Конечно, я давно уже обратил внимание на круглую киву, находящуюся на нашей площади. Часто я видел, как мужчины поднимаются по ступеням на крышу, а затем спускаются через отверстие в крыше вниз, в подземелье. Я понимал, что эти люди старшины пуэбло и в киве они собираются на совет. Но я никогда не подходил к киве и никогда не бродил один по площади и улицам пуэбло. Зная, что дети тэва относятся к нам враждебно, мы с братом должны были держаться от них подальше. Ведь мы двое не могли справиться со всеми детьми.
Как-то вечером, вскоре после моего разговора с братом, я завернулся в одеяло и вышел на крышу, чтобы подышать холодным воздухом, так как в комнате было жарко. Глядя вниз, на площадь, я заметил тусклый свет у входа в киву и понял, что там идет совещание. Вдруг до меня донеслось заглушенное пение. Дивной показалась мне эта песня, и я невольно затаил дыхание. На площади было темно, поблизости не видно было детей. Я спустился с лестницы, крадучись пересек площадь и заглянул в маленькое отверстие в западной стене кивы. Я увидел мужчин, сидевших на длинной скамье, подивился изображению оперенной змеи на стене. Перед очагом, где горел священный огонь, стоял старик. Он дал знак и мужчины снова запели песню, которую я только что слышал. Один из них потихоньку бил в барабан. Меня охватила дрожь. Не понимая слов, я чувствовал, что они поют древнюю песню своего племени, которая вдохновляет их на великие подвиги.
Песня оборвалась, но я не мог успокоиться. Мужчины встали, собираясь покинуть киву, а я пересек площадь, вернулся домой и лег подле брата. Но мне было не до сна. Я вспомнил чудное пение и думал о том, что у моего племени нет древних песен. И тогда захотелось мне самому сидеть в киве и петь вместе с воинами. Но для этого я должен изучить язык тэва.
«Завтра же начну говорить на их языке», дал я себе клятву.
На следующий день мой хозяин сказал мне, что погода стоит теплая и безветренная, а потому мы оседлаем лошадей и поедем в лес за дровами. Как удивились он, его жена и мой брат, когда я ответил на языке тэва, что запасы топлива приходят к концу и мы хорошо сделаем, если привезем дрова.
Он сказал мне:
— Я доволен.
А маленькая женщина обняла меня и поцеловала.
— Мой старший сын! — воскликнула она. — Твоя мать-тэва рада, что ты говоришь на ее родном языке.
Да, она и ее муж относились к нам обоим, как к родным детям. Впоследствии я говорил с ними об этом и узнал, что, не имея детей и чувствуя приближение старости, они давно уже хотели кого-нибудь усыновить, но в их родном клане не было сирот, а другие кланы отдавали сирот только близким родственникам. Когда воин спас нам жизнь, его жена и он сам решили нас усыновить, хотя против этого восстало все племя, а некоторые тэва предрекали им беду.
Теперь я скажу тебе, как звали человека, взявшего нас в плен. Имя его — Начитима, что означает Облачающий Себя; имя его жены — Келемана — Девушка-сокол.
Зная, что почти все дети, а также их родители нас ненавидят, мы с братом никогда не ходили одни по пуэбло. Но Келемана стала зазывать детей из соседних домов и знакомить с нами. Больше всех нравилась мне Чоромана — Девушка Голубая Птица, красивая девочка моих лет. Она приходила и играла с нами почти каждый день, а когда я стал говорить на ее языке, она с любопытством расспрашивала меня о жизни и обычаях моего кочевого племени. В свою очередь, она рассказывала мне о нравах и обычаях тэва. Я узнал, что она входила в клан Канг — Горный Лев. Так назывался один из кланов «летнего народа». Члены этих кланов жили в домах, окружающих южную площадь. Вокруг северной площади расположились кланы другой ветви племени тэва — «зимнего народа». Но подробно я расскажу тебе об этом позднее.
Часто Чоромана просила меня и моего брата поиграть с ней и с другими детьми внизу, на площади, но Келемана говорила, что боится нас отпускать. Как-то утром Начитима услышал эти слова и сказал, что теперь мы уже большие мальчики и можем за себя постоять.
— Идем! — воскликнула Чоромана. — Мы будем играть в шары — мы, девочки, против вас, мальчиков.
— Нет, сначала мы будем стрелять в цель. Посмотрим, кто из нас лучше стреляет, — сказал один из мальчиков.
Я взял лук и колчан со стрелами, и все вместе мы спустились на площадь. В это время несколько мальчиков из кланов зимнего народа прибежали на нашу площадь и присоединились к нам. Один из них, Огота Пятнистая Раковина, был мой ровесник, но выше и сильнее меня. Подбежав ко мне, он схватил висевший за моей спиной лук. Не успел я оглянуться, как он переломил его о колено и больно ударил меня по голове. Мы стояли около кучи хвороста, заготовленного на зиму. Обезумев от гнева, не сознавая, что делаю, я поднял большую палку и, размахнувшись, ударил Оготу. Он упал, а все дети, кроме моего брата и Чороманы, разбежались, пронзительно выкрикивая:
— Мальчик-навах убил Оготу! Мальчик-навах убил Оготу!
Раздались вопли женщин, со всех сторон бежали к нам мужчины. Приземистый человек с круглым лицом схватил меня за руку и занес надо мной нож.
— Сейчас я умру! Брат, беги к матери! — крикнул я.
3. НОВЫЙ ВОЖДЬ ОХОТЫ
Не будь здесь Чороманы, я был бы убит. Но когда мужчина выхватил нож, она бросилась вперед и уцепилась за его руку. Он пробовал ее стряхнуть, но она повисла на нем и громко кричала, призывая Начитиму. Брат не послушался меня и остался, помогая мне вырваться из рук врага, но тот был сильнее нас обоих. Высвободив руку, за которую уцепилась Чоромана, он оттолкнул девочку и замахнулся на меня, но я отскочил и избежал удара. В эту минуту явился Начитима и схватил его за руку, а с другой стороны подошел к нему летний кацик и приказал бросить нож.
— Но этот щенок навах убил моего сына! Я должен его убить! кричал человек.
— Он не умер, я чувствую, как бьется его сердце, — сказала одна из женщин, опустившаяся на колени подле Оготы.
— Пусти меня! Я хочу знать, жив ли он, — сказал отец Оготы.
И Начитима его отпустил.
Прибежала мать мальчика и с громким плачем бросилась к сыну. Все мы молча на них смотрели. Я горько раскаивался в своем поступке и ненавидел себя за то, что нанес такой жестокий удар.
— Ну, что? — спросил летний кацик.
— Его сердце бьется, но очень слабо, — ответил отец Оготы.
— Отнесите мальчика домой. Я приду и вылечу его, — сказал кацик.
— Несколько человек осторожно подняли Оготу и унесли. Его отец оглянулся и, указывая на меня пальцем, крикнул:
— Собака навах! Если он умрет, ты тоже не будешь жить!
Келемана, ходившая за глиной для посуды, прибежала на площадь и увела нас домой. Чоромана и Начитима последовали за нами, и мы рассказали Келемане о том, что произошло. Когда мы окончили рассказ, она крепко обняла девочку и воскликнула:
— Храбрая Чоромана! Добрая Чоромана! Ты защищала моих мальчиков! Ты спасла им жизнь! Как я тебе благодарна.
— Я тоже тебя благодарю. Если бы ты не схватила убийцу за руку, я не успел бы спасти наших мальчиков, — сказал Начитима.
Одинокий Утес подошел к ней и стал ее обнимать, а я мог только выговорить:
— Ты — храбрая. Этого я никогда не забуду.
Келемана очень боялась. Если Огота умрет, его родители и, пожалуй, все кланы зимнего народа потребуют смерти моей, а может быть, и Одинокого Утеса.
— Наших мальчиков мы не отдадим! Я сумею их защитить, — сказал Начитима.
— Времени у нас мало. Придумай, как нам их спасти, — настаивала его жена.
Но в это время прибежала к нам женщина из клана зимнего народа и сказала, что Огота ожил, сидит и ест похлебку.
— Хорошо! Значит, мы можем вернуться на площадь! — воскликнула Чоромана.
— Нет, я и Одинокий Утес останемся дома, а то мы опять попадем в беду, — ответил я.
— После того как ты ударил Оготу, я думаю, что никто не посмеет вас тронуть, — сказал Начитима. — И не годится тебе все время сидеть дома или на крыше. Это похоже на трусость. Возьми этот нож, всегда носи его с собой и в случае необходимости защищайся.
Он протянул мне нож в крепких кожаных ножнах. Я очень обрадовался и привязал нож к поясу. Мы спустились на площадь, к нам подошли другие мальчики и девочки, и мы стали играть. Никто нас не обижал. Набравшись храбрости, я повел наш маленький отряд на площадь зимнего народа, и там к нам присоединились и дети из кланов зимнего народа. Но несколько мальчиков стояли в стороне и выкрикивали ругательства, они называли меня и брата собаками. Однако никто не посмел нас ударить.
С тех пор мы разгуливали по пуэбло так же свободно, как и другие дети. Вскоре в наших играх стал принимать участие и Огота, ни разу не упоминая о том, что произошло между нами. Я понимал, что играет он с нами только для того, чтобы быть с Чороманой, к которой он был очень привязан. В его присутствии я чувствовал себя неловко, так как часто он смотрел на меня с ненавистью. Я хорошо знал, что он ни на минуту не забывает нанесенного мной удара.
Пришла весна. Снег в горах растаял, и я сказал Одинокому Утесу:
— Теперь за нами никто не следит. Путь свободен. Мы можем убежать из пуэбло и вернуться к нашему народу.
— Но я не хочу бежать! — ответил он.
— Я тоже не хочу. Лучше останемся здесь, с нашими добрыми родителями-тэва, — сказал я.
За эти несколько месяцев, проведенных в плену, я очень изменился.
Больше мы ни разу не говорили о возвращении на родину.
Настало время посева. Мы помогали Начитиме засевать поле маисом, пшеницей, семенами тыкв, бобов и сладких дынь. Начитима учил нас чинить ачеквиа — оросительные каналы, за зиму засорившиеся. В ту пору индейцы-тэва еще не получили от испанцев ни плугов, ни сбруи, но несколько лет назад испанцы дали им в обмен на дорогие шкуры лопаты и кирки. Обливаясь потом, вскапывали мы землю, приготовляя ее к посеву, а за работой Начитима рассказывал о порядках и обычаях тэва, казавшихся нам очень странными. Хотя поле и оросительные каналы были собственностью Начитимы, но весь урожай переходил во владение Келеманы. Ей принадлежали также и дом и домашняя утварь, ей принадлежали дети. Так как своих детей у нее не было, мы, усыновленные, считались ее собственностью и были членами ее клана клана Маис, но никакого отношения не имели к клану Начитимы — Бирюзе. Мужчина-тэва был лишь работником и помощником своей жены, ей принадлежало все, а ему — только одежда его и оружие. Не так было у навахов: мужчине-наваху принадлежали дети, жена, дом и вся домашняя утварь.
К концу посева мы часто слышали пение, доносившееся из кивы на нашей площади. Нам сказали, что шаманы молят всевышних ниспослать обильные дожди. Когда же посев был окончен, мужчины и женщины в нарядных одеждах вышли из кивы: их сопровождали старики — барабанщики и певцы. У всех мужчин на куртках были вышиты белые и красные зигзаги — символ молнии. Такие же зигзаги я увидел и на их мокасинах. Ноги они вымазали черной краской. Все женщины надели одинаковые синие платья из материи, вытканной их мужьями, а головы покрыли уборами из кожи бизона. Уборы были разрисованы символическими изображениями дождя и облаков и украшены орлиным пухом. Мужчины несли трещотки из бизоньих зубов, а женщины — маленькие еловые ветки.
Начался священный танец. Процессия несколько раз обошла вокруг кивы. Мужчины потрясали в такт трещотками, а женщины — ветвями. Изредка ветер сдувал клочок пуха с головного убора какой-нибудь женщины, и пух поднимался к небу.
— А! Смотрите! Он поднимается! Он несет наши молитвы в синее небо! — кричал шаман, и народ ликовал.
Торжественный танец и пение произвели на меня глубокое впечатление. Мне захотелось стать настоящим тэва, получить право входить в киву и участвовать в обрядовых плясках. Но одна мысль меня смущала: я боялся, что тэва никогда не примут наваха в свою среду.
Когда окончилось празднество, я поделился своими опасениями с Начитимой. Он взял меня за руку, подозвал брата и повел нас обоих к старому летнему кацику. Ему он передал мои слова. Кацик ласково посмотрел на нас, потрепал меня по плечу и сказал:
— Начитима усыновил вас обоих. Вы — тэва, дети Начитимы и Келеманы. Делай добро, старайся всегда поступать хорошо, и ты получишь право входить в киву, а со временем примешь участие в совещаниях наших старшин и воинов.
Его слова сделали меня счастливым. Я побежал домой, чтобы обо всем рассказать Келемане. Слезы выступили у нее на глазах; она поцеловала меня и прерывающимся голосом сказала:
— И ты и Одинокий Утес — мои сыновья. Я вас сделала настоящими тэва, и мой народ должен принять вас в свою среду.
— Больше всего хотел бы я посещать киву, петь древние песни и войти в Совет воинов и мудрых старшин! — воскликнул я.
Начитима, только что вошедший в комнату, услышал мои слова.
— Твое желание исполнится, когда ты вырастешь, — сказал он.
— Хорошо! Мой отец был великим воином, и я буду таким, как он!
— Нет, ты не будешь грабить и убивать других индейцев. Воины-тэва сражаются только с теми, кто их обижает.
Его ответ удивил меня и разрушил мои планы, так как я мечтал стать вождем и совершать набеги на команчей, койова и другие племена прерий.
— Хорошо, я буду воином-тэва. Но когда же? — спросил я.
— Ты еще мал. Посмотрим, что будет через несколько лет, — ответил он, и этим ответом мне пришлось удовольствоваться.
В наше пуэбло часто приходили индейцы из Намба, Тезука, Похоака и других пуэбло тэва. От них мы узнали, что несколько воинов из этих селений ушли на охоту и домой не вернулись, исчезли две женщины из Намба и одна из Тезука. Тэва думали, что их убили навахи, которые мстили за страшное поражение, нанесенное им прошлым летом. Небольшие отряды навахов рыскали в окрестностях пуэбло, подстерегая индейцев-тэва. Охотники не отваживались уходить в горы; вот почему в селениях не хватало мяса и истощился запас орлиного пуха для молитвенных палочек.
Эти слухи повредили и мне и Одинокому Утесу. Мужчины и женщины стали косо на нас посматривать, а один индеец из соседнего селения сказал Начитиме:
— Ты должен убить, а не прикармливать этих собак навахов.
Это услышала Келемана. Она подбежала к нему и, погрозив кулаком, крикнула:
— Не смей обижать моих мальчиков! Они — такие же хорошие тэва, как и твои дети! Не вмешивайся не в свое дело, и уходи из моего дома!
Индейцу показалось, что она хочет его ударить, и, пятясь, он вышел из комнаты. Когда он спускался на площадь, дети, игравшие с нами на крыше, дразнили его и смеялись, но нам с братом было не до смеха.
— Не обращайте внимания на его слова, — сказал Начитима. Поступайте так, как советует вам ваша мать и я, и когда-нибудь он будет хвалить вас, а не бранить.
Летом и Одинокий Утес и я много работали; научились вскапывать землю, сеять, сажать, полоть и собирать жатву. Когда настала осень, мы запасли дров на всю зиму. Прошла зима, и мы, первые во всем пуэбло, вышли на работу в поле и стали готовиться к весенним посевам. Пролетело еще несколько лет, а мы с Одиноким Утесом росли, работали, играли и привыкали к обычаям тэва. Люди, приходившие из других пуэбло, по-прежнему смотрели на нас недружелюбно. Их примеру следовал кое-кто из нашего пуэбло, главным образом члены кланов зимнего народа. От Чороманы мы узнали, что мать Оготы постоянно распускает о нас дурные слухи, ссылаясь на лживые слова своего сына.
Летом, вскоре после посевов, когда мне шел семнадцатый год, двое мужчин из клана зимнего народа ушли в горы на охоту и назад не вернулись. Отыскивать их отправился большой отряд. В лесу были найдены их тела. Кто-то снял с убитых скальпы, отобрал оружие и одежду. Ходившие на розыски вернулись в пуэбло и рассказали о том, что видели. Сомнений быть не могло — охотников убили навахи.
Мать Оготы начала шептаться с соседками. Она утверждала, что Одинокий Утес и я поддерживаем тайные сношения с бродячими отрядами нашего племени, доставляем им сведения и вместе с ними обдумываем план нападения на пуэбло. Весь летний народ и почти все кланы зимнего народа смеялись над этими россказнями, но кое-кто верил им или делал вид, будто верит. Среди тех, кто высказывался за то, чтобы убить нас или изгнать из пуэбло, был Тэтиа — Белый Медведь, вождь клана Па (Огонь) и дядя Оготы. Я знал, что он ненавидит нас с тех пор, как я ударил Оготу. Он был опасным врагом, и я не сомневался в том, что при первом удобном случае он нам отомстит.
Шел седьмой год нашего пребывания в Покводже. Летом умер Самайо Оджки, вождь охоты, и в киве летнего народа собрался совет, чтобы выбрать ему заместителя. В этом вопросе старшины кланов голоса не имели. Как-то вечером летний кацик созвал собрание, в котором участвовали только члены Патуабу — высшего тайного совета тэва. Членами Патуабу были два кацика, Тсиоджке — военный вождь, Тсичуи главный шаман, Поаниу — хранительница змей, Самайо Оджки — вождь охоты и восемь советников.
Одинокий Утес, Келемана и я сидели на крыше перед нашим домом, когда члены совета начали собираться на площади. Я смотрел, как они поднимаются по ступеням кивы, и вдруг с изумлением воскликнул:
— Смотрите: женщина! Что она там делает?
— Тише! Это Поаниу, — ответила Келемана.
— Но разве женщина может быть членом Патуабу?
— Поаниу пользуется такой же властью, как главный шаман или даже сам летний кацик. Она — хранительница священной змеи.
— Священной змеи? А что это за змея? Где она находится? Почему я до сих пор о ней не слышал?
— Тише, не кричи, — перебила Келемана, зажимая мне рот рукой. Мы никогда не говорим о Поаниу и о змее, за которой она ухаживает. Только члены Патуабу знают, где держит она эту змею.
— Но почему?
— Не задавай мне вопросов! — прикрикнула на меня Келемана. — Я не могу тебе ответить. И отец не даст ответа. Даже старшины кланов знают не больше, чем мы. Вот уже много лет, как у Патуабу находится эта змея, о которой заботится Поаниу. Змея им нужна для каких-то церемоний и обрядов.
— Смотри, Поаниу тащит тяжелый мешок, а в мешке, наверно, сидит змея, — предположил Одинокий Утес.
Келемана сердито повернулась к нему, дернула за ухо, потом ласково обняла и приказала молчать.
Члены Патуабу собрались на крыше кивы. Летний кацик спустился в подземелье, чтобы развести священный огонь, и вскоре из отверстия вырвались тонкие завитки дыма. Тогда один за другим члены Патуабу спустились вниз, и до нас донеслось заглушенное пение. Эти древние песни тэва всегда производили на меня странное впечатление. Меня охватила дрожь, захотелось узнать, что делается там, в киве, захотелось стать одним из тех, кто имеет право участвовать в совещании. Я наклонился к Келемане.
— Мать, — сказал я, — мать, я хочу быть одним из Патуабу.
Впервые я назвал ее матерью.
— Мой сын! Дорогой сын! — воскликнула она. — Наконец-то! Наконец-то ты назвал меня матерью! Как я счастлива! О, я помогу тебе стать одним из них! Я — твоя мать. Да, я — мать двух добрых сыновей.
Спускались сумерки. Вскоре пришла к нам из кивы Поаниу и спросила, где Начитима. Он был в соседнем доме, и мы видели, как Поаниу увела его в киву. Снова раздалось пение и бой священного барабана. Потом все стихло. Мы молчали, не смея высказать наши мысли и надежды.
Стало холодно; мы вошли в дом, и Келемана развела огонь в очаге. Потом достала мешочек со священной мукой и бросила по щепотке во все четыре угла комнаты — на север, юг, восток и запад. И Одинокий Утес и я, мы оба знали, о чем думает она, совершая этот обряд. Настала ночь, но мы не ложились спать. Наконец послышалось шарканье мокасин, и на пороге показался Начитима. Шел он медленно, словно человек, блуждающий во сне. Его глаза были расширены, лицо нахмурено и серьезно.
— Тебя выбрали на место умершего? Теперь ты — Самайо Оджки? дрожащим голосом спросила Келемана.
— Да. Как я был удивлен! Я не смел надеяться, что меня выберут на место умершего вождя охоты. Тяжелое бремя возложили на мои плечи.
— Ты можешь нести это бремя. С твоей помощью охотники добудут нам дичи, — стала его успокаивать Келемана.
— И мне ты поможешь: я хочу стать членом Патуабу, — сказал я.
— Ты знаешь, что для тебя и для Одинокого Утеса я сделаю все, ответил он.
— Ха! Как рассердится Тэтиа, когда узнает, что теперь ты — Самайо Оджки! — воскликнула Келемана.
— Да. Но меня он винить не может: не я себя назначил.
— Теперь и он, и Огота, и все члены клана Огня будут ненавидеть нас еще сильнее, — сказал я.
И я не ошибся. Тэтиа, дядя Оготы, и Начитима были главными помощниками старого вождя охоты. Они делали для него молитвенные палочки, исполняли его приказания, и Тэтиа не раз говорил, что надеется в будущем занять место старика. На следующее утро женщины зимнего народа сказали Келемане, что Тэтиа вне себя от гнева. Человек, приютивший и выкормивший двух щенков навахов, не имеет права быть Самайо Оджки и членом Патуабу, говорил он всем и каждому.
Спустя два дня Чоромана передала Келемане слова Оготы: он убеждал Чороману не иметь с нами дела и говорил, что дружба с мальчиками-навахами не доведет ее до добра.
Вскоре, после того как Начитима стал Самайо Оджки, начались сильные дожди. Теперь засеянные поля не нуждались в орошении, и мужчины нашего пуэбло решили пойти на охоту под предводительством Начитимы. Я очень обрадовался, когда он мне сказал, что я буду его помощником и пойду вместе с ним. У меня был хороший лук и оперенные стрелы с зубчатыми стальными наконечниками, но до сих пор мне приходилось убивать только кроликов, и я давно уже мечтал о настоящей охоте.
Рано утром отряд в сорок человек вышел из деревни и на плотах переправился через реку. Затем начался подъем на гору. Как тебе известно, горный хребет тянется с севера на юг, склоны его рассечены глубокими каньонами; он похож на большую ладонь, а каньоны — на пальцы руки.
За несколько дней до охоты Начитима послал вестника к Тэтиа и предложил ему отправиться вместе, как главному охотнику. Но Тэтиа наотрез отказался охотиться вместе с новым Самайо Оджки. Тогда Начитима назначил на его место Кутову — Человек-камень, отца Чороманы.
Эти двое вели отряд, а я, следуя за ними по пятам, тащил на спине мешок с молитвенными палочками Начитимы и очень гордился своим званием помощника Самайо Оджки.
Мы шли на юго-запад по заросшему лесом холму, между двумя глубокими каньонами. Идти было легко, так как высокие ветвистые сосны защищали нас от палящего солнца. Вскоре увидели мы следы дичи; олени и лоси убегали с нашей тропы. Но мы продолжали идти на юго-запад, и на дичь никто не обращал внимания.
Этого я не мог понять и наконец спросил Начитиму, почему он не начинает охоты.
— Сначала мы должны дойти до каменных львов, — ответил он.
У меня забилось сердце. Наконец-то я увижу этих чудесных каменных львов, о которых мне приходилось слышать столько рассказов!
4. ВЫЗОВ
Мы долго шли лесом. Обойдя два глубоких каньона, выходящих к Рио-Гранде, мы остановились у спуска в третий каньон, на дне которого журчал холодный прозрачный ручей. Сумерки еще не наступили, и я спросил Начитиму, почему мы так рано расположились на отдых и далеко ли от Каэнкукаджей — священных каменных львов. Он ответил, что Каэнкукаджи находятся неподалеку отсюда, но мы их увидим не раньше следующего утра, так как только на восходе солнца разрешается к ним подходить.
Мы спустились к ручью, а двое из нашего отряда остались наверху, у края каньона. До наступления темноты они должны были стоять на страже, потому что тэва опасались столкновения с навахами. Мы уселись на берегу ручья и достали из дорожных мешков лепешки из маиса, приготовленные для нас, охотников, женщинами пуэбло. Когда мы ели, раздался крик дикого индюка. Другой индюк ему ответил, а через несколько минут двенадцать индюков гуськом спустились по крутому склону к ручью. Вскоре два лося пришли на водопой и остановились в нескольких шагах от нас. Охотники молча следили за ними, а я шепнул Начитиме:
— Позволь мне убить лося.
Ничего не ответил он, только покачал головой и приложил палец к губам. Когда индюки и лоси напились и, выбравшись из каньона, скрылись из виду, Начитима сказал:
— Мы не стали бы их убивать, даже если бы умирали с голоду. Мы не смеем выпустить ни одной стрелы, ни одной пули, пока не дойдем до каменных львов. Таков древний обычай.
Настала ночь. Дозорные присоединились к нам, и мы быстро заснули. Начитима разбудил нас незадолго до рассвета. Мы умылись, поели, напились воды из ручья и последовали за нашим вождем. Он вывел нас из каньона на старую тропу, тянувшуюся с запада на восток. В течение многих веков люди ходили по этой тропе; грунт здесь был очень твердый. Теперь тропа напоминала узкую ложбинку, словно высеченную топором.
Мы двинулись на восток и через несколько минут вышли на круглую площадку, обнесенную оградой. Посреди площадки я увидел священных Каэнкукаджей — двух каменных львов. Высеченные из огромной каменной глыбы, они лежали друг подле друга на брюхе; головы их были обращены на восток, длинные тонкие хвосты вытянуты, лапы поджаты, словно звери приготовились к прыжку. Эти удивительные львы были созданы Хэвенди-Интова — Древними людьми, которые изваяли их из камня.
Мы расположились полукругом перед священными львами. Я подал Начитиме его мешок с молитвенными палочками и другими принадлежностями шамана. Начитима выступил вперед, бросил по щепотке муки на север, юг, восток и запад, потом достал красную краску и, как только взошло солнце, помазал краской головы обоих львов. После этого он обратился к ним с молитвой: просил их покровительствовать нашей охоте, чтобы женщинам и детям мы принесли много мяса для еды и шкур для одежды. Наконец он положил перед ними молитвенную палочку и вышел из-за ограды. Остальные охотники последовали за ним, но сначала каждый из них положил перед львами по одной палочке. Когда очередь дошла до меня я увидел, что таких палочек набралась целая груда. Приносили их сюда не только тэва, но и индейцы из пуэбло Кверис, Зунис и даже из дальнего Хопис. Все они мазали священных львов красной краской и просили у них помощи.
Когда мы отошли на сотню шагов от священной ограды, Начитима велел нам остановиться.
— Охотиться мы будем на восточном склоне горы Обсидиан и на просеке Узкий Перешеек, — сказал он. — Ты, Кутова, поведешь загонщиков на склон; оттуда гоните зверей к просеке, а уже наше дело — их убивать. Но дай нам время дойти до просеки и устроить прикрытие.
Кутова выбрал двадцать пять человек, и хотя никому не хотелось быть загонщиком, но все повиновались ему беспрекословно. Они пошли на север, а Начитима повел нас на северо-восток, вдоль глубокого каньона, к узкой просеке. Эта просека была как бы перешейком между двумя каньонами; к западу она расширялась, а к востоку суживалась. Дальше начинался крутой спуск в горную долину.
Было около полудня, когда мы дошли до перешейка. Начитима велел охотникам рассыпаться по просеке. Сам он расположился по одну сторону тропы, проложенной зверями с севера, а мне приказал занять место по другую сторону. Быстро приготовили мы прикрытия — плетни из еловых веток, и каждый охотник спрятался за плетнем. Мы достали луки и стрелы и стали ждать. У Начитимы и еще у нескольких охотников были также и ружья, но пользоваться ими они не хотели, так как звери, испуганные громкими выстрелами, могли повернуть назад и прорваться сквозь линию загонщиков. Загонщики должны были стрелять, чтобы испуганные звери побежали к просеке.
Вскоре после того как наши плетни были готовы, далеко на западе раздался выстрел, за ним последовал второй, третей, и мы поняли, что охота началась. Затем спустилась тишина, а через несколько минут снова загремели выстрелы, на этот раз значительно ближе. Загонщики поднимались по склону горы к просеке. Кустов поблизости не было, и мы издалека могли разглядеть приближающихся зверей. Первыми показались два койота, рысью бежавшие по пыльной тропе, по обеим сторонам которой Начитима и я поставили наши плетни. Поравнявшись с нами, они почуяли наш запах, потянули носом воздух и рванулись вперед. Через секунду они скрылись из виду.
Показались два лося. Они бежали по тропе к северу от нас. Когда они пробегали мимо плетней, за которыми притаились охотники, мы услышали, как зазвенела тетива. Животные рванулись вперед, подпрыгнули и упали. Потом на нашу тропу вышли три оленя. Начитима стрелял в вожака, а я по его приказанию пустил стрелу во второго оленя. Наши прикрытия находились в двух шагах от тропы, и мне казалось, что промаха быть не может. Двух оленей мы уложили, третий убежал. Горный лев, делая огромные прыжки, промчался мимо. За ним бежало стадо оленей и лосей, показались дикие индюки. Мы стреляли в животных, когда они пробегали мимо наших плетней. Наконец все стихло, и на просеку вышли загонщики: охота была окончена. Мы выбежали из-за плетней и бросились к убитым животным.
Сосчитав оставшиеся у меня стрелы, я увидел, что стрелял четырнадцать раз. Внимательно осмотрел я животных, убитых на нашей тропе, и нашел только три стрелы с моими отметками. Я убил двух оленей и одного лося, а из семи стрел, выпущенных Начитимой, шесть попали в цель. Значит я был слишком взволнован, чтобы внимательно прицеливаться. Смущенно рассказал я Начитиме о своей неудаче, но он меня успокоил, сказав, что для первого раза я стрелял неплохо.
В тот день мы убили больше сотни оленей и лосей. Работы было много: мы сдирали шкуры с животных и туши разрубали на части. Вскоре пришли к нам женщины из пуэбло и, как заранее было условленно, привели лошадей, чтобы отвезти домой нашу добычу. Загонщики вернулись на склон горы за убитыми животными. Ждали мы их довольно долго, но никто не спешил домой. Женщины болтали, смеялись и пели, мужчины вспоминали все события этого дня, и все в один голос хвалили Начитиму. Патуабу поступил разумно, назначив Начитиму новым Самайо Оджки: давно уже не было такой удачной охоты.
В пуэбло мы вернулись только к полудню следующего дня, так как много времени ушло на то, чтобы переправить туши на плотах через реку. Все охотники отдали часть своей добычи тем, кто оставался охранять пуэбло, а Начитима лучшие куски мяса отложил для Тэтиа и послал к нему моего брата. Одинокий Утес вернулся через несколько минут. Он был очень испуган: Тэтиа крикнул ему, что не примет ни куска мяса, так как животные убиты навахами или теми, кто покровительствует навахам.
— Ну, что ж, — сказал Начитима, — все знают, что я всегда старался жить в дружбе с Тэтиа. Но больше я никогда не буду звать его на охоту.
Так как Кутова, стоявший во главе загонщиков, был слишком занят и не успел убить ни одного зверя, то и мы и другие охотники отдали ему часть нашей добычи, а я подарил Чоромане шкуру убитого мной лося. Она очень обрадовалась и сказала, что давно хотела иметь такую шкуру. Она выдубит ее и сошьет себе прекрасные новенькие мокасины, а из оставшегося куска сделает что-нибудь и для меня.
Спустя несколько дней, когда она дубила кожу — вымачивала ее в отваре из дубовой коры, к ней подошел Огота и спросил, кто убил этого лося. Услышав ее ответ, он очень рассердился.
— Выброси ее сейчас же! — крикнул он. — Ты не должна брать подарки от этой собаки наваха! Смотри, как бы не попасть тебе в беду! Дай мне шкуру, я ее сожгу.
— Он не собака! Он был навахом, но теперь он — тэва, — ответила она. — И хороший охотник. Хороший и добрый! Эту шкуру я выдублю, она будет мягкой и белой, я сделаю из нее мокасины.
— Нет, я тебе не позволю! — закричал он.
В это время я стоял на крыше перед нашим домом и прислушивался к разговору. Слова Оготы привели меня в бешенство, и, не владея собой, я крикнул ему:
— Как ты смеешь отнимать шкуру, когда ты сам ничего не можешь дать взамен, потому что до сих пор не убил ни одного зверя?
— Ха! Я стреляю лучше, чем ты!
— Докажи! Кутова говорит, что во время охоты он видел огромного медведя с длинными когтями. Сейчас этот медведь выходит на просеку и подбирает остатки нашей добычи. Его нетрудно будет найти. Ступай туда, постарайся его убить! Если ты его не убьешь, пойду я. Если я не убью, ты попытаешься еще раз. Так, по очереди, мы будем выслеживать медведя. А когда один из нас убьет его, мы узнаем, кто лучше стреляет!
— Ха! Говоришь ты дело, но, наверное, замышляешь предательство. Нет, с навахом мне не по пути. Я отказываюсь идти на охоту, — быстро ответил Огота.
За его спиной раздался голос:
— Ты должен принять этот вызов, а мы позаботимся о том, чтобы все было сделано по правилам. Такие испытания нам нужны: они превращают наших юношей в смелых воинов.
Огота оглянулся и увидел летнего кацика; с ним было еще несколько человек. Все с любопытством прислушивались к разговору. Огота посмотрел на них и не сказал ни слова.
— Если ты отказываешься, значит ты боишься идти на медведя. Плохо, плохо! Наши юноши становятся трусливыми и слабыми. Боюсь, что печальная судьба уготована нашему пуэбло, — с грустью сказал старик.
— Я не боюсь, — отозвался наконец Огота. — Мне кажется, этот навах строит какие-то козни, вот почему я не принял вызова.
— Козней можешь не опасаться, об этом мы позаботимся. Говори, принимаешь ли ты вызов?
— Да.
— Хорошо. Сегодня вечером твой отец, Начитима и другие соберутся у меня, и вместе мы решим, как провести охоту на медведя.
И с этими словами летний кацик удалился.
Огота повернулся и, злобно посмотрев на меня, ушел с площади.
Чоромана, набросив на плечи шкуру лося, взбежала по лестнице к нам на крышу и подошла ко мне.
— Ты на него рассердился. Не нужно было вызывать его на такое опасное дело. Эти медведи с длинными когтями — самые страшные звери. Даже наши лучшие воины их боятся. Я не помню, чтобы хоть кто-нибудь принес в наше пуэбло шкуру такого медведя.
Я знал, не хуже ее, каким опасным врагом может быть раненый медведь этой породы. В лесах Сан-Хуан и в горах Апашей от их когтей погибло немало охотников-навахов. Я уже трусил и бранил себя за свою вспыльчивость. Но ни за что не признался бы я Чоромане, что боюсь.
— Будь спокойна. Этого медведя я убью и вернусь сюда целым и невредимым, — хвастливо сказал я.
И по лицу ее я увидел, что мне удалось рассеять ее опасения.
Только сейчас я оценил ее доброту и вдруг понял, как сильно я ее люблю. Я почувствовал, что мне она дороже всех на свете. А теперь, быть может, я скоро умру и расстанусь с ней навеки! И всему виной мои необдуманные слова! Но сначала я должен был узнать, любит ли она меня.
— Чоромана, — сказал я, — хочешь, я буду твоим мужем? Не сейчас, а через несколько лет, когда мы оба будем взрослыми?
Она схватила меня за руку, глаза ее заблестели, и она воскликнула:
— Да, я хочу только тебя и никого другого! О, как долго я ждала, чтобы ты меня спросил об этом!
В эту минуту на крышу поднялась Келемана, а за ней Начитима и Одинокий Утес. Возвращаясь с полей, они услышали о вызове, который я бросил Оготе, и Келемана, подбежав ко мне, стала меня бранить и кричать, что не пустит меня на охоту. Потом она повернулась к Начитиме и начала молить его, чтобы он запретил мне идти на медведя.
Он ласково обнял ее и сказал:
— Вызов сделан и принят. Летний кацик его одобрил. Теперь мне остается только одно: помогать нашему мальчику.
— О, слишком поздно, слишком поздно! Если бы я была здесь, я бы заставила его замолчать, я бы зажала ему рот! — крикнула Келемана и, заплакав, ушла в дом.
Чоромана последовала за ней и стала ее утешать.
Я сказал Начитиме, что летний кацик хочет вместе с ним и отцом Оготы поговорить об условиях предстоящего состязания.
— Конечно, Тэтиа потребует, чтобы охотники взяли ружья, — сказал Начитима.
— Ну, что ж, ружье лучше, чем лук. Я возьму твое, — отозвался я.
— Нет, нет! — воскликнул он. — Чтобы зарядить ружье, нужно много времени. За это время охотник успеет выпустить четыре-пять стрел. А кроме того, отверстие, через которое вошла пуля, быстро стягивается, животное не теряет крови и умирает медленно, а стрела образует широкий прорез, кровь вытекает из него, и животное слабеет и падает. Нет, не надо ружей. Я буду настаивать на том, чтобы тебе позволили взять лук и стрелы. Если они не согласятся, я тебя не пущу.
— Как хочешь, тебе лучше знать, — сказал я.
Келемана, печальная и заплаканная, приготовила нам ужин, а когда мы поели, Начитима велел брату развести огонь в очаге. Усевшись перед очагом, он долго курил. Никто не нарушал молчания.
Наконец пришел человек от летнего кацика. Начитима вышел с ним. Уходя, он оглянулся и сказал:
— Либо совет Патуабу примет мои условия, либо этой охоте не бывать!
К нам пришла Чоромана со своей матерью, но все мы были задумчивы и озабочены. Молча ждали мы возвращения Начитимы. Вернулся он поздно, а вместе с ним пришел Кутова. Оба мрачно улыбались.
— Нам пришлось поспорить с людьми из клана Огонь. Жаркий был спор, но победа осталась за нами, — сказал Начитима. — Сначала все шло гладко. Все мы порешили, что первым пойдет на охоту Огота. Если ему не удастся убить медведя, пойдешь ты, сын мой. Если же он его убьет, ты должен найти и убить другого медведя, а если это тебе не удастся, победителем будет объявлен Огота. Если и ты и он убьете медведя, вас обоих признают хорошими охотниками. На этом мы порешили. Тогда отец Оготы сказал, что каждого охотника будет сопровождать два советчика, с Оготой пойдут он и Тэтиа. «Нет! — крикнул я. — Советчиками должны быть люди из других кланов, которые к обоим охотникам не чувствуют вражды. Они одни сумеют правдиво рассказать нам о том, как прошла охота». Долго мы спорили и наконец предоставили летнему и зимнему кацикам, военному вождю и главному шаману вынести решение. Они решили, что с Оготой пойдет один человек из нашего клана и один из клана Огонь. Тебя также будут сопровождать двое советчиков из этих двух кланов. Услышав это, отец Оготы и Тэтиа нахмурились. Тогда я сказал, что из нашего клана пойдет с тобой Кутова. Никто не возражал. Отец Оготы хотел, чтобы охотники взяли ружья, но я отстаивал лук и стрелы. Кацики со мной согласились. Ружья мы получили от испанцев, а белые всегда нас обижали и притесняли, и не годится идти с их оружием на медведя. Так закончилось совещание. Завтра утром Огота и два помощника пойдут искать медведя с длинными когтями.
— Кто из нашего клана сопровождает Оготу? — спросила Келемана.
— Потоша — Белая Антилопа. Мы уже сговорились.
— Хороший человек, честный и справедливый, — сказала Келемана.
На следующий день Огота ушел в горы со своими двумя советчиками Потошей из нашего клана и Хопани-Барсуком из клана Огонь. Я волновался и не находил себе места. Мне хотелось знать, что делает Огота. Неужели удастся ему убить медведя? Я не мог ни есть, ни спать, работа и игры потеряли для меня всякий интерес.
5. ТАЛИСМАН ОХОТНИКА
Прошло несколько дней. В пуэбло только и разговору было что об Оготе. Всем хотелось знать, как закончится охота. Многие называли его храбрым юношей и выражали надежду, что он сумеет убить медведя. На восьмой день его отец и все члены клана Огонь начали беспокоиться, не напал ли на Оготу и его спутников отряд навахов и не погибли ли все трое в горах. Кое-кто высказывал опасения, что их убил медведь с длинными когтями. Хотели идти на поиски в горы, но на двенадцатый день Огота вернулся. Он пришел мрачный и молчаливый и, не отвечая на вопросы, вошел в дом своих родителей. За ним последовал советчик из его клана, а Потоша поспешил к нам и, улыбаясь, уселся возле очага.
— Я вижу по твоему лицу, что Огота не убил медведя! — воскликнул Начитима.
— Да, ты прав. Он начал дрожать, как только мы вышли из пуэбло. Ему представлялся случай убить его, но он бежал. Дело было так…
— Подожди, подожди! — перебил Начитима. — Я пошлю младшего сына за Кутовой. Пусть он тоже тебя послушает.
Прибежал Кутова, и тогда Потоша начал свой рассказ.
Огота струсил, как только мы вышли из пуэбло. Все время он говорил о свирепом нраве медведей, вспоминал, сколько раз нападали они на мужчин, женщин и детей нашего и других пуэбло. Несколько раз он говорил, что подвергает себя страшной опасности, отправляясь на охоту с луком и стрелами, когда нужно было взять ружье. Наконец мне надоели его причитанья, и я сказал:
— Если бы ты раньше об этом подумал, ты бы придержал язык и не хвастался, а теперь помолчи. Довольно болтать о медведях, лучше ты нам покажи, как ты их убиваешь.
Он ничего не ответил, переглянулся с советчиком из своего клана, и оба злобно на меня посмотрели.
Мы поднялись по склону горы к просеке Узкий Перешеек и осмотрели брошенные нами остатки добычи. Здесь все еще пировали медведи, волки и койоты; они растащили кости и обглодали оставшееся на них мясо. Несколько дней сторожили мы у края просеки, видели черных медведей, волков и койотов, возвращающихся к недоеденным тушам, но бурого медведя с длинными когтями мы не видели ни разу, хотя он тоже приходил сюда по ночам. У ручья в начале каньона мы нашли отпечатки его лап, и я измерил: моя рука четыре раза укладывалась на отпечатке лапы от пятки до конца когтей. Увидев это, Огота зажмурился.
К вечеру пятого дня мы заметили двух маленьких бурых медведей, объедавших оленью тушу. Хонани посоветовал Оготе убить одного из них. Я же сказал, что убить он должен большого медведя, а маленькие в счет не идут. Огота сразу со мной согласился.
Наша стоянка находилась у ручья, на склоне горы. Ночью и днем мы спали, а утром и вечером ходили выслеживать медведя. Так прошло несколько дней, а мы все еще его не видели. Вчера утром у подножья горы мне удалось подстрелить оленя. Огота и Хонани предложили отнести мясо в лагерь и устроить пиршество, но я им сказал, что добыча принадлежит мне и я распоряжусь ею иначе. Я настоял на том, чтобы они помогли мне перетащить убитого оленя на просеку, где мы нашли накануне обглоданные медведем кости.
— Дело сделано, — сказал я. — Бурый найдет тропу, по которой мы тащили мясо, и по следу придет сюда. Теперь остается только сделать прикрытие. Огота, принимайся за работу. Плетень мы поставим здесь, — и я остановился в нескольких шагах от оленьей туши.
— Нет, нет! Это слишком близко, слишком близко! — закричал Огота. — Вот хорошее место для прикрытия!
И он отбежал шагов на пятьдесят от оленя.
— Слишком далеко, — ответил я. — Тебе трудно будет попасть в цель, и стрела вонзится неглубоко. Но делай как знаешь, ты охотник. Мы поможем поставить плетень там, где ты хочешь.
Втроем мы поставили плетень в пятидесяти шагах от оленя и, захватив с собой несколько кусков мяса, вернулись в лагерь.
Я думал, что медведь найдет тушу только ночью, но на всякий случай предложил подняться вечером на утес, откуда видна была просека. Солнце склонилось к западу, когда мы добрались до утеса. Мы ясно видели оленью тушу, лежавшую посреди просеки. Над ней кружились сороки, но зверей поблизости не было. Все ниже опускалось солнце и наконец скрылось за горой. Когда стемнело и мы стали собираться в обратный путь, из леса вышел старый бурый медведь, почуявший запах мяса. Приблизившись к туше, он обошел вокруг нее, потянул носом воздух и вдруг, рванувшись вперед, громко заревел и начал есть. Медведь был большой, очень большой, и ревел он оглушительно громко.
— Вот, Огота, тот медведь, которого мы ждали! — сказал я. Сейчас слишком темно, и ты не можешь спустится к плетню. Ты убьешь его утром, потому что утром он непременно вернется доедать тушу. Огота ничего мне не ответил, и Хонани тоже промолчал. Я стал спускаться с утеса, а они последовали за мной, но потом отстали, и дальше я пошел один. Когда они вернулись в лагерь, Хонани подошел ко мне и сказал:
— Потоша, это очень большой медведь, и Огота подвергает себя страшной опасности. Мне кажется, мы оба должны сопровождать его завтра утром и вместе с ним спрятаться за прикрытием и ждать медведя.
— Хонани, — ответил я, — условия охоты ты знаешь не хуже меня. Огота один пойдет на медведя. Мы с тобой проводим его только до утеса и оттуда будем следить за ним.
— Хорошо, — сказал Огота, — но так как медведь очень большой, то я имею право взять не только лук и стрелы, но и ружье Хонани. С ружьем спрячусь за прикрытием и буду ждать медведя.
— Сам летний кацик утвердил правила этой охоты, — возразил я. Он запретил брать ружье. Ты возьмешь лук и стрелы или не пойдешь на медведя.
— Ха! Понимаю! — закричал Хонани. — Ты идешь против нас. Ты хочешь, чтобы победа досталась этому наваху!
— Ты ошибаешься, я хочу только, чтобы Огота соблюдал все правила, — ответил я.
Больше они не сказали ни слова.
На рассвете я разбудил обоих, и мы стали спускаться с горы. На востоке забрезжил свет, когда мы подошли к утесу. Я посоветовал Оготе поскорее спрятаться за плетнем, но он все мешкал. Наконец взошло солнце, и мы увидели, что медведя нет около убитого мной оленя. Тогда только Огота спустился с утеса и медленно пошел к плетню.
Сороки и вороны уже слетелись к туше, сарычи кружились над ней. Два койота выбежали из леса и начали обгладывать кости. Вдруг они потянули носом воздух и убежали на восток.
— Бурый медведь идет, — сказал я, обращаясь к Хонани.
В эту минуту на просеку медленно вышел медведь. Подойдя к туше, он обнюхал ее со всех сторон и лениво стал отрывать кусочки мяса. Вечером он сытно поел и еще не успел проголодаться. Мы следили за ним и недоумевали, что делает Огота, почему он не стреляет, когда бурый поворачивается к нему широкой спиной. И вдруг мы увидели Оготу: на четвереньках он быстро полз на восток и через несколько минут скрылся в лесу.
— Вот и конец охоте! — воскликнул я.
Хонани ответил не сразу.
— Это очень большой медведь, — сказал он наконец. — Я уверен, что будь ты на месте Оготы, ты бы тоже не посмел в него стрелять.
Я промолчал и задумался, ибо не знал, как бы я поступил, если бы сидел там, за плетнем. Молча смотрели мы на бурого медведя с длинными когтями. Он поел и ушел на запад, в лес. Тогда подошел к нам Огота. Он ничего не сказал и даже не взглянул на нас.
— Почему ты не убил его? — спросил Хонани.
Он ничего не ответил.
— Испытания ты не выдержал. Конец охоте, — сказал я, а он кивнул головой. — Но если с тобой случилось что-нибудь неладное, ты имеешь право попытаться еще раз.
Он отрицательно покачал головой.
— Значит, мы можем идти домой, — сказал я.
Мы начали спускаться с горы. На просеке мы увидели оленей и индюков. Хонани и я выпустили несколько стрел, но ни одна не попала в цель. Вот почему мы вернулись так поздно.
Так закончил Потоша свой рассказ. Все молчали. Наконец Начитима обратился ко мне:
— Сын мой, через четыре дня ты пойдешь в горы и убьешь бурого медведя.
Я посмотрел на Потошу и видел, как он покачал головой. Он не одобрял этого решения. Он сам не отважился бы идти на бурого. Мог ли надеяться на успех я, неопытный стрелок! Я бранил себя за то, что бросил вызов Оготе. Мысль о предстоящей охоте приводила меня в ужас, и в ту ночь я почти не спал.
Утром, когда мы завтракали, пришел Кутова и сказал Начитиме:
— Самайо Оджки, я очень встревожен. Нашего охотника будет сопровождать Тэтиа из клана Огонь. Его избрали советчиком.
— Ха! Это лукавый человек! Ты должен следить за ним. Я знаю, он постарается сделать все, чтобы опозорить моего сына.
— Тяжело было у меня на сердце. Я знал, что Тэтиа всегда меня ненавидел.
— Мы притворимся, будто видим в нем друга, но будем внимательно следить за ним, — отозвался Кутова.
Начитима пристально посмотрел на меня и сказал:
— Сын мой, ты не хочешь идти на охоту?
— Не хочу, — ответил я. — Я боюсь бурого медведя. Но как бы я его ни боялся, я знаю, что должен его убить.
— Ты хорошо сказал. Мы сделаем все, чтобы тебе помочь. Ты можешь взять мой лук и стрелы. А теперь идем! Каждое утро ты будешь упражняться в стрельбе, а вечером наш летний кацик расскажет тебе историю народа тэва и древние наши предания. Я просил его об этом, и он обещал исполнить мою просьбу.
Мы спустились к реке — Начитима, мой брат и я. Чтобы не притуплялись наконечники стрел, мы взяли вместо мишени пук соломы. У Начитимы лук был очень тугой, и я с трудом мог его сгибать. В то утро я стрелял очень плохо. На следующий день дело пошло лучше, а утром третьего дня почти все мои стрелы попадали в цель, и Начитима остался мною доволен.
— Ты стреляешь не хуже меня, — сказал он.
По вечерам я ходил к летнему кацику, и он рассказывал мне историю народа тэва. Меня сопровождал Одинокий Утес. В первый вечер старик стал задавать нам вопросы и убедился, что мы понятия не имеем о древних преданиях тэва, но очень хотим их узнать. Вот что он нам рассказал:
— Под нами находится подземный мир, и некогда там жили тэва. Много лет назад они нашли дорогу, поднимавшуюся наверх, и эта дорога привела их на землю. Выход из подземного мира находится к северу от нашего пуэбло. Когда люди поднялись на землю, было холодно и темно, и они стояли испуганные и ошеломленные. Но вскоре на небе показался наш отец Солнце и позаботился о первых тэва. Он разделил их на два народа — летний народ и зимний народ, и назначил им вождей — летнего и зимнего кациков. Зимний народ он послал на восток — в холодные прерии, где водятся бизоны, а летнему народу велел идти на юг, в теплую долину Рио-Гранде. Спустя много лет зимний народ тоже пришел в эту долину. И с тех пор у летнего и зимнего народов всегда были кацики — летний и зимний. Эти двое не пользуются одинаковой властью: решающее слово всегда принадлежит летнему кацику, и он является старшим вождем в пуэбло. Жена Солнца — мать Луна — также помогала тэва и учила их охотиться и работать. Полученные сведения передавались из поколения в поколение.
Мы оба внимательно слушали старого кацика, хотя многое казалось нам смешным. Очень хотелось мне быть принятым в среду тэва, и ради этого я готов был слушать хоть до утра. Многие древние предания мне понравились.
На третий день старик закончил свой рассказ и сказал нам, что теперь мы — настоящие тэва и знаем не меньше, чем другие жители пуэбло. Я очень обрадовался и открыл ему свое заветное желание: я хотел стать членом Патуабу. Старый кацик улыбнулся и ответил:
— Хорошего охотника принимают в Совет воинов. Смелый воин становится военным вождем и членом Патуабу.
— Понимаю. Дай мне указания, и я буду им следовать! — воскликнул я.
— Хорошо. Путь будет тебе указан. Но помни, что тебя ждут тяжелые испытания, — ответил он.
Когда мы вернулись домой, на крыше перед нашим домом я увидел Чороману. Она ждала меня.
— Завтра ты уйдешь, — сказала она. — О, будь осторожен! Поступай так, как посоветует тебе мой отец. Не прислушивайся к советам этого злого Тэтиа. Он думает только о том, чтобы повредить тебе.
— Тэтиа не причинит мне зла, я его знаю, — сказал я.
— Сегодня на закате солнца Огота вышел на северную площадь в первый раз с тех пор, как вернулся, и знаешь, что он сказал? продолжала она. — Он сказал, что нарочно не убил медведя. Хотел доказать, что ты трус и убежишь, как только увидишь, какой этот медведь большой и страшный. А тогда он, Огота, вернется со своими советчиками и убьет его.
— Огота боялся показаться на площади, пока не придумал этой сказки. А думал он долго.
— Да, но многие ему верят.
— Члены тайного совета Патуабу знают всю правду, и мне нет дела до того, что думают другие.
— Уампус! О мой будущий муж! Как я боюсь за тебя! Ты будешь осторожен? Обещаешь?
— Да.
Она прижалась ко мне, и, обнимая ее, я поклялся беспрекословно следовать советам Кутовы.
Келемана крикнула нам, что ужин готов, и мы вошли в дом.
Начитима и Кутова сидели в комнате, обращенной на запад, и вели тихую беседу. Я знал, что они говорят обо мне и о предстоящей охоте. Келемана позвала их ужинать, и они присоединились к нам. Кутова зорко посмотрел на меня (я сидел рядом с Чороманой), потом отозвал девушку в дальний угол комнаты и что-то ей шепнул. У меня сжалось сердце: я боялся, что он недоволен нашей дружбой.
Вдруг за моей спиной раздался голос Чороманы:
— Охотник, закрой глаза! Сейчас же закрой глаза!
Я повиновался и почувствовал, что она надевает мне что-то на шею.
— Теперь смотри! — крикнула она.
Я открыл глаза. Чоромана надела мне на шею ожерелье из бирюзы. Я посмотрел на подвеску: это было изображение горного льва, считавшегося у тэва священным животным, покровителем охоты.
Я вскочил и повернулся к ней:
— Как! Ты даешь мне этот талисман?
Она кивнула; губы ее дрожали; казалось, она не могла говорить. За нее ответил Кутова:
— Да, она дает его тебе. Это ее талисман. Ее дед из клана Канг, бывший некогда нашим Самайо Оджки, подарил ей этот талисман и дал наказ, о котором скажет тебе она сама.
Улыбаясь, они переглянулись с Начитимой и Келеманой.
— Отец, не сейчас! — воскликнула Чоромана. — Я скажу ему позднее.
— Поступай, как хочешь, — ответил он.
Как я был счастлив, получив от Чороманы ожерелье! От радости я почти ничего не ел за ужином. Потом Начитима и Кутова спустились в киву, а Келемана с моим братом пошли за водой. Мы остались одни.
— Теперь скажи мне, — попросил я.
— Мой дед горячо меня любил, — начала она. — Давая мне этот талисман, он сказал: «Я даю тебе его с одним условием: когда ты вырастешь, ты поступишь так, как я тебе сейчас скажу». — «Хорошо», согласилась я. «Повторяй за мной слова клятвы», — продолжал он. «Обещаю моему старому деду, который горячо меня любит, что я никогда не выйду замуж за недостойного человека. Обещаю, что спутником моей жизни будет человек храбрый, добрый, великодушный и работящий. Когда я найду такого человека и узнаю, что он меня любит, я отдам ему талисман священного льва и помогу ему сделаться вождем в нашем пуэбло».
Вот что сказала мне Чоромана, когда мы сидели вдвоем возле очага. Если бы ты знал, как глубоко взволновали меня ее слова! С трудом я выговорил:
— Из всех юношей этого пуэбло ты выбрала меня, человека другого, враждебного вам племени?
— Не все ли равно, кем ты был! — воскликнула она. — Теперь ты тэва!
— Да, да! Теперь я тэва!
Она отвернулась и стала смотреть на огонь, в волнении перебирая пальцами бахрому платья. Потом взглянула на меня и снова отвернулась. Я понял, что она хочет что-то мне сказать.
— Что такое? Ты о чем-то умолчала?
— Да. Мой дед заставил меня повторить слова клятвы: «Обещаю, что я не выйду замуж за моего избранника, пока он не сделается членом Патуабу».
— Ну, что ж! Мы оба знаем, что друг другу мы будем верны. Мы можем подождать. Не забудь, что и тебе и мне только по семнадцать лет, — напомнил я ей.
— Да. А пока Келемана позволит мне заботиться о тебе. А завтра… завтра ты пойдешь искать этого страшного медведя! О, мой будущий муж!
— Подумай, какое будет счастье, если я найду его и убью. После этого первого испытания мне легче будет стать членом Патуабу. Как я рад, что бросил вызов Оготе!
— О, если бы тебе удалось выдержать испытание! — воскликнула она, сжимая руки.
Послышались шаги Келеманы и брата, и больше мы не сказали ни слова.
6. КОНЕЦ ОХОТЫ
На следующее утро мы встали очень рано, а на восходе солнца пришли Кутова и Чоромана и позавтракали вместе с нами.
Когда мы поели, явился Тэтиа и, усмехаясь, остановился в дверях.
Втроем мы вышли из пуэбло. Впереди шел Кутова, за ним я, а за мной по пятам следовал Тэтиа. Я чувствовал, что он обжигает меня злобным взглядом.
Всю дорогу он молчал, а к полудню мы вышли на просеку. Здесь мы нашли обглоданные кости животных, убитых нами во время последней большой охоты. Тэтиа предложил остаться здесь и посмотреть, не придет ли сюда большой бурый медведь. Но Кутова возразил, что не стоит понапрасну тратить время — медведь эти последние дни питался тушей оленя, убитого Потошей, и мы должны пойти туда и посмотреть, все ли он съел. Когда мы шли к подножью горы, нам попадались на пути олени, лоси и дикие индюки, а в конце просеки мы после недолгих поисков нашли то место, где не так давно лежала туша. Медведь и другие хищники сожрали ее; остались от нее только обрывки шкуры да обглоданные кости. Тогда Кутова сказал, что нам остается сделать только одно: убить другого оленя или лося и ждать, не придет ли бурый на новую приманку. Тэтиа тотчас же согласился.
Два дня охотились мы на просеке, и наконец Кутова, который захватил с собой ружье, подстрелил большого лося.
Все это время Тэтиа только и говорил, что о страшной силе и жестокости бурых медведей, припоминал, сколько тэва они растерзали и искалечили. Эти разговоры он вел для того, чтобы запугать меня. А я был испуган, я трусил так, что при одной мысли о бурых медведях меня начинало тошнить.
Кутова подстрелил лося на южном склоне горы Обсидиан; раненое животное пыталось убежать, но пало на широкой просеке, спускавшейся к южному каньону. Лось лежал на середине просеки, на расстоянии ста шагов от леса, где журчал ручей. Когда мы потрошили животное, Тэтиа сказал, что он очень беспокоится и жалеет меня: лес очень далеко, и если первая стрела не убьет, а только ранит медведя, зверь догонит меня и растерзает на части раньше, чем я успею добраться до леса и влезть на дерево. На это мы не ответили ему ни слова.
Кутова предложил поставить плетень, за который я должен был спрятаться. Тэтиа стал возражать: не стоит тратить время и силы, плетень мы поставим, когда убедимся, что бурый нашел тушу. Но Кутова настоял на своем. Так как ветер дул с запада, плетень мы поставили к востоку от туши, шагах в пятнадцати от нее. Тэтиа отказался нам помочь, а когда мы хотели протащить куски мяса на восток, чтобы медведь нашел тушу по нашему следу, он заявил, что мы можем обойтись без его помощи, а он вернется в наш лагерь и приготовит ужин.
Мы расстались. Кутова и я пошли на восток, волоча по траве огромные куски мяса, а Тэтиа повернул на север. Когда мы вошли в лес, Кутова остановился и сказал:
— Тэтиа пойдет на все, чтобы помешать тебе. Прикрытие он хотел поставить позднее, чтобы бурый, придя во второй раз к туше, увидел плетень, которого раньше не было. Тогда медведь мог бы встревожиться, броситься к плетню и растерзать тебя раньше, чем ты успел бы натянуть тетиву. Вернемся на опушку леса и посмотрим, что делает Тэтиа.
Мы спрятались в кустах и стали ждать. Тэтиа не было видно, но вскоре он вышел на просеку и направился к убитому лосю. В нескольких шагах от него он остановился и опустился на колени; высокая трава закрывала его до пояса. Он наклонился, и нам показалось, что он роет яму. Потом он встал, расправил примятую им траву и пошел на север, по направлению к лагерю. Тогда тронулись в путь и мы.
— Хорошо, что мы вернулись и выследили его, — сказал Кутова.
— Что он там делал? — спросил я.
— Я догадываюсь, но еще не уверен. Мы все узнаем, когда вернемся на просеку.
У подножья гор мы повернули на север, дошли до каньона, потом свернули на запад и наконец снова вышли на просеку, отыскав то место, где стоял на коленях Тэтиа, мы нашли пару старых мокасин, прикрытых сухими листьями, ветками и травой.
— Я так и знал! Запах человека с подветренной стороны! воскликнул Кутова.
Я посмотрел на него, потом перевел взгляд на мокасины. Он догадался, что я ничего не понимаю, и стал объяснять.
— Бурые медведи обычно избегают людей и на них не нападают. Только когда они ранены или удивлены, приходят они в бешенство. Запах, оставленный здесь нами, скоро рассеется, но запах спрятанных поблизости мокасин будет держаться несколько дней. Тэтиа надеялся, что бурый, почуяв запах человека, повернет назад и больше никогда сюда не придет. Вот почему он спрятал здесь свои старые мокасины.
— Отдай их мне! — попросил я. — Я покажу их ему и скажу все, что я о нем думаю.
— Нет, он не должен знать, что мы его выследили. Эти мокасины я спрячу за пазуху, а когда мы вернемся в пуэбло, отдам их ему при свидетелях.
Когда мы подошли к лагерю, Кутова еще раз посоветовал мне молчать и делать вид, будто мы ничего не знаем.
Тэтиа нас ждал. За это время он успел поджарить мясо, достать из дорожного мешка маисовые лепешки и принести воды. Пока мы ели, Тэтиа болтал безумолку. Никогда мы еще не видели его таким веселым и разговорчивым. С трудом удерживался я, чтобы не сказать ему: «Мы знаем, почему ты весел, знаем, чему ты радуешься!»
Рано утром мы отправились на просеку и увидели, что лосиная туша еще не тронута. На закате солнца мы снова пошли туда; медведя не было; хищные птицы кружили над мясом. Тэтиа не смог скрыть улыбки.
Солнце высоко стояло на небе, когда на следующее утро мы поднялись на склон горы и, посмотрев вниз, увидели, что часть туши съедена. Тэтиа сердито нахмурился, не понимая, почему запах спрятанных мокасин не спугнул хищника. Кутова посмотрел на меня и засмеялся, но мне было не до смеху. Настала минута, когда я должен был спуститься на просеку, спрятаться за плетнем и ждать возвращения страшного зверя.
— Ну, теперь пойдем туда и осмотрим тушу, — сказал Тэтиа.
— Нет! — воскликнул Кутова. — Хищник почует запах человека, если мы подойдем к лосю. Наш молодой охотник один спустится вниз, а мы с тобой останемся здесь, на склоне горы.
Тэтиа не сказал больше ни слова. Взяв лук и четыре стрелы, я стал спускаться на просеку, а Кутова крикнул мне вслед:
— Сын мой, будь храбрым!
Как я хотел, чтобы до плетня нужно было идти несколько часов, целый день! Чем ближе я к нему подходил, тем медленнее шел. Наконец я спрятался за прикрытием и посмотрел на убитого лося. Задние ноги его были объедены, и я понял, что только гигантский медведь может столько съесть за одну ночь.
Мое прикрытие имело в длину около двух шагов. Внизу еловые ветви были густо переплетены, но вверху между ними оставались широкие просветы, через которые я должен был стрелять. Медведь видит плохо это всем известно. Кутова уверял, что бурый меня не заметит, если я не буду делать резких движений.
День тянулся бесконечно долго. Я садился, вставал, ложился, снова вставал. Когда солнце клонилось к западу, я встал, выпрямился во весь рост и стал смотреть на просеку. Днем ветер дул с запада, потом подул с юга. Наконец солнце скрылось за горой Обсидиан. Скоро стемнеет, и нельзя будет стрелять. Значит, я еще один денек поживу на свете!
Я стоял, не спуская глаз с лося. Вдруг южный ветер донес до меня сильный неприятный запах, и в то же время я услыхал шелест травы. Я повернулся, посмотрел налево и увидел бурого. Он шел мимо моего плетня. Затаив дыхание, я не смел пошевельнуться. Медведь направился к туше, но на полпути остановился и потянул носом воздух. Ко мне он повернулся своей огромной широкой спиной. Я был словно в полузабытьи. Почти ничего не сознавая, я поднял лук, прицелился и выстрелил. Зазвенела тетива. Глухо рыча, медведь припал к земле, потом повернулся и двинулся на плетень; задние его лапы волочились по траве. Часто приходилось мне подстреливать таким образом кроликов, и я сразу понял, что произошло: у медведя поврежден позвоночник. Теперь чудовище мне не страшно!
— Кутова, Кутова, сюда! — крикнул я, выскакивая из-за плетня.
Я подбежал к медведю. Он старался повернуться ко мне мордой, но я оказался проворнее и вонзил одну за другой три стрелы ему в бок. Третья стрела его прикончила. Передние лапы подогнулись, и он уткнулся мордой в траву. Прибежал Кутова.
— Ты убил его! — воскликнул он.
Он обнял меня и прижался щекой к моей щеке. В это время подошел Тэтиа, посмотрел на убитого медведя, но не сказал ни слова.
Кутова повернулся к нему.
— Видишь, Тэтиа, наш молодой охотник выдержал испытание. Мы ему не помогали, он один убил это чудовище. Вот оно лежит! Ты можешь подтвердить, что мы не нарушили правил охоты.
— Да, но это несправедливо, — сказал Тэтиа. — Наваху помог талисман, а у Оготы талисмана не было. Вот почему победителем вышел навах.
— Ты сам знаешь, что, будь он трусом, никакой талисман не помог бы ему.
— А все-таки это несправедливо, потому что у Оготы не было талисмана, — повторил Тэтиа.
— Можешь ли ты поклясться, что не пытался помешать нашему молодому охотнику?
— Да, конечно!
— Возьми то, что тебе принадлежит.
С этими словами Кутова достал из-за пазухи пару старых мокасин и протянул их Тэтиа.
Тот смутился, опустил голову и замолчал.
— Уже поздно, — сказал Кутова. — Пока не стемнело, мы должны выпотрошить медведя. Тогда шкура не испортится, а завтра утром мы придем за ней.
Мы принялись за работу, а Тэтиа стоял поодаль, нахмуренный и недовольный. Немного спустя он сказал, что пойдет домой, так как больше ему нечего здесь делать.
— Хорошо, ступай. И расскажи друзьям, что молодой охотник убил большого бурого медведя, — отозвался Кутова.
Тэтиа пошел на восток, по направлению к пуэбло, и вскоре скрылся из виду.
Через несколько минут, запыхавшись, он прибежал назад и объявил, что едва не наткнулся на отряд навахов. Их было человек сто, и шли они прямо на восток, к нашему пуэбло Покводж. Услышав это, я пришел в ужас и перестал радоваться удаче.
— Кутова, — крикнул я, — мы должны сейчас же вернуться в Покводж и предупредить о надвигающейся опасности.
— А добычу ты хочешь оставить, чтобы она здесь сгнила? Нет! Сначала мы сдерем шкуру, повесим ее на дерево и тогда только отсюда уйдем. Ночь длинная, на рассвете мы будем дома.
Мы сняли шкуру, дотащили ее до леса и повесили на шест, который укрепили между двумя деревьями. Потом мы начали спускаться с горы, а луна освещала нам путь. Шли мы быстро, придерживаясь опушки леса. Было еще темно, когда мы спустились к реке. Здесь мы связали вместе два бревна, положили на них нашу одежду и оружие и, бросившись в воду, поплыли, подталкивая маленький плот. Так переправились мы через реку.
Забрезжил свет, когда мы подошли к Покводжу и разбудили сторожей, дремавших у ворот. Мы с Кутовой побежали на южную площадь, где жил военный вождь, и рассказали ему об отряде навахов, шедших на пуэбло. Он вышел из дома и стал созывать воинов в киву, а я по лестнице вскарабкался на крышу, где меня встретили родные.
— Ну что, сын мой? — спросил Начитима.
Я протянул ему руки.
— Видишь, на моих руках кровь и жир бурого медведя.
Все обнимали меня и хвалили. Вскоре прибежала к нам Чоромана, которая узнала от отца о моей победе. Плача и смеясь, она обняла меня, потом подошла к краю крыши и крикнула, обращаясь к воинам, запрудившим площадь:
— Мой будущий муж — храбрый человек! Он убил большого бурого медведя с длинными когтями. Я горжусь тем, что буду его женой!
Снова и снова повторяла она эти слова, а воины, встревоженные вестью о приближении врага, приостанавливались, смотрели на нее и улыбались. Одни кричали: «Хорошо, хорошо!» Другие поднимали руки к небу и восклицали: «Да будет жизнь твоя счастливой!»
— Военный вождь нас зовет. Я должен идти, — сказал Начитима.
— Я пойду с тобой, — вызвался я.
— Нет! Сначала ты отдохнешь. Позже, быть может…
И он стал спускаться с лестницы.
Меня увели в дом, усадили, заставили умыться и поесть. Снова и снова должен был я рассказывать, как бурый прошел мимо моего плетня, как он заревел и упал, когда стрела вонзилась ему в спину.
— А что делал Тэтиа? — спросил Одинокий Утес.
— И он и Кутова стояли неподалеку. Он видел все.
Больше я не прибавил ни слова. Мы с Кутовой пожалели Тэтиа и условились не упоминать о спрятанных мокасинах.
Я очень устал, глаза слипались. Келемана и Чоромана заставили меня лечь, укрыли одеялом, и я заснул, а проснулся только к вечеру, когда меня позвали ужинать. Пришел брат и сказал, что военный отряд навахов к нашему пуэбло не подходил и никто его не видел. Наши воины спрятались в маисовых полях и решили сторожить всю ночь, а лошадей, которые паслись на лугу, пригнали ближе к пуэбло.
Когда стемнело, лошадей привели на северную площадь; первая смена воинов пришла в пуэбло. Здесь они отдохнули и снова ушли в поля, а в пуэбло вернулась вторая смена. Ночь прошла спокойно. Рано утром военный вождь послал разведчиков выследить врага. Выяснилось, что ночью навахи переправились в низовьях реки на другой берег и двинулись на восток. Должно быть, они задумали напасть на одно из племен, кочующих в прериях.
Два дня спустя, когда мы убедились, что Покводжу опасность не угрожает, Начитима, Келемана, брат и я оседлали лошадей и поехали на просеку за медвежьей шкурой. Мы нашли ее там, где оставили. Шкура была еще мягкая, так как с внутренней стороны ее покрывал толстый слой жира. Когда мы вернулись в деревню, на южной площади собрался народ; всем хотелось посмотреть шкуру. Наконец Келемана и Чоромана разостлали ее на земле. Наш летний кацик, стоявший подле меня, объявил, что он никогда еще не видел такой длинной и широкой шкуры, таких огромных когтей.
— Срежь когти, сделай из них ожерелье и всегда носи его на шее, сказал он мне. — Ты заслужил его. Убить бурого медведя значительно труднее, чем одержать верх над команчем или другими врагами.
Я повиновался, отрезал когти и унес их домой.
Вечером Начитима мне сказал, что в Огапиходже (это селение испанцы называют Санта-Фэ) можно обменять шкуру на ружье. Через несколько дней шкура была высушена, и мы понесли ее в Огапиходж. Я еще ни разу не был в пуэбло белых людей, и все меня удивляло. Дома были очень высоки, на улицах толпился народ. Мы вышли на площадь и расстелили на земле шкуру. Тотчас же нас окружили белые торговцы. Одни предлагали за нее ружье, другие — порох. Какой-то испанец обещал дать несколько бочонков с огненной водой. Я не знал, что это такое, и вопросительно посмотрел на Начитиму, но он нахмурился и сердито покачал головой. Позже он мне объяснил, что испанцы всегда предлагают индейцам огненную воду, которую называют виски. Но от виски люди заболевают, слабеют и скоро умирают, а испанцам это наруку, так как они давно уже хотят завладеть всей нашей страной.
Наконец я продал шкуру одному белому торговцу, который дал мне за нее ружье, бочонок пороха и две красивые шали. Эти шали я подарил Келемане и Чоромане.
Спустя несколько дней меня позвали в киву летнего народа. Там собрались все члены Патуабу и несколько воинов. Военный вождь обратился ко мне с такими словами:
— Ты убил большого бурого медведя с длинными когтями. Теперь мы знаем, что ты храбр и не ведаешь страха. Вот почему мы предлагаем тебе войти в Совет воинов. Но ты должен поклясться, что будешь беспрекословно повиноваться твоему военному вождю и, не щадя жизни, защищать от врагов жителей нашего пуэбло и все другие пуэбло тэва. Обещаешь ли ты это исполнить?
— Да, клянусь! — ответил я.
Тогда главный шаман пуэбло заставил меня опуститься на колени и, заклиная меня быть мужественным защитником народа тэва, помазал мне лицо и руки священной красной краской.
Так был я сделан воином тэва, и, начиная с этого дня, многие из тех, кто раньше меня ненавидел или делал вид, будто не замечает, стали приветливо здороваться со мной, когда мы встречались на улицах пуэбло или в полях. Но Огота и другие члены клана Огонь ненавидели меня еще сильнее, чем раньше. Они говорили, что военный вождь сделал промах, приняв меня в Совет воинов, а я, дав клятву сражаться, солгал, так как я — навах — никогда не стану драться против людей моего родного племени.
Действительно, клятва, которую я дал, приводила меня в смущение. Я должен был ее сдержать и знал, что сдержу, когда настанет для меня час испытания, но больше всего на свете не хотелось мне сражаться с навахами.
Вскоре после того, как мы убрали маис с полей, я возвращался поздно вечером домой. Было уже темно, когда я вышел на южную площадь. Вдруг кто-то меня окликнул, и по голосу я узнал Поаниу, хранительницу священной змеи.
— Это ты, Уампус? — спросила она.
— Да.
— Я давно уже тебя поджидаю. Следуй за мной.
Ни разу еще эта старуха, член Патуабу, не говорила со мной. Вообще она почти ни с кем не разговаривала. В пуэбло ее уважали и побаивались. Говорили, что она может покарать смертью человека, который навлечет на себя ее гнев.
Я растерялся и молчал, а она повторила:
— Следуй за мной.
Я повиновался, и она привела меня к своему дому в переулке, где находились дома клана По (Вода). Я никогда не видел, чтобы сюда входил кто-нибудь, кроме нее. Даже члены Патуабу не переступали порога ее дома. Здесь жила священная змея. Часто я говорил, что мне бы хотелось ее посмотреть, но сейчас я думал только о том, как бы уйти. Я остановился, попытался сказать, что меня ждут дома, но почему-то не мог выговорить ни слова. Она снова повторила:
— Следуй за мной.
Дрожа и с трудом переводя дыхание, я вошел в дом, а она тотчас же завесила дверь тяжелой шкурой.
7. ОПЕРЕНИЕ ОРЛА
В очаге догорали дрова. Старуха разгребла золу, раздула огонь и подбросила дров. Потом повернулась и приказала мне сесть. Я окинул взглядом низкую узкую комнату и заметил в дальнем ее конце дверь, заставленную решеткой из ивовых прутьев. Старуха поймала мой взгляд и, кивнув мне, сказала:
— Да, там, за решеткой находится священная змея.
Не успела она выговорить последнее слово, как змея подползла к решетке и подняла голову. Я не верил своим глазам — эта голова была величиной с два моих кулака! Змея поднималась все выше и выше, казалось, она обнюхивает решетку и ищет выхода. Никогда еще я не видел такой толстой и длинной змеи. Молча смотрел я на нее, старуха тоже молчала. Наконец змея соскользнула на пол и медленно уползла в темноту. Тогда только Поаниу заговорила:
— Юноша, лишь очень немногие, кроме членов Патуабу, видели священную змею. Тебя я привела сюда и разрешила ее увидеть потому, что ты совершив великий подвиг, убив большого бурого медведя. Ты храбр и сумеешь оказать мне услугу. Я знаю, ты достанешь то, что мне нужно.
— А что же тебе нужно? — спросил я, когда она умолкла.
— Орлиные перья и пух для молитвенных палочек. Мой запас истощился. Я хочу, чтобы ты поймал орла и принес мне его перья.
— Но я никогда не ловил орлов. Я не знаю, как…
— Ты скоро узнаешь, как это делается. Наш Самайо Оджки — твой добрый отец Начитима — все тебе расскажет, и ты пойдешь к западне священной змеи на развалинах пуэбло Тонкое Дно.
Я ничего не понимал.
— Какая западня? — с недоумением спросил я.
— Начитима все тебе объяснит, — нетерпеливо перебила она. Обещаешь ли ты сделать это для меня?
— Да, постараюсь,- ответил я.
— Хорошо. Я знаю, что ты добьешься успеха. Не забудь, что я член Патуабу и, следовательно, могу тебе помочь. Хотя я одинокая старуха, но мне известно все, что происходит в нашем пуэбло. Я знаю, о чем ты говорил не так давно с твоей доброй матерью Келеманой: ты сказал, что хочешь сделаться членом Патуабу. Тогда я впервые посмотрела на тебя внимательно. А теперь ступай. Я должна идти к священной змее.
Смущенный, я вышел и поспешил домой. Мне хотелось рассказать обо всем Начитиме. И он и Келемана очень обрадовались; по их словам, Поаниу оказала мне великую честь, поручив достать орлиные перья. Они решили проводить меня до развалин пуэбло, где находилась западня священной змеи, а Начитима обещал рассказать мне все, когда мы туда придем.
Два дня спустя мы вышли из Пуэбло. Кроме нашего семейства, в путь отправились Кутова с женой и Чороманой, Потоша, его жена и наш старый летний кацик с женой. Мы переправились через реку, спустились в долину и стали подниматься по старой «тропе Древних людей», которая вела к заросшему лесом плоскогорью.
Было после полудня, когда, поднявшись на высокую скалу, мы посмотрели вниз и увидели развалины пуэбло, которое на языке индейцев-кверис называется «Тиуони». Тэва назвали это пуэбло «Тонкое Дно», потому что некогда жившие здесь гончары выделывали глиняную посуду с очень тонким дном. Внизу, на северном склоне узкой долины, виднелись полуразвалившиеся дома и развалины нескольких кив. С горы сбегал ручей, который некогда орошал маисовые поля Древнего народа.
Начитима сказал мне, что с того места, где мы стоим, видна лишь часть развалин. По узкой тропинке, извивавшейся между скалами, мы спустились в долину, и я увидел вырытые в белых скалах пещеры, в которых много лет назад жили люди. Одна пещера находилась над другой, и скалы походили на трехэтажные дома.
Наш кацик повел нас в большую пещеру, находившуюся в стороне от пуэбло, и сказал, что она будет служить нам жилищем. Мы оставили здесь нашу поклажу — одеяла и съестные припасы, а я, подойдя к старику-кацику, спросил, почему люди покинули это пуэбло и кто обратил его в развалины!
— Много лет назад, — сказал мне кацик, — здесь, в этой долине, и в других горных долинах жили наши предки тэва. Конечно, и потомки их остались бы здесь, если бы не напали на них навахи и апаши. Эти дикие племена пришли с севера и стали воевать с мирным народом тэва. С горных вершин они стреляли в людей, работавших на поле, сбрасывали с гор каменные глыбы на дома, лепившиеся у подножья скал. Кончилось тем, что тэва вынуждены были уйти отсюда. Вот почему эта плодородная долина стала необитаемой.
— Горько мне думать, что навахи — мое родное племя! — воскликнул я.
— Но теперь ты тэва, настоящий тэва! — перебила меня Келемана.
— Да, и ты и Одинокий Утес стали настоящими тэва, — сказал старый кацик. — Я знаю, что вы оба никогда не будете обижать мирных людей.
Одинокий Утес улыбнулся и закивал головой, и у меня тоже стало легче на душе.
Кутова, Потоша и брат пошли на охоту, а мы с Начитимой и летним кациком отправились в киву Оперенной змеи, выстроенную Древним народом в большой пещере. Крыша кивы давно провалилась, часть стены рухнула, но кое-где еще сохранились изображения Оперенной змеи и отца Солнца, нарисованные на стене красной и желтой красками.
Старый кацик остался в киве, а я с Начитимой поднялся по узкой крутой тропинке на вершину скалы. Здесь, у самого края пропасти, находилась западня для орлов. Это был четырехугольный сруб из подгнивших сосновых бревен; ветром давно снесло с него крышу. Мы остановились в нескольких шагах от сруба, и Начитима сказал мне, что это и есть западня Поаниу, хранительницы священной змеи. Здесь — и только здесь, над кивой Оперенной змеи, — ловят орлов для Поаниу.
Мы покрыли сруб новой крышей из тонких палок, хвороста и травы, затем Начитима подробно рассказал мне, что нужно делать, чтобы поймать орла.
На закате солнца мы спустились в долину и вернулись в старую пещеру. Наши охотники убили оленя, и мы поели оленины и маисовых лепешек.
Начитима разбудил меня незадолго до рассвета. Взяв ружье, я вместе с ним отправился в путь и на склоне горы убил большого индюка. Потом мы поднялись на скалу, где находился сруб, и крепко-накрепко привязали индюка к средней палке крыши. После этого Начитима разрезал ему грудь, обнажив сердце, и помазал кровью его перья. Отодвинув хворост, я влез в западню, а Начитима снова прикрыл отверстие ветками и, пожелав мне успеха, удалился.
Сквозь просветы в крыше виднелось небо, а между бревнами в срубе были щели, и я мог смотреть вниз, в долину. Вскоре я увидел Келеману и Чороману; они вышли на опушку леса, сели на берегу ручья и посмотрели вверх, на сруб. Еще накануне они мне обещали прийти сюда и ждать, пока мне не посчастливится поймать орла. Внезапно я почувствовал прилив любви к ним обеим. Я был уверен, что нет на свете женщин добрее и великодушнее, чем моя мать и будущая моя жена. И они меня любили — это я знал и был счастлив. Мне захотелось стать достойным их любви, ради них совершить великие подвиги.
Каркая, прилетел ворон, опустился на крышу сруба, посмотрел на индюка и направился к нему. Я просунул в отверстие прут, который дал мне Начитима, и ударил им птицу. Испуганный ворон вспорхнул и перелетел на ветку сосны, которая росла неподалеку. Оттуда он посмотрел вниз, на крышу сруба, словно старался угадать, кто его ударил. «Кра, кра!» каркал он, и вид у него был такой глупый, что я невольно расхохотался. Через несколько минут он вернулся: видно, очень хотелось ему полакомиться индюком. Тогда я еще раз сильно ударил его прутом, и он быстро улетел.
На сруб опустились сарычи и еще несколько серых хищных птиц, но ни одной из них я не позволил отведать лакомого кушанья. Они улетели и уселись на ветвях деревьев, которые росли у края пропасти. Я слышал, как они сердито кричали, словно спорили, кому из них лететь к срубу, чтобы узнать, кто их прогнал. Наконец одна из птиц — должно быть, самая смелая — снова опустилась на сруб, но я больно ударил ее, и больше она не повторяла своей попытки.
Эта возня с птицами меня позабавила и сократила часы ожидания. Было около полудня, когда над моей головой раздался какой-то гул. Начитима меня предупреждал, что этот шум возвещает приближение орла. Потом все стихло, и я увидел, что на край крыши опустилась большая птица. Это был орел. Сначала он сидел неподвижно. Мне было плохо видно его, но я догадывался, что он смотрит на индюка. Я затаил дыхание. Я боялся, что он услышит биение моего сердца. Со мной было мое ружье, и я мог бы легко его пристрелить, но Начитима объяснил мне, что тогда Поаниу не возьмет перьев. Орла я должен поймать живым и потом задушить. Я весь дрожал, пот лил с меня градом. Я пристально смотрел в отверстие крыши и ждал удобного случая.
Орел встрепенулся, и перья его зашуршали. Неуклюже зашагал он по крыше. Я не спускал с него глаз. Подойдя к индюку, он остановился и сильным острым клювом оторвал кусок мяса. Стараясь не шуметь, я поднялся на ноги, осторожно просунул обе руки в щель между двумя палками и схватил орла за лапы, повыше когтей. Он распростер крылья, пытаясь улететь, и едва не оторвал меня от земли. Хворост и трава, служившие крышей, разлетелись в разные стороны, и я притянул к себе орла. Он размахивал крыльями, царапая мне руки, и пытался выклевать мне глаза. Не успел я опомниться, как он клюнул меня в подбородок. Смотри, шрам остался у меня на всю жизнь.
Я и не подозревал, что орел может оказаться таким опасным противником. Силы мои иссякли. Но огромная птица уже лежала на земле у моих ног. Я придавил ее коленями, не вставал, пока она не перестала дышать. Тогда я перебросил ее через стенку сруба и вылез из западни. Задыхаясь, я упал на землю у края пропасти.
Крича, размахивая руками, Келемана и Чоромана бежали к скале. За ними шли мужчины. Я взвалил орла на спину, взял ружье и, шатаясь, зашагал по тропинке им навстречу. Старый кацик взял из моих рук птицу, осмотрел ее оперение и не нашел никаких недостатков. Все меня хвалили. У меня сильно болел подбородок, но я был так счастлив, что забыл о боли. Кацик объявил, что он сам снимет оперение и от моего имени передаст его Поаниу. Я очень обрадовался, так как Начитима обещал мне пойти на охоту.
Мы все вернулись в пещеру, где остались наши пожитки. Женщины приготовили маисовые лепешки и жирную оленину. Когда мы поели, Келемана и Чоромана сказали, что они боятся оставаться здесь одни, пока мы будем охотиться. Тогда Начитима предложил им идти с нами, а летний кацик попросил нас подождать, пока он снимет оперение. Пока мы отдыхали, он начал осторожно сдирать кожу с орла, стараясь не помять перьев. Вдруг где-то неподалеку раздались громкие голоса. Быстро схватили мы наши ружья и выползли из пещеры, чтобы узнать, кто идет. С первого же взгляда мы узнали индейцев из нашего пуэбло; их было человек сто, мужчин и женщин.
Их привел военный вождь Огоуоза — Облачная Ветвь, который узнал, что Начитима ушел в пуэбло Тонкое Дно. Наши воины хотели идти на охоту, и Огоуоза просил Начитиму отправиться на следующий же день. Решено было начать охоту утром на склоне горы Обсидиан. Начитима взял свой мешок с молитвенными палочками и ушел в дальнюю пещеру, чтобы ночь перед охотой провести в уединении.
Вечером я заметил, что Чоромана задумчива и грустна.
— Что с тобой? — спросил я.
Она ничего не ответила, и я не стал настаивать. Но когда я поужинал и вышел из пещеры, она последовала за мной. Мы уселись на земле под нависшей скалой, и Чоромана шепнула мне:
— Мой будущий муж, Огота меня пугает.
— Что он сделал? — спросил я.
— Смотри!
Она протянула мне руку, и я увидел большой синяк чуть-чуть повыше локтя.
— Я собирала хворост на берегу ручья; он подошел ко мне, схватил за руку и зашипел: «Эй, ты! В последний раз я тебе говорю: брось эту собаку наваха! Я, Огота, буду твоим мужем!» Он хотел еще что-то сказать, но в это время к ручью спустились женщины. Огота до боли сжал мне руку, повернулся и ушел.
Я задрожал от гнева:
— Этому нужно положить конец!
Я хотел было встать, но она удержала меня и воскликнула:
— Нет, нет! Не ходи к нему! О, зачем я тебе рассказала? Я знаю, что Огота не может причинить мне зла. Больше мы никогда не встретимся с ним наедине. Подумай, что будет, если ты отдашься гневу и убьешь его! Его друзья убьют тебя, а мой отец, Начитима и Потоша захотят отомстить. О, неужели ты не понимаешь, что должен держаться от него подальше?
Это я понимал и обещал сегодня не говорить с Оготой, но добавил, что проучу его, если он посмеет снова ее обижать.
— Чоромана, — сказал я, — этому нужно положить конец. Пойдем к твоим родителям, скажем им, что я хочу быть твоим мужем, а ты — моей женой. Тогда Огота не посмеет тебя тронуть.
— О, если бы мы могли это сделать! Но ты забыл о клятве, которую я дала моему деду. Этой клятвы я не нарушу, да и моя мать не согласится, чтобы я стала твоей женой, пока ты не вошел в Патуабу.
— Но зачем, зачем старик взял с тебя эту клятву?
— Он очень меня любил, вот почему ему хотелось, чтобы мой муж был великим человеком и вождем.
— Тяжело у меня на сердце. Кажется мне, что не миновать нам беды, — сказал я.
Ночь спустилась в долину. В пещере развели костер, мы встали, и Чоромана шепнула мне:
— Не бойся. Быть может, нас ждет немало тяжелых испытаний, но я уверена, что все уладится.
В ту ночь я почти не спал. На рассвете вернулся Начитима и, переговорив с Огоуозой, объявил, что пора собираться на охоту.
Вскоре после восхода солнца все охотники выстроились на площадке перед пещерами. Пятерым Начитима велел остаться в разрушенном пуэбло и охранять женщин, а остальным приказал следовать за ним. Включая моего брата, нас было сорок шесть человек; у двадцати четырех имелись не только лук и стрелы, но также и ружья. Мы вышли из долины и поднялись на поросшее лесом плоскогорье. Отсюда ясно видна была вершина священной горы Обсидиан. Казалось, гора находится совсем недалеко и мы дойдем до нее задолго до полудня.
Все шли гуськом по лесой тропинке. Мы с братом старались ни на шаг не отставать от Начитимы. Вдруг Одинокий Утес наступил на развязавшийся шнурок своего мокасина и оборвал его. Пришлось остановиться и починить ремень. Мы с братом остановились, а остальные охотники обогнали нас. С ними был Огота, который злобно посмотрел на меня, но я сделал вид, будто не замечаю его. Я боялся встретиться с ним глазами, так как не надеялся на свою выдержку.
Вскоре мы догнали отряд, но не стали пробираться к Начитиме, а пошли сзади. На широкой просеке Начитима и Огоуоза сделали остановку, но нигде не видно было ни лосей, ни оленей, и через несколько минут мы тронулись дальше. Мы с братом пересекли просеку и только что вышли на лесную тропу, как вдруг раздались выстрелы, громкие крики, и на наших охотников напал отряд индейцев, разукрашенных перьями и разрисованных черной и красной красками. Я узнал их с первого же взгляда — это были уты, близкие друзья навахов; много раз видел я индейцев этого племени в лагере моего отца. В первую минуту я испугался, думая, что на нас напали навахи, но, убедившись в своей ошибке, очень обрадовался. Я увидел, как упали трое из нашего отряда, услышал голоса Огоуозы и Начитимы, призывавших нас стрелять в неприятеля. Я побежал вперед; брат ни на шаг от меня не отставал. Вскоре мы пробились в первые ряды наших воинов и бросились на утов. Военный вождь Огоуоза громко кричал:
— Вперед! Смелей! Стреляйте, стреляйте!
8. ДВЕ СТРЕЛЫ ПОПАЛИ В ЦЕЛЬ
Один только раз видел я, как люди сражаются и убивают друг друга, и это зрелище показалось мне отвратительным. Было это в тот день, когда тэва взяли меня в плен. Сейчас я сам участвовал в битве, но снова испытывал отвращение, хотя и был очень взволнован и возбужден. Мы начали стрелять в неприятеля, находившегося шагах в пятидесяти от нас, и подстрелили несколько человек, но остальные продолжали наступать. Я понял, что не успею зарядить ружье раньше, чем они подойдут к нам вплотную и, следовательно, смогу пользоваться им только как дубинкой. В эту минуту мой брат вскрикнул и уронил лук и стрелы. Я увидел, что у него перебита левая рука.
— Беги, беги назад! — крикнул я ему.
Свое ружье я положил на землю, поднял брошенный им лук и снял колчан, висевший у него за спиной. Больше я не чувствовал отвращения к битве. Меня охватил гнев против этих утов, я хотел жестоко отомстить им за рану, нанесенную брату. Я выстрелил в одного из воинов; стрела вонзилась ему в грудь, и он ничком упал на траву. Многие уты были ранены. Шатаясь и прихрамывая, брели они в лес и прятались за деревьями. Но остальные продолжали наступать. Их вел высокий стройный человек, который размахивал испанским копьем и прикрывал грудь большим щитом, украшенным орлиными перьями. Несколько стрел вонзилось в его щит. Я прицелился, изо всех сил натянул тетиву и выстрелил. Стрела вонзилась ему глубоко в шею. Он выронил копье и щит и обеими руками схватил древко стрелы, стараясь ее вытащить. Потом опустился на колени, покачнулся и упал на бок. Огоуоза и Начитима громко закричали и повели нас в атаку.
Потеряв вождя, уты растерялись. Видя, что мы наступаем, они повернули и побежали в лес. Бегали они хорошо. Мы их преследовали, но догнать не могли.
Наконец наш военный вождь остановил нас. В изнеможении воины опустились на траву. Я оглянулся и увидел, что за моей спиной стоит Одинокий Утес. Здоровой рукой он сжимал ружье, из левой руки струилась кровь.
— Начитима, иди сюда! — крикнул я. — Смотри, он ранен, рука у него перебита, и все-таки он не отставал от нас.
В эту минуту брат покачнулся, теряя сознание; я успел его поддержать и осторожно положил на землю.
Начитима, Кутова, Огоуоза и другие воины подбежали к нам. Военный вождь опустился на колени и, осмотрев руку брата, сказал Начитиме:
— Самайо Оджки, твои сыновья — храбрые юноши!
— Да, да, они храбрецы, — подхватили все остальные.
— Я благословляю судьбу, которая привела их в мой дом, — ответил Начитима.
Вместе с Кутовой он стал вправлять сломанную кость, пока брат был без сознания и не чувствовал боли. Но Одинокий Утес очнулся и сел раньше, чем рука была перевязана. Мужественно перенес он страшную боль и даже не застонал.
У наших воинов только и было разговору, что о битве. Кто-то сказал:
— Если бы не был убит этот вождь с копьем, многие из нас погибли бы сегодня.
— Да! Их было гораздо больше, чем нас, и дрались они храбро, пока вождь был с ними. Пожалуй, они могли бы всех нас перебить.
— Не знаете ли вы, кто его убил? — спросил Огоуоза.
— Может быть, я, — сказал один воин. — Я три раза в него стрелял.
— Я видел, что он упал после того, как я в него выстрелил, отозвался другой.
— Мы узнаем, кто его убил, когда вернемся на просеку, — вмешался третий.
Я хотел было крикнуть, что убил его я, но вовремя спохватился. Ведь в него стреляли многие, и, быть может, не моя стрела оказалась роковой. Мне хотелось поскорей вернуться на просеку, и я с трудом мог усидеть на месте.
Огоуоза и Потоша сделали перекличку, чтобы узнать все ли воины налицо. Пятерых не было с нами.
— Где Тэтиа? — спросил Потоша.- Никто его не видел?
— Он убит, — отозвался кто-то. — Я видел, как он упал.
— Нет и нашего летнего кацика! — воскликнул Огоуоза. — Неужели и он убит?
Все мы любили старика-кацика, и весть о его смерти произвела тяжелое впечатление, но вдруг один из воинов крикнул:
— Он жив, я его видел! Он не мог поспеть за нами и присел на пень, чтобы перевести дух.
— А Огота? Его здесь нет. Он — шестой.
Никто не ответил. Мы вопросительно посматривали друг на друга. Наконец кто-то сказал:
— Я его не видел с той минуты, как завязался бой.
— Я тоже! Я тоже! — подхватили остальные.
Мы недосчитались еще одного человека и решили, что в бою погибло семеро. Затем мы отправились в обратный путь, но шли медленно, так как брату трудно было за нами поспеть. Вскоре увидели мы кацика, ковылявшего нам навстречу. Бедняга запыхался, старые ноги отказывались ему служить. Он был огорчен, когда узнал, что нам не удалось догнать неприятеля.
— Но все-таки вы хорошо сражались, — сказал он. — Я горжусь вами, храбрые мои тэва!
За несколько шагов до просеки мы увидели на тропинке двух убитых утов, а на просеке лежало много трупов. Мы внимательно их осмотрели. Убито было одиннадцать утов и пять тэва.
Оготы мы не нашли.
— Быть может, его ранили, и он спрятался в лесу, — предположил кто-то из нас.
Мы обступили тело убитого вождя утов, и Огоуоза вытащил стрелу, которой он был убит. Стрела стала переходить из рук в руки; воины молча осматривали ее и передавали дальше. Наконец брат взглянул на нее и воскликнул:
— Да ведь это моя стрела!
— Как? Твоя стрела? Значит, ты убил вождя утов? — удивился Огоуоза.
— Нет. Стрела моя, но вождя убил мой брат.
— Так ли это, сын мой? — обратился ко мне Начитима. — Правда ли, что эта стрела пущена тобой?
— Да. Когда брат был ранен, я взял его оружие, — ответил я. Видишь у меня за спиной висит его лук, а в колчане еще осталось несколько стрел.
Все повернулись и смотрели на меня, а старый кацик протянул мне копье и щит убитого вождя утов.
— Возьми, это твое, — сказал он. — Храни их как воспоминание о славном подвиге, который ты совершил сегодня. Не будь тебя с нами, все мы лежали бы на этой просеке.
Воины обступили меня и стали выкрикивать мое имя. Смущенный их похвалами, я не мог выговорить ни слова и дрожащими руками взял щит и копье.
Нам оставалось осмотреть еще одного убитого ута. Начитима наклонился к нему и пристально посмотрел на стрелу, вонзившуюся ему в грудь. Потом он выпрямился и воскликнул:
— Видите эту стрелу? Еще один воин убит моим сыном!
Он вытащил стрелу и показал ее столпившимся вокруг меня воинам. Все смотрели на меня, словно впервые увидели, а Кутова воскликнул:
— Твой сын еще юноша, он в первый раз сражался с врагами и, однако, убил двоих!
— Сын мой, как удалось тебе это сделать? — спросил Начитима.
Но я не знал, что ему ответить. Я был смущен и растерян. Помнил я, что во время боя я был испуган, взволнован, рассержен и ничего не сознавал, ни о чем не думал.
Мы похоронили убитых тэва и отправились в обратный путь. Было далеко за полдень, когда мы добрались до скал, окаймлявших долину, где находились развалины древнего пуэбло. Мы посмотрели вниз, но нигде не было видно ни одного человека. Встревоженные, мы быстро спустились по крутой тропинке и поспешили к пещерам. Велика была наша радость, когда из первой же пещеры выбежали нам навстречу женщины и оставшиеся в пуэбло мужчины. Но теперь мужчин было шестеро, тогда как охранять женщин поручено было пятерым. В шестом мы с удивлением узнали Оготу. Женщины окружили нас; одни смеялись и радостно обнимали вернувшихся родственников, другие тревожно спрашивали о своих мужьях и, узнав о их гибели, начинали плакать.
Когда Огоуоза поднял руку и приказал всем молчать, воцарилась тишина. Военный вождь повернулся к Оготе и резко спросил его:
— Отвечай, как ты попал сюда?
— Когда завязался бой, я увидел, что один из утов бросился в лес и побежал по тропе, ведущей в долину. Я последовал за ним, но вскоре он скрылся из виду. Я боялся, что он проберется в пуэбло и нападет на беззащитных женщин. Тогда я решил вернуться сюда, чтобы предупредить оставшихся здесь воинов и вместе с ними защищать женщин, — не задумываясь, ответил Огота.
Огоуоза молча, в упор смотрел на него. Мы ждали, затаив дыхание. Наконец военный вождь сказал:
— Огота, думаю я, что ты лжец. Думаю я, что ты трус. Должно быть, ты обратился в бегство, как только напали на нас враги, но доказательств у меня нет. По-видимому, никто не заметил, когда ты исчез. Теперь слушай меня: в наш Совет воинов ты не войдешь до тех пор, пока не совершишь какого-нибудь славного подвига и не докажешь на деле, что ты не трус.
— Я не трус. Все было так, как я сказал, — отозвался Огота.
Он еще хотел что-то добавить, но военный вождь повернулся к нему спиной и заговорил с Начитимой. Решено было немедленно вернуться в Покводж.
Вскоре мы вышли из долины и гуськом побрели по тропе. Впереди шел отряд воинов, за ним следовали женщины, а шествие замыкали еще несколько мужчин. В случае нападения с тыла они должны были защищать женщин. Чоромана несла копье, а Келемана — щит вождя утов. Шли они молча. Не слышно было ни смеха, ни шуток; пять вдов оплакивали своих мужей, и мы не смели проявлять радость. В полночь мы спустились к реке, а на рассвете переправились на другой берег и вошли в Покводж. Собравшейся толпе мы рассказали о битве с утами.
Старый кацик вернул мне оперение орла.
— Я передумал, — сказал он. — Ты сам должен передать перья Поаниу, потому что это твоя добыча.
В полдень я подошел к ее дому и окликнул ее по имени. Она велела мне войти, но я колебался. Очень не хотелось мне переступать порог ее жилища и снова увидеть священную змею, которая внушала мне отвращение и страх. Но когда Поаниу вторично приказала мне войти, я невольно повиновался. В маленькой комнатке стоял какой-то странный, неприятный запах. Когда мои глаза привыкли к полумраку, я увидел, что старуха сидит возле очага и пристально на меня смотрит.
— Ты убил орла, — сказала она. — Я знала, что неудачи быть не может. Ни разу еще я не ошибалась в людях. Подай мне оперение.
Молча я протянул ей перья и повернулся к двери. Мне хотелось поскорей выйти на солнечный свет, но она знаком приказала мне сесть против нее, и снова я повиновался, понятия не имея о том, что предстоит мне увидеть и услышать в этой полутемной душной комнате.
Нежно поглаживая длинные перья орла, Поаниу сказала мне:
— Сегодня утром наш летний кацик был здесь, у меня. Мы говорили о тебе.
Я промолчал, недоумевая, что могли они обо мне говорить.
Старуха продолжала:
— Ты поймал орла. Несмотря на то, что он разодрал тебе лицо, ты не выпустил его и задушил. Потом ты сражался с утами и убил двоих вождя и одного из воинов. Ты храбрый.
— Нет, не храбрый, — перебил я. — Мне было страшно, очень страшно, я не сознавал, что делаю. Дрался я с ними только потому, что ничего другого мне не оставалось.
Не обращая внимания на мои слова, Поаниу продолжала:
— Вот почему я хочу тебе помочь.
С этими словами она нащипала пуху, покрывавшего кожу орла, и сделала из него два пучка. Потом оборвала красивые перья на хвосте и, отложив их в сторону, протянула мне пучок пуха.
— Тебе этот пух понадобится для молитвенных палочек, — сказала она. — Перья я тоже тебе отдам, ты их пришьешь к головному убору.
Она встала и отодвинула решетку, заслонявшую дверь в соседнюю комнату. Там послышался шорох, потом какой-то треск. Через минуту раздался голос Поаниу, обращавшейся к своей змее:
— Нет, нет, не сердись! Это я, твоя слуга Поаниу.
Она вернулась, держа на руках огромную змею. Хвост змеи спускался до самого пола. Под тяжестью ноши старуха с трудом передвигала ноги. Сев на свое место возле очага, она опустила змею на пол. Гремучая змея подняла хвост, украшенный погремушками, и поползла ко мне. Я весь похолодел и хотел было вскочить и выбежать из комнаты, но старуха наклонилась, притянула к себе змею, и, поглаживая ее, сказала:
— Нет, нет! Останься здесь, со мной.
И змея, словно, понимая слова старухи, свернулась у ее ног. Я видел, как сверкали ее глаза; она то прятала, то высовывала узкий язычок. На огромном хвосте торчали длинные заостренные погремушки.
Поаниу бросила по щепотке священной муки на все четыре стороны света и затянула заунывную песню, от которой у меня мурашки забегали по спине. Потом взяла связку орлиных перьев и стала поглаживать ими змею по голове. Змея лежала неподвижно; можно было подумать, что это поглаживание доставляет ей удовольствие. Пробормотав какое-то заклинание, Поаниу протянула мне перья и сказала:
— Теперь ты можешь идти. О том, что ты здесь видел, не говори никому, кроме Начитимы и членов Патуабу. Эту церемонию я совершила ради тебя с согласия летнего кацика. Обычно ее совершают только для взрослых воинов, но я хотела наградить тебя за услуги, которые ты оказал мне и всем жителям Покводжа.
— Поаниу, ты очень добра ко мне, — сказал я.
Держа в одной руке перья, а в другой — пух, я встал и направился к выходу. Она ничего мне не ответила, только махнула рукой и снова затянула песню. Змея, свернувшись кольцами, словно застыла у ее ног.
Я пересек площадь, поднялся по лестнице на нашу крышу и здесь встретил Чороману. С торжеством показал я ей подарок Поаниу.
— Молитвенный пух и военные перья! — воскликнула она. — Откуда они у тебя?
— Это перья орла, которого я поймал. Мне их дала Поаниу, ответил я.
Очень хотелось мне рассказать ей обо всем, что произошло в таинственном жилище старухи, но, помня наказ Поаниу, я промолчал. Я сказал только, что хочу прикрепить эти перья к своему головному убору, и Чоромана предложила мне пришить их. Вместе с Келеманой они принялись за работу, а я смотрел на них и прислушивался к их тихому пению. Это был счастливый для меня день.
Вечером, оставшись наедине с Начитимой, я передал ему все, что слышал от Поаниу, а он посоветовал мне хранить это в тайне. У меня было много врагов в пуэбло, и Начитима не хотел, чтобы я разжигал в них зависть.
Приближалась зима. Вместе с братом и Начитимой я ездил в лес за дровами: нужно было запастись топливом к холодному времени года. Обычно с нами отправлялись соседи и друзья. Все мы брали с собой оружие, так как были уверены, что уты следят за нами и ждут удобного случая, чтобы отомстить за своего вождя. Мы не успели запастись дровами даже на первую половину зимы, когда явились к нам из пуэбло Санта-Клара два бегуна. Остановившись на южной площади, они спросили, где наш военный вождь. Огоуоза вышел к ним, и они сообщили ему новость: навахи, команчи, уты и апаши заключили союз и сговорились истребить всех нас, землепашцев. И я и Одинокий Утес — мы оба поняли, что нам предстоит сражаться с навахами, нашим родным народом. Эта мысль приводила нас в отчаяние.
В Покводже и в других пуэбло, расположенных вдоль Рио-Гранде, жители были подавлены и встревожены; они знали, что в любой момент неприятель может напасть на них. День проходил за днем, а враг не давал о себе знать. Наконец пришла зима, и в горах выпал глубокий снег. Теперь мы были уверены, что навахи не смогут перевалить через горный хребет. Олени, лоси, индюки спустились с гор в долину реки, и мы почти каждый день уходили на охоту. Несмотря на сильные морозы, мы по-прежнему ездили в лес, пока не запаслись топливом на всю зиму.
Зимние месяцы прошли спокойно, народ приободрился и повеселел, но с наступлением весны снова вспыхнула тревога. Когда настала пора посевов, мы по очереди уходили в поля. В то время как одни работали, другие охраняли пуэбло, причем женщины должны были помогать мужчинам. Каждый вечер перед закатом солнца Огоуоза назначал на следующий день караульных. Три отряда, по двадцать человек в каждом, отправлялись на север, восток и юг от пуэбло и, спрятавшись за прикрытием, охраняли работавших на полях.
Пора посева подходила к концу, когда мы узнали, что большой отряд навахов напал на людей из пуэбло Санта-Клара, работавших в поле. Многие были убиты.
За это время Начитима, брат и я три раза исполняли обязанности караульных, Огоуоза назначил нас в четвертый раз, объявив, что сам поведет наш отряд на север.
Мы рано улеглись спать, а встали задолго до рассвета. Келемана приготовила нам завтрак, и мы сытно поели. Было еще совсем темно, когда мы, взяв оружие, спустились на площадь, где Огоуоза уже созывал воинов своего отряда. Все выстроились в ряд. Нас было девятнадцать человек, включая самого Огоуозу. Пересчитав нас он спросил, кто же двадцатый.
— Огота, — ответил один из воинов.
— Ха! Ну, конечно! — воскликнул вождь.
— Пойдемте без него, — предложил кто-то.
— Да, таких, как он, нам не нужно! — раздались голоса.
— Нет, он пойдет с нами! Ступайте, приведите его сюда! — сердито крикнул Огоуоза.
Но в эту минуту показался Огота. Шел он медленно, словно нехотя. Побранив его за опоздание, вождь повел наш отряд.
Мы должны были караулить на плоскогорье Черная Меза. Солнце уже всходило, когда мы поднялись сюда. Отсюда мы увидели, что воины южного отряда уже взошли на гору в другом конце долины. Третий отряд скрылся в зарослях можжевельника, покрывавшего холмы на востоке. Утро было безветренное, теплое. Нигде не видно было неприятельских отрядов, но мы знали, что они рыскают в окрестностях. Солнце стояло еще невысоко на небе, когда из пуэбло вышли женщины и мужчины, а затем разбрелись по полям. Я видел, что на нашем участке работают Келемана и Чоромана. Они сеяли маис, исполняли нашу работу, в то время как мы, мужчины, должны были сидеть без дела. С какой радостью пошли бы мы работать в поле, если бы моему народу тэва не грозило нападение навахов, которые тоже не были для меня чужими! Мне стало грустно. Мы с братом сидели в стороне, в нескольких шагах от других воинов. Наклонившись к нему, я сказал на языке навахов:
— Брат, как мне тяжело! Наше родное племя избивает добрых, миролюбивых тэва. Мы должны положить конец этой вражде!
— Пожалуй, легче было бы заставить эту реку течь вспять! грустно отозвался брат.
Вдруг за моей спиной раздался голос Оготы:
— Послушайте-ка! Эти двое разговаривают на языке навахов. Должно быть, они что-то против нас замышляют.
Не знаю, что бы я ему ответил, если бы в эту минуту не раздался возглас Начитимы:
— Смотрите, южный сторожевой отряд увидел неприятеля!
Мы все вскочили. Действительно, по тропинкам, ведущим в долину, бежали, размахивая одеялами, наши воины. Люди, работавшие в полях, заметили сигналы и опрометью побежали по направлению к пуэбло. С холмов на востоке тоже спускались воины из третьего отряда. Мы поняли, что враг идет с юго-востока, вдоль речонки Покводж, которая не была видна с Черной Мезы.
— Наши женщины, дети! Неужели мы не успеем их спасти? Вперед, мои храбрые тэва! Следуйте за мной! — крикнул Огоуоза и первый стал спускаться в долину.
9. ТАЙНЫЙ СОВЕТ ПАТУАБУ НАЗНАЧАЕТ ДЕНЬ СУДА
Приближалось страшное испытание: там, на полях Покводжа, я должен был встретиться с моим родным народом — навахами. Я знал, что среди них могут быть мои близкие родственники. Следуя по пятам за Начитимой, который ни на шаг не отставал от Огоуозы, я думал свою думу. Могу ли я сражаться с родным народом? Нет! Могу ли изменить добрым тэва Келемане, Начитиме Чоромане, — всем, кто меня любит и кого я люблю? Нет! Что же мне делать? Снова и снова задавал я себе вопрос, но не находил на него ответа.
Я был словно в бреду. Смутно я сознавал, что не отстаю от Начитимы, а брат бежит рядом со мной. Мы спустились с плоскогорья и пересекли поля Покводжа. Вдруг я заметил, что мы направляемся не к пуэбло, а на восток, и туда же спешат воины южного отряда, спустившиеся с горы. Не сразу сообразил я, в чем дело, но наконец понял: мы хотели спасти лошадей. Когда настала весна и начались набеги навахов, мы стали загонять лошадей на ночь в пуэбло, а по утрам мальчики под надзором троих взрослых выгоняли их на пастбище. Пастухов назначали старшины кланов. Сегодня утром пастухи погнали лошадей к востоку от пуэбло, а сейчас с помощью подоспевших караульных восточного отряда старались загнать их домой.
Мы соединились с южным отрядом и поспешили на помощь, чтобы окружить табун, когда показались навахи. Их было больше сотни. Быстро мчались они нам навстречу, и снова я услышал дикое пение воинов прерии; когда-то я любил эти песни, но сейчас они показались мне страшными и отвратительными.
Между тем пастухи и караульные уже гнали табун по направлению к пуэбло, а мы бежали им навстречу, чтобы отразить нападение приближавшихся навахов. Но с самого начала было ясно, что мы опоздаем. Нам осталось пробежать еще несколько сот шагов, когда навахи нагнали табун. Они орали, пели, размахивали одеялами и стреляли в пастухов и караульных, окружая в то же время табун. По-видимому, они спешили увести лошадей раньше, чем мы подоспеем на помощь.
Но угнать лошадей было делом нелегким. Наши лошади ночь проводили в сараях, а паслись только днем и за последний месяц сильно отощали. Обессиленные, они не могли бежать от загонщиков; многие отставали и, словно кролики, бросались в кусты, а навахам приходилось возвращаться и подгонять их. Наконец мы подошли к неприятелю, и наши воины начали стрелять.
Я поднял ружье, прицелился в одного из навахов, но почувствовал, что не могу нажать спуск. Оглянувшись на брата, я увидел, что он опустил лук. Тогда я крикнул на языке навахов:
— Друзья! Не угоняйте лошадей! Не обижайте тэва и возвращайтесь к себе домой!
Долго я кричал и от волнения забыл о том, что шум и топот лошадей заглушает мой голос.
Три всадника-наваха отстали от своего отряда, чтобы угнать отбившуюся от табуна лошадь. Один из них оглянулся и натянул тетиву своего лука. Я узнал его: это был Белый Ястреб, младший брат моей покойной матери.
Я высоко поднял ружье и стал размахивать им, чтобы привлечь его внимание. Я закричал, назвал его по имени, побежал к нему, но он даже не взглянул на меня, выстрелил из лука и ускакал.
— Это наш дядя! — воскликнул брат. — Наш дядя Белый Ястреб! О, если бы мы могли с ним поговорить!
Между тем навахи решили бросить отбившихся лошадей. Быстро погнали они табун в горы, а тэва грустно смотрели им вслед, размышляя о том, что теперь всем придется таскать на спине дрова из леса, так как в пуэбло почти не осталось лошадей. Огоуоза велел нам подобрать убитых и раненых, но в эту минуту к нему подбежал Огота.
— Вождь, выслушай меня! — крикнул он.
Указывая пальцем на меня и моего брата, он продолжал:
— Я требую, чтобы ты позволил нам убить этих двоих! Они изменники! Они не хотели драться с нашими врагами. Мы видели, что делал Уампус: он кричал своему родственнику-наваху, чтобы тот нас не щадил! Он размахивал ружьем и уговаривал наваха перебить всех нас. Я это видел! Да и не я один.
— Ложь! Мой сын так не поступит! — крикнул Начитима.
— А ты, Огота, что делал ты во время боя? Я видел, что ты отстал и спрятался в кустах, — сказал Потоша.
— Да, спрятался, потому что не мог сражаться. Тетива лука порвалась, — ответил Огота, поднимая лук, чтобы все видели разорванную тетиву.
— Да уж не ты ли ее перерезал?
— Говорю тебе, она порвалась. Вождь, отдай нам изменников, мы их убьем!
Огоуоза повернулся ко мне:
— Уампус, что скажешь ты?
Нас обступили воины и женщины, прибежавшие из пуэбло. Я заметил, что многие с ненавистью смотрят на меня и брата.
— Вождь, — сказал я, — правда, мы не стреляли в этих грабителей. Увы! Это люди одной с нами крови! Я пытался стрелять, но не мог. Тогда я стал кричать: «Друзья! Не угоняйте лошадей! Не обижайте тэва!» Одного из них я узнал. Это был Белый Ястреб, брат нашей матери, наш дядя. Я размахивал ружьем, чтобы привлечь его внимание, я побежал к нему умоляя оставить нас в покое, но он меня не видел, а если видел, то не узнал…
— Вот! Слышите! Он сам говорит, что не стал стрелять! Вождь, разреши нам убить Уампуса и его изменника брата! — крикнул Огота.
— Да! Убьем навахов! Мы приютили изменников! — раздались возгласы в толпе.
И я увидел, что многие из тех, кого я считал своими друзьями, смотрят на меня злобно.
— Нет! Раньше вам придется убить меня! — крикнул Начитима.
— И меня! И меня! — подхватили Кутова и Потоша.
Келемана, Чоромана и другие женщины бросились к нам. Тогда заговорил старый летний кацик.
— Замолчите! — приказал он. — Всем вам известно, что только мы, члены Патуабу должны решать, как следует поступить с этими двумя юношами. Через пять дней мы соберемся в южной киве, обсудим этот вопрос и вынесем решение.
Никто не посмел возражать кацику. Люди разбрелись по полю, отыскивая убитых и раненых. Убитых было пятеро: два мальчика и трое мужчин; раненых двое: мальчик и воин. Родственники оплакивали убитых, а мы не могли их утешить. В тот день никто не работал в полях. Мы вернулись домой вместе с Начитимой, Келеманой, Кутовой и его семьей. Женщины приготовили для нас сытный обед, но мы с братом были так огорчены враждебным отношением тэва, что ничего не могли есть. Спустившись на площадь, мы заметили, что многие мужчины и юноши, всегда относившиеся к нам дружелюбно, сейчас нас избегают.
Грустные, побрели мы домой. У подножия лестницы нас ждал один из наших друзей. Сначала он осмотрелся по сторонам, словно боясь, как бы кто не увидел, что он разговаривает с нами. Но на площади никого не было. Тогда он прошептал.
— Огота и его друзья обходят одного за другим всех членов Патуабу и стараются восстановить их против вас. Они настаивают на том, чтобы вас убить. Через пять дней члены Патуабу соберутся в киве. Сейчас за вами следят. Сегодня ночью вы можете уйти из Покводжа и вернуться к родному племени. Я хотел вас предупредить, потому что люблю вас обоих.
— Дорогой друг, ничего плохого мы не сделали и не хотим бежать из Покводжа, — ответил я. — Если Патуабу решит, что мы должны умереть… ну, что ж, тогда мы умрем!
— Да, мы не хотим жить, если Патуабу будет так несправедлив к нам! — воскликнул брат.
Наш друг молча ушел, а мы вернулись домой.
Так как навахи угнали почти всех наших лошадей, то мы считали, что теперь можно не опасаться новых набегов. Но Огоуоза не был в этом уверен и вечером назначил караульных на следующий день.
Рано утром Начитима, Одинокий Утес и я вышли на работу в поле. Прикрывая влажной землей маленькие твердые зернышки маиса, я думал о том, суждено ли мне увидеть первые зеленые ростки. Вечером, когда мы вернулись домой, нас встретили Келемана и Чоромана; у обеих глаза были заплаканы. Молча поставили они перед нами миски с похлебкой. Начитима вопросительно посмотрел на жену, но она повернулась к нему спиной.
— Ну-ну, говори, что случилось, — сказал он.
Келемана заплакала и ничего не сказала; за нее ответила Чоромана:
— Уампус, мой будущий муж! Мы узнали, что Огота со своими друзьями побывал у членов Патуабу и склонил на свою сторону советников, выдвинув против тебя новое обвинение. Он утверждает, что тебе известно какое-то заклятие, и вчера по твоей вине навахи ушли целыми и невредимыми: тэва не могли их ни убить, ни ранить.
— Начитима, многие этому верят или притворяются, будто верят, всхлипывая, заговорила Келемана. — Я знаю, что через четыре дня — да, осталось только четыре дня! — Патуабу осудит наших сыновей. Что нам делать? Как их спасти?
— Начитима, я знаю, что нужно делать! — воскликнула Чоромана. Они должны отсюда уйти раньше, чем члены Патуабу вынесут решение. Они должны уйти к своему народу и никогда не возвращаться в Покводж. А я уйду с ними! Я нарушу клятву, которую дала деду, я буду женой Уампуса и буду следовать за ним, куда бы он ни пошел.
— Нет, нет! — громовым голосом крикнул Начитима.
Отодвинув миску с едой, он вскочил и стал ходить по комнате.
— Они не уйдут отсюда, а ты не нарушишь клятвы! Разве я не член Патуабу? Огоуоза, Поаниу, летний кацик — верные наши друзья. Мы заставим образумиться легковерных советников. Члены Патуабу никогда не приговорят к смерти наших детей, ни в чем неповинных!
— Но кое-кто из них, даже сам зимний кацик, входит в клан Оготы, клан Огня, — сказала Келемана.
— Довольно! Мы им докажем, что Огота — трус и лжец. Мы им напомним, что наш сын убил бурого медведя и двух утов. Не бойся! Патуабу не тронет наших сыновей.
Потоша, никем не замеченный, вошел в комнату и остановился в дверях, прислушиваясь к разговору. Все мы вздрогнули и оглянулись, когда он воскликнул:
— Начитима! Помнишь, вчера я обвинил Оготу в том, что он перерезал тетиву? Так оно и было! Один из мальчиков-пастухов, Волчий Хвост из клана Олень, видел, как Огота спрятался в зарослях, опустился на колени, достал нож и перерезал тетиву. Я это знал еще вчера, когда бросил ему обвинение: у разорванной тетивы концы всегда бывают растрепаны. Вместе с Волчьим Хвостом я приду на совещание членов Патуабу и расскажу все, что знаю.
— Да, ты должен это сделать. А теперь ступай к мальчику и предупреди его, чтобы он не проболтался, — сказал Начитима.
Поужинав, Начитима ушел, сказав нам, что хочет повидаться с летним кациком и другими членами Патуабу.
Келемана и Чоромана вымыли чашки и миски, поставили их на место и молча уселись возле очага. Мне хотелось сказать Чоромане, как я ей благодарен за то, что ради меня она готова нарушить клятву, покинуть родных и следовать за мной, но сейчас, при Келемане, я не мог выговорить ни слова. Вскоре за Чороманой пришла ее мать. Когда Чоромана проходила мимо меня, я коснулся ее руки. Друг мой, часто одним прикосновением можно выразить то, чего не скажешь словами!
Потом послышались шаги, и в комнату вошла одна из близких подруг Келеманы, Побези — Белый Цветок, из клана Белый Маис. Это был клан зимнего народа.
— Келемана! — воскликнула она. — Поаниу пришла на нашу площадь и зовет Уампуса. Она хочет, чтобы он раздобыл корм для ее священной змеи.
— Но почему она ищет меня там, где я никогда не бываю? — спросил я.
— Да, я тоже задала ей этот вопрос, но она зажала мне рот рукой и сердито прошептала: «Молчи! Я знаю не хуже тебя, что его здесь нет. Но пусть весь зимний народ слышит мои слова. Я — Поаниу — верю в Уампуса и хочу, чтобы он достал корм для моей змеи». Она обошла всю площадь и каждому встречному говорила, что ты должен принести живого кролика для священной змеи. Слышишь ее голос? Она пришла за тобой на южную площадь.
Действительно, мы услышали голос Поаниу. Келемана осушила слезы и улыбнулась.
— Уампус! — воскликнула она. — Поаниу — верный наш друг. Она тебя защитит, члены совета должны будут ей повиноваться.
Я хотел было пойти навстречу Поаниу, но женщины посоветовали мне остаться. Через минуту Поаниу поднялась по лестнице на крышу и вошла в комнату. Тяжело дыша и улыбаясь, она опустилась на скамью.
— Ты уже знаешь, Уампус, какое я хочу дать тебе поручение. Это все, что я могу для тебя сделать. До сих пор только членам Патуабу поручала я доставать пищу для священной змеи. Завтра ты принесешь мне кролика, живого кролика.
— Если мне удастся его поймать, — ответил я. — Благодарю тебя, Поаниу.
Она отказалась от угощения, предложенного Келеманой, и, отдохнув, ушла через несколько минут. Вскоре вернулся Начитима.
— Сын мой, — сказал он, — Поаниу оказала тебе высокую честь. Ты должен выполнить ее поручение. Завтра утром ты поставишь шесть ловушек для кроликов. Поля к югу от деревни окаймлены густыми кустами; там водится много кроликов. А теперь пора спать.
На рассвете я вышел из деревни. У ворот меня окликнули караульные и пожелали успеха. Я пересек поле и спугнул двух маленьких кроликов, поедавших маисовые побеги. Они скрылись в кустах, а я отыскал их норки и у входа расставил ловушки. Ловушка была очень простая — круглая петля из кожаного ремня, конец которого я привязал к кусту. Покончив с этим делом, я отошел в сторонку, сел на землю и стал ждать. Как я боялся, что мне не удастся поймать кролика! Я знал, что судьба моя зависит от того, выполню ли я поручение Поаниу. Но счастье мне улыбалось. Когда взошло солнце, я увидел, что куст, к которому был привязан конец ремня качается. Подбежав к норке, я схватил бившегося в петле кролика и, взяв остальные пять ловушек, поспешил домой. У ворот пуэбло я встретил работников, уходивших в поле, и воинов трех сторожевых отрядов. Прижимая к груди притихшего кролика, я с тревогой всматривался в их лица. Некоторые, заметив кролика, улыбнулись и похвалили меня, но многие — о, очень многие! — смотрели на меня исподлобья или делали вид, будто не замечают. Мне стало грустно; я уже не радовался пойманному кролику. С тяжелым сердцем подошел я к дому Поаниу и окликнул ее по имени.
— Войди! — отозвалась она.
Я отодвинул висевшую в дверях занавеску и вошел в темную душную комнату.
— Вижу, ты поймал кролика, — сказала она. — Я знала, что неудачи быть не может. И вернулся ты рано.
Она встала, подошла к двери, выходившей в соседнюю комнату, и слегка отодвинула решетку из ивовых прутьев. Потом знаком подозвала меня и велела бросить кролика змее. Когда он мягко шлепнулся на земляной пол, я услышал, как застучали погремушки на хвосте священной змеи. Мурашки пробежали у меня по спине.
Сделав свое дело, я хотел поскорее выйти на свежий воздух, но Поаниу задержала меня и заставила опуститься на колени перед решеткой. Я услышал ее бормотанье; она произносила какие-то непонятные слова, а я думал только о том, как бы отсюда уйти. Змея внушала мне отвращение, бормотанье старухи казалось смешным, но я молчал, опасаясь ее рассердить. Я знал, что Поаниу желает мне добра, и не хотел лишиться ее дружбы. Наконец она меня отпустила.
В этот день мы закончили посев маиса, а на следующий день пошли помогать Кутове. Его поле находилось к югу от пуэбло, у подножья утесов, образующих восточную стену каньона. С востока к нему примыкало поле нашего военного вождя Огоуозы, который работал вместе со своей женой и дочерью. К западу находилось поле Тэтиа; его возделывала вдова Тэтиа, ее два сына и племянник Огота. За полем начинались густые заросли, которые тянулись на север и спускались к берегу реки. На утесах находился южный отряд воинов; мы ясно могли их разглядеть: одни стояли, другие сидели у самого края пропасти.
До нас доносились голоса людей, работающих на поле Тэтиа. По-видимому, Огота был чем-то очень доволен: он пел, смеялся, приплясывал. Потом громко сказал:
— Ну, Тэтиа, завтра вечером члены Патуабу соберутся на совещание. Я знаю, чем кончится дело: этих двоих они приговорят к смерти. Так мне сказали мои друзья. Как бы я хотел, чтобы поскорее настало завтра!
Мы не слышали, что ответила ему женщина. Начитима и Кутова приказали мне притвориться, будто я ничего не слышал, но я и не собирался вступать с ним в пререкания. Огота высказал вслух то, о чем я все время думал. Я боялся, что мне и брату осталось жить два дня. Хотя при нас Начитима храбрился, но я видел, что он тоже очень встревожен и со страхом думает о завтрашнем дне. Он не знал, кто из членов Патуабу будет на нашей стороне. Даже женам своим они редко говорили о том, какое решение думают принять. Обычно они прислушивались к разговорам, но сами молчали.
Чоромана стояла в нескольких шагах от меня. Подойдя ко мне ближе, она шепнула:
— Быть может, Огота знает, какой приговор вынесет Патуабу. Уампус, не подвергай себя опасности! Уйди и спрячься где-нибудь поблизости, а мы дадим тебе знать, какое решение будет принято. Если тебя приговорят к смерти, тогда, Уампус, мы трое — ты, твой брат и я покинем Покводж и никогда сюда не вернемся.
Я покачал головой:
— Нет, Чоромана, это было бы трусостью. Я не могу уйти тайком из Покводжа…
Я не успел договорить, так как в эту минуту раздались громкие крики и пение. Из зарослей, покрывавших склон горы, выскочили воины и бросились по направлению к пуэбло. Люди, работавшие на соседних полях, бежали впереди.
10. НОВЫЙ ВОЕННЫЙ ВОЖДЬ
Да, снова услышал я в долине Покводж пронзительный боевой клич и военную песню моего родного народа — навахов. Это был тот самый отряд, который угнал наших лошадей.
Со всех сторон бежали по направлению к пуэбло люди, работавшие на полях. К ним присоединились и три сторожевых отряда. Мы знали, что пуэбло не выдержит натиска, так как там оставались только старики, женщины и дети. Несколько женщин влезли на крыши домов по обеим сторонам узкого прохода; остальные баррикадировали вход в пуэбло. Но я не надеялся на то, чтобы им удалось до нашего прихода удержать неприятеля за стенами пуэбло. Я сказал брату, не отстававшему от меня ни на шаг:
— Беги как можно быстрее! Когда мы подбежим ближе, крикни навахам, чтобы они перестали драться и заключили мир с тэва. Если наш дядя находится среди нападающих, мы обратимся к нему, потому что он любил нашу мать.
Мы пятеро бежали рядом — Огоуоза, Начитима, Кутова, брат и я. Справа от нас мужчины отдельными группами тоже бежали на защиту пуэбло, а наши помощницы женщины отстали. Оготы с нами не было. Оглянувшись на бегу, я увидел, что он бежит рядом с Чороманой. Южный сторожевой отряд уже спустился с утесов и догонял нас.
Мы находились на расстоянии нескольких сот шагов от пуэбло, когда навахи подошли к забаррикадированному входу и вступили в бой с первыми прибежавшими с поля работниками. Многих уложили они на месте дубинками и копьями. Мы знали, что Покводж навеки для нас потерян, если навахи успеют разобрать бревна, загромождавшие вход. Но мудрыми людьми были те, что строили это пуэбло. Крыши домов, ближайших к проходу, они подперли толстыми тяжелыми бревнами, а на крышах разложили длинными рядами большие камни. В случае нападения эти камни можно было сбрасывать вниз.
Когда навахи столпились в проходе, старики и несколько юношей начали стрелять в них из луков, а женщины, поднявшись на крыши домов, сбрасывали камни. К краям крыш они не подходили и, следовательно, могли не опасаться стрел. Но навахи понимали, что с женщинами справиться легче, чем с воинами, защищавшими проход, и вскоре придумали способ, как до них добраться. Человек пять или шесть подбежали к находившемуся неподалеку сараю, сорвали с крыши несколько тяжелых шестов и, прислонив их к стене, окружавшей пуэбло, начали по ним карабкаться на стену. Как раз в эту минуту мы и другие работники подбежали ближе, и Огоуоза закричал:
— Стреляйте в тех, кто карабкается на стену!
Но мы с братом стрелять не стали. Воины испугались падавших с крыш камней и выбежали из прохода. Их вождь, Горб Бизона (мы с братом сразу его узнали), скомандовал:
— Сюда! Защищайте воинов, которые по шестам влезают на стену! Они пробьют для нас дорогу к пуэбло!
Мы подбежали к нему, называя его по имени и умоляя прекратить бой и заключить мир. На языке тэва я обратился с той же просьбой к Огоуозе, но в пылу битвы вожди нас не слышали.
— Кричи громче! Беги быстрее! — понукал я брата.
Вдруг я заметил, что один из навахов прицелился, как показалось мне, в меня. Но стрела вонзилась в грудь брата, и он упал, широко раскинув руки. Я остановился. Увидев, как побелело его лицо, я понял, что он мертв. И в это мгновение угасла в моем сердце любовь к родному народу, ее сменила ненависть. Я выстрелил из ружья в навахов, толпившихся у подножия стены, потом бросил ружье на землю и взял лук и стрелы брата. Наклонившись к Одинокому Утесу, я крикнул, словно он мог меня услышать:
— Я отомщу за тебя!
И я побежал за нашим военным вождем.
Между тем женщины заметили, что враги пытаются взобраться на крыши домов. Некоторые, подбежав к краю крыши, уцепились за концы шестов и пытались их раскачивать, другие стали швырять камни. Но воины, находившиеся внизу, крепко держали шесты. Две женщины были убиты, а остальные испугались и спустились вниз, к старикам, защищавшим проход.
К тому времени почти все тэва, работавшие в полях, прибежали к стенам пуэбло, но неприятель превосходил нас численностью. Навахи стреляли в нас из луков, метали копья, размахивали ружьями, как дубинками. Я пробился вперед, к Огоуозе. Вокруг нас толпились люди, и было так тесно, что я не мог стрелять из лука. Вдруг я обо что-то споткнулся и, наклонившись увидел валявшуюся на земле палицу. Убитый воин еще сжимал в руке петлю, прикрепленную к ней. Я отбросил лук и стрелы и поднял палицу. Мы врезались в самую гущу врага и вступили в рукопашный бой. Я видел только головы — головы навахов, на которые опускалась моя палица, и, нанося удары, напрягал все свои силы. Медленно продвигались мы вперед и наконец пробились к шестам, приставленным к стене. Вскоре после этого мы завладели северной частью прохода.
— Вперед! Лезьте по шестам на стену! — крикнул Огоуоза, бросаясь к ближайшему шесту.
Начитима, я и еще несколько воинов последовали за ним, но вдруг Огоуоза упал, пронзенный копьем. Его место занял Начитима, но через минуту Горб Бизона, размахивая ружьем, словно дубинкой, нанес ему страшный удар.
Когда Начитима упал, у меня в глазах помутилось от ненависти и злобы. Я повел воинов в атаку и, наступая на навахов, окружавших Горб Бизона, крикнул ему на языке навахов:
— Убийца отца моего тэва, я убью тебя. И вы, убийцы моего брата, берегитесь!
Горб Бизона, услышав меня, вздрогнув и попятился. Его воины рванулись вперед и оттеснили меня; я не мог нанести ему удар. Тогда на помощь подоспели тэва. Ножами, копьями, дубинками пробивали они мне дорогу к вождю навахов. А я, нанося удары, кричал на языке навахов:
— Убийцы моего брата и отца, я отомщу вам!
Навахи, слышавшие меня, не понимали, почему один из тэва обращается к ним на их родном языке. Они растерялись, а я этим воспользовался и, пробившись вперед, к Горбу Бизона, сразил его палицей. Тогда навахи пришли в смятение и обратились в бегство. Громко кричали они, что вождь их убит. Они убежали в поля и дальше, на север, а мы их не преследовали, потому что должны были выгнать тех, кто успел пробраться в пуэбло. Когда опасность миновала, я бросился к Начитиме. Он был жив, я уловил слабое биение его сердца.
В пуэбло были убиты только пятеро навахов. Остальные — их было человек двадцать — спрыгнули с северной стены и спаслись бегством. Тогда женщины разобрали заграждение из бревен и бросились нам навстречу; одни отыскивали своих любимых, другие, узнав о смерти мужа или сына, громко рыдали. Я стоял на коленях подле Начитимы. Келемана подбежала ко мне и, убедившись, что он жив, спросила:
— Где Одинокий Утес?
— Убит! — ответил я, указывая на его труп.
Она бросилась к нему, обхватила обеими руками и заплакала.
Чоромана принесла воды. Мы обмыли голову Начитимы, а когда он очнулся, помогли ему сесть. Воины уносили мертвых и раненых в пуэбло. Пришли оба кацика и стали расспрашивать нас, велики ли потери. Вдруг зимний кацик воскликнул:
— А где же Огота?
Никто ему не ответил, и тогда он повторил свой вопрос. Вдруг Чоромана, ухаживавшая за Начитимой, вскочила и сердито сказала:
— Я тебе скажу все, что о нем знаю. Он был с нами, женщинами, в конце поля. Когда мужчины побежали сюда, к пуэбло, он отстал, бросился ко мне, схватил за руки и потащил за собой. Он хотел, чтобы я убежала и спряталась вместе с ним. А я расцарапала ему лицо и укусила его. Он меня отпустил. Тогда я догнала Келеману, и больше я его не видела. Огота трус! Должно быть, он прячется где-нибудь в кустах.
Когда Чоромана умолкла, воин, который был вождем южного сторожевого отряда, громко проговорил:
— Да, Огота там, в кустах. Но сейчас он не прячется. Он умер.
— Умер! — закричала его мать.
— Но навахов там не было. Кто же его убил? — вмешалась его тетка.
— Я могу только сказать, что он умер смертью труса, — ответил воин.
— Это ты его убил! — взвизгнула мать Оготы. — Ты или кто-нибудь из твоего отряда! Отвечай! Я требую, чтобы ты мне сказал, кто его убил! Убийца тоже умрет!
Воин упорно молчал.
Так погиб мой враг Огота.
Это был печальный день для нас, жителей Покводжа. Тридцать пять мужчин и семь женщин были убиты; вопли и стоны раздавались в каждом доме. Уложив Начитиму на мягкое ложе из одеял и звериных шкур, Келемана, Чоромана и я перенесли тело моего бедного брата к реке и похоронили его на берегу. С нами была и старая Поаниу, нашептывавшая слова утешения.
Настал вечер. В тот день мы не ели, но голода не чувствовали. Начитима глухо стонал, а мы с Келеманой оплакивали умершего. Потом пришла Чоромана, принесла сосновых щепок и развела огонь в очаге. Поцеловав меня, она уселась рядом с Келеманой, обняла ее и стала утешать. Вдруг мы услышали, как какой-то старик на площади повторяет снова и снова:
— Вы, оплакивающие умерших, утешьтесь! Настанет день, когда мы отомстим за них!
— Но никто не вернет моего дорогого сына, — со вздохом сказала Келемана.
Потом раздался голос нашего старого кацика:
— Слушайте, члены Патуабу! Совещания завтра не будет. Мы встретимся через шесть дней. Соберемся мы не здесь, а в киве зимнего народа.
Я совсем забыл о том, что завтра должна была решиться судьба моя и моего брата. А теперь уже никто не мог его осудить.
— Значит, вместо одного дня мне осталось жить еще шесть дней, сказал я.
— Ты с ума сошел! — воскликнула Келемана. — Сегодня ты спас Покводж. Неужели ты думаешь, что теперь Патуабу может тебя осудить?
— Ты можешь быть спокоен: все будут на твоей стороне, — слабым голосом проговорил Начитима.
Но мне показалось, что он сам далеко не спокоен.
— На этом собрании они выберут нового военного вождя — должно быть, тебя, Начитима, — сказала Чоромана.
— Нет, не меня, — отозвался он. — До конца жизни я буду Самайо Оджки.
— Я знаю, кого они выберут, — вмешалась Келемана.
— Я тоже знаю! Вождем будет Уампус, мой будущий муж! воскликнула Чоромана.
Я не хотел говорить о своих опасениях. Члены Патуабу, всегда собиравшиеся в летней киве, теперь должны были встретиться в киве зимнего народа, друзей и родственников Оготы. Это не предвещало добра. А мне сильнее, чем когда-либо, хотелось жить.
Несмотря на великое наше горе, мы должны были работать. На следующее утро Келемана и я засевали поле Кутовы, а потом стали чинить и прочищать ачеквиа — оросительные каналы на нашем участке. Работали молча и думали только об Одиноком Утесе, который навеки ушел от нас.
Настал шестой день. Наша работа в поле была окончена, и мы остались дома с Начитимой. Он еще не оправился и чувствовал себя беспомощным и слабым. День тянулся бесконечно долго, мы почти не разговаривали друг с другом. Когда солнце склонилось к западу, к нам пришла Чоромана. Грустно посмотрела она на меня и, не говоря ни слова села рядом с Келеманой. Время шло. Наконец на южной площади раздался голос нашего кацика. Он кричал, что солнце заходит, и призывал всех членов Патуабу в северную киву. Тогда Чоромана сказала, что поможет Келемане вести Начитиму. Женщины взяли его под руки и вывели из дома, а я остался один.
О, как хотелось мне жить, чтобы отомстить навахам за смерть брата и нападение на мирных тэва! Казалось, сердце мое вот-вот разорвется от ненависти к навахам, моему родному народу. Вернулись женщины, подсели ко мне и обняли меня за плечи. Я чувствовал, что они дрожат, словно им холодно. Мы долго молчали.
Наконец раздалось шарканье ног по крыше, и а комнату вошел юноша. Он сказал, что меня ждут в киве. Мы вышли вместе. Он проводил меня до северной площади, где собралась большая толпа. Я прошел мимо, ни на кого не глядя. Поднявшись по ступеням, я пересек крышу и спустился по лестнице во внутреннее помещение кивы. Все члены Патуабу сидели вокруг костра, а Поаниу заняла место в стороне. У ее ног лежала, свернувшись кольцами, огромная змея. Голову змея повернула к огню.
Я словно окаменел. Как сквозь сон, услышал я голос летнего кацика, назвавшего меня по имени. Я сделал несколько шагов и остановился перед ним и зимним кациком, который сидел по правую его руку.
«Сейчас меня приговорят к смерти», подумал я.
Подняв руку, чтобы привлечь к себе внимание, старый кацик сказал:
— Уампус! С того дня, как ты, пленник, вошел в Покводж, мы, члены тайного совета Патуабу, начали за тобой следить. В пуэбло были у тебя враги. Мы остались довольны тем, как ты к ним относился — всегда справедливо. Мы гордились, что ты — один из нас, когда ты убил большого медведя. Мы гордились тобой и были тебе благодарны, когда ты убил двух утов. Во время наступления навахов был убит наш храбрый военный вождь; мы знаем, что ты спас Покводж, убив вождя неприятельского отряда, убив человека, родного тебе по крови. Уампус, сегодня мы здесь собрались для того, чтобы рассмотреть выставленные против тебя обвинения и выбрать нового военного вождя. Все мы сразу признали, что тебя никто не смеет называть изменником, ибо всегда ты был смелым защитником Покводжа. Поаниу, сидящая здесь со своей священной змеей, оказала, что хотя ты и молод, но она за всю свою долгую жизнь не встречала воина более смелого, чем ты. Она предложила назначить тебя нашим военным вождем. Тогда я спросил остальных, согласны ли они с Поаниу, и все без исключения одобрили ее выбор. Уампус, мне не нужно спрашивать тебя, всегда ли ты будешь защищать Покводж от всех врагов. Твой ответ мы знаем. Уампус, военный вождь Покводжа, член тайного совета Патуабу, займи свободное место, где не так давно сидел наш доблестный вождь Огоуоза.
Был ли я удивлен, услышав эти слова? Друг мой, я не верил своим ушам. Растерянный, я озирался по сторонам, но даже те люди, чьей ненависти я боялся, ласково мне улыбались. Слезы выступили у меня на глазах. Спотыкаясь, я подошел к костру и занял место Огоуозы. Встал главный шаман и стал заклинать меня, чтобы я был верным защитником тэва. Когда он умолк, Поаниу наклонилась к своей священной змее, шепнула ей что-то и потом затянула песню. Это была та самая песня, которую я слышал много раз: снова почувствовал я волнение, и захотелось мне совершать великие подвиги. Песня оборвалась. Тогда я встал и, собравшись с силами, проговорил:
— Благодарю всех вас за то, что вы выбрали меня военным вождем и приняли в тайный совет Патуабу. Есть у меня одно желание, которое не дает мне покоя. Слишком долго навахи грабили и убивали беззащитных жителей наших пуэбло. Теперь я хочу пойти на них войной!
Спустилось молчание. Я сел, недоумевая, как осмелился я высказать вслух заветное мое желание. Наконец мне ответил старый зимний кацик:
— Мы, тэва, никогда не ходили воевать в страну неприятеля.
— Вот потому-то они вас и не боятся, — сказал я. — Правда, навахов очень много, но они разбиваются на отдельные маленькие отряды. Мы можем с ними справиться.
— Верно, верно! — воскликнула Поаниу. — Они убили наших близких, и мы должны отомстить.
Тогда и все остальные одобрили мое предложение. Меня стали расспрашивать, велики ли отдельные отряды навахов и где можно их настигнуть. Долго мы совещались. Наконец летний кацик сказал, что этот вопрос он обсудит с зимним кациком и главным шаманом, а на четвертый день вечером сообщит нам свое решение. Так закончилось совещание.
Я довел Начитиму до нашего дома и помог ему взобраться по лестнице на крышу. Навстречу нам выбежали Келемана и Чоромана. Они уложили Начитиму на ложе из звериных шкур и с тревогой посмотрели на меня. Я улыбнулся.
— Ты свободен, свободен! — воскликнула Чоромана.
— Да, он свободен, и члены Патуабу назначили его военным вождем Покводжа, — объявил Начитима.
Услышав это, обе женщины словно обезумели от радости. Они плакали и смеялись, обнимали и целовали Начитиму и меня. Потом занялись стряпней. Когда ужин был готов, Чоромана уселась подле меня и сказала:
— Уампус, скоро ты будешь моим мужем. Завтра я начну строить наш дом. Мне помогут Келемана, моя мать и тетка.
— Хорошо, — ответил я. — Дом будет готов к моему возвращению.
— К твоему возвращению? Разве ты уходишь? Куда?
— На запад. В страну навахов. Отомстить тем, кто убил моего брата и тридцать пять тэва.
— Нет, нет, ты не пойдешь! Тебя убьют! — закричала она, обнимая меня.
— Начитима, одного сына мы потеряли, — вмешалась Келемана, Уампуса я не отпущу! Он не пойдет воевать с этими страшными навахами!
— Слушайте, женщины! — резко сказал Начитима. — В эти дела вы не должны вмешиваться. Через три дня наши кацики и шаман примут решение. Если Уампус пойдет воевать с навахами, я пойду вместе с ним. Скоро мы узнаем, будем мы воевать или останемся здесь.
— А если вы пойдете на войну, я тоже пойду с вами! — раздался голос Кутовы.
Он пришел за Чороманой. Не говоря ни слова, та вскочила и выбежала из комнаты.
Рано утром она снова пришла к нам и сказала:
— Уампус, сегодня я начну строить наш дом. Я уверена, что кацики не позволят вам покинуть долину Покводжа.
— Мы вернемся в Покводж, и здесь, в этом пуэбло, я буду работать до конца своей жизни, — сказал я. — А ты начинай строить наш дом, чтобы он был готов к моему возвращению.
Спасаясь от упреков и жалоб Келеманы и Чороманы, мы с Начитимой взяли наше оружье и ушли в поле. Вечером, когда мы вернулись в пуэбло, я увидел, что Чоромана начала надстраивать второй этаж на доме своей матери.
Настал решающий день. Вечером мы с Начитимой пошли в северную киву, где уже собрались члены Патуабу. Не было только двух кациков и главного шамана, но вскоре явились и они. Летний кацик объявил нам, что они решили принять мое предложение и идти войной на навахов. Потом он спросил меня, обдумал ли я план наступления. Я ответил, что хочу выступить как можно скорее. Я поведу тех воинов, которые захотят за мной следовать, воинов не только из Покводжа, но и из других пуэбло тэва. Все члены тайного совета согласились со мной, а двое советников вызвались пойти в ближайшие пуэбло и сообщить тэва о предстоящем походе. Из Покводжа мы решили выступить через пять дней.
Спустя три дня вернулись советники и принесли радостную весть: многие воины из других пуэбло решили присоединиться к нашему военному отряду. К вечеру пятого дня все были в сборе, а на шестой день в сумерках мы вышли из Покводжа, было нас триста двенадцать человек.
Шли мы только по ночам и к утру третьего дня перевалили через горный хребет и увидели страну навахов. Только я один из всего нашего отряда знал эту пустынную страну, а спутники мои удивленно покачивали головой, недоумевая, как люди могут жить на этих бесплодных равнинах.
Опасаясь привлечь внимание неприятеля, я отвел воинов в длинный каньон, который тянется на северо-запад, к реке Сан-Хуан. Этот каньон испанцы называют каньоном Ларго. Здесь мы должны были скрываться до вечера.
Я хорошо знал это место, так как мой отец часто раскидывал лагерь в каньоне. Воины достали мешки с провизией и принялись за еду, но я не мог проглотить ни одного куска. Внезапно охватила меня гнетущая тоска. Я отошел от своих друзей и стал бродить по каньону, вспоминая отца, мать, игры со сверстниками. У подножия скалы я нашел маленький полуразрушенный шалаш из палок и веток; его я выстроил с помощью брата много лет назад. Я не мог удержаться от слез.
Когда я вернулся к моим спутникам, они заставили меня поесть сушеного мяса и маисовых лепешек, а Начитима расставил караульных и разослал разведчиков. Я лег и заснул, но и во сне не обрел покоя. Когда я проснулся, были уже сумерки. Тоска моя не рассеивалась. Мы тронулись в путь и шли всю ночь, а на рассвете снова спрятались в каньоне. Все время старался я понять, почему так тяжело у меня на сердце, и нашел наконец причину: я не хотел сражаться с навахами, моим родным народом. Но что было мне делать? Если бы я отказался вести дальше мой отряд, меня признали бы трусом. И вдруг вспомнил я слова, которые часто говорила отцу моя покойная мать: «Оставь в покое мирных землепашцев-тэва. Сражайся лучше с испанцами, которые мало-помалу завладевают нашей землей».
И тогда я понял, что мы, тэва, должны заключить мир с навахами. Не следует воевать с ними, когда нам угрожает враг, более страшный, испанцы, которые только и думают о том, чтобы завладеть нашей страной. Не лучше ли будет, если мы с навахами соединимся для борьбы с нашим общим врагом?
В это время пришли разведчики и сказали, что на равнине за каньоном они видели стадо овец и табун лошадей. Должно быть, мы находились неподалеку от лагеря навахов, так как вдали виден был дым от костров. Тогда воины взялись за оружие и подошли ко мне, ожидая моих приказаний. Я сказал им, что до вечера мы останемся в каньоне. Потом я отвел в сторону Начитиму, Кутову и нашего шамана и открыл им свои мысли. Выслушав меня, Начитима ответил:
— Сын мой, если удастся нам заключить мир с навахами, значит недаром умер Одинокий Утес.
— И те, что вместе с ним пали в бою! — подхватил Кутова.
— Отпустите меня! Я пойду в лагерь навахов и буду говорить с ними о мире, — сказал я. — Если я не вернусь, наш отряд отомстит за меня и сотрет их лагерь с лица земли. Навахов там не больше сотни, а нас триста человек.
Все трое одобрили мое решение. Узнав о нем, обрадовались и воины.
Было уже темно, когда я подошел к лагерю навахов и насчитал двадцать вигвамов. Громко крикнул я, что я — навах и возвращаюсь к моему родному народу. Люди выбежали из вигвамов посмотреть, кто я такой, а впереди шел мой дядя Белый Ястреб. Когда я назвал себя, он меня обнял и повел в свой вигвам. За нами последовало еще несколько человек и беседа наша продолжалась до поздней ночи. Я должен был рассказать им о своей жизни, о том, как добры были тэва ко мне и к моему брату. Я не забыл упомянуть, что брат мой был убит навахом, но ни слова не сказал о том, какое участие я принимал в последней битве. К счастью, в этом набеге не был повинен отряд моего дяди, и воины его не знали меня в лицо. Потом я предложил навахам заключить мир с тэва. Дяде понравились мои слова, но остальные сердито заворчали, а один из них сказал:
— Зачем нам заключать мир с тэва? Эти люди, словно муравьи, копошатся в своих пуэбло, а нам весело их убивать и угонять их лошадей.
Тогда я рассердился и крикнул:
— Плохо вам будет, если вы не заключите мира с тэва! Знайте, что тэва решили посылать большие отряды в страну навахов! Рано или поздно они перебьют всех вас, а вы не можете с ними справиться, потому что тэва живут в укрепленных пуэбло. Сейчас в каньоне триста воинов тэва ждут моего возвращения. Если я не вернусь к ним, все вы будете убиты. Я, военный вождь, привел их сюда, чтобы отомстить за смерть моего брата и многих тэва, павших в бою с навахами. Да, сегодня ночью вы были бы убиты, если бы я не решил заключить с вами мир и объединиться для борьбы с врагами всех индейцев, испанцами.
Услышав, что в каньоне скрывается отряд тэва, женщины, находившиеся в вигваме, подняли крик. Испугались и воины, которые сначала и слушать не хотели о мире. Дядя подошел ко мне и, поглаживая меня по плечу, сказал:
— Племянник, я горжусь тобой. Отныне не будет вражды между нами и твоими тэва. Я передам твои слова другим вождям нашего племени и они заключат с вами мир. Ты прав: не должны мы ссориться между собой, когда у нас есть общий враг — белые, которые притесняют всех индейцев. А теперь отведи меня в лагерь твоих воинов, я хочу с ними поговорить.
Придя в лагерь, мы сели у костра, и мой дядя до рассвета беседовал с нашим старым шаманом. Я был их толмачом. Начитима и Кутова слушали и одобрительно кивали. Дядя обещал привести через пятнадцать дней всех вождей навахов в Покводж и там заключить мирный договор с тэва. Потом дядя вернулся в лагерь. Весь наш отряд провожал его, и в тот день тэва пировали вместе с навахами. На следующее утро мы отправились в обратный путь. Теперь мы ехали верхом, так как навахи дали нам лошадей.
Солнце садилось, когда мы подъехали к Покводжу. Жители пуэбло выбежали нам навстречу. Велика была их радость, когда они узнали, что грозные навахи хотят заключить с нами мир.
Чоромана взяла меня за руку и повела на южную площадь, к дому своей матери. Второй этаж был уже выстроен, и Чоромана сказала мне, что она перенесла все свои вещи в новое жилище. По лестнице мы поднялись на крышу дома. В дверях Чоромана остановилась и шепнула:
— Теперь я могу сказать тебе: войди, мой муж!
Много лет протекло с тех пор, но я не забыл счастливого дня нашей юности. Теперь мы оба стары, очень стары, но счастливы по-прежнему.
В назначенный день приехали навахи — мой дядя и другие вожди, а также воины, женщины и дети. В подарок нам они привезли много одеял, и пригнали табун лошадей. Здесь, в нашей южной киве, был заключен мирный договор. Навахи и тэва не нарушают его и по сей день.
Когда умер старый летний кацик, члены Патуабу назначили меня на его место… Друг мой, слышишь? Нас зовет Чоромана. Я уверен, что она приготовила угощение — яичницу и маисовые лепешки.
ГОЛОДНАЯ ЗИМА
В один из поздних и страшно холодных вечеров, которые всегда наступают, когда перестает дуть благотворный ветер чинук, Джексон, Апси, я и Красный Орел — самый старший из нас, засиделись в гостях у Хью Монроу, по прозвищу Поднимающийся Волк. Мягкие и удобные ложа, покрытые бизоньими шкурами, и благодатное тепло костра разморили нас, и наша беседа стала прерываться, пока не прекратилась совсем. Вскоре в палатку, держа за руку небольшого ребенка, вошла молодая женщина — ее муж пас лошадей у Поднимающегося Волка. Они жили у него и помогали по хозяйству. Конечно, любой из сыновей Поднимающегося Волка, Джон или Франсуа, с радостью взяли бы отца к себе, но он по натуре своей был человеком независимым и предпочитал жить в собственном доме, где был полновластным хозяином.
Войдя в палатку, женщина села на свое место — слева от входа, на длинный и широкий лежак с двумя спинками из ивовых прутьев, покрытый одеялами. Мальчик уселся рядом, тесно прижавшись к матери, и, не мигая, задумчиво уставился на пляшущие языки костра. Все молчали. Я попытался угадать, о чем может думать этот ребенок, как вдруг он повернулся и, глядя в улыбающееся лицо матери, спросил:
— Мама, а кто нас сотворил?
— Кто нас сотворил? Ну… Старик, конечно, — ответила женщина нерешительно.
— Как, женщина, неужели ты еще не посвятила своего сына в суть вещей и не поведала ему священных сказаний? Нет? Ну тогда иди ко мне, мой мальчик, я расскажу тебе одну историю, — проговорил Красный Орел.
Мальчуган с готовностью обежал костер со стороны входа, а не со стороны старика, дабы не потревожить его духа-покровителя, и удобно расположился на коленях у Красного Орла.
— Ну, теперь расскажи мне, дедушка, кто нас сотворил?
Красный Орел погладил его блестящие, зачесанные на пробор и аккуратно заплетенные в косицы волосы и заговорил:
— Всех нас сотворил Старик. Я не знаю, кто сотворил его самого, но мне кажется, он существовал всегда. Он был и есть наш бог. Его называют Стариком не потому, что он стар. Боги ведь никогда не старятся, они — вечны. Наши далекие предки назвали его так потому, что он выглядел как старик: у него голубые глаза, белая кожа, а волосы цвета неба перед восходом солнца. Он очень красив, этот наш бог, наш творец. Так вот, после того как Старик сотворил весь наш мир — равнины и горы, большие озера, реки и ручейки, деревья, растения и всякие травы и разных зверей, — после того он сотворил нас. Точнее сказать, сотворил наших праотцов и праматерей. Но земли, которые он выделил им, чтобы они жили и множились в этом мире, были не очень хорошими. То была небольшая долина у подножия высоких гор, и вскоре людей стало так много, что они перебили всю дичь и начали голодать. Впрочем, в долине, где жили люди, дичи было не так уж много — только олени да птицы.
Вот тогда-то и сказал один пожилой отец семейства своей жене и трем своим уже женатым сыновьям:
— Я говорил с нашим Творцом. Он поведал мне о стране, сотворенной им, где очень много разной дичи, и указал мне туда путь. Пойдем же и разыщем эту страну.
И они отправились в путь — четверо мужчин и четверо женщин. Много дней они поднимались на высокие и крутые горы, и еще дольше они спускались с них, пока наконец не вышли к самому краю великих равнин. Там они увидели множество разной дичи, открыли для себя много новых зверей, до того им неведомых. И самым необычным из всех им показалось животное, которому впоследствии они дали имя «бизон».
— Отец, — обратился тогда старший сын к старику, — давай убьем одного из этих высокогорбых, длинношерстных и чернорогих поедателей травы и испробуем его мяса. Что-то подсказывает мне, оно должно быть очень вкусным.
— Что ж, хорошо, — ответил ему отец, — пусть будет по-твоему.
Сказав это, он натер сыну ноги каким-то таинственным, волшебным черным снадобьем. Оно помогло старшему сыну догнать стадо и убить стрелой из лука нескольких животных. Их мясо оказалось вкуснее, чем мясо других животных, а потом люди узнали, что из их шкур можно делать жилища и одежду, теплые одеяла и постели.
— Сын мой, сказал ему отец, — ты сделал великое дело для всех нас. Я вижу теперь, мы станем очень большим народом. Но нас будет слишком много для одного стойбища или для совместной охоты. Отныне ты, и твои дети, и дети твоих детей будут зваться племенем черноногих. Со временем вам придется покинуть эти земли и выбирать себе новое место для охоты и жизни среди других земель, которыми нас одарил Старик.
Услышав это, остальные сыновья стали завидовать своему старшему брату.
— Ты во всем делаешь его первым, — сказали тогда они отцу. — Ты даешь ему и его племени имя и право выбирать лучшие земли среди этих великих равнин. А что ты даешь нам?
— А вы отправляйтесь в путь по тропе открытий, — приказал им отец. — Ступайте на юг, идите в неизведанные края и узнайте, что там. А когда вернетесь назад, я каждому из вас дам имена, которые вы заслужите.
И сыновья сразу же отправились в путь. Долго они странствовали по свету. Первым возвратился средний сын. Он принес красивую одежду неизвестных врагов, пытавшихся его убить. Поэтому старик отец назвал его «пикуни», что означает «Красивая Одежда». От этого сына произошли и все мы, все наше племя — пикуни. А белые люди по своему незнанию зовут нас просто южными черноногими.
Потом возвратился младший, третий сын. Он зашел дальше своего брата и узнал, что на свете живет еще много других племен. Он победил и снял скальпы нескольких их вождей. За это отец дал ему имя «ахкайна», или просто — «кайна», что означает «Победивший Много Вождей».
Как и предвидел старик отец, в этом краю, богатом разной дичью, число детей его сыновей, а потом и детей его внуков быстро росло. Старик-творец подарил им хороший, богатый край. Но скоро пришло время, когда люди должны были разделиться. По праву первого племя черноногих выбрало себе земли, омываемые водами реки Северная Саскетчеван и ее притоками. За ним выбрало себе земли племя пикуни. Оно решило остаться в верховьях реки Миссури с ее притоками, и это оказалась самая богатая из всех земель. И вот настал черед племени каина, или, как неправильно их зовут белые, племени блад. Они выбрали себе земли, по которым протекают реки Старик, Красавица и Сент-Мэри. Вот, сын мой, и вся история о начале жизни. Сотворив нас и дав нам самые лучшие земли для охоты, Старик отправился на запад, сказав, что обязательно вернется. Вот мы и ждем, ведь он может вернуться в любое время.
— Да, дедушка, я теперь все понял, — проговорил тоненьким голоском малыш. — Старик сотворил нас и одарил нас — черноногих, каинов и пикуни — самыми богатыми в мире землями, отдав их нам навсегда. Да, он был очень добр к нам, правда? Расскажи мне еще что-нибудь про Старика.
— Не сейчас, ты же совсем спишь, — ответил Красный Орел и отослал малыша к матери.
А через пять минут мальчуган уже спал, как спят здоровые дети, глубоким сном без сновидений.
И снова, как прежде, в палатке воцарилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием горящих сучьев. Перебирая в уме только что услышанную историю о создании человека и мира, я решил задать вопрос:
— Друг Красный Орел, если Старик сотворил мир, сотворил ваше племя, то кто же тогда создал людей, скажем, племени кри?
— Как кто? Конечно же, их сотворил их бог, — ответил он мне с готовностью. — Их создал их бог, которого они зовут Монабозо, то есть Великим Белым Кроликом. Послушай. Старик сотворил весь мир, создал нас и одарил нас самой лучшей из всех охотничих земель. Потом пришли другие боги, не такие могущественные, и создали людей племени кри, сиу, кроу и других. И расселили их там, где земля еще не была занята. И конечно же, каждое из этих племен и в прошлом, и сейчас желало и желает заполучить наши земли, столь богатые дичью, вот почему мы извечно воюем с ними и должны будем воевать всегда. Ха! Они боятся нас! Им очень дорого приходится платить за каждого зверя, убитого на наших равнинах или в наших горах.
А для того чтобы показать тебе, насколько бедны земли у других племен, особенно у лесных кри, я поведаю тебе одну историю.
Когда-то, давным-давно, это племя жило в мире с северными черноногими, и люди запросто ходили друг к другу в гости. И вот однажды, во время одного из совместных празднеств, а произошло это очень давно, еще до того, как пришел белый человек, кто-то из племени кри рассказал о странном медведе, обитающем на Дальнем Севере. Он сказал, что у этого медведя очень длинная и мягкая белоснежная шерсть. Это очень заинтересовало шамана черноногих, которого звали Старое Солнце. Именно такого зверя он недавно увидел во сне, и его дух-покровитель посоветовал ему добыть шкуру этого зверя и преподнести в дар Солнцу. Поэтому шаман стал подробно расспрашивать кри о том, как быстрее добраться до этой северной страны, вознамерившись отправиться туда по весне.
Пришла весна, и Старое Солнце отправился в путь взяв с собой свою жену, сына по имени Два Лука и жену сына по имени Одинокая Женщина. У молодых был сын по имени Выдра, ему было всего три зимы. Его они, конечно, тоже взяли с собой.
Сначала все шло хорошо. Везде бродило много бизонов, добывать их было легко, поэтому хорошего мяса было в избытке. Лошади, отощавшие за зиму, быстро отъелись и набрали силу на сытных, молодых, зеленых травах. Каждый день путники отправлялись в дорогу на рассвете и разбивали стоянку только тогда, когда садилось солнце. Они радовались, что так быстро продвигаются вперед.
С песнями они уходили все дальше и дальше, и земля вокруг начала меняться. Они вышли из великих равнин и попали в страну больших лесов и болот. Бизоны исчезли, вместо них появились лоси и карибу, черные и серые медведи-гризли. В этой болотной стране не водилось ни оленей, ни антилоп. Все глубже и глубже забирались люди в болота, и путь их становился все труднее и труднее. Лошади все время увязали по самое брюхо в топкой, зловонной жиже, а огромные лосиные мухи и комарье сосали из них кровь, превращая их шкуру в сплошную гноящуюся язву. Но несмотря на все эти трудности, маленький отряд смело продвигался вперед, и ко второй луне своего похода люди достигли озера, у которого можно было спокойно отдохнуть. В том месте устойчивый западный ветер прижимал мух и комаров к лесу, не давая им вылететь из него, а вдоль берега, на полянах, росла сочная трава — прекрасный корм для лошадей. Здесь путники провели много дней, питаясь лосятиной. Лошади восстановили свои силы.
Затем люди вновь двинулись в путь по скалистому берегу озера, и шли так три дня. А когда они отошли уже далеко от озера, то попали в самое жуткое болото из всех встретившихся им до этого. Вскоре идти вперед стало совсем невозможно. Лошади не могли сделать ни шагу. Тогда Два Лука отвел их обратно к озеру и отпустил пастись на богатом травой берегу. Они с отцом решили, что лошади никуда отсюда не денутся, пока они не вернутся обратно.
Люди упорно продолжали свой путь, теперь уже пешком. Они взяли с собой только оружие, палочки для разжигания огня и пару одеял. И вот через три месяца после того, как они покинули реку Саскетчеван, мало-помалу они выбрались из страны лесных болот в край широких, мшистых равнин, покрытых кое-где хилыми деревцами и мелким кустарником. Здесь паслись никогда не виданные ими раньше животные, и люди легко убили нескольких из них, затравив собаками. Эти животные были очень похожи на бизонов — скитальцев прерий черноногих, но только гораздо меньше их. У животных была плотная и длинная шерсть, а черные и острые рога были посажены на голове иначе, чем у бизонов. Мясо этих зверей оказалось съедобным, но сильно отдавало мускусом. Человек из племени кри говорил им об этих животных, но он говорил и о том, что в месте, где они водятся, живут и белые медведи.
Отец и сын стали двигаться медленнее, внимательно глядя под ноги. Они тщательно осматривали все следы на мшанике и голой земле, но нигде им не попалось ни единого признака медведей. И они шли и шли все дальше и дальше на север. Старое Солнце вел счет дням и лунам, делая надрезы на древке стрелы своим каменным ножом. Земля вокруг не менялась. Повсюду простирались безлесые равнины, покрытые глубоким мхом. А вскоре за одну летнюю ночь стоячая вода в лужах вдруг покрылась тонким льдом. Сидя как-то вечером у костра, старик отец стал держать совет со своим сыном.
— Я только что подсчитал надрезы на стреле. Прошло уже сто пять дней, как мы покинули Саскетчеван — это уже почти целых четыре луны. У нас в это время как раз самая середина лета, а тут по утрам лед на лужах. Ничего не пойму.
— А это и неудивительно, — ответил ему Два Лука. — Лед, бывает, появляется летом и у нас. Если ты помнишь, лет десять назад была даже снежная буря, такая, что погибли все мелкие птицы.
— И в самом деле, — согласился старик. — Да, я помню. Вероятно, в этих местах лето необычайно холодное. Но вот что я подумал: прошла уже половина лета, об ратный наш путь займет столько же времени, рискнем ли мы двигаться дальше или, может быть, повернем домой?
Два Лука надолго задумался, прежде чем ответить.
— Иногда случается, лето бывает дольше, чем всегда. Может, это лето как раз будет долгим? В любом случае надо рискнуть. Может, нам повезет. Все равно, мы должны во что бы то ни стало добыть шкуру белого медведя. Ведь с тобой случится беда, если мы не исполним волю твоего духа-покровителя.
— А-а, можешь мне не напоминать! — воскликнул Старое Солнце и, после недолгого раздумья, согласился с сыном: — Мы будем идти вперед еще пятнадцать дней, но после этого обязательно повернем назад.
И на следующее утро они продолжили путь.
День за днем они продвигались все дальше на север, а земля вокруг больше не менялась, и не могли они найти ни медведей, ни их следов. Настал вечер пятнадцатого дня, и снова отец с сыном стали держать совет и порешили идти еще четыре дня. Когда же истек и этот срок, они разбили свою самую дальнюю северную стоянку, убив еще одного маленького родственника бизона. Хвороста для костра, на котором можно было бы приготовить пищу, уже не хватало. На следующее утро с тяжелым сердцем двинулись люди в обратный путь.
— Ночью мне привиделся дурной сон, — сказал старик. — Это знамение, нас ждет большая беда.
И как его сын и обе женщины ни упрашивали старика поведать им свой сон, он ни за что не соглашался.
Еще некоторое время удача сопутствовала маленькому отряду. Мяса хватало с избытком, погода была ясной и солнечной, и женщины, довольные возвращением домой, пели песни, смеялись и шутили. Они старались подбодрить Старое Солнце, погруженного в свои мрачные мысли.
— Забудь про этот сон, веселись с нами, — говорили они ему. — Скоро у нас будут лошади, а с ними мы быстро преодолеем оставшийся путь.
Старый шаман изо всех сил старался сохранить присутствие духа. Иногда, сидя вечером у костра, он даже включался в общую беседу. И все же чаще всего он сидел молча, отдельно от всех, не обращая ни на кого внимания. Все чаще он стал доставать свою священную трубку, все чаще молился, приносил жертвы богам и просил их смилостивиться и позволить всей его маленькой семье благополучно вернуться домой — в страну черноногих. Он взывал к своему духу-покровителю:
— О ты! Ты, самый мудрый и быстрый в густых горных лесах! Помоги мне, молю тебя, помоги! Приди ко мне в вещем сне, подскажи, как спасти близких моих!
Но дух оставался глух к его мольбам. Боги, казалось, не замечали его жертвоприношений и, наоборот, нагоняли на него еще большую печаль. Постепенно настроение отца передалось и остальным. Улыбка стала редкой гостьей на их лицах.
Люди находились еще очень далеко от большого озера, где оставили своих лошадей, когда еще больше похолодало. На лужах, там, где была тень и куда не попадали лучи солнца, лед уже не таял. Днем и ночью большие стаи птиц тянулись над ними к югу. Утки и гуси пролетали почти над самыми их головами, и печальные крики птиц наполняли сердца людей тревогой. Люди прекрасно понимали, что сразу за улетающими птицами шел Творец Холода.
— Никак не пойму, — сказал однажды вечером Старое Солнце, пересчитывая надрезы на своей стреле, — отмечая дни, я не мог ошибиться. Сейчас лишь второй день шестой луны лета. У нас на деревьях листья еще зеленые, да и птицам рано улетать в Земли Вечного Лета. Но вот же, они наверняка летят туда.
— Я думаю, нам нечего тревожиться, подумаешь, птицы кричат и улетают, — сказала жена Старого Солнца. Она, единственная из всех, никогда не терялась и не падала духом. — Вероятно, никто из вас никогда не видел то, что я замечала сотни раз. Эти стаи птиц, пролетающих сейчас мимо нас на юг, останавливаются в наших прериях на озерах задолго до того, как начинают желтеть листья.
— Да, но не белые лебеди! Они никогда не остаются у нас на озерах. Утки или гуси — это другое дело. Если же улетают белые лебеди, следом за ними всегда приходит зима.
— Может, они летят к большому озеру, где мы оставили лошадей, — предположил Два Лука. — Будем надеяться, что это так. Не надо отчаиваться. Выше голову, отец!
Он сказал так ради своей жены, которая все время тихонько плакала. Но в душе он был сильно встревожен.
Старик ничего не ответил. В ту же безветренную ночь на землю лег снег. А днем оказалось, что снег укрыл землю слоем, доходившим людям до икр. Было ясно и сухо, идти было легко. И люди прошагали весь день. Время от времени падал снег, он прекратился только к вечеру. Небо прояснилось, и наступила очень холодная ночь. Птицы не обманули — на людей надвигалась зима.
Снег уже больше не таял. Он все падал и падал, так что стало невозможно двигаться без снегоступов. Мужчинам до этого не приходилось не то чтобы делать, но даже видеть эти приспособления. Они слышали о них, им говорили о снегоступах люди из племени кри, но они ничего не знали ни о форме, ни об их размерах. Несмотря на это, из ивовых прутьев они согнули подобие луков и натянули на них ремни из кожи карибу. И вот после четырех дней трудов они смастерили каждому по паре таких приспособлений. В первые дни им удалось пройти совсем немного. Их снегоступы оказались неудобными, тяжелыми, и люди быстро выбивались из сил, уставали ноги. Они спотыкались, много раз падали в глубокий снег, прежде чем научились шагать, широко расставляя ноги. Через несколько дней они пересекли южную оконечность покрытых мшаником равнин и вошли в редколесье, которое затем перешло в густой и высокий лес. Мясо удавалось добывать от случая к случаю, но они надеялись на лосей и карибу. Однако, к своему разочарованию, люди еще не заметили ни единого следа этих животных. Они ушли на зимовку неизвестно куда — может, на юг или, может, на запад, к склонам Хребта Мира. По словам индейца кри, в этих местах должно быть много кроликов. Как он говорил, если невозможно добыть иной дичи, вполне можно рассчитывать на этих длинноухих прыгунов, но каждое седьмое лето в этих местах на кроликов нападает мор, и они почти все вымирают. Старое Солнце очень надеялся на крольчатину как на последнее средство. Но им нигде не попалось ни кроличьих следов, ни следов крупного зверя. Несомненно, то был роковой седьмой год. Старик впал в отчаяние.
— Наше положение безнадежно. Я остаюсь здесь, и здесь я умру, — сказал он своим спутникам, когда они расположились на стоянке.
На следующее утро с большим трудом им все-таки удалось уговорить отца продолжать путь.
— Нет, я не трус, — сказал он в ответ на причитания своей жены. — Вспомни о моих победах над врагами, они говорят за себя. Мало у кого из мужчин нашего племени было столько побед. Просто я чувствую безысходность. Что-то случилось с моим духом-покровителем. Мы все погибнем от голода.
— Крепись, отец, возьми себя в руки, — взмолился Два Лука. — До наших лошадей уже совсем близко. Мы забьем их, а с мясом мы сможем продержаться зиму.
Действительно, лошади были теперь их единственной надеждой. И они пробивались к ним, падая от голода и слабости. Как-то Два Лука умудрился подстрелить двух тетеревов, потом ему повезло, и он убил кролика, а однажды вечером он пронзил стрелой большую белую сову, ухавшую над ними. Почти все мясо они отдавали ребенку, сами же старались заглушить голод, жуя сыромятную кожу карибу. Долго так продолжаться не могло. Им пришлось сделать то, чего они больше всего боялись — одну за другой они убили и съели собак, умоляя богов простить их за погубленные невинные души. Собаки были худыми, одни кости да шкура, но этого было достаточно, чтобы дотянуть до озера и лошадей.
Как-то вечером они разложили костер на одной из своих прежних стоянок. Они знали, что к середине следующего дня доберутся до озера, поэтому доели всю собачатину, не забыв, правда, оставить немного на утро. А потом они стали строить планы на зиму: как они забьют лошадей, насушат мяса, а из шкур лошадей и карибу сделают небольшую палатку, в которой перезимуют до весны. Однако Старое Солнце не участвовал в разговоре.
— Что будет, то будет, — сказал он и приказал женщинам расстелить одеяла.
— Ну, теперь скорее к лошадям! — воскликнул Два Лука, когда люди достигли наконец большого озера и увидели качающиеся на ветру, остекленевшие подо льдом камыши.
Лошадей нигде не было видно. Тогда, оставив семью отдыхать, Два Лука начал бегать от одной поляны к другой, ища лошадей. Скоро он возвратился. Он шел медленно, опустив голову. Увидев его, все затихли. По всему было видно, их ждали плохие вести.
— Ладно, мы готовы к самому худшему, говори, — требовательно произнес старик, когда Два Лука, понурив голову, приблизился и встал у костра.
— Хорошо! Знайте же, я нашел только кости наших лошадей! — воскликнул он. — Их всех загрызли волки.
— А-а! Так я и знал, я был уверен в этом, — проговорил Старое Солнце. — Вот и кончилась моя тропа. Я остаюсь здесь и ложусь, чтобы заснуть последним сном.
— Нет, отец, нет! — вскричал Два Лука.
— Я все сказал. И что бы ты мне ни говорил, ничто не изменит моего решения, — произнес старик.
— Не хочу, чтобы люди говорили, что я бросил своего отца на погибель. Я остаюсь и умру с тобой.
— О мой сын, глупый мой сын! — взволнованно проговорил старик. — Неужели ты не понимаешь? Я приказываю тебе идти, чтобы я смог жить. Нет, не в этом своем дряхлом теле, а в ребенке, который уйдет вместе с вами. Он наша плоть от плоти, и в нем возродится наша жизнь. Мы во что бы то ни стало должны сделать все, чтобы он жил долго и счастливо. И сделать это будет легче, если я останусь здесь. Вы избавитесь от одного лишнего рта, который надо кормить…
— От двух ртов, потому что и я остаюсь с тобой, — сказала его старуха жена.
— Да! Я знал, что ты именно так и скажешь. Я рад, — сказал Старое Солнце. — Ну? Ты слышишь свою мать, сын мой? Тебе теперь придется искать пищу только на троих. И может быть, то немногое, что тебе удастся добыть охотой, спасет вас от голодной смерти, это — ваша единственная возможность. Вы должны идти, у вас нет другого выхода!
— Два Лука, мой муж, отец прав. У нас нет другого выхода. Идем, надо идти. Мы должны попытаться спасти нашего сына, — сказала Одинокая Женщина. Она плакала.
И Два Лука тоже прослезился. Он всхлипывал судорожно и хрипло, так, как плачут мужчины. Этот звук надрывал сердце.
— Отец, мать, я повинуюсь вашей воле, — проговорил он и обнял родителей.
То же сделала и Одинокая Женщина. И когда старики попрощались с внуком, молодые взяли мальчика на руки и двинулись прочь. Они шли не оглядываясь, боясь, что увиденное поколеблет их и без того слабую решимость. Они шагали и слышали, как Старое Солнце затянул победную песню. Он продолжал быть воином до конца.
День за днем исхудавшие и ослабевшие люди пробивали себе путь в глубоком снегу, по очереди перетаскивая ребенка на шкуре карибу. Два Лука охотился, и изредка ему удавалось убить тетерева, сову и очень редко — кролика. Этого едва хватало, чтобы медленно продвигаться на юг. Из всей добычи охотник брал себе меньше всех, говоря всегда, что не чувствует голода.
Так они шли уже две долгие, холодные луны и часть еще одной луны. И вот однажды Два Лука подстрелил сразу трех тетеревов. Прямо тут же, на месте, он развел костер и отправился разыскивать остатки птичьего выводка. Жена хорошо прожарила птиц, накормила ребенка, сама съела полгрудки и стала дожидаться мужа, чтобы накормить и его. Она ждала и ждала. Закончился короткий день. Муж не возвращался. Когда вышла луна, женщина собрала остатки еды, взяла ребенка и отправилась по следам мужа. Ей пришлось идти недолго. Она нашла его скоро. Он лежал у догорающего костерка и умирал. Она присела и положила голову мужа себе на колени. Тогда он приоткрыл глаза и слабым голосом прошептал:
— Продолжай путь, иди, спаси мальчика. Осталось совсем чуть-чуть.
Сказав это, он умер. Он уморил себя голодом ради жены и сына.
Вконец ослабевшая и обезумевшая от горя, женщина продолжала идти. А на следующий день она неожиданно вышла к краю бизоньих равнин, прямо к стойбищу племени кри. Она была спасена. Потом ее с сыном перевезли в родное стойбище.
Вот, друзья мои, теперь вы знаете, какая ужасная, жестокая земля у племени кри. Да, не сильный у них бог, мало у него волшебной власти, если он не смог им дать для охоты ничего лучшего, чем бесплодные топи да покрытые глубокими мхами равнины севера.
Кайи! Я все сказал.







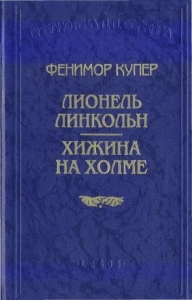

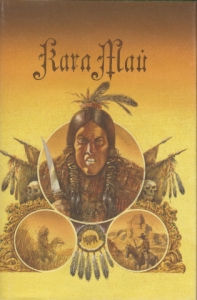


Комментарии к книге «Ошибка Одинокого Бизона (Сборник)», Джеймс Уиллард Шульц
Всего 0 комментариев