Предисловие литератора
Мне выпала честь знать покойного Джека Крэбба — пионера дикого Запада, переселенца, прибившегося к Шайенам, следопыта, ганфайтера, охотника на бизонов — в последние дни его земного бытия. Думаю, краткий отчёт о моих встречах с этим необыкновенным человеком будет здесь нелишним, ибо есть все основания полагать, что, если бы не моё, так сказать, конструктивное участие, эти удивительные воспоминания никогда не увидели бы свет. Нижеследующие страницы, я уверен, подтвердят справедливость этого на первый взгляд нескромного заявления.
Осенью 1952 года, после операции по поводу искривления носовой перегородки, я сидел дома и долечивался под присмотром немолодой уже сестры — сиделки по имени Уинифред Бэрр. Миссис Бэрр была вдовой, и поскольку сейчас она уже отошла в мир иной (в результате несчастного случая, когда её маленький «Плимут» столкнулся с грузовиком, развозившим пиво), думаю, она не обидится, если я аттестую её как особу дородную, чрезмерно любопытную и весьма зловредную. Помимо того, она обладала невероятной физической силой, и купая меня в ванной, управлялась со мной играючи, словно с младенцем, хотя я мужчина довольно крупный.
Отдавая дань нынешней моде на исповедальный жанр в литературе, я бы добавил, пожалуй, что во время этих процедур я не испытывал ни малейшего волнения сексуального характера. Я ненавидел эти помывки и прибегал ко всем мыслимым и немыслимым ухищрениям, чтобы от них избавиться. Увы — тщетно! Похоже, она просто добивалась, чтобы я её уволил — стремление самоубийственное, принимая во внимание, что работа сиделки была для неё единственным источником существования. Но миссис Бэрр была из тех людей, которым их принципы не дают покоя, как пьянице — его пагубная страсть. Дело в том, что её покойный муж тридцать лет проработал на железной дороге машинистом товарного поезда, вследствие чего у неё сложилось совершенно чёткое представление о том, как должен выглядеть совершеннолетний американец мужского пола: он, по её мнению, должен ходить в комбинезоне, вымазанном мазутом, и полосатой брезентовой кепке с длинным козырьком. Она не считала моё физическое недомогание достаточно серьёзным, чтобы претендовать на услуги сиделки (хотя нос у меня и распух, а под глазами были мешки). Кроме того, миссис Бэрр с неодобрением относилась к источнику средств существования, которым я пользовался. Отец мой, человек обеспеченный, ежемесячно выделял мне небольшое пособие, которое и позволяло мне предаваться своим литературным и историческим изысканиям, не испытывая нужды зарабатывать хлеб насущный ежедневным трудом в поте лица и не слишком интересуясь жизнью тех, кто такую нужду испытывал, хотя я и относился к ним с глубочайшим уважением. Она с нескрываемым подозрением относилась к тому обстоятельству, что в свои 52 года я оставался холостяком, и даже позволяла себе кой-какие бестактные намёки по этому поводу (причём, намёки абсолютно несправедливые: я был когда-то женат, среди моих знакомых множество особ женского пола, и некоторые из них навещали меня, покуда я был прикован к постели, и, наконец, смею вас уверить, что в моём гардеробе нет предметов женского туалета). Миссис Бэрр доставила мне немало неприятных минут, и вам может показаться странным, что я уделяю ей столько внимания в этом ограниченном по объему предисловии, единственной целью которого является предварить и рекомендовать вашему вниманию важный документ истории Дикого Запада, чтобы затем скромно отойти в тень, более привычную для меня. Но так уж, видимо, заведено в этой жизни, что в качестве инструмента для достижения своих неисповедимых целей Провидение зачастую выбирает из всех достойных внимания кандидатов такое во всех отношениях никчемное создание, каким являлась моя бывшая сиделка.
В промежутках между яростными наскоками на меня с мочалкой в руке и приготовлением бледного чая, гренок и куриного бульона, которые поддерживали моё бренное существование в этот период, миссис Бэрр, движимая своим ненасытным любопытством, всюду совала длинный нос, обшаривая мою квартиру, словно банальный взломщик. Орудуя в спальне, она в качестве прикрытия использовала свою гуманную профессию. «Надо достать вам свежую пижаму», — бывало, заявляла она мне, и, пропуская мимо ушей мои инструкции, выдвигала один за другим ящики комода, и рылась во всех подряд. Оказавшись же в другой комнате, где я не мог её видеть, она отбрасывала прочь остатки приличия, и — лёжа в своей постели, я мог только прислушиваться, как уступают её бешеному натиску дверцы шкафов и шкафчиков, замочки ящичков комодов и буфетов, крышки сундуков и шкатулок, многие из которых представляли собой весьма ценные образцы искусства испанских краснодеревщиков колониального периода, добытые мною в те годы, что я провёл в северных районах штата Нью-Мексико, куда я отправился, чтобы подлечить свои слабые лёгкие целебным горным воздухом.
И только когда я услышал, как она распахнула стеклянные дверцы шкафа, где хранилась моя любимая коллекция индейских реликвий, я почувствовал, что не могу больше молчать, и, невзирая на пульсирующую боль в ещё не зажившем носу, закричал:
— Миссис Бэрр! Немедленно оставьте в покое мои индейские вещи!
Когда через минуту она появилась в дверях спальни, голову её венчал великолепный убор индейцев племени Лакота — это роскошное боевое оперение, некогда принадлежащее, как я знал, самому великому вождю Лакотов — Неистовой Лошади!
Несколько лет назад я отдал за этот убор перекупщику шестьсот пятьдесят долларов, Под сенью этого царственного украшения тучная фигура миссис Бэрр была феноменально нелепа, но я был в тот момент слишком взволнован, чтобы оценить комизм этого зрелища. Я был просто потрясен этим кощунством. У индейцев никто кроме воинов не имел права прикасаться к орлиным перьям, а если бы какая-нибудь скво вздумала облачиться в этот убор, хотя бы и в шутку, — это произвело бы такое впечатление, как если бы современная дама к вечернему платью натянула бы охотничьи сапоги своего мужа. Да простит мне читатель это неуклюжее сравнение, но, видит Бог, более удачное подыскать не так-то просто, ибо, честное слово, нет такого табу, которое с легкостью не нарушила бы современная женщина. И тем, что вытворяла в эту минуту миссис Бэрр, она только подтверждала порочность нашей белой цивилизации.
Она исполняла в дверях спальни какой-то дикий воинственный танец и оглашала комнату лаем с претензией на боевой клич. Эта особа обладала просто невероятной энергией. Я не отважился протестовать дальше из страха, что она обидится и просто погубит редчайшее украшение, которому было без малого сто лет. И так уже несколько перышек отделились от него и плыли в воздухе, медленно опускаясь на пол, словно тополиный пух в безветренный июньский полдень.
Я отвернулся и молчал, и таким образом открыл для себя, что именно можно противопоставить дурным манерам миссис Бэрр. Убедившись что ей не удастся выжать из меня больше ни звука, она в конце концов спрятала убор Неистовой Лошади на место, в шкаф, и вернулась в спальню с тем выражением на лице, которое появлялось у неё в минуты задумчивости.
Тяжело усевшись на подоконник, она спросила: «Я не рассказывала вам, как я работала в богадельне, в доме престарелых в Марвилле?»
В ответ я буркнул что-то с таким видом, который человека более чувствительного мог бы и обескуражить, но миссис Бэрр к таким тонкостям была невосприимчива.
— Как увидела эти индейские штуковины, так вспомнила… — тут она лающе откашлялась. — Был там один старый хрыч, — всё говорил, что ему сто четыре года. А вид у него! Ей-Богу, вы б ему все сто пять дали: противный такой тип, тощий, как ощипанный цыплёнок, шкура — как старая клеёнка. Ну, никак ему не меньше девяноста было, даже если и соврал, подлец.
Я прекрасно понимаю, что мои жалкие потуги воспроизвести здесь речь миссис Бэрр бессмысленностью напоминают донкихотские наскоки на ветряные мельницы, и лучшее, что я могу сделать, чтобы дать вам представление о ней, это охарактеризовать её как воплощённую недоброжелательность.
— А ещё говорил, что и ковбоем он был, и с индейцами повоевать довелось — ещё в старые времена. Они там, в богадельне, телевизор целый день смотрят — вестерны старые по большей части — так он, как кино начнётся, сидит и твердит одно и то же: что всё это, мол, враньё, всё не так, потому что он сам там был и всё это видел, и не в кино, а живьём. Бывало, другим старикам всю малину испортит, хотя чаще они на него — ноль внимания. А ручонки у него, чёрта старого, были блудливые: помню, подойдёшь к его сплетённому из ивовых прутьев креслу — одеяло поправить, мощи его древние закутать получше, — так и норовит, бесстыжий, лапку свою куриную запустить тебе за пазуху! А щипался — ой, не дай Бог! — ежели нагнешься возле него, подушку с полу поднять или ещё чего… Представляете, каково оно — женщине моего возраста? Хотя тогда я, конечно, была моложе — как-никак, семь лет уже прошло. И покойный мистер Бэрр, как пропустит стаканчик — другой, всегда говорил, что с фигурой у меня всё в порядке… Да, так вот, а ещё этот старый пень, в богадельне-то, говорил, что служил у Кастера и был с ним в последнем бою, а уж это — я точно знаю — самое натуральное враньё, потому что я видела кино про Кастера, и там поубивали всех до одного — кого как. Вообще, я всегда говорила, что, если разобраться по сути, то краснокожие и есть настоящие американцы, а больше — никто…
Но хватит о моей сиделке. Спустя неделю она покинула меня, а примерно в середине следующего месяца я прочёл в газете о её гибели в автомобильной катастрофе. Я полагаю, что отнюдь не принадлежу к числу тех зануд с садистскими наклонностями, которые столь часто пишут у нас предисловия и используют их для того, чтобы удовлетворить свою графоманскую страсть. Потому не вижу оснований посвящать читателя во все перипетии предпринятых мною поисков человека, который оказался уникальным экземпляром переселенца-колониста, пионера Дикого Запада.
Во-первых, как только миссис Бэрр заметила, что я проявляю интерес к этому «старому хрычу, который говорил, что ему и с индейцами повоевать довелось» и т. д., она тут же вовлекла меня в бесконечную и бесплодную гонку-преследование по глухим закоулкам её памяти, что можно было сравнить с преодолением полосы препятствий. Во-вторых, в доме престарелых в Марвилле (куда я отправился сразу же, как только мой нос вновь принял свою обычную форму) никто из персонала никогда ничего не слышал об этом человеке, чьё имя миссис Бэрр интерпретировала как «Пэпп» или «Стэбб», или «Тарр».
Упоминания о «ковбое» и «Диком Западе» также не пробудили ни в ком никаких воспоминаний. Что же касается предполагаемого фантастического возраста разыскиваемого, то врачи просто подняли меня на смех: им не доводилось слышать, чтобы кто-нибудь из обитателей этого заведения преодолел 103-летний рубеж. И у меня сложилось твёрдое убеждение, что они полны решимости скрыть от человечества этот рекорд и намерены выставить за дверь своего учреждения любого выскочку, который дерзнул бы улучшить этот результат: их заведение, как и все ему подобные, было катастрофически переполнено, и по гравиевым аллеям сада сновало такое количество кресел-каталок, что для пешеходов это был сущий кошмар.
В бюро штата по социальному страхованию мне предоставили информацию о существовании аналогичных учреждений для лиц преклонного возраста в городках Карвел, Харкинсвиль и Бардилл. Я побывал в каждом из них и провёл множество бесед как с сотрудниками, так и с престарелыми пациентами — и некоторые из этих бесед сами по себе могли бы составить занимательную повесть. Например, мне попалась одна старая перечница, которая ходила в халате и говорила басом, и я битый час общался с нею в полной уверенности, что говорю с мужчиной. Встречались и шарлатаны, которые делились со мною своими «воспоминаниями о Диком Западе» и продолжали упорно цепляться за свою легенду даже после того, как двумя-тремя коварными вопросами я выводил их на чистую воду. Но ни Пэппа, ни Стэбба или Тарра, никакого 111-летнего участника битвы при Литл-Биг-Хорн нигде не было.
В этой точке моего повествования у читателя может возникнуть естественный вопрос: чем объясняется готовность, с которой я принял на веру утверждение миссис Бэрр о существовании такого человека и если допустить, что она сказала правду, почему я не усомнился в достоверности изложенных ею фактов? Что ж, я действительно склонен к импульсивным реакциям, и коль скоро я могу позволить себе эту слабость, меня не мучают угрызения совести. Кроме того, я действительно питаю слабость, если не сказать страсть, ко всему, что связано с историей Дикого Запада, о чём свидетельствует и упомянутая мною выше коллекция индейских реликвий, стоимость которой составляет не одну тысячу долларов. И, наконец, среди принадлежащих мне вещей имеется внеочередной выпуск газеты «Трибюн», выходившей в городке Бисмарк, территория Дакота, от 6 июля 1876 года, в котором опубликованы первые списки жертв резни в Литл-Биг-Хорн, и, представьте себе, в этом перечне фигурируют имена Пэпп, Стэбб и Тарр! И хотя они числятся среди убитых, это ещё ничего не значит, ибо тела жертв этой бойни были до такой степени обезображены, что установить их личность со всей определённостью удавалось далеко не всегда. Я с самого начала решил, что Стэбба, видимо, придётся сразу отбросить по той простой причине, что этот разведчик был индейцем из племени Арикара, а если бы «старый хрыч из богадельни» был краснокожим, миссис Бэрр наверняка не преминула бы отметить это обстоятельство. Вместе с тем, она упомянула о его коже, которая была, якобы, «как старая клеёнка», хотя и не уточнила цвет. Но ведь далеко не все индейцы темнокожие, не говоря уж о том, что краснокожих в буквальном смысле слова среди них почти не встретишь.
Однако я обещал не отвлекаться от сути дела… Итак, в принципе вполне можно допустить, что Пэппу, или, к примеру, Тарру, или даже Стэббу удалось выбраться из той страшной мясорубки живым, а потом он в силу каких-то своих личных, неведомых нам причин на протяжении семи с половиной десятилетий избегал внимания властей, журналистов, историков и т. п. А может быть, страдал все эти годы потерей памяти, а потом вдруг решил заявить о себе в такой момент и в таком месте, где он был обречён на недоверие и насмешки своих ветхих соседей и грубой прислуги (вспомните миссис Бэрр). Повторяю, такой вариант развития событий был вполне возможен, но крайне маловероятен — к такому выводу я пришёл после нескольких месяцев бесплодных поисков. Кроме того, не забывайте, что миссис Бэрр, по её словам, видела этого человека в 1945 г., а теперь шёл 1952. И если кажется невероятным, чтобы человек дожил до 104 лет, то предположить, что он мог дотянуть до 111 — это уж просто фантастика. Нонсенс, если угодно…
В конце концов я пришёл к выводу, что рассчитывать на это попросту смешно. Так что с моей стороны было большой ошибкой во время очередного визита к отцу с целью получения моей ежемесячной стипендии — ибо он настаивал на том, чтобы эта процедура осуществлялась явочным порядком — повторяю, ошибкой было честно отвечать на его вопрос, когда он осведомился: «Ну, что, Ральф, чем ты теперь занят?» Я думал, он перекусит свою сигару — с такой яростью он сжал зубы, услышав мой ответ: «Ищу стоодиннадцатилетнего ветерана битвы при Литл Бигхорн».
К счастью, в этот момент в кабинет вошёл один из тех парней, что были у отца на побегушках, держа в руках депеши из Гонконга, где сообщалось о состоянии дел на строительстве отеля, которое он благодушно затеял в этой далекой колонии, и данное обстоятельство избавило меня от неприятной необходимости выслушивать его излияния по поводу моего возможного слабоумия. Отцу было без малого восемьдесят, и мы с ним никогда не были близки.
Я был уже почти готов махнуть рукой на всю эту затею и всерьёз взяться за свою многострадальную монографию, задуманную несколько лет назад, когда я жил в Таосе, штат Нью-Мексико, и посвящённую проблеме происхождения люминария — это род рождественского фонаря, распространенный на Юго-Западе страны и представляющий собой бумажный пакет, в который насыпается некоторое количество песка и помещается свеча. Я как раз сидел и перебирал свои заметки по этому поводу, когда мне принесли прелюбопытное письмо, весьма напоминающее розыгрыш:
«Дарагой сэр, слыхал я вы меня искали — думаю точно меня потому как тут в этом завидении кроме меня нету больше ни одного такого гироя ветерана фронтира и славных дней покорения Запада, который лично знал их всех — Кастера, Сидящего Быка, Бешеного Билла и этого подлеца Эрпа и других и лично участвовал в той битве при Литл Бигхорн, ещё известной в истории под названием Последний Бой Кастера.
Они держут меня тут силой. Мне сто 11 лет стукнуло. Если б со мной был мой Любимый Кольт, я б от них и сам ушол. Но его со мной нету. Паскольку вы писатель и всё такое я согласен рассказать вам про всё что помню всего за 50 тысяч долларов, что совсем не дорого, а наоборот почти даром, потому как наверно я такой один остался.
ваш друг
Джек Крэбб».Почерк был отвратительный (хотя отнюдь не старческий). Я потратил целый день, чтобы расшифровать эти каракули, и приводимую здесь редакцию можно рассматривать лишь как предположительную. Письмо было написано на листке с фирменным штампом Центра для лиц преклонного возраста в Марвилле; с которого я начал свои поиски и, как вы помните, безуспешно. Тот факт, что автор письма требовал вознаграждения — да ещё в таком размере — заставлял предположить, что я имею дело с потенциальным мошенником.
И всё же к середине следующего дня, отмахав на своем «Понтиаке» сто миль под «кратковременными ливнями с последующими прояснениями», я был уже в Марвилле, на пустынной стоянке дома престарелых и заруливал на одну из площадок с указателем «Для посетителей». Было часа два пополудни. Мне показалось, что директор-администратор был несколько раздосадован, увидев меня вновь, а когда я показал ему своё письмо, лицо его приняло откровенно презрительное выражение. Однако со свойственной ему любезностью он тут же препоручил меня заботам заведующего психиатрическим отделением — человека с бескровным лицом и фамилией Тиг. Тот, с бесстрастным видом изучив корявые иероглифы моего документа, понимающе кивнул, вздохнул и сказал: «Да, сэр, похоже, это наш человек. Им периодически удаётся отсылать письма, минуя администрацию. Очень сожалею, что вас потревожили, но уверяю, — этот пациент абсолютно безобиден. Намёки на насилие, которые он делает в последнем абзаце, есть фантазия больного ума. Кроме того, он настолько слаб физически, что без посторонней помощи не то, что на горшок сесть — эншульдиге зи мир, битте, — с кресла встать не может. У пациента напрочь отсутствует апперцепция. Если вы опасаетесь, что он сможет выбраться за пределы учреждения и учинить хомицид или убийство, то ваши опасения совершенно напрасны, вы можете быть абсолютно спокойны».
Тут я заметил доктору, что угрозы мистера Крэбба, если это можно назвать угрозами, адресованы отнюдь не мне, а, напротив, — персоналу данного учреждения, на что тот, как и следовало ожидать, отреагировал вполне адекватно, т. е. лишь снисходительно улыбнулся.
Должен сказать, что у меня богатый опыт общения с этой публикой: лет десять назад, пытаясь излечиться от своей мигрени и ночных кошмаров, я вдоволь хлебнул медицины, дважды в неделю на протяжении нескольких лет посещая процедуры (за что платил по 50 долларов в час) — и всё это без малейшего намёка на какой-либо эффект.
«И всё же я вынужден настаивать на встрече с мистером Крэббом, — добавил я в заключение. — Я только что проехал сто миль только лишь затем, чтобы увидеться с ним, и потратил на это всё утро, которое мог бы провести с большей пользой, изучая состояние своих банковских счетов».
Он тут же уступил моей настойчивости. Представителям его профессии совсем несложно навязать свою волю, если пользоваться не эмоциональными, а экономическими аргументами.
Мы поднялись по лестнице и долго шли коридорами. Психиатрическое отделение — самое молодое в данном учреждении — было сплошь из стекла, кафеля и филодендронов: честно говоря, оно больше напоминало оранжерею, где, словно грибы среди листвы, тут и там выглядывали стариковские лысины. Мы вышли на застекленную веранду, всю заросшую геранью. За окном вступил в свои права декабрь, а здесь, внутри, благодаря термостатному оборудованию круглый год царило искусственное лето. Вдруг меня поразило жуткое видение: на сидении кресла-качалки спиной к нам стояла отвратительная чёрная птица — канюк или гриф — такой огромный, какого мне ещё не доводилось встречать. Он устремлял неподвижный взгляд своих змеиных глаз вниз, во двор, словно высматривая добычу, и его сморщенная лысая головка едва заметно дрожала.
«Мистер Крэбб, — обратился доктор Тиг к птице, — к вам пришли. И как бы вы ни относились ко мне, я полагаю, что со своим гостем вы будете максимально вежливы».
Птица медленно повернула голову и взглянула через своё покатое плечо. Мой ужас несколько поубавился, когда вместо клюва я увидел человеческое лицо, высохшее и сморщенное, словно старая клеёнка, о которой упоминала миссис Бэрр, но это было лицо, а точнее — злое личико с глазками жгучими и синими, словно небо в сентябре.
«Слушай, парень, — сказал старик доктору Тигу. — Однажды возле Каменного Брода меня ранило в жопу, и я тогда сам вырезал оттуда пулю своим ножом с помощью зеркальца; так вот, моя волосатая задница была просто загляденье по сравнению с твоей рожей».
Он развернул кресло. Если птицей он казался крупной, то для человека был явно мелковат. Его крошечные ножки были обуты в ковбойские сапожки, что, видимо, должно было свидетельствовать о любви к лошадям. То, что я принял за тёмное оперение, на самом деле оказалось старым фраком, который от времени принял мутно-зелёную окраску. В солярии, где мы находились, было так тепло, что герань, казалось, вот-вот зацветёт, но на старике под фраком был толстый шерстяной свитер, надетый поверх фланелевой пижамы. Штанины пижамных брюк высоко задрались, открывая взору серые кальсоны, заправленные в чёрные гетры.
Голос его я храню по сегодняшний день. Представьте себе, если сможете, что кто-то бренчит на расстроенной гитаре, в которую насыпали гравия: дребезжит, скрипит, шуршит.
Доктор Тиг взглянул на старика с улыбкой, в которой за снисходительностью угадывалась едва сдерживаемая ненависть, и представил нас друг другу.
Вдруг Крэбб сунул в рот и пришлепнул на свои коричневые десны вставную челюсть, которую всё это время прятал в кулаке, и, оскалив на доктора свои искусственные зубы, прорычал: «Ты, глиста недоношенная, пшёл вон отсюда, сукин сын».
Тиг поднял глаза к небу и сложил руки на груди, имитируя христианское всепрощение, а потом взглянул на меня и сказал: «Если мистер Крэбб не возражает, не вижу, отчего бы Вам не побеседовать с ним здесь в спокойной обстановке — с полчаса. На обратном пути можете заглянуть ко мне в кабинет, мистер Снелл».
Джек Крэбб взглянул на меня искоса, выплюнул свою челюсть и засунул её во внутренний карман фрака. От сознания, что теперь всё зависит от моей способности установить контакт с собеседником, мне стало не по себе, С той самой минуты, как я убедился, что он — не птица, я не сомневался, что всё, о чём он написал в своем письме, — чистая правда. И всё же я решил действовать осторожно…
Он вновь уставился на меня своими пронзительными синими глазами. Я подождал, затем счел за благо капитулировать и отвел, взгляд.
«Да ты, никак, баба, сынок, — сказал он, наконец, вполне доброжелательно. — Так точно, сэр, — рыхлая толстая баба! Бьюсь об заклад, если схватить тебя за руку — след надолго останется, как будто она у тебя из воска. Я видал одного такого педика, вроде тебя. Он припёрся на Запад и сунулся зачем-то в племя Кайова, а они привязали его к дереву, а потом ихние женщины секли его розгами, пока не перемесили ему всю спину… Деньги принёс?»
Я понял, что старый вояка просто испытывает меня, и не стал подавать виду, что обиделся, да это и не соответствовало бы действительности.
«А зачем они сделали это, мистер Крэбб?»
Старик сморщился, и при этом лицо его полностью утратило все черты — исчезли глаза, рот и большая часть носа, только кончик торчал спереди, отчего голова его приобрела сходство со сжатой в кулак рукой в старой кожаной перчатке.
«Понимаешь, индеец всё время с ума сходит от любопытства — ему про всё хочется знать, как оно устроено. Конечно, не всё ему интересно. Что не интересно — того он в упор не видит. Но тот парень, педик, их заинтересовал не на шутку. Им хотелось проверить, будет он визжать, как женщина, или нет. Но он рта не раскрыл, хотя спину ему исполосовали — как будто сыр ножом посекли. Они видят такое дело — дали ему подарки и отпустили. Он был смелый человек, сынок, и в этом всё дело, а педик или не педик — это без разницы… Деньги принёс?»
«Мистер Крэбб, — сказал я, испытав некоторое облегчение после его разъяснений, хотя всё ещё не вполне уловил суть этой истории, — я должен сразу же заявить Вам, что располагаю весьма скромными средствами».
«Нету денег? Вот те на… А что же у тебя есть? Одежонка у тебя, вроде, не ахти». С этими словами он извлёк откуда-то трость и ткнул меня в живот. К счастью, трость была с резиновым наконечником, и всё обошлось, хотя на моём бежевом плаще осталось пятно.
Мне хватило гибкости ответить: «Думаю, о вознаграждении мы договоримся». Затем, пошарив среди каучуконосов, растущих в кадках вдоль стены, я обнаружил там плетёное кресло, придвинул его поближе к старику и уселся. «Надеюсь, вы не обидитесь, мистер Крэбб, но прежде всего я хотел бы проверить подлинность вашей информации».
Это моё заявление вызвало у него затяжной приступ сухого смеха, весьма напоминающего звук, с которым трут по терке морковь. А потом его жёлтая сморщенная головка, обтянутая полупрозрачной, словно пергамент, кожей и голая, как эмбрион, упала на грудь — и сердце у меня замерло от осознания трагической истины: я разыскал его слишком поздно — он умер…
Я бросился к нему, прижал к его воробьиной груди ладонь… потом припал к ней ухом… Ах, если бы моё собственное сердце билось столь ритмично и уверенно! Он просто спал.
* * *
«Мне бы не хотелось, чтобы ваш энтузиазм помешал вам реально оценить факты, — говорил доктор Тиг несколько минут спустя, сидя в своем кабинете за оцинкованным столом, над которым горела флюоресцентная лампа, закрепленная на гигантском штативе, напоминающем портовый кран. — Я помню вашу миссис Вэрр — она работала здесь, но отнюдь не медсестрой, а скорее уборщицей, её уволили, если не ошибаюсь, за то, что она снабжала интоксикантами некоторых пациентов, среди которых в первую очередь следует упомянуть Джека Крэбба. Видите ли, если легкий допинг в виде глотка чего-нибудь с некоторым содержанием алкоголя, может благотворно сказаться на состоянии престарелого пациента, способствуя улучшению кровообращения, то употребление крепких напитков — и в большом количестве — может оказать на старое сердце самое разрушительное воздействие. Не говоря уже о психических последствиях. А параноидальная патология мистера Крэбба, думаю, видна даже неспециалисту».
«Да, но, судя по всему, ему действительно может быть сто одиннадцать лет. Это вы готовы признать, доктор?» — спросил я.
Он улыбнулся: «Странная постановка вопроса, сэр. Мистеру Крэббу действительно очень много лет, и не имеет значения ни то, что именно я готов признать, ни то, во что вам хочется верить. В медицинской науке существуют методики, позволяющие определить приблизительный возраст человека, но в его возрасте точность подобных расчётов резко падает. А вот у младенцев…»
В этот момент я почувствовал, что сейчас чихну, и успел выхватить платок как раз вовремя, чтобы предотвратить неприятность: эта проклятая герань — у меня на неё аллергия. А прописанные мне капли — в сотне миль отсюда… Моя выпрямленная носовая перегородка саднила — она едва успела зажить! Но в самом этом неблагоприятном стечении обстоятельств я усмотрел определённый нравственный урок. Я вспомнил рассказ Крэбба о добродушном парне, жестоко избитом индейцами, и задним числом постиг его глубинный смысл: каждого из нас, простых смертных, жизнь ежедневно ставит в ситуации, когда приходится выбирать линию поведения. Смалодушничать или избрать путь мужества?.. Лишь горстке избранных суждено было взойти на ту высоту над рекою Литл Бигхорн. Но они дали образцы стойкости множеству заурядных людей, от которых вовсе не требуется той великой жертвы, а нужно всего-то — с достоинством преодолевать превратности повседневной жизни, в чем бы эти превратности ни выражались — будь то проколотая на глухом проселке шина, хамство хулигана на пляже, или хотя бы приступ аллергии при отсутствии пузырька с аэрозолем.
В кабинете доктора стоял умывальник из нержавеющей стали; я подошёл к нему, набрал пригоршню воды и попытался втягивать её носом в верхние дыхательные пути. Эта паллиативная мера успеха не имела. Следующие сорок пять минут я чихал без остановки, и нос мой распух до размеров баклажана средней величины, а глаза сузились, превратившись в щелочки, отчего в лице у меня появилось что-то дальневосточное. Но ничто не могло поколебать мою волю.
Как оказалось, круг интересов доктора был ограничен исключительно проблемой денег или, точнее говоря, проблемой постоянного дефицита этого высшего продукта нашей цивилизации — дефицита, от которого страдало данное учреждение в целом и психиатрическое отделение в частности. Медицинская наука готова была определить возраст ребёнка практически бесплатно. За ту же услугу, оказанную старику, она требовала денег. Ибо ей нужны были деньги, чтобы покупать кресла-качалки, чтобы платить сиделкам вроде покойной миссис Бэрр, не говоря уж о настоящих медсестрах… Даже ненавистная мне герань — и та была статьей расхода.
Я никогда не подозревал, что мой отец дружен с многими законодателями штата. Волею судеб мне потребовалось приехать в Марвилл и встретиться с доктором Тигом, чтобы сделать для себя это открытие. Уж не знаю, насколько глубоко постиг он секреты своего ремесла (или назовем это наукой, или, если хотите, видом мошенничества), но хитросплетения политической жизни нашего штата были, как оказалось, изучены им досконально. В искусстве дипломатии он тоже преуспел. И потому итогом наших непродолжительных переговоров в его кабинете (где абсолютно всё было изготовлено из металла, отчего я казался себе инородным телом) явилось моё обещание затронуть в разговоре с отцом вопрос о целесообразности и желательности увеличения централизованной финансовой поддержки учреждений для лиц преклонного возраста. Тогда доктор Тиг, со своей стороны, выразил готовность, разумеется, с поступлением на счёт учреждения достаточных денежных сумм, осуществить все необходимые химические анализы и рентгеноскопическое обследование старческих костей Джека Крэбба, чтобы выяснить содержание в них кальция.
Пока же он предварительно определил возраст старика как девяносто с лишним.
Сомневаюсь, чтобы сам Джек Крэбб в свои лучшие годы и к тому же имея при себе свой «Любимый Кольт», сумел бы добиться большего от доктора Тига. Написав отцу письмо, я решил, что могу считать себя свободным от каких бы то ни было обязательств перед доктором Тигом… Внял ли отец просьбе — этого я не знаю. Во время моих регулярных визитов он ни разу не заговаривал со мной об этом. Но энтузиазм доктора Тига, равно как и его идейного вдохновителя — директора учреждения, ничто не могло поколебать. И за все пять месяцев, в течение которых я чуть ли не ежедневно встречался и беседовал с Джеком Крэббом, не было случая, чтобы, встретив меня в коридоре, они не задали бы мне ставший почти ритуальным вопрос: «Ну, как наши дела, сэр?» На что неизменно следовало: «Обнадеживающе, доктор». Будучи в Марвилле в последний раз в начале лета 1953 г., я вновь услышал: «Как наши дела, сэр?»…
Теперь о самом процессе создания этой книги.
В первоначальном виде она представляла собой пятьдесят семь бобин магнитной ленты, хранящей голос Джека Крэбба. С февраля по июнь 1953 г. я, за редким исключением, каждый день садился рядом с ним, настраивал магнитофон, старался подбодрить старика, если он был не в духе, время от времени задавал наводящие вопросы, чтобы ему легче было восстановить в памяти события вековой(!) давности, и вообще старался быть ненавязчиво предупредительным.
В конце концов, это была его книга, и мне странным образом льстила мысль, что я в меру своих скромных возможностей способствовал её появлению на свет.
Местом наших встреч с м-ром Крэббом стала его крошечная комната — безрадостный каменный мешок, где кроме убогой металлической мебели было одно-единственное окно, выходившее на вентиляционную шахту, по которой из кухни, расположенной двумя этажами ниже, возносились ядовитые испарения. На застеклённой веранде, где я увидел его в первый раз, нам было бы, без сомнения, гораздо удобнее, если бы не моя аллергия на тамошнюю флору, не говоря уже о том, что неизбежное внимание любопытствующих пациентов и медсестёр, постоянно обретавшихся на этой веранде, исключало возможность плодотворной работы.
К тому же м-р Крэбб в эти месяцы таял буквально на глазах. В марте он уже не вставал с постели. В июне, когда я записывал последние метры плёнки, голос его был едва слышен, хотя мозг работал как часы.
На двадцать третий день июня он встретил меня неподвижным взглядом остекленевших глаз. Старый вояка прошёл свою тропу до конца…
Выписавшись из мотеля, где прожил пять месяцев, я отправился на похороны. Я полагал, что кроме меня не будет никого, ибо друзей у старика не было, — но ошибся: пришли почти все амбулаторные пациенты. Они стояли — как это принято в подобных случаях у пожилых людей, — храня на лице выражение мрачного удовлетворения. Тело было предано земле 25 июня 1953 года — как оказалось, в день семьдесят седьмой годовщины битвы при Литл Бигхорн. В смерти, как и в жизни, Джек Крэбб не изменил своей страсти к случайным совпадениям.
Теперь о самом тексте: он точно воспроизводит рассказ м-ра Крэбба, записанный на пленку. Я не выбросил ни слова, а добавил лишь необходимые знаки препинания. Если же вам покажется, что где-то их Шайен недостает — знайте: это сделано умышленно и призвано, по моему замыслу, передать лихорадочное возбуждение рассказчика. Я не ставил перед собою цели воспроизвести его характерное произношение — в этом случае вся книга напоминала бы то письмо, которое он написал мне из Марвилла.
Джек Крэбб был талантливым рассказчиком и обладал каким-то поразительным врожденным литературным чутьём: я не нахожу иного объяснения некоторым несообразностям его стиля. Обратите внимание: если абзацы, где повествование ведётся от первого лица — от автора — написаны языком безграмотным, то такой персонаж, как генерал Кастер, высокообразованный человек, говорит абсолютно правильно, даже изысканно. Речь же индейцев в изложении автора с точки зрения грамматики и синтаксиса просто безупречна. Да и говоря от своего собственного лица, Джек Крэбб не всегда последователен в выборе форм. Например, он с одинаковым успехом использует в речи слова «их» и «ихних», «хотите» и «хочете» и др. Но случалось ли вам когда-нибудь прислушаться, как говорят представители социальных низов из числа ваших знакомых — слесарь, водопроводчик, шофёр, чистильщик сапог? Если нет, попробуйте прислушаться. И вы убедитесь, что им прекрасно известны правила цивилизованной риторики; в конце концов, не на необитаемом острове же они живут. При желании эти люди вполне в состоянии говорить грамотно, что они порой и делают — хотя бы для того, чтобы вытянуть из вас чаевые. Ясно, что их обычная манера общаться — результат сознательного выбора.
Думаю, вы согласитесь, что м-р Крэбб удивительно точен в выборе лексики. Порой несколько грубоват? — да, согласен. Однако примите во внимание личность этого человека, эпоху и обстоятельства, в которых он жил. И при этом его отношение к женщинам отличает какая-то архаичная галантность: он романтичен, сентиментален — честно говоря, порой даже сверх меры, как мне кажется. Образ миссис Пендрейк, например, он явно приукрасил. Подозреваю, что это была самая заурядная бабёнка-пустоцвет, каких каждый из нас время от времени встречает на своём жизненном пути. Скажем, моя бывшая жена… впрочем, это мемуары Крэбба, а не мои.
Однако в обычном повседневном общении — когда перед ним не было микрофона — Джек Крэбб был таким ужасным сквернословом, какого я больше нигде не встречал. Он был просто не в состоянии породить ни одной фразы, которую можно было бы публично произнести с трибуны или напечатать в газете. В общих чертах это выглядело примерно так: «Подай-ка мне этот бахнутый микрофон, сынок, так-его-перетак. И когда эта бахнутая сиделка, так-её-растак, принесёт этот бахнутый ужин, так-его-растак-перетак?» Естественно, по ходу повествования читатель должен сам делать определённую поправку на авторский стиль, к примеру, в знаменитой сцене поединка с Эрпом, когда Крэбб говорит ему: «Ну, ты, тошнота, вытаскивай пушку, чёрт тебя подери!» Нет никаких сомнений, что в действительности здесь прозвучали выражения покрепче.
Однако хватит об этом. С тех пор, как Джек Крэбб говорил в мой микрофон в последней раз, прошло десять лет. Тем временем отец мой в конце концов скончался, положив тем самым начало бесконечной судебной тяжбе за наследство между мною и каким-то незаконнорожденным якобы двоюродным братом, Бог весть откуда возникшим. Это не имело бы никакого отношения к данному повествованию, если бы следствием этой тяжбы не явился бы тяжелейший нервный срыв, который на несколько лет из десяти вывел меня из строя, чем и объясняется столь длительный перерыв между возникновением замысла этой книги и его осуществлением.
Ну, что ж, теперь сказано всё, и я уступаю место Джеку Крэббу. Я ещё раз напомню о себе в кратеньком эпилоге. Но сначала прочтите эту замечательную повесть!
Ральф Филдинг СпеллГлава 1. УЖАСНАЯ ОШИБКА
Я белый человек и всегда помнил об этом, хотя с десятилетнего возраста меня воспитывали индейцы-Шайены.
Папаша мой был проповедник-евангелист в Эвансвиле, штат Индиана. Своего храма у него не было, но он сумел уговорить хозяина одного салуна, и тот разрешил по воскресениям с утра использовать своё помещение для чтения проповедей.
Салун стоял у самой реки, и захаживали туда в основном речники, что плавали по Огайо, шулера-картежники, направлявшиеся в Новый Орлеан, карманники, сутенеры, проститутки и другая публика того же сорта. Такую паству папаша особенно любил, ибо она, как никакая другая давала возможность наставить на путь истинный побольше отпетых негодяев.
Когда он в первый раз явился в салун и обратился со своей проповедью к этому сброду, они захотели тут же линчевать его, но он влез на стойку бара и принялся орать что было мочи… Не прошло и двух минут, как все притихли и стали слушать. Сам он был тощий, как жердь, и росту не выше среднего, но перед его голосищем не устоял бы ни один белый человек на этом свете. Был у него один приёмчик: он, понимаете ли, умел внушить человеку чувство вины — вины за что-нибудь такое, о чём тот и не помышлял. В этом деле главное — сбить с толку. Бывало, упрется горящим взглядом в какого-нибудь заскорузлого детину-матроса и орёт: «А скажи-ка, несчастный, давно ли ты навещал свою старуху-мать?» И — как пить дать — «несчастный» тут же начнёт дочесываться, шмыгать носом и сморкаться в рукав, а потом, когда мои сестрёнки пойдут собирать пожертвования, обходя присутствующих с вымытыми по такому случаю плевательницами, этот малый уж точно не поскупится и воздаст нам за труды.
От сборов перепадало и владельцу салуна, чем, в общем-то, и объяснялось, что он пускал нас в своё заведение.
Другая причина заключалась в том, что во время проповеди продолжал работать бар. Надобно вам сказать, что пуританином мой папаша не был. Часом, во время проповеди и сам умудрится пропустить стаканчик — другой — третий, и вообще не было такого случая, чтобы он хоть слово сказал против выпивки, карт или женщин, или каких других утех. «Все радости земные дал нам Господь, и, значит, они не могут быть безнравственны сами по себе. Безнравственно, если человек в своем стремлении к удовольствиям превращается в грязную тварь, плюётся и ругается последними словами, жуёт табак и ходит неумытым». Вот, пожалуй, и все пороки, о которых когда-либо упоминал мой папаша. Он абсолютно ничего не имел против курения, но терпеть не мог сквернословия, нечистоплотности, а также когда жуют табак. Ты мог спиться и умереть от белой горячки, мог в пух и прах проиграться в карты, просадить все своё состояние и обречь своих детей на голодную смерть, мог подцепить дурную болезнь от падших женщин — у отца не было бы к тебе никаких претензий, лишь бы ты ходил чистым и следил за собой.
Я тогда был мальчишкой и ни о чём не догадывался, но теперь я понимаю, что папаша был чокнутый. То бесится, как ненормальный, а то на него хандра нападет, и он никого не видит, не слышит и не отзывается, если с ним заговоришь, а за столом тупо, как животное, набивает своё брюхо.
До того как удариться в религию он брадобрействовал, да и потом, бывало, стриг нас, малышню, и уж поверьте — ежели в такой момент на него найдёт — то тут уже не до шуток: вопит и прыгает вокруг тебя с ножницами и, как пить дать, вместе с волосами отхватит тебе кусок кожи на шее.
В этом салуне дела у папаши шли совеем неплохо, хотя надо сказать, что среди ординарных проповедников возникло движение с требованием выкинуть его из города, так как он сманил всю их паству, разве что исключая пожилых дам, которые отдавали предпочтение более ортодоксальному христианству, где все на свете запрещается. И тут папаша вдруг решил, что надо ему ехать в Юту и сделаться мормоном. Эта идея насчёт мормонов привлекала его, помимо прочего, ещё и тем, что мужчине у них полагается несколько жен. Тут вся штука в том, что, если не считать сквернословия, жевания табака и т. д. папаша всей душой стоял за свободу. За абсолютную свободу во всех отношениях.
Сам он в дополнительной жене не нуждался, но ему дорог был принцип. Ну, а раз так, моя мать и не возражала. Она была маленькая, хрупкая женщина с наивным круглым лицом в веснушках, и в те дни, когда у отца не было проповеди и негде было спустить пар, она, бывало, раздевала его, сажала в ушат с горячей водой и минут пятнадцать терла ему спину мочалкой. Тогда папаша немного успокаивался.
Из Эвансвиля он потащил нас всех в Индепенденс, штат Миссури. Там он купил фургон, пару волов — и всё наше семейство двинулось в путь по Калифорнийскому тракту. Дело было — дай Бог памяти — весной 1852 года. Золотая Лихорадка, что грянула в 1848, уже, считай, отбушевала, но ещё немало припозднившихся бедолаг тянулось в Калифорнию.
Мы живо насобирали караван из семи фургонов и двух верховых, и попутчики наши выбрали папашу старшим — и это при том, что в путешествиях по Равнинам он смыслил не более, чем я в китайской грамоте — я, кстати, потом встречал их (китайцев, то есть) на железной дороге Сентрал Пасифик, они её строили и вкалывали по шестнадцать часов в сутки. Видать, наши попутчики сразу сообразили, что папашину глотку им не заткнуть. Ну, а раз так, — отчего бы не сделать его своим боссом? Опять-таки, вечерами у костра он читал проповеди, а им без этого никак нельзя было обойтись, ибо время от времени их покидала надежда — как и всякого, кто бросает все на свете ради одной большой цели. Надо бы, конечно, дать вам образец папашиной проповеди, потому как, если он в ближайшее время не объявится, то может случиться, что больше мы его не услышим, но, наверное, это ни к чему: теперь, спустя сто лет, для читателя, развалившегося в мягком кресле или где там ещё можно развалиться, это будет пустой звук — все эти речи, произнесенные когда-то под вечер в бескрайней прерии у костра, источая сладковатый дымок, сгорают сухие бизоньи лепешки. И если не вложить в них, в эти слова, истинного вдохновения, как это делал папаша, от вообще можно подумать, что это какая-то белиберда, а вдохновение-то у папаши проявлялось не столько в том, ч то он говорил, сколько в том, как он это делал, хотя, может быть, я просто был ещё мал, и мне так показалось. Самое смешное, что папаша чем-то ужасно смахивал на индейца.
Да-а, индейцы… Пока ехали вдоль мутных вод реки Платт через Небраску, мы то и дело натыкались на небольшие группки индейцев-Поуней. Индейцы есть индейцы, и мне, мальчишке, они, конечно, были симпатичны — прежде всего, тем, что живут себе просто так, без всякой цели. Как птички Божий, — сказал бы папаша. Они обычно появлялись из-за холма в четверти мили от каравана и тоскливо плелись на своих лошадях вроде бы мимо, по своим делам, но потом, поравнявшись с нами, вдруг сворачивали в нашу сторону, подъезжали ближе и принимались клянчить харчи. Больше всего им нравился кофе. Они просто из кожи лезли вон, лишь бы мы остановившись и сварила им кофейничек, а не просто протянули на ходу кусок бекона или хлеба. Мне даже кажется, дело тут не только в кофе. Ещё важнее для них было заставить нас остановиться. Видишь ли, ничто так не выводит индейцев из себя, как непрерывное размеренное движение. Может, потому они, мало того, что сами не додумались до колеса, но и у белых его не переняли, покуда жили в дикости, хотя довольно быстро смекнули, как пользоваться лошадью, винтовкой и стальным ножом.
Но кофе они, конечно, ужасно полюбили. Бывало, усядутся на своих одеялах, прихлебывают из кружек и после каждого глотка, покачивая головами, приговаривают: «Ай-ай, ай-ай!»
Не трудно догадаться, что папаша в индейцах души не чая л, потому что он и всегда делали, чего им хотелось, и он все время пытался втянуть их в философскую дискуссию, что было делом безнадёжным, потому как они по-английски ни бум-бум, а папаша, кроме родного языка, никак, даже на пальцах не умел объясняться. И очень жаль, потому что, как я выяснил впоследствии, больших краснобаев, чем эти краснокожие и не сыскать.
В общем, закончив есть, Поуни вставали, ковыряясь ногтем в зубах, ещё пару раз говорили «ай-ай, ай-ай», влезали на своих лошадок и уезжали, не сказав ни слова благодарности, хотя некоторые из них лезли пожимать руки. Эту привычку они только недавно переняли у белых (а стоит им подцепить что-нибудь новенькое, и оно тут же превращается у них в манию). И уж если кто из них начнет пожимать руки, то пожимает всем подряд, всему каравану — мужчинам, женщинам, старикам и детям, и младенцам в люльках. И я б не удивился, если бы он и к волу полез: пожать ему правое копыто.
Они не говорили ни слова благодарности, потому что у них не было такого обычая в те времена, к тому же они и так уже проявили вежливость, без конца повторяя «ай-ай, ай-ай», что означало «хорошо-хорошо». Вообще-то весь свет можешь обойти, но более манерной публики, чем индейцы — не найдешь. В каком-то смысле эти их визиты были визитами вежливости (в соответствии с их понятиями о вежливости), потому что по нашим понятиям они были вовсе не попрошайки, вроде тех опустившихся типов, что я встречал в больших городах. Вот они-то этим только и промышляют. По индейским понятиям, если видишь чужака, то либо ешь с ним, либо воюешь, но чаще Шайен делишь хлеб, потому что война — дело серьёзное, слишком серьёзное, чтоб воевать Бог знает с кем — с незнакомцем, которого впервые видишь. Мы могли бы наткнуться на какой-нибудь индейский посёлок, и тогда уже им бы потчевать нас — никуда бы они не делись. Эти рауты с каждым днём становились всё грандиозней, потому что, как я себе представляю, один Поуни, наверное, говорил другому: «Слушай, надо бы тебе тоже съездить туда, к этому каравану, да отведать кофе с сухариком». А поскольку мы на своих волах плелись еле-еле (мили две в час, не больше, а из-за бесконечных остановок и угощений так и того меньше), то целыми неделями тащились по территории одного племени. С каждым днём гостей приезжало всё больше. Приезжали с женщинами, даже с младенцами, увязанными на специальных волокушах, сделанных из жердей… Когда добрались до территории Шайенов — в юго-восточном углу нынешнего штата Вайоминг — опять началась та же самая песня, только теперь с Шайенами. У всех в нашем караване кофе давно вышел, и во время остановки в Форт-Ларами, у слияния рек Ларами и Северного Платта мы первым делом собирались пополнить его запасы.
А в Форт-Ларами запас бобов тоже иссяк, а подвоза ожидали только через неделю (тогда ведь железной дороги ещё не было). Как ни странно, папаша твёрдо склонялся к тому, чтобы подождать, но остальным не терпелось немедленно двигать в Калифорнию. Они ведь и так уже опоздали на три года…
Одним из таких торопыг был Йонас Трой — бывший кондуктор с железной дороги, родом откуда-то из Огайо. Помню, была у него коротенькая бородка, худосочная жена и ребёнок, — мальчишка, старше меня на год, — гадкий парень… Помню, стоило нам подраться, он тут же начинал кусаться и пинаться ногами, а когда я отвечал ему тем же — дико орать.
— Индейцы, — говорил мистер Трой, — любят виски даже больше, чем кофе. К тому же и угощать легче — не надо останавливаться, наклонил бочонок — и всё…
Когда он говорил это — они с папашей как раз стояли у входа в лавку, расположенную на самом бойком месте этого форта.
И покуда они обдумывали и, наконец, приняли своё роковое решение, мимо них проехало десятка полтора человек, каждый из которых вполне мог бы посоветовать им отказаться от этой бредовой идеи и тем самым спасти им жизнь, ведь это были не новички — трапперы, следопыты, старатели, солдаты, даже сами индейцы — но папаше и Трою даже в голову не пришло кого-то расспросить: Трою — потому что он свято верил во всё, что придумал сам и что благословил мой папаша, а папаше — потому что после наших встреч с племенем Поуней ему втемяшилось в башку, что теперь он знает индейцев, как облупленных.
— Уверяю Вас, брат Трой, — говорил папаша, — характер жидкости не имеет для них никакого значения. Важен сам акт причащения. Не забывайте, ещё в Книге Мормона сказано, что индейцы суть заблудшие племена народа Израилева. Этим и объясняются языковые сложности, с которыми я столкнулся, пытаясь объясниться с представителями этого благородного племени там, на реке Платт, ибо я ведь не знаю ни слова на иврите, хотя твёрдо намерен заняться им, когда мы доберёмся до Солт-Лейк. Но Господь в своей бесконечной мудрости сподобил меня общаться с нашими краснокожими братьями непосредственно от сердца к сердцу, и в их сердцах я узрел лишь любовь и справедливость.
Так вот, закупили они в лавке несколько бутылей виски и вскоре мы, так и не пополнив запасы кофе, выехали из Ларами. Как сейчас помню поля к западу от форта, сплошь заваленные всяким хламом, выброшенным нашими предшественниками: мебель, утварь, всякое тряпье… Просто диву даешься, что весь этот хлам люди тащат за тысячи миль, через пустыни, реки, горы, прерии, заросшие бизоньей травой… Там валялись даже книги, множество книг, вздувшихся и покоробленных от дождя, солнца и ветра, трепавшего их страницы, и папаша не пожалел времени, чтобы пролистать некоторые из них, в надежде найти Книгу Мормона, о которой он упоминал, но которую в действительности ни разу не видел, ибо все свои познания об этой секте он приобрел у одного лудильщика, что заглянул как-то раз в салун в Эвансвиле. Да и вообще, когда я теперь вспоминаю обо всем этом, мне кажется, папаша и читать-то не умел, а места из Евангелия, которые он цитировал, были восприняты у настоящих проповедников, когда ещё был цирюльником.
Прошёл день (или два) после нашего отъезда из форта. Ехали мы южным берегом Северного Платта, всё ещё по ровной, как стол, прерии, хотя впереди уже виднелись холмы, а дальше за ними поблескивали снежными вершинами горы Ларами. Было, кажется, начало июня, и тут нам представилась возможность проверить теорию Троя на практике, ибо в один прекрасный день со стороны реки появилась группа Шайенов — дюжины две воинов на лошадях, у которых с брюха все ещё капала вода. Шайены — народ симпатичный: высокие, стройные, а мужчины у них, как и все заядлые бойцы, страдают тщеславием. Как и положено по случаю визита, эти парни с ног до головы обвешались стеклянными бусами, заплели свои волосы в косички и украсили их лентами, выменянными по случаю у какого-нибудь торговца. У большинства на голове красовалось орлиное перо, а у одного из них на макушке красовался цилиндр без дна — чтоб голова дышала.
Появились они, по своему обыкновению, внезапно, из-за холма, когда до каравана было около четверти мили. На плоской местности индейцев почти никогда не встретишь, хотя они, конечно, и по ней ездят, но застать их на ровном месте белому человеку почти невозможно. Даже прожив среди краснокожих несколько лет, я так и не смог понять, как они чуют присутствие других людей где-то поблизости. Ну, известное дело, они вонзают в землю нож по самую рукоятку, и, прижавшись к ней ухом, слушают, но как правило, таким способом услышать ничего нельзя, разве что кто-то скачет галопом. А ещё они иногда насыпают небольшую пирамидку из камней на водоразделе — на самой верхушке — и спрятавшись за ней, долго глазеют по сторонам, изучая долину. Но ведь Равнины сплошь покрыты холмами, которые словно застывшие океанские волны, и с вершины одного холма видно только до вершины следующего, а за ним уже ничего не увидишь. К тому же не на каждом водоразделе индейцы это проделывают, только на некоторых; и всё же, уж если они смотрят, то как правило, что-нибудь да высмотрят.
Идея мистера Троя насчёт того, чтобы угощать индейцев виски прямо на ходу, провалилась сразу же, её даже не успехи опробовать.
Путешествие на фургоне той эпохи можно сравнить разве что с поездкой на санях, которые тащат через поле, усеянное валунами, — трясет так, что кусок хлеба ко рту не поднесешь, что уж говорить о напитках. Да и Шайены не настроены были скомкать церемонию и, подъехав поближе, спешились, подошли и принялись пожимать руки, так что нам просто пришлось остановиться.
Этот парень в цилиндре был у них за главного. На шее у него болталась серебряная медаль — одна из тех, что правительство США вручает индейским предводителям при подписании договоров. На этой, кажется, было изображение президента Филмора. Этот красавец с медалью был старше остальных и имел при себе древний мушкет со стволом в четыре фута длиной.
Я, кажется, ещё не сказал, что моя старшая сестра была ростом под шесть футов, крепкого сложения и при этом, в свои двадцать с лишком лет, ещё не замужем. Это была здоровенная, широкой кости деваха с копной огненно-рыжих волос на голове. Она правила воловьей упряжкой так, что могла заткнуть за пояс папашу, а кнутом щелкала так, что с ней не мог сравниться ни один мужчина в караване, кроме разве что Эдварда Уолша — ирландца из Бостона, который, будучи католиком, совершенно не интересовался папашиными проповедями, но мирился с ними, поскольку единоверцев у него в караване не было. Все, правда, уважали и слегка побаивались Уолша, но это из-за его огромного роста.
Эту самую мою сестру звали Кэролайн. Из-за своих габаритов, в также из-за того, что делала мужскую работу, она носила в дороге мужскую одежду — сапоги, штаны, рубашку и простую дешевую шляпу (хотя некоторые этого не одобряли).
При появлении индейцев Кэролайн спрыгнула с облучка на землю. Дырявый Цилиндр направился к ней, протягивая правую руку, а левой прижимая к груди старинный мушкет и заодно придерживая на плечах красное одеяло.
— Очень рада познакомиться, — сказала Кэролайн, которая была раза в полтора крупней опереточного воина, схватила его за руку и сжала так, что он весь скорчился — от цилиндра до пальцев ног. Он чуть не уронил своё одеяло, под которым почти, ничего не было, почему я и разглядел его серебряную медаль, а ещё шрам на животе, напоминающий сварной шов на куске железа.
За этот шрам белые и прозвали его Резаный Живот, хотя Шайены называли его Старая Шкура Типи, Мохк-се-анис, а ещё — Нарисованный Гром, Вохк-н-ну-нума, но я никогда не знал его настоящего имени, потому что индейцы хранят его в тайне, а если где-нибудь разузнаешь и назовешь его настоящим именем, то в лучшем случае это будет для него ужасным оскорблением. К тому же его ждут десять лет злосчастья.
Он никак не представился — индейцы вообще считают это излишним — но мне ещё предстояло узнать его поближе…
Оправившись от рукопожатия Кэролайн, вождь произнес длиннейшую речь, как требовалось по индейским правилам хорошего тона. Исходя из тех же правил, он после каждой фразы вставлял известные ему английские слова — «чёрт побери» и «святый Боже», которым его шутки ради обучили наши предшественники-переселенцы и солдаты из форта Ларами, — смысла которых он, конечно, не понимал и не догадывался, что ругается, а если бы ему это и объяснили, то вождь всё равно не понял бы, потому что в языке индейцев ругательств нет, хотя у них есть множество табу: например, после свадьбы запрещается произносить имя своей тещи.
Папаша в этот момент стоял рядом с Кэролайн, и уж не знаю, что его больше задело — то, что старик ругается, или почести, которым тот удостоил Кэролайн, но во всяком случае, папаша шагнул вперёд, стал перед индейцем и, отодвинув дочь плечом, произнёс:
— Если вы ищете старшего по каравану и духовного пастыря этих людей, то я перед вами, Ваша Честь!
Потом они пожали друг другу руки и Старая Шкура выудил из шитой бисером сумки, что болталась у него под животом, замусоленный клочок бумаги, на которой рукой какого-то белого шутника было нацарапано:
«Податель сиво Резаный Живот индеец ниплохой хоть и краснокожий. Моется раз в год, даже если не хочет, ни за что не перережит тибе горло покуда держишь его на мушке потому что сердце у ниво чёрное как его собственный зад.
Твой друг
Билли Дарп»Вождь явно считал, что это рекомендательное письмо, потому что стоял с довольным видом все время, пока мой брат Билл читал все это вслух по просьбе папаши (потому-то я и сказал раньше, что папаша, по-моему, не умел читать; но вообще-то прошло больше ста лет, и подробностей я уже не помню).
Папаша, как человек воспитанный, сделал вид, что доволен письмом, и тут же пригласил всю компанию индейцев выпить, чего, как мне показалось, они сразу не поняли. Если бы он сказал «виски», они бы поняли сразу, но папаша выразился как-то иначе, длиннее и сложнее. Он сказал «напиток», или ещё как-то — и когда мистер Трой и другие мужчины начали откупоривать бутыли, индейцы никак не могли сообразить, что к чему. Видите ли в чём дело: индейцы считают, что ни один белый в здравом уме не станет давать им виски, разве что отбежит подальше, прежде чем они начнут пить. Торговцы, например, всегда оставляют виски напоследок, а потом, вытащив бочонки, садятся в седло и скачут во весь опор — уносят ноги, пока не поздно.
Индейцы охотно признают, что не умеют обращаться со спиртным. Некоторые мудрые вожди пытались бороться с этим злом, но у индейцев вождь не может ничего запретить, а его мнение часто игнорируют. Старая Шкура никак не мог поверить, что десять белых мужчин, включая юношей, половина из которых без оружия, имея всего две лошади и семь фургонов, битком набитых женщинами, (всего 12), девушками и младенцами, собираются поить спиртным две дюжины Шайенов, взрослых воинов, прямо в чистом поле.
Если бы вождь догадывался, что дело обстоит именно так, он бы предупредил папашу заранее, потому что в этом отношении индейцы — народ честный. Они не испытывают раскаяния за всё, что творят под воздействием алкоголя, потому что воспринимают его как какую-то таинственную стихию, вроде смерча. Вам ведь не придет в голову винить себя, если ураганный ветер поднимет вас в воздух и швырнет на кого-нибудь; хотя, если вы предвидите такую возможность, то, конечно, можете посоветовать ему уйти подальше… Вот так же и индейцы, когда собираются предаться возлияниям, честно предупреждают, если, конечно, у них нет на вас какого-нибудь «зуба».
Старая Шкура взял жестяную кружку, что протянул ему папаша, и, запрокинув голову так, что его цилиндр свалился на землю, одним махом опорожнил её, словно это была вода или холодный кофе. Жидкость уже миновала горло и оказалась в животе, и тут только до него дошло, что он выпил. А поняв, что это такое, он тут же мгновенно опьянел, и в ту же минуту его глаза заблестели влажным блеском, словно два сырых яйца. Он повалился навзничь и принялся дрыгать ногами так, что один мокасин соскочил и залетел на крышу нашего фургона. Его мушкет упал дулом вниз, и при этом в ствол набилась земля, о чём позже я ещё скажу…
Тем временем наши мужчины, тактично не замечая, что с ними творится, обратились к другим. Поскольку кружек больше не захватили, индейцы стали передавать по кругу бутыли, скаля зубы, и тут мистер Трой, решив, что его идея прекрасно удалась, принялся похлопывать воинов по плечам, словно собутыльников в салуне. Даже я в свои десять лет заметил, что Шайенам этот жест был не совсем понятен: если одной рукой ему дают подарок, а другой тут же бьют, причём, все это проделывает представитель иной расы, то это переворачивает все его представления о правилах хорошего тона — это всё равно, что кормить лошадь и тут же стегать её.
Остальные опьянели не так быстро, как Старая Шкура, который захмелел не столько от виски, сколько от неожиданности. Глядя на него, остальные, в общем-то, подготовились — насколько может подготовиться краснокожий — и далее их состояние проходило три стадии: сначала — бурная благодарность, когда им вручали бутыль, потом, когда Трой хлопал их по плечу, — некоторая растерянность, а потом по мере того, как алкоголь проникал в кровь, они постепенно приходили в приподнятое настроение — и всё это происходило вполне мирно и тихо, конечно, если не считать неизменного «хай-хай» и удовлетворенного бормотания.
Когда все выпили по одной, мы ещё могли отделаться и уйти подобру-поздорову, но тут Старая Шкура пришёл в себя, встал и знаками дал понять, что он готов отдать своего пинто (пегого коня), свой цилиндр, свою серебряную медаль, мушкет и вообще все на свете, вплоть до набедренной повязки за ещё один глоток.
— О, не волнуйтесь, патриарх прерии может надеяться на наше гостеприимство и оно не будет ему стоить ничего! Жаль только, что я не говорю на иврите…
И мой папаша вручает вождю целую бутыль — ему одному! А мистер Трой вручает другую воину с расплющенным носом и хлопает его по спине. Этот парень, которого, кстати, звали Горб, медленно пьёт, потом облизывает губы, возвращает бутыль, потом корчит такую рожу, словно рядом что-то воняет, и начинает выть, как шакал на полную луну. Все остальные в этот момент ещё спокойны, поэтому его выходка кажется просто забавной. А Старый Вигвам, оторвавшись от своей бутыли, чтобы перевести дух, стеклянными глазами смотрит на Горба и это, похоже, раздражает последнего, потому что он вытаскивает свой стальной томагавк и делает шаг навстречу вождю, а тот поднимает свой древний мушкет и палит в него, но в дуло — помните? — набилась земля, и ствол мушкета взрывается — его рвет на ленты почти до самого затвора, словно банановую кожуру!
Горб стоит живой, однако напуганный взрывом и к тому же не в состоянии ответить тем же, ибо у него нет огнестрельного оружия, а есть только лук через плечо и полный колчан стрел. Он медленно поворачивается, облизывая губы и тут взгляд его падает на мистера Троя, который подает угощение молодому воину по имени Тень (все эти имена я узнал позже). Мгновение Горб изучает спину Троя, потом левой рукой похлопывает его точно так же, как тот недавно похлопывал его самого; при этом белый человек поворачивается к нему, весёлый и радушный, словно в клубе среди своих друзей…
(Ни он, ни папаша, ни кто другой на выстрел не обратили ни малейшего внимания), и тут Горб всаживает лезвие топорика прямо ему в лоб. Это был один из тех фабричных топориков, что можно купить у торговца — задняя часть наконечника у него полая, как чубук трубки, и если просверлить дырку в рукоятке — из него можно курить.
Трои минуту смотрит, скосив глаза на деревянную рукоятку, что торчит у него изо лба параллельно носу. Потом Горб выдёргивает своё орудие, а жертва, обливаясь кровью, делает шаг назад. Тень с тупым выражением на лице подхватывает бутыль из рук Троя, и тот падает навзничь. Тут Горб растопыренной ладонью бьет нового обладателя бутыли в лицо, а тот обрушивает ему на голову тяжёлый сосуд с такой силой, что он разлетается вдребезги и обоих заливает виски. При ударе бутылью правая ноздря Горба отрывается от носа, и она болтается на тоненькой ниточке кожи, и все его лицо изрезано, словно на него набросили кровавую сетку. Однако они с Тенью тут же вступают в схватку за пока ещё целую бутыль, коль скоро предмет из разногласий уходит в землю среди осколков. Начиная с этого момента потасовка принимает всеобщий характер, и шум стоит дикий: крики, вопли, визг и вой, сталь глухо врубается в кость, шелестит вспарываемая плоть, гремят выстрелы, свистят в полете стрелы и глухо вонзаются в цель.
Женщины и мы, малышня, оставались всё это время у фургонов, и хотя я не мог разглядеть папашу в этом столпотворении, я слышал как он вопит, покрывая своим голосом весь остальной шум. «О, братья, скажите, в чем я ошибся?» — потом он словно поперхнулся, в горле его что-то забулькало — и искра его жизни погасла. Я увидел его на следующее утро — он был весь утыкан стрелами, словно шкура, которую растянули для просушки. Однако скальп с него не сняли потому, что это была не война, а просто виски и безумие, так что индейцы трофеев не брали. Они дрались между собой так же, как и с белыми. К примеру, Куча Костей из пистолета, который заряжается со ствола, разнес затылок Облаку, и мозги брызнули из его головы, словно вода из пробитой фляги; он долго ещё стоял, раскачиваясь на месте, а потом рухнул, так и не выпустив из рук бутылки, которая стоила ему самой жизни, и Куче Костей пришлось вырывать её из объятий трупа.
Уолш, который, как настоящий ирландец, приложился к бутыли ещё до того, в фургоне, вынул из сапога нож, но в свалке развернул его острием к себе и проткнул свой собственный живот. Умирая, он страшно хрипел. Остальные наши мужчины погибли, не оказав никакого сопротивления. Дальше я разглядел Джекоба Уортинга, узнав его по подметкам сапог, — он починил их в Форт-Ларами.
Дилон Клермонт, парень из Иллинойса, лежал головой к фургонам, я узнал его по лысине. А посреди этого застывшего хаоса из смятой травы торчала словно маленькая рощица из стрел: потом я обнаружил, что они торчат из моего папаши, но в тот момент я этого не знал, а просто видел множество стрел, торчащих оперением вверх, и они напомнили мне какой-то куст…
Избавившись от белых, Шайены, оставшиеся в живых, некоторое время сосали из бутылей и не обращали никакого внимания на женщин и детей. Потому-то жене Уортинга и удалось сбежать с ребёнком: она подхватила своего мальчишку и бросилась наутек, покуда индейцы не видели её за фургонами, и побежала в сторону гор Ларами, снежные шапки которых виднелись далеко-далеко, хотя казалось, что до них рукой подать.
Еще на протяжении целой мили видно было, как они бегут, то спускаясь в ложбинку и исчезая из виду, то вновь возникая на противоположном склоне, пока не скрылись за холмом окончательно, и больше я о них никогда ничего не слышал. Остальные просто стояли, словно поражённые громом, и даже не плакали. В этот момент Трой-младший предпринял отчаянный шаг. Он подскочил к мёртвому телу отца, выхватил из ножен у того на поясе огромный нож и, бросившись на высокого Шайена, который, оторвавшись от бутыли, орал пьяную песню, ударил его в бок. Индейцам обычно нравится такая храбрость в мальчишке, и этот Шайен, если бы не налился виски, может быть, дал ему бы подарок или красивое имя, но он был в объятиях демона, и потому взял копье, на которое опирался и поднял мальчишку на его острие. Копьё прошило Троя-младшего насквозь, прорвало на спине голубую рубашку, и вокруг острия расцвел кровавый цветок. Потом Шайен сбросил его с копья, и мальчишка рухнул на землю с таким звуком, словно на стойку бара швырнули мокрую тряпку.
Будь перед ним сверстник, мальчишка, может быть, испугался бы и убежал, но на двухметрового дикаря он пошёл с ножом. Что касается вашего покорного слуги, то остальные дети меня тогда побаивались, хотя для своих лет я был мелковат — не больше воробья. Я был младшим в семье, и старшие братья и сёстры изрядно мною помыкали, а порой и давали тумака, за что приходилось расплачиваться им потом. Но увидев, как страшно обошлись индейцы с белыми людьми, признаюсь, я намочил штаны.
Когда виски кончилось, около дюжины индейцев ещё держалось на ногах, хотя некоторые из них лежали неподвижно, словно мёртвые или раненые, и мутным взглядом смотрели в небо. Другие сидели на корточках, уставясь тупыми глазами себе между ног, а некоторые подвывали, как раненые собаки. Старая Шкура сидел на корточках, обратив свое, морщинистое лицо в сторону Кэролайн. По окончании всей этой резни, в которой, имея свою собственную бутыль, он не участвовал (если не считать, что он её начал) старик все пытался сообразить, чего ей нужно, а она, со своей стороны, тоже изучала его, как мне показалось, на протяжении всей потасовки. Надо сказать, Кэролайн вот уже год, или вроде того, как превратилась в весьма необычную особу, которая довольно активно общалась с мужским полом, но при этом держалась с его представителями на равных, не как девица легкого поведения.
Горб расколол последнюю опустевшую бутыль своим топориком и принялся облизывать каждый осколок. С носа у него капала кровь, вырванная ноздря окончательно оторвалась и потерялась. Теперь кровь сбегала по подбородку, он размазывал её по груди, вымазав свой костяной медальон. Но даже теперь он в общем-то выглядел почти что мирным индейцем. У него был огромный рот — такого у людей я ещё не встречал, — а нос, и без того широкий, был разбит и стал ещё шире. Для Шайена у него были большие глаза. И теперь он смотрел ими в нашу сторону, пристально разглядывая каждого из нас.
По правде, кроме миссис Уортинг и её сына никто не попытался смыться, а кроме Троя-младшего, никто не оказал никакого сопротивления. Героини с винтовкой, о каких пишут в романах в нашем караване не было. Даже Кэролайн не владела никаким оружием, кроме своего бича. И она стояла всё это время держа бич в руке, а его длинный хвост растянулся по земле у неё за спиной. У неё не было недостатка в мишенях, если бы она захотела щелкнуть, но она только стояла, уставившись на старого вождя.
Была в караване одна парочка родом из Германии, а называли их все: «голландец Руди» и «голландка Кати». Их было двое, детей не было. Это были круглолицые, румяные здоровяки, каждый весом под центнер, (200 фунтов) и за все эти недели пути ни один из них не потерял ни грамма веса, потому как весь свой фургон они загрузили картошкой. А теперь живот «голландца Руди» торчал неподалёку посреди прерии, словно кочка. «Голландка Кати» стояла, опершись на свой фургон — через два от нашего — в голубом чепчике, из-под которого выбились волосы, тонкие, светлые, словно кукурузный шёлк.
Как и все женщины в те времена, она была в общем-то довольно-таки бесформенная в своем платье, и ничем особенным не выделялась, если не считать, что её было много. У неё было громадное пышное тело — потому-то взгляд Горба, обшарив всех, остановился именно на ней.
Он встал и покачиваясь двинулся к ней. Кати поняла, зачем он идёт, и начала что-то умоляюще лепетать по-немецки, но потом сообразила, что он не собирается её убивать, — во всяком случае, пока не получит удовольствия, — и тогда она медленно, словно растаяв на солнце, опустилась на землю, и Горб стал рвать её клетчатую юбку и все, что было под ней, покуда не добрался до её толстых бедер и не воткнулся между ними, весь грязный, окровавленный и потный, чихая, как осел. «Голландка Кати», как и все её соотечественницы, была помешана на чистоте. Она умудрялась мыться на каждом привале, купалась в реке, надевая по этому случаю целомудренный сарафан. Несколько раз она чуть было не погибла в зыбучих песках, которых на Платте полным-полно. Однажды, помню, пришлось обвязать её веревкой и вытягивать волами…
В общем, после этого все Шайены, как по сигналу, бросились на наших женщин, а поскольку их не хватало на всех желающих, то снова начались препирательства и стычки, как совсем недавно из-за виски, и опять индеец рубил индейца, но тех, что остались, было достаточно, чтобы покрыть вдову Троя и вдову Клермонта, и сестёр Джексон, и если вы думаете, что жертвы кричали и царапались, то вы ошибаетесь; а те, кого не тронули, стояли и смотрели, как насилуют других, словно ждали своей очереди. А дети жались к их ногам.
Наконец, когда Пятнистый Волк двинулся к моей матери, Кэролайн словно очнулась. Она закричала на Старую Шкуру, а тот в ответ только осклабился. Мой пятнадцатилетний брат Билл и Том, которому было двенадцать, вырвались, бросились под фургон и затаились там, среди болтающихся ведер.
Остался я, с мокрыми штанами, и мои сёстры: Сью Энн (тринадцати лет) и Маргарет (одиннадцати). Мы жались к матери и хватались за её подол.
Кэролайн ещё раз попыталась добиться, чтобы вмешался вождь, но он, похоже, так и не понял, чего она хотела, а если бы и понял, наверняка ничего не смог бы сделать — огромная тень Пятнистого Волка уже надвигалась на нас и мы уже чувствовали, как от него воняет. Наша мать молилась, словно стонала. Я взглянул в лицо Шайену — не сказал бы, что на нем было особо жестокое или непристойное выражение, скорее какое-то мечтательное и влюбленное, словно его похоть принимали с распростертыми объятиями.
В этот момент черной молнией мелькнул бич Кэролайн. Он обвился вокруг шеи индейца, спутавшись с ожерельем из когтей медведя.
Пятнистый Волк рухнул головой на камень. Он больше не встал.
— Слушай, мам, бери детей и лезь в фургон, — сказала Кэролайн, хладнокровно сматывая бич. — Никто из этих дикарей вас не тронет.
Кэролайн была спокойна и абсолютно владела собой; она обладала папашиной самоуверенностью.
Старая Шкура, тыча пальцем в бездыханное тело Пятнистого Волка, хохотал так, что рисковал надорвать живот. Это взбесило Кэролайн, но и польстило ей, и она легонько и как-то игриво щелкнула бичом перед носом вождя. Он повалился на спину и, сложив руки на груди, захохотал ещё сильнее, подставив солнцу свой огромный рот, чёрный, как пещера полная летучих мышей. Он был по-прежнему босой на одну ногу, и его разорванный мушкет валялся рядом с ним, словно остов раскрытого зонтика.
Мать поступила, как велела Кэролайн, — собрала детей, включая двух трусов, которых извлекла из-под фургона, где они вымазались в бычий навоз — и все мы влезли в фургон, кое-как разместившись там, ибо все его чрево было заставлено мебелью, ящиками, коробками и мешками, в которых содержалось все наше земное богатство. Ботинок Тома упирался мне в лицо, что было довольно противно, если принять во внимание, где он топтался перед этим. Я распластался вокруг бочки, в которой сейчас лежала посуда, а раньше солили рыбу, и она отнюдь не утратила рыбьего аромата, но мы были живы и тем довольны.
Мы сидели там до самого вечера словно в мешке, брошенном на солнце. Дышать было и без того нечем, потому что фургон до самого верха был набит хламом. Шум снаружи затих примерно через час, и когда, ближе к вечеру, Билл набрался храбрости и, приподняв край брезента, выглянул наружу, он никого не увидел, о чём и сообщил нам.
Потом мы вдруг услышали, как кто-то карабкается на облучок и все затряслись от страха. Но вскоре в маленькое окошечко в брезенте просунулась голова Кэролайн:
— Все тихо, ребята, сидите здесь и не высовывайтесь. И не бойтесь. Я посижу здесь до утра.
Мать прошептала:
— Кэролайн, ты можешь сделать что-нибудь для нашего бедного отца? Что с ним стало?
— Он умер и лежит, как бревно, — сказала Кэролайн с явным отвращением. — И все остальные тоже, а мне и здесь дела хватает — некогда отгонять с них мух.
— Вот видите, — сказала мать, обращаясь ко всем нам, — если бы у него было время изучить иврит, он был бы сейчас жив…
— Наверное, — ответила Кэролайн, и голова её исчезла.
Некоторое время спустя мне удалось заснуть, и я проспал до рассвета в той же позе, обернувшись вокруг бочки. Я проспал до самого утра, когда Сью Энн разбудила меня, ткнув в бок черенком лопаты, который она просунула сквозь хлам. Все остальные были уже на ногах, снаружи, и я тоже полез на свет Божий.
Первое, что я там услышал, — был стук лопат. Оставшиеся в живых женщины — а они, кажется, все остались в живых, потому что им хватило ума не сопротивляться, а пьяные индейцы, закончив своё дело, были слишком слабы, чтобы продолжать резню, они рухнули на землю и уснули — так вот, женщины и дети, кто постарше, рыли могилы…
А на следующий вечер, ещё до наступления темноты, нам нанесли визиты койоты и грифы, до которых уже донеслась весть о случившемся, благо стояли солнечные дни и жара была несусветная. Последствия были ужасны… Но теперь по полю бродили люди, и птицы парили высоко над головой, а койоты сидели поодаль, недосягаемые для выстрела Шайены исчезли, в том числе и мёртвые. Я спросил Кэролайн, куда они делись, — она ведь сказала, что не спала всю ночь, — на что она ответила:
— Не забивай себе голову чепухой, пойди лучше помоги остальным управиться с папашей.
Вот тогда-то я и увидел своего папашу в последний раз, как и было описано выше… Мать с остальными детьми «отколола» его от земли, и мы опустили его в неглубокую могилу, вырытую Кэролайн, и засыпали её, и, насколько я помню, на это потребовалось всего несколько лопат земли, не больше — только чтобы нос не торчал над землей. Неподалёку «голландка Кати» оказывала ту же самую услугу «голландцу Руди». На ней было чистое платье, а её светлые волосы потемнели, потому что намокли: она явно уже успела сбегать к реке и принять ванну.
Не скажу, что никогда не видел грязную немку, но если уж они чистоплотны, то доходят в этом до крайности.
Ну вот, значит, мы как раз заканчивали предавать земле наших мужчин, и тут кто-то поднял голову, посмотрел и заорал, как резаный, потому что по склону холма спускались Шайены. На сей раз их было только трое: Старая Шкура и двое воинов, а из них каждый вел четырех лошадей без всадников. Они, вроде, не делали никаких угрожающих жестов, но для нас увидеть Шайенов во второй раз было уж слишком, и впервые за все время наши люди стали кричать и плакать, а Том и Билли снова забились под фургон. Исключение составляла Кэролайн. Я, помню, в ужасе стал хвататься за её крепкие ноги и, задрав голову, взглянул ей в лицо. Я обнаружил на нем какое-то странное выражение: её ноздри раздувались, как у коня, почуявшего воду.
Двое воинов, что вели лошадей, остановились поодаль, ярдах в 30, а Старая Шкура подъехал ближе на своём пегом пинто, у которого были нарисованы круги вокруг глаз. Вождь поднял руку и заговорил. Он говорил около пятнадцати минут каким-то странным фальцетом. Его цилиндр после вчерашнего немного пострадал, но сам он был в прекрасной форме.
Было очень странно наблюдать, как в одно мгновение чувство страха в людях сменилось дикой скукой, и те самые женщины, которые ещё вчера были беспомощными жертвами, а несколько минут назад голосили от страха, вдруг начали наступать на него, угрожающе подняв кулаки, и кричали ему:
— Убирайся отсюда, старая вонючка!
Однако странно устроена женщина: покуда ей хоть чуточку интересно, она готова вынести все, что угодно, но если станет скучно, она звереет… Но тут заговорила Кэролайн:
— Ну-ка, успокойтесь, — бросила она и вразвалочку вышла вперёд, навстречу вождю.
— Вы что, не понимаете в чём дело? Не понимаете, что они приехали за мной? Потому и лошадей привели — это выкуп за меня. А вчера, разве вы не заметили, — все эти гадости они творили с вами, а меня и пальцем не тронули. Они берегли меня, понятно?
Щёки моей сёстры раскраснелись ярче обычного, и солнце тут было явно ни при чем, она то и дело встряхивала своими медно-рыжими волосами, словно отгоняя с лица назойливых мух.
— Так вот, — продолжала она, — лучше отдайте им меня, а то они поубивают и вас, как мужчин.
— Но, Кэролайн, — жалобно возразила мать, — скажи, ради Бога, зачем ты им нужна?
— Наверное, будут пытать, — гордо ответила Кэролайн, — всякими жуткими способами.
Помню, мне тогда показалось странным хвастать такими вещами, по я смолчал, я держал язык за зубами, потому что я тогда вдруг понял, что она ужасно похожа на нашего папашу. Да, она была полна решимости быть оригинальной до конца.
И тогда вдова Уолш сказала:
— Ах, ну и иди. Я не собираюсь им мешать, — отвернулась и пошла прочь, и остальные женщины тоже. Они потеряли своих мужей, были изнасилованы, застряли посреди пустыни, откуда не было обратного пути, кроме того, каким они сюда попали, а на это ушли месяцы и месяцы, так что едва ли их могла тронуть судьба какой-то девчонки.
Старая Шкура Типи бесстрастно сидел в седле и смотрел на всех нас из-под тяжёлых век. На луке деревянного седла висел его круглый щит, сделанный из шкур и украшенный десятью чёрными скальпами. Вместо разорванного мушкета он держал теперь копье, на котором болталось ещё два-три скальпа. Нельзя сказать, что он был безобразной скотиной, по крайней мере, в молодости точно был не урод, хотя кто его знает, сколько лет прошло с тех пор… Теперь его косички подернула седина, а мышцы рук и ног стали дряблыми. Вообще-то возраст индейца определить трудно. Но этому, — судя по тому, как от него воняло, — было совсем недалеко до семидесяти. Он отрастил огромный нос, загнутый крючком, уголки рта у него слегка загибались кверху, а в глазах сквозила печаль. В общем, вид у него был добродушно-меланхоличный. Не сказать, чтобы он выглядел страшным, или хоть чуть-чуть агрессивным, а вот у Кэролайн наоборот вид был дикий и страшный.
Там, в Эвансвиле, она была сорвиголовой, но годы ведь шли, а мужской пол по-прежнему не испытывал к ней никакого интереса, разве что как к приятелю. Она, помню, пыталась заарканить местного кузнеца, вдовца лет сорока, и все слонялась вокруг его кузницы, но он только дал ей как-то раз подержать подкову, пока сам приколачивал её, на большее его не хватило. Потом был еще, кажется, сын какого-то фермера; они, вроде, одно время вместе разбрасывали навоз, копнили сено, а больше — ничего. Даже проходимцы и бродяги, что толпами проезжали через наш городишко и про которых говорили, что они и гадюку трахнут, если ей кто-нибудь голову подержит, — и те обошли её своим вниманием. Так что сами видите: с белыми мужчинами у неё как-то не складывалось, а теперь, к тому же, их всех поубивали, как и папашу — всех, кто был в нашем обозе, то есть…
Я говорю обо всем об этом, чтобы вам понятнее было, чего это Кэролайн так странно вела себя в те дни. А еще, мне кажется, её ужасно уязвило, что и индейцы её не трахнули…
И вот тут-то заговорила мать:
— Послушай, Кэролайн, — говорит, а сама стоит в своём длинном застиранном платье и чепце. Смотрю я на неё, а она похожа на куколку, какую мы в детстве делали из цветка алтея, с головой из бутона. Роста она маленького была — футов пять или чуть больше, и я так думаю, что если я коротышкой остался, от чего и страдал всю жизнь, — так это все от неё…
Так вот она и говорит: «Послушай, Кэролайн… Нам, наверное, придётся вернуться назад, в Форт-Ларами. Я там обо всем расскажу, и за тобой приедут солдаты».
«Не очень-то рассчитывай на это, — отвечает сестра. — Уж кто-кто, а индейцы-то умеют заметать следы». — «Ну, значит, ты должна время от времени бросать чего-нибудь, — говорит мать, — пуговицу, клочок рубашки или что-нибудь ещё — чтобы указать дорогу».
Тут Кэролайн резко смахивает со лба пот, а руку вытирает о джинсы. Ей, похоже, показалось, что мать хочет приуменьшить грозящую ей опасность и её дутый героизм. А в результате тучи начали сгущаться над моей головой.
«Может, они не будут меня пытать все время, — говорит сестрица. — Может, будут держать для выкупа. Думаю, убить они меня не убьют. А иначе непонятно, зачем они и Джека решили взять с собой?..»
Прошло несколько долгих мгновений, прежде чем я понял, что это из моей груди вырывается горькое рыдание. Да, это я зарыдал, услышав своё имя. К чести матери надо сказать, она подошла к лошади Старой Шкуры и стала просить его не забирать меня, потому как я у неё младшенький, мне только десять, и к тому же такой худенький… Вождь слушал и сочувственно кивал, но лишь она закончила, он подал знак своим людям, и они подъехали и привязали всех восьмерых лошадей к нашему фургону — словно дело было сделано и говорить больше не о чем. Но даже тогда всё ещё могло быть иначе, если бы Шайены не околачивались возле нас ещё битый час, — видать, надеялись получить чашку кофе. Нет, индейцы никогда не понимали белых, а белые — их…
— Билл сядет на лошадь и во весь дух поскачет за солдатами, — говорит мать, прижимая меня к себе. — Не думай плохо об отце, Джек, он хотел, как лучше, и сделал все, что мог. Может, индейцы забирают тебя и Кэролайн потому, что хотят как-то возместить все, что они вчера натворили. Они, наверное, неплохие люди, Джек, а то не привели бы лошадей.
Вот так. Никому в голову не пришло спросить Кэролайн, с чего это ей взбрело в голову, что Шайены хотят кого-то забирать с собой —. она ведь не знает их языка. Был момент, когда я было заподозрил, что мать просто хочет избавиться от нас. Потому что солдаты так и не пришли. Но потом, много лет спустя, я узнал, что Билл прискакал в Ларами, продал лошадь, нашёл работу в лавке какого-то торговца, и мало того, что ничего не рассказал про нас солдатам, но и сам к каравану не вернулся. Да нет, моя мать конечно, хотела, как лучше. Просто она ничего не соображала… Вот такие дела. Папаша у меня был сумасшедший, а братец — предатель. А ещё у меня была Кэролайн. Сами видите — семейка не ахти какая, да и то сказать — прожил я с ними недолго.
Мать поцеловала нас обоих, и Кэролайн влезла на одну из лошадей, которых привели индейцы, а меня усадила у себя за спиной.
Все это время Старая Шкура молча сидел в седле неподалёку, и тут он изумленно пробормотал себе что-то под нос и прикрыл рот ладонью. Я тогда ещё не знал, что индейцы всегда так делают, если их что-то сильно удивит.
У них от изумления отваливается челюсть и раскрывается рот, вот они и прикрывают его, чтобы душа не выпрыгнула и не убежала.
Сёстры молча махали нам руками, а у Билла на лице была мерзкая испуганная усмешка.
Тут вождь стал делать какие-то знаки, похоже было, что он опять хочет сказать речь, но Кэролайн махнула ему рукой, что, мол, пора ехать, вонзила пятки в бока своего пинто, что было весьма опрометчиво с её стороны, ибо конь, не знакомый с приёмами выездки белых людей, рванул с места, как из пушки, и бешено поскакал прямо на север. На вершине холма Кэролайн потянула за индейскую уздечку, сплетённую из жил и, остановившись, стала поджидать трёх Шайенов, которые отстали и, надо честно сказать, совсем не спешили. Потом мы поскакали вниз к реке. Она была мутная, вспухшая от весенних дождей. Мы пустили лошадей в воду и поплыли на другой берег, а я ухватился за хвост нашего пинто и болтался сзади, как червяк на крючке.
Глава 2. ОТВАРНАЯ СОБАКА
На другом берегу реки Кэролайн снова втянула меня на круп лошади и произнесла каким-то новым, звучным и романтическим голосом, который очень тронул бы меня, если бы я не онемел от страха, а теперь ещё и вымок в мутной воде Платта:
— Может быть, Джек, я стану индейской принцессой в перьях.
Раньше мне не слишком часто приходилось ездить на лошади, и теперь у меня уже начало саднить ноги и ягодицы от того, что с каждым шагом конь подбрасывал меня вверх, а потом я всем весом обрушивался на его круп; а если я пытался сжать пятками пегие бока этого зверя, он раздувал живот и ёрзал задом, пытаясь освободиться от меня. Да, это животное не стало мне другом, а жаль, ибо кроме него мне было не в ком искать поддержки в бескрайней и враждебной стране дикарей.
И в этот момент к нам как раз подъехал один из них, а именно Старая Шкура Типи, собственной персоной; перебравшись через реку, он очень сильно изменился, Потом-то я узнал, что у него было особое отношение к реке Платт, ибо он считал её южной границей своих владений, и оказавшись на другом её берегу, вёл себя глуповато и безответственно, а перебравшись на северный берег, возвращался в своё нормальное состояние, каковым бы оно ни было. В общем, едва лишь выбравшись из воды, он сурово взглянул на нас из-под своей шляпы и через костлявое плечо, торчащее из-под одеяла, указал рукой назад, туда, откуда мы все приехали, словно говоря:
«Убирайтесь назад», — и, тронув лошадь, начал взбираться по крутому берегу. Мы последовали за ним, и наш конь пару раз споткнулся. Можно было подумать, что из-за двойной ноши, хотя я не слишком-то утяжелил его нагрузку, но скорее всего он просто не хотел упускать ни одной возможности показать мне, что меня никто сюда не звал.
Ну, теперь надо вам сказать, что когда индейцы едут куда-нибудь, они едут кому как в голову взбредет, и каждый выбирает себе путь по собственному вкусу. Те два воина, что приехали с вождём, не стали перебираться через реку вместе с нами. Один из них поехал вниз по течению ярдов на сто и переправился там, а другой поскакал вверх по течению, проехал около мили туда, где река делала поворот, двинулся вдоль берега и пропал из виду. Наверное, знал место получше. Целый час о нем не было ни слуху, ни духу, а потом мы перебрались через вершину холма, и там обнаружили его: он сидел на земле, а конь пасся неподалёку. Старая Шкура Типи проехал мимо как ни в чем не бывало, только взглянул на него, и воин ответил тем же. А потом он запел, правда, это больше смахивало на какой-то ужасный стон или вой. И потом мы ещё долго слышали его, когда отъехали уже так далеко, что этот индеец еле виднелся вдали, словно кустик посреди прерии.
После того, как я прожил некоторое время с Шайенами и изучил их повадки, я вспомнил этот случай и задним числом понял, что было с этим парнем. На него «нашло». Что-то расстроило его — может, наткнулся на зыбучие пески, когда переправлялся через реку, а, может, лягушка на берегу квакнула ему что-то оскорбительное — и он поплёлся дальше, совершенно подавленный, и, решив умереть, сел и запел песню смерти. В старые времена, до того, как пришли белые, — индеец мог отдать концы только в бою, а ещё — помереть от стыда. Но белые принесли с собой множество болезней — оспу, например, которая выкосила целый народ — племя Мандан — и умирать по причинам морального характера стало бессмысленно. Смерть от стыда, или горя почти исчезла, хотя отдельные упрямые парни, вроде нашего друга, могли при случае и выкинуть такой номер.
Но, видимо, на этот раз что-то не сработало, потому что на следующий день я видел этого самого парня в лагере, он косил глазом в маленькое зеркальце, какие продаются в лавках торговцев, и выщипывал растительность на лице костяным пинцетом. Видать, суетное в нем возобладало и душа его исцелилась…
Ехать было немного полегче, потому что вождь двигался теперь медленным шагом и через, каждые полмили вообще останавливался, поворачивался к нам и подавал какие-то сигналы руками, сопровождая их восклицаниями на своём варварском наречии — Кэролайн расценивала эти его маневры как проявление восхищения ею, ну, и всякая тому подобная чепуха. После этого вождь грустно смотрел на нас минуту-другую и ехал дальше.
Ну, тут, пожалуй, надо вам объяснить кое-что, ибо вы ведь, конечно, заметили, что ни Старая Шкура, ни я, никак не могли взять в толк, что, Шайен происходит, и ещё не скоро поняли это.
Так вот, главное, что надобно вам сказать, это то, что вождь вовсе не просил отдать ему Кэролайн и меня, когда приехал утром к каравану. На самом деле он произнес длинную речь по поводу вчерашней резни, начисто снимая с Шайенов всю ответственность за происшедшее, но потому как он тогда ещё любил белых и к тому же полагал, что его не погладят по головке, когда всю эту историю узнают военные в форте Ларами, он, как человек честный, привел нам лошадей в порядке компенсации за убитых мужчин.
Вот так и вышло, что из-за любви Кэролайн к романтике и её привычке делать поспешные выводы, которую она унаследовала от нашего папаши, мы увязались за Старой Шкурой и тащились за ним через прерию по ужасному недоразумению. Вождь думал, что мы преследуем его потому, что хотим получить большую компенсацию, а в речах, которые он произносил на привалах, выражался протест против нашей несправедливости, против того, что мы гонимся за ним, как койоты, которые как пристанут, так тащатся за тобой много миль.
Кэролайн бросала на него влюбленные взгляды, а этот краснокожий бедняга читал в них лишь отвращение и безжалостную ненависть. Позже, через много лет, я очень полюбил Старую Шкуру Тип и. На его долю выпало столько бед и несчастий, что и представить себе невозможно… Ни одному смертному — ни белому, ни краснокожему — столько не выпадало. А несчастному мы с особой легкостью отдаем свои симпатии и любовь.
В общем, как я уже сказал, никто из нас не понимал, что происходит, но мне и моей сестрице было намного легче, чем вождю, потому что мы-то во всём полагались на него, а он, бедняга, в конце концов решил, что мы демоны, и только ждём темноты, чтобы похитить разум у него из головы, и потому он всю дорогу бормотал какие-то молитвы и заклинания, чтобы навлечь на нас злых духов. Но так уж ему не везло, что по пути нам ни разу не встретился ни один зверь из числа его братьев и союзников — таких, как Гремучая Змея или Дикая Собака, которые всегда помогали его колдовству, а попадался только Кролик, который давно имел зуб на вождя за то, что он однажды, спасая свой лагерь от ночного пожара, уговорил огонь повернуть в другую сторону и сжечь дома Кроликов. Так все и вышло — подойдя вплотную к лагерю, огонь уже опалил шкуры, которыми были покрыты типи, но потом вдруг отвернул в сторону и не тронул жилищ, племени.
После этого случая все кролики в прерии знают вождя в лицо, а случись им наткнуться на него одного, поднимаются на своих огромных задних лапах и говорят: «Мы думаем про тебя плохие мысли». А ещё называют вождя его настоящим именем — хуже этого ничего и придумать нельзя. А потом скачут прочь, только хвостики мелькают — либо чёрные, либо белые, смотря какие встретятся кролики, но этого краснокожего невзлюбили и те, и другие…
А ещё скажу я вам: стоило мне оказаться в обществе Старой Шкуры, эти зверьки так и лезли мне на глаза, да в таком количестве, в каком я их никогда в жизни раньше не видел. Стоило ему кончик мокасина высунуть из жилища — они уже тут как тут, скачут, сбегаются со всей округи — и не сосчитать их, словно искры в кузне, когда куют подкову. Один только способ есть у краснокожего, чтобы спастись от той напасти, от того наказания, которому мы с Кэролайн, сами того не ведая, подвергли вождя, и этот способ — полное безразличие. Если индейцу не удается достаточно быстро и легко добиться своей цели, ему сразу становится дико скучно, он тут же утрачивает к ней всякий интерес и старается поскорее забыть. Индейцу интересно только то дело, которое идет как по маслу, без сучка, без задоринки. Вот так же и Старая Шкура Типи — через некоторое время плотней закутался в своё красное одеяло, под которым ему было прохладнее, чем просто под палящими лучами солнца, и поехал себе вперёд, ни на кого не обращая внимания, словно тут, к северу от реки Платт, кроме него не было ни одной живой души.
Третий воин (если вторым считать парня, что остался сидеть посреди прерии, потому что ему втемяшилось в башку, что он умирает) то и дело отъезжал от нас куда-нибудь в сторону — на полмили влево, вправо или вперёд — не иначе как высматривал врагов, а ещё — что-нибудь поесть, потому как первого у Шайенов всегда в избытке, а второго все время не хватает.
Вот так мы и ехали к лагерю Шайенов, до которого было, наверное, миль десять, не больше, если от Плата ехать на северо-восток за пущенной стрелой — то есть, по прямой. Но так уж вышло, что наш маленький отряд добирался туда три или четыре часа — потому как вождь петлял, кружил и выписывал зигзаги: видать, очень ему хотелось, чтобы мы с Кэролайн от него отвязались.
Солнце ещё не село, оно висело над горизонтом на расстоянии одной ладони от него, но прерия под копытами лошадей уже окрашивалась в багрянец. Кто знает эту страну, тот запросто может определить в любой момент время суток, даже не глядя на небо, а просто присмотревшись к любой кочке — как на неё падает свет. Но это, конечно, белый человек. А индеец вообще не меряет время, как белый, потому как он, по белым понятиям, никуда не спешит. Вот, к примеру, вы можете себе представить, как Колумб говорит: «Пожалуй, надо отправляться: сейчас 1492 год, и я должен пересечь океан к полуночи 31 декабря, а иначе не успею открыть Америку в этом году, и тогда она будет открыта только в следующем». А краснокожий рассуждает совсем иначе. В языке жестов слово «день» изображается точно так же как «сон» или «спать». И глядя на пятачок земли, на ту самую кочку, индеец видит совсем не то, что белый. Он видит, какие звери проходили здесь за последние две недели, какие птицы пролетали над этим местом, далеко ли до ближайшей воды и все такое, а кроме того ещё кучу всякой сверхъестественной всячины, потому как для него все едино и нет никакой разницы — естественное или сверхъестественное…
Я сказал, что вождь ехал, словно никого и ничего не видел и не слышал. Но это он только нас не замечал. Он прекрасно понимал, где находится, и вот через какое-то время он подал какой-то знак тому воину, что рыскал вокруг — я, кстати, могу назвать его по имени — его звали Горящий-Багрянцем-В-Лучах-Солнца — и указал ему на холм впереди, согнув крючком указательный палец. Горящий Багрянцем обогнул холм слева, соскользнул с лошади, потом взял одинарный боевой повод, сплетённый из жил, и привязал его к копью, которое вонзил в землю. Потом сбросил одеяло и ноговицы. В набедренной повязке, вооружённый луком и стрелами, он стал тихо красться вверх по длинному пологому склону холма, у подножия которого мы ждали, и, добравшись почти до самой вершины, шлепнулся на живот и дальше двигался ползком. Трава вокруг была вытоптана огромным стадом бизонов, и к тому же совсем недавно, так что ещё не успела прорасти вновь, и потому мы прекрасно видели, как он извивался на земле, покуда, мелькнув подошвами мокасин, не исчез за вершиной холма. Вскоре ветер, что дул из-за холма в нашу сторону, дважды донес звук «тан-нг», «тан-н-н-нг» — это звенела тетива лука, пославшая в полет две стрелы, потом послышался стук маленьких копыт. Старая Шкура тронул лошадь и шагом двинулся вверх по склону. Мыс Кэролайн, конечно, следом за ним. Перевалив за вершину, мы увидели Горящего Багрянцем. Он сидел на корточках в неглубокой лощине, наполовину заполненной водой — сюда бизоны обычно приходят на водопой. Он перерезал горло антилопе, которая лежала перед ним и хрипела, потому что была не убита, а только ранена — в левом боку у неё торчала стрела. Второй стрелы не было видно — промазал, наверное. Но всё равно Горящий Багрянцем поработал на славу — подкрался на расстояние пятидесяти футов к пяти антилопам, остальные четыре из которых мчались сейчас быстрее ветра в четверти мили от поверженной пятой. Что и говорить — бегать эти создания умеют.
Перерезав антилопе горло, Горящий Багрянцем отсёк ей хвост — маленькую черно-белую розетку, этакую очень миленькую штучку, которой он украсит свой наряд. Потом он рассек её грудь в том месте, где сходятся ребра, и, сунув руку в зияющую рану, вырвал сочащееся кровью сердце, горячее и ещё пульсирующее. Вдруг он ткнул его мне в лицо. При виде куска мяса, истекающего кровью, я отшатнулся, но Горящий Багрянцем одной рукой схватил меня за подбородок, а другой сунул мне сердце в рот. Вообще-то это была большая честь, можно сказать, привилегия, потому как он и сам очень любил свежее антилопье сердце, чему и был обязан своей славой лучшего бегуна племени, но тогда я этого, конечно, не знал. Однако я боялся Горящего Багрянцем — имя-то у него было точь-в-точь подстать его виду — он был действительно краснокожий, как многие индейцы, хотя у некоторых кожа почти чёрная. Щёки он покрывал слоем глины, которая, высыхая, приобретала волчье-серый цвет, отчего глаза у него становились маленькими и блестящими, как у змеи.
В общем, я оторвал зубами кусок кровоточащего сердца, что было не так-то просто, потому что в нем было множество жестких упругих жил. После этого краснокожий отстал от меня и остальное съел сам — умял в одно мгновение. Как только я проглотил ком сырого мяса (о вкусе которого могу лишь сказать, что оно было живое и таяло во рту), мою тошноту как рукой сняло, мышцы ног стали упругими, словно натянутая тетива, и я почувствовал себя таким лёгким, что мог бы взлететь, но тут все снова вскочили на лошадей и поехали, а Горящий Багрянец взвалил тушу антилопы, истекающую кровью, на круп своей лошади и привязал ее. Старая Шкура обнаружил этих антилоп, находясь на другом склоне холма и видеть их, конечно, не мог. Он их и не видел — просто они ему ПРИСНИЛИСЬ. Да, я не шучу, у него был такой дар — видеть вещие сны. Удивительный дар, какой даже у индейцев нечасто встретишь. Вот и в тот день тоже — он ехал и грезил, и всё время видел сны, прямо посреди прерии. Ему для этого и ночь была не нужна, и спать-то было не обязательно.
После того, как Горящий Багрянцем подстрелил антилопу, мы вскоре добрались до лагеря Шайенов. Лагерь этот размещался по берегам маленького ручейка — шириной не больше приклада винтовки — и пытался укрыться в тени трёх жалких тополей. Вождь остановился на холме над лагерем — чтобы нас увидели и узнали, и не приняли за врагов, индейцев-Ворон, которые воруют у Шайенов лошадей. Старая Шкура Типи был большой любитель таких театральных жестов — иначе это и не назовешь, потому как никто во всём поселке никогда не ждал нападения врагов и никакой бдительности не проявлял; не реже чем раз в неделю конокрады из враждебных племен совершали набеги на табуны Шайенов и нагло уводили лошадей, иногда прямо средь бела дня.
Стоя на вершине холма, мы увидели десятка два типи, (хижин, крытых шкурами), прилепившихся к правому берегу ручья. На лугу за ручьем — табун лошадей голов эдак на тридцать. Посреди ручья — куча голозадых смуглых ребятишек орут и брызгаются водой. Неподалёку — несколько крепких парней сидят на земле, курят и обмахиваются орлиными перьями, а ещё несколько — разодетые в пух и прах — прохаживаются туда-сюда перед кучкой женщин, что сидят и что-то колотят на земле. Две девчонки волокут из прерии бизонью шкуру, на которую нагрузили сухого навозу — бизоньих лепешек, так их называют. На равнинах эти самые лепешки жгут вместо дров, потому как лесу тут мало. Толстая баба сидит и разжевывает кусок шкуры — чтобы размягчить. Остальные женщины заняты кто чем — кто идёт за водой, кто тащит какие-то узлы, кто чинит шкуры, которыми кроют типи, кто шьет мокасины, кто — ноговицы, кто — длинные рубашки, отбеливает кости, толчет ягоды в ступе, расшивает одежду какими-то стекляшками, делает ещё кучу самых разных дел, которым индейская женщина отдает себя без остатка с рассвета и до самой ночи, когда она уляжется наконец на свою убогую постель в надежде отдохнуть от трудов телесных — ан нет — её мужчина уже тут как тут и требует своего.
Пока спускались к ручью, никто в поселке не обращал на нас никакого внимания, но когда через ручей, поднимая брызги, перебрался Горящий Багрянцем — он ехал последним и вёз свою антилопу — женщины довольно сильно оживились. Потом я узнал, что весь род уже дней десять не ел мяса. Жевали дикую репу и даже старые шкуры, уж начали подумывать, может, кузнечиков пустить в ход, как пайуты, а это ведь для Шайена — последняя степень падения, хуже не бывает. Был конец весны, а в это время равнины обычно так и кишат бизонами, взглянешь вдаль — все холмы просто шерстяные от бизоньих спин, и, если помните, трава в лощине вся вытоптана была огромным стадом, и при всём при этом люди Старой Шкуры Типи уже, больше недели не ели мяса. Вот это и есть невезение, о котором я говорил.
О собаках индейских надо сказать особо. Хоть и маленькая деревушка Старой Шкуры Типи, но псов у них было штук тридцать, а то и больше, масти в основном кошачье-жёлтой, хотя попадались всех цветов и оттенков, и пятнистые — на любой вкус. Из-за этой своры здесь в любое время дня и ночи стоит дикий шум — лай, вой, рычание, возня. Никого они не сторожат, а только носятся друг за другом и грызутся весь день, а ночью облаивают койотов, что воют за холмом, а тем временем в лагерь крадутся Поуни и уводят лошадей, сколько захотят, и ни одна собака на них даже и не подумает гавкнуть.
Так вот, эти самые собаки встретили нас у ручья. Они так и кишели под ногами лошадей и бросались на антилопью голову, что безжизненно болталась над ними. Но всё же побаивались плётки Горящего Багрянцем — у него на кисти левой руки висела сыромятная кожаная плетка, и он стегал собак эдак небрежно, походя, как лошадь отгоняет хвостом мух. Потому-то собаки, хоть и щелкали зубами и вообще много делали шуму, но никого и ничего не кусали. Вообще-то, привыкнуть к шайенским собакам можно, главное — не обращать, на них внимания: пусть себе лают, а на большее они не способны. Только я это не сразу понял и пару раз, помню, не на шутку перепугался — как тогда, в первый день: был там один грязно-жёлтый пёс — глаза красные, слюна из пасти так и брызжет. Я явно понравился ему больше, чем антилопья туша. Он припал к земле слева от лошади, прямо подо мной, и приготовился прыгать. Потом медленно так растягивает губы, скалится свирепо — ну, жуть! — а сам глядит мне прямо в глаза, потом разевает огромную пасть, полную жёлтых зубов. Я от страха обхватил Кэролайн да так сжал её, что она, бедняга, чуть не задохнулась, и чтобы освободиться, как двинет мне локтем под ребра!
Потом говорит мне: «Ну, Джек, не позорь меня перед нашими друзьями», а сама натужно так улыбается женщинам, а они-то на нас — ноль внимания, Тут, по-моему, сестрица моя впервые почувствовала себя не в своей тарелке. Уж не знаю, что она напридумывала себе, когда увязалась за индейцами, но при виде этой деревушки и каменное сердце не могло не дрогнуть. Если бы вы там оказались, то, небось, подумали бы: «Та-ак, ну, здесь у них свалка. А где же они живут? А воняет!..» С чем его сравнить, этот запах — сразу и не поймешь. Вонью — в «белом» смысле слова — его не назовешь. Это смрад составной: множество разных мерзких запахов смешалось и получился какой-то зловонный туман. Стоит его вдохнуть — и ты вроде как все сразу узнал про земную плотскую жизнь всех двуногих и четвероногих тварей в округе. В ту минуту до этого букета выделялся один аромат: наша лошадь как раз мочилась под себя. Но вообще, если поблизости чего-нибудь такого не происходит, то ни один из запахов, обычно не преобладает. Окунувшись в эту атмосферу первый раз, чувствуешь, что попал в принципиально иную среду.
Но к новой среде — хоть к этой, хоть к другой — привыкаешь и скоро перестаешь её замечать. И когда потом я попал в белый посёлок, мне этого запаха очень не хватало, и казалось, что это был запах самой жизни.
Горящий-Багрянцем-В-Лучах-Солнца спешился и гордо расхаживал по деревне, а антилопу женщинам оставил — пусть возятся, это их дело. Они толпой набросились на неё, освежевали в одну минуту — вы бы и трубку закурить за это время не успели — и принялись разделывать. Ну, а Старая Шкура — он тронул лошадь и не спеша двинулся к своему типи. Типи у него был большой, но ветхий, покрытый, как и положено, шкурами, на которых между заплат виднелись примитивные сине-жёлтые рисунки: человечки с палочками вместо рук и ног, звери кое-как нацарапаны, треугольники — горы, пуговки — солнца и всякое такое. Так вот, подъехал он к этому типи, спешился у входа, повод бросил мальчишке, что стоял перед ним совершенно голый, если не считать мокасин и грязной набедренной повязки. Потом пригнулся чуть ли не до земли, чтобы не зацепиться цилиндром, попридерживая его рукой, чтобы не упал, пролез вовнутрь.
Тут сестрица моя, сидя в седле, поворачивается ко мне в полоборота и говорит: «Наверное, это и есть его дом», а у самой физиономия кислая — по крайней мере, так мне показалось. «А прилично будет, если мы последуем за ним — туда? — продолжает она. — Не знаю…» Ну, тут уж я не выдержал. «Кэролайн, — говорю, — у меня от этой езды все болит… Отец погиб, мать осталась Бог знает где — посреди прерии… А тут ещё эта проклятая собака пристала — вон она, слюной брызжет. Я боюсь!»
Тут к сестрице, видно, вернулся боевой дух и она с жаром воскликнула: «Eщё чего не хватало — бояться какой-то дрянной собачонки!», потом перекинула ногу через круп лошади, пребольно стукнув меня при этом каблуком сапога, и соскочила на землю. Собака на неё — ноль внимания. Кэролайн, следуя примеру вождя, отдала поводья краснокожему мальчишке, Тот стоял, уставившись на меня своими блестящими чёрными глазками. По причинам расового характера я не испытывал к нему большой симпатии, но всё же, ткнув пальцем, указал ему на собаку, которой, похоже, не нужно было ничего на свете, кроме одного — чтобы я спустился на землю, а там она уже меня достанет. Парнишка попался сообразительный — сразу понял, чего я хочу и так хряпнул псину ногой по хребту, что она отлетела в сторону, жалобно заскулив. Однако услуга, которую он мне оказал, только усугубила моё врожденное предубеждение против него, и потому, соскочив на землю, я задрал нос повыше и назло всему последовал за Кэролайн, которая, набрав полную грудь воздуха, влезла в жилище.
Внутри было темно. После ослепительного солнца снаружи — просто здорово. Посреди типи горел маленький костёр из бизоньих лепешек, при его свете можно было оглядеться по сторонам, а ещё свет проникал сквозь дымовое отверстие — дырку в конусообразной верхушке палатки. Ну, а запах… Что говорить, снаружи дух стоял тоже крепкий. Но это были, как говорится, цветочки. А здесь, внутри, стоило потянуть носом, и казалось, что дышишь, окунувшись с головой в болотную тину.
Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел у костра толстую бабу. Она что-то помешивала в котле над огнем и на нас даже не взглянула. По всей окружности типи на полу виднелись какие-то тёмные фигуры, которые лежали головами к стенам типи, а ногами — к костру. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это не люди лежат, а мохнатые бизоньи шкуры. Впотьмах приходилось ощупью пробираться от одной к другой, и не было никакой уверенности, что на следующей шкуре не окажется какого-нибудь дикаря, который чего доброго, болезненно отреагирует на наше вторжение. Вот так, наощупь, мы сделали пол круга и наткнулись на вождя, чье ложе располагалось как раз напротив входа. Он тихо сидел на бизоньей шкуре* и Кэролайн споткнулась об него и чуть не упала, но успела схватиться за шест в стене типи, с которого свисали несколько кожаных сумок и узлов с нехитрыми личными пожитками индейца.
Вождь держал в руке каменную трубку с деревянным чубуком фута полтора длиной, на которой имелось украшение в виде ряда медных гвоздиков, поблескивавших шляпками при свете костра. Мы с сестрой просто стояли и смотрели на него, потому что дальше идти нам было некуда. Старик набил свою трубку табаком из маленького кожаного кисета, а потом толстая баба сунула в костёр палку, подождала, пока она займётся, затем раздула обугленный конец и подала вождю. Тот принялся раскуривать трубку и с такой силой сосал мундштук, втягивая щёки, что голова его становилась похожа на череп. А трубка-то была длинная, такую ещё попробуй раскури. Но он с этим справился, и когда решил, что достаточно её раскочегарил, вдруг ни с того, ни с сего сунул трубку Кэролайн.
Сестрица моя при всей своей мужеподобности, однако, за всю жизнь ни разу не курила и не жевала табак. Приняв трубку из рук вождя, она с восхищением рассмотрела её со всех сторон и вернула хозяину. Тот совершенно справедливо решил, что до неё не дошло, чего он хочет, и на пальцах показал, что надо сесть на бизоныо шкуру справа от него. А когда Кэролайн уселась-таки, он наклонился к ней и вставил кончик мундштука ей в рот, а губами изобразил, что именно с ним делать-то.
Кэролайн не стала противиться, и принялась попыхивать трубкой, как ей показали. Я так полагаю, для неё это был какой-то сексуальный ритуал, не иначе, или что-то вроде того. А старик между тем бормотал себе под нос заклинания — обезвредить хотел злые чары: он не сомневался, что Кэролайн на него напускает порчу. И когда она приняла от него трубку, он сразу приободрился и решил, что его заговор обязательно подействует, потому как ни во что индейцы не верят так свято, как в магическую силу табака.
Наконец, трубка почти догорела и только слегка похрипывала, тогда старик забрал свой прибор назад, и Кэролайн, поймав ртом воздух, прикусила свой носовой платок. Потом ещё долго сидела, надрывно дыша, но в обморок не упала, и её не стошнило. Да, что и говорить, крепкая девчонка была наша старушка Кэролайн.
Старик размял пепел в трубке и высыпал моей сестрице на носки сапог — это для того, чтобы её покинула удача, но тогда мы этого не знали. Потом опять принялся набивать трубку, выуживая табак из своего расшитого бисером кисета. Хотя в этой смеси табака-то было — чуть, а все остальное — кора красной ивы, листья сумаха, бизоний, костный мозг и ещё кой-какие… э-э-э… ингредиенты. Да, надо честно признать: курение — это индейское изобретение. Едва ли не единственное.
Старая Шкура, покуда докурил свою трубку, изменился до неузнаваемости: он приветливо улыбался, без умолку тараторил на своём наречии, потом обратился к женщине, что сидела у костра, — что-то приказал, наверное, потому как она тут же вышла и вскоре вернулась с куском свежего мяса — видать, вырезала из антилопьей туши.
Эта женщина с лицом, круглым как луна, порезала мясо на куски и бросила в котёл, где уже закипало какое-то варево. От этого варева исходил дух, который, не иначе, и привлек сюда кучу народу — индейцы начали залазить в типи один за другим. Первым пришёл тот мальчишка, что принял у нас лошадей, за ним ещё одна толстуха — точная копия поварихи, а ещё — девчушка, на которой не было ни нитки одежды, мальчуган чуть постарше — в таком же костюме. Потом появился красивый парень лет двадцати пяти, и наконец — Горящий-Багрянцем-В-Лучах-Солнца — кормилец, собственной персоной, всё ещё в боевой раскраске. Ну, а за ним следовала целая процессия во главе со стройной красавицей с большими нежными глазами лани и косами до плеч. С ней было трое или четверо ребятишек, лет шести и меньше. Все эти люди уселись на корточки в кружок вдоль стен типи, уставились на котёл и следили за ним, не отводя глаз. Почти у всех с собой были деревянные миски, а у некоторых — и ложки, тоже деревянные, либо из рога. Они сидели молча, на нас с Кэролайн только разок взглянули и больше не обращали никакого внимания.
Немного спустя повариха взяла черпак и насыпала по полной миске варева сначала нам с Кэролайн, а потом и остальным. Все принялись есть, а вождь не взял в рот ни крошки, просто сидел на бизоньей шкуре, как король на именинах.
Тут я вдруг вспомнил, как индейцы, которые приезжали к нашему обозу, все время приговаривали «хай-хай», когда ели сухари и пили кофе. Мне все ещё было ужасно не по себе, и, хотя я страшно хотел есть, еда меня не очень-то успокоила: надо вам сказать, мясо было довольно-таки жесткое. Куски антилопы не слишком хорошо проварились. К жиру индейцы относятся без предубеждения, а кроме того, в те времена они ещё не завели привычки употреблять соль. Кроме мяса нам дали перетертые в жидкую кашицу ягоды, вроде как пюре, а ещё — пару каких-то кореньев, которые сначала не имеют вкуса, покуда их не проглотишь, а потом через некоторое время начинаешь задыхаться и готов по земле кататься, как припадочный. Так вот я и говорю, вспомнил я это индейское словечко — наверное, что-то очень вежливое — и использовал его. Я просто хотел понравиться этим людям. До сих пор они не обращали на нас внимания, но я ведь уже видел, как краснокожие могут меняться в одну минуту. Я собрался с духом, повернулся к вождю и сказал: «хай, хай, хай!». Кэролайн ткнула меня локтем в бок, но вождь был ужасно доволен.
Он тут же эхом откликнулся: «хай-хай», а потом сказал ещё что-то — позже, когда я стал немножко кумекать по-ихнему, я узнал, что это было моё первое индейское имя: Маленькая Антилопа, по-ихнему «Вох-ка» — звучит, как будто кашляешь. Как он меня назвал, мне было, в общем-то, не важно, к тому же потом у меня было ещё несколько имен, но это было первое, и это было какое-то начало. По крайней мере, меня не скальпировали за то, что я раскрыл рот и сказал пару слов, которые счел уместными, но вам-то не понять, каково это — быть десятилетним мальчишкой, вдруг оказаться у дикарей и быть принятым в клан. А заодно я и Кэролайн оказал услугу, потому что, пока вождь смотрел на меня и улыбался, я краем глаза заметил, как она выудила большой шмат мяса из своей миски и выкинула его в щель под шкуряной стенкой типи, и я тут же услышал как на него набросилась собака, ибо надо вам сказать, что в индейском лагере не найдётся ни одного закуточка, ни одного укромного уголка, где бы поблизости не ошивалась хоть одна собака. Наверное, в тот первый день — там, у обоза — сестрицу мою подкупила в индейцах их живописность, а ещё — жестокость. Но чем дольше мы гостили у Старой Шкуры, тем будничнее и скучнее нам казалась жизнь дикаря. Потому что индеец может убить человека — и тут же усядется жрать, тихий и мирный, словно клерк в конторе. Он просто не видит особой разницы между вещами, которые для белого человека несовместимы. Нет, ей-Богу, индейцы совершенно не похожи ни на кого другого.
Потом вождь сказал что-то поварихе — позже он признался, что испытывал к нам смешанные чувства: то мы казались ему добрыми и мирными, то злобными и враждебными. В эту минуту он был расположен к нам по той причине, что мы в его доме разделили с ним его хлеб — а это для индейца огромная честь, настолько большая, что хозяин крошки в рот не берёт, пока гости не поедят — вот почему Старая Шкура Типи и не ел сам. Так вот, я и говорю — вождь сказал что-то поварихе и она поманила меня за собой, и я, хоть с холодком в груди, встал и пошёл за ней — снова обошёл по кругу все жилище, пробираясь мимо Шайенов, которые сидели на бизоньих шкурах и жевали, как козлы.
Выбравшись вслед за поварихой наружу, я увидел, что уже почти стемнело, только на западе багровым пятном догорал закат.
Надо вам сказать, что я не слишком интересовался красотой окружающей природы в те времена, и на небо я взглянул только потому, что в тот самый момент, как я высунул голову за полог палатки, откуда ни возьмись, вновь объявился мой заклятый враг — белая собака. Я хотел было сделать вид, что не обращаю на неё никакого внимания, но она вцепилась зубами в мою штанину и принялась её трепать и рвать, и, наверное, сжевала бы её всю, и меня самого в придачу, но тут повариха оглянулась. Её звали Бизонья Лощина, это была жена Старой Шкуры Типи, а помогала ей у костра её младшая сестра. По обычаю Шайенов, когда старшая сестра выходит замуж и идет в дом своего мужа, младшая следует за нею, и они вместе поступают в распоряжение вождя, оказывая при этом ему все услуги, какие только может потребовать индеец от женщины-индианки.
Так вот, Бизонья Лощина оглянулась, и засмеявшись, что-то спросила у меня. Видать, мой жалобный взгляд был достаточно красноречивым ответом, потому что она тут же схватила зловредную тварь за шкирку. Собака жалобно заскулила, но это ничуть не облегчило её участь, ибо Бизонья Лощина уволокла её в палатку, а там взяла каменный молоток и расколола ей череп. Потом осмолила её над костром, порубила тушку на несколько кровавых кусков и тут же побросала их в кипящий котёл. Вся эта процедура заняла времени не больше, чем у вас ушло на чтение этих строк.
Она была сильная, полная женщина, добрая душа, и все время улыбалась.
Старая Шкура сидел такой гордый, что казалось, вот-вот лопнет. Для индейца нет лучшего лакомства, чем собака, а из собак самая лучшая — белая. Для них это такой деликатес, что даже сидя без мяса больше недели, они не посягнули на свою свору собак.
Боюсь, однако, что мы с Кэролайн даже не поняли, какую честь нам оказали. Моя сестрица сидела, скрестив ноги и молча наблюдала за манипуляциями поварихи. Она не дрогнула, когда при ней убивали людей, в том числе родного отца, однако теперь, когда у неё на глазах зарубили эту гадкую собачонку, она вдруг начала раскачиваться туда-сюда и засунула в рот кулак, чтобы не закричать.
В этот самый момент Старая Шкура вдруг взглянул на Кэролайн и чихнул, да так, что цилиндр съехал ему на глаза. Потом ещё раз — и головной убор свалился на землю. Ещё дважды он чихал, не в силах сдержаться — это было похоже на лай лисицы — его косички взлетали за спиной, а медаль глухо билась о костлявую грудь. Вся орава индейцев, которые до сих пор усиленно набивали желудки жратвой, теперь вытаращилась на нас, словно впервые видела. Когда они впрямь увидели нас впервые, они этого не сделали, потому что думали о том, как бы поесть антилопьего мяса, а больше одной мысли у них в голове не помещается. Но теперь та красавица с глазами как у лани так осмелела, что подошла и уселась рядом с Кэролайн на её бизоньей шкуре, уставилась на неё и принялась в упор разглядывать, а та, бедная, напрягла все силы, чтобы её не вырвало, потому как в аромате, исходившем от котла, уже стало угадываться присутствие белой собаки, которая благоухала вроде того, как если мокрое пальто повесить у огня для просушки.
Ее, эту женщину, звали Падающая Звезда, она была женой Горящего Багрянцем и уже успела родить несколько детей, которых и привела с собой в типи вождя, включая и крошечного младенца с черненькими птичьими глазами-бусинками, который болтался в люльке хитрой конструкции, которую подвесили к жерди в стене жилища. Он был устроен в своём ложе таким образом, что мог писать прямо оттуда, и вынимать его из этой подвески было просто незачем. Любопытство Падающей Звезды сослужило добрую службу Кэролайн — в том смысле, что отвлекло её внимание от тревожных процессов в её желудке и, собравшись с силами, она смогла-таки произнести:
— Очень рада видеть вас, миссис, — и протянула свою громадную ручищу для рукопожатия. Но вместо того, чтобы пожать её, индианка сунула свою руку сестре между ног и принялась шарить там, а потом взяла её за грудь и стала щупать сквозь рубашку. Проделав все эти манипуляции, она повернулась к Старой Шкуре и произнесла одно-единственное слово: «Вехоа!», после чего прикрыла свой рот ладонью. Вождь повторил этот жест, а за ним и все остальные проделали то же самое…
Когда рядом белая женщина — индеец рано или поздно начинает чихать, Говорят, это из-за духов или пудры, но моя сестрица в жизни не пользовалась ничем таким, разве только простым мылом. Короче говоря, понимайте как хотите, но до этой самой минуты ни один из Шайенов не догадывался, что Кэролайн — женщина.
Глава 3. У МЕНЯ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВРАГ
Для Шайенов мужчина и женщина — совсем не одно и то же, разница очень большая — побольше, чем между мёртвым и живым, если хотите знать — и, когда они выяснили насчёт моей сестрицы, то обрадовались. К тому же антилопу уже всю съели, а собака ещё не доварилась, и потому все, кто был в палатке, столпились вокруг нас, чтобы удовлетворить своё любопытство.
Кстати, делали они это по-своему тактично — в основном, ограничивались тем, что разглядывали её в упор, некоторые щупали одежду, но к телу никто не прикасался. Мне кажется, если б мы могли понять в эту минуту, что бормочет Падающая Звезда, мы бы обнаружили, что она приносит Кэролайн кучу извинений за то, что дала волю рукам — хотя, как оказалось, и не напрасно. Вообще меня, белого, всегда восхищало, что эти дикари совсем не лишены чувства такта и вовсе не грубы — разве что от невежества.
Ко мне особый интерес проявила, конечно, малышня. Среди прочих был тут и Маленькая Лошадка — тот самый мальчишка, который смотрел за лошадьми. Я сразу пришёлся ему по душе, а он мне, как я уже сказал, не понравился; но я уже тогда был парнем сообразительным — деваться было некуда — иначе я и недели не протянул бы, не говоря уже о том, чтобы дожить до своих ста с лишним лет. Так вот, когда я заметил, что он разглядывает мои ботинки, я тут же сбросил их и протянул ему. Но индейцы обуви боятся, им и подумать страшно о том, чтобы засунуть ноги в эти тесные штуковины, — и он притворился, что не понял.
А тут и собака сварилась, и её сразу же начали делить. Слава Богу, собачонка была маленькая, а едоков много, хотя нам с Кэролайн как гостям досталось по большому куску. Никто не ложился спать, наверно, до полуночи. Я говорю, «наверное», потому что Шайены все время шастали туда-сюда, одни уходили — другие приходили, в палатке появлялись новые лица — заходили поглазеть на нас с сестрой; некоторые, завернувшись в бизоньи шкуры, уснули, а другие толклись тут же рядом, болтали и смеялись (ибо, вопреки мнению белых, нет на свете никого общительнее индейцев, когда они среди своих). ещё несколько часов в жилище продолжалась какая-то возня и всё это время пылал костёр: женщины, к примеру, занялись уборкой, а Старая Шкура выкурил четыре или пять трубок с разными дружками. Одним из этих дружков был — кто бы вы думали? — Горб, который, если не считать большой раны на носу, прекрасно выглядел и вполне дружелюбно бормотал что-то нам с Кэролайн. Узнал он нас после вчерашнего или нет — не могу сказать, но вел он себя, по индейским понятиям, очень достойно, в том смысле, что не винил нас за насилие и убийство, которые он учинил накануне.
Ну, а Кэролайн с той самой минуты, как её обследовала Падающая Звезда, сидела на своей шкуре в каком-то оцепенении и в этом бессознательном состоянии даже съела свою порцию собаки. Старая Шкура больше не обращал на неё никакого внимания. Он не хотел её обидеть, просто ему стало неинтересно.
Время шло, и мало-помалу костёр стал гаснуть, потому что Бизонья Лощина перестала подбрасывать в огонь лепёшки. Она улеглась спать — уж кто-кто, а она-то заслужила свой отдых. Утром я обнаружил, что мы с Кэролайн заняли её место рядом с вождём, и ей пришлось передвинуть одного из своих малышей, а тот передвинул следующего, и так все сдвинулись по кругу, словно музыканты в оркестровой яме, а мой поклонник Маленькая Лошадка оказался крайним — ему места не хватило и пришлось уйти к соседям — в типи его брата, а братом-то был никто иной как Горящий Багрянцем.
В конце концов все угомонились и только мы с сестрой сидели, глядя в догорающий костёр, над которым тонкой струйкой вился дымок и уходил вверх, к дырке высоко над головой, где сходились жерди типи, а оттуда улетал в ночь, в черное небо, вернее, не черное, а скорее синее — из-за россыпи золотистых звезд.
Рядом тихо спал Старая Шкура Типи, громадный нос-клюв торчал вертикально вверх, и над ним на кожаном шнурке висел его цилиндр. Слышно было, как сопят спящие, но храпа не было, потому как индейцев с детства приучают не шуметь без нужды. А ещё время от времени с тихим сипом осыпалась, превращаясь в пепел, последняя сгоревшая бизонья лепешка…
Да, все это было похоже на сон, но страх прошёл, по крайней мере у меня — точно. Может, кто-то меня даже осудит за это. Оно, конечно — оказаться вдали от дома, пережить смерть отца и все такое — приятного мало, и Шайен мне вдруг показалось, что не так уж все и безнадежно: в палатке тепло и сухо, а индейцы, оказывается, не так уж и кровожадны. Раз уж они не причинили нам зла сегодня, с какой стати они станут делать это завтра? Не вижу смысла кормить человека вечером, если хочешь укокошить его утром. Хотя, конечно, как не крути, а это всё же краснокожие, а краснокожие — это вам не белые.
— Ну, что скажешь, Кэролайн? — спрашиваю я сестрицу, которая сидит, опустив плечи, подперев голову руками и натянув шляпу так, что уши оттопырились. В полумраке типи мне показалось, что вид у неё довольно мрачный, и ответ её тоже прозвучал невесело:
— Ничего хорошего, Джек, — говорит она, и пожалуй, громче, чем надо бы: хозяева-то уже спали. — Видал, как они кокнули собачонку? А потом полезли меня лапать, как будто тоже собираются в котёл отправить, хотя я не слышала, чтобы они ели людей. Нет, Джек, боюсь, что от них ничего хорошего не дождешься. — Она поднялась на ноги, кряхтя и постанывая, потому что не так-то это просто — встать после того, как просидишь несколько часов, скрестив ноги на индейский манер.
И тут сестрица моя ещё раз повторила ту же самую фразу — слово в слово почти, я даже не заметил разницы, а разница-то была: «Не жди от них ничего хорошего, Джек» — сказала она и, спотыкаясь, заковыляла на негнущихся ногах к выходу — я думал, она перед сном пошла по нужде, сам-то я решил держаться до утра, потому как не хотел вылазить наружу: боялся собак — они так и шастали вокруг.
В общем, она ушла, и больше я её не видел. Долго не видел. Она пробралась на луг, выкрала из табуна лошадь и ускакала, и прошло много лет, прежде чем я случайно наткнулся на неё, но об этом я ещё расскажу — обо всем по порядку…
Какое-то время я думал, что она потерялась, пропала без вести, а потом забыл о ней напрочь. Не думаю, что кто-нибудь упрекнет меня в неблагодарности. Может, я бы и услышал стук копыт, когда она смывалась, но я сразу уснул, потому как, надо вам сказать, ничего на свете нет уютнее и приятнее, чем завернуться в бизонью шкуру — конечно, когда к ней привыкнешь и разберешься, как ею пользоваться. Правда, поначалу она грубовата, стоит колом, как фанера, а шерсть жесткая, как щетка. Но потом, когда согреешься, щетинки прилипают к телу, и кажется, что это твоя собственная шерсть.
Очнулся я утром, на рассвете, оттого, что меня разбудил Маленькая Лошадка. Он знаками показал мне: «Пошли», и я, стряхнув с себя остатки сна, что было совсем нетрудно из-за холодины, которая стояла в эту рань, пошёл за ним на поле, где паслись лошади. За ночь их в табуне явно поубавилось по сравнению с тем, что я видел накануне: ущерб, который нанесла ему Кэролайн, украв одну лошадь, ни в какое сравнение не шёл с тем убытком, который причинили юты, которые пришли после нее, а, может, на сей раз это были Поуни. Так или иначе, а Старой Шкуре Типи и его людям надо было срочно отправляться и попытаться вернуть лошадей, а то так и без табуна можно было остаться.
Маленькая Лошадка уже узнал по каким-то своим таинственным индейским каналам, что Кэролайн сбежала, и сообразил, что я остаюсь и буду жить с племенем, потому как выбирать мне не приходится, и поэтому он разбудил меня, чтобы взять с собой на луг, ибо это была обязанность мальчишек моих лет — каждый день чуть свет отправляться ухаживать за лошадьми. Вот и выходит, что он в тот момент знал обо мне больше, чем я сам, и глядя на меня, ухмылялся, однако, без злорадства и без насмешки, а тем временем мы с ним выбирались из типи, где вповалку дрыхли без задних ног взрослые Шайены. Индейцы — кроме мальчишек — вообще в такую рань без особой нужды не встают.
Снаружи ещё не развиднелось, был зябкий предрассветный час. Я уже три дня не раздевался и столько же не мылся, совсем запаршивел и наслаждался этим своим состоянием. Как сейчас помню — я просто упивался своим ничтожеством. Белый человек всегда так, даже мальчишка: стоит ему оказаться среди краснокожих, не может отделаться от этого чувства. «Какого чёрта? — думает он. — Какая разница? Вокруг одни дикари. Можно не мыться, можно мочиться где попало и все такое». Так вот, к чему я это говорю — Шайен, как раз наоборот, каждый день моется в ближайшем ручье. Но если б у них и не было такого правила — было бы какое-нибудь другое, короче говоря, если ты человек — никогда тебе не избавиться от обязанностей.
По пути на луг мы с Маленькой Лошадкой встретили ещё несколько мальчишек лет эдак от восьми до двенадцати, направляющихся по тому же делу, а лошадей после ночных краж осталось так мало, что едва ли хватало на всех пастухов. Оказалось, что наша задача — отвести скакунов на водопой к ручью. После этого мы погнали их на новое пастбище, потому как на старом они съели почти всю траву и вообще, в конце концов, вся земля вокруг, сколько видит глаз, была наша.
Маленькая Лошадка и другие мальчишки без умолку болтали и хихикали — не иначе как надо мной. Кроме меня ни на ком не было штанов, рубашки, ботинок и шляпы, но потом, после того как стреножили вожака, чтобы табун не разбрелся, мы вернулись назад к ручью купаться — о чём я и говорил вам — сбросили с себя все, и ничем, кроме цвета кожи, я от остальных уже не отличался, а потом, когда все вылезли из воды — а вода, кстати, была холодная — жуть! — но если хватит духу залезть, потом согреваешься, да ещё возишься всё время с лошадьми — а индейские мальчишки без конца с ними возятся — так вот, когда вылезли, я все свои манатки тут же поотдавал. Только штаны шерстяные оставил, остальное все раздал и тем самым тут же приобрел кучу Друзей.
Когда мы вернулись в посёлок, все, кому достался от меня подарок, тут же побежали домой и притащили мне взамен всякую индейскую всячину. Вот тут я, наконец, стянул с себя и штаны, и облачился в кожаную набедренную повязку, что дал мне один из мальчишек, а подвязал её ремешком, полученным от другого. Ещё я одел мокасины, а грязное жёлтое одеяло я получил от высокого парнишки по имени Младший Медведь — того самого, которому достались мои брюки, Он, кстати, тут же ампутировал им штанины и натянул на ноги по отдельности, как ноговицы, а верх выкинул за ненадобностью. Ботинки тоже никому не приглянулись, так и лежали на земле, где я их бросил, а потом, когда лагерь снялся и ушёл, они так и остались валяться на том же месте. Уж если какая вещь индейца не интересует, так он её словно и не видит: она будет валяться у него под ногами, он будет спотыкаться об нее, но взять да отбросить её в сторону — и не подумает.
Завтрака мы в то, самое первое утро, так и не получили по той простой причине, что есть было нечего. Антилопу накануне съели всю без остатка, а собаку прикончить — вторую подряд — это была бы непозволительная роскошь, потому как для переезда на новое место нужны вьючные животные, а табун лошадей таял просто па глазах. Кэролайн так и не вернулась — а я тогда ещё думал, может, она вернется, а что её могли убить, я даже и мысли такой не допускал — и мне не с кем было и поболтать на родном языке.
Но не успело ещё солнце взобраться повыше на небо, а я уже накопил кое-какой словарь жестов и с их помощью довольно бойко болтал с Маленькой Лошадкой обо всем, что можно показать на пальцах. К примеру, если хочешь сказать «человек», надо поднять указательный палец, держа руку ладонью к себе. Тут мне, конечно, сильно подсобило то, что у Лошадки была такая привычка — как покажет что-нибудь знаками, тут же тыкает пальцем в тот предмет, который изобразил. А если хочешь сказать «белый человек», надо пальцем провести по лбу — вроде как поля шляпы показываешь, но это не так-то просто было сообразить, потому как Маленькая Лошадка сам был в шляпе — в той самой фетровой шляпе, которую я ему отдал. Он все водил пальцем по лбу под шляпой, а я думал, он говорит «твоя шляпа», или просто «ты», и только потом сообразил, что это «белый человек».
А когда они показывают просто «человек», это у них значит «индеец».
А чтобы показать слово «Шайен», они указательным пальцем правой руки проводят по пальцу левой, вроде как полоски рисуют — это они оперение стрел изображают: у всех Шайенов отличительный признак — полосатое оперение на стрелах из перьев дикой индейки. Кстати, на нормальном языке они себя Шайенами никогда не называют, они говорят «цисцистас», что значит «народ», или «люди». А кто все остальные — это их вроде как не касается.
Выкупавшись, мальчишки сбегали, притащили луки, и мы пошли в лощину, где на дне стояла лужа — туда бизоны приходят валяться в грязи — и стали играть в войну: бегали туда-сюда, пуляя друг в друга стрелами без наконечников. Потом начали бороться, а я в этом деле был не силён, все как-то боялся придавить соперника как следует, но после того как меня прижали не на шутку, я перешёл на бокс и расквасил парочку индейских носов, или, по крайней мере, один точно. Это был нос Младшего Медведя, и все остальные тут же подняли беднягу на смех, а уж это краснокожие умеют, будьте уверены, ещё и почище, чем белые. Они так зло потешались над ним, что я его прямо-таки пожалел.
И очень даже напрасно: вообще не надо было мне бить его, но раз уж так получилось, я должен был задрать нос, ходить петухом и бахвалиться, а то и поддать ему ещё — чтобы закрепить успех; вот это было бы по-индейски, так уж у них принято. Если ты кого побил, ни в коем случае нельзя его жалеть, а то получится, что одолев его тело, ты и дух его хочешь убить. Я этого тогда не знал, и все заглядывал ему в глаза да улыбался ему целый день, а добился только того, что приобрел первого в жизни настоящего врага, который потом много лет строил мне козни и принёс столько неприятностей и бед, что вам и не снилось, потону как уж если индеец взялся мстить, он вложит в это дело всю душу, можете быть уверены.
Потом, помню, пошли мы к девчонкам — играть в лагерь. Игра простая — копируй взрослых во всём том, что они делают — и всё. Помню, девчонки ставили игрушечные типи, а мальчишки были вроде как мужья. Воины устраивали набеги на врагов и понарошку охотились на бизонов: мальчишка, который изображает зверя, держит большой кактус на палке, а остальные — охотники, то есть, стреляют из луков в него, и если кто попадает — значит, уложил бизона, а кто промажет, тому этот самый «бизон» как влепит по заднице своей дубинкой-булавой с кактусом на конце… Вот так вот…
Шайены вообще за что ни возьмутся — за любое дело — обязательно сделают больно — себе или другим. Только того и жди.
До этих пор, что ни делали, я с краснокожими мальчишками был, вроде, на равных, а как стали играть в лагерь — тут всё переменилось, и, наверное, опять-таки из-за Младшего Медведя: он, видишь ли, был «военным вождём» нашей ватаги, все признавали его главным, потому что из лука он стрелял страсть как хорошо, а ещё дубина у него была — сам изготовил — вроде булавы, как начнет ею махать, крушить врага — понарошку, конечно — просто жуть берёт. Да, вот так у Шайенов и становятся военным вождём: кто дерется лучше всех — тот и вождь. Но он командует только на войне. А для мирной жизни у них имеется другой вожак. К примеру, Старая Шкура Типи, так он — вождь мирного времени. А главный военный вождь нашего рода был Горб. Они прекрасно ладили, хотя во время резни у каравана, из-за виски, после того как приложились к бутылке, они — Помните? — пошли друг на друга с оружием. Правда, когда у Старой Шкуры Типи мушкет разорвало, тут же забыли друг о друге и занялись, кто чем.
В общем, Младший Медведь, одиннадцати лет от роду, был уже воин хоть куда, он был высокий крепкий парень и расхаживал выпятив грудь колесом. А насчёт нашей с ним драки я вам так скажу: он бы меня прикончил, ей-Богу, просто он ничего не смыслил в боксе. Ну, а это уж не моя вина, а его беда. Сам я здоровяком никогда не был, но мне тоже пальца в рот не клади.
Тогда, в самом начале, все, что у меня было, давали мне мальчишки: лук, стрелы, палку, на которой можно скакать понарошку, как на лошади. Но как начали под началом Младшего Медведя играть в войну, все умчались прочь, даже Маленькая Лошадка, а меня бросили с девчонками и малышней, которые изображали детей когда играли в лагерь. А потом так и пошло, и все привыкли — мальчишки убегали без меня, а я оставался с девчонками, и наконец меня стали звать «Девочка-Антилопа», потому как я помогал ставить и разбирать типи, а это ведь женская работа. А ещё когда играли в лагерь, они устраивали пляску солнца точь-в-точь как взрослые. Мальчишки загоняли себе в тело длинные шипы акации, а к ним на веревочке привязывали черепа — собачьи или койотов — и волокли за собой. Пришлось бы и мне проделать то же самое — а куда было деваться? — но, слава Богу, хватило ума. Потому как уже тогда, в своём-то возрасте, я твёрдо решил для себя, что белый человек сильнее краснокожего дикаря. Почему он сильнее? Потому что умеет шевелить мозгами. Ну, судите сами: Бог знает когда, давным-давно индейцы научились передвигать тяжести — подкладывать под них круглые чурки и катить. А потом что? Прошли сотни лет, а они так и не додумались насадить кругляши на ось, чтоб получить колеса. То ли это тупость непроходимая, то ли упрямство — как хотите понимайте, но в любом случае, это просто дикость.
Так вот, пошёл я за один из вигвамов — игрушечный, что девчонки поставили — и хотел было попробовать воткнуть в себя шип, но только к телу прикоснулся — тут же позорно струсил. Это мне никогда не нравилось — причинять боль самому себе… Так вот, была у меня стрела — стащил я её — настоящая, с фабричным железным наконечником. Взял я острый камень и стрелу эту разрубил пополам — надвое. А ещё была у меня жевательная резинка — Шайены её сами делают — высушивают сок молочая и получается жвачка. Бизонья Лощина дала мне этой жвачки, а теперь я достал её, в рот совать не стал, а засунул себе в пупок, а потом воткнул в неё половинку стрелы — ту, что с оперением. А вторую половинку, которая с наконечником, я сзади пристроил — зажал ягодицами вроде как она у меня из задницы торчит. Пришлось ещё набедренную повязку сдвинуть набок, чтобы не мешала. Вид получился — будто эта стрела меня насквозь проткнула прямо посередине, под углом в сорок пять градусов. Когда все приладил, вышел я из-за типи, иду, ногами еле переступаю — ягодицы-то сжал, а спереди стрелу незаметно поддерживаю: руку прижал к животу, вроде как от боли корчусь, хотя это было как раз не по правилам: мужчине положено боль презирать, но я решил, что ничего, сойдет, потому как у всех, конечно, глаза на лоб полезут.
Так и вышло. Сначала меня увидели девчонки, они пораскрывали рты и, прикрывая их, так хлопали себя по губам ладошками, что я уж не знаю, как у них передние зубы-то уцелели. А потом и мальчишки — бедняги, со своими жалкими колючками и крошечными собачьими черепами на верёвочках — они чуть не лопнули от зависти. Парнишка по имени Койот — тот от досады так рванул свою верёвку, что вырвал шип у себя из спины и кровь ручейком побежала ему на задницу. Маленькая Лошадка принялся плясать и хвастать, что он мой друг. А Младший Медведь, бедняга, просто сник и поплелся прочь, волоча за собой свои дурацкие черепа, что прыгали по кочкам и тарахтели у него за спиной, а когда один из них зацепился за куст полыни, так оборвалась жильная верёвочка, а кожа на спине у Младшего Медведя — хоть бы хны.
С этих пор я стал на равных с другими мальчишками играть в войну, а вскоре Горящий Багрянцем сделал мне лук. Он был сыном Старой Шкуры Типи от одной из жён — она давно умерла. А я был сиротой и вроде как приёмным сыном в вигваме вождя, и потому имел право на внимание и участие всего рода, словно был им родственник по крови. Чуть ли не в каждом типи был свой приёмыш, хотя они все были чистокровные индейцы. Женщины рода обязаны были кормить меня и одевать, а мужчины — следить, чтобы я вырос и стал настоящим мужчиной. Пока я был мальчишкой, не припомню, чтобы кто-нибудь упрекал меня, что я, мол, не индеец. Про Кэролайн, к примеру, вообще никто никогда не вспоминал, потому как вождь выкурил с ней трубку, а она-то оказалась женщиной, и это ужасный конфуз, — стыд и срам на его седую голову. В прежние-то времена Шайены, когда собирались курить трубку, женщин за дверь выгоняли, и полог закрывали — чтобы не влезли обратно.
Была ещё одна причина, почему я так легко прижился в этом племени — они, индейцы, то есть, не хотели вспоминать о том, что случилось у каравана. Мой братец Билл — вы уже знаете — в форте Ларами никому ничего про резню не сказал, солдаты так и не пришли, и Шайены больше этого не боялись. Их другое тревожило: во время пьяной драки они чуть не поубивали кой-кого из своих, а это для Шайена самое страшное — убить своего — страшнее не бывает. И всё равно — пьяный ты или трезвый. Всё равно это убийство, а убийце нет спасения, — у него гниют внутренности, он смердит, и все чувствуют этот смрад, и бизоны чуют его и разбегаются прочь. Убийца не может курить трубку, никто не станет есть из миски, к которой он прикасался. Чаще всего его просто изгоняют.
Ну, тут вам, наверное, показалось, что я завираюсь, что вы поймали меня на слове. Когда я рассказывал про драку из-за виски, там выходило так, что кой-кого из индейцев все ж таки убили: к примеру, я ведь сказал, что Куча Костей снес полголовы некоему Облаку, и у того мозги брызнули наружу. Могу поклясться, если бы вы там были, и видели все, что я видел — вы бы не усомнились ни на секунду, что так оно и было. И представьте, каково же было моё удивление, когда на следующий день, когда мы искупались с мальчишками в речке и возвращались в лагерь, я вижу — кого бы вы подумали? — Облако! Да, Облако собственной персоной, жив-здоров, цел и невредим, стоит и ждёт своего пинто, по виду и не скажешь, что с ним что-то случилось! Уселся на свою лошадь, а я ехал следом и все разглядывал его затылок. Может, была там дырка — не знаю, я так ничего и не высмотрел. Только, помню, пару вшей разглядел — ползали по пробору между косичками, а крови засохшей — даже и следа не было. А ведь это был точно он — его-то ни с кем не спутаешь, у него бородавка на левой ноздре. Ни у кого такой нету…
Может, вы уже сообразили, в чем тут дело. А когда я выкинул этот Помер со стрелой в заднице — никому ведь и в голову не пришло, что я их дурачу. А все потому, что индейцы никогда не ждут подвоха, зато всегда готовы поверить в чудо.
Глава 4. РЕЗНЯ
А мальчишкам у Шайенов живется совсем неплохо. Если сделаешь что не так, никто тебя не сечет, а скажут только: «Люди так не поступают», а это у них значит «Шайены так не поступают». Однажды Койот сидел и раскуривал трубку своего отца, а тут слепень возьми и сядь ему на живот — ну, он и расхохотался. О, это была серьёзная оплошность! Всё равно как у белых — громко пукнуть в церкви. Отец отложил трубку и говорит: «Ты не умеешь себя вести, и я из-за тебя целый день не могу закурить трубку, потому что Те-Кто-За-Нами-Следят, гневаются на меня. Ты, наверное, Поуни, а не Человек». Койот после этого чуть не умер от стыда, убежал с глаз долой в прерию и целую ночь просидел там один.
Если ты Шайен, ты всё должен делать, как надо. Даже младенцу не положено орать просто так — может, племя прячется от врага, и крик его выдаст. Потому-то женщины и подвешивают люльки с младенцами (особые индейские люльки) на кустах подальше от лагеря — ребёнок поорет, поорет — да и поймёт, что это бесполезно, и привыкнет лежать тихо. Девчонок специально учат сдерживать смех и не хихикать. Я сам видел, как Тень, выстроив перед собой своих дочурок, предупредил, чтобы не смеялись и давай рассказывать им смешные истории. Поначалу они прямо покатились со смеху и расчирикались, как птички, а он все рассказывает и рассказывает, и постепенно они научились сдерживаться и только слегка кривили губы и всхлипывали, а в конце концов, после многих тренировок, научились-таки с каменным лицом выслушивать такие истории, что животики со смеху надорвешь. Слушать-то эти истории им никто не запрещал, нравится — слушай, но на людях виду не подавай. А потом, при случае можешь хоть треснуть со смеху — индейцы вообще-то шутку любят, а Тень к тому же, мастак был пошутить.
Школ у Шайенов не было, разве только какому ремеслу обучали детей. На родном языке они не писали, не читали, так что школа им просто без надобности. Если кому захочется выяснить чего-нибудь из истории, он идет и спрашивает у старика, который это дело помнит. С цифрами у них проблема: если пальцев не хватает сосчитать, Шайену сразу становилось скучно до смерти, и если, к примеру, кто обнаружит врагов и хочет сказать, сколько их, он говорит что-нибудь в таком роде: «Юты возле Голодной Горы. Их столько, сколько стрел выпустил Суй-За-Пояс-Что-Попало по чучелу антилопы в тот день, когда поспела вишня». Случай этот все знают, и потому всякий из людей Старой Шкуры Типи тут же сообразит, сколько там ютов, ошибётся разве на одного — двух, не больше. К тому же, в момент опасности, когда Шайена, как и всякого человека, пугает неизвестность, он таким способом тут же увязывает неизвестное с чем-нибудь знакомым, и ему легче преодолеть страх.
Шайен верит, что его конь — тоже Шайен, он с ним одной крови и конь это понимает. Горящий Багрянцем говорил мне как-то раз: «Скажи своему коню, что все племя узнает о его храбрости. Рассказывай ему о славных лошадях и их подвигах, и он тоже захочет прославиться. Расскажи ему всё про себя. У воина нет секретов от коня. Есть вещи, о которых воин не говорит брату, другу или жене, но воин и его конь должны знать все друг о друге, потому, что им скорее всего суждено вместе умереть и вместе проскакать по Висячему Мосту, что отделяет землю от неба».
Но тут вот какая штука: как только я брался разговаривать с безмозглой скотиной, я чувствовал себя просто дураком, дураком набитым. Вот почему плохо быть белым: слишком много знаешь. От индейца-то ничего другого никто и не ждёт, для него вся эта чушь, можно сказать, в порядке вещей. Да вы б даже огорчились, если бы он не разговаривал с лошадьми, потому как он же от рождения чокнутый. Ну, а белый так не может: хоть и десяти лет от роду, всё равно — слишком много знает.
Ну, рассказать день за днём всю свою жизнь у Шайенов — как меня учили и воспитывали — я, конечно, не могу, сами понимаете. Ездить верхом учился месяца, наверное, два — поначалу меня приходилось к лошади привязывать. Пока научился с луком и стрелами управляться как следует — ещё больше прошло времени…
Но тут придётся вернуться немного назад — к тому самому первому моему утру у Шайенов: Я — помните? — ушёл с мальчишками к лошадям, а Старая Шкура Типи спал без задних ног. Потом он проснулся и решил, что будет поститься весь день и всю ночь. А все дело было в том, что ему опять приснился сон — и опять про антилопу! Представляете, второй раз подряд! Это было явно неспроста, и вождь решил, что надо приниматься за дело.
Ближе к вечеру он пошёл к ручью, поднялся вверх по течению ярдов на триста и там на лужайке соорудил небольшой типи — совсем маленький, вроде тех, что мы, ребятня, строили для своих игр — он один только и мог туда поместиться. На закате влез туда и до самого рассвета сидел там один и проделывал какие-то таинственные манипуляции.
И всю ночь напролет, покуда он там сидел, какие-то люди — тоже из наших Шайенов — то и дело ходили туда, к этому типи, и стучали по шкурам, которыми он был покрыт. Все эти манипуляции означали, что готовится гигантская охота на антилоп. Так вот, Шайены ходили всю ночь к типи, в котором сидел вождь, и стучали по шкурам, а со шкур на землю падали волоски и чем больше их нападает, тем, значит, удачнее будет охота.
И покуда они всем этим занимались, в лагерь прокрался отряд ютов и угнал лошадей — весь табун. Утром оказалось, что лошади остались только у тех, кто на ночь привязал их возле своих типи. Но зато на земле у шаманского типи насыпалось порядочная куча антилопьего волоса — значит, виды на охоту были неплохие.
Старая Шкура вылез из типи только на следующее утро. Вел он себя как-то странно: вроде бы все время высматривал что-то вдали, за горизонтом. В руках у него было два чёрных шеста, а на конце у каждого прикреплен обруч и вся эта штуковина украшена перьями ворона. Вот с этими шестами в руках и направился он в прерию, и вся деревушка потянулась за ним — мужчины, женщины, дети и собаки. Ну, а про антилоп я уже рассказывал — как за день до того мы встретили маленькое стадо в бизоньей лощине, помните? Пугливые — ужас! Лишь ветер дунет посильнее — они как рванут с места в панике, всё стадо… А бегают! — милю в минуту запросто.
Бегают-то бегают, но есть у них один недостаток, который их и губит: слишком любопытны. Ежели где-то что-то крутится и трещит, она заметит — ей интересно — сил нет, не может устоять. Вот на это и рассчитаны шесты с обручами, которые Старая Шкура прихватил с собой. Шайены их называют «антилопьи стрелы». Они и впрямь пострашнее стрел — настоящих, с железными наконечниками: бедняга антилопа как увидит обручи с перьями — просто пропадает от любопытства, сама погибнет и потомство погубит…
И при всем при этом многого я так и не понял в этой охоте. Без колдовства тут явно не обошлось — иначе я объяснить не могу, как это все получилось…
В общем, идём это мы, идем, прерия вокруг — ровная как стол, мили на три ушли, вся деревушка, только старуха одна, калека, осталась, да ещё воин один — на него как раз «нашло» (в смысле, хандра напала). Потом остановились, а Старая Шкура уселся на землю. Цилиндр свой он дома оставил, а на голове у него теперь было два орлиных пера, в волосах торчали. Вперёд вышли молодые незамужние женщины, выстроились перед вождём, и он выбрал двух самых толстых и позвал к себе — помахал им своими «антилопьими стрелами», вроде как поманил, чтобы подошли и сели рядом. Одна была средней упитанности, но вторая так жиром заплыла, что сразу и не разглядишь, где у неё лицо-то, а глаза у ней — как бусинки, сквозь складки жира и не видны.
Чем жирнее девку подберешь, тем жирнее будут антилопы — такой, значит, был принцип.
Тут воины вскочили на коней (у кого они ещё остались, конечно) и вся деревушка — кто верхом, кто пешком — выстроилась полукругом: вождь с толстухами посередине, остальные — по бокам. Потом две девчонки — не те, толстые, а другие, потоньше — вдруг выхватили эти штуковины — «антилопьи стрелы» — у старика из рук да, бросились бежать — в разные стороны от него, расходясь все дальше буквой V. Кто был верхом — за ними, двое передних догнали девчонок, подхватили у них из рук шаманские палки и помчались дальше двумя цепочками — опять-таки буквой V, словно разошлись на развилке, а перья-то на обручах так и трепещут на ветру. Вдруг впереди в полумиле от всадников показалась антилопа, она стояла на бугорке, точно посерёдке между двумя цепочками Шайенов и точь-в-точь напротив того места, где сидит вождь. Антилопы, когда пасутся, выставляют часовых, совсем как люди. Эти «часовые», в случае чего, подают стаду сигнал своими белыми хвостами, — поднимают их вверх, словно сигнальные флажки. Так вот, стоит она, разведчица рогатая, смотрит — а её обходят по флангам два отряда Шайенов, человек по двадцать верховых в каждом — несутся галопом, а по центру, прямо посреди прерии — ещё целая куча народу, выстроились полукругом, а впереди — краснокожий старик, и с ним — две толстухи… Видит она эту картину — и что бы вы думали она делает?
Уж не знаю, ка оно обычно бывает, но та круторогая красотка, которую мы видели на бугорке, уставилась на нас во все глаза — оторваться не может, уши — торчком, того и гляди отвалятся от напряжения… А верховые тем временем поравнялись с нею. Смотрит она — налево, потом направо…
Но с обоих флангов надвигается и давит на неё одинаковая угроза, и потому, видать, она волей-неволей опять устремляет взгляд прямо перед собой, по центру, и даже на большом расстоянии видно, как она дрожит всем телом, хотя её жёлтая морда с чёрным носом и застыла от изумления.
А Старая Шкура восседает на своём красном одеяле, и ветерок играет опушкой орлиных перьев в его волосах. Толстухи по бокам сидят неподвижно, словно две кочки посреди прерии, и собаки тоже — притихли, ни одна не гавкнет, только часто дышат, высунув языки. Оно и понятно: они ведь тоже Шайены.
Тут наша разведчица двинулась вперёд, копытца свои изящные переставляет по одному, как будто хорошенько обдумывает каждый шаг; а белые полоски у неё на шее собрались складками, словно воротник в сборку. В этот момент за спиной у неё вдоль всей вершины холма будто частокол встал — сплошь маленькие рожки, потом головы появились из-за холма — маленькие, коричневые, много их — и все в нашу сторону смотрят. А передние всадники уже за вершину холма перевалили, две цепочки все дальше раструбом разъезжаются, и узким концом тот раструб указывает туда, где сидит посреди прерии Старая Шкура Типи и все его люди выстроились полукругом у него за спиной. А всадников-то в цепочках еле-еле хватило, чтобы фланги обозначить, растянулись чуть не на милю, меж двух соседних верховых сколько угодно антилоп, хоть все стадо, уйти могло, но они, бедняги, бежать и не помышляли, потому что были заколдованы.
Ну вот, семенит она, значит, вниз по склону, сторожиха рогатая, а за спиной у неё уже антилоп видимо-невидимо, весь горизонт заполонили и все прут и прут из-за холма. Уже ярдов сто прошли вперёд, а стаду все конца не видно, все прибывают и прибывают, и клином идут — прямо на Старую Шкуру. Шайены и антилопы движутся будто в едином порыве, словно в такт какой-то могучей музыке, а ритм задает им старый вождь. Я так полагаю, что музыку эту сочинили сами боги на небесах. А если вас такое объяснение не устраивает, то придётся вам изрядно поломать голову чтобы ответить, с чего бы это вдруг стадо антилоп в тысячу голов поперло прямо навстречу своей погибели. А ещё — откуда Старая Шкура мог знать, что антилопы будут здесь, именно в этом самом месте? Ведь когда он уселся посреди прерии, их ещё и близко не было — ни слуху, ни духу.
Передние всадники с шаманскими штуковинами в руках уже объехали все стадо, замкнули круг по ту сторону, проскакали навстречу друг другу и, поменявшись теперь местами, помчались дальше, то есть, назад, к вождю, и отдали ему его колдовской инвентарь. Теперь вокруг антилопьего стада замкнулось магическое кольцо, и вождь, взяв по волшебной палке в каждую руку, принялся эту петлю затягивать.
Он вдруг вскинул руки вверх, и все громадное стадо побежало. До передних антилоп оставалось ещё ярдов с семьдесят, а последние только перевалили через вершину холма. От головы до хвоста стадо растянулось ярдов на триста, и все это пространство было просто битком набито, нашпиговано антилопами — сплошь, впритык одна к одной. В задней части эта масса примерно на столько же разлилась в ширину, с востока на запад. Получился громадный живой, колышущийся клин — сплошная антилопья лавина. Ну тут мы — кто стоял возле вождя — сдвинулись с места, зашевелились, концы полукруга стали вытягиваться им навстречу — буквой «У». И вот эти твари рогатые несутся прямо в наш живой загон, где вместо изгороди — люди: мужчины, женщины, дети, в руках — развёрнутые одеяла, под ногами собаки вертятся, и все вместе сливается в одну сплошную стену.
Я стоял в левом крыле этой изгороди, прямо посередке, и сразу нацелился было на переднюю антилопу — ту самую, «сторожиху» — но тут её нагнали задние и она затерялась в несущейся массе; а вскоре вообще все смешалось перед глазами, только пыль клубится да антилопьи ноги мелькают — не сосчитать, сколько их… Наконец передние оказались в ловушке, вождь взмахнул своими палками, и эти бедняги свернули было влево, но наткнулись на стену Шайенов. Они вправо — опять незадача. Тогда вождь поднял свои волшебные жезлы и скрестил их дважды. Передний зверь храпел носом и следил за этими манипуляциями, как зачарованный. И тут ум у неё, видать, зашёл за разум, копыта заплелись, и она рухнула на колени, перегородив дорогу остальным — а они напирают сзади сплошным потоком и никак не могут преодолеть это препятствие… Получилась куча-мала, прямо предо мною, а потом антилоп охватила настоящая паника: куда ни глянь, они спотыкались, лезли друг на друга, вышибали друг другу мозги копытами, вспарывали животы рогами, некоторых просто затоптали. Ну, тут мы начали их окружать, и в конце концов верховые замкнули огромное кольцо, а у каждого в руке — дубинка, или топорик, или просто большой камень, но ни копий, ни луков со стрелами — ничего такого не было: для «ближнего боя» такого не положено. Целый час, наверное, прошёл, покуда забили всех до одной — а ведь махали мы не покладая рук, да ещё немало антилоп и без нас погибло.
А Старая Шкура за все это время ни разу свои жезлы не опустил — все орудовал, размахивал ими над головой, покуда ни одной живой антилопы не осталось. Это был его долг, обязанность, а в бойне он участия не принимал. Ну, а я — у меня тогда силёнок мало было, я даже такому хрупкому созданию особого вреда не мог причинить, но всё равно вместе со всеми старался улучить момент, пролезть вперёд да запулить камнем, Не знаю, может, и Младшего Медведя задел пару раз в суматохе: он совсем рядом стоял. Этот мальчишка схватил антилопу за рога и изо всех сил выворачивал ей голову — хотел сломать шею голыми руками, как самые сильные воины делают. Но ничего у него не получилось, и в конце концов ему пришлось-таки всадить ей в голову топорик, как раз между ушей. Её обезумевшие глаза вскипели кровью, язык вывалился, и она умерла.
Глава 5. МОЁ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ЧЕЛОВЕКА
Ну, «человек», конечно, означает «Шайен». Так вот, вы, наверное, заметили, что в начале этой истории Старая Шкура Типи был просто болван болваном — клоун, да и только. Однако надобно вам сказать, что это он белым таким казался. А для Шайенов он был вроде как гений, почти святой. Это он обучил меня всему, что я узнал в детстве — кроме верховой езды, стрельбы и других подобных физических навыков. А учил он меня знаете как? Он рассказывал притчи мне и другим детям, не одну сотню рассказал всяких историй. Иногда и взрослые приходили, садились послушать, потому как все знали, что он старик мудрый — а иначе не дожил бы до такого солидного возраста.
Я расскажу вам две из его историй. Одна из них спасла мне жизнь, когда я в первый раз пошёл с индейцами в набег за лошадьми. А вторая — это речь. Старая Шкура произнес её на переговорах с Лакотами.
Послушайте — и поймёте, чем краснокожий отличается от белого человека. Ей Богу — лучше никто вам этого не растолкует.
Разве что сами поживете и с теми, и с другими — как я…
* * *
С тех пор как я попал к Шайенам, выпал и растаял не один снег, и мне шёл, кажется, тринадцатый год. Как-то раз мы с мальчишками играли в войну, и Младший Медведь, который мужал не по дням, а по часам, влепил стрелой без наконечника одному парнишке по имени Рыжий Пёс прямо в лоб, да так влепил, что тот чуть копыта не отбросил. Не иначе как в меня целился Медведь-то, да в меня попасть не так-то просто: я мишень очень даже подвижная. И случись в эту самую минуту неподалёку Старая Шкура Типи, а с ним ещё один краснокожий по имени Два Младенца — весь голый, и с ног до головы вымазанный черной краской: он дал обет и теперь должен был отправляться в путь, чтобы найти врага и снять с него скальп.
Он просто шёл рядом с вождём в каком-то трансе. Тут Старая Шкура увидел, как Рыжий Пёс лежит на земле без сознания. Склонился над ним и говорит: «Вставай, иди поешь!» Парнишка тут же очнулся, вождь послал его к Бизоньей Лощине, чтобы она его накормила. Потому как индейцы таким способом от всех болезней лечатся.
Потом старик повернулся к Младшему Медведю и говорит: «Тот, наверное, храбрый воин, кто стреляет в своих друзей». И Медведь чуть не умер от стыда.
Тут Старая Шкура расстелил своё одеяло, и мы все уселись в кружок. Косички вождя были украшены мехом горностая, а на шее был повязан то ли платок, то ли шарф, расшитый старинным бисером, сделанным в те времена, когда сюда ещё не добрались белые со своими стеклянными бусами: его — бисер, то есть, — выточили из обломков пурпурной океанской ракушки, а потом он множество раз переходил из рук в руки, пока не попал к вождю: Шайены-то жили в самом центре страны. А начал он свой путь где-нибудь на побережье Орегона или Массачусетса — небось, какой-нибудь тамошний дикарь разбил раковину, высосал водянистое мясо, а потом уселся и долго корпел над красивыми обломками со своим каменным точилом, чтобы сделать что-нибудь эдакое…
Так вот, все уселись и вождь заговорил: «Я расскажу вам про воина, который любил своих друзей. Это случилось много снегов назад, когда я был ещё молод. В те времена мало у кого из наших людей были ружья, потому что мы почти не торговали с бледнолицыми, а индейцы из других племен, кому удавалось заполучить оружие, не хотели с ним расставаться. А у нас даже железных наконечников для стрел было мало, и в бою мы, бывало, нарочно скакали перед самым носом у врага — чтобы в нас попали его стрелы, а мы потом их железные наконечники забирали себе».
Тут он весело рассмеялся и натянул повыше свою правую ноговицу — и мы увидели, что его нога сплошь покрыта старыми шрамами.
«А больше нам негде было их взять. За лошадьми мы обычно ходили на юг — в страну, где живут люди-Змеи, потому что они прекрасные наездники и у них самые лучшие кони. Говорят, причиной тому то, что они со своими лошадьми спариваются, но сам я этого ни разу не видел». Это он про Команчей говорил — в верховой езде им равным нету ни среди белых, ни среди индейцев. А насчёт того, что кобыл трахают, точно не скажу, не знаю, но хорошо знаю, что своих женщин они берут совсем как жеребцы — сзади, да ещё хрипят и ржут при этом, словно кони. Короче, на лошадях просто помешаны.
«А иногда нам и лошади были не нужны, но мы ехали на юг просто так — подраться. Потому что Змеи — храбрый народ, и когда видишь, как они несутся на тебя во весь опор — просто дух захватывает, и сердце поет песню, особенно ранним утром, когда солнце на небе ещё юноша. Позже, когда он повзрослеет, в стране Змей становится слишком жарко, и тогда понимаешь, почему много лет назад наши предки-Шайены изгнали их туда, а себе забрали эту землю, которая прекрасна»…
Рассказы про войну всегда возбуждали вождя. Он сбрасывал лет двадцать и молодел прямо на глазах — взгляд его горел, щёки раздувались — того и гляди лопнет на каком-нибудь уж слишком кровавом повороте событий.
«Однажды в страну Змей отправился за лошадьми отряд из шести Шайенов: Прилет Ястреба, Рубашонка, Лошадиный Вождь, Железная Рубаха, Брыкливый Мул и Маленький Человек. С ними был ещё один воин по имени Волосатый, он был Арапах, а вы ведь знаете, что это племя всегда дружило с Шайенами, и обычно устраивало свои стойбища рядом с нами. Надо вам сказать, что этот отряд отправился на юг для того, чтобы выловить в прерии диких лошадей, а вовсе не за тем, чтобы воровать их у Змей. Иначе Волосатый не поехал бы с ними, потому что в тот год Арапахи были в мире со Змеями…
У истоков Уашито наши люди обнаружили множество следов и поняли, что рядом — большое стойбище Змей. С наступлением темноты решили напасть, хотя в отряде не было ни одной винтовки, а стрел осталось всего несколько штук, и если бы Змеи настигли их потом — они не смогли бы долго сражаться.
Отыскав лагерь Змей, Шайены укрылись неподалёку и стали ждать темноты. Потом прокрались в стойбище и увели целый табун прекрасных пони. Волосатый не принимал участия в набеге, потому что его народ заключил со Змеями договор. Он остался за деревушкой стеречь лошадей, которых оставили Шайены, а когда они вернулись с угнанным табуном, он поехал с ними. И они ехали без остановки всю ночь и половину следующего дня, покуда солнце не поднялось на небе так высоко, что заглядывало в дымовые отверстия типи. К тому времени отряд добрался до Зловонного Ручья — из которого может пить только лошадь, а человек — не может. И там они стали поить свой табун.
Поскольку Шайенам приходилось гнать украденных лошадей, они не могли двигаться быстро, и потому не успели они напоить табун, как их настигли Змеи, которых было так много, что на каждого воина в отряде, считая и Волосатого Арапаха, приходилось больше чем по десять. Наши люди вскочили на лошадей, поднялись на невысокий холм, потом убили своих животных, чтобы укрыться за их телами, сбросили ноговицы и рубахи и, распевая свои песни, стали готовиться к смерти.
Прежде чем Змеи напали, их вождь, которого звали Луна, выехал вперёд, приблизился, чтобы его было хорошо видно, и сказал на языке жестов: «Ты ведь из племени Татуированных, (так Змеи зовут наших друзей — Арапахов). — Почему ты крадёшь наших лошадей вместе с людьми из племени Стрел-с-Полосатым-Оперением (а так они называют Шайенов). Твоё племя и моё заключили мир. Или ты плохой человек?»
Волосатый поднялся и отвечал: «Я не входил в ваш посёлок и не воровал ваших лошадей. Эти люди — мои друзья. Я жил с ними, ел с ними и дрался плечом к плечу с ними. Потому, хоть и правда, что мы с тобою не враги, я думаю, что сегодня подходящий день, чтобы умереть вместе с ними».
«Я слышал тебя», — жестом ответил Луна и вернулся к своим воинам. И они бросились вперёд, на холм. Железная Рубаха, Прилёт Ястреба и Рубашонка пали в бою, но остальные четверо сражались так храбро, что Змеи отступили, потеряв несколько воинов убитыми, а ешё несколько были ранены. Потом Змеи вновь бросились в атаку, но не все сразу, а небольшим отрядом в десять воинов. На сей раз был убит Волосатый, копьё пронзило ему грудь, но прежде чем его сбросили с лошади, он успел пустить стрелу прямо в шею тому, кто убил его. Этот воин, падая, ухватился за гриву своего коня, который стал брыкаться и пятиться, и угодил копытом в живот Брыкливому Мулу, а тем временем другой Арапах наскочил на Шайена и, свесившись с лошади, изо всех сил ударил его своей боевой дубинкой и размозжил ему голову. Лошадиного Вождя тоже ранили, и он вскоре умер.
После этого в живых остался только Маленький Человек. У него не было больше стрел, и ему приходилось ждать, пока в него попадет вражеская стрела, чтобы извлечь её из своего тела и стрелять в ответ. Таким способом он убил одного из Змей и ранил ещё одного, когда они опять поскакали на него. Остальные пронеслись мимо через весь холм, спустились на другой стороне, развернулись и теперь вшестером или всемером опять приближались, потрясая своими короткими копьями.
Как только первый из Змей достиг вершины холма, Маленький Человек схватил одеяло из кучи одежды, сброшенной нашими воинами и с криком «Ву-ву-ву!» взмахнул им перед головой его лошади. Лошадь отпрянула в сторону, и копьё, брошенное Арапахом в Маленького Человека, не достигло цели, хотя и проделало большую дыру в одеяле. Схватив всадника за пояс, Шайен стянул его-с лошади и в одно мгновение нанёс ему три удара ножом по горлу, но скальпа снять не успел, потому что остальные Змеи были уже рядом. Тогда наш воин вскочил в седло убитого Арапаха, подхватил с земли его копье, бросился на врагов и нанес им такой ущерб, что они бежали вниз, в долину, где ждали остальные Змеи.
Маленький Человек носился туда-сюда по всему холму, распевая песню смерти, а Змеи внизу устроили совет. Потом Луна вышел вперёд и сказал на языке жестов: «Ты храбрый воин. Мы забрали назад лошадей, которых вы украли, и не хотим больше драться. Ты можешь уйти».
Но Маленький Человек сказал на это: «Я не слышал тебя». И Луна вернулся к своим воинам, и они опять бросились вперёд, и теперь их было двадцать воинов, и Маленький Человек убил несколько из них, а сам остался невредим. После этого Змеи были очень напуганы, потому что они ещё никогда не сталкивались с таким сильным колдовством.
Луна ещё раз выехал вперёд и показал жестами: «Ты самый храбрый воин из племени Стрел-С-Полосатым-Оперением. Возьми себе лошадь, на которой сидишь, возьми копьё, и мы дадим тебе ещё одну лошадь. Возвращайся к своему племени. Мы не хотим больше драться».
«Нет, спасибо, — сказал Маленький Человек. — Все мои друзья умерли, включая и того, который остался верен Шайенам, хотя сам был Арапахом. Без моих друзей я буду все дни только сидеть и плакать. Лучше вы убейте меня. Сегодня хороший день, чтобы умереть».
С этими словами Маленький Человек поднял над головой своё копье и с боевым кличем и с именем своего народа на устах бросился вперёд — один против всего отряда Змей. Луна был храбрый вождь, но когда он увидел, как на него, издавая страшные крики, галопом мчится Маленький Человек — он завизжал и побежал прочь, но Маленький Человек догнал его и вонзил в него своё копье.
Копье прошло насквозь и застряло в теле Луны. Тогда Маленький Человек выхватил нож и продолжал крушить Змей, которые бежали перед ним врассыпную.
Он вихрем носился среди них, рубил и колол направо и налево с такой яростью, словно на руках у него вместо пальцев были острые лезвия, а Змеи вопили от ужаса, хотя они храбрые воины.
Наконец один из Арапахов выстрелил Маленькому Человеку из мушкета в спину. Тот упал на землю, и Змеи отрубили ему голову. Но после этого его обезглавленное тело вскочило на ноги и стало опять размахивать ножом, который оно всё ещё сжимало в руке. А его отрубленная голова, которую Змеи насадили на копье, раскрыла рот и стала издавать боевой клич Шайенов. Тогда мужество покинуло Змей… Они бросились прочь без оглядки, а те из них, кто оглянулся, увидели, что безголовое тело Маленького Человека бежит следом, размахивая ножом. А когда они умчались так далеко, что их было не догнать, оно взобралось на холм и улеглось на землю рядом с друзьями. Что сталось с головой, не знает никто — воин который держал копье, бросил его, когда голова стала кричать.
Луна не умер, но остался горбатым, как бизон, до конца своих дней. Он не стыдился своего бегства, потому что в тот день Маленькому Человеку помогали такие колдовские силы, перед которыми ни один Арапах или Змей не устоял бы. Луна сам рассказал мне эту историю — потом, когда наши племена заключили мир, а Змеи отыскали брата Маленького Человека и отдали ему лошадь его брата, и после этого они снова смогли приходить к тому холму, где умер Маленький Человек, и его тело больше не нападало на них».
С той ночи, когда Кэролайн улизнула из лагеря Шайенов, я не встречал ни одного белого человека. Только однажды — наше племя тогда расположилось на берегу реки… Сюрпрайз, и мы с мальчишками как раз ловили в прерии степных тетеревов, вдруг смотрим — скачет что-то, милях в двух-трёх, Я поначалу думал — бизоны, но Лошадка присмотрелся своими индейскими глазами и говорит: «Нет, это бледнолицые: один — желтоволосый, с ружьём, а его гнедой хромает на переднюю левую; а второй — бородатый, его чалый спину седлом натер». Ещё говорит, они заблудились, но гнедой почуял воду и скоро выведет к реке, и они разберутся, куда ехать. Ну, мы развернулись и двинули в другую сторону.
Надобно вам сказать, что мы не очень-то жаждали встретиться с этими белыми. Я скажу вам почему: с некоторых пор Шайены уверовали, что такие встречи им боком выходят. Наткнуться на белого — это стало вроде как дурной знак — помните, как они приехали к обозу, в котором были мои белые родственники? Чем это для Шайенов закончилось — чуть не поубивали друг друга. В Форт-Ларами много индейцев приезжало торговать, меняться — они ставили свои вигвамы в прерии, за частоколом форта — там тоже то и дело какие-нибудь неприятности случались: то какой-нибудь молодой воин напьется и стреляет в солдат, то кто-нибудь угонит армейских лошадей. А как-то раз один Лакот наткнулся на старую большую корову, что отстала от обоза переселенцев. Ну, он её и прирезал, чтобы взять шкуру. А солдаты узнали про то — взбесились не на шутку, вскочили на коней и напали на индейский посёлок. Несколько человек — как не бывало, и с той и с другой стороны.
Когда это случилось, мы были в семидесяти милях от Ларами — наш посёлок стоял на берегу Ручья Боевого Оперения — и мы сразу же обо всём узнали. К нам прискакали люди из племени Миннеконжу — это народ вроде Лакота — и совещались со Старой Шкурой Типи, Горбом и другими уважаемыми людьми племени, На такие совещания любой может прийти и сказать все, что хочет — если только это не глупость какая-нибудь — хотя обычно говорят вожди, потому как они умнее, а иначе не были бы вождями.
К счастью, среди этих Миннеконжу был один, который говорил на языке Шайенов. Потому что Шайены и Лакоты, хоть и были союзниками спокон веку, но языки у них совсем разные — ничего общего, как, например, у португальца и русского, и при встрече им всегда приходилось жестами объясняться. Но на сей раз у них был переводчик.
Сначала один из Миннекоижу, которого звали Большой Лось, встал и рассказал о том, что произошло в Ларами, а закончил так: «Я встречал многих уасичу», — так Лакоты называют белых, — «И я пил их кофе и ел их сахар, и это мне понравилось». Тут Шайены дружно поддакнули: «Хай-хай, хай-хай!», а Большой Лось продолжал: «Но ни один из них ни разу не сказал мне, что привело их в нашу страну. Сначала их было мало. Они не имели вигвамов и были жалки, и Лакоты делились с ними едой. Потом пришло много белых, они пригнали уродливых животных, которых нельзя есть, потому что они где-то потеряли свои яйца, и мясо у них жесткое, как уздечка, отчего эти животные не годятся ни на что, а только на то, чтобы тащить огромные фургоны, которые уасичу доверху нагружают множеством вещей, от которых нет никакой пользы — если не считать кофе и патоки, да ещё железных обручей от бочек — из них можно делать наконечники для стрел. У бледнолицых женщин такой вид, словно они нездоровы, и я от них чихаю… Потом пришли солдаты, у них были большие слабые кони, а жён — по одной на каждого не было, зато было несколько женщин, которых они делили между собой — такой женщине надо дарить подарок всякий раз, как ложишься с нею.
Если какой-нибудь из уасичу совершает поступок, который не нравится другим, они обвязывают ему шею веревкой и сталкивают с высокого моста, чтобы выдернуть его дух из тела. Бледнолицые рассказывают про свои большие деревни, которые стоят в том краю, где рождается солнце. Но если то, что они говорят, правда — зачем тогда они приезжают в нашу страну и пугают бизонов?
Я скажу вам — зачем: все бледнолицые больны, и если где-то есть те большие деревни, которыми они хвастают, то все люди в них, наверное, умерли оттого, что спали с больными женщинами и ели мясо, которое смердит; а те из них, кто остался живым, приезжают сюда, и если мы их не убьем, то они заразят своей болезнью народ Лакотов и наших друзей — народ Шайелов».
Так Лакоты называют Шайенов.
После этого Большой Лось сел и стал чесаться, потому что его кусали вши, а говорить стал другой Лакот. Он говорил в том же духе, а после него поднялся наш Горб. Оратор он был не ахти какой, но котелок у него варил — в этом ему не откажешь. Так вот, встал он и говорит:
«Если мы хотим воевать против бледнолицых, нам потребуется много ружей и пороха. Столько ружей, пороха и пуль, сколько нужно для войны с бледнолицыми, мы можем взять только у бледнолицых. Наверно, они не согласятся дать их нам, если мы скажем, для чего нам ружья, порох и пули. Даже если они согласятся продать их нам для этой цели, мы не сможем их купить, потому что нам не за что купить столько ружей, пороха и пуль. И мы не можем силой взять их у бледнолицых, потому что, если бы мы могли это сделать, нам не нужны были бы ружья, порох и пули для войны с бледнолицыми».
Горб задумался и стоял, то и дело открывая и закрывая рот, словно рыба, потому как носом он дышать не мог: нос ему повредили в тот самый день, когда дрались из-за виски возле нашего обоза, и теперь он — нос, то есть, — был все время заложен… Так вот, помолчал он с минуту и говорит: «Горб тоже не понимает, что нужно бледнолицым в нашей стране. Они все, наверное, потеряли разум…
Наверное, лучше нам держаться от них подальше, потому что у нас нету ружей, пороха и пуль».
Тут опять встал Большой Лось: «Один молодой бледнолицый вождь в Форт-Ларами говорил, что с отрядом в десять солдат он может стереть с лица земли весь народ шайела, а с отрядом в тридцать солдат — все племена прерий. Но вместо этого мы, Миннеконжу, и с нами ещё некоторые из Лакотов стёрли с лица земли его самого.
Вот, это кольцо, которое я ношу на шее на шнурке — это его кольцо. У меня был ещё и его палец, но я его потерял».
Наконец, очередь дошла до Старой Шкуры Типи, и он заговорил — как и полагалось по правилам индейского ораторского искусства — высоким фальцетом. Слова зарождались где-то глубоко в груди и, пройдя через напряжённое горло, вырывались наружу высоким дрожащим сдавленным звуком. Когда слышишь такую речь впервые, может показаться, что бедняга просто помирает от удушья. Но если привыкнешь к этой манере и начнёшь вникать в суть — очень даже вдохновляет.
Сначала он говорил комплименты Миннеконжам и другим кланам народа Лакота. Потом невзначай напомнил им шайенскую теорию, по которой они — Шайены, то есть, — живут в Чёрных горах давным-давно; они уже жили в этих местах и процветали, и имели множество лошадей, когда первые из Лакоты только появились здесь — бедные и жалкие, перевозя свои типи на собаках, потому что не имели лошадей, И Шайены жалели их, и время от времени дарили им лошадей, и благодаря этому Лакоты постепенно превратились в то богатое и мощное племя, каким они есть сегодня…
Часа полтора он продолжал в том же духе, а потом говорит: «Что же касается бледнолицых, то первым из людей моего народа, кто увидел их, был дед моего деда. Его звали Идущий По Земле. В те дни мой народ жил у Озера Без Берегов, строил жилища из земли и выращивал маис. Однажды утром Идущий По Земле и ещё несколько Шайенов шли по следу медведя берегом реки, и вдруг увидели след другого зверя, которого они никогда раньше не видели. Этот новый след был размером с медвежий, но на нем не было видно отпечатков от пальцев и когтей — он был весь гладкий, ровный и округлый. Наши, люди решили, что это след какого-то речного зверя, у которого пальцы соединены перепонками, чтобы лучше плавать.
И они пошли по этому следу, и он привел их на лесную поляну, и там они увидели этих новых зверей, а ещё — медведя-гризли, который тоже шёл за ними по следу. Эти новые животные имели очень странный вид. Нашим людям показалось, что они голые, но у всех у них разный мех, или шкура, а ещё у всех разная форма головы. Наши люди тогда подумали, что эти животные — родственники, или даже дети медведя-гризли, потому что, как и он, они стояли на задних лапах, а передними лапами пользовались как руками, и туловище у них было такое же неуклюжее.
Но тут медведь-гризли напал на этих неведомых зверей. Он бросился на них, а они — ухватили себя между ног, вытащили свои члены, которые у них длиннее, чем руки — и положили их себе на плечо, а потом из членов вырвалось пламя и дым, и был большой шум, а гризли упал и умер.
Наши люди были очень напуганы и бежали через лес назад, в свою деревню, и рассказали обо всём всем остальным, а остальным было очень интересно и захотелось увидеть диковинных животных своими глазами. Поэтому все воины нашей деревни отправились к той поляне, спрятались за кустами и стали смотреть. Одно из животных стало стаскивать кожу со своего туловища и головы, и наши воины от изумления захлопнули свои рты ладонями. Но когда оно осталось без шкуры, наши люди увидели, что оно похоже на Шайена, как одна капля воды на другую, только тело у него белого цвета, и на лице растут волосы.
Оно покупалось в речке, а потом опять натянуло на себя свою шкуру — и тогда наши воины поняли, что это шкура на самом деле не шкура, а одежда.
У некоторых из этих существ лица были волосатые, и наши люди решили, что это самцы, а гладколицые — это самки. А ещё они увидели, что палки, стреляющие молнией — вовсе не члены этих животных Просто они иногда ставят эту палку на землю у себя между ног — вот Шайены и решили, что это член.
Потом наши люди вернулись в свою деревню и собрались на совет. Голодный Медведь сказал: «Лучше нам не беспокоить их и не злить, потому что это очень странные животные, и мы не знаем, чего от них ждать».
Чёрный Волк, который не был среди тех воинов, которые первыми пришли на поляну, и не видел, как бледнолицые стреляют, сказал: «Мы могли бы легко убить их, но мясо у этих белесых, скорее всего, невкусное, хотя кожа сгодилась бы на набедренную повязку».
Но Идущий По Земле, который был очень мудр, сказал: «Эти существа не Шайены, но они тоже люди. Все вы помните пророчество нашего великого героя, который говорил, что однажды в нашей стране появятся люди незнакомого племени, и у них будет белая кожа и странные привычки. Он говорил, что они принесут нам несчастье. И вот — они здесь. И будет лучше, если мы сами выйдем им навстречу, чем если они наткнутся на нас случайно и застанут нас врасплох.
Поэтому мы поступим так: я войду в их лагерь и стану смотреть на них. Вы спрячетесь за кустами и будете следить. Если белые люди нападут на меня — значит, мы должны воевать с ними, и тогда пусть кто-нибудь вернется в деревню и скажет женщинам, чтобы они спрятались и спрятали детей. Если на меня не нападут, то вы можете тоже выйти к белым людям».
Идущий По Земле сбросил с себя всю одежду, кроме набедренной повязки, и один направился к поляне. Белый человек, который первым увидел его, стал поднимать свою палку, стреляющую молнией, но другой — без волос на лице, похожий на женщину — шагнул вперёд и протянул Идущему По Земле руку. Дед моего деда остановился и посмотрел ей в глаза, потому что наши люди в те времена не знал и, что такое рукопожатие. Потом подошли другие белые люди. Они обступили вождя со всех сторон, и наши воины в кустах стали натягивать тетивы своих луков, но скоро они увидели, что белые не причиняют вождю никакого зла, а наоборот, улыбаются ему и пытаются говорить с ним, и тогда некоторые из наших воинов вышли из-за кустов к белым людям.
Оказалось, что гладколицые люди — это не женщины, а мужчины, как и волосатые. А у одного из них на шее висел золотой крест, и когда он снял шляпу, Шайены увидели, что у него почти нет волос, только небольшой пушок возле ушей. У него было две жерди, связанных крест на крест — они торчали из земли неподалёку. И вот белые люди опустились на колени, а этот лысый закрыл глаза, сложил руки перед собой и стал что-то говорить. Потом белые показали Шайенам свои палки, стреляющие громом и молнией, и разрешили им несколько раз нажать на курок, но наши люди всё равно пугались, когда гремел выстрел.
Те первые белые люди оставались в этом месте одну луну и начали строить квадратный вигвам из бревен. Наши люди приходили к ним каждый день, и человек с крестом дарил им подарки и показывал жестами, чтобы они опустились на колени, когда он говорит, обращаясь к скрещённым жердям, в которых заключалась его колдовская сила; и наши люди слушались, и становились на колени, чтобы не обидеть его. Но однажды ночью, когда часть белых людей спали, остальные убили их, забрали их вещи и сожгли дом. Потом пошли к Большой Воде, сели в лодку, которая была у них там, и уплыли.
Эту историю слово в слово рассказал мне отец моего отца, — закончил свой рассказ Старая Шкура. — А потом то же самое случалось много раз везде, где бы ни появлялись белые люди. Они не любят друг друга, и рано или поздно один белый обязательно убивает другого, и обычно делает это не в бою — как Шайены, когда хотят показать свою храбрость и насладиться геройской смертью своих врагов, и умереть в хороший день — а совсем наоборот: они стреляют друг другу в спину, подвешивают за шею, заражают один другого плохой болезнью или делают так, чтобы он потерял голову из-за виски.
Но я говорю вам — это белые люди, они не такие, как мы, и, может быть, у них есть какая-то причина поступать так, а не иначе, и эту причину нельзя понять, если ты не белый. Когда они нападут на меня — я буду защищаться. Но до тех пор я буду избегать встречи с ними».
Вот так учил нас старый вождь. А было это в те дни, когда мы перебирались на новое место — в страну на берегах реки Паудер. Но спешить-то нам было некуда, и мы сначала повернули на юг, и пару дней шли берегом реки Сюрпрайз, и взяли там много бизонов. В те времена железной дороги ещё не было, и белых охотников тоже, так что в этих местах бродили бизоньи стада в сотни тысяч голов. Миля в длину, миля в ширину, а то и больше — представляете? — и всё сплошь запружено зверьём — спина к спине, так что и травы не видно. Шайены гонят их по кругу и бьют без устали стрелой или копьем, и сколько бы ни убили — всё равно капля в море для этого стада. Потом приходят женщины и разделывают туши, все пригодное в пищу, или ещё для чего-нибудь, складывают на шкуры и волокут в лагерь, а сами шкуры потом выделывают и растягивают для просушки, а потом из них шьют какую-нибудь одежду и покрышки для типи. Помню, после охоты мы, бывало, ели варёный бизоний язык и жареную вырезку из холки — лучше этой еды ничего на свете нет, а ваш самый лучший бифштекс рядом с ней — всё равно как обожжённая подошва. Но теперь-то ничего этого уже нету…
Так вот, я уже сказал, что белых в тех местах тогда ещё не было, но зато там поблизости жили индейцы Вороны. Вообще-то Шайены и Вороны по большей части враждовали, но незадолго до того правительство собрало враждующие племена на берегу Лошадиной речки, к востоку от Ларами и заставило их подписать договор — что не будут воевать друг с другом. Ну, между теми племенами, что живут друг от друга далеко, этот план работал прекрасно, но между соседними племенами — ничего не получилось, потому как для Шайенов воевать, например, с Поуни — нормальное дело. А кто не воюет — тот постепенно превращается в женщину. Вот Вороны, например, которые, кстати, водили дружбу с белыми и всегда говорили, что не убили ни одного бледнолицего, и за это белые им оставили их землю. Так вот, Вороны, когда сами воевали против Шайенов или Лакотов, были храбрые воины, в когда шли служить разведчиками в кавалерию Соединенных Штатов, сразу превращались в трусов. Почему так — не знаю…
Короче говоря, только мы вернулись назад, на север, к реке Паудер, тут возвращаются наши воины, которых выслали вперёд — разведать что к чему, — и говорят, что недалеко отсюда на берегу Ручья Вздорной Женщины обнаружили большое стойбище Ворон. «Если это большое стойбище — там должно быть много лошадей» — сказал Горб. Тень, который непосредственно ездил на разведку, говорит: «Эти Вороны очень богаты лошадьми. Таких красивых коней я нигде не видел, Я целый день прятался в кустарнике, чтобы взглянуть на них».
«Я слышал тебя» — сказал Горб и вздохнул. Потом воины отправились к Старой Шкуре Типи советоваться, а мы, мальчишки, всей ватагой побежали следом.
Когда вождя ввели в курс дела, он спросил у Тени:
— Тебе нужны лошади?
Тень с ужасно печальным видом кивнул головой и сказал:
— Никогда ещё я не был так беден.
Старая Шкура Типи задал тот же самый вопрос всем по очереди, и от каждого получил тот же самый ответ. Потом засунул руку себе за пазуху, нащупал там что-то и заговорил: «Я получил эту медаль за то, что поставил свой знак под мирным договором между нами и Воронами. На ней изображено лицо Старшего Вождя белолицых, который живет в их главной деревне. Я сказал ему, что не стану воевать с Воронами, покуда солнце не перестанет ходить по небу, а я слов на ветер не бросаю. Но ни один из вас не ставил свой знак на той бумаге, и ни один из вас не носит на шее эту медаль. Я думаю, что Старший Вождь бледнолицых не узнает, кто вы. А из лошадей я больше всего люблю пинто».
В общем, когда забрезжил рассвет, отряд был уже готов. Все собрались в типи Тени. Там были: Тень (Что Он Заметил), Холодное Лицо, Жёлтый Орёл, Птичий Медведь, Большая Челюсть. Стояла осень, и ночи были уже прохладнее, но все, кто шёл в набег, разделись догола, чтобы одежда не мешала им быстро сделать своё дело. Мы, мальчишки, так и вертелись вокруг воинов, которыми восхищались всей душой. Мы просто из кожи лезли вон, лишь бы оказать им какую-нибудь мелкую услугу: поточить нож, уложить стрелы в колчан и т. д., и вдруг Младший Медведь подходит к Тени и говорит: «Я готов идти с вами». Тень как раз завязывал потуже свой мокасин, и, не поднимая головы, просто сказал: «Ладно».
А Младший Медведь опять говорит: «Я много раз пробовал — воровал мясо у женщин». Это он про игру нашу говорил, а игры у индейцев все с дальним прицелом — готовят мальчишек к серьёзному делу. А играли мы так: женщины режут бизонье мясо тонкими ломтями и развешивают его на веревках из кишок — сушиться на солнце, а мы крадемся незаметно, ползем на животе — змеей извиваемся, потом — хвать кусок мяса — и бежать! Кто больше украл — тот и молодец, а каждый кусок считается за лошадь — вроде как угнал. А если женщина заметит тебя да легонько стукнет палкой по спине — значит, ты убит и из игры выбыл. Вообще-то, Младший Медведь в этом деле был чуть ли не хуже всех: сила-то есть, но ловкости да сноровки — никакой. Но ему ведь шёл четырнадцатый год — сколько же можно в мальчиках ходить? ещё немного — и всё, пиши пропало. Вот он и лез на рожон: «А два дня назад я убил бизона», Ну, об этом и правда все знали, потому как его отец после охоты по всей деревне ходил и распевал песню об этом подвиге, а потом устроил настоящий пир.
— Я слышал об этом, — сказал Тень. — Можешь идти с нами.
— Я сильнее всех мальчишек в деревне, — не унимался Младший Медведь.
— И, наверное, болтливее всех, — отозвался Холодное Лицо, который стоял рядом и пытался приладить у себя за ухом маленький узелочек с амулетами — на счастье, — мы, наверное, останемся здесь, а ты один отправляйся в лагерь Ворон и скажи им речь — они любят хвастунов.
— Можешь идти с нами, — сказал Тень, — если не будешь много разговаривать. Шайены лучшие из людей на всей земле, они самые храбрые воины, их женщины красивее всех на свете и добрее, а земля их — прекрасна. Это известно всем, даже нашим врагам. Шайен знает, что он Шайен, и ему незачем об этом болтать.
Ну, это меня взбесило не на шутку — ещё и посильнее, чем Младший Медведь, который вздумал навязываться в набег со взрослыми! Дело в том, что мне Шайены, честно говоря, нравились — ей-Богу, нравились! И мне порой казалось, что я им, наверное, и в подметки не гожусь, и я чувствовал себя среди них каким-то бедным родственником. Но это их дурацкое высокомерие! Оно мне каждый раз напоминало, что я, Шайен, белый человек… Нет, вы только подумайте: лучшие из людей па всей земле! Боже правый, да если бы Колумба сюда не занесло, у них бы и ножа железного не было! А лошадь-то, лошадь кто им привез?..
Рядом со мной стоял Маленькая Лошадка, и я вдруг наклонился и прошептал ему на ухо: «Я иду с ними». А он отвечает: «Я не иду». И вылез из типи наружу. Насколько помню, это был первый признак того, как повернется потом его жизнь.
Я шагнул вперёд и сказал: «Можно я пойду с вами?»
Вообще-то, состояние духа у меня было неподходящее для такой опасной затеи, где нужна сплоченность — чтобы все, как один. Мною-то двигали совсем другие чувства. Шайены посмотрели сначала на меня, потом друг на друга. Лет мне было около тринадцати, на вид — козявка, да и только. Да ещё у меня были рыжие волосы, голубые глаза, а кожа… — ну, ясное дело, я был грязный, и загорел, конечно, порядочно, да ещё весь в ссадинах и царапинах, но при всем при том — Шайен я был белый, белесый, как рыбье брюхо.
По моим понятиям, могли бы они, конечно, и сообразить, что затея эта довольно-таки опасная, раз уж Вороны водят дружбу с бледнолицыми, и кой-кому наверняка не суждено вернуться из этой экспедиции живым. Могли бы, конечно, и сообразить, что рискованное это дело — брать с собой Бог знает кого — чужака какого-то. Да к тому же ещё щегла неоперившегося.
Но Тень сказал: «Ладно».
Вот так: краснокожему только дай возможность выбирать — и он наверняка выберет не то. Пусть каждый делает, что хочет — вот и весь его выбор. Особенно это касается Шайенов: у них ведь нет никакой процедуры посвящения в воины. Хочешь быть мужчиной — делай то, что делают мужчины, вот и вся процедура, и никто не станет тебе мешать, и ничто тебя не остановит — разве только враг.
Глава 6. НОВОЕ ИМЯ
Я сбросил ноговицы, куртку и с ног до головы вымазался чёрной краской, чтобы моя белесая спина не выдавала меня лунной ночью. Тут опять прибежал Маленькая Лошадка — притащил целую шкуру черного волка, да такую большую, что я мог накрыться ею весь — с руками, ногами и головой. Я решил, что это неплохая мысль: как раз мне на лицо волчья морда свисала спереди, и я мог смотреть через дырочки от глаз.
Выехали мы все семеро, как только совсем стемнело, и миль двадцать скакали рысью по степи, в высокой траве; потом спешились и ещё мили три прошли пешком, ведя лошадей под уздцы. Эти три мили идти было трудно, потому как местность изменилась — пошли овраги, поросшие кустарником, все время приходилось карабкаться по склону — то вверх, то вниз. На небе только молодой месяц, да и тот за облачком спрятался, как за ширмой, и, похоже, решил эту ширму через все небо с собой протащить. Так что я руки своей — и то не видел, она ведь чёрным была намазана. Но Тень шагал уверенно, словно днём, а я шёл четвертым; лошадь свою пустил вперёд — пусть сама выбирает дорогу.
Мы добрались до глубокой лощины, которая вывела нас к Ручью Вздорной Женщины, и там, за ручьем увидели деревню Ворон. Типи светились изнутри, словно фонари, потому что в каждом горел костёр, а шкуры, которыми их кроют, со временем становятся почти прозрачными, как вощанка, и порой ночью, стоя снаружи, сквозь шкуру удается разглядеть обитателей. Ну, для этого мы были слишком далеко, но вообще зрелище было здорово красивое, игрушка да и только; а ветерок дул от них к нам, из деревни тянуло жареным мясом. Рядом со мной Жёлтый Орёл, потянув носом, сказал: «Может быть сначала сходим к ним в гости?» Да, мы могли бы мирно и открыто прийти к ним в деревню, и пришлось бы этим Воронам кормить нас — никуда бы они не делись. Так уж у них, у индейцев, заведено.
— Лошадей оставим здесь, — сказал Тень, — ты и ты, останетесь стеречь, — он положил руку на плечо мне и Младшему Медведю.
Меня это устраивало. Но Младший Медведь начал возражать, да так горячился, что чуть не плакал. Это взбесило Желтого Орла. Я плохо знал этого воина — он только несколько месяцев назад прибился к нашему стойбищу — но у него была громадная коллекция скальпов, а ещё капсюльный карабин, что в те времена было у Шайенов большой редкостью. Довольно долго это было единственное огнестрельное оружие в нашей деревне, и толку от него не было никакого, потому как капсюли закончились, а белых мы избегали, даже торговцев, как и учил нас Старая Шкура Типи. Правда, Лакоты и другие кланы Шайенов время от времени устраивали небольшие набеги на переселенцев, что двигались по Орегонскому Тракту, забирали у этих эмигрантов кофе, не дожидаясь приглашения, а иногда и все остальное впридачу. В коллекции у Желтого Орла я заметил несколько скальпов, которые для Поуней или Арапахов были слишком светлыми. Небось, и карабин принадлежал одному из хозяев этих волос.
Орла вывело из себя недостойное поведение Младшего Медведя и он принялся его бранить: «Ты прожил уже достаточно зим, чтобы понимать, что опытный воин у Шайенов знает лучше, чем мальчишка, как воровать лошадей. Дело не в том, кто храбр, а кто нет: среди Шайенов трусов нет. Тебе сказали остаться здесь, потому что кто-то должен стеречь лошадей; это не менее важно, чем идти в деревню Ворону, и ты знаешь, что добычу мы разделим поровну. Вот Маленькая Антилопа — он не жалуется. Он лучший Шайен, чем ты, хоть он и бледнолицый».
За всё это время никто не проронил ни слова, а Жёлтый Орёл говорил еле слышным шепотом, но когда он умолк, наступила такая пронзительная тишина, словно после страшного крика.
Младший Медведь был, конечно, не прав, но Орёл совершил более серьёзную ошибку. С того самого дня, как я остался жить у Шайенов, ни один из них ни словом не обмолвился о моём происхождении. Даже Младший Медведь, который меня ненавидел, ни разу себе этого не позволил. Об этом просто не говорили — краснокожие твёрдо верили, что эти разговоры приведут к беде, и Жёлтый Орёл сразу понял свою оплошность.
— Я не должен был этого говорить, — сказал он, обращаясь ко мне. — Моим языком владел злой дух.
Я в этот момент как раз натягивал на себя волчью шкуру, которая в дороге болталась у меня за спиной на шнурке; я приладил волчью шкуру мордой себе, на лицо и попытался смотреть сквозь дырочки от глаз. Было темно, и плохо видно, и все вокруг казалось волосатым.
— Я не думаю о тебе плохо, — был мой ответ, — потому что ты недавно живешь в нашей деревне.
— Я не думаю, что сегодня подходящая ночь, чтобы воровать лошадей, — проговорил Тень, и начал было разворачивать своего коня, а остальные забормотали что-то себе под нос, соглашаясь с ним, и последовали его примеру.
— Нет, — сказал Жёлтый Орёл, — это я отпугнул удачу. Она вернётся, если я уеду.
И он вскочил в седло и поскакал в ту сторону, откуда мы приехали.
— Я останусь здесь и буду стеречь лошадей, — с раскаянием в голосе проговорил Младший Медведь, опустив голову. — Вместе с этим.
Он имел в виду меня.
На том и порешили. Ему отдали поводья трёх лошадей, и мне — столько же, а чтобы нас не заметили из деревушки, если вдруг выйдет луна, мы с ним прижались к левому склону лощины, которая глубиной была футов семь или восемь — самый раз, чтобы укрыть и людей, и лошадей. Четверо Шайенов, все — здоровые крупные парни, зашагали через ручей вброд, направляясь в сторону деревни Ворон. Через минуту их было уже не видно, а через две — и не слышно, А вскоре месяц, наконец, выглянул из-за облачка, за которым прятался, и стало чуть-чуть светлее, но ненамного — кусты по-прежнему не отбрасывали тени.
Я сидел в своём волчьем костюме, в котором было тепло, очень довольный, что взял его с собой, и ни капли не жалел, что не я крадусь в эту минуту в деревню Ворон. Ну, а если бы мне пришлось отправиться туда — лучших спутников, чем те четверо, и придумать было нельзя. Як этому моменту начал немного соображать, что Шайены имеют в виду, когда говорят о смерти: я начал понимать, что такое преданность друзьям. Одного я только не мог понять — как это: я умру, а жизнь будет продолжаться без меня?..
Теперь, когда все ушли, Младший Медведь опять начал ныть.
— Напрасно они меня оставили, — ворчал он. — Надо было взять меня с собой. Ты бы здесь один справился.
— А я думаю, — отвечаю я, — что это ты справился бы здесь один, а я мог бы пойти с ними.
— Ты бы испугался, — не унимается он. — Твоей храбрости хватает только на игру. Но Ворон не обманешь. Здесь надо быть настоящим мужчиной.
Он стоял, выпятив грудь колесом, как обычно, хотя уже не был таким крепышом, как раньше, а превратился в долговязого подростка.
Уж не знаю, на что бы я отважился в этот момент, лишь бы не дать этому краснокожему переплюнуть меня. Может быть, бросил бы поводья, да махнул бы рукой на лошадей — раз уж он не хочет их стеречь — и побежал бы во вражеское стойбище вслед за четырьмя Шайенами, чем погубил бы себя и на друзей своих навлек бы смертельную опасность.
А спасся я очень любопытным образом. Вдруг в лощинку сверху прыгает огромный индеец-Ворона — откуда он взялся, не знаю — и своей боевой дубинкой бьет Младшего Медведя по башке — тот так и рухнул без чувств. И все это — в полнейшей тишине, потому как спрыгнул он в своих мокасинах прямо в песок — почти бесшумно, а дубинка об голову Медведя стукнула так тихонько — чок! — словно камушком угодили в пень.
Я и глазом моргнуть не успел, а этот индеец-Ворона уже выхватил нож, а левой рукой изо всех сил тянет Медведя за косички — чтобы скальп сразу отрывался по надрезу.
Я бросился на него — на меня-то он, видать, внимания не обратил, потому как решил, наверное, что Медведь с живым волком разговаривает — для индейца это вполне в порядке вещей. Так вот, бросился я на него, запрыгнул ему на плечи, и вишу, словно на дерево карабкаюсь, потому как роста он громадного, просто чудовище какое-то, и жилистый весь, мышцы железные, а кожа — как дубовая кора. Ну вот, сижу я на нем — и не знаю, что мне дальше-то делать с этим зверем. Из лука уже не выстрелишь — слишком близко, да и бросил я лук, когда прыгал на него. Шарю я рукой у себя на боку — рукоятку ножа хочу нащупать — ищу, но волчья шкура вся перекрутилась, и ничего я теперь найти не могу.
Ну, а Ворона, конечно, не то чтобы стоит и терпеливо ждёт, что я там придумаю. Он плечами только повел, здоровый, чёрт, и сбросил меня — на другой конец лощины. При этом я своим собственным коленом угодил себе в подбородок, в глазах у меня потемнело и — я отключился…
В себя пришёл ровно через секунду, когда лезвие его ножа надрезало кожу у меня над правым ухом и поехало дальше по кругу — к затылку.
Я дёрнулся, и он ножом задел мне кость. А звук при этом такой гнусный, что до самых кишок продирает.
Надо вам сказать, что волосы у меня были, конечно, подлиннее, чем в те времена, когда я жил со своей белой родней, но Шайен не такие длинные, как у краснокожего. По той простой причине, что они у меня от природы растут, как скрученная проволока: стоит мне месяц не стричься, и стану я не похож ни на индейца, ни на белого, ни на мужчину, ни на женщину, а буду смахивать на брюхо того козла, который полежал на своём собственном дерьме. Волосы у меня, да будет вам известно, имбирно-рыжие были, а чем сильнее скручивались, тем темнее становились, а отрастая, приобретали бурый оттенок, а от обильного смазывания бизоньим салом местами отливали зеленью.
Вот потому-то я, как только они до середины шеи дорастали, брал ножик да отхватывал себе причёски — то там, то сям. И вот этот самый Ворона, который уже начал было, скальпировать меня, вдруг на долю секунды усомнился, потому как почувствовал левой рукой что-то не то: явно не шайенские волосы.
А я, словно во сне, словно зачарованный наблюдал со стороны, как мне отрезают верхушку головы, и кровь тёплой струйкой забегает мне в правое ухо. Но то, что он замешкался на мгновение, вывело меня из этого забытья, и я начал лихорадочно соображать. Побороть его я не мог, оружия у меня не было, Младший Медведь, похоже отдал концы; остальные Шайены уже, конечно, в деревне — слишком далеко, чтобы спасти меня, а если я подниму шум — всполошится вся деревня, и нам всем тогда конец. Это был тот самый случай, ради которого Старая Шкура Типи и рассказывал нам, мальчишкам, историю про то, как Маленький Человек дрался с людьми-Змеями.
Старик знал, что рано или поздно она нам пригодится. Я просто не мог допустить, чтобы какой-то Ворона одолел меня, Шайена!
Я рванулся изо всех сил, оскалил зубы и прошипел: «На-зе-ста-э!» — «Я Шайен!» Если бы я мог прокричать это по всем правилам, как боевой клич — конечно, получилось бы убедительнее. Но шуметь было нельзя — я уже сказал, почему. И что бы вы думали сделал этот Ворона? Он опустил ноги, присел на корточки и прикрыл рот ладонью левой руки, потому что от изумления у него отвалилась челюсть. Когда я вырвал голову из его рук, он большим пальцем левой руки чиркнул меня по лбу, и стёр слой чёрной краски, сделанной из сажи и бизоньего жира, отчего на лбу у меня осталась белая полоска. Понять он меня, конечно, не понял, потому как Вороны и Шайены говорят на разных языках, но он заговорил словно бы в ответ, и к тому же по-английски:
— «Маленький белый человек! Обманул бедный Ворона! Ха-ха, обманул — здорово! Ты хочет есть?»
Он испугался, что я обижусь, потому как, видите ли, Вороны всегда американцам, — то есть, белым, — пятки лизали. Вот и этот туда же, хотел отвести меня к себе домой. Конечно, его вины тут нет — ни капли. Он был ни в чем не виноват. Его смерть легла тяжким грузом на мою совесть, я потом всю жизнь мучился. Он, видать, бродил где-то ночью один, по своим делам, а возвращаясь, наткнулся на меня и Младшего Медведя. Дальше действовал тихо, потому как не знал, сколько тут нас ещё поблизости прячется. Но в тот момент я этого, конечно, знать не мог. И объяснить ему ситуацию — так или иначе — времени у меня не было. И уж совсем никак нельзя было мне идти к нему в гости, в деревню. И даже разговаривать — так громко — не мог я ему позволить.
Вот и пришлось мне его убить. Взять и убить — такого милого приветливого парня. К тому же, выстрелить ему в спину, что ещё страшнее. Поднимая с земли свою волчью шкуру, которую потерял в борьбе, я нащупал свой лук и колчан. Индеец-Ворона как раз полез вверх по склону лощины — забрать лошадь, которую оставил наверху…
Три шайенских стрелы вонзились ему в спину — танг! танг! танг! — одна за другой, строго по прямой вдоль позвоночника. Руки его упали, и огромное тело сползло вниз по склону, уперлось мокасинами в дно лощины и застыло в неподвижности.
Первый раз я отнял человеческую жизнь, и — уж не знаю, как вы отнесётесь к такому заявлению — этот раз понравился мне больше всех, которые последовали потом. Я спасал своих друзей, а за это краснеть не приходится. Да и, в конце концов, он ведь уже почти скальпировал меня — наполовину! И хоть потом он стал премило улыбаться, всё равно — такое не забывается, уж вы поверьте. Вся правая сторона головы и шея у меня были, липкие, как патока, от крови — моей крови, такой родной и дорогой мне — и мне было страшно прикасаться к голове; я боялся, что мой надрезанный скальп сейчас оторвется и отскочит. Тут в глазах у меня потемнело, и я провалился в черноту….
Когда я открыл глаза, я обнаружил, что лежу в маленьком типи, а рядом на корточках сидит какой-то парень в уборе из бизоньей головы — с рогами и свалявшейся челкой — и он поет и машет бизоньим хвостом прямо мне в лицо. Голова болела страшно, череп трещал — будто он съёжился, как сушеная горошина. Мне показалось, что голова у меня обмазана глиной, которая высохла, и я хотел было осторожно потрогать её пальцами, но шаман в этот момент захрапел, как бизон, и вдруг выплюнул мне прямо в лицо целое облако пережеванных цветочных лепестков.
Я достаточно долго жил среди Шайенов и сразу сообразил, что к чему. К тому же боль в голове, накатив волной, стала понемногу утихать. Я сел, и Леворукий Волк — ибо так звали шамана — стал танцевать вокруг плаща, на котором я лежал, и петь заунывную целительную песню, время от времени похрапывая и завывая. И все время жевал сушеные цветы, которые извлекал из небольшого кисета у себя на поясе, а потом выплевывал их в меня с четырех сторон света. Потом он наклонился ко мне и небольшой палочкой тихонько стукнул меня по макушке — и глиняная маска раскололась и упала на пол двумя половинками, в которых застряли кое-где жесткие рыжие волосинки. Теперь голове моей стало прохладно, словно с меня и впрямь сняли скальп. Но тут шаман выплюнул на неё жеваных цветов, и она совсем перестала болеть.
Потом он стал медленно кружиться передо мной и помахивать своим бизоньим хвостом совсем рядом, но так, чтобы я не дотянулся. Я пару раз вяло попытался схватить его, но всякий раз шаман успевал отступить на шаг. Потом я почувствовал, что сила возвращается ко мне, она поднимается от ступней вверх по ногам, и как только она дошла до груди, — я встал и шагнул за шаманом, все ещё пытаясь ухватить бизоний хвост, которым он тряс передо мною, то и дело завывая и покачивая рогами. Лицо он вымазал черной краской, а глаза и ноздри обвёл кроваво-красным ободком.
Волк пятился в сторону выхода из типи, я шёл за ним, всё сильнее желая схватить бизоний хвост, а когда вышел за ним наружу, я увидел всю деревню, все — воины, женщины, дети, младенцы, собаки — собрались здесь и выстроились параллельными рядами, которые протянулись от входа в шаманский типи до самой реки. Все они своим присутствием помогали моему исцелению. Шайены не оставляют человека страдать в одиночестве. Я был очень тронут их участием, оно придало мне силы, и я расправил плечи и зашагал вперёд, почти как здоровый.
Когда вышли на берег реки, Волк сказал: «Потянись».
Я потянулся, и при этом из ранки у меня над виском, где Ворона надрезал мне кожу своим ножом, брызнула чёрная кровь, несколько капель её упали в реку и растворились в стремительном потоке. Потом из ранки пошла здоровая красная кровь и Волк остановил её высушенными лепестками.
— Теперь я здоров, — сказал я.
Видит Бог, это была сущая правда. На том вся история и закончилась, В тот день я смотрел в зеркало и обнаружил у себя над виском только тоненький голубоватый шрам, а ещё через пару дней и он исчез.
Эта история имела далеко идущие последствия морального плана. Во-первых, сразу после этого по всей деревне стал расхаживать глашатай — крикун, который распевал песню про мой подвиг и про то, каким героем я оказался, и, приглашал людей на трапезу, которую Старая Шкура Типи устраивал в мою честь. По случаю торжества вождь раздал чуть ли не всех своих лошадей бедным Шайенам, у которых лошадей не было, а затем после угощения он вручил подарки всем, кто пришёл: одеяла, бусы и все такое — в конце концов он остался почти голым. Ещё он произнёс речь, которую я из скромности опущу, за исключением самых важных моментов.
Сначала он очень многословно и долго воспевал мой подвиг в поэтическом стиле, который по-английски прозвучал бы просто глупо, а потом сказал: «Этот мальчик доказал, что он Шайен. Сегодня в палатках Ворон слышен плач. Когда он идёт — дрожит земля. Когда он приближается — Вороны плачут как женщины! Он настоящий воин! Он Шайен! Он вел себя совсем как наш великий герой, Маленький Человек, который приходил к нему во сне и дал ему силы одолеть Ворону!»
Ну, тут он, конечно, хватил лишку, хотя, если помните, я и впрямь подумал о Маленьком Человеке — и вырвался из-под ножа, отчего Ворона и задел меня рукой по лбу и увидел что я белый. А я-то вождю рассказал только о том, как пример Маленького Человека меня воодушевил — решил, что ему будет приятно. Так что старик не случайно о нем вспомнил.
Еще минут пять он продолжал в том же духе, и меня это ничуть не смущало потому что все вокруг, глядя на меня, так и расцветали лучезарными улыбками, в том числе и несколько девчонок, которым по такому случаю разрешили приподнять снаружи шкуру типи и заглянуть вовнутрь — я в этот период своей жизни как раз начал интересоваться девчонками — а потом вождь сказал:
— Дух Маленького Человека дал этому мальчику большую силу. Он мал телом, и он уже настоящий человек — воин. А сердце у него большое. Поэтому отныне мы будем называть его Маленький Большой Человек.
Вот так. С тех самых пор Шайены так всегда и называли меня. По индейскому обычаю, настоящего моего имени никто никогда не произносил. Да его никто и не знал. А меня зовут Джек Крэбб.
А конокрадная экспедиций — если не считать моего приключения — прошла как по маслу. Четверо наших прокрались в деревню Ворон — ни одна собака не гавкнула — увели лошадей штук тридцать, или около того, и погнали их скорее в нашу деревню, потому как ночь была уже на исходе. Когда добрались до лощинки, где оставили нас с Младшим Медведем, он уже оклемался. Шишак у него на макушке был, конечно, здоровенный, нов остальном — ничего, полный порядок. Нам ещё повезло, что этот Ворона шастал ночью по прерии без лука, а то просто подстрелил бы нас сверху, как куропаток — мы бы и чирикнуть не успели. Вот такие дела. Ну, а меня привязали к седлу моей лошади и отвезли домой.
Из общей добычи мне досталось четыре коня и, значит, я превратился в довольно-таки состоятельного человека, хотя отнесся к этому спокойно. Меня гораздо больше тронуло, когда ко мне подошёл парнишка лет восьми-девяти по имени Сопливый Нос и сказал: «Теперь ты воин. Можно я буду пасти твоих лошадей?» То есть, я мог теперь не вставать рано утром и не отправляться с мальчишками на луг, к лошадям — пасти, купать и все такое… Да, может, и мог. Но, вообще-то, у Шайенов не принято слишком нажимать на свои привилегии. Вот Тень, например: он был старшим в этом набеге, и вообще опытный воин, а взял себе только три лошади, из которых две лучших сразу отдал Старой Шкуре и Горбу. И не потому, что они вожди — на это ему было наплевать, потому как Шайены никогда начальству задницу не лизали — а за то, что мудро руководили. Потом, Птичий Медведь и Холодное Лицо — оба отдали по лошади Желтому Орлу, который хоть и совершил ошибку, но сумел её исправить. Я тоже отдал ему одну из своих — по той же самой причине, а ещё потому, что это я был невольным виновником того недоразумения. Ещё одну лошадь я предложил Леворукому Волку, но тот отказался, потому как у Шайенов не принято брать плату за лечение. Хотя он не возражал, чтобы я подарил её его брату — что я и сделал.
Поэтому Сопливый Нос получил от меня такой ответ: «Убить одного из племени Ворон ещё не значит сравняться с великими воинами Шайенов. Я, как и раньше, сам буду ухаживать за своими лошадьми, но всё равно — ты хороший мальчик, и я подарю тебе своего черного коня».
Все сказали: «Хай, хай!»
Вот так. И, выходит, никто из тех, кто рисковал жизнью, ничего на этом не нажил, разве только честь и славу — но за это как раз любой Шайен в те времена и впрямь жизнь готов был отдать.
Младший Медведь на пир не пришёл — оно и понятно. Трапеза затянулась — засиделись до глубокой ночи. Кормили варёной собакой, и я объелся, потому как, надобно вам сказать, я этот харч постепенно распробовал и полюбил, но вот беда — так и не научился, как индейцы, сначала поститься целый месяц, потом обжираться. Когда наш раут, наконец, закончился я ушёл подальше в прерию, помочился и присел на бугорок отдохнуть немного. Месяц был чуть-чуть — на волос — тоньше, чем вчера, но теперь, он светил вовсю и никуда не прятался… А всё равно к утру будет дождь, я это точно знал — по тому, как пощипывало в носу, по тому, как похрустывала жухлая осенняя трава под мокасинами. По тому, как от земли тянуло сыростью. И никто меня этому не учил. Когда живешь, как мы, — это приходит само собой. Ну, как в городе, к примеру — увидел вывеску над лавкой — и знаешь, что там торгуют табаком.
Где-то в прерии, примерно в миле от меня, лаял койот. Потом стал скулить и повизгивать, жалобно подвывая. Потом завыл вовсю, словно зарыдал — и все в разном ключе, словно там целая стая собралась. А он-то был один единственный — просто они койоты, чревовещатели от природы. Где-то к северу лесной волк отозвался — завыл жалобно, протяжно. А, может, это были Вороны — под волка работали: это у них любимая уловка. Но он все выл и выл, и все в одной и той же точке — целый час, так что, скорее всего это был настоящий волк.
Просидел я там долго — аж земля подо мной нагрелась. Откуда-то из прерии приползла гремучая змея: ветер немного утих и я услышал, как она шуршит прямо на меня, Эти бедняги вечно мерзнут, им только дай — в постель к тебе влезут, лишь бы чуть-чуть согреться. Но тут я её надул; хлопнул, словно орёл крыльями — она и поверила, развернулась и поползла прочь.
А я все сидел и думал: «Вот так. Выходит я, Джек Крэбб, теперь Шайен. Самый натуральный краснокожий и уже убил человека стрелой из лука. Меня уже скальпировали, а потом настоящий шаман исцелил меня заклинаниями — как в цирке. Мой отец теперь — столетний дикарь, который по-английски слова не знает, а моя мать — толстуха цвета шоколада. А братом у меня — парень, которого в лицо не знаю, потому как у него лицо всегда вымазано глиной или краской… Живу в шкуряной палатке, ем щенков…
Странно все это, чёрт побери…»
Вот такие мысли теснились у меня в голове, и они были насквозь белые, эти мысли. Мальчишки, с которыми я играл в Эвансвиле, в жизни не поверили бы, если б им рассказать, как все повернулось. И наши попутчики из обоза тоже не поверили бы. Они, конечно, знали, что я испорченный тип, но не до такой же степени… Вот так — в день своего величайшего триумфа я сидел и страдал от унижения. Потому как в городе все — кроме моего чокнутого папаши, разве что, — знали: краснокожий это ещё хуже, чем чёрный раб…
Тут я опять услышал какой-то шелест и подумал, что это гремучка, наверное, передумала и вернулась. Упрямая тварь — небось, поразмыслила не спеша: и что это орёл тут делает ночью? И решила ещё раз попытать счастья — подобраться к теплу поближе.
Но это была не змея. Это был Младший Медведь — незаметно подошёл и уселся неподалёку. Вот как опасно бывает забивать голову белыми мыслями, сидя посреди прерии в стране краснокожих. Если 6 это был враг я мог сейчас остаться без скальпа — без того самого который мне только что залечили.
Он сидел футах в десяти, уставившись к темноту и, я так полагаю, думал краснокожие мысли. Я молчал. Наконец он взглянул в мою сторону и сказал: «Эй, иди сюда!»
— Сам иди. Я раньше пришёл, — сказал я.
— Иди, посмотри что у меня есть, — говорит он, — я дам тебе кое-что, иди сюда.
Теперь, после того как я спас ему жизнь, я не верил ни одному его слову, поэтому я просто отвернулся, и он тут же встал и притащился ко мне.
— У меня для тебя подарок, — сказал он. — Подарок для Маленького Большого Человека.
Он держал руки за спиной, и я не видел, что у него там. Хотел, было, заглянуть, а он вдруг сунул мне прямо в лицо — что бы вы думали? — скальп того самого индейца-Вороны — большой, лохматый. Сунул и захохотал как бешеный.
— Ты сделал глупость, — говорю я ему. — Я никогда не встречал такого глупца, как ты.
Он бросил скальп и уселся на траву.
— Я просто хотел пошутить, — говорит. — Это красивый скальп, и мускусом пахнет. Понюхай, если не веришь мне. Возьми — он твой. Это я снял его, но он принадлежит тебе. Ты убил Ворону и спас мне жизнь. Теперь я сделаю для тебя все, что захочешь. Можешь взять мою лошадь или лучшее одеяло, а хочешь — я буду пасти твоих коней.
Мне было все ещё противно из-за его дурацкой выходки. Это была типично индейская шутка, но явно неуместная и неискренняя. Я ни на секунду не поверил в его дружеские чувства.
— Ты же знаешь, что Шайен Шайену не платит за спасённую жизнь.
— Да, — сказал он еле слышно. — Но ты не Шайен. Ты белый человек.
В языке Шайенов нет ругательств, и если Шайен хочет оскорбить, он говорит, что ты трус, или, к примеру, что ты женщина. А я, хоть и злой был, но сказать что-нибудь в этом роде Младшему Медведю мне и в голову не пришло. Кроме того, за ним было серьёзное преимущество: он словно прочёл мои мысли и сказал вслух то, что я сам только что — минуту назад — думал про себя; Но вы ведь знаете, как оно бывает… Это как у женщин: она спит с тобой за деньги, а назовешь её шлюхой — обидится.
Вот и я точно так же — обиделся за правду. Уязвил меня этот краснокожий, задел за живое. И тут мне, конечно, надо было бы повести себя по-индейски: надуться, объявить голодовку и поститься, пока он не извинится. И никуда бы он не делся: извинился бы как миленький; при моём-то авторитете в деревне он долго бы не устоял. Да Младший Медведь и сам не очень-то верил в то, что сказал. Просто его заела зависть и ревность, и решил он сказать мне гадость, а худшей гадости и придумать не сумел. И если бы я был умнее, я бы нашёлся, что ответить. Она бы ему боком вышла, эта гадость; я-то, как раз, доказал, что я Шайен, и все это признали, а вот у него ещё всё впереди.
Но я в тот момент не сообразил. Я взбеленился и прошипел ему: «Да, ты прав, глупец. Я спас тебе жизнь, и теперь ты мой должник. И ты не расплатишься со мной ни скальпами, ни одеялами, ни лошадьми — только жизнью! Когда мне потребуется твоя жизнь — я тебя найду!»
Младший Медведь сунул скальп Вороны себе за пояс и встал.
— Я слышал тебя, — сказал он и зашагал назад в деревню.
Он вывел меня из себя, мне хотелось ответить ему как следует, ну, вот я и наговорил ему. Что именно я имел в виду насчёт жизни-то — а Бог его знает. Скорее всего, это был просто мальчишеский блеф — я тут же обо всём забыл. Правда, ещё какое-то время старался быть начеку и помнить, что от него любви ждать не приходится. Но потом и про это забыл, потому как он своего отношения ко мне ничем не выдавал, прекратил делать мне всякие мелкие пакости и наоборот — изо всех сил делал вид, что считает меня стопроцентным Шайеном, словно это не он сам убедился в обратном.
Но в том-то и дело, что Младший Медведь ничего не забыл. Он запомнил все, что я сказал той ночью, на холме неподалёку от реки Паудер, и лет двадцать спустя милях в пятидесяти от того места, где мы с ним сидели, он отплатил мне сполна.
* * *
Я уже сказал, что в тот период как раз начал интересоваться девчонками. И примерно тогда же ситуация у нас в деревне вдруг переменилась таким образом, что я ни к одной девчонке моего возраста не мог и близко подойти: у них начались месячные — время пришло — и с тех пор мамаши и тетки ни на шаг их от себя не отпускали, держали подальше от мальчишек и заставляли носить между ног веревочный ремешок — покуда не выйдут замуж. (И замужние тоже такой носили — когда муж в отлучке). Так что если тебе приглянулась какая-нибудь девчонка — ничего не остаётся кроме как выпендриваться когда она смотрит. Может, вас удивят все эти строгости — вы небось, думаете, что индейцы трахаются вообще как кролики, при каждом удобном случае. Ничего подобного: среди своих, со своими шайенскими женщинами — ни-ни, Боже упаси, — только с женой. А уходя на войну, каждый женатый воин дает зарок — обет воздержания, значит. Ну, а воевали-то они, считай, все время без перерыву. Вот и выходит, что постоянно на голодном пайке — озабоченные ходили. Потому-то и вояки были хоть куда: Шайены верят, что эти вещи связаны между собой. Знаете, мне вообще не приходилось встречать мужчину, которому безразличен его собственный член. Но для Шайенов — ого-го! — для Шайенов это просто волшебная палочка!
Когда Младший Медведь ушёл, я немного успокоился и стал думать про девчонку по имени О-ва-ex, что значит — вы не поверите! — «Ничто». Когда мы были меньше и играли во взрослых, мне часто приходилось выбирать её себе в жёны понарошке, потому как другие мальчишки, которые пошустрее, всегда умудрялись разобрать себе всех хорошеньких девчонок, а мне оставалась эта — дурнушка дурнушкой.
Но потом она вдруг ни с того ни с сего — как это случается с девчонками — преобразилась, хорошенькая стала, словно жеребёнок — с большими робкими глазами как у антилопы, и грациозная как лань. Раньше, когда я её не замечал, я ей нравился; ну, а теперь, понятное дело, она меня в упор не видела. В общем, с Ничто у меня пока не выходило ничего. Поэтому я, помечтав немного, встал и пошёл назад в деревню.
Там встретил пса, который услыхал вой койота за холмом и теперь раздумывал — ответить или не надо? — хотя знал ведь, что делать этого нельзя, чтобы не указать дорогу в деревню врагу, который крадется в ночи. Потому я сказал ему: «Шайены так не поступают», и он закрыл пасть, поджал хвост и убрался куда-то.
Кроме этого пса вся деревня спала, костры остыли. Забравшись в типи, я отыскал свою шкуру, ну постель, и начал было в неё заворачиваться, но тут обнаружил, что это, кажется, не моя, а Маленькой Лошадки, потому как под шкурой был он сам. Тогда я улегся на свободное место справа, хотя обычно спал слева от него.
Но он не спал и вдруг прошептал в темноте: «Это твое место».
— Неважно, — говорю я ему. — Спи там.
— А ты? — спрашивает он как-то разочарованно. Я не отвечал, вообще не обратил на него внимания и скоро уснул… А вообще у Шайенов так: если кто чувствует, что жизнь воина ему не по плечу — никто его не неволит. Он может стать химанехом, то есть, полумужчиной, полуженщиной. Эти химанехи живут себе — никто им не мешает. Все их любят, и без дела они не сидят: иногда они знахари, фармацевты, так сказать — приворотное зелье готовят, а чаще — поют и пляшут, веселят публику, Они носят женскую одежду, могут замуж выйти за другого мужчину — если ему это по вкусу.
После того случая Маленькая Лошадка вскоре начал готовиться стать химанехом. Может, он той ночью просто по ошибке влез в мою постель — без всякой задней мысли… Может и так, не знаю. Но вообще-то, он был не в моём вкусе.
Глава 7. МЫ ПРОТИВ КАВАЛЕРИИ
Вороны заявились к нам на следующий день, и мы с ними славно повоевали. Правда, кто победил — было не совсем понятно. Поэтому через день повоевали ещё немного. Потом мы воевали с ютами, потом — с Шошонами. Потом выторговали немного лошадей у Черноногих и с ними тоже повоевали. Война приносила Шайенам радость, если удавалось одолеть врага, и горе — если наоборот. Тогда над деревней день и ночь раздавался скорбный вой плакальщиц. Потому как ежели индейцы любят воевать, это вовсе не значит, что они любят терять на войне близких. В племени все друг друга искренне любят. А врагов — ненавидят. Ненавидят за то, что они — враги, но переделать их вовсе не стремятся.
А когда наши побеждали — в деревне был праздник. Если война случалась где-нибудь рядом, женщины и дети потом выходят на поле боя и добивают раненых врагов — дубинками или ножами, уродуют трупы, отрезают на память носы, уши, половые органы. О! Это для них первейшая радость, лучше не придумаешь… Да уж, повидали б вы с моё — не были б таким чувствительным… Вот Бизонья Лощина — она мне матерью была, иначе не скажешь. Добрая душа. Помню, когда был поменьше — то и дело обнимает меня, прижимает к своему толстому животу и улыбается, а лицо у ней — как луна, и от жира блестит. И варёной собаки обязательно кусочек получше подсунет. Ночью укроет, чтоб не замёрз. А ещё — жвачку индейскую давала всё время, одежду расшивала бисером… И много-много всякого делала для меня, как мать. Короче, женщина на все сто процентов, как и Старая Шкура — мужчина на все сто. Белых баб — хоть дюжину самых лучших собери в одну, всё равно Лощине и в подметки не сгодится. И при всем при этом что бы вы сказали, если б увидели, как это золото-женщина раненому бедняге-Вороне брюхо ножом вспарывает, а потом кишки оттуда наружу вытягивает?.. А я вот ничего бы не сказал. Потому как постепенно понял, что глупо с ними спорить. Раненые Вороны, Юты и Шошоны тоже не спорили и пощады не просили, потому что сами то же самое творили. Так какого ж чёрта я буду лезть со своим уставом? Вы помните, как Старая Шкура рассуждал про бледнолицых? Ведь как не нравилось ему всё, что они вытворяют, но Шайен решил, что у них, наверное, есть свои резоны поступать так, а не иначе…
Ну, а я, — как же я мог допустить, чтобы переплюнул меня индеец — превзошёл терпимостью? И если Бизонья Лощина или какой-нибудь шпингалет краснокожий прибегал из прерии в деревню довольный как слон — сжимая в кулаке кусочек человеческого члена, я — как и все; — говорил что-нибудь типа: «Ух ты, здорово!»
К тому же у меня тогда возникла проблема посерьёзнее. Я был ещё малой, но уже убил своего первого врага и, значит, стал воином. И теперь, если случалась война или стычка какая, отлынивать было не так-то просто. Становиться химанехом, как Маленькая Лошадка, я желания не испытывал, хотя против него лично я ничего не имею. Так что делать было нечего — приходилось воевать. Единственное, что мне оставалось — попытаться по возможности поменьше убивать. То есть, в обороне — когда на нас нападали — я, конечно, сражался вовсю — на совесть, так сказать, но если это мы затевали заваруху — старался не лезть на рожон.
Короче, пытался сохранить подобие цивилизации, и своих диких друзей при этом не подвести. Не так-то это просто — чтобы и волки были сыты, и овцы целы. А иногда никак нельзя было отвертеться, и приходилось поступать по-дикарски. Бьюсь об заклад — вы, сэр, и представить себе не можете, что это значит!
Конечно, не можете. Так вот, я, конечно, вовсе не лез из кожи вон, чтобы насобирать побольше скальпов, но время от времени мне приходилось «брать волосы». И если уж я в этом признался, то надобно вам знать, сэр, что волосы не только с убитых снимают. Случается, что и с раненых. С живых, то есть. И нож при этом не всегда бывает острым. Бывает и тупым. А скальп от черепа с таким мерзопакостным звуком отрывается — чмок!.. Конечно, я старался как можно реже этим заниматься, но иногда Младший Медведь околачивался где-нибудь рядом, тогда делать было нечего… А он к пятнадцати годам уже столько волос набрал (весь с ног до головы скальпами обвешался) и ходил лохматый, словно гризли.
Только вы не подумайте, что у Шайенов на скальпах свет клином сошёлся. Нет, к счастью для меня были у них и другие способы отличиться. Вот, к примеру, такой обычай: надо ворваться в толпу врагов и кого-нибудь из них не убить, а просто стукнуть легонько рукояткой томагавка или специальной дубинкой, просто прикоснуться — ну, вроде как в «горелки» играешь. Это ещё почетнее считается, потому как гораздо опаснее. У Шайена вообще вся жизнь, если сказать в двух словах, — риск и опасность.
Так что, если кровь чужую проливать не хочется, всегда можно поупражняться в эти самые «горелки», что я и делал — очень даже часто — хотя чемпионом по этой части не был, не совру. Я же не совсем чокнутый. И с Койотом тягаться никогда не брался. А уж он среди мальчишек был в этом деле самый натуральный чемпион, и считался героем почище Младшего Медведя со всеми его скальпами.
А у Медведя никак не получалось, хотя старался всех сил, но в самую последнюю минуту раз за разом нервы сдавали. И вместо дубинки хватал топорик и не просто прикасался, а рубил с плеча. А вот Койот — это да! Бывало, ворвется без оружия в самую гущу врагов, хлещет легонько всех подряд своей маленькой плеткой — они и глазом моргнуть не успевают.
И ведь все делают, чтобы его прикончить, а он возвращается к своим без единой царапины, как заколдованный, потому что ему помогают духи.
Ну, про войну я мог бы часами рассказывать; тысячу историй могу рассказать — и ни разу не повторюсь. Кто сам всё это пережил, тому не наскучит рассказывать, но слушать, наверное, довольно однообразно. Так что я не буду злоупотреблять, а то вам покажется, что воевать — это так просто, вроде как на трамвае прокатиться. И насчёт своих ран тоже не буду вдаваться в подробности. А у меня их много было, до сих пор шрамы остались, вроде татуировки.
Тем летом, когда мы откочевали вверх по реке Паудер, один полковник — его звали Хорней — напал со своими людьми на деревню Лакотов, которые стояли тогда на берегу реки Голубой — это левый приток Северного Платта. Так вот, белые, значит, поначалу и убили восемьдесят человек, хотя у этих Лакотов с белыми был договор — а иначе солдаты бы их просто не нашли, это ведь ясно как день. Да они и сопротивления почти не оказали (потому-то их и порубили как капусту — восемьдесят человек). Среди убитых были женщины и дети, потому как воины, когда появилась кавалерия, отступили. Вы, небось, скажете, что это похоже на трусость. Ничего подобного, дело тут просто в невежестве. Это я и про индейцев, и про белых говорю. В женщину стреляет только трус — это, конечно, так. Но кавалерия, когда несётся галопом, их просто не разглядит и может принять за воинов. А дети гибли от шальных пуль.
Ну, а то, что индейцы бежали, а женщин своих бросили на произвол судьбы — тут просто надо знать их повадки. Краснокожие, когда друг с другом воюют, атакуют по очереди: ты в атаку — я бегу, потом я в атаку — ты бежишь. Все честно, по правилам, и каждому дается шанс. Но белые-то этих правил не знают, а если бы и знали — не стали бы им следовать, потому как они же не для удовольствия воюют. Да белый человек вообще воевать не станет, если найдёт другой способ добиться своего. Белому важно убить твой дух, а тело — Бог с ним… Это и военных касается, и штатских — пацифистов всяких. А у Шайенов нет у ни тех, ни других. Они воюют не за власть, как белые. Они воюют потому что это им и приятно, и полезно — а власть их не интересует.
Так вот, мы в своём стойбище сразу обо всем узнали. Как узнали — кто его знает. Каким-то таинственным индейским способом, который я объяснить не могу, я уже говорил, так что просто поверьте мне на слово, как и я поверил. А мне об этом рассказал Рыжий Пёс, а он узнал от Орла. Потому как он ловил орлов — это было его ремесло, особая шайенская профессия. Через пару минут новость разлетелась по всей деревне. Вожди на этот раз никакого совета не собирали, потому что от Лакотов никто не приезжал и ничего не предлагал, а во-вторых, вся эта история лишний раз подтвердила мудрость Старой Шкуры, который предлагал держаться от белых подальше, чтобы не давать им повода совершать подлости.
Остаток года мы провели там же, на реке Паудер. Места здесь были лучше, чем на Платте: в изобилии стройматериалы, дичь и дрова, лоси и медведи. А милях в пятидесяти к западу поднимаются горы Биг-Хорн и их синие склоны уводят ввысь к серебряным шапкам. Вот эти-то склоны и богаты и лесом, и дичью, и всем на свете, а тающие снега на вершинах все лето питают ледяной водой быстрые речки. Когда пришла зима, мы отложили свои войны и только время от времени, ставя в прерии ловушки на бизонов, натыкались на небольшие группки каких-нибудь врагов, которые занимались тем же. И тогда Белая прерия местами обагрялась кровью.
Но порой было слишком холодно, чтобы воевать. Да и снег коню по брюхо. И, помню, однажды мы вчетвером возвращались в метель после неудачной охоты и наткнулись на шестерых Ворон. Мы устало потянулись за спину, — за луками, — но Вороны показали нам жестами: «Повоюем потом, когда будет хорошая погода», и поехали своей дорогой. Мы вздохнули с облегчением: метель была — ужас, ничего не видно. А когда и впрямь ударял жуткий мороз, когда слова замерзали на тубах, а ветер резал щёки, словно ножом, тогда мы жались поближе к своим типи, ели сушёное мясо, которое заготовили летом и хранили в шкуряных мешках, а ещё сало, и чем жирней — тем лучше, потому как когда набьешь брюхо жиром, он тает внутри и согревает лучше всего на свете. И долго йотом ходишь сытый и довольный. И жирные женщины зимой росли в цене. Если не ошибаюсь, в ту самую зиму за громадную толстуху, что сидела возле вождя, когда загоняли антилоп, отдали шесть коней и других подарков столько, что не сосчитать. Все это забрала себе её семья, а она сама отправилась в типи своего жениха.
Той зимой Ничто как-то раз набирала снег возле своего типи в чайник, а я спрятался неподалёку и прокричал сойкой, но она никакого внимания не обратила, словно меня и не было, а потом её мамаша вышла, бросила в меня косточкой и сказала: «Уходи, плохой мальчишка». Этим мои любовные похождения в ту зиму и ограничились.
Когда начало таять, мы все, — мужчины и животные, — исхудали изрядно. Осталась кожа да кости. Свежего мяса хотелось так, что хоть свой собственный язык проглоти. Да, когда ты худой, голодный и молодой, весны ждешь, как никогда.
Старой Шкуре к тому времени пошёл седьмой десяток, но жизненные соки в нем проснулись раньше, чем в деревьях, и его молодая жена, Белая Корова, опять забеременела. Из отпрысков я пока что называл только Горящего Багрянцем и Маленькую Лошадку, потому как дружил с ними, но кроме них было множество девчонок, мал мала меньше, которых я просто не замечал — потому как одни были ещё совсем малые, а ровесниц своих — не замечал потому, что у Шайенов это не принято — они тебе вроде как сестрёнки. А ещё множество детей поумирало…
Падающая Звезда, жена Горящего Багрянцем, тоже была беременна.
И ещё множество женщин забеременели после зимнего затишья в военных делах. Их приплод должен был компенсировать наши потери — если, конечно, мальчики родятся и дорастут до положенного возраста. К тому времени на каждого взрослого воина приходилось пять или шесть женщин, Я о наших потерях ещё не говорил, словно мы все время только побеждали. Но нас тоже били — примерно так же часто, как и мы, так что в конце концов выходило так на так, Шайены от всех остальных племен отличались тем; что их всегда было меньше, чем их врагов. Не числом, а умением, как говорится.
А потери у нас, конечно, были. Раненых я не считаю, потому как их, даже совсем безнадежных, ставили на ноги шаманы, как меня — помните? Но чтоб вы поняли, сколько наших поубивали, скажу, что к весне из пяти воинов, что ходили в набег за лошадьми, троих уже не было — погибли. Холодное Лицо, Большая Челюсть и Жёлтый Орёл. А Пятнистый Волк, которого — помните? — вырубила Кэролайн, когда он хотел напасть на мою белую мать — так его убили Поуни ещё прошлой весной. Я назвал только тех, кого вы, может быть, запомнили. А вообще, мы и в лучшие времена не могли выставить больше сорока взрослых воинов.
Я долго думал, что клан Старой Шкуры — это и есть всё племя Шайенов. Потом решил, что это, наверное, один из главных кланов. Но в конце концов оказалось, что это всего-навсего одна единственная семья: у нас в деревне все были родня — либо по крови, либо по мужу или по жене.
Время от времени к нам прибивался какой-нибудь чужак-бродяга, это случалось нечасто, и мужчин всё равно не хватало.
Надо вам сказать, что Шайены, вообще-то, не любители «сор из дому выносить» — языком почем зря не болтают. Так что я долго не мог докопаться, отчего это семейство Старой Шкуры держится особняком — отдельно от остальных Шайенов. А дело было вот в чем…
Давным-давно, когда Старая Шкура был ещё мальчишкой, его отец повздорил из-за женщины и убил своего соперника — тоже Шайена. Ну вот, собрался он со всем семейством и ушёл, и жили они отдельно. А потом он умер, а родня его так долго прожила сама по себе, что возвращаться к своим — совсем не улыбалась им эта мысль. К тому же пятно позора на них все ещё оставалось, и если случалось им наткнуться на соплеменников, они, бывало, потупятся глаз не поднимают ни на кого и смотрят разве что украдкой исподлобья. За это их прозвали «татоимана» — Смирные Люди, значит.
Ну, Старая Шкура, конечно, стал у них главным, потому как был он и храбр, и мудр, и щедр, и со временем их позвали назад, к вигвамам Выжженной Тропы — по случаю пляски Солнца, когда все племя собирается вместе… И что бы вы думали, этот красавец выкинул, как только его приняли назад? Ну, конечно, тот же самый номер выкинул, что и его родитель: увел жену у одного воина из клана Власяного Шнурка! Видать, это у них в крови у всех мужчин в роду: по бабьей части все не громах. Ну Старая Шкура, конечно, оставил мужу пару лошадок «в порядке компенсации, так сказать, того это не устроило и погнался он за Шкурой, в схватке получил стрелу в горло — прямо в трахею — и умер, задохнулся.
Ну, после этого Старая Шкура на эту самую пляску больше не появлялся, А кто ещё из его родни оставался — все ушли с ним и много лет кочевали по прерии сами по себе. Потом опять их простили: время-то шло. И к тому моменту, когда я у них: очутился, им уже разрешили посещать все шайенские сборища, хотя ставить свои вигвамы в кругу Выжженной Тропы Шайен не рекомендовалось. Но они и впрямь долго вели себя довольно смирно.
Но вот последнего пригодного жениха увела та толстуха, про которую я говорил. Шайены ведь на кровосмешение в жизни не пойдут, а новых людей у нас больше не появлялось после Желтого Орла, да и тот уже погиб, оставив двух вдов и полный вигвам сирот, который пришлось усыновить Тени-Что-Он-Заметил.
Так что осуждать вождя за его решение двигаться на юг с началом весны, наверное, нельзя, хотя оно — решение это — пожалуй, не вяжется с его принципом — держаться подальше от белых. Нам просто необходимо было сделать вливание свежей крови прежде нем опять проливать её, а Шайены большей частью располагались южнее, за Платтом. Правда, рядом — по берегам реки Паудер были Лакоты, а у нас ведь с ними военный союз, но Старая Шкура, надо вам сказать, — как только речь заходила о родственных связях — сразу превращался в такого чванливого типа, что Боже упаси. Помните, как он изложил визитерам от Миннеконжу свою версию истории Шайенов? Он, конечно, всегда её помнил: Лакоты ещё перевозил свои типи на собаках, а у Шайенов уже было много лошадей. Вслух он об этом не говорил, конечно, но я-то знаю: он считал Лакотов людьми второго сорта.
Вот так и вышло, что в один прекрасный день женщины разобрали типи, из жердей соорудили волокуши, увязали на них шкуры и весь остальной скарб, пожитки, какие полегче, погрузили на собак какие покрупнее (тоже на волокуши увязали), а сверху среди прочего багажа кое-где привязали малых детей. Получился огромный растрепанный караван длиною с милю. И вот эта шайенская гусеница поползла на юг, отмечая свой путь кучами конского навоза, оставив за спиной старые закопченные жерди типи, груды белых костей и множество остывших кострищ.
Ехал и я. Ехал и не подозревал, что скоро опять стану белым человеком…
Так и добрались мы до самой Соломоновой речки — это протока такая, рукав реки Канзас в северном углу нынешнего штата, того же названия, и там, в пойме, обнаружили огромное стойбище с милю в поперечнике, где расположилось целиком всё племя Шайенов, которые в этом году зимовали все вместе — кроме нас, конечно. Ну, скажу я вам, мощное было зрелище! Такой силищи мне ещё видеть не доводилось: вигвамов, наверное, с тыщу. Каждый клан свои типи ставит в кружок, и эти малые крути образуют громадный круг племени. Все кланы были там: и Волосяного Шнурка, и Плешивые Люди и много других, о которых я раньше знал только понаслышке. А ещё там были военные общества — Общество Собак, например, это вроде как полиция у них, а ещё были Люди Наоборот, которые все делают задом наперед…
Когда вступали в круг племени, Старой Шкуре было явно не по себе: я-то это видел, потому как когда индеец среди своих по его лицу можно запросто читать» Но он зря волновался: никто не попытался нас остановить, никто не подошёл и не спросил: «Зачем вы пришли? Что вам нужно?» А они бы обязательно так и сделали, если б считали, что нам тут не место. Старик держался, как и подобает вождю, с достоинством, но я всё равно заметил, какое облегчение он испытал.
Потом навстречу нам вышли старейшины рода Выжженной Тропы, приветствовали его как брата и предложили ставить наши типи в их круге. Значит, всё — старый грех был забыт, все были счастливы и по этому поводу устроили большую ритуальную охоту на бизонов в верховьях реки Рипабликен, а потом каждому из нас пришлось съесть по шесть или семь грандиозных обедов, потому что всякий, кому ни попадаешься на глаза, так и норовил затащить нас в свой типи и устроить пир в нашу честь, и отвертеться было невозможно.
Ну, потом были, конечно, речи, и песни, и пляски в исполнении химанехов — с которыми теперь уже окончательно связался Маленькая Лошадка. Всё выло очень красиво и всем понравилось. Всем хотелось поболтать, посплетничать: Тень-Что-Он-Заметил развлекал публику своими смешными историями; все обменивались наварками налево и направо, и скоро возникла новая проблема: невозможно было упомнить, какие подарки ты сам приготовил дарить, а какие только что получил.
Я был в самой гуще всего этого столпотворения. Среди наших новых друзей были парни, которые глазели на меня с нескрываемым любопытством, и, небось, разговоров про меня было хоть отбавляй, покуда наши не выложили им всю подноготную, но я вам честно скажу: никто ни разу не поставил меня в неловкое положение — ну, разве что хвалили через край после того, как Старая Шкура, Горящий Багрянцем и Маленькая Лошадка пропели мне дифирамб.
Короче говоря, у нас все шло как по маслу. Но когда наши внутренние, чисто индейские проблемы так мило разрешились, тогда на первый план вышли проблемы внешние — как быть с бледнолицыми? Этот вопрос омрачал нам жизнь, словно грозовая туча, скрывшая солнце. Прошлой весной вышла неприятность с бледнолицыми: Шайены поймали в прерии четырёх коней, которые отбились где-то, а солдаты сказали, что это, мол, их лошади. Ну, вот, пришли они, одного Шайена убили, другого посадили в каталажку, и он там умер. Потом, уже летом, как-то раз наши юноши скакали по прерии, да наткнулись на почтовый дилижанс. Они у возницы попросили закурить, а он — давай в них палить. Ну, они пустили в него стрелу — руку проткнули. А на следующим день на деревню напали солдаты, убили шестерых индейцев, забрали лошадей. А Шайены, удирая от солдат, опять-таки наткнулись на обоз белых — ну, и отыгрались на них, конечно: убили двух мужчин и ребёнка.
Случались и ещё недоразумения — к примеру, один вождь — его звали Большая Голова — поехал с миром в гости в Форт-Кирни, а в него там начали стрелять, ранили. Шайенов всё это не на шутку задевало, потому как — по их меркам — они к белым относились дружелюбно. Даже после всех этих дел послали делегацию к представителю «Бюро но делам индейцев» и извинились. И женщину отпустили — которую захватили. Но понимаете, какое дело? — вся беда в том, что никогда у индейцев не было порядка. Убивали белых одни, а извиняться ездили другие. А потом солдатам под руку попадались вообще третьи. Солдаты их наказывали — на всю катушку, а индейцы потом отыгрывались — да не на солдатах, а на ком-то совсем другом. Вот такие дела…
Я довольно быстро понял, что труднее всего в жизни — по крайней мер, в моей — приходится тогда, когда надо решать: кто ты есть такой? Как в тот раз — помните? — когда я прикончил Ворону: он меня пощадил, потому что я белый, а я его убил, потому что я Шайен. Он иначе не мог, и я иначе не мог, и ничего тут не поделаешь, хоть тресни. Можно было б посмеяться да только не смешно, потому как речь о жизни и смерти.
В общем, Шайены постепенно начали подумывать о том, что, может быть, придётся им покончить с белыми — со всеми бледнолицыми на этих равнинах. Думаете, небось, — бредовая идея? Если б вы увидели то гигантское стойбище, вам бы так не показалось. Я, помню, всерьёз прикидывал: мы сами, к примеру, можем выставить тысячи полторы воинов, да ещё Кайовы и Команчи в союзе с нами — они к югу от нас жили, да старые друзья Арапахи помогут, да ещё Лакоты — с севера… Индеец из меня получился неплохой, а на свою родную расу мне было наплевать: не слишком-то много радости я от неё видел, благодарить не за что. А кроме того, захватывать Сент-Луис, Чикаго или Эвансвиль ведь никто и не собирался. Там жили бледнолицые — там им и место.
А потом как-то раз, помню, довелось мне послушать наших шаманов. Двое их было: одного звали Лед, другого — Мрак. Сила у них была громадная. Стоило им взмахнуть руками в сторону солдат — и те не смогут стрелять: пуля просто выкатывалась из ствола винтовки и падала тут же, не причинив никому вреда…
* * *
Помню, как я прятался у тропинки, на которой Ничто ходила по воду — дождусь, когда она пойдёт мимо, схвачу её за подол юбки, дёрну слегка — и отпущу. Правда, награды никакой мне за это не было. Если не считать, что к Койоту она относилась не лучше, чем ко мне, он ведь тоже за ней приударял. Мыс ним по очереди её обхаживали: если, к примеру, я поджидал её на тропинке, что вела к реке, то он мне не мешал, а пытался застать её, когда она пойдет в прерию собирать бизоньи лепешки. Поскольку особого успеха ни один из нас пока что не имел, мыс Койотом и не ревновали друг к другу, и отношения у нас были нормальные, то есть, никакие. Знаете ведь, как оно бывает; у тебя есть друзья, и есть враги, и ещё есть целая куча знакомых, на которых тебе, в общем-то, наплевать. Точно так же и у индейцев.
К тому же и время я постепенно стал ощущать по-индейски. Когда мы стояли на Соломоновой речке, и я пытался приударить за Ничто — мне тогда было уже лет, наверное, пятнадцать, но я не очень-то спешил добиться толку — как и она не слишком торопилась: вообще, Шайены своих женщин обхаживаю лет пять, не меньше; а мне, к тому же, ещё и рано было начинать. Бьюсь об заклад, вам и в голову не приходило, что краснокожие так медленно проворачивают свои дела по этой части! Но Шайены — они ведь воины, и потому предпочитают давление почём зря не сбрасывать. Вот вы сами попробуйте когда-нибудь обслужить женщину как следует, а потом пойти и подраться — и сразу всё поймете: вам просто захочется спать… Да, сэр, вы и представить себе не можете, как все это было интересно: громадное стойбище, шум, гам, суета. А потом пляска Солнца началась и длилась восемь дней кряду.
Сложнейшее действие, в котором непосвящённому ничего не понять, но Шайенам оно было необходимо, потому что укрепляло в них уверенность, что равных им нету, хотя куда уж дальше — они и так цены себе сложить не могли. В самоистязании всех превзошёл, конечно, Младший Медведь. Он попротыкал свою кожу толстыми пиками акации, как и положено на пляске Солнца; потом, минут через пятнадцать, повырывал их чуть ли не с мясом, и вонзил в других местах. К пикам были привязаны длинные жилы, на которых за ним волочились черепа животных. Так и красовался всю ночь, а на следующий день у него все тело выше пояса было одной сплошной кровавой раной, но они не думал залечивать её — смолой или глиной — а наоборот, хвастливо расхаживал вокруг, весь в запёкшейся крови.
Ну, а когда торжества закончились, начались типично шайенские дела. Кланы стали собираться и по одному покидать стойбище — отчаливать подальше от греха. И это после всех речей и клятв покончить с бледнолицыми, после грандиозных плясок и прочих ритуалов, в которых они черпали силу для такого подвига! Как говорится, война — ерунда, главное — маневры! Ехать куда-то и воевать уже никому не хотелось. Да и вообще индейцы хоть между собою и дерутся постоянно, связываться с белыми не очень-то стремились, потому как: дело это гиблое: если даже и победишь — всё равно добра не жди.
Я сказал, что кланы собирались и отчаливали по одному, но поначалу все двигались по двум направлениям — одни на север, другие на юг — потому как племя делилось, в общем-то, надвое. Большая часть кланов кочевали — поодиночке — по берегам Платта, а остальные околачивались вокруг форта Уильяма Бэрна по берегам рек Канзас и Пурчатори, что в южной части штата Колорадо.
Мы — люди Старой Шкуры Типи — относились, конечно, к северным Шайенам, и теперь вместе со всем кланом Выжженной Тропы двинулись на север. Ну, теперь, пока не забыл, должен вам сообщить, что за время пляски Солнца семейство Старой Шкуры провело огромную работу, и результаты были налицо: нам удалось пристроить — т. е. выпихнуть замуж — почти всех наших вакантных невест, и их мужья теперь влились в наши ряды. Это, а также то, что нас приняли назад в родной клан, привело Старую Шкуру в такое приподнятое состояние, что он, как пить дать, снова влип бы в какую-нибудь историю в чужой постели, но, к счастью, не успел — мы снялись с места и ушли. А иначе, ей-Богу, не миновать бы нам беды: я заметил, что он уже постреливает по сторонам своими блудливыми глазками, и две-три толстухи уже наметил себе в жертву. Ну, а сам я думал про Ничто, и помыслы мои были чисты, я мечтал только о том, чтобы услышать её тихий нежный голос и если повезёт, поймать быстрый взгляд её горящих, словно угольки, чёрных глаз.
В общем, прошли мы совсем немного, и тут — возвращаются наши разведчики, которых выслали вперёд, и сообщают, что впереди — колонна солдат движется нам навстречу, и до неё — один день пути. Надобно вам сказать, что во время пляски Солнца нам удалось купить несколько мушкетов — человека три из наших получили в руки это грозное оружие. Теперь Горб, например, рвался в бой, потому что уже много лет ждал такого случая. Но Старую Шкуру и главных вождей клана Выжженной Тропы беспокоила участь женщин и детей и потому мы развернулись и двинулись назад, на юг, чтобы попытаться отыскать кого-нибудь из соплеменников. Потом повернули на восток и вскоре догнали своих — это были южные Шайены, и мы снова слились с ними неподалёку от Соломоновой речки. Конечно, той силищи, что раньше, здесь уже не было, но Шайен сотни три воинов и десятка полтора мушкетов мы могли выставить.
Все были ужасно возбуждены, и я — тоже. Я даже не успел обдумать как следует свою новую позицию: как я уже сказал, теоретически я ничего не имел против того, чтобы полностью уничтожить всех бледнолицых в западной прерии, чтобы и духу их тут не было. Наплевать мне на них. К тому же, к западу от Сент-Джо я ни разули одного белого не встречал, и остатки моего белого семейства, наверное, давным-давно добрались до Солт-Лейк. Но размышляя обо всем об этом, я как-то не допускал мысли, что мне самому своими руками придётся убивать белых, это в мои планы совсем не входило. И вот теперь нам предстояло драться с кавалерией Соединенных Штатов, а я был на стороне Шайенов и, к тому же, воином не из последних. Вот и получается, что выбор у меня был невелик: либо отлынивай — и будешь трус, либо иди и воюй — и будешь предатель. Да, как ни крути, а Шайен — предатель. Помню, я тогда подумал, что лучше бы мы, как обычно, воевали с Воронами…
Да, сэр, тут было над чем поломать голову. Только я тем временем без дела не сидел. Я сбросил всю одежду и принялся наносить боевую раскраску — размалевывать себя жёлтым и красным. Потом стал затачивать на оселке наконечники стрел. Знаете, есть люди, которые в минуту нерешительности станут столбом, руки опустят и стоят, думают — дают волю воображению. Так вот — я не из таких я сразу даю дело рукам, а мозги — пускай поспевают за руками. Ну, а не получается — что ж, значит не судьба; а будешь сидеть сложа руки — всё равно ничего не высидишь.
Короче говоря, женщин и детей на всякий случай отослали мы подальше на юг — за реку Арканзас, хотя, надо вам сказать, Шайены к этому моменту настолько осмелели, что уже успели и на новом месте поставить свои типи и разбирать их не стали. Ну, потом наш шаман Лёд отвёл нас, воинов, к небольшому озерцу неподалёку и заставил опустить в воду ладони, отчего мы сразу сделались неуязвимым для вражеских пуль. Якобы. Теперь им стрелять в нас бесполезно: стоит нам поднять над головой наши заколдованные руки — и предназначенные нам пули просто шлёпнутся на землю, едва вырвавшись из дула винтовки…
Да-а, вот тут до меня и дошло, к чему идет дело: меня просто убьют…
Можешь хоть пуд соли съесть с индейцами, но всё равно потом выяснится, что ты сделан из другого теста. Оно конечно — Леворукий Волк — помните? — своим шаманским колдовством поставил меня на ноги. Но я-то тогда почти все время был не в себе — то есть, без сознания. А когда человек не в себе, для него ничего невозможного нет. К примеру, пьяный в стельку сорвется с крыши — и ему хоть бы хны, а был бы трезвый — расшибся бы в лепёшку. Вы только не думайте, что я ханжа какой; я вовсе не хочу сказать, что никому и никогда не удавалось уйти от пули с помощью шаманских заклинаний. Кому-то, наверное, удается, тому, кто сам в это верит. К примеру, Горбу, Горящему Багрянцем удается. И Младшему Медведю. Но только не мне…
Была у меня ещё проблема. Помните, я рассказывал, как убил своего первого врага? Тот Ворона даже ночью разглядел, что я белый, а днём-то, небось, и подавно видно было, кто я такой. Я, конечно, размалевывал все тело и лицо краской, но волосы — с волосами-то как быть? Мне это долго не давало покоя. После моего триумфа мне, конечно, не хотелось вдаваться в подробности и рассказывать Шайенам, что этот Ворона распознал во мне белого, что вел себя вполне дружелюбно и все такое. Обо всём этом я им не сказал — зачем зря смущать людей? Но потом, когда настал момент идти на войну, я со своей проблемой пришёл к Старой Шкуре и изложил её таким вот образом:
— Дедушка, — сказал я, ибо к человеку его возраста положено было обращаться именно так. — Я не знаю, как мне поступить. Я не хочу, чтобы Вороны видели цвет моих волос. Но я не хочу обрезать волосы — а то враги, подумают, что я трус и сделал это для того, чтобы меня нельзя было скальпировать. А надеть полное боевое оперение я тоже не могу, потому что ещё молод и совершил ещё слишком мало подвигов.
Тут вождь призадумался на минуту, а потом взял свой цилиндр без дна и нахлобучил его мне на голову. Цилиндр правда, был мне великоват и налез на самые уши, но я решил, что для маскировки так оно ещё и лучше выходит.
— Выходя на тропу войны — надевай его, — сказал старик, — но в перерывах возвращай мне, потому что его вместе с этой медалью прислал мне Отец белых людей из их главной деревни.
С тех пор я так и делал — уходя на войну, надевал цилиндр, подложив немного тряпок в тулью, чтобы крепче сидел, и завязывал под подбородком жильную завязку. А волосы на макушке слегка смазывал краской, чтобы не бросались в глаза сквозь дырявое дно шляпы. Косичек у меня, конечно, всё ещё не было, и Вороны наверняка видели, что я не стопроцентный Шайен, потому как краснокожие народ востроглазый — ничего не упустят, даже в бою — хотя, конечно, я мог быть и полукровкой…
Мы были готовы со дня на день выступить против армии, и я отправился в вигвам, где Старая Шкура и другие вожди разрабатывали план операции — все чин-чином, как в настоящей профессиональной армии. Я дождался, пока он меня заметит, потом подошёл и попросил шляпу — он как раз в ней красовался.
Но старик отвел меня в сторону и сказал, чтобы я ждал: Потом мы сели в сёдла и поскакали вдвоём холмистым берегом реки. У старика был чудесный пинто, который сам выбирал дорогу и все понимал без слов. На вершине самого высокого холма мы остановились, вождь взглянул вдаль и сказал, что там в пяти милях отсюда — двести пятьдесят человек верховых, а за ними милях в двух-трёх ещё пехота. Но я, сколько не старался, ни черта не мог разглядеть: холмистая прерия и больше ничего.
Тут он посмотрел на меня своими проницательными стариковскими глазами и говорит:
— Сын мой, там — белые люди, и мы намерены их уничтожить. Я никогда раньше не воевал с бледнолицыми. Я всегда думал, что у них есть причины поступать так, как они поступают, и делать то, что они делают. Я и сейчас так думаю. Они не такие, как мы; мне кажется, что они не знают, где находится центр мира. Поэтому я никогда не любил их — хотя ненависти к ним тоже не испытывал. Однако в последнее время они ведут себя нечестно по отношению к нам, Шайенам. И потому мы должны их уничтожить…
Тут он как-то замялся и задумчиво поскреб свой громадный нос.
— Я не знаю, помнишь ли ты, что было с тобой до того, как ты стал Шайеном и моим сыном — столь же дорогим мне, как и те, которых родила Бизонья Лощина и другие жёны, отчего сердце мое исполнилось гордости, а мой типи окружён почетом и уважением… Я не буду говорить о тех давних временах — время, наверное, уже стерло их из твоей памяти. Я хочу только сказать, что если ты ещё помнишь те дни и если ты считаешь, что духам не понравится, если ты станешь воевать против этих белесых людей — тогда ты можешь не участвовать в этой битве, и никто из нас не подумает о тебе плохо. Ты уже много раз доказывал, что ты воин, а воин должен поступать так, как подсказывает ему сердце, и никто не в праве его упрекнуть.
Видите, он так и не сказал вслух, что я белый, он просто давал мне возможность при желании выйти из игры. С обычной своей самонадеянностью он, конечно, ни на секунду не усомнился, что быть Шайеном — это предел мечтаний для всякого смертного; и для меня, конечно, тоже. Но со столь же присущей ему рассудительностью он счел необходимым предоставить выбор мне самому.
— Дедушка, — сказал я — Я думаю, что сегодня хороший день, чтобы умереть.
Знаете, когда говоришь такое индейцу, он — в отличие от белого — не бросается тебя утешать да успокаивать, убеждать, что ты не прав, что не все ещё потеряно, что все будет хорошо, и т. д. и т. п. Потому как для индейца это не пустые слова — чем он отличается от белого. Опять-таки, если индеец такое говорит, это вовсе не значит, что ему жизнь опротивела, что он махнул на все рукой и только и мечтает скорее бы помереть. Ничего подобного! Если индеец такое говорит, значит, он будет драться до конца — до последнего вздоха. И жизнь вовсе не опротивела — как раз наоборот: жизнь так прекрасна, что остаток её ты готов прожить на всю катушку и отдать ей все свои силы до последней капли… Однажды — это было ещё до того, как я оказался у Шайенов — они подцепили у каких-то переселенцев холеру. Так вот, те кто ещё мог двигаться, облачились в боевой убор, сели на боевых коней и принялись осыпать невидимую болезнь бранью; вызывая её на бой — чтобы она вышла и сразилась с ними, как подобает воину.
Честно говори, я не у верен, что вкладывал в эти слова тот смысл, который привыкли видеть в них индейцы. Но Старая Шкура понял мой ответ именно так и вручил мне свой цилиндр. В этот момент на пригорке неподалёку появился дикий кролик. Он стоял совсем рядом и наморщив нос, глядел на нас. Во взгляде вождя вдруг мелькнула какая-то тревога, он круто развернул коня и рванул с места в галоп — вниз, в долину. И прошло много лет, прежде чем я встретился с ним вновь…
* * *
Войска появились милях в двух к западу и двинулись берегом реки вниз по течению в нашу сторону. Они чуяли, конечно, что мы где-то рядом. Но всё равно для них было полнейшей неожиданностью, когда, обогнув излучину Соломоновой речки, они вдруг увидели, как три сотни конных Шайенов во всей красе, готовые к бою стоят и ждут их в боевом порядке — наш левый фланг упирался в реку, а правый — в холмы.
Стоят в боевом облачении; и люди, и кони раскрашены, перья трепещут на ветру, многие воины в полном боевом оперении, роскошные уборы переливаются на солнце всеми цветами радуги, поблескивают наконечники стрел и дула мушкетов. Некоторые из Шайенов разговаривают со своими лошадьми, а те прядают ушами и храпят, раздувая ноздри; словно уже несутся на врага. Они почуяли огромных кавалерийских коней и свирепо ржут теперь, потому как Шайены-кони относятся к ним точно так же, как Шайены-люди к своим бледнолицым сородичам.
Мой жеребец был из тех, что мы взяли в тот раз у Ворон. Отличный зверь, но, правда, не повезло ему: разговорами я его не баловал, разве что здоровался да прощался, как положено приличному человеку, вот и все. Так что общения ему, наверное, не хватало. А тут вдруг я с ним философическую беседу завел. Дело в том, что мне было не по себе, потому как мучило меня одно подозрение, что нескольким из братьев моих по оружию не нравится, что стою я здесь — в первом ряду, прямо по центру; и считают они — в отличие от Старой Шкуры; что здесь мне не место. Особенно Младшего Медведя это задело — он-то сам был далеко на правом фланге, но увидев меня, подъехал и втиснулся на своём коне в строй рядом со мною. Он был весь до пояса выкрашен в иссиня-чёрный цвет, на голове — алая полоска, глаза обведены белым, и на щеках — поперечные белые полоски.
Я не разобрал — усмехнулся он, или просто скалит на меня зубы; он уже давно меня не замечал. Я ему ничем не ответил. Настроение было поганое, и я, помню, подумал; как здорово, что я в боевой раскраске. Эта раскраска — великое дело: на душе у тебя, может, кошки скребут, а вид всё равно — жуть, чтобы враги боялись.
Вдоль нашего фронта разъезжали Горб и другие военные вожди, и шаман Лед тоже был там — бубнил свою белиберду, размахивал своими погремушками, бизоньими хвостами, и другими штуковинами — махал в сторону кавалеристов, которые остановились в долине, в полумиле от нас, и, вроде бы, просто глазели. Я, помню, подумал — вот здорово было бы, если б напал на них хохот. Истерический хохот, чтобы хохотали до смерти. Чтобы напал на солдат, потому как сам я уже готов был захохотать. Перед боем такое бывает — от перевозбуждения. И чем дольше ждать атаки — тем сильней тебя хохот разбирает. И когда, наконец, рванешь в атаку — ты просто счастлив, что этой пытке пришёл конец.
Ко всему прочему я ведь был голый, на голове — дырявый цилиндр, а впереди — три или четыре сотни самых настоящих белых солдат, вооружённых винтовками. Шёл уже пятый год, как я притворялся Шайеном. Так что сами понимаете — хохотал я так, что все кишки готов был надорвать — не иначе как чувствовал, что скоро мне их нашпигуют горячим свинцом.
Но я, конечно, изо всех сил пытался сдержаться, отчего из моей глотки вырывался какой-то пронзительный гортанный вой — а для Шайена это вполне нормальное дело. Похоже, на Младшего Медведя это подействовало, потому как он этот вой подхватил, а за ним — другие, и вскоре голосили уже все: а потом этот крик перерос в боевую песнь Шайенов, и в такт этой песне мы медленно, шагом двинулись вперёд. Кое-где лошади вставали на дыбы, но в общем и целом равнение держали. Мы всё ещё сдерживали свою мощь, не давали ей вырваться наружу, а тем временем, исполняя этот священный танец, мы околдовывали, очаровывали, поражали бледнолицых своей магической силой.
Я забыл обо всём на свете, забыл о себе самом и превратился в маленькую частицу того гигантского мистического кольца, которое, по твёрдому убеждению Шайенов, объединяет их всех и каждого из них с землёй и солнцем, жизнью и смертью в едином вечном круговороте, ибо лишь на первый взгляд может показаться, что одного из них можно оторвать от всех, истина же заключается в том, что все без исключения Шайены и каждый из них, кто когда-либо жил на земле либо живет сейчас, составляют один единый народ — неуязвимый, непобедимый народ Шайенов, который есть венец творения…
Еще ярдов двести-триста мы двигались таким же макаром, а солдаты все так же глядели на нас, явно обалдевшие, как те антилопы, которых мы загоняли, и явно готовые к тому, что их сейчас истребят, как тех антилоп — некоторые из наших и впрямь уже натянули тетивы луков, другие сжимали в руках дубинки и томагавки, приготовившись вышибать бледнолицых солдат из сёдел — и тут синий ряд солдатских мундиров озарила во всю его длину какая-то вспышка, словно молния, а над нашей песней зависло высокое медное стаккато боевой трубы.
Солдаты извлекали из ножен сабли — это и была вспышка. А потом — они бросились вперёд.
Мы остановились. Их и нас разделяло ярдов шестьсот речной поймы. Потом осталось четыреста, потом триста — и тут наша песня увяла. Труба к этому времени уже умолкла, и не было слышно ни звука, лишь глухой топот тысячи подкованных копыт да позвякивание пустых ножен. Сам я даже не различал ни лошадей, ни всадников, ни мундиров — я видел какую-то жуткую гигантскую машину, громадную косилку с сотнями сверкающих лезвий, которая крушила на своём пути всё живое, проглатывала его, а потом выплёвывала позади, где на четверть мили тянулось густое жёлтое облако. Теперь парализованы были мы, мы словно окаменели и стояли не шелохнувшись, покуда до первых всадников не осталось каких-то сто ярдов, потом семьдесят пять… и тут наш строй рассыпался, и Шайены бежали кто куда в страшной панике. Колдовство, значит, помогает против пуль, а против длинных ножей, видать, не очень-то…
Я все ещё говорю «мы», но это для красного словца. А на самом деле когда жизнь от смерти оказалась отделена расстоянием не толще лезвия бритвы — или сабли — я тут же обрубил всё, что связывало меня с Шайенами швырнул цилиндр Старой Шкуры на землю, где сотни коней вскоре превратили его в труху, и длинным концом моей набедренной повязки принялся вытирать с лица краску, вопя при этом на английском языке, которым не пользовался уже пять лет, отчего мне пришлось частично сосредоточиться на решении лингвистических задач.
Ну, что можно было изречь в такой момент, чтобы тебя не приняли за индейца?.. Словарь мой и раньше-то не блистал разнообразием, да плюс ещё пять лет никакой практики, и к тому же не очень-то получается шевелить мозгами, когда на тебя несётся чудовище шести футов ростом верхом на жутком кавалерийском коне и вот-вот проткнёт тебя своим шампуром, а кругом куда ни глянь — такие же образины гоняются за твоими родичами и друзьями, которые бегают в панике, сломя голову, словно бизоны в грозу.
Так вот, я скажу вам, что я изрёк. Я принялся орать: «Боже, благослови Джорджа Вашингтона!», а сам тем временем всё тёр и тёр себе лоб длинным концом набедренной повязки, для чего мне приходилось скрючиваться в седле в три погибели. Это меня и спасло, потому как тот образина-солдафон рассёк воздух лезвием своей сабли как раз в том месте, где положено было быть моей голове. Тут я смотрю — этот трюк насчёт Вашингтона, вроде, не срабатывает, а образина тем временем опять замахивается на меня сплеча. И тогда я возопил: «Господи, благослови мою мать!»
Чтобы увернуться как-то от его мясницкого удара, я свесился с седла набок — по-индейски, и мчусь по кругу, а он гонится за мной, словно пёс, и с жутким свистом сечёт воздух надо мной. Тем временем мимо нас проносились другие образины вроде него, и я каждую минуту ждал, что вот сейчас один из них рубанёт меня сзади — и всё, или этот зверь изловчится, настигнет меня опять и — конец. Или сообразит, наконец, в чём моя хитрость. Потому как он был здоровяк, а я твёрдо верю — хотите спорьте, хотите нет — что после пяти футов и пяти дюймов у человека на каждый дюйм росту соответственно усыхают мозги. Я всю свою жизнь недолюбливал этих чёртовых громил…
Чёрт знает, сколько продолжался этот аттракцион, и наконец до меня дошло, что догнать он меня никогда не догонит, но и оставить в покое — тоже не оставит. Наездник он был — так себе: после каждого удара саблей его правая рука отлетала далеко за спину, а левая нога при этом приподнималась и он всем весом наваливался на правое стремя. Так продолжалось раз за разом, и наконец, изловчившись и поймав его в этой позе, я изо всех сил двинул его ногой в ребра, и он неожиданно легко свалился набок и рухнул на землю, загремев ножнами, шпорами и всем прочим барахлом, каким обычно обвешаны солдаты.
В одно мгновение я соскочил с коня и, оседлав беднягу, простертого на земле, приставил к его небритому кадыку свой тесак — не лезвием, а тупой стороной, чтобы, не дай Бог, не поддаться искушению.
И в этот самый миг в памяти у меня вдруг всплыло несколько отборнейших фраз из числа тех, что я подцепил ещё мальчишкой у завсегдатаев салуна в Эвансвиле.
— Ну ты… — ору я ему на ухо. — Тебе что… отрезать? Ты что… не видишь, что я белый…?
Минуту он тупо смотрел перед собой, а потом спросил:
— А какого… ты так… нарядился?
— Это долго рассказывать, — сказал я и отпустил его.
Глава 8. ОПЯТЬ УСЫНОВЛЁН
Про этот бой, наверное, написано в книгах, потому как это была первая серьёзная стычка белых с Шайенами. Солдаты говорили, что погибло тридцать индейцев, полковник доложил, что девять, а на самом деле было четверо убитых и несколько раненых. Случилось это в июле месяце 1857 года.
Когда возвращаешься в цивилизацию, первым делом узнаешь именно про это: какое число, который час, сколько миль до форта Ливенворт, и почем там табак, сколько кружек пива выдул накануне Фланаган и сколько раз Хоффман трахнул свою девку. Цифры, цифры — везде цифры. Я совсем забыл, как они важны. К этому времени Канзас уже объявили территорией Соединенных Штатов — меня не спросили.
Тот бугай-солдафон — звали его Малдун — когда всё успокоилось, отвёл меня к полковнику, которому я и поведал, что Шайены, значит, убили всю мою семью и с тех пор держали в плену в нечеловеческих условиях, а потом, значит, силой под страхом смерти вынудили меня вступить в их ряды. Малдун поклялся на Библии, что я его мог убить, но не сделал этого. Отмывшись от краски и облачившись в серую шерстяную рубаху и синие штаны, которые Малдун выдал мне из своего гардероба — и то и другое на восемь размеров больше, чем нужно — я приобрел довольно-таки безобидный вид.
Бояться мне было нечего: про индейцев в те времена можно было молоть всё, что угодно — вешай на уши любую лапшу, трави любые байки — все, что угодно, принималось на веру. Особенно военными — по той простой причине, что белому солдату для поддержания боевого духа просто необходимо знать, что враг его жалок и ничтожен до смешного. Некоторые солдафоны верили, что индейцы едят человечину, или, к примеру, что они трахают своих собственных дочерей.
Так что полковник выразил мне сочувствие, а потом попытался вытянуть из меня кой-какую информацию насчёт того, где сейчас стойбище Шайенов и где их табуны, потому как он считал необходимым деревню сжечь, а табуны захватить, но я отвечал так, словно тронулся рассудком от пыток, которым подвергали меня проклятые дикари на протяжении всех этих лет, и от ответа с успехом уклонился. Правда, он всё равно нашёл деревню — вышел на неё по следу — и сжёг брошенные типи. Я с радостью обнаружил, что вигвама Старой Шкуры среди них нету: Бизонья Лощина и Белая Корова, наверное, загодя собрали его и успели увезти. С этого момента нам по пути стали то и дело попадаться маленькие типи — много маленьких типи: типично индейский способ пустить врага по ложному следу. На самом деле Шайены ушли — кто на восток, кто на запад. Потом они сделают крюк и соберутся в одном месте чуть попозже, когда минует опасность.
Солдаты околачивались в этих местах почти всё лето. Сначала двинулись на запад, на форт Бент, и захватили там склады с припасами, предназначенными для выдачи индейцам согласно договору; потом снова вернулись на Соломонову речку. Но Шайенов больше так и не нашли, так что вернулись ни с чем в Форт-Ларами.
Всё это время я, конечно, оставался с ними под присмотром Малдуна, который счел за благо не вспоминать, что я мог его убить, и обращался со мной, как с беспомощным младенцем. Ну, а я и не возражал, потому как он был детина добродушный. Он то и дело заставлял меня мыться вонючим солдатским мылом, утверждая, что от меня смердит, как от козла, хотя прошло уже больше месяца с тех пор, как я покинул Шайенов. Ну, а я, я был уверен, что это он смердит, как и все они, солдаты. Просто, наверное, все относительно, и запахи — тоже. И тут мне вспомнилось, как меня поразила вонь, когда я впервые попал в деревню к Шайенам вместе с Кэролайн…
Остальные солдаты относились ко мне так же, и я, в общем, не страдал — разве что приходилось выслушивать их дурные разговоры. В таком походе легче было возвращаться к цивилизации. По крайней мере, мы постоянно находились на свежем воздухе и спали на земле. Правда, армейская жратва была — просто помои. Но я время от времени стрелял дичь, потому как мой лук и стрелы, а также и шайенский пони, остались при мне; а солдаты до свежего мяса тоже большие охотники, и потому я скоро стал весьма популярен, хотя по большей части молчал, что они объясняли моим слабоумием вследствие длительного плена.
Естественно было ожидать, что полковника заинтересует мой рассказ о жизни среди варваров, но как бы не так. И вообще я очень скоро обнаружил, что среди белых редко встретишь человека, готового выслушать тебя, особенно ежели ты действительно знаешь, о чём говоришь.
Должен признаться, когда добрались до Ларами, я совсем упал духом. Когда я переметнулся к белым на Соломоновой речке, то ни о чём другом не думал, кроме одного — как спасти свою шкуру. И уж, конечно, я не думал о том, к чему все это приведет в конце концов. Я так долго жил вне цивилизации, что напрочь забыл, как у них тут все устроено: нельзя у них прийти к тебе запросто, а потом взять и уйти. Все у них неспроста…
И точно, вскоре по прибытии в Ларами, где я по-прежнему жил с солдатами, меня вызвали к полковнику.
«Архивы округа находятся в неудовлетворительном состоянии, — сказал он. — Печальный инцидент, когда эти негодяи напали на вашего отца, нигде не зафиксирован, к сожалению. Боюсь, что наказание конкретных злоумышленников будет задачей непростой вследствие недостаточности предоставленной вами информации относительно личности последних, что усугубляет трудности, связанные с их поимкой даже в случае, если личность вышеупомянутых злоумышленников всё же будет установлена…
Ибо, как Вам, должно быть, и самому прекрасно известно, эти краснокожие — хитрые бестии. Со временем, я полагаю, мы будем вынуждены покончить с ними — я просто не вижу альтернативы, принимая во внимание их упорное нежелание отказаться от варварского образа жизни…
Ну, хватит печальных воспоминаний. Главное, что перед вами открывается новая жизнь…» и так далее и в том же духе, а кончилось все тем, что он отослал меня на восток, в форт Ливенворт, в штаб округа, с колонной, которая отправлялась на следующий день, Ливенворт стоял на берегу реки Миссури, неподалёку от Вестпорта, который позже назвали Канзас-сити, и Индепенденса, где папаша покупал свой фургон и пару волов. Там начиналась цивилизация — по крайней мере, так считали в те времена.
Когда он сообщил мне эту новость, у меня просто дух перехватило. В окрестностях Ларами и так уже околачивалось столько белых, что не продохнуть.
Я не мог спать в прямоугольной казарме — мне по душе были круглые жилища — Шайены учили меня к этому. Кажется, я уже говорил, как они относились к замкнутым кольцам, не имевшим конца — к круговороту земли и солнца, жизни и смерти и т. д. Прямых углов они на дух не переносили — считали, что угол — это тупик, потому что он прерывает бесконечность. Старая Шкура бывало, говорил: «Квадрат лишён жизни».
И вот теперь мне предстояло вернуться в мир острых углов… А тем временем где-то в прерии опять соберутся Шайены и, оплакав своих мёртвых, будут есть печёную на углях вырезку из бизоньего горба, будут мечтать и рассказывать друг другу притчи у костра из бизоньих лепешек, будут красть лошадей у Поуней, а те — у них, и Ничто будет с ними в своём платье из шкуры белой антилопы.
Они уже знали, где я теперь и что со мной, хотя никто им этого, наверное, не говорил. Просто они знали — и все, как знали обо всем, что касается их племени — и больше ни о чём. Они ничего не знали о проблеме рабства, о Джоне Брауне и обо всем остальном, что творилось в те времена в белом Канзасе.
Но покидать Ларами мне было не жаль — уж больно гадкое это было место — как мне казалось, покуда я не повидал других городишек, что понастроили белые. В окрестностях околачивалось множество индейцев — там и сям виднелись их палатки — среди них я с сожалением увидел и Шайенов. Но эти Шайены не были похожи на настоящих, которых я знал, да и не важно было, какого они племени, потому как всех этих выродков скопом называли «Те-Что-Околачиваются-Вокруг-Фортов». Настоящие свободные индейцы их презирали. Болыпикство из них ничем не занимались, а просто сидели на одеялах у своих типи с утра до вечера, тупо глядя по сторонам. Солдаты разрешали им ходить туда-сюда как им хочется, но если нужно было — просто сгоняли с места, как шелудивых псов. Некоторые из них приторговывали старыми шкурами, некоторые — своими женщинами, но все они зависели от подачек, которые правительство давало им за «лояльность». Хотя из тех подачек до них доходила лишь самая малость, а большая часть прилипала к рукам членов «Бюро по делам индейцев», да ещё солдаты время от времени захватывали продовольствие, чтобы не помереть с голоду, потому как из-за мошенников-поставщиков и воров-интендантов армейские склады были, как правило, почти пусты.
Продавать краснокожим виски было запрещено, но те из них, что ошибались вокруг форта, не просыхали — солдатня открыто снабжала их горючим за возможность трахать их жен и дочерей — удовольствие, конечно, не высший сорт, но все ж лучше, чем ничего, потому как белых женщин тут было раз-два и обчелся. Да и торговцы сбывали «огненную воду» почти в открытую и наживались на этом — будь здоров! Но я ни разу не слышал, чтобы кого-то за это арестовали: видать, эти приживалки, что околачивались за частоколом форта, как нажрутся, так ещё безобиднее становятся.
Я почему, собственно, обо всем об этом говорю… Да просто там, в Ларами, наткнулся я на одного «родственника» — из моей прошлой белой жизни. Я слонялся по индейскому посёлку, влекомый ностальгией по прежней жизни, и совсем уж было решил убраться назад в форт, потому как проходу не давали грязные индейские старухи, все пытались сплавить мне свои засаленные бизоньи шкуры, и их мужья-сводники тоже донимали… И тут я заметил неподалёку брезентовую палатку, из которой время от времени выползал на всех четырех какой-нибудь краснокожий. Я заглянул вовнутрь. Там сидело несколько индейцев. Каждый орал свою собственную песню или хрипло бормотал что-то, ни к кому конкретно не обращаясь. Вонь стояла неописуемая. В дальнем конце палатки я разглядел бочонок, на котором сбоку висел ржавый черпак, а рядом — бледнолицего в заношенной оленьей куртке. Вид у него был, будто он с самого дня своего рождения не умывался: с его рожи можно было отколупывать грязь, словно кожуру с печеной картошки.
— Привет, парень! — сказал он, показав жёлтые зубы. Тут рядом возник какой-то индеец, стянул с себя мокасины и сунул этому закопчёному молодцу, а тот, разглядев этот товар повнимательнее, покачал головой. Тогда краснокожий стянул с себя рубаху грубой шерсти — мануфактурного производства — чёрную от жира, и тоже сунул ему.
Тут немытый поднимает вверх указательный палец, согнутый пополам, и говорит:
— Половинку, только половинку! Понял, ты, чёрная задница? — Потом хватает ржавый черпак, лезет в бочонок, зачерпывает и сует индейцу, а тот одним махом опрокидывает его себе в глотку.
— Выпей, приятель, я угощаю, — предлагает этот белый вашему покорному слуге.
Я смотрю на него и молчу, а он продолжает:
— Нет, не это дерьмо. У меня есть бутылка настоящего… — Он выуживает какую-то бутылку из мешка, что лежит на земле, засунув туда предварительно рубаху и мокасины, которые только что заполучил. — Там, в бочонке, на каждый галлон одна пинта виски, а ещё — порох, табак, сера, чёрный перец. Остальное — вода. Этим вонючкам один чёрт. Но тут у меня — настоящий товар — провалиться мне на этом месте! На, промочи горло. — И сует мне бутылку.
— Нет, спасибо, — говорю я.
— Ну, ладно, всё равно не уходи. Посиди, поболтай со мной. С этими красножопым не разговоришься.
Тут он запрокидывает голову и льет содержимое бутылки себе в глотку, а один из краснокожих — Шайен, судя по косичкам, увидев такое дело, подходит к нему нетвёрдым шагом, а он ему сапогом между ног — бац! — тот рухнул на пол и отключился. Остальные на всю эту сцену — ноль внимания.
А немытый бутылку опустил и продолжает говорить как ни в чем не бывало:
— Ну, вечером-то я, конечно, возвращаюсь в форт, обедаю с комендантом — мы с ним друзья и все такое — но днём словом перекинуться не с кем — хоть волком вой. Да и то сказать, не так-то просто мне с этой мразью дело иметь: они, скоты, всю мою семью прямо у меня на глазах порешили — порезали. Вот так… А женщин всех —… Вот так-то… А вообще, через пару лет Канзас станет штатом — и подамся я в сенаторы. В Конгресс!.. — Тут он ещё разок приложился к бутылке. — Ну, ты не передумал? Смотри, ещё не поздно.
Но я развернулся и, перешагнув через простёртого Шайена, вышел вон. Виски пить я ещё не научился, а слушать ахинею, которую несёт мой братец Билл — ибо это был никто иной как он — я и раньше-то не переваривал, а теперь — и подавно. Он меня тогда так и не узнал — и слава Богу…
В Ливенворте меня поселили у армейского капеллана, что жил с семьей в отдельном домике. Это был худосочный фрукт с огромными жёлтыми зубами — точь-в-точь как у старой клячи; жена похожа на него была, как две капли воды, честное слово, сходство поразительное! Было ещё четверо или шестеро белоголовых мальцов, с отцом и матерью — ничего общего, ну, просто ни капли. Я у них месяца полтора прожил, и все это время только жена с мальцом за дверь, как капеллан тут как тут: зазывает меня в свой кабинет, усаживает поближе и заводит свои елейные речи про спасение моей души, и при этом для убедительности так и норовит свою птичью лапку мне на колено пристроить. Не иначе как был он химанехом, хотя на большее ни разу не отважился. Жена его все твердила, что от меня воняет, и мыться заставляла без конца, так что когда пришло время уезжать оттуда, я нисколько не жалел.
Короче говоря, в один прекрасный день вызывает меня главный тамошний чин — генерал в бакенбардах — и говорит:
— Ну, вот, Джек, мы подыскали для тебя прекрасную семью. Будешь сыт, одет, обут, будешь ходить в школу, у тебя будет чудный отец, он будет тебя воспитывать и не даст отбиться от рук. Тебе придётся многое наверстать, но парень ты сообразительный — справишься. Ну, а если с годами захочешь последовать примеру наших бравых ребят и посвятить себя военной службе — что ж, милости просим, я сам дам тебе рекомендации.
Тут он уткнулся в кипу бумаг, а его адъютант проводил меня за дверь. На улице я увидел своего капеллана. Он стоял возле тарантаса и беседовал с толстяком невероятных размеров, что сидел на облучке с вожжами в руках…
Надобно вам сказать, что генерала этого я видел в первый и последний раз. И ни он, ни кто-либо другой в Ливенворте ни разу не спросил у меня ни слова про индейцев, с которыми я прожил пять лет. Правда, Шайенам тоже ни разу не пришло в голову расспрашивать меня про повадки бледнолицых — даже тогда, когда те начали их громить. Ей-Богу, покуда не собьешь человека с ног да не приставишь ему нож к горлу — как я тому солдафону — до тех пор он тебя слушать не станет, хоть умри. Никто не хочет знать правду, никому она не нужна…
Короче, вывели меня на улицу, к этому тарантасу, а капеллан говорит:
— Ну, вот и наш маленький дикарь.
У его собеседника была чёрная стриженая борода и чёрный сюртук, который на его пузе, конечно, не сходился. Он был жирный, но не рыхлый, как зачастую бывает, а тугой, как барабан. Да-а, бывали такие в старину: пузо громадное, как котёл, и всё сплошь — сало, а треснешь его по этому пузу — кажется, что там одни мускулы. Мне доводилось видать таких красавцев на картинках, и я сразу решил, что этот, небось, из таких.
И сразу у меня в мозгу замелькали картинки, как мы с ним разъезжаем по городам и выступаем в цирке, жмем по восемь пудов каждой рукой, рвем железные цепи и все такое прочее, потому что капеллан как раз сказал:
— Вот, Джек, этот добрый человек любезно согласился взять тебя к себе. Почитай его, как родного отца, ибо он теперь и есть твой отец по всем законам.
Толстяк взглянул на меня поверх бороды, повел могучими плечами и прогремел голосом, который словно донесся со дна каньона.
— Фургоном править можешь, парень?
Я посмотрел на него, и мне почему-то захотелось угодить ему. Поэтому я ответил:
— Да, могу. Хорошо могу. Очень даже…
— Ты лжец, парень, — пророкотал он. — Ибо кто же мог тебя этому обучить, если ты рос среди индейцев?
Ну, ничего, я отучу тебя лгать — я выбью из тебя эту мерзость. — И тут он ухватил меня за грудки одной левой, поднял и опустил в тарантас. Чувство было такое, будто меня зацепило и приподняло бревном.
Тут капеллан возопил:
— О Джек! Люби и уважай Его Преподобие! Покажи Его Преподобию, что ты чему-то научился за этот недолгий срок, что прожил с нами!
Вот так: мой новый папаша был вовсе не циркач, не силач, а проповедник — опять проповедник, чтоб ему провалиться в преисподнюю! Вроде как на мой век одного проповедника мало показалось — получи ещё одного! Звали его преподобный Сайлас Пендрейк. Кроме черной бороды у него были ещё густые чёрные брови, а кожа — белее мрамора. В общем, образина ещё та. У меня сохранился мой шайенский нож — я держал его за поясом своих армейских штанов, под рубашкой, — и покуда мы катились в сторону реки Миссури, я начал уж, было, подумывать — а не всадить ли этот ножик ему в спину? Но решил-таки воздержаться, потому как туша эта — вы бы посмотрели — фута на четыре раскинулась слева направо, да и в толщину примерно на столько же. Прикинул я — и решил, что легче каменную стенку ножом зарезать, чем это чудо природы. Этот нож, да ещё необъятные штаны и рубаха Малдуна составляли все мое богатство. Пони у меня забрали в Ливенворте, и я его больше не видел. Капеллан, наверное, продал его, чтобы возместить расходы на мое содержание. А лук — капеллановы дети взяли себе привычку им играть и в конце концов сломали.
Когда подъехали к реке, у причала как раз стоял большой колесный пароход, и Пендрейк направил тарантас прямо на палубу. Кстати, конь у него был тоже непростой — громадная смирная серая скотина. Можете представить себе, какая у него силища была — таскать такого хозяина! Меня он сразу невзлюбил — я сразу понял это по тому, как он ноздри раздувал: видать, чуял индейца, хоть я и мылся с ног до головы раз пять за последние месяцы — с тех пор, как ушёл из племени.
Наконец, пароход отчалил и пошёл по реке. Мне было, конечно, интересно, но не слишком, потому что я помнил наставления Старой Шкуры Типи, который не раз говорил, что ежели Шайен переберётся за большую воду — он умрёт. Оно конечно, родился-то я тоже на реке, в Эвансвилле на Огайо, но это было так давно… Да и Миссури с Огайо не сравнить: бурлит, подмывает берега, они то и дело рушатся прямо у тебя на глазах… — я так полагаю, что со временем её и не узнаешь, Миссури-то, а, может, и вовсе пророет себе путь и уйдет в Неваду, орошать тамошние пустыни. Не хочу говорить, куда мы направлялись — скажу только, что город довольно известный, в западной части штата Миссури. Причина такой деликатности — как пишут в романах — со временем станет вам понятна. В общем, плыли мы несколько часов. Потом причалили, съехали на берег и покатили через весь город, покуда не оказались в довольно-таки приличном квартале, где у Пендрейка была вполне солидная церковь, а рядом — двухэтажный дом, весьма внушительный, а за ним — конюшня, куда мы сразу и въехали. И тут он заговорил со мной — кажется, впервые после нашего отъезда из Ливенворта:
— Распрягать умеешь, парень?
К этому времени я уже кой-чему научился, и потому сказал:
— Нет, сэр, не умею. Совсем не умею.
— Значит, придётся учиться, — пророкотал он в ответ, однако, вовсе не так враждебно, как в Ливенворте, отчего мне в голову сразу пришла мысль, что там он вел себя так для контрасту с жеманно-елейным капелланом — чтобы значит, я не подумал, что все проповедники таковы… Насчёт Пендрейка я вам так скажу, это такой человек был — никогда не умел держаться естественно, только за едой становился самим собой, а все остальное время вроде как старался делать то, что от него ждут, будто кому-то чем-то обязан. Мне кажется, если бы он порезался, то мог бы и помереть от потери крови, покуда мучительно соображал бы, как тут поступить? — вместо того чтобы взять да забинтовать себе палец…
Ну, научиться распрягать оказалось нетрудно; конь, правда, поначалу мотал головой, но такой он был неповоротливый, что я без труда справился с ним и успешно поставил в стойло. Когда с этим было покончено, я стал в недоумении, не зная, что делать дальше. Уж больно здоров этот Пендрейк, а я покудова не знал, чего от него ждать. К примеру, останусь я в конюшне, а он ожидает меня в доме — вот и получи неприятность. А идти в дом — тоже Бог его знает, как ему понравится моя инициатива. В общем, подумал я, подумал — и, как всегда, сделал выбор в пользу активных действий. Я направился в дом, но не чёрным ходом, как он, а парадным — обошёл весь дом кругом, чтобы, значит, выиграть время и как можно позже встретиться со своим новым папашей, а заодно ознакомиться с расположением комнат — на тот случай, ежели придётся отсюда смываться.
Я поднялся по ступенькам крыльца, вошёл в парадную дверь и оказался в прихожей, где стояла интересная вешалка, сделанная из оленьих рогов. Потом шагнул в дверь гостиной. По нынешним меркам гостиная была — так себе, но тогда она мне показалась просто сказочным видением: медные масляные лампы, кружевные салфеточки на диване — чтобы спинка не засаливалась — и все такое. Не сказать, чтобы Пендрейк был слишком богат, но с моими жалкими родичами из Эвансвиля Шайен не сравнить, и с армейским капелланом — тоже.
И тут за спиной у меня прогремело:
— Ты — здесь? В гостиной? — Пендрейк не то чтобы рассердился — просто был ошарашен.
Я сразу, не оборачиваясь — пока не поздно — говорю:
— Я ничего не сломал…
Тут только я оборачиваюсь, ожидая увидеть его гигантскую тушу прямо у себя за спиной. Глядь — а он довольно далеко стоит. Ну и голосище — Боже упаси! Небось, и за сто ярдов будет греметь так, словно над ухом кричит.
И вдруг откуда ни возьмись — женщина, да ещё какая! Волосы русые, на пробор зачесаны и сзади в узел собраны, глаза голубые, кожа светлая, но не такая мертвенно-белая, как у него, а живая. Голубое платье на ней. Лет ей, наверное, двадцать — так мне показалось, а Пендрейку — пятьдесят, вот я и решил, что это, видать, дочка его.
Стоит, значит, она — улыбается мне, обнажая мелковатые зубы. Смотрит-то она на меня, а обращается к Пендрейку:
— Да он, наверное, ни разу в жизни не видел гостиной.
А голос у неё нежный, бархатный…
— Присядь, пожалуйста, Джек. Вот здесь, — красавица указывает мне на маленький диванчик, обитый изумрудным плюшем. — Это кресло называется «гнездышко голубков».
Пендрейк в этот момент как-то глухо зарычал — не в ярости, а в каком-то оцепенении.
Я отвечаю:
— Спасибо, мэм, я постою.
И тут она спрашивает, не хочу ли я выпить молока с пирогом…
Вот уж чего-чего, а молока-то я явно не хотел, потому как ежели я когда и любил его, так с тех пор слишком много воды утекло. Но я рассудил, что лучше этой девчонке не перечить, потому как нужно же иметь хоть какого-нибудь друга, и потому пошёл за ней на кухню, чтоб хоть до поры до времени ускользнуть от Пендрейка, который убрался в соседнюю комнату. В этой комнате он обычно писал свои проповеди и потом читал их вслух — и тогда по всему дому дрожали стены, перила лестниц и звенели стекла в шкафах.
В кухне я обнаружил ещё одну особу, которая сразу отнеслась ко мне по-дружески. У неё, правда, и выбора особого не было, потому как она была цветная. Хоть ей и дали вольную, она носа слишком не задирала по этому поводу, потому как по законам штата Миссури в те времена можно было держать рабов. Да и вообще, мне кажется, что ежели кто побывал рабом — он внутренне всегда готов опять в раба превратиться… Честно говоря, эта её неиссякаемая доброта — даже если почти искренней была — меня немного раздражала. Подозреваю, что её прапрадед, который жил в Африке и носил копьё, пришёлся бы мне больше по душе. Особа эта была кухаркой, звали её Люси. У неё был муж — такой же вольноотпущенный, как она; он работал здесь же — дворником, садовником, стриг траву и всё такое, и звали его Лавендер. Жили они в маленькой хибарке за конюшней, и иногда ночью слышно было, как они там ругаются.
Белая женщина, которую я принял за дочь Пендрейка, оказалась его женой. Она была лет на пять старше, чем мне поначалу показалось, а он — немного моложе. Но всё равно, разница в возрасте была солидная, и, помню, я в первый же день подумал — и что она в нем нашла? Должен вам сказать, что я этого так и не выяснил. Не иначе как родители их поженили, потому что её папаша был судьей, а судье — сами понимаете — не всякий в зятья годится, а проповедник — в самый раз.
Покуда я пил молоко, миссис Пендрейк сидела напротив, и, помню, меня сразу поразило, что ей хотелось узнать все про меня. Впервые в жизни я встретил отклик в живой человеческой душе, впервые меня расспрашивали о моих приключениях-злоключениях, и — подумать только! — кто же это был? Благородная белая женщина из штата Миссури! А цветная Люси — хоть и хохотала без умолку, приговаривая «Боже правый!» за каждым словом, но я-то знаю — ей было на меня глубоко наплевать, и вообще, она считала, что я трепло, каких свет не видывал. Я сразу понял, что воспоминания — это мой козырь, и решил сразу все не выкладывать — попридержать на потом. Кроме того, я изо всех сил следил за своими манерами, то есть, ел свой пирог по тем правилам, которым меня обучила жена капеллана. У капеллана-то я, как сел за стол, сразу руками схватил с тарелки кусок мяса и запустил в него зубы. Теперь я был умнее, и от пирога, что дала мне миссис Пендрейк, отрезал по кусочку и осторожно на кончике ножа отправлял в рот.
Когда я покончил с пирогом, она сказала:
— Ах, Джек, ты даже не представляешь себе, как я рада, что ты теперь с нами! В этом доме нету детей, кроме тебя — никого. Ты для меня — словно луч солнца во тьме!
Мне понравилось, как она это сказала…
Потом она взяла меня с собой в магазин — покупать одежду. Она надела чепец, взяла зонтик, и мы с нею пошли пешком, потому что это было недалеко, и погода стояла чудесная — было, кажется, начало октября. Мы встречали по пути множество знакомых миссис Пендрейк — они вытаращивали на меня глаза, а некоторые подолгу расспрашивали её обо мне. Женщины, в основном, охали, ахали, а то и всхлипывали; хотя нашлись и такие, что мерили меня неодобрительным взглядом — это были, по большей части, учительницы, библиотекарши и т. п. Оно и неудивительно — я пять лет не стригся по-человечески и, как ни старался держаться пристойно, вид у меня был, наверное, жуткий.
Что касается мужчин — бьюсь об заклад — ни один из них меня и не заметил, потому как они глаз не сводили с миссис Пендрейк. Они просто шалели от неё. Может, я немного суховато описал её потрясающую внешность — я ведь старался передать своё первое впечатление от неё. А рос-то я среди индейцев и вкусы мои сформировались соответственно: женщин я предпочитал темноглазых и черноволосых. К тому же, как ни крути, она была мне приёмной матерью, и я воздерживался смотреть на неё глазами мужчины. Но при всём при этом надо честно сказать, что среди белых мужчин миссис Пендрейк считалась красавицей неописуемой. Те из них, что встретились нам по пути в магазин, явно готовы были ползать перед ней на четвереньках, высунув язык, и вилять хвостом, если бы он у них был — стоило ей лишь пальцем пошевелить.
Глава 9. ГРЕХ
Пришлось мне в этом городишке ходить в школу, и вы, небось, удивитесь, но я не очень-то и возражал. Труднее всего было высиживать несколько часов кряду на жесткой скамье. От училки нашей — занудной старой девы — я тоже был не в восторге, да, кроме того, посадили меня с малышней, и мне было не по себе, потому как я-то покудова почти ничему не учился. До того как попасть к индейцам, я немного умел читать, считать, знал, что Джордж Вашингтон — президент, хотя понятия не имел, с каких пор.
Должен вам сказать, что я весьма упорно грыз гранит науки, да ещё миссис Пендрейк корпела надо мной дома, так что к весне я настолько преуспел в чтении, что мог потягаться с двенадцати-тринадцатилетними, и сочинения писал хоть куда, если не считать правописания — этим-то я никогда не блистал — но вот в арифметике из пеленок, можно сказать, так и не выбрался… Давно все это было, чёрт побери, да и недолго я ходил в эту школу. Так что, ежели этот джентльмен, который тут слушает мои рассказы, запишет всё точь-в-точь, как я говорю, то вы прочтете воспоминания неуча — это как пить дать.
* * *
Хоть убей, не припомню, чтобы Пендрейки при мне общались друг с другом, хотя, надо полагать, Шайен общались. Как сейчас вижу эту картину: мы сидим за столом в столовой и ужинаем; во главе стола Его Преподобие, напротив — его жена, сбоку — я, а Люси ставит на стол миску за миской дымящейся еды. Прочитав молитву — негромко, но так проникновенно, что и самое жесткое мясо становилось мягче — Пендрейк брался за дело. Да-а, едок он был, конечно, без равных! Ни один Шайен ему и в подметки не годился, потому как индеец, хоть и жрет за семерых, но потом ему наверняка придётся голодать; вот и получается так на так, и ежели подбить бабки, скажем, за месяц, то Шайен съедает чуть меньше, чем средний бледнолицый, которому завтрак, обед да ужин ежедневно — вынь да положь.
Но Пендрейк каждый Божий день устраивал обжираловку, и я намерен рассказать вам подробно, сколько всякой снеди он поедал за сутки, а иначе вы не поймете, что это был за человек.
На завтрак Люси жарила ему яичницу из шести яиц, гору картошки и бифштекс размером с две его громадных ладони. Когда все это исчезало в его утробе и заливалось сверху литром кофе, она ставила на стол залитую патокой горку оладьев, штук десять или двенадцать, которую венчал кусок масла размером с хорошее яблоко. На обед он съедал целиком парочку фаршированных цыплят с картошкой и зеленью, пять ломтей хлеба и полпирога с кружкой сливок. После обеда он обходил больных прихожан, каждый из которых скорее провалился бы сквозь землю, чем отпустил бы Его Преподобие, не скормив ему кусман бисквита или дюжину пирожных с чаем или кофе.
Потом наступал ужин. Для начала Пендрейк проглатывал миску супу, в который крошил такое количество хлеба, что в нем ложка стояла. После этого съедал блюдо рыбы, потом — громадный ростбиф, от которого мне и миссис Пендрейк доставалось разве что по кусочку, а остальное Пендрейк уминал самолично, а попутно заглатывал гору картошки, целую копну зелени, а ещё россыпь турнепса, мозгового горошка и пареной моркови; потом четыре чашки кофе, фунтов пять пудинга, да ещё если от обеда остался какой пирог, то и он отправлялся туда же.
Но при всей его прожорливости более аккуратного едока мне в жизни встречать не доводилось. Чтобы он прикоснулся пальцем к чему-нибудь, кроме хлеба — ни-ни, Боже упаси! Сидит, орудует ножом и вилкой, да так искусно, словно рукодельница иглой — просто загляденье. Тарелки после него блестят, словно вымытые, а косточки — чистые, словно отполированные — аккуратной стопкой сложены в специальной тарелке. В общем, зрелище впечатляющее, и я, бывало, утолив голод, просто сидел и наблюдал, как он ест, и получал при этом море удовольствия.
Миссис Пендрейк, бывало, к еде едва притронется — оно и не удивительно: зачем ей вообще есть-то, ежели она ничего не делает — никакой работы. У индейцев-то женщины трудятся, как пчелки, с утра до ночи; да и моя белая мать, помню, тоже все жаловалась, что ей дня не хватает все дела переделать, хоть и сёстры ей помогали, а тут — готовит Люси, уборку делает ещё одна девчонка, приходящая чуть не каждый день, да ещё Лавендер имеется — садовником, дворником и вообще на побегушках… Вот и получается, что этой здоровой крепкой белой женщине делать абсолютно нечего, разве что со мной посидит часок, когда вернусь из школы, поможет сделать уроки.
Поскольку воспитывали меня дикари, изысканными манерами я, конечно, не блистал, однако, человек был тактичный. И потому не стал спрашивать её, отчего это она целыми днями болтается без дела, хотя вопрос такой у меня возникал. Только не подумайте, что я это ей в упрёк говорю — ничего подобного: я её любил и старался угодить чем мог. Ей, понимаете ли, втемяшилось в голову, что она должна мне быть матерью — ну, вот я и притворялся время от времени, что нуждаюсь в материнской ласке.
Поначалу мои одногодки в школе изрядно потешались надо мною, что я сижу с малышней. Я сперва пропускал мимо ушей — ну, а это сами знаете к чему приводит: они решили, что я слабак, и — давай изгаляться пуще прежнего, ещё и кличку мне подцепили, что-то вроде «индеец вонючий».
Кончилось все тем, что однажды вечером вся орава ждала меня в конце аллеи, по которой я ходил домой. Когда я подошёл поближе, начались подколки насчёт «индейца вонючего». Вообще-то довольно-таки подло это было с их стороны: не забывайте, они ведь твёрдо верили, что индейцы меня пять лет держали пленником. На самом-то деле в их подначках правды было больше, чем им самим казалось. Но это их ничуть не оправдывает, я так считаю. В общем, иду я мимо, молчу. И тут один из них становится поперек дороги. Длинный, под метр восемьдесят в свои пятнадцать лет-то — и прыщавый.
Встал передо мной и говорит:
— Что-то индейцев вонючих много развелось. Пришибить, что ли, одного?
А я и не сомневался, что ежели дойдет до кулаков, то, пожалуй, и пришибет: Шайены-то кулаками не дерутся. Мальчишки у них иногда борются, но я ведь уже много раз говорил, что между собой им драться незачем: ну, зачем им драться между собой, ежели за ближайшим холмиком, как правило, таится враг? А уж если они сцепятся с врагом, то вовсе не затем, чтобы попугать или поставить его на колени — это им ни к чему — а затем, чтобы убить и снять ему верхушку головы.
Короче говоря, я просто взглянул на него презрительно, обошёл и иду себе дальше, а он как влепит мне в ухо своим пудовым кулаком. Я метра на три, наверное, отлетел, потому как ручища у него была — дай Бог! Книжки мои полетели на землю, толпа засвистела-заулюлюкала… С тех самых пор, как мы схлестнулись с кавалерией, я ни в каких переделках не бывал, и, живя в городе у Пендрейков, отвык от этих дел, потому как, сами знаете, с кем поведешься от того и наберешься. И наоборот… В общем, поднимаюсь я медленно на колени, а сам соображаю — что дальше делать-то? — а парень этот тем временем подскочил и хотел было пнуть меня в зад — ногу уже занес.
А при этом ведь человек теряет устойчивость — следовало бы ему знать об этом заранее, если уж завёл себе привычку пинать людей. Но ничего — через секунду он все понял: я перекатился под его зависшим башмаком и подсек ему вторую ногу. Он рухнул, как мешок с песком, а я пяткой наступил ему на шею и выхватил из-под рубашки свой нож…
Нет, я его не тронул, даже не поцарапал. Да и зачем — он бы и сам задохнулся, если б я своё копыто не убрал с его шеи. И так уже побагровел весь, глаза вылезли… И я ведь не индеец, я хотел доказать им, что я белый, и мне казалось, что я это доказал — тем, что спрятал нож, собрал книжки и пошёл дальше своей дорогой.
Когда я добрался домой, челюсть у меня под ухом — куда он влепил мне — распухла, словно я, как белка, упрятал за щёку горку орехов. Миссис Пендрейк сразу заметила и говорит:
— Ах, Джек, надо отвести тебя к дантисту! — Решила, что зуб мудрости режется.
Нет, говорю ей, это не зуб. Мы как раз были в гостиной; где она обычно занималась со мной, хотя, надо вам сказать, для этой цели можно было бы найти место и получше, потому как за стеной в своём кабинете постоянно бубнил Его Преподобие — но ей, наверное, казалось, что мне это нравится.
Тут она спрашивает, мол, если не зуб, так что же это. На ней, помню, в тот день было такое нежно-голубое платье — чертовски к лицу ей было, особенно когда она загрустит, задумается, и глаза у ней становятся точно такие же, нежно-голубые. А волосы… знаете, осенью бизонья трава в прерии становится рыжевато-коричневая, и на закате холмы медью отливают… Вот и волосы у неё тоже — с медью были. Мы сидели, как обычно, на том самом плюшевом диванчике — в «гнезде голубков» — и я старался отодвинуться как можно дальше от неё, потому как рядом с этой прекрасной женщиной всегда боялся, что от меня все ещё воняет, хотя, живя у Пендрейков, мылся в ванной каждую субботу как часы…
— Подрался, — говорю я ей. — Меня сюда стукнули. Тут она полураскрыла рот, словно изображая букву «О», и нежно-розовые её губы обнажили линию мраморно-белых зубов. Потом положила свою прохладную ладонь мне на руку. Понимаете, она пыталась быть матерью, а как это делается точно — не знала. Ведь что делает мать, когда сын подрался? Если он цел и невредим — отлупит, а если его побили — будет лечить-отхаживать. А миссис Пендрейк казалось, что тут нужна печаль и грусть: такие уж у неё идеалистические представления были обо всем на свете.
Тут я позволил себе опустить взгляд на округлость её груди, а потом — взял её руку и прижал к своей опухшей челюсти: я ведь говорил вам, что старался угождать ей и делать то, чего она от меня ждёт.
— О, как пульсирует, — сказала она. — Бедный Джек!
А дальше — уж и не знаю, чья тут была инициатива, её или моя — сами знаете, как оно бывает, само собой получается; короче говоря, лицо мое прижалось к её груди, и стук моего сердца, отдающийся в опухшей челюсти, смешался со стуком её сердца…
Вы, небось, думаете сейчас — экий мерзавец он был, и в таком юном возрасте! Думайте, что хотите, только не забывайте, что миссис Пендрейк была всего-то лет на десять старше меня. Смотреть на неё, как на мать, было не так-то просто, и всё же до этого момента я ни разу не думал о ней, как о женщине — ну, вы понимаете. Если уж говорить про идеализм, то у меня и своего было — хоть отбавляй. Помните, я говорил, что Шайены всю дорогу ходят озабоченные? А еще, что война требует столько же сил, сколько и секс? Вот когда наступает мир и покой — тогда действительно сил девать некуда, и они так и прут наружу. Рядом с любым индейским воином все эти толстые купчишки в нашем городишке были просто половые разбойники. А мальчишки белые — мои ровесники — уже в бордели шастали или постоянных краль имели. А жизнь я теперь вел малоподвижную и все такое, да ещё эта учеба — я точно-то не знаю насчёт ученых, но, по моим понятиям, они все, наверное, страшно похотливая публика, потому как я по себе заметил: ежели все время головой работаешь, то со временем напряжение в теле накапливается — это оттого, что оно все невидимое — то что изучаешь. Ты его не видишь и руками потрогать не можешь, а внимание твое полностью на нем сосредоточено. Мне от этого временами не по себе становилось. И тогда, чтобы успокоиться, я думал о девчонках. Вот вам и все объяснение тому случаю. А раньше у меня ни разу ни одной неприличной мысли в голове не было про миссис Пендрейк. Так что можете теперь успокоиться, потому как ничего между нами так и не произошло. А женщина она и впрямь была прекрасная, и я это почувствовал своей саднящей челюстью, когда она уперлась в неё грудью, твёрдой, словно камень. Потому как вся затянута была в тугой корсет на китовом усе. Не то, что Бизонья Лощина — та, бывало, прижмет тебя к себе — и тонешь в ней, словно в подушке… К тому же в этот самый момент в дом заявилась делегация: парень, с которым я подрался, его папаша и городской констебль готовый, как мне показалось, тут же отправить меня на виселицу за вооружённое нападение при отягчающих обстоятельствах.
Может, как мать, миссис Пендрейк оставлялся желать лучшего, но в данной конкретной ситуации она повела себя выше всяких похвал. В дипломатических, как говорится, отношениях — она была просто королева Англии, ни дать ни взять.
Во-первых она продержала эту публику в прихожей, покуда мы с ней всё так же восседали на диване. Нет, она не сказала: «Останьтесь там!», или ещё чего, они просто не посмели войти — так она была неприступна. Констебль, здоровенный детина, встал в дверях и загородил проход, и когда папаша парнишки хотел ввернуть словечко, приходилось констебля отодвигать. Вот они и пихались всю дорогу в дверном проеме. А мальчишку мы и вовсе не увидели.
— Миссис, — начал констебль, — ежели мы теперь некстати, или что, так вы скажите, — мы и другим разом зайдем, нет проблем. — Он минуту подождал, но миссис Пендрейк оставила его тираду без ответа.
— Так вот я и говорю — тут у нас парнишка, Лукас Инглиш его звать… Это, значит, сын Горацио Инглиша — того самого, что держит фуражную лавку…
Тут миссис Пендрейк спрашивает:
— Так это мистер Инглиш у вас за спиной, мистер Трейвис? — после чего Инглиш и констебль начинают топтаться в дверях, пихая друг друга.
Трейвис роняет на пол шляпу, а Инглиш, тоже солидный детина в жилете и нарукавниках, овладев плацдармом, перехватывает инициативу:
— Совершенно верно, мэм. Только Вы чего не подумайте, Ваши Преподобия, потому как мы премного довольны Его Преподобием в том плане, что уже не первый год удовлетворяем его нужду в фураже…
Тут миссис Пендрейк с ледяной улыбкой говорит:
— Я полагаю, вы имеете в виду нужду животных его преподобия, а отнюдь не его самого, не так ли, мистер Инглиш? Ибо вряд ли вы действительно считаете, что мистер Пендрейк питается овсом.
Инглиш идиотски хихикнул, отчего совсем растерялся и умолк, разинув рот, словно подавился; а тем временем констебль отпихнул его в сторону и вновь занял позицию в дверном проеме.
— Тут такое дело, мэм, — начал он, — парни, похоже, подрались. Один выхватил ножик и, судя по словам другого, сказал, что снимет ему скальп — вроде того, как краснокожие делают, — тут он усмехнулся, — а это, мэм, не по закону.
Миссис Пендрейк на это говорит:
— Человеку свойственно ошибаться, как сказал поэт, мистер Трейвис. Я убеждена, что юный Инглиш не сделал бы ничего подобного и это было всего лишь мальчишеское бахвальство. Если Джек согласен его простить, я не стану давать делу ход.
Тут она взглянула на меня и говорит:
— Ты согласен, мой мальчик?
— Конечно, — говорю я, а сам чуть со стула не упал, потому как она ещё ни разу не обращалась ко мне таким образом.
— Ну вот и прекрасно, м-р Трейвис. Я полагаю, что инцидент исчерпан. — Она кивнула свысока и позвала Люси проводить их за дверь.
Так что держалась она просто молодцом, и я понимал, что в долгу перед ней. Ясное дело, с ее-то умом как было не сообразить, что ножик выхватил я, а не Инглиш. Но даже тогда я четко понимал, что старалась она вовсе не ради меня. Просто не могла она никому на свете позволить устраивать выволочки себе и своим близким. А я был её «близкий» и, значит, мне гарантировалась полная неприкосновенность — должно быть, так она считала. Мне в жизни не доводилось встречать женщину, ни белую, ни краснокожую, с таким самомнением. В этом самомнении была её громадная сила, только жаль, использовалась не по назначению. Её бы на созидание направить — да она бы любого мужчину за пояс заткнула. Но насчёт миссис Пендрейк ни у кого и тени сомнения не возникало, что это женщина на все сто, даже на сто десять процентов, хоть я и не мог воспринимать её как мать. Но пока что я был не против притвориться, сделать вид, что именно так её и воспринимаю — просто чтобы угодить ей. Когда она сказала мне «Джек, мальчик мой», может, оно и не так уж искренне было, но мне всё равно ужасно понравилось, особенно при этих рожах. Вот потому-то я и сказал ей то, что сказал.
— Мама, — говорю, — мама, какой это поэт написал насчёт «ошибаться»?
Надо сказать, сэр, это словечко произвело на неё впечатление, хотя я, может быть, не очень натурально его произнес — первый раз Шайен.
Чтобы справиться с волнением, она встала, подошла к книжному шкафу и взяла с полки томик.
— Это Александр Поуп, — сказала она, — А ещё он написал: «Куда боятся заглядывать ангелы, туда слетаются дураки». Так-то…
Она почитала мне немного стихи этого парня. Если не обращать внимания на смысл слов или не знать половину из них, как я, то похоже было, словно конь идет рысью; а то, что до меня дошло, звучало самоуверенно не на шутку, словно он был последней инстанцией по всем вопросам, этот парень.
В общем, все бы ничего, вот только романтики в нем было маловато для поэта. К примеру, взять меня с моей-то жизнью, и его — так он, пожалуй, такой же материалист, как я, если не больше, а то и вовсе циник. Но я-то в чем угодно, может, материалист, но только к женщинам это не относится, или, по крайней мере, к прекрасным белым женщинам, тем, что в хозяйстве бесполезны.
Короче говоря, в ту самую минуту я влюбился в миссис Пендрейк. Что там говорить, пожалуй, и сейчас, в своём-то возрасте, это у меня слабое место — добрые и элегантные женщины. Неприступность тут тоже имеет значение — помните, как она управилась с констеблем и торговцем фуражом? А ещё — как это? — изысканность, вот. Как сейчас помню, стоит она с томиком стихов в руке, стоит на фоне окна, за которым горит закат, головку наклонила, волосы золотом отливают, а тонкий профиль словно светится…
Про цивилизованную жизнь она всегда безошибочно знала ЧТО НАДО и КАК НАДО, примерно как индеец знает это про свою варварскую жизнь. А ещё я понял, что она должна быть бесполезной. Праздной, то есть. Заставь такую женщину работать — и потеряешь главную её прелесть, всё равно как статую превратить в коновязь.
И вот в ту самую минуту, прямо там, на диванчике, мне показалось, что я понял суть цивилизованной жизни. Главное в ней — не паровозы, не арифметика, даже не стихи мистера Поупа.
Главный смысл этой жизни — служить фоном для какой-нибудь миссис Пендрейк…
Я тут сказал, что «влюбился», но, может, лучше бы сказать «полюбил». Это произошло в одну минуту, и мне сразу стало страшно, и я принялся отодвигаться подальше от неё.
Так вот, отодвигаюсь я, скольжу потихоньку задом по плюшевой обивке, и тут в гостиную входит Его Преподобие — дверь в его кабинет прямо у нас за спиной. Бубнить-то он перестал ещё когда делегация к нам заявилась. Теперь он, значит, не спеша, в задумчивости обходит наш диванчик, минуты три ждёт, пока его жена дочитает очередной стих. А потом обращается ко мне.
— Послушай, мальчик, — говорит он очень даже Дружелюбно, — Я считаю, что все три месяца, что ты провёл в этом доме, ты упорно, в поте лица трудился…
Тут он запнулся и погладил бороду. Воистину, чудесам в этот день просто не было конца: после того, самого первого дня я не слышал от него ни одного слова в свой адрес, и миссис Пендрейк, по-моему, тоже.
— Мне бы не хотелось, — продолжал он наконец, — чтобы у тебя сложилось превратное впечатление, будто в трудах проходит вся наша жизнь. И потому завтра, в субботу, если не станет возражать миссис Пендрейк и если сам ты будешь расположен к такого рода времяпрепровождению, я хотел бы взять тебя с собой на рыбалку.
Вообще-то, стоял ноябрь, и хоть снег ещё не выпал, но всё равно было холодно и сыро — в такую погоду рыбачить просто так, для развлечения, только чокнутый попрётся. Но всё равно я тут же согласился, и вы, конечно, сразу и не поймете почему — ведь я это Преподобие терпеть не мог ни в каком виде, только за едой выносил его. Но видите ли какое дело, он, к примеру, все время чувствовал себя в долгу перед своей женой, а я вдруг почувствовал себя в долгу перед ним.
Но вот мы и выбрались субботним утром на речку. Погода была просто дрянь: воздух, словно губка, пропитанная водой, только мы добрались до реки, и кто-то словно выжал эту губку — полило как из ведра. Отправились мы на повозке. Правил Лавендер — ему одному хватило ума прихватить с собой зонтик на случай ненастья, потому как его подагра безошибочно предсказывала погоду.
Увидев, как Его Преподобие цепляет на крючок наживку, я сразу понял, что в рыбалке он ничего не смыслит. Ловили на тесто, потому как Лавендер утверждал, что не смог найти червей — их: мол, в ноябре уже нету. День был такой гадкий, что и любой фанатик махнул бы на все рукой. Но Пендрейк сказал, что едет на рыбалку и отступать не собирался; дождь барабанил по полям его шляпы, вода ручьями сбегала по спине. Кстати, одет он был как обычно в чёрное пальто, словно ехал на проповедь.
Лавендер предложил было ему свой зонтик, но не слишком настойчиво, что и понятно. Пендрейк отказался, заявив, что ему не требуется это приспособление. Довольный Лавендер тогда раскрыл над собой зонт, расстелил под деревом одеяло, уселся и принялся изучать иллюстрированный журнал, который ему кто-то подарил. Читать он не умел, но, судя по всему, получал море удовольствия, ибо смеялся без конца.
Его Преподобие и я спустились к воде возле зарослей ивняка, пожухлого в преддверии зимы. Он и спрашивает:
— Как тебе нравится это место, мальчик?
— Нормальное место, — отвечаю я без особого энтузиазма, потому как волосы у меня намокли и слиплись от дождя, вода струилась по щекам; и все это было довольно глупо, принимая во внимание, что мы, вообще-то, собирались развлекаться. Но мокнуть мне не в первой и этим меня не напугаешь. Индейцем, помню, мокнуть приходилось то и дело — и под открытым небом, и в типи, потому как шкуры, которыми их кроют, обычно быстро начинают течь, особенно на швах.
Тут он вдруг взглянул на меня из заросшей своей бороды и говорит как-то просто и искренне:
— Да ты совсем промок, мальчик! — Вытаскивает свой громадный носовой платок и вытирает мне лицо — осторожно так…
Не знаю, как и сказать, но, в общем, за всю мою жизнь и не припомню, чтобы кто-нибудь ещё так по-человечески ласково со мной обходился. Хоть я был в полном порядке и в сочувствии особом не нуждался, но это ведь не важно. И то, что он вдруг заметил дождь, который лил давным-давно, тоже не важно, хотя и глуповато. Он положил свою большую ладонь на мое мокрое плечо и посмотрел на меня с такой жалостью, просто сверх всякой меры. До тех пор мне не доводилось смотреть ему в глаза. Они у него были карие и почти без век. Здоровяк он был, конечно, необыкновенный, но сбрей он бороду, и, наверное, потерял бы половину своей силы. А благодаря ей он казался ещё сильнее.
— Если хочешь — можем вернуться домой, — сказал он, — это была не слишком удачная затея. — Тут он помотал головой, как бизон, и с его бороды во все стороны полетели капельки воды, потом отвернулся, уставился на мутную воду реки и говорит. — «И ниспослал Он дождь на правых и неправых».
— Кто ниспослал? — спрашиваю я в недоумении.
— Как кто, мальчик? Наш Отец небесный, конечно, — отвечает он и, снова умолкнув, забрасывает удочку… Дождь так полощет её, что поплавок на месте никак не стоит — так и пляшет все время, хоть кит попадется — всё равно не заметишь.
Индейцы-то предпочитают рыбу копьём добывать, и по мне это занятие интересней, чем крючок забрасывать. Да к тому же дождь начал постепенно меня донимать: размяк я, разнежился за эти месяцы. Однако обидеть Его Преподобие мне не хотелось, и потому я предложил ему блестящую идею.
Идея заключалась в том, чтобы заставить Лавендера подогнать повозку поближе к воде, благо берег был широкий и пологий, выпрячь коня и привязать его под деревом, потом залезть под повозку и сидеть там, словно под крышей, выставив удочки. Что и было проделано и увенчалось полным успехом. Конечно, любой дурак додумался бы до этого, но Его Преподобие был просто потрясен моей, как он выразился, «сообразительностью». Он явно испытал облегчение от того, что я больше не мокну. С ним самим дело обстояло немного сложнее: видите ли, он не мог себе позволить никаких послаблений, кроме еды. Он бы предпочел мокнуть и страдать. Он просто стремился к этому — иначе я не могу объяснить, какого чёрта мы поехали в открытой повозке, хотя у Пендрейка был и крытый, тарантас. Кроме того я так и не понял, зачем с нами Аавендер, хотя, может быть, Его Преподобию просто не хотелось оставаться со мной наедине.
Конечно, такому великану как он нелегко было втиснуться под повозку. Но ничего, втиснулись кое-как, сидим, пахнем мокрой шерстью, а течением тем временем наши удочки перепутало, выбросило их на берег, а тесто с крючков давным-давно посмывало.
Сидим, молчим. Наконец Пекдрейк говорит:
— Вопрос, который ты задал мне мальчик, заставляет сделать вывод, что я в большом долгу перед, тобой. — Он сидел, весь скрючившись, уткнувшись бородой в свой собственный живот, и смотрел на реку сквозь пелену воды, падающей с неба. — Я совершил серьёзную ошибку, ибо предоставил тебе прозябать в невежестве, словно животному, хотя на меня как ни на, кого другого возложена обязанность вести людей к знанию — знанию о Нём. Вчера, продолжал он, — моё внимание привлекло то обстоятельство, что ты стремительно приближаешься к поре своей жизни, когда мальчик превращается во взрослого мужчину.
Тут меня охватил ужас при мысли, что он застал меня на груди своей жены и неправильно истолковал эту сцену.
— Миссис Пендрейк, — начал он, а я с этими словами подобрал ноги под себя — на случай, если придётся их уносить, — миссис Пендрейк, хоть она и взрослая женщина, совершенно не искушена в таких вопросах и не способна притворяться. Она смотрит на тебя, своего мальчика, глазами матери и ни на секунду не усомнится в твоей непорочности, и это, безусловно, делает ей честь. Но я — мужчина, и, следовательно, мне ведом порок. Тот возраст, в который ты только вступаешь, у меня уже за спиной. Я познал дьявола, сын мой, я был с ним на короткой ноге, жал его руку и заключал его в объятия, а его зловонное дыхание считал тончайшим ароматом…
Длинная тирада возбудила его, он уперся головой в днище повозки, смяв при этом свою черную шляпу, а два задних колеса приподнялись и зависли дюймах в пяти над грязью.
Потом он немного успокоился и заговорил тише:
— Сидя в своём кабинете, я слышал весь сегодняшний разговор. Я отлично понимаю, что это ты выхватил нож, мой мальчик, и мне прекрасно известно, что двигало тобой… Имя девушки меня не интересует. Хоть ты и Действовал по наущению дьявола, я твёрдо верю, что ты просто не узнал его в женском обличии. У неё атласные щёки, не так ли? Шелковистые волосы, длинные ресницы и влажные глаза с поволокой? Всё равно, знай: под этой маской — череп с пустыми глазницами, а нежные алые губы скрывают пещеру смерти…
Тут я смыкнул свою удочку, словно у меня клюнуло, потому как что же я мог ему сказать? Девчонкам, с которыми я сидел в школе, было ровно по десять лет.
— Я тебя не осуждаю, сын мой, — продолжал он. — Мне самому знаком огонь, что возгорается в чреслах и, разливаясь по всему телу, пожирает все твое существо. Я знаю, что дикие племена, среди которых прошло твое детство, поклоняются этому пламени, словно божеству, но тем-то мы от них и отличаемся, не так ли, что стремимся обуздать животную страсть. Чтобы не осквернить себя, а сохранить в чистоте. Ибо женщина есть сосуд, и во власти мужчины превратить этот сосуд либо в золотую чашу с благовониями, либо в помойное ведро.
Примерно в этом месте к нам на берег спустился Лавендер со своим зонтиком и громадной корзиной, накрытой куском клеенки, он согнулся в три погибели и заглянул к нам под повозку. Надо вам сказать, что специально для общения с Его Преподобием Лавендер, как я заметил, усвоил себе какой-то лениво-ноющий и плаксиво-идиотский тон, хотя во всех прочих ситуациях парень он был довольно шустрый, даром что неграмотный. Так вот, они говорит:
— Ваша Честь, — говорит, — не желаете ли… Вот тут… у меня… обед?
— Молодец. Ставь сюда, — отвечает Пендрейк в телеграфном стиле — небось, думает, что это парня как-то подстегнет пошевелиться живее, но эффект получается, похоже, прямо противоположный.
Когда Лавендер, наконец, убрался, Пендрейк говорит:
— Вот тебе, пожалуйста, пример — Лавендер и Люси. Они бы так и сожительствовали в грехе вопреки всем законам — Божьим и человеческим — если б я не настоял и не поженил их, — Тут я сразу хочу вам пояснить, чтобы больше к этому не возвращаться, что я точно не знаю, как Пендрейк относился к рабству — был он против — аболиционист, так сказать — или наоборот, за рабство. Лавендеру он дал вольную — это, конечно, о чём-то говорит. Вот только не пойму, с чего он взял, что негры, освободившись, станут меньше трахаться. Ну, да ладно, я о другом. В книгах по истории сейчас пишут, что в штате Миссури в те времена проблема рабства, мол, стояла остро; что шла, мол, по сути дела, война: стычки, пальба с наступлением темноты, резня и всё такое — царство страха, короче говоря. Не скажу, что все это ложь. Но при всем при этом человек мог жить прямо посреди этого царства, в самой гуще — как я, к примеру — и слыхом не слыхивал про все эти ужасы. Так что, когда в следующий раз возьметесь книжку читать — вспомните, что я сказал. Я знавал людей, которые прерию вдоль и поперек изъездили как раз во время индейских войн — и ни одного враждебного дикаря не повстречали. Вот так оно в жизни бывает. А политикой я никогда не интересовался и никогда её не знал. Времена были такие: частенько то пристрелят кого-нибудь, то прирежут — что ж поделаешь? — а о политике и мысли не было. Да к тому же, сдается мне, Пендрейка так все уважали, что ему и нужды не было с политиками якшаться — ни с одними, ни с другими.
Пендрейк умолк и потянул с корзины клеенку. Люси уложила нам столько всякой снеди, что люди Старой Шкуры Типи не съели бы и за всю зиму. Там было два или три холодных цыпленка, громадный ломоть ветчины, с дюжину яиц вкрутую, две булки хлеба, шоколадный пирог, не говоря уже о всяких мелочах…
Мы все это время ничего не делали, просто сидели под повозкой, и я не слишком проголодался, к тому же мне было довольно противно в мокрой одежде — Шайены-то носят всё кожаное, а с кожаной одежды вода сбегает, как с твоей собственной шкуры.
А, может, меня просто разговоры Пендрейка довели — разговоры про то, о чём следовало бы молчать. Когда мне было лет десять, до того, как попал к индейцам, я, возможно, всё это уже знал, но потом забыл, что у белых соединение мужчины и женщины считается делом грязным. Вот им и приходится вмешивать сюда закон. Люси и Лавандер жили в одной комнате, но это противоречило законам Божьим и человеческим, покуда Пендрейк не пробубнил у них над головой несколько слов, после чего все стало о'кей.
Однако, сэр, наблюдать, как Его Преподобие поглощает свой обед — это было настоящее наслаждение! Лично я съел крылышко цыплёнка, одно яйцо, кусок хлеба и кусок пирога, после чего испытал неприятную тяжесть в животе, словно переел. Все остальные припасы очень быстро оказались в бездонном чреве Пендрейка. Через пятнадцать минут от всего содержимого корзины осталась только кучка обглоданных костей и яичной скорлупы. Потом он отряхнул и разгладил свою бороду, хотя я ни разу за все время не видел, чтобы хоть крошка упала в его буйную растительность. Я подозревал, что он ест так аккуратно по той простой причине, что не хочет потерять ни грамма из того, что ему причитается. Потом он поковырялся в зубах и, наконец, чтобы ополоснуть глотку, влил в себя полгаллона воды из кувшина, что тоже припасла Люси.
— Наш с тобой разговор, мой мальчик, принёс мне чувство глубокого удовлетворения, — заговорил он опять. — Я верю и надеюсь, что ты сумеешь извлечь из него пользу для себя. У нас до сих пор не было возможности познакомиться с тобой поближе, ибо будучи тебе отцом земным, я, однако, совершенно поглощён служением Отцу моему небесному. Но Он и твой отец небесный, и, служа Ему, я в то же время служу тебе, сын мой, и надеюсь, что делаю это подобающим образом. Всё это почти не оставляет мне времени для физических радостей, вроде тех, коим мы предаёмся с тобой сегодня, хотя я убежден, что скромные развлечения отнюдь не грех.
Я ещё не говорил, что по воскресеньям мне приходилось сидеть в церкви и слушать его болтовню. Утешало только одно: рядом была миссис Пендрейк, всегда одетая как королева. Да-а, здорово это было: сидеть рядом с самой прекрасной женщиной города, наблюдать, как мужчины, включая дряхлых стариков, бросают на неё огненные взгляды, а жёны их тихо бесятся!.. Но проповеди — Боже мой! Понимаете, Пендрейку не хватало темперамента. Религия не возносила его ввысь, как моего папашу, а, скорее, наоборот — загоняла его в какой-то тесный сосуд. Может, так оно безопасней: в конце концов, смерти от рук дикарей он избежал; но мне кажется, лучше, Шайен, дать своей душе воспарить на воле, чем держать её взаперти…
В общем, он постоянно говорил про «грех», и, сидя с ним под повозкой на берегу реки, я призадумался — а что, собственно, он называет этим словом? Если помните, папаша мой считал грехом сквернословие, жевание табака, а ещё — когда плюются и ходят немытыми. Я подозревал, что у Пендрейка на этот счёт иное представление…
В общем, рыбы не было и не намечалось, обед мы съели. Хоть Его Преподобие и сказал насчёт «глубокого удовлетворения», мне казалось, что чего-то ему, Шайен, не хватает. Наверное, человек, который всю жизнь произносит речи, рано или поздно начинает задумываться — а слышит ли его кто-нибудь?
Короче говоря, чтобы угодить ему (так же, как и миссис Пендрейк, когда я назвал её «мама»), я спросил его про грех. Он ведь был совсем неплохой парень, и лицо мне вытер… А я ведь как индеец: если ко мне по-доброму, то и я стараюсь платить добром.
Так вот, пендрейково определение греха оказалось пошире, чем папашино, а список конкретных грехов — подлиннее. Вообще-то, ничего удивительного: папаша-то в этом деле был всего лишь любитель, он и читать-то не умел. А Пендрейк, кстати, признался, что перечень грехов не сам составил, а взял у библейского апостола Павла.
— Грех, сын мой, весьма и весьма многолик: это и прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и прочее…
Забавно, вообще-то: в решающие годы детства моим воспитанием занимался мой второй отец, Старая Шкура Типи. А теперь возьмите этот самый список, вычеркните зависть (он ведь никому особо не завидовал, потому как считал, что у него и так есть все, что нужно человеку) — и у вас получится его точная характеристика. И при всем при этом он пользовался у Шайенов уважением, о котором можно только мечтать.
Что касается меня, то я тогда знал за собой всего-то парочку грехов — не больше; хотя, конечно, у меня все было ещё впереди.
Однако тот день я дожил до конца в чистоте и непорочности, а потом протянул в том же духе ещё несколько недель. Вот до чего довела цивилизованная жизнь: стоило один раз промокнуть, и я подцепил пневмонию.
Глава 10. СКВОЗЬ СУМРАК
Мне и впрямь было худо, как не бывало с самого раннего детства. Видите ли, уж очень я не люблю болеть. Уж лучше пусть меня ранят, но болеть — болеть я ненавижу. Хотя раненым быть, конечно, тоже ничего хорошего, но если суждено страдать за грехи — я Шайен предпочёл бы хорошую рану: лежишь и наблюдаешь, как она постепенно затягивается.
Я не случайно сказал «страдать за грехи». В свои шестнадцать лет я и так был парень довольно испорченный, а тут ещё Преподобный со своими преподобными разговорами — они такой произвели эффект, что ночью после рыбалки мне приснились сны, в которых я вытворял всё мыслимое и немыслимое, чтобы «священный сосуд, каковым Господь создал женщину, превратить в ведро с нечистотами» — так он, кажется, выражался.
Небось, это я у него подцепил дурные мысли, точно так же, как пневмонию подхватил на рыбалке. Ибо это была именно пневмония, хотя поначалу смахивало на обычную простуду, и наутро я встал, как обычно, и все было, вроде бы, в порядке, но за завтраком я почувствовал себя неважно, а когда Пендрейк принялся поедать свою обычную гору яиц, мне и вовсе сделалось дурно, хотя ел он как всегда аккуратно; и тогда миссис Пендрейк кладет свою прохладную руку мне на лоб, а он просто пылает, хотя самого меня морозит…
Ну, тут меня, конечно, уложили в постель; потом пришёл доктор — старик в седых бакенбардах. Бакенбарды бакенбардами, но до Леворукого Волка ему было, конечно, далеко — это я вам точно говорю.
Провалялся я недели три. Был момент, когда все решили, что я умираю, и Его Преподобие приходил и молился у моей постели. Это я потом узнал. Лавендер рассказал. Он часто наведывался, когда я пошёл на поправку.
Помню, как он пришёл в первый раз… Я тогда спал целыми днями — с утра до вечера — и вот, помню, очнулся я от дремы, смотрю — стоит возле кровати кто-то чёрный… и пригрезилось мне тут, что я снова среди Шайенов… У него — у Лавендера-то — физиономия, конечно, совсем чёрная, но индейцы иногда тоже размалевывают себя в такой цвет… да это и не важно; главное, что не белый он был.
Я что-то сказал ему по-шайенски, а он глаза выпучила.
— Что, что? — говорит, и тут я понял, кто он такой, и ужасно смутился… — Ничего-ничего, — говорит он. — Ты, эта… лежи себе спокойно. Старик Лавендер — он тебе не помешает, он эта… просто так зашёл — посмотреть, как ты поживаешь.
Вот так он всегда говорил о себе — в третьем лице, словно про кого-то другого. Похоже, боялся, что собеседник обидится, если услышит от него «я», или «мне»…
— Мне показалось, что ты индеец, — говорю я ему.
Знаете, иногда человека одним словом можно расположить к себе, причём, обычно это получается ненароком. А когда и впрямь хочешь подпустить удачный комплимент — как правило, ничего не выходит. Я вовсе не хочу сказать, что до этого момента мы с Лавендером были враги — ничего подобного. Просто он в этом доме был слуга, а я — ребёнок, вот мы и не замечали друг друга, словно мебель. Сдается мне, он зашёл взглянуть на меня просто из любопытства…
— Понимаешь, дома никого нету, только Люси — вот Лавендеру и пришло в голову эта… проведать тебя. Люси, вообще-то, тоже не знает, что я здесь — а то подняла бы крик.
Я лежал на втором этаже и один занимал целую комнату, где стояла огромная кровать, такая пружинистая, что поначалу я уснуть не мог, потому как меня укачивало, словно на волнах.
— А ты что, никогда здесь не бывал, что ли?
— Почему, бывал, — отвечает Лавендер. — Мебель таскал, и эта… окна мыл, но просто так общаться никогда не поднимался. Так что, если узнают, что я здесь, ты уж, пожалуй, скажи, что сам меня позвал.
— Конечно, — говорю я ему. И тут — знаете, как бывает, когда болеешь — так вдруг жалко себя стало, я и говорю: — Кроме тебя, никому, наверное и дела нет, живой я тут или помер уже. Ни одна живая душа проведать не пришла.
— Да ты просто не помнишь, — говорит он. — Хозяйка тут все время с тобой сидит, и Пендрейк заходил — молитвы свои читал. Небось, если б не он, был бы ты уже покойничек. И положили бы тебя в гробик. И вырыли бы тебе уже могилку в сырой земле, опустили бы туда, землицей позабросали бы, а сверху холмик бы насыпали. И утрамбовали…
— Слушай, давай-ка оставим эти подробности, ладно? — говорю я ему — Раз уж все обошлось, скажи-ка лучше, как ты думаешь, меня и впрямь Бог спас потому, что Его попросил Преподобный?
Тут Лавендер состроил лукавую физиономию.
— Ну, уж явно не доктор! Он и Люси прогнал, когда она принесла тебе свой настой от всех болезней — из трав, кореньев и всякого такого. Знаешь, я однажды занемог не на шутку: что не съем — все будто в отраву превращается и в желудке не удерживается. Так Люси, эта, дала мне своего настою — и недели не прошло — как рукой сняло, снова кость мог сжевать и проглотить, как собака — и хоть бы что.
Тут я ему говорю:
— А чего ты стоишь? Присел бы, что ли.
— А я, эта, вовсе и не возражаю, — проговорил он и уселся на стул, поначалу как-то скованно и неловко, но потом постепенно освоился. — Слушай, а забавно вышло, эта, что ты меня за индейца-то принял. Я и не знал, что они чёрные, индейцы.
Тут только я сообразил, что на груди у меня, оказывается, горчичник, потому как в этот момент он начал пощипывать, и пока мы говорили, я усиленно скрёб себе грудь.
В общем, я ему говорю:
— Я видел Шайена черного, почти как ты — на Соломоновой речке это было. Они его называли Мохк-ста-випи, потому как они таким манером всех цветных, вроде тебя, называют.
— Это что же значит — Чёрный Человек, что ли?
— Нет, Чёрный Белый Человек.
Тут он громко рассмеялся, а потом вдруг умолк, с сокрушенным видом покачал головой, а потом говорит:
— Мне надо идти жечь листья, — и ушёл. Уж не знаю, обидел я его, или нет, но я сказал правду, а значит, и винить мне себя не в чем.
Однако на следующий день он снова явился — не запылился, как только миссис Пендрейк ушла по магазинам, а Его Преподобие засел в своём кабинете. Люси он на сей раз не боялся, потому как, набравшись храбрости, испросил у Пендрейка разрешения наведаться ко мне, каковое разрешение и было ему дадено.
Он осмелел настолько, что взял стул и уселся, не дожидаясь приглашения, против чего я лично возражений не имел, потому как вследствие моего особого воспитания у меня никогда не было никаких теорий насчёт того, что чёрномазому можно позволить, а чего нельзя, хотя множество белых в Миссури постоянно ломали голову над этой проблемой.
Видите ли какое дело, оказалось что Лавендер просто влюблен в индейцев. Помните, я говорил, что миссис Пендрейк в первый день все слушала мои воспоминания, ловила каждое слово. Только это было в первый и в последний раз, и больше мы с ней к этой теме не возвращались. А в первый раз она — с её манерами — просто не могла поступить иным макаром. А остальные, с кем доводилось сталкиваться, — они, я так полагаю, скорее сквозь землю провалились бы, чем заговорили со мной про индейцев.
А Лавендер — наоборот, ему все было мало. Ей-Богу, если не знать, что он неграмотный, можно было подумать, что он книгу пишет про краснокожих…
В общем, слушал он, слушал, а потом говорит:
— Помнишь, ты вчера сказал про черного индейца? Я эта, все думаю про него… Сдаётся мне, это мог быть мой родич…
Головастый парень был этот Лавендер. Ни читать, ни писать не умел, в школу ни разу в жизни не заглядывал, но при этом знал просто массу разных интересных вещей. Вот и теперь он заговорил про какого-то капитана Льюиса и какого-то капитана Кларка, и я этих имен ни разу в жизни не слыхал, потому как в школе мы их ещё не проходили.
— Так вот, — говорит он, — белые, значит, шли и шли вверх по реке, покуда не добрались до такого места, где она — река-то — была таким худосочным ручейком, что вполне можно было одной ногой стать на левый берег, а другой — на правый, и смотреть, как она бежит у тебя между ног. А потом они прошли ещё немного и нашли малюсенькую дырочку, из которой она — река-то сочится, и могли запросто заткнуть её пальцем, и тогда — тогда все, пиши пропало, не было бы у нас реки Миссури, а была бы просто грязная лужа в две тыщи миль длиной, а летом бы и она пересохла, и грязь трескалась бы на солнце…
Я тогда ему не поверил, но потом узнал, что это правда в смысле, что были такие Льюис и Кларк; насчёт того, чтобы одним пальцем заткнуть Миссури — это уж другой разговор.
— Так вот, капитан Кларк и капитан Льюис — они взяли с собой негра по имени Йорк. А индейцы цветных-то никогда раньше не видели, и решили они, что он просто раскрасился в чёрный цвет, и стали плевать на руки да тереть его — хотели, значит, краску с него стереть, но ничего у них не получилось, и тогда созвали они краснокожих со всей округи, и те пришли и тоже стали тереть Йорка руками — да только все без толку.
Вообще, этот самый Йорк — он индейцам больше всего понравился. Да к тому же парень он был весёлый, и представляешь, что он выкинул? — стал он им заливать, что родился мол диким зверем, а потом капитан Кларк поймал его в силки, приручил, и сделал, значит, человеком. Тут он рычал и скалил зубы, и индейцы бросились наутёк. Но, вообще, они его полюбили, Йорка-то, подарили ему подарки, женщин своих подсовывали — чтобы, значит, чёрных детишек нарожали…
Тут он выпучил глаза и говорит:
— Так вот, сдается мне, что ежели теперь отправиться туда, наверняка наткнешься на кого-нибудь из его отпрысков, и, похоже, с тобой так оно и случилось. Этот самый Йорк моему деду двоюродным братом доводился. Самый замечательный человек в нашем роду был.
— Может ты и прав, — говорю я ему.
— Чем больше я об этом думаю, тем сильней мне кажется, что так оно и есть.
Тут он нагибается ко мне, к самому моему лицу, и многозначительно шепчет:
— Если хочешь знать, я собираюсь туда податься. Один… Если расскажешь об этом Люси — мне крышка.
— Так ты не берешь её с собой?
— В том-то все и дело, — шепчет он, испуганно косясь на двери. — А иначе зачем уходить? Знаешь, что такое женщина? Только попадись к ней в лапы — и будешь жалеть об этом каждый Божий день всю жизнь, до самой смерти, Понимаешь, Его Преподобие, эта, выкупил меня у хозяина и дал мне вольную — все как положено по закону. Помню он любил говорить: «Ни один человек не имеет права владеть другим человеком, как вещью». А сам женит меня на Люси — как будто женщине, значит, разрешается владеть человеком. Знаешь, я на это дело так смотрю: право — это штука хорошая, конечно, но оно, эта, палка о двух концах; в одном я выиграл, в другом проиграл — при своих, значит, остался — и покуда не попал в минуса, надо мне выходить из игры да отправляться туда, где ни закона, ни права вообще никакого нету, и люди без них живут себе в полной дикости, так сказать.
Тут я ни с того, ни с сего говорю:
— Может, и я с тобой…
Вот такие дела. А ведь до этой самой минуты мне ни разу и в голову не приходило бежать от Пендрейков, потому как они меня любили и все такое. Однако я к тому моменту уже месяца два или около того прожил в цивилизации, а стоило миссис Пендрейк выйти за дверь — и я по-прежнему не видел в этой жизни никакого смысла. А теперь вот ещё заболел самым постыдным образом — промок под дождём, видите ли. Не положено человеку от этого болеть, потому как дождь — он явление природное. А раз заболел, значит что-то со мной не так. Неправильно живу, значит. Единственный раз за всё это время и почувствовал себя человеком — это когда того парнишку, Лукаса Инглиша, свалил и ножик выхватил, В общем кровь моя в жидкую водицу превращается. По причине отсутствия в моём рационе сырой бизоньей печенки — так я решил, короче, сплошная — как это? — деградация. То есть гидратация… Ежели что во мне и окрепло за эти месяцы, так это вожделения плоти, но Преподобный ведь сказал, что это грех.
— Погоди недельку, я поправлюсь, и тогда мы… — начал было я, но тут Лавендер нахмурился и говорит:
— И слушать не хочу. Ты и я — мы, эта, две большие разницы: я цветной, а ты — ребёнок. Ежели, к примеру, сбежит цветной — никому и дела нет, потому как он не раб. Но ежели он, к примеру, утащит за собой мальчонку, то ему несдобровать, потому как это не по закону.
— Кто кого утащит-то? — говорю я. — Слушай, дай только добраться до Форт-Ливенворта, а дальше — дальше я потащу тебя, а не ты меня!
Это его, похоже, уязвило, потому как он потупился, пробормотал что-то себе под нос, а потом говорит:
— Ну, ты как хочешь, а я ухожу сегодня ночью. Я бы подождал тебя, если б мог. Но я не могу.
— Ну, какая разница — днём раньше, днём позже?
— Каждый час даётся мне ценою эта, невыразимых страданий, — говорит он. — Противоестественно и чудовищно, когда мужчина оказывается во власти женщины.
Ну, это он явно у Пендрейка подслушал, и потому я решил его спросить, ежели с Люси у него так худо, отчего бы ему не посоветоваться с Его Преподобием.
— Слушай-ка, — говорит он, — против твоего папеньки я и слова плохого не скажу.
— Папеньки? Его Преподобие ведь мне папенька только по закону. А закон — ну, сам знаешь… Чудеса, да и только, — я ему говорю, — бумажку написал — вот тебе и новый родственничек готов.
На Лавендера явно произвело впечатление, что я тоже о законе не слишком высокого мнения, и, как и он, считаю себя его жертвой, хоть и пострадал в меньшей степени.
Он то ли скривился, то ли усмехнулся, и тихо так говорит:
— А обычным-то способом у него, эта, ничего не выйдет. Насчёт родственничков-то.
Тут я повернулся в постели, потому как от долгого лежания в одной позе у меня заломило в спине.
— То есть, как это? — спрашиваю я, хотя, в общем-то, понял его; а в новой позе мне стало ещё неудобнее.
Лавендер заморгал, откинулся на стуле и говорит:
— Знаешь что, я не хочу неприятностей на свою голову…
— Да ты ведь, вроде, собирался ночью бежать. Он вытаращил на меня глаза.
— Да, точно, — говорит он словно прозрел. — Правильно! — и вздыхает с облегчением. — Конечно. Совершенно верно.
— Там на столе бумага и карандаш — дай-ка мне, я нарисую тебе, как найти Шайенов. — И я рассказал ему множество полезных вещей про то, как себя вести с индейцами, и закончил так:
— Смотри же, в драку почем зря не лезь, но главное — что бы ни случилось, не ползай перед ними на брюхе, потому как хуже будет — Шайены этого не любят. У них недавно большая неприятность вышла с белыми и, может статься, они ещё не остыли и обижаются…
— На белых?
— На бледнолицых. А ты для них тоже бледнолицый, только черного цвета. Ничего не попишешь — такое уж у них мнение. А у них мнение — это всё равно как закон.
Я подложил под листок книгу и нарисовал ему карту. Читать Лавендер не умел, но опознать на рисунке реку и сообразить, как идти вдоль неё — это уж сам Бог велел.
— Если б ты меня подождал, я бы тебя языку жестов научил, а может, и шайенскому тоже, — сказал я.
— Нет, — говорит он. — Мне, эта, нельзя медлить. Но всё равно спасибо тебе.
— Постой-ка, — говорю я, потому как он встал и хотел было уйти. — Ты не договорил, что хотел, про Его Преподобие.
Тут Лавендер с заговорщицким видом подошёл к двери, выглянул в коридор, посмотрел налево, направо и, наконец, вернулся назад к моей постели.
— Он не спит с хозяйкой, — еле слышно проговорил он. — Наверное, потому что он проповедник. Хотя у других проповедников, у них ведь есть дети — значит, и ему, наверное, можно, эта…
— Постой, как не спит? Никогда, что ли? — спрашиваю я. — К примеру, индейцы тоже иногда, это самое, не спят — перед войной или, например, ежели сон плохой видели.
— Нет, — говорит Лавендер. — Совсем не спит. Никогда. Мне Люси сказала — она видела в яичном желтке. Она, эта, колдует, как ведьма. И всё видит. Потому-то я и ухожу. Стоит мне переспать с другой женщиной, она тут же знает всё. В яйце видит…
* * *
Той ночью Лавендер не сбежал. Утром пришёл как ни в чем не бывало, и даже не извинился, что ввёл меня в заблуждение. Какой там извинился, как бы не так — он тут же сделал вид, что имел в виду следующую ночь; а назавтра произошло то же самое, и через день — опять та же история… Лично меня просто бесит, когда БОЛТАЮТ и не ДЕЛАЮТ. Я, конечно, понимаю, что Лавендеру, наверно, просто надо было выговориться, излить кому-нибудь душу, так сказать, и ничего тут нет страшного, но Шайен мне бы хотелось, чтобы он сам в этом признался. Хотя с другой стороны, ежели человека до двадцати двух лет от роду держали рабом, то к нему, наверное, надо подходить с другими мерками, критериями, так сказать. Может, уже и то хорошо, что он вообще думает про свободу.
Да и вообще, кому-кому, а мне-то обижаться было нечего, что он остался, потому как мне в этом городишке, кроме как с ним, и поговорить было не с кем… Пока я ещё лежал, ко мне наведался тот парнишка, которого я свалил, Лукас Инглиш. Он, конечно, ненавидел меня лютой ненавистью и считал, что его не побили в честном бою, а просто провели — белые всегда так говорят, стоит индейцам поколотить их — но его папаша хотел подлизаться к Пендрейкам и послал его отнести кекс с глазурью, который испекла его мамаша. Лукас по пути где-то притормозил и слизал всю глазурь, но мне-то было всё равно, потому как у меня все ещё не было аппетита, да к тому же такое пушечное ядро, как этот самый кекс, я и в лучшие времена ни за что бы не съел.
Как только вышла за дверь миссис Пендрейк, которая провела его, он тут же начал говорить гадости. Ей-Богу, этот Лукас вместе с Его Преподобием мог бы выступать в цирке шапито — из них вышла бы шикарная пара комиков. Толстый и Тонкий. То есть, Грешник и Праведник. Спорили бы про женщин…
— Слушай, — говорит Лукас, обшаривая мою комнату своими подлыми глазенками — а у тебя тут вигвам что надо. Признайся, девок к себе таскаешь?
— А ты? — спрашиваю я его с издевкой.
— Ну, у меня не такие хоромы. У меня в комнате ещё трое братьев. Мои старики поработали на славу — нарожали полный дом детей, приткнуться негде. Ещё ведь четыре сёстры имеется… Старшей восемнадцать. Какой-то мужлан каждую ночь влазит к ней в постель и вытворяет с нею чёрт-те что. Папаша совсем голову потерял.
Я попался на его дурацкую уловку и задал дурацкий вопрос:
— Чего ж он его не пристрелит?
— Гы-гы, — гоготнул он. — Так это её муж! Тут он садится в ногах моей кровати.
— Слушай, а краснокожие скво — как они, а? Я слыхал, воняют сильно. Я слыхал, у них если хочешь бабу, бросаешь горошку через костёр, и возле какой бабы упадет, та и идёт с тобой, будь она хоть женой самого вождя. Лично я с краснокожей ни разу не пробовал. Которые мне попадались страшные были — жуть. По мне так уж лучше жирную овцу трахнуть, если ничего другого под рукой нету… А у меня и так все в порядке. Позавчера вот захожу к себе наверх, а там — наша чёрномазая, пол моет. Смотрю никого нету, все внизу, мать и сёстры — в кухне. Мне захотелось — жуть. Беру я её, прямо на пол — бац, и давай…
Никогда я не любил, эти гнусные байки слушать — кто кого трахнул. В лучшем случае от них тоска берёт, а в худшем — если просто треп — ничего скучнее на свете не бывает. А хмырь этот чем больше трепался, тем яснее мне становилось, что никого-то он за всю жизнь ни разу не трахнул, а только игрался своими блудливыми ручонками с самим собой до полного идиотизма.
Но всё равно испытал чувство ревности — когда вошла миссис Пендрейк и сразу же предложила нам молока, а я отказался и сделал вид, что устал, а этот тип согласился, и она повернулась к нему спиной и повела его в кухню, а это гадёныш давай разглядывать её с готовы до ног — и я испытал чувство ревности. Потому как даже такой сморчок — он всё равно мужского пола, и миссис Пендрейк это знала, А она — она сама того не желая, ни на минуту не давала тебе забыть, что она женщина, хотя ни слова, ни жеста — ничего для этого не делала, а наоборот холодна была с мужчинами, как лед, и смотрела на них сверху вниз словно они где-то в яме, в дерьме по пояс копошатся…
Лукаса долго не было, словно ему молока целое ведро выдали, потом пришёл — кепку забыл. По пути он облизывал свои толстые губы, и правильно делал, конечно, потому как под носом у него были молочные усы и вообще вся физиономия была в молоке. Мой нож лежал у меня под подушкой, и, помню, я в тот момент поклялся: пусть скажет хоть одно плохое слово но адресу миссис Пендрейк — и я выну его черное сердце из его подлой груди…
Но все обошлось.
— В общем, я скажу папаше, что ты уже оклемался от той трепки, — проговорил он, — Я на тебя не обижаюсь. Когда встанешь с постели, я познакомлю тебя с хорошей девкой в заведении у миссис Лиззи… — И ушёл.
Вот так. Я уже побывал взрослым воином, а теперь вот опять превратился в младенца — лежал лежнем целыми днями, и если никто не приходил поболтать со мной, то я просто лежал и глазел в потолок, а на нем приляпана была, или нарисована, голая женщина. Нет, не такая, как миссис Пендрейк, вы не подумайте. И не такая, как индейские женщины, на которых мне иногда случалось натыкаться, на голых, хотя вообще у Шайенов женщины скромные, а ежели бы я застукал Ничто голую, мы бы с ней оба сквозь землю провалились… Нет, на потолке была не такая, эта была нарисованная голая женщина, вроде той, что висела над стойкой бара в Эвансвиле в салуне — ещё в те времена, когда мой папаша читал там свои проповеди.
А забавно получается, я тогда не соображал, а теперь вот вспомнилось: бабу на картине одеялом прикрывали во время проповедей, Билл, помню, зубы скалил, а сестрёнки краснели, глядя на неё, а мне, помню, просто скучно было смотреть: толстый зад, толстые сиськи, толстые ляжки одну на другую закинула, чтобы, значит, хозяйство своё спрятать. Соски, помню, пунцовые были, на вишни похожие — вот почему я их и запомнил-то.
И вот теперь она была тут как тут, на потолке, прямо у меня перед глазами… Похоже, у них тут, в этом доме, все так — одна видимость и никакого толку, короче — липа: миссис Пендрейк — липовая мать, Преподобный — липовый пастырь, у Лавендера — липовая свобода, а теперь и у меня вот — женщина липовая. Лепная, то есть.
Наконец окреп я настолько, что стали меня даже на улицу выпускать погулять — укутав предварительно как следует, потому как зима была в разгаре и пока я лежал, пару раз случались даже снегопады. И вот однажды после обеда — во время которого Пендрейк, по-моему побил все свои рекорды и в одиночку одолел громадную индейку — миссис Пендрейк говорит мне:
— Мальчик мой, не хочешь ли пройтись со мной по городу? Мне кажется, тебе было бы полезно развлечься. Мы могли бы зайти в магазин купить что-нибудь из одежды, а потом выпить стакан содовой.
Ну, про покупки я долго говорить не буду. Миссис Пендрейк управилась с ними поразительно быстро для женщины, хотя накупила целую кучу всякой всячины и себе, и мне. Вообще, к одежде она, конечно, относилась, как её муж к еде: хватала жадно, но аккуратно. Но я, надо сказать, был ещё слабенький, да у меня в самые лучшие времена в магазинах всегда голова кругом шла. Она заметила, что мне не по себе, и говорит:
— А теперь пошли пить содовую.
В заведении, куда мы пришли, я раньше не бывал, оно как раз открылось пока я болел. Довольно шикарная, надо сказать, забегаловка была: мраморные столики, венские стульчики, везде медь блестит, стойка в баре из белого мрамора, а на ней какой-то сосуд вроде урны с прахом, серебром отделан, а сверху на нем купидон сидит, тоже серебряный, а сбоку две слоновьих головы торчат. Снизу у этой штуковины шесть или семь шишечек — это краники для сиропа. Ставишь стакан под такой краник, сиропу немного нацедишь, а потом суешь стакан слонику под хобот, ухо ему повернешь — и оттуда, из хобота, содовая шипит, брызжет.
Парень, который этим заведением заправлял, мне сразу пришёлся не по вкусу, потому как уж слишком высокого был о себе мнения, и росту тоже — под потолок, носил парчовый жилет и бумажный цветок в петлице. У него были чисто выбритые щёки и чёрные вьющиеся волосы. Пожалуй, кто-то счел бы его даже красивым. Сам он явно был просто уверен в своей неотразимости. Но лично меня раздражали его нагловатые ухватки — Шайен, его заведение посещали женщины с детьми.
Так вот этот красавец сам разливал в стаканы содовую, ставил стаканы на серебряный поднос, а маленький мальчишка-негритос, разряженный под арапа в тюрбан и шаровары, хватал поднос и семенил к столику. Я сунул ему монетку, которую дал мне Преподобный, но этот арапчонок и тени благодарности не показал, а только укусил её, монетку-то, чтобы проверить, не фальшивая ли, и сунул в туфлю с загнутым кверху носком. Вы спросите, зачем я это сделал, да просто затем, чтобы казаться взрослым и сделать вид, что это я привёл сюда миссис Пендрейк, а не наоборот, потому как мне было уже почти шестнадцать. Я хоть и уступал ей ростом, но за столом это было незаметно.
Она сразу поняла ситуацию, потому как вообще в отношениях мужчины и женщины видела все насквозь, и, не привлекая внимания, сунула мне доллар, чтобы я смог расплатиться, когда придет время.
Минуты две я был абсолютно счастлив и все было как во сне: мы с нею вдвоём, одни; она зовет меня «мальчик мой» и «дорогой», а на губе у неё розовая пенка от содовой с вишневым сиропом. И никогда в жизни я не видел ничего прекраснее, чем её лицо под меховой шапкой! Мы вдвоём — и никто нам не был нужен, и никого больше не существовало в этой кондитерской лавке, а, может, и на всем свете тоже…
И тут подходит этот чёртов хозяин заведения и скалит свои лошадиные зубы, что у него, наверно, сходит за улыбку, и говорит миссис Пендрейк:
— Может, парнишка съест пирожное?
Говорил он не так, как она — изысканно культивированно, и не безграмотно, как я, а просто как-то погано. А ещё — он был первым, кто не пасовал перед миссис Пендрейк, а смотрел на неё в упор, нагло прищуриваясь.
Она запнулась на секунду, а потом говорит мне:
— Знакомься, Джек. Это мистер Кейн.
Надо сказать, что я к тому моменту уже кое-что знал про хорошие манеры, и потому встал, чтобы не позорить её, но этот тип ничего не сказал, не протянул руки и вообще меня проигнорировал; он ушёл за мраморную стойку, снарядил там поднос с печеньем и карамелью и отправил их мне посредством арапчонка в шароварах.
— Как это мило, — сказала миссис Пендрейк, когда сладости были доставлены на наш столик. — Мальчик мой, надеюсь, ты не станешь возражать, если я пойду и заверну покупки, покуда ты занят всем этим? Мне необходимо купить ещё кое-что, но я не прощу себе, если ты переутомишься в первый же день после болезни.
Я так любил слушать её голос, что от меня порой ускользал смысл сказанного. Вот и теперь я не сразу сообразил, что она оставляет меня одного, и понял это только тогда, когда она тронув меня за плечо, направилась к двери. Ей пришлось самой открывать тяжёлую дверь, потому что этот самый управляющий как раз отвернулся и не смотрел в её сторону, хотя всего минуту назад, когда собирались уходить две костлявых уродины, в которых я узнал жену нашего церковного старосты и её великовозрастную сестру, пребывающую в девичестве, — он вскочил и, заискивающе раскланявшись, проводил их на улицу.
Ну, подумал я, если он рассчитывает получить за свои дурацкие пирожные весь мой доллар, то он ошибается. Я вообще не хотел никаких пирожных и меня немного задело, что миссис Пендрейк забыла указание доктора насчёт того, что мне не следует увлекаться сладостями. Почувствовав себя обиженным, я откинулся на стуле и уставился в потолок, и что бы вы думали я там увидел? Совершенно верно, — там была моя старая мучительница! Голая женщина, та самая, из салуна в Эваневиле. Й тут мне вспомнился Льюк Инглиш и то, что он сказал про девку в заведении миссис Лиззи. Он, конечно, всё наврал, но я знал, где находится эта самая Лиззи — на другом конце города, на втором этаже над салуном — и там точно были шлюхи, все время торчали в окнах, а иногда, увидев на улице мальчишку моего возраста, какая-нибудь из них кричала:
— Иди сюда, за доллар научу! — или что-нибудь ещё в таком же роде.
Вот возьму и отправлюсь туда с её долларом, и поделом ей будет, нечего было бросать меня одного — думал я про себя. Потом встал и пошёл к стойке, чтобы расплатиться, и тут только сообразил, что от доллара моего, глядишь, ничего не останется, потому как содовая у них тут идет по никелю (пятаку) за стакан, да ещё этот подонок, наверное, возьмет за пирожные, хоть я их и не ел, и ничего тут не поделаешь, хотя с другой стороны я испытал какое-то облегчение оттого, что теперь не придется идти к миссис Лиззи. В голове у меня и в душе в тот момент царила полная неразбериха.
Но подонка, однако, на месте не было; не знаю, куда он делся, но за себя оставил какого-то старого хрыча в усах подковой, который сказал, что за меня уже заплачено. Так что доллар мой остался при мне, хотя радости особой мне это не принесло, потому как выйдя на улицу, я почувствовал страшную слабость в коленках. Я взглянул налево, направо, надеясь увидеть миссис Пендрейк, чтобы мне Шайен не пришлось осуществить свою угрозу. Меньше всего на свете хотелось мне в эту минуту оказаться с девкой; но раз уж я поднялся и ушёл, не став дожидаться за столиком, я чувствовал, что просто должен это сделать.
И вдруг я увидел на мокром снегу следы её ботинок. Уж не знаю, чем они отличались от множества других, но я узнал их, как узнал бы все, к чему она прикасалась хоть пальцем. Я мог бы, потянув носом воздух, точно сказать, заходила ли она в эту комнату последние два-три дня. Пожалуй, единственное, что не притупилось у меня за время жизни в городе, это чутьё. Следы вели вниз по тротуару до угла, поворачивали налево, потом опять до угла и опять налево — я шёл по следу, притворяясь лоботрясом, слоняющимся без дела — и когда они второй раз повернули налево за угол и вывели на задворки торгового квартала, на улочку, где не было никаких магазинов, а стояли жилые дома — я понял, что она солгала.
Через полквартала от угла я увидел слева переулок, который вёл назад, к торговым рядам. Этим переулком недавно проехала повозка, запряжённая мулом, которой правил негр, лет ему около семидесяти. Нормальный индеец возраст мула бы тоже определил.
Короче говоря, в этот самый переулок и направились следы ботиночек миссис Пендрейк, и повели назад, в сторону торговой улицы. Потом свернули в какую-то калиточку, затем задним двориком какого-то магазина провели мимо уборной, уперлись в дверь и оборвались. Я помедлил у изгороди возле калитки, потому как тут показался тот самый негр на повозке, запряжённой громадным мулом и ему, негру, то есть, точно было под семьдесят. Они, негры-то, большие мастера заливать, как Лавендер, про то, как тайны узнают по яичному желтку и прочей дряни, но я так полагаю, что яйца тут вовсе ни при чем, а просто они вечно околачиваются на задворках да на кухне, спальни подметают да прихожие, а при такой жизни ничего не стоит нахвататься секретов, тайн да всякой грязи, даже если и сам того не хочешь. Этот негр спросил у меня, который час, и проехал мимо на своей скрипучей повозке; потом на другой стороне переулка появилась чёрная собака и стала рычать на меня. Правда, вскоре она умолкла…
На какое-то время в переулке стало пустынно и тихо, я воспользовался этим, юркнул в калитку и пошёл по следу миссис Пендрейк. До двери я добрался без проблем. Ну, а дальше что? Замочной скважины в ней не было, а хоть бы и была — всё равно за ней, наверное, тёмная прихожая. Я прижался к двери ухом, но не уловил ни звука, Допустим, я вломлюсь, а она там примеряет корсет… Мне от этой мысли плохо стало, но в то же время она меня не на шутку взволновала. Надобно вам напомнить, что мне тогда было пятнадцать лет, и я был не такой ископаемой развалиной, как сейчас. Это теперь я грязный старик, а в тот момент я был всего лишь гнусным мальчишкой, и надеюсь, вам не слишком противно все это слушать… Потому как, уж поверьте, никогда в жизни, ни до, ни после того — мне не доводилось пребывать в таком жалком состоянии…
Ну, вламываться я, конечно, не стал. Потому как сбоку от двери к стене дома пристроен был небольшой сарайчик, и как раз на крышу этого сарайчика выходило окно, закрытое ставнями. Человек моего роста запросто мог, распластавшись на этой крыше, осторожно заглянуть в окно сквозь щёлку в ставнях, благо в переулке всё ещё не было ни души.
При всей моей наблюдательности, мне до сих пор и в голову не приходило, что я нахожусь на заднем дворе того самого дома, где располагается та самая кондитерская лавка. Я понял это, когда две минуты спустя выбрался из этого дворика и, ничего больше не видя вокруг себя, пошатываясь поплелся домой…
Лежа на крыше дровяного сарайчика, я увидел сквозь щелку в ставнях владельца лавки и миссис Пендрейк. Они были одеты, но стояли крепко прижавшись друг к другу. И в тот самый момент, когда я заглянул в щёлку, он обнажил свои крупные зубы и, слегка отодвинув край высокого воротника её платья, впился в её белую шею. Я, разумеется, в ту же минуту ворвался бы туда и убил его, если бы не видел по лицу миссис Пендрейк, что она в полном восторге.
Глава 11. ЛИШЁННЫЙ НАДЕЖДЫ
Пока я был прикован к постели, пролетел День Благодарения, и я его даже не заметил. Так что Рождество было первым за пять с лишним лет праздником, который мне предстояло отметить среди бледнолицых. Всю осень я ждал и не мог дождаться этого Рождества, но оно, как и все в моей жизни, погибло для меня, не успев начаться.
Боль затуманила мой рассудок, и всю зиму я прожил словно в бреду; однако, слёзы сердца, наверное, оказались живительной влагой для ума, и в учебе я, как ни странно, очень преуспел. К тому моменту, когда я окончательно поправился, миссис Пендрейк уже напрочь позабыла про своё правило заниматься со мной после школы, и вместо этого все чаще и чаще отлучалась в город. Потому и я завел себе привычку после занятий околачиваться как можно дольше в школе, где у нас появилась новенькая молоденькая учительница вместо той уродины, старой девы, которая то ли умерла, то ли ушла на пенсию, то ли Бог знает куда делась. Вы только не подумайте, что я опять втрескался — нет, с этим я покончил навсегда. То есть, покончил, конечно, не с любовью или — как это? — «вожделением плоти», а покончил с той идиотской зависимостью, просто добровольным рабством, в которое я сам же себя и вверг по отношению к миссис Пендрейк. А причиной тому была неопределенность: я никак не мог решить, кем же она мне доводится — матерью или возлюбленной — покуда не заглянул в ту самую щелку в ставнях и не увидел, что ни на то, ни на другое мне рассчитывать не приходится.
В общем, домой после уроков я теперь не спешил, потому как дом этот стал мне ненавистен, да к тому же в компании нашей новой училки я испытывал мрачное удовлетворение оттого, что она меня ни капли не интересует и не привлекает — ничем, кроме знаний, которые могла вложить мне в голову, ибо она была умница, т. е. культивированная. А увидев, что я для её чар неуязвим, так сказать — что же она сделала? Как вы полагаете?
Девчонок моего возраста это тоже касается, они тут же стали приглашать меня на дни рождения и всякие вечера; а я приходил с нагловатой ухмылкой на лице, и отпускал ядовитые шуточки, не смущаясь даже присутствием родителей, которым меня представляли. Иногда очень даже рискованные шуточки отпускал, но ей-Богу, ну, хоть бы одна мамаша возмутилась — ничего подобного, они все были в полном восторге: ах, какой джентльмен!
Так прошла зима, и миссис Пендрейк, я так полагаю, продолжала наносить визиты на задворки кондитерского заведения, хотя я за нею больше не следил, потому как сердце мое этого не выдержало бы. Потому что, говорю вам, я её любил. А после того как увидел сцену за ставнями, я любил её ещё больше. Ненавидел, но любил — за то, что ненавижу. Я подражал этому дураку Кейну потому, что она любила его. И к шлюхам бегал потому, что любил её.
Я до сих пор её люблю, потому как, ежели вы хоть что-нибудь смыслите в этом деле, то должны знать, как тесно связана любовь с отчаянием — потому-то она и не проходит со временем, и не вырождается, как все остальное в этой цивилизированной жизни…
* * *
Пришла весна. Кажется, был апрель, потому что всю ночь накануне шёл дождь, но утро выдалось ясным и солнечным, и магнолия во дворе перед домом Пендрейков выпустила сразу все свои розовые чашки.
…Около двух часов дня в кондитерскую зашёл какой-то худосочный коротышка, выволок Кейна на улицу и избил его кнутом до полусмерти…
Нет, это был не я. Это был человек по имени Джон Уезерби, он держал платную конюшню. Росту он был от горшка два вершка, лысый, лет ему под сорок, и была у него дочь шестнадцати лет, с которой я был немного знаком. Так уж вышло, что и Кейн тоже её знал, причём, чисто плотски, так сказать, то есть, абсолютно платонически. Ну, и сделал он ей, как водится, ребёнкочка…
Кейн и не пытался защищаться, только лицо прикрывал руками — небось, зубы берег, не хотел, чтобы ему вывеску испортили — а потом куда-то удрал. Представляю себе его длиннополый сюртук — небось, в клочки был изодран. Меня-то там не было, но Лукас Инглиш все это видел, да, наверно, приврал немного. (Охотно допускаю, что Кейн был трус, но Шайен не верится, чтобы он ползал на коленях и рыдал как ребёнок). Вскоре Кейн женился на девчонке Уезерби, закрыл своё заведение и переехал в Сент-Луис. А ещё через месяц она вернулась назад одна, т. е. с животом, потому как муженек её бросил и смылся, благо Сент-Луис город большой.
— Этот Кейн, он и гадюку трахнул бы, если б ей кто-нибудь голову подержал, — рассуждал Лукас — Хотя раньше я этого не замечал, мне и в голову не приходило, а тебе? Интересно, чьих ещё жен, матерей, сестёр и дочерей он успел…
— Какая разница, — сказал я, чтобы сменить тему. Его-то мать и сёстры такие уродины — страшнее не придумаешь.
Мне не терпелось увидеть, какой эффект произведут все эти события на миссис Пендрейк, но никакого эффекта я не заметил, разве что она стала чаще бывать дома по вечерам. Она, как и всегда, была задумчиво-грустна, но, наверное, не из-за постигшего её разочарования, а скорее от общей неудовлетворенности жизнью. Небось, всё это было немного не то, что посулил ей её папаша-судья. И ничего удивительного: кому-кому, а судье-то не впервой мозги людям пудрить. А может, она слишком много читала. Будь она косой да кривой — была бы, наверное, счастливее…
Но я-то, я… Надо же быть таким дураком — тут же забыл и простил ей все, что было, снова вообразил себе Бог знает что, опять взялся читать стихи мистера Поупа и т. д. и т. п. Даже к миссис Лиззи бросил ходить. Когда потеплело, про меня вдруг вспомнил Преподобный, словно всю зиму я просто отсутствовал; и, значит, высказался он в том плане, что надо бы, мол, нам ещё раз съездить на рыбалку. Несколько раз он заводил этот разговор, но мне всё же удалось избежать этого наказания, ибо я каждый раз мычал в ответ что-то невнятное, и в конце концов эта идея выветрилась у него из головы. Таким образом, всё было прекрасно и стоял месяц май. С тех пор на всю жизнь май так и остался для меня особым месяцем, хотя другого такого мая, как тот, у меня больше не было.
Как-то раз вечером в самом начале июня, вместо того чтобы сидеть дома и читать, мы с миссис Пендрейк отправились в город, в торговый квартал. Она держала меня под руку, и вед у нас был просто шикарный. Она решила, что мне требуется новая пара обуви. У меня уже было четыре или пять пар, но она сказала, что этот новый сапожник, родом из Флоренции, что в Италии, просто чудодей по своей части, и просто стыдно не заиметь произведение его золотых рук, коль скоро имеется такая возможность.
Вот мы и отправились в магазин, которым владел субъект с дряблым лицом по фамилии Кушинг, который при нашем появлении бросился навстречу и стал чуть ли не пыль целовать под ногами у миссис Пендрешс. Итальянский мастер-чудодей сидел на своей скамье в дальнем конце магазина это был смуглый жилистый парень лет двадцати пяти, в кожаной куртке без рукавов. Руки у него были волосатые, как медвежьи лапы, и грудь наверное, тоже, потому как из-под расстегнутого ворота его куртки выбивались жесткие чёрные завитушки.
Тут Кушинг исчез на минутку и вернулся с парой великолепных юфтевых шлепанцев, которые миссис Пендрейк, оказывается, заказала некоторое время назад. Маленькие красные шлепанцы были просто прелесть, игрушки да и только, потому как ножка у неё была крошечная. Кушинг, глядя на неё, просто слюной исходил: в те времена женская ножка — это был предел мечтаний, о ней и думать спокойно было невозможно.
— Тончайшая работа, я сам все проверял, — сказал он. — Дамские изделия не всегда можно доверить италианцу. Обратите внимание на этот шов, мадам!
— Не будете ли так любезны, мистер Кушинг, отнести их ко мне домой?
— Ах! — говорит он, тыча пальцем в золотой зуб, которым чрезвычайно гордился. — Конечно, мадам, я немедленно пошлю италианца!
— О, нет, нет, ни в коем случае, мистер Кушинг! Анжело потребуется мне, чтобы снять мерку с этого молодого джентльмена, которому я хочу заказать пару ботинок.
Не иначе как бедняге Анжело придется не сладко, когда старый хрыч отнесёт шлепанцы и вернется; мне было жаль парня, он мне сразу понравился хотя бы уже за то, что был в этом городе ещё большим чужаком, чем я. Он ведь «италианец».
Он встал со своего рабочего места, подошёл и принялся снимать мерку с моей ноги.
В этот момент, заглянув в лицо миссис, я обнаружил там знакомое выражение — то самое, с каким она встретила Кейна в тот день, в кондитерской лавке.
Разница была в том, что Анжело сидел не поднимая головы, покрытой тугими чёрными кудрями, а если и смотрел на миссис Пендрейк, то учтиво улыбался с невинным и непроницаемым видом. Говорят, итальянцы народ горячий, но этот, похоже, был даже не теплый. К, тому же, и по-английски почти не говорил. Кажется, всего-то два слова и знал — «леди» и «йес», которые произносил на свой — как это… специфический манер.
— Анжело, эти домашние туфли — просто чудо! Они так сидят, словно ты, когда шил их, все время держал мою ногу в своих руках, — говорит она.
А он отвечает:
— Йеийс, ледди.
— Но, понимаешь ли… — говорит она.
Тут он вскидывает глаза из-под густых бровей:
— Ледди?
— Мне кажется, что голубые были бы ещё лучше. Не кажется ли тебе, что голубое мне больше к лицу?
— Йейс? — говорит он, а сам знай себе работает — обрисовывает мою подошву, а вскоре и закончил, потому как руки у него на удивление ловкие были.
Не знаю, понял ли он хоть слово из того, что она сказала, но её это не волновало, потому что она всё говорила и говорила без остановки, а он все кивал и кивал, и улыбался с непроницаемым, видом, а потом слегка поклонился и пошёл назад на своё место. Уселся, взял кусок кожи и сходу выкроил подошву, в одно мгновение все сделал, вы бы и глазом моргнуть не успели.
Я никогда не держал зла на этого Анжело. Трудно ненавидеть человека, которого ты видел один единственный раз, причём, он при этом проявлял больше интереса к твоей подошве, чем к миссис Пендрейк. Да и вообще устал я от всего этого…
Короче говоря, следующей ночью часов около трёх я встал, зажёг лампу, открутил фитиль как можно меньше, оделся, выбирая из своего гардероба что покрепче да понадёжней. Потом собрал все свои деньги — всего у меня доллара три-четыре скопилось за это время — сунул за пояс свой нож, тихонько спустился по лестнице и ушёл из этого дома навсегда.
Хотя нет, не совсем так — прежде чем уйти, я черкнул небольшое письмецо, потому как они все меня по-своему очень любили, и приколол на видном месте:
«Дорогие преп. и миссис Пендрейк. Я ухожу, но вовсе не из-за вас, вы тут ни при чем. Вы всегда были добры ко мне, но вся штука в том, что мне не стать цивилизированным человеком, как вы. У меня не получается жить по-вашему, хоть я и знаю, что надо жить именно так. Пожалуйста не ищите меня. И не волнуйтесь. Вам не придётся за меня краснеть, потому как я никогда никому не скажу, что я ваш «сын». Передайте привет Люси и Лавендеру, которым я очень благодарен за все хорошее.
Ваш, поверьте, любящий Джек».Ну, теперь вы, наверное понимаете, почему я не захотел называть вам ни город, где всё это случилось, ни церковь, к которой принадлежал Преподобный. Да, если уж на то пошло, и имя «Пендрейк» не настоящее — тех людей звали совсем иначе.
Частично это объясняется обещанием, которое я дал в этой записке, но главная причина заключается в том, что каких бы дел я ни натворил за свою жизнь, включая и довольно-таки тёмные делишки, я никогда не опускался до того, чтобы публично говорить гадости о леди, не позаботившись хотя бы скрыть её имя.
Ежели кто на это способен — таких надо просто стрелять.
Глава 12. ЗА ЗОЛОТОМ
Уходя от Пендрейков я рассчитывал, конечно, податься назад к Шайенам. Видит Бог, я достаточно думал об этом и не уставал твердить сам себе, что я индеец, точно так же как живя среди индейцев, на каждом шагу убеждался, что я до мозга кости белый человек.
Я собирался переправиться на западный берег Миссисипи и топать дальше тропой переселенцев, но выйдя одним прекрасным утром к реке, я вдруг потерял всякий интерес к этой затее. Я просто представить себе не мог, как это я опять завернусь в бизонью шкуру в типи Старой Шкуры. Я не мог больше оставаться у Пендрейков, но превратиться снова в дикаря после десяти месяцев городской жизни — тоже не мог. Уж вы мне поверьте, не так-то это просто — вернуться к дикарской жизни, ежели ты уже отведал другой. Ежели, к примеру, уже попробовал, каково оно — регулярный надежный прокорм, и после этого — снова в прерию, где никаких гарантий…
Отчасти поэтому я и передумал. Ума не хватило понять, что у Пендрейков я ел каждый день потому, что меня кормили, и самому добывать свой хлеб мне не приходилось. А кроме того было ещё одно соображение; в нашем городке только и разговоров было, что про Сент-Луис, и я подумал, что раз уж я здесь рядом, в том же штате, то сам Бог велел мне повидать этот великий город. На Запад я всегда успею, а ознакомиться с местными достопримечательностями, раз уж я здесь оказался — такой возможности упускать нельзя.
Вот так и вышло, что я повернул на восток и пошёл в Сент-Луис. Да-да, именно пошёл, пешком — чтобы сэкономить деньги. Но всё равно от них почти ничего не осталось к тому моменту, когда я добрался до цели, а что осталось, то ушло на мой первый в этом городе обед, за который с меня взяли пятьдесят центов, потому как цены в Сент-Луисе просто возмутительно высокие.
Не стану вдаваться в подробности, как мне удалось там выжить, скажу только, что еле выжил. Я продал одежду, чистил сортиры, просил милостыню, воровал… За один месяц из франтоватого сынка миссис Пендрейк я превратился чёрт знает во что, в какого-то оборванца, ночующего на задворках конюшен.
И не спрашивайте меня про театры, великолепные магазины, огромные рестораны Сент-Луиса, шикарные катера, что бороздили воды Миссисипи, ибо мне довелось узнать их только снаружи, так сказать, пока я, жалкий и голодный, стоял с протянутой рукой где-нибудь неподалёку, клянча жалкие гроши, покуда полицейский констебль не сгонит с места.
Но через Сент-Луис проходил оживленный торговый путь на Запад, и как-то раз мне наконец улыбнулась удача: удалось наняться проводником обоза, направляющегося в Санта-Фе — несколько фургонов, гружёных всякой всячиной и запряжённых мулами. Пришлось немного приврать, конечно, но несколько фраз на беглом шайенском прозвучали очень убедительно. В Санта-Фе мне бывать не доводилось, но за многие годы тракт неплохо укатали переселенцы, и я решил, что не заблужусь. Да к тому же эти парни — хозяева обоза — болваны были несусветные и готовы были принять на веру любой бред. Они ни разу в жизни не забирались западнее Сент-Джо, однако в эту экспедицию вложили все свои деньги до цента — разбогатеть решили одним ударом за счёт «этих тупых черножопых». Звали их братья Уилкерсоны.
Ну, план их не совсем удался, потому как на нас напали Команчи, убили обоих Уилкерсонов и всех погонщиков, растащили товар, а фургоны сожгли. Трагедия случилась недалеко от реки Симаррон, когда мы уже миль пятьдесят отъехали от Арканзаса по выжженной равнине.
Ну, как вы можете заметить, меня-то самого не убили. Да, меня даже не ранили. Просто я знал, как себя вести, и когда всех остальных уже уложили, решил, что нет никакого смысла отбиваться от полусотни дикарей, имея в руках один старинный мушкет, что заряжался со ствола…
Да-а, как сейчас помню — стою это я за баррикадой из мешков и тюков с товарами, а Команчи визжат и улюлюкают, и всё теснее сжимают кольцо, а этот мой мушкет — из него пальнешь раз, а потом двадцать минут заряжаешь: если врагов больше чем трое, то они тебя кулаками забьют, пока будешь шомпол искать. В общем, оружие хоть куда.
Так вот, делать было нечего, и пришлось мне воспользоваться другим оружием — тем, что, слава Богу, было у меня на плечах. Я снова вспомнил ту бесценную притчу про Маленького Человека!
Укрывшись за баррикадой, я стянул с себя рубаху, скрутил из неё шар размером с мою голову, и нахлобучил на неё свою фетровую шляпу, и поля натянул пониже — в этих местах на ярком солнце так и носят. Ещё у меня был с собой сюртук. Я застегнул его на все пуговицы и натянул на голову, как мешок. Рукава болтались пустые, ворот был у меня над головой, которую я втянул в плечи, как черепаха. Одну руку я прижал к себе, а вторую кое-как просунул сквозь ворот наверх и держал ею свою самодельную голову в шляпе.
В таком вот маскараде встал я во весь рост, а росту во мне теперь было футов шесть с половиной, и, глядя одним глазом сквозь щёлку между двумя верхними пуговицами сюртука, двинулся вперёд, навстречу Людам-Змеям, что неслись на меня галопом, Я рассчитывал, что они знают легенду о Маленьком Человеке — Великом Шайене, и больше мне рассчитывать было не на что. Уж будьте уверены, пока они присмотрелись что это там идет на них, они всё время стреляли в меня и одна стрела даже пробила мой пустой рукав.
Но потом они притормозили, перешли на легкую рысь, потом на шаг, все ещё сжимая кольцо вокруг меня, но озадаченные не на шутку. Ну-ну, думаю я про себя, вот теперь самое время. Я собрался сбросить с плеч мою «голову». В этот момент я проходил мимо одного из Уилкерсонов, он лежал, устремив невидящий взгляд в небо, а в груди у него торчали две стрелы. Вот тут я и отстрелил свою фальшивую голову со своих фальшивых плеч, она упала и покатилась, но из шляпы не выскочила, потому что я насадил её как следует.
Команчи остановились и застыли как вкопаные. Помню я тогда подумал: «Ага, клюнули, сукины дети, попались, значит, да? Жаль, я забыл боевую песнь Маленького Человека, а то запел бы».
Но никуда они не попались. Один из воинов вдруг выехал вперёд, подцепил мою голову-рубашку своим коротким копьем, посмотрел на неё внимательно и выкинул прочь. А потом они взяли меня в плен…
Что ж, я бы не сказал, что это был полный провал. Если бы не мой трюк, они бы меня убили. А я получил ценный урок: не пытайся водить за нос индейца, который уже общался с бледнолицыми. Команчи ведь уже лет сорок творили набеги на тот тракт…
Они меня не обижали; наверно, хотели обменять на ружья, порох или ещё что-нибудь. Но так уже вышло, что, будучи приставлен пасти их лошадей, я однажды ночью спёр одну и смылся. Но она — лошадь-то — долго не протянула, пала, потому что скачка была бешеная. Дальше я шёл пешком, и пока добрался до Хаоса, городка в горах к северу от Санта-Фе, как раз кончилось лето.
Я к тому моменту уже давным давно не видел никакого жилья и потому страшно обрадовался убогим хижинам индейцев-пуэбло, хотя вообще-то эту породу краснокожих я не очень-то любил. Они с незапамятных времен пахали землю и жили оседло, сбившись в кучу, словно летучие мыши. У их ног лежала огромная страна, а они уткнулись в свой жалкий клочок земли, на котором выращивали бобы. Команчи время от времени нападали на них, а также Навахи и Апачи. Ручной индеец дикому не товарищ…
А неподалёку от поселка пуэбло стоял и белый городишко, туда я и направился. После перехода по пустыне да и по горам вид у меня, конечно, был — не дай Бог. Бывало нагнусь над лужей, воды напиться — зажмуриваюсь, чтобы не видать своей рожи.
Потому-то я не могу осуждать одного знаменитого человека за то, как он повел себя, когда я постучал в его дверь. Я, помню, увидел его глинобитный дом с внутренним двориком, как водится в тех местах, и, помню, подумал, что здесь мне, может быть, что-нибудь подадут. Поднимаюсь на веранду, а дверь в комнату как раз открыта, потому как жара стояла ужасная; заглянул я в прохладную полутёмную комнату и кричу:
— Эй, есть кто дома?
Тут из полумрака выходит субъект, росту примерно моего — коротышка, то есть — с рыжими усами и кривоногий до ужаса; выходит он, значит, и говорит:
— Пошёл вон отсюда, дрянь лохматая!
Ну, я и пошёл, потому как вид у него был серьёзный. А потом один мексиканец, у которого я выклянчил пару лепешек, сказал мне, что это был «сеньор Кит Карсон»…
Через пару дней я добрался до Сайта-Фе. Город лежал в долине, зажатый со всех сторон горами, то и дело попадались мексиканки в ярких юбках и с голыми плечами, индейцы пуэбло, что торговали каким-то хламом; встретилось два-три юта в красных одеялах — расхаживали задрав нос; были ещё испанские ковбои-вакеро в тесных штанах с разрезами у лодыжек; ну, а кроме того, всякая обычная публика, какую встретишь где угодно. По тем временам город был довольно большой для тех мест, но с первого взгляда вы бы его не оценили. Почти все дома были глинобитные, из высушенной грязи, короче говоря, и потому казались какими-то аляповатыми, словно детишки их слепили из глины. Даже дворец губернатора, что стоял на площади, был той же постройки. Ежели, к примеру, вам по душе Сент-Луис, то Санта-Фе вам явно не подошёл бы, потому как один хороший дождь мог превратить его в большую грязную лужу.
Но меня этот город устраивал, мои дела пошли тут значительно лучше, чем в Сент-Луисе. Не скажу, что я разбогател — нет, я и не пытался. Я сошёлся с одной толстой мексиканкой, что торговала на улице всякой мексиканской снедью — чили-кон-корне, тамалес и т. д. — от которой внутри все горит; тут же на улице её и готовила на углях. Уж больно я был худой, она меня и пожалела — так все это и началось. Ну, а потом, чуть позже, я уже перебрался в её глинобитный дом, где кроме нас с нею было ещё человек пять-шесть детей, а мужа не было — он то ли сбежал, то ли погиб, она — точно не знала. Иногда ей казалось, что сбежал, и тогда она грозила мне, что вот он вернется и зарежет меня; а иногда она думала, что он погиб — и тогда начинала тащить меня к священнику, чтобы он нас поженил.
Эстреллита всё время распекала меня на чем свет стоит, а иногда до того распалялась, что грозила меня зарезать, но я со временем понял, что это в ней просто мексиканский темперамент кипит, и её совсем не трудно вернуть в доброе расположение духа, надо только сказать ей что-нибудь эдакое милое, например: «Ах ты, мой маленький чили-перчик», или ещё что-нибудь в том же роде. Кстати, о перце — я испоганил себе желудок на многие годы огненной испанской жратвой, и на языке заимел за эти месяцы больше мозолей, чем на руках. Потому как я ничего не делал. Целыми днями валялся где-нибудь в тени, а ближе к вечеру, когда жара спадала и каждое движение уже не причиняло мучительных страданий, я, бывало, собирался с силами и тащился в кабак, где сидел и опрокидывал стакан за стаканом вино, расплачиваясь деньгами, которые давала мне Эстреллита.
Мне было всего шестнадцать, и моральный облик у меня был никудышний. Я решил, что это у меня фамильное (вспомните моего братца Билла) и не терзался угрызениями совести. Вообще-то, если хочешь по-настоящему расслабиться, надо просто пасть на самое дно — и сразу почувствуешь себя счастливым человеком. Я вам точно говорю: моральные устои — источник всех проблем.
Короче говоря, я, наверное, скончался бы от цирроза печени — при своей тогдашней диете-то; спасло меня то, что как-то раз в кабаке наткнулся я на одного бывалого парня. Лет ему было под семьдесят, весь зарос седым волосом, дефект речи к тому ж — говорит, мол, Апачи его мальчишкой ещё поймали и пытали. А ещё сказал он, что обучился старательному делу и специалист, мол, высокого класса. Все звали его Чарли Бешеный, или Локо Карлос — смотря кто на каком наречии изъяснялся — ну и сами можете судить, какой репутацией он пользовался как старатель.
Я почему сошёлся с этим Чарли, даже выпивку ему покупал (на трудовые гроши Эстреллиты)? А потому, что я всю свою жизнь питаю слабость к людям, у которых э-э… позитивный взгляд на вещи. Может он, конечно, был и пьянчуга без гроша в кармане, но факт есть факт — именно он выдвинул великолепную идею. Дело в том, что, имея за плечами старательский стаж в пятьдесят лет, Чарли утверждал, что обнаружил крупнейшее месторождение золота во всём «организованном мире» (так он выражался, потому как он вообще любил пышные обороты речи). Но как раз в этот самый момент юты увели у него вьючных лошадей со всей поклажей и инструментами, и, гоняясь за ними, он заблудился в пустыне; от жары, жажды и голода на какое-то время потерял рассудок, до основания разбил ботинки и в конце концов босой пешком пришёл в Таос. Но невзирая на все эти «ужасающие злоключения», он точно помнил, где залегает золото: в Колорадо, в междуречье Арканзаса и Южного Платта.
Бывало, отхлебнув из своего стакана виски, он полоскал им свой беззубый рот, затем глотал, причём, во время этой процедуры его бакенбарды величественно топорщились, а затем говорил;
— Послушай-ка, сынок, если б я обладал твоими финансовыми возможностями, я бы уже давно снарядил экспедицию и перебазировался бы в северном направлении. И через полгода вернулся бы назад с состоянием, которое никакой алгебре не по силам сосчитать. — Вы уж простите, точнее передать его стиль я не могу, но вы должны иметь ввиду, что все «с» и «з» у него превращались в «ш» и «ж» по причине шрама на языке. Вместо «сынок» получалось «шынок» — так он меня и звал все время.
Если я не покупал ему ещё виски, он, опустошив свой стакан, подымался и шёл от стола к столу, ко всем приставал и так надоедал, что огромный мексиканец, владелец заведения, рано или поздно выкидывал его за дверь, и там, в придорожной канаве, он в конце концов и засыпал в милой компании свиней.
Лотом, в один прекрасный день, пришло известие, что на Черри Крик в Колорадо, как раз в тех местах, про которые говорил Чарли, нашли золото. Из пьянчуги он в одночасье превратился в героя. На какое-то время получил возможность угощать за чужой счёт, а также множество предложений возглавить экспедиции, которые немедленно стали снаряжаться по всей округе. Но как только подтвердилась правота Чарли, ему словно вожжа под хвост попала:
— Фунт песку вам всем в задний пистон, — отвечал он на самые заманчивые предложения. — Фунт пешку вам вшем в жадний пиштон. Вот шынок, он давал мне ошвежиться — его я и ожолочу!
В Колорадо мы добрались только поздней осенью 1858. Измучились ужасно, потому что в пути на нас напали Апачи, меня ранили стрелой в ногу, я упал, ушибся толовой и отключился. Когда пришёл в себя — наших коней и мулов не было, и братьев владельца кабака (они ехали с нами) тоже не было.
— Они что, сдались? — спросил я Чарли, который, похоже, не пострадал, сидел рядом и, засунув палец в рот, тер свои беззубые десны, устремив взгляд слезящихся глаз куда-то на горизонт.
— Э-эх, — сказал он. — Мне пришлось сдать их в руки Апачей. Не скажу, чтобы это доставило мне гигантское удовлетворение, но если бы я этого не сделал — мы с тобой никогда бы не добрались до золота.
Как и большинство краснокожих, живущих в приграничной полосе, Апачи питали необъяснимую неприязнь к мексиканцам. И для того, чтобы в спокойной обстановке, не спеша, каким-нибудь изощренным способом убить троих братьев-мексиканцев, они отпустили с Богом меня и Чарли. Конечно, он был гнусный подлец и предатель — вы, наверное, согласитесь. Возможно, я должен был сказать ему спасибо за то, что он сделал, но после того случая я стал плохо спать ночами, потому как теперь, в случае чего, «сдать» кроме меня, было некого. А я к тому же был ранен, хоть и не сильно, но бегать пока не мог.
Индейцев мы больше не встречали, но вся наша поклажа, инструменты и оружие — всё исчезло вместе с лошадьми и теперь, в смысле пропитания, нам оставалось довольствоваться только гремучими змеями, на которых мы охотились с дубинкой в руке, хотя эти самые змеи — отнюдь не самая худшая пища на свете, если, конечно, сумеешь удачно стукнуть её дубинкой по голове, и вообще отбросишь предрассудки.
Я думал, что Чарли знает эти места, но он все забыл вследствие многолетнего пития. Он, правда, сказал, что память к нему вернется, стоит только выпить чего-нибудь крепкого, но у нас, сами понимаете, ничего не было. Я бы и сам не отказался промочить горло хотя бы глотком мутной воды из лужи, потому что к тому моменту мы уже долго и безнадежно плутали где-то в районе Большой Песчаной Дюны в южной части Колорадо. Мы бы точно отдали концы, если б нас не спасла экспедиция, что пошла за нами следом.
Ну, я так полагаю, вы должны были уже понять: Чарли был самым худшим золотоискателем в мире. Он просто не владел этой профессией, что явилось для меня откровением. Мне всегда казалось, что если человек чем-то занимается, значит должен владеть своим ремеслом. Теперь я понимаю, что это не так. Можно заниматься делом всю жизнь и всю жизнь ничего в нем не смыслить…
У людей, которые спасли нас, вдруг возникла мысль объединить с нами усилия и идти дальше вместе, и мы, в силу нашего тогдашнего состояния, не нашли в себе сил отказать им, и в конце концов прибыли на Черри Крик с первым снегом. Все кому не лень, были уже здесь, благодаря хорошо поставленной рекламной компании в газетах по всей стране. Мы обнаружили около восьмидесяти капитально построенных хижин, и — на случай, если вы не знаете, где находится это место — должен вам сказать, что с этих восьмидесяти хижин начался город Денвер, штат Колорадо, хотя первые года три его называли Аурария. Не собираюсь вдаваться в подробности насчёт наших успехов в области золотоискательства. Насколько мне известно, на всех месторождениях случается одно и то же. Кто-то намоет немного песка, раззвонит на всю округу, да ещё и приврет с три короба, потом тысячи народа кидаются как мухи на мед в это место, но все без особого успеха по причине чрезмерной скученности, а потом в конце концов какой-нибудь денежный мешок скупает все участки в округе, заводит всякую машинерию и ставит дело на солидную основу. Больше всех наживаются не те, кто ищет золото, а те, кто их обслуживают: лавочники, салунщики и прочие, потому как поначалу в горячке публика готова платить за товар сколько угодно, и покуда рассеется розовый дым, они успевают сколотить свой капиталец. За весну и лето следующего года еще, говорят, тысяч сто пятьдесят желающих приплыло в Колорадо по рекам Платт, Арканзас и Смоки-Хил, Это было время, когда сюда со всех сторон катили фургоны с надписью на борту «Всё или ничего!» — таким вот дурацким способом многие считали своим долгом всему миру заявить о своих планах — а потом, ближе к концу года, две трети из них уже катили назад, слегка изменив надпись на борту: «На все Божья воля!». Я и остальные из нашей компании, мы довольно долго ковыряли золото; застолбили участок, даже драгу соорудили — все чин-чином, по науке, — потому как нас было человек семь или восемь, но дохода особого это не приносило. Эх, золотишко-то там, конечно, было — за три месяца мы намыли песка долларов на семьдесят-восемьдесят, а лопат и кирок угробили на всё сто; а ещё нам некогда было охотиться и потому приходилось покупать харчи в лавке, что тоже не делало нас богаче, потому как в самом наишикарнейшем ресторане Сент-Луиса это обошлось бы дешевле; и, к тому же, большую часть золота, что мы добывали в таких муках, тратил Чарли — на виски, да один мексиканец — на шлюх, ибо, что касается этих последних, они, словно из-под земли появляются в любой глухомани, стоит кому-нибудь найти там хоть один самородок. Но слава Богу, нашлись среди нас парни, которым хватило ума вовремя остановиться, не мне, конечно — я-то в бизнесе никогда не смыслил — а было у нас два парня, Джон Болт и Педро Рамирес, Вот они-то вскоре и открыли магазин и наладили подвоз товаров, и я пошёл к ним возницей, стал гонять фургоны в Санта-Фе и обратно. Дела наши пошли неплохо, у нас завелись кой-какие деньги, которые мы честно делили на троих, ибо от всей нашей компании только нас трое и осталось; потому что пару человек пристрелили в пьяных драках в салуне, а Чарли пропал. Оказалось, что он подался назад в Санта-Фе, где и околачивался вокруг кабака, как и раньше, болтал о старых добрых временах в Колорадо, клянчил выпивку и спал в грязи среди свиней.
Хотя из-за этих регулярных поездок в город я стал опять досягаем для Эстреллиты, ничего страшного не случилось, потому как она уже успела завести себе другого парня. А ещё она завела себе нового ребёнка — который вполне мог быть и моим, но у меня в те времена не было никакого чувства ответственности, потому как мне было всего семнадцать. Если он и впрямь был мой, и если все ещё жив, ему сейчас года девяносто четыре, не больше.
Именно тогда-то я и купил себе коня; вообще-то это был индейский пони, но мне он достался от каких-то белых парней, что пригнали в Денвер целый табун таких же. А ещё я обзавелся моей первой пушкой — это был капсюльный «Кольт-Драгун» и я взял себе за правило упражняться в стрельбе из него по пути в Санта-Фе, и до такой степени наупражнялся, что при случае мог уже за себя постоять, что при моём росте не так-то просто: примерно в те годы я как раз дорос до пяти футов с четырьмя дюймами и на этой отметке остановился навсегда. Я справил себе ботинки на хорошем каблуке — сшил на заказ в Санта-Фе — которые добавляли мне пару дюймов росту, а ещё завел себе мексиканское сомбреро с высокой тульей — черное, расшитое серебром. Так что, если взглянуть со стороны, во мне было все шесть футов, хотя частично это были дутые футы. Недалеко от поселка, давшего начало Денверу, было большое стойбище Арапахов, которые, как вы знаете, дружили с Шайенами; а иногда и сами Люди небольшими группками проезжали мимо по своим делам. Никого знакомых среди них я не видел, хотя, честно говоря, не слишком и старался увидеть. Уж не знаю, чем и объяснить мое нежелание встречаться с ними, я ведь был белый человек и делал все, что и положено белому, но всё равно мне было вроде как стыдно перед индейцами. Бывало чувствую себя прекрасно и настроение высший класс, и вдруг увижу — краснокожие скачут — и впадаю в меланхолию… Я раньше никогда не замечал, какие они оборванцы, покуда не увидал их в Денвере. И не потому, что всегда бедны: даже если индеец, по своим меркам, разрядится-разоденется в пух и прах, всё равно есть в нем что-то такое жалкое и убогое, что хоть плачь. Старая Шкура Типи в лучших своих облачениях выглядел так, словно его кошка трепала и корова жевала — это по белым меркам. Но я этого не замечал, пока не побывал на Миссури, не пожил в городе, а потом вот вернулся назад.
Магазин наш сначала размещался в палатке, но дело расширялось и вскоре мы соорудили себе деревянное строение, где я и прохлаждался между рейсами в Санта-Фе. Сюда иногда наведывались Арапахи со шкурами на продажу или с дичью, если была лишняя. Вот тут-то я и заметил, как они смердят. Три индейца в дверь войдут — и всё, дышать уже нечем. Никаких сил не было выносить их присутствие в доме, и в конце концов мы решили, что с индейцами торговать будем снаружи, под навесом. К тому же у них купить было, в общем-то, нечего; если они привозили, к примеру, оленью ногу, то она по пути успевала сгнить и кишела червями, а шкуры у них были плохо выделаны и стояли колом, как фанера.
После того, как ты повидал кондитерское заведение в Миссури и тот аппарат со слониками для продажи содовой, и ботиночки, что выходили из-под рук Анджело, и миссис Пендрейк в юбке колоколом с обручами и в корсаже на китовом усе — после того, как всё это повидал, ты просто не сможешь не заметить, что индейцы грубые и неотесанные, грязные и вонючие, вшивые и невежественные…
Вы-то знаете, как я был предрасположен в их пользу, и поймете, как нелегко мне было признать правду. Но мало того — теперь я их возненавидел. Потому-то меня и преследовало чувство стыда, и партнерам своим я даже не заикался о том, что имею к краснокожим какое-то особое отношение. Розничная торговля в магазине в мои обязанности не входила, и мне ничего не стоило улизнуть куда-нибудь когда приезжали Арапахи.
Денвер строился как раз посреди их охотничьих угодий, но они претензий пока не предъявляли. Я даже помню, что в самом начале какой-то вождь по имени Маленький Ворон прискакал в посёлок из своего стойбища и перед большим скоплением белого населения произнес речь. Вообще-то он два раза приезжал, первый раз его переводчик напился до потери сознания, и всю затею пришлось перенести на следующий день, когда вождь приехал вновь и произнёс длиннющую речь в стиле Старой Шкуры Типи, которая одних позабавила, а других, наоборот, взбесила, потому как вместо того, чтобы выслушивать болтовню старого грязного индейца, они предпочли бы, в этот момент, рыть золото, Маленький Ворон был простоволос, у него было широкое лицо и широкие плечи, в ушах — большие медные кольца. Суть его речи, ежели слить «воду», сводилась к следующему;
— Арапахи приветствует бледнолицых на этой земле, которая принадлежит Арапахи с тех самых пор, когда… — (далее следует подробный отчёт о том, как любят его племя духи с множеством примеров мистического характера из истории Арапахов). — Арапахи любят бледнолицых и считают их братьями, — (далее — глубокий анализ данного вопроса, имеющий целью, главным образом, добиться угощения бесплатным кофе с большим количеством сахара). — Арапахи счастливы, что белые люди добывают здесь жёлтый песок, раз уж он им так сильно нравится. Наша мать земля родит все сущее для всех людей, живущих на ней, и у каждого народа есть на земле уголок, который он зовет своим домом и который ему доводилось окропить своей кровью. Именно в таком уголке и поставили своё стойбище наши бледнолицые братья, и мы, народ Арапахов, принимаем их с миром и дружбой. Арапахи надеются, что вы не станете делать зла. Они также надеются, что вы не задержитесь здесь надолго…
Маленькому Ворону дали сигару, покормили завтраком, который он съел с помощью ножа и вилки, а потом он уехал в своё стойбище. А вскоре после того воины Арапахов отправились на запад воевать с ютами, а в их отсутствие толпа пьяных старателей нагрянула в их деревню, учинила дебош и изнасиловала нескольких женщин. Арапахи, когда вернулись с войны, пошумели немного, но ничего серьёзного так и не предприняли. Должен вам сказать, что раньше я не слишком восхищался городами и городской жизнью, но, сдается мне, причина тут в том, что те городишки, куда меня забрасывала судьба, мне своими руками строить не доводилось. От жизни у Пендрейков в штате Миссури я без ума не был, вы помните — не мог понять, в чем её смысл, такой жизни-то. Здесь, в Денвере, всё было иначе: он рос у меня на глазах и при моём участии. К лету он превратился в самый настоящий город, а люди с равнин все прибывали и прибывали; и хоть старательская удача улыбалась немногим, а многие — Божьей волею — разорялись и уезжали восвояси, но очень многие оставались, оседали, капитальные дома постепенно заменяли холщовые палатки, потом газета начала выходить, а там, глядишь, и церковь поставили (хотя пастора, должен вам сказать, я избегал всеми силами, как и краснокожих), потому как в те времена без церкви город был не город. Вот и получалось, что мы, судя по всему, задержимся в этих местах подольше, чем хотелось Маленькому Ворону. Сам я постепенно другим человеком стал, сами понимаете, партнер деловой из меня получился хоть куда, деньги зарабатывал, одевался по-человечески, и к девчонкам-испанкам в Санта-Фе подход найти умел, и вообще, по-моему, просто прекрасно, что предприимчивость белого человека нарушила вековой сон этой девственной земли. Да что там говорить, самая жалкая старательская хижина — это же просто дворец и символ торжества цивилизации над дикостью и запустением… По крайней мере, так я думал тогда.
* * *
Ещё год или два до меня время от времени доходили рассказы про Шайенов и их проделки, хотя специально я никого не расспрашивал, но дело в том, что поток народу с востока, снявшегося с места по причине золотой лихорадки, проходил именно через земли племени, южную их часть, а те, кто уже Божьей волею разорился и разочаровался, понуро брели домой теми же местами. Так что можете себе представить, какой эффект все это производило на бизоньи стада, служившие Шайенам источником всего необходимого для жизни. Кроме того, через те же земли вдоль реки Рипабликен теперь регулярно ходили дилижансы, а я ведь, помнится, говорил вам, что индейцы просто не выносят ничего регулярного.
Но при всем при этом стычек с ними было меньше, чем можно было ожидать: при всей своей дикости, а, может, именно благодаря ей краснокожий поначалу робок и терпелив, когда сталкивается с чем-нибудь необычным. Шайены думали, что люди, прущие по западу за золотом, безумны, и потому считали за благо не мешать им. Время от времени мальчишки или парни угоняли у белых лошадей, а клянчить у переселенцев кофе и табак вообще стало делом обычным. Правда, Шайены любили не столько клянчить, сколько припугнуть. Слегка, потому как заметили, что это эффективнее, чем ждать от белых гостеприимства. Но если пришёльцы давали отпор, то индейцы, как правило, оставляли их в покое, не причинив вреда. Отчасти, это объяснялось тем, что Шайенам всегда не хватало оружия, и даже если удавалось заполучить где-нибудь пару сравнительно новых ружей, у них никогда не было пороха или пуль. Даже наконечники для стрел — и те были у них в дефиците, приходилось добывать железки у бледнолицых — обручи от бочек и всё, что попало.
Я обо всём об этом говорю потому, что в Денвере наслушался всякого бреда про Шайенов. Нет, в этом городе индейцев никогда не научатся терпеть, разве что они коллективное самоубийство учинят — тогда может быть. По крайней мере так мне тогда казалось. Я как раз почувствовал вкус к «строительству цивилизации» «где прежде бродили лишь зверь и дикарь», как писали в тогдашних газетах, и потому к Арапахам, что наведывались к нам, не испытывал ни малейшей симпатии. Но вреда от них никакого не было, разве что вонь да вши — но этого добра и у белого брата в Колорадо тоже хватало, должен вам честно сказать. Но всё равно вокруг только и разговоров было, что, мол, «убрать», да «гнать» их, да «стереть с лица земли»; и, насколько помню, больше других кипятились те, кого старательская удача обошла, а кто преуспел — те почему-то были терпимее. Хотя оно и понятно: если ты продал все, что имел, чтобы отправиться на Запад, золота не нашёл и остался ни с чем «на бобах», как говорится — кто тут виноват? Ясное дело — индейцы, а кто же еще? Без них тут явно не обошлось…
Но вернемся к моим делам: по причине деятельности одной конкурирующей фирмы наше дело — Болта, Рамиреса и мое — оказалось под угрозой: они подрывали наш бизнес низкими ценами, ибо доставляли свой товар прямиком через равнину из Миссури, что обходилось дешевле, чем наши рейсы на юг, в Нью-Мексико, куда, хоть и короче, но гораздо труднее добираться через горы и пустыни. Вот тут-то Болту и Рамиресу и пришла в головы идея отправить меня в Вестпорт, штат Миссури — теперь это Канзас Сити — и завезти оттуда товаров, которые, значит, пойдут по более «конкурентноспособным ценам», как они говорили, потому как по части бизнеса оба были головастые парни.
Я добрался в Миссури без приключений — один, верхом, везя с собою кучу денег для закупки товаров. В Вестпорте я рассчитывал нанять погонщиков с мулами, и, в общем, так все и сделал, чин чином, и через пару недель все было готово — товары, мулы, фургоны и погонщики — и мы выехали в сторону Колорадо.
Однажды — дело было в конце августа — мы устроили дневной привал неподалёку от реки Арканзас, что в западной части Канзаса. Место там безлесое на много миль вокруг, ни деревца, и я залез в тень под фургон, улегся там, положив под голову скатанное одеяло, и попыхивал трубочкой, потому как незадолго до того завел себе такую дурную привычку. Может, я даже задремал слегка, что было бы не удивительно, но вдруг ощутил, что какая-то подозрительная тишина повисла в воздухе… Отношения с погонщиками у меня не сказать чтобы очень задушевные были: они бесились, что нанял их мальчишка — это я, то есть, — вот и приходилось периодически напоминать им, что «Кольт-Драгун» всегда со мной и у нас с ним намерения серьёзные… В общем, в этот самый момент закралось мне подозрение, что они Шайен решили устроить какой-то сюрприз. Это сразу вернуло меня в чувство и пушка оказалась у меня в руке в одну секунду.
Однако, лежа под фургоном, я увидел чьи-то ноговицы с бахромой, и пару мокасин с завязками, расшитыми бисером, голубым и красным, и с белой полосой от лодыжки до большого пальца. Мне как-то раз довелось сидеть и наблюдать, как Падающая Звезда с помощью жильной нитки и костяной иголки расшивает мокасины этим самым бисером.
Так вот, это были те самые мокасины, и стоял в них, судя по всему, никто иной как Горящий Багрянцем, несмотря на то, что мне были видны только ноги. Он был не один — ещё пятнадцать или двадцать пар ног в мокасинах насчитал я, глядя из-под своего фургона. И что-то очень не понравилось мне в том, как стояли эти ноги.
Вам, наверное, интересно, что именно мне не понравилось. Видите ли, с того места, где я лежал, мне не было видно ни одного ружейного приклада. А это означало, что они держат оружие наизготовку.
Глава 13. ВОЗВРАЩЕНИЕ К ШАЙЕНАМ
Выбираться оттуда я особенно не торопился, да и когда выкарабкивался, то не сильно горел желанием вылезать индейцам под ноги. Что до индейских ног, то у меня, впрочем, и выбора не было, потому как фургон они обступили со всех сторон.
Так что это выполз я и, едва оказавшись за краем фургона, вскакивая на ноги, гляжу — аб! — прямо передо мною знакомое лицо, точно, да это же Горящий-Багрянцем-На-Солнце! Лицо, само собой, сильно размалёвано, но размалёвано так, как и когда-то, иначе бы я его не признал.
Нельзя не сказать, что пока я поднимался, два других индейца — хвать меня за руки — и заломили их назад, к тому же ещё отобрали нож и револьвер. Да-а-а, эти парни явно не питали к нам дружеских чувств. Они по-прежнему выкручивали мне руки, но я не брыкался и не лез в бутылку, так что сумел разглядеть, что мои погонщики все до единого схвачены, правда, в разных положениях, кто стоя, кто лежа, хотя и не похоже, чтоб кто-нибудь из них перед этим рыпнулся.
Даже мое положение оказалось затруднительным, хотя я вроде с этим индейцем был знаком. Тем более, что Горящий-Багрянцем-На-Солнце не очень-то спешил меня узнавать. Да и ко всему упустил я из вида, что раскрашенное лицо способно перепугать до смерти, если вдруг нежданно-негаданно столкнуться лицом к лицу.
Сомбреро своё я обронил, так что Горящий прекрасно видел черты моего лица. Да и с тех пор, как мы с ним виделись в последний раз, прошёл всего лишь год, ну, полтора, не больше, правда, я стал отпускать усы, но они ещё не могли так уж изменить мою внешность.
Но он оставался неприветлив и когда заговорил, и глаза его на размалёванном красной краской лице с белыми линиями от переносицы под ними выказывали явную неприязнь.
— Почему, — спрашивает он, ясное дело, по-шайенски, — ты похитил лошадь моего отца?
Тогда-то я и заметил, что рядом другой индеец держит за недоуздок того пинто, что я купил в Денвере. Этот индеец оказался моим старым знакомым по имени Тень Что Он Заметил, может, помните, это Тень водил меня в мой первый набег на Ворон, когда я ещё заработал своё индейское имя. Однако сейчас на меня он смотрел зло.
— Брат, — обращаюсь я к Горящему Багрянцем не без некоторой поспешности, — разве ты меня не узнаешь?
И что, думаете, он хоть на секунду усомнился, откуда это я так свободно говорю по-шайенски? Как бы не так!
— Вам, белым людям, — говорит он презрительно, — мы дали кров и пищу, когда вы были голодны и заблудились, потому что мечты о жёлтом песке совсем лишили вас разума. А потом вы похитили наших лошадей. Вы все очень плохие люди и мы не желаем заключать с вами никаких договоров.
Соратники, явно и горячо разделяя его негодование, что-то сердито пробурчали себе под нос. А я смотрю на него и все не могу взять в толк, чем это он так недоволен, поэтому весьма подробно объяснил ему, где и при каких обстоятельствах я приобрел этого пони, заметив, что теперь он может взять его, как полагается по обычаю, потому что он мне брат.
Уже несколько раз я употребил слово «брат», и это в конце концов стало доходить сквозь орлиные перья до его тупой башки. Поэтому, после того как ещё некоторое время он пообличал белых, крайне неприятным образом потрясая ружьём; при каждом таком взмахе, те двое, что держали меня за руки, каждый раз хорошенько меня встряхивали, а остальные индейцы при этом принимались метать свирепые взгляды на моих погонщиков и что-то ворчать по адресу этих бедолаг, которые — хотя обычно это грубая, сквернословящая, кичливая публика — теперь от страха совсем оцепенели; прошло уже довольно много времени и я уже почти потерял всякую надежду, потому как проживи среди индейцев пять лет, а всё равно они выводят тебя из себя; короче говоря, в конце концов он с раздражением сказал, хотя на этот раз причиной его раздражения был лично я, а не расовые предрассудки:
— Почему ты всё время называешь меня «братом»?! Я не хочу, чтобы ты это делал. Я тебе не брат. Я — Шайен.
А смуглый парнишка, который держал меня за правую руку, — у него ещё на поясе висела уйма скальпов, один из которых был желтоволос и уже никак не мог принадлежать никакому Поуни, — предложил:
— Я думаю, нам следует убить его сначала, а потом говорить.
Этого молодца я не знал, но среди прочих увидел Птичьего Медведя, Худого и Катящегося Быка, который удерживал мою левую руку.
— Так вот, — говорю я храбро, — мне кажется, что вам, Шайенам, можно доверять не больше, чем тем белым, которые причинили вам зло. Ведь всего два снега тому назад я был вам братом, жил в типи Старой Шкуры, охотился и сражался бок о бок с Шайенами, и, по крайней мере, один раз едва не сложил свою голову за них в бою. Но, конечно же, ваши лживые языки скажут, что вы знать меня не знаете, Маленького Большого Человека.
Горящий Багрянцем прервал меня:
— Он скакал рядом со мной в Битве Длинных Ножей, в которой белые люди не знали, как надо сражаться. В том бою он погиб, однако перед этим убил немало «синих мундиров». Но его тело белым не досталось. Он превратился в ласточку и улетел далеко за утесы.
— Так знай, — не выдержал я, — что я и есть Маленький Большой Человек! Иначе откуда бы я знал о нем?
— О нем все знают, — по-индейски упрямо твердит своё Горящий Багрянцем. — Он — великий герой нашего народа. А о нашем народе знают все, поэтому все непременно знают и о нём. И больше я не буду об этом говорить. — Он перехватывает ружьё левой рукой, а правой берётся за рукоятку ножа, которым снимают скальпы. — Мало того, что ты конокрад, так ты ещё и самый большой лжец на свете, — продолжает он. — К тому же ты ещё и глупец. Говорю тебе, я сам видел как МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК УПАЛ И ПРЕВРАТИЛСЯ В ПТИЦУ. Поэтому ты не можешь быть им. Кроме того, ты — белый человек, а Маленький Большой Человек был Шайеном.
— Посмотри на меня, — говорю я.
— Э-э-э, может, у Маленького Большого Человека и была светлая кожа, но это ещё не значит, что он был белым человеком, — гнёт свою палку Горящий Багрянцем. — К тому же ты мне показываешь на себя, а не на него.
Вот так-то. С этими проклятыми индейцами, чёрт бы их побрал, по части упрямства никакой осел не сравнится. И тогда я подумал: все, мне крышка! Тем более, когда Горящий Багрянцем пригрозил, что отрежет мне язык, чтобы не лгал. Особенно это приветствовал тот злобный тип, что держал меня справа. Впрочем, какой там тип, совсем мальчишка, примерно в тех годах, что был и я, когда убил своего первого врага. Я сказал, что не знал его, но вдруг до меня дошло, кто это.
Это был Грязь На Носу, просто с тех пор как я подарил ему пони, после того боя, в котором я заслужил себе взрослое имя, он сильно подрос.
Горящий Багрянцем достал свой нож. Я взглянул на Грязь На Носу. Чёрт возьми, стоило рискнуть. И я у него спрашиваю:
— Тот вороной, что я тебе дал на Пороховой речке, все ещё у тебя?
Свирепое выражение на его лице тут же смягчилось и он отвечает:
— Нет, его украли Поуни, когда мы два снега тому назад стояли у Горы Старой Женщины.
— Ты слышал? — спрашиваю у Горящего Багрянцем. Лицо его приняло недоуменное выражение, насколько можно было разглядеть сквозь краску.
— Я тут не все понимаю, — признал он, — это правда.
Я скороговоркой выпалил ещё несколько подробностей из прошлого, но большего не добился. Впрочем, нож он Шайен убрал. Эта самая подробность о вороном, видать, спасла мне жизнь или, по крайней мере, язык, потому как люди в те времена появлялись я исчезали, а вот лошади… лошади — это было уже серьёзно.
Значит, решили индейцы отвести меня в своё стойбище — пусть старшие рассудят… За руки меня больше не держали, но и возвращать оружие тоже никто не собирался. Возле погонщиков индейцы оставили небольшую охрану, ну, а я своим парням посоветовал отнестись к этому неудобству с пониманием, потому как и выбора-то особого у них не было.
Лошадей своих Шайены оставили в ложбине, в полумиле отсюда, на двух самых юных воинов. А этого пинто по-прежнему вёл Тень. Я подумал, что сейчас, пожалуй, не тот момент, чтоб на нем ехать, а запасная лошадь осталась у фургонов.
Вот и обратился я к Горящему Багрянцем с вопросом:
— А на чём я поеду?
Вопрос этот беднягу загнал в тупик. Его упрямое нежелание признать меня было поколеблено и теперь он понятия не имел, что думать дальше. Он повернул ко мне своё искажённое болью лицо.
— Болит, — пожаловался он, — вот тут, между глаз.
Он просунул руку меж перьями боевого убора и почесал черепок. И тут до меня впервые дошло, до чего ж он туп. Ведь когда я был мальчишкой, Горящий Багрянцем казался мне человеком незаурядным, потому как знал толк в стрельбе из лука и верховой езде, чему и меня обучал. И думаю, что во всём этом он и правда соображал неплохо, но в остальном был глуп как пробка.
— Я не стану все время идти пешком, — говорю я, — так и знай.
Видно было, что он испытывал что-то вроде сожаления, что сразу не отрезал мне язык, и дело не в том, что Горящий Багрянцем был необычайно жестоким, а только в том, что иначе не пришлось бы ломать сейчас голову над этой ситуацией.
— Садись сзади за мной, — предложил Грязь На Носу, который после того как я напомнил про лошадь, что когда-то подарил ему, стал доверять мне на семь восьмых. Так что вскочил я сзади него на лошадь, ухватился за его пояс, и мы тронулись с места, и ехали на север часа два пока не добрались до крошечной речушки, которую-то и речушкой назвать было нельзя, так мало было в ней воды.
На противоположном берегу её стояли вигвамы небольшой общины Старой Шкуры Типи; были они, по-видимому, такими же как всегда, но, Господи, подумал я, неужели они всегда были такими убогими и жалкими? И странная штука, сейчас эта вонь поразила меня сильнее, чем тогда, когда десятилетним мальчишкой я вместе с сестрой Кэролайн впервые оказался в их стойбище. А чтобы вы поняли, до чего сильно разило из деревни, скажу лишь, что хотя в это время дул сильный ветер и разносил зловоние в разные стороны, смрад этот забивал даже тяжкий дух Грязи На Носу, ударявший в нос мне довольно-таки резко, ведь я сидел к нему вплотную.
Но вот мы подъехали к знакомому вигваму вождя, служившему мне домом в течение пяти лет; с выцветшими рисунками, в заплатках, а кое-где и разорванной покрышкой. По его внешнему виду я сделал вывод, что Старая Шкура, должно быть, переживает очередную и явно затянувшуюся полосу неудач. Отовсюду сбегались грязные детишки и лающие собаки, а большинство взрослых, кто был в стойбище, уже тут собрались, потому что наш отряд, как обычно, возвращался по частям, и те, кто приехал раньше, уже успели известить о предстоящем деле.
И тут я занервничал; например, среди американцев, чем лучше вы знаете человека, тем меньшую угрозу для вас он представляет, но то же самое, как говорит мой опыт, не совсем верно применительно к индейцам, длительные отношения с которыми только привели меня к убеждению, что они способны на все. Так что до того, как мы спешились, мои колени были тверже. В сопровождении воинов я нырнул в середину через входной проем типи. Внутри было темнее, чем в былые времена, потому что костёр не горел; я вошёл с яркого света и в течение некоторого времени, пока глаза мои не привыкли к темноте, ничего не видел. Войдя, мы повернулись направо, и, как того требовал обычай, минуту помолчали; потом из сумрака где-то перед нами раздался гортанный голос Старой Шкуры.
— Я хочу, чтобы вы вышли, — обратился он к индейцам, — и дали мне поговорить с белым человеком наедине.
Все вышли, а я по кругу пошёл к тому месту, где сидел старый вождь. Может, вам покажется, что было бы разумней взять напрямик, срезав путь по диаметру, но этого никогда не делали: в жилище было принято ходить по кругу.
Как только мои глаза привыкли к темноте, я смог разглядеть вождя. А он всё это время сидел молча; сидит, вижу, с непокрытой головой. И тут я вспомнил, как в бою на Соломоновой протоке выкинул взятый у него цилиндр, и на душе у меня сделалось гадко. А в руке я держал своё мексиканское сомбреро, которое когда-то купил по случаю и надевал в дорогу. Вещица и впрямь чудесная, с лентой, украшенной серебряными медальонами, и с расшитыми полями.
— Дедушка, — говорю, — я принёс тебе подарок, — и вручаю ему эту шляпу.
Теперь я сделал все, что от меня зависело. И если бы Шайены решили меня как самозванца предать смерти, то тут ничего поделать я не смог бы.
— Мой сын, — говорит Старая Шкура Типи, — я увидел тебя, и моё сердце воспарило, как ястреб. Садись со мной рядом…
На душе у меня полегчало. Я сел на бизонью шкуру по левую руку от него. Он наклонился и обнял меня. И, честное слово, это меня растрогало. Потом он взял сомбреро, быстро срезал ножом его верхушку, воткнул единственное орлиное перо за серебряную ленту и надел его.
— Не эта ли шляпа раньше была моею? — спрашивает он. — С той поры она стала мягче и нагуляла жир.
— Нет-нет, это другая.
— Тогда раскурим трубку, раз ты вернулся, — сказал он и приступил к ритуалу: набил трубку, раскурил, протянул её на все четыре стороны и так далее, поэтому прошло немало времени, прежде чем мне удалось затянуться душистой смесью коры красной вербы.
— Я видел тебя во сне, — сказал вождь через некоторое время. — Ты пил из источника, который бил из длинного носа какого-то зверя. И зверь этот был мне неведом. По обе стороны носа у него росли два рога. И в воде, которая лилась из его носа, было много пузырьков.
Мне всё равно, поверите вы или нет, но подумайте вот над чем; если я всю эту историю выдумал от начала до конца, то неужели я не мог бы выдумать чего-нибудь похлеще? Ну, а говорил вождь, конечно, про аппарат для разлива содовой воды в виде головы слона в заведении у Кейна. Как все это объяснить — сам ума не приложу.
Мы просидели там, как мне кажется, не меньше часа, прежде чем подошли к теме важной для меня. Но индейца лучше не подгонять — всё равно ничего не выйдет.
Наконец Старая Шкура Типи сказал:
— Не сердись на Горящего Багрянцем В Лучах Солнца и на других тоже. В прошлом году у них с какими-то белыми, которых они нашли в пустыне, больных и голодных, вышел нехороший случай. Эти белые сошли с ума, когда искали жёлтый песок, и наши люди пожалели их, накормили и принялись лечить от безумия; а потом, поправившись, эти белые украли у нас двадцать шесть лошадей и ружьё Пятнистого Пса, и ночью убежали.
Старая Шкура Типи спокойно затянулся и пустил дым кольцами.
— А что ещё беспокоит некоторых Людей, — продолжал он, — так это, что мы пришли сюда на совет с белыми в форте Бента, куда созвал нас Отец Белых, вот почему мы надели наши лучшие одежды, и вдруг Горящий Багрянцем В Лучах Солнца и другие случайно встретили ваши фургоны и увидели пинто, который был в числе похищенных лошадей в прошлом году.
Я взял у него трубку:
— Не понимаю, почему они меня не узнали?
— Да, — сказал Старая Шкура Типи. — Ты хочешь есть?
Он никогда и ничего не говорил просто так, и я знал, что теперь по всем правилам мне следовало подкрепиться, и сказал «да»; и тут вошла его жена Бизонья Лощина, развела огонь, сварила нам щенка и подала миски, над краем которых, как знак особого почета, возвышались маленькие лапки. Однако на меня по-прежнему не смотрела и мы не поздоровались, потому что Старая Шкура ещё не дал ей на этот счёт «добро». А когда мы всё это съели, уже почти стемнело.
Вождь вытер жирный рот полями шляпы. И вовсе не потому, что был неопрятен, — дело в том, что после дюжины трапез это его сомбреро до того пропитается жиром, что никакой вождь ему не будет страшен.
Он продолжил разговор с того самого места, где мы остановились.
— Я не совсем понимаю, что с тобой случилось в битве Длинных Ножей, когда солдаты на лошадях не знали как правильно сражаться, — сказал он. — Тогда мы все бежали из-за того, что духи покинули нас. А когда мы собрались опять, а тебя нигде не было, мы увидели ласточку, которая долго-долго летала над нами. Так что проще всего было предположить, что это ты. К тому же думать так было приятно, потому что Люди всегда гордились тобой и любили. А позже мне приснился этот зверь с длинным-длинным носом, который дал тебе пить в деревне белых, но только я никому об этом не говорил, чтобы оно не принесло тебе несчастья.
— Поэтому, — говорит он, — не надо обвинять Горящего Багрянцем В Лучах Солнца, что он тебя не узнал.
Он поднялся со шкуры и, показав, что я должен следовать за ним, вышел и стал у входа в типи, где всё это время собиралось всё стойбище.
За бескрайней прерией садилось солнце, окрашивая небо на западе в багровые, алые и розовые тона, и в его отблесках лица людей стали ещё более красными.
Старая Шкура Типи в этом сомбреро смотрелся довольно-таки ничего. Завернувшись в красное одеяло, он, стоя рядом со мной, как и можно было ожидать, изрёк солидную речь. Всю её передавать не стану, ограничусь только заключением.
— Так что по этому случаю я думал, и говорил, и курил, и обедал. И вот я решил: Маленький Большой Человек вернулся!
И сказав это, ушёл в типи. А все остальные подошли и приветствовали меня сердечно, как никогда раньше, обнимали, говорили приятные слова, и мне пришлось есть ещё раз пять или шесть и бесконечно говорить, говорить, говорить… и думается, я был тронут этим, хотя всё же знал, что вновь индейцем никогда не смогу стать.
* * *
Короче говоря, на меня обрушилась уйма новостей о том, что эти люди делали после битвы при Соломоновой протоке — примерно то же самое, что делали и со времен незапамятных: большую часть года, как обычно, были на севере, но каждое лето спускались на все шайенские сборища на юг. С солдатами за это время никаких осложнений не было, потому как держались от них в стороне. И, похоже, род Старой Шкуры всё ещё пускали на эти сборища, из чего следовало, что он за это время умудрился не увести ничьей жены.
Год индейцы предпочитают обозначать как-нибудь эдак: «Было это в то время, когда Бегущий Волк сломал ногу» или «Той зимой, когда тополиное дерево упало на типи Птичьего Медведя». А так как эту летопись они хранили в голове, то именно событиями такого рода она и была богата, а что-то действительно важное вполне могло в ней и не уместиться. Так, о бегстве на Соломоновой протоке мне рассказали только Горящий Багрянцем и Старая Шкура, а остальные давно о нем забыли. И если бы спросили Шайена, а что он помнит о том знаменательном лете, то он, наверно, сказал бы что-нибудь вроде: «Тогда мой гнедой на скачках обогнал вороного Резаного Живота».
А в краях этих они, по словам Старой Шкуры, оказались потому, что у форта Бента правительство собирает мирную конференцию. На ней обещался появиться сам глава комиссии по делам индейцев, так что, как я понял, это на вождя произвело безмерное впечатление. Он рассчитывал получить ещё одну медаль, а то и новый цилиндр. А о прочем, однако, он четкого представления не имел.
Одно из многих пиршеств в мою честь происходило в типи Горба; Горб всё ещё был военным вождём и ни капли не изменился.
— Добро пожаловать, мой друг! — сказал он мне при встрече. — Ты, случайно, не принес мне в подарок пороху и пуль?
Так что я ему подарил весь свой запас бумажных гильз и капсюлей для моего «Кольта» драгунской модели, оставив себе только заряды в камерах. Думаю, если б об этом узнали в части, то меня вздернули б на первом же суку.
— Заходи, поешь, — пригласил он меня. Приглашены также были Старая Шкура Типи, Тень-Что-Он-Заметил, Горящий Багрянцем и ряд других моих старых друзей, и там-то мы потолковали об этом договоре.
— Я не знаю, — сказал Старая Шкура Типи после того, как мы съели варёный бизоний язык, — хорошо ли, чтобы Люди превращались в пахарей, хотя у Желтого Волка и была такая мысль, а он был мудрый человек…
Горб сказал:
— Жёлтый Волк был великим вождём, но белые люди опутали его злыми чарами, иначе откуда бы у него появились такие мысли? Он слишком много времени провел возле фортов.
— Я хочу сказать, — поднялся Тень-Что-Он-Заметил. — Я скорее умру, чем стану сажать картофель.
Горящий-Багрянцем-В-Лучах-Солнца всё ещё болезненно переживал ту подлую шутку, что сыграли с ним охотники за жёлтым песком. Он сказал:
— Что бы мы ни делали, белые люди нас обманут. Если мы посадим картофель, они его похитят. Если мы станем охотиться на бизонов, то они их распугают. Если мы затеем сражаться, то они не будут воевать как полагается.
Ни к какому выводу он так и не пришёл, но впал в подавленное состояние и не выходил из него весь остаток этого дня и все следующее утро, и все это время просидел неподвижно прямо тут, в типи Горба — не ел, не пил, не разговаривал, и семья Горба оставила его в покое, и все просто обходили его как камень.
— Может быть, и так, — сказал Старая Шкура Типи. — Но, с другой стороны, белых людей становится все больше и больше, и они строят постоянные стойбища. Если они не находят лес, то они нарезают кирпичи из земли или зарываются в землю, как луговые собачки. И чтобы ещё не говорили про белого человека, надо признать одно — ОТ НЕГО НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ. Бледнолицым не видно конца. А Людей всегда было не очень много, потому что нам предназначено быть не такими, как все, а выше и лучше всех. Очевидно, не всякий может быть Человеком. А чтобы было так, должно быть огромное количество низших людей. По-моему, в этом и состоит предназначение белых на земле. Поэтому мы должны выжить, ведь без нас мир потеряет всякий смысл. Но выжить, если белые разгонят бизонов, будет нелегко. Может, нам следует попробовать работать на земле. Другие краснокожие занимались этим. Когда я был мальчиком, народ, называемый Манданы, обрабатывал землю по берегам Большой Мутной Реки. Правда, Лакоты постоянно нападали на их деревни и многих убивали. А потом Манданы заразились оспой от проезжих белых торговцев и все до одного умерли. Нет больше Манданов. — Старая Шкура Типи поднял брови. — Наверно, они не были великим народом.
— Из пахарей никто им никогда не был, — сказал Горб, после чего обратился ко мне. — Наверно, у тебя в фургонах много пороха и свинца?
Я пропустил его вопрос мимо ушей. И это было правильно, потому что я сам собирался обратиться с речью. Сейчас со мной здесь считались, и вовсе не потому, что я мог вести караван — Шайенам до этого никакого дела не было, они меня даже не спросили, что я делал все это время — нет, нет, авторитет мой держался на том, что меня считали убитым на Соломоновой протоке, а я, однако ж, вернулся.
Вот как я рассуждал. К примеру, Старая Шкура прожил в прерии более семидесяти лет, ну и что? Какой след он оставил на этой земле? Спору нет — свою землю индейцы любят, но вся штука в том, что самый жалкий бледнолицый со своей лачугой пустил в эту землю такие корни, какими не может похвастать ни один краснокожий кочевник. На это, конечно, можно взглянуть под таким углом: когда две вещи связаны, они обязательно оставляют след друг на друге; так, дерево корнями связано с землей, а земля — с деревом. К примеру, в Денвере теперь дома строят основательно, с фундаментом; не просто стенки ставят на земле, а врываются в неё, и если в один прекрасный день белые отсюда исчезнут, всё равно на этой земле надолго останется их след. Ибо нет в природе такой силы, чтобы вырвать из земли фундамент или погреб.
Может, белые естественнее индейцев! — вон оно как стал я рассуждать. Ведь даже луговые собачки и те живут оседло… Ну, теперь-то я знаю, что все живые существа одинаково принадлежат природе и никакое не может быть естественнее другого, но тогда я был молод и эти различия не давали мне покоя: как же примирить такие взаимоисключающие точки зрения. Индейцы, к примеру, считают, что они ближе к природе, а белые утверждают, что они человечнее, то есть, дальше ушли от животных. Но как на это ни посмотри, мне ясно было одно: шайенский образ жизни обречен. И не здесь я это понял, нет, а в совсем другом месте, в Денвере, потому как истина порой сперва всплывает совсем не там, где ей суждено сбыться, а в месте весьма и весьма отдаленном. Представьте себе, что вы в Китае, и там изобрели порох, а вы стоите и ясно видите, что каменные замки и доспехи рыцарей за тысячи миль от вас уже обречены.
Так что то, что я сказал, имело вполне практическую направленность. Я стоял в типи Горба. На мне было лучшее красное одеяло Горящего Багрянцем. Мы с ним уже успели обменяться подарками, и он, как это принято среди индейцев, отдал мне самое лучшее из того, что у него было.
— Братья, — сказал я, — когда я сижу среди вас, я думаю о прекрасной стране у реки Паудер, где у нас было столько счастливых минут, когда я был мальчишкой. Вы помните то время, когда Маленький Ястреб спал в своём типи и внезапно проснулся, разбуженный запахом барсучьего сала, и поднял полог вигвама, и увидел индейца-Ворону, похищающего его лошадь, и убил его? А когда Два Грудных Младенца вернулся со своей военной тропы против ютов после того как пропадал целый год, и пояс его был увешан скальпами, и он пел песню, которой его обучил орел, когда он, раненый, скрывался в сухой балке? Вы помните, как прекрасна Заоблачная Вершина, с этой своей белой шапкой и склонами пурпурно-синими? А вспомните чистые и всегда студеные воды Реки Вздорной Женщины, которые сбегают с гор, где тает снег. А леса, богатые дровами для костра и жердями для типи, а оленей с огромными рогами, а медведей в меховых шубах…
Мне кажется, что там, на Пороховой Речке, лучше, чем здесь, на этом месте. Я ничего не знаю об этом договоре, но я точно знаю, что этими краями, где мы сейчас стоим, будет проходить все больше и больше белых, потому как здесь мы всего лишь на расстоянии полета птицы от деревни белых, называемой Денвер, да большой страны белых, называемой Миссури. Я был и там, и там, и знаю, что ни одно из этих мест скоро не исчезнет, а только будет становиться все больше. И я считаю, что поскольку они будут разрастаться, то они и земля вокруг будут все меньше радовать глаза Шайенов.
Я запнулся, оно ведь нелегко быть пророком, если у тебя нет навыков.
— У меня был сон, — говорю я, — после Битвы Длинных Ножей. Я летал над всей этой землей и видел под собой белых людей, которые строили квадратные дома, но к северу, на берегах славной речки Паудер я видел великий народ Шайенов, живущих счастливо, сражающихся с Горными Змеями и Воронами, добывающих бизонов и оленей и похищающих лошадей.
Заговорил Старая Шкура Типи:
— Мне кажется, я слышал слова мудрости, — сказал он, — Мы прежде собирались говорить об этом соглашении, чтобы поддержать наших южных братьев. Туда идут Чёрный Котёл, Белая Антилопа, а они — великие вожди. Я думаю, что Арапахи, Кайовы и Люди-Змеи также будут там. Видеть все племена на мирной конференции — с бесчисленными пони, в лучших одеждах — это незабываемое зрелище. Отец Белых обещал всем поднести подарки. Просто за то, что явишься на эту конференцию, а это вовсе не означает, что надо прикасаться к перу…
Великий Отец хочет выкупить у Настоящих Людей и других племен те земли, где лежит жёлтый песок. Там будет Бент, а он — хороший человек, женатый на женщине-Шайенке. Я собирался туда отправиться и поговорить о земледелии, потому что Чёрный Котёл и Белая Антилопа, которые мудрые вожди, сказали, что Людям надо подумать о том, чтобы жить оседло…
Но сны не говорят и так, и эдак, и недаром к нам вернулся, чтобы рассказывать про свой сон Маленький Большой Человек…
Я не сообщил ему ничего нового. Индейцы вовсе не дураки, когда дело касается того, что им надо делать, а что не надо. Просто иногда у них бывают такие причины, которые белым понять нелегко. Вот Старая Шкура Типи отправлялся на этот совет главным образом для того, чтобы получить ещё одну серебряную медаль и увидеть праздник, когда сойдутся все племена и станут показывать свою ловкость в верховой езде, свои лучшие одежды, чтобы произвести впечатление на представителя правительства. Он мог даже зайти так далеко, что подписал бы это соглашение, в результате совсем не собираясь заняться земледелием.
Сейчас же после моих слов он решил забыть про всё про это и вернуться в северные края. Но вот что я вам скажу: сделал так он вовсе не из-за моего «сна», он так сделал только потому, что чертовски хорошо знал, что я белый и знаю, что говорю относительно положения в Канзасе и Колорадо.
И все они это знали, и если вы рассмотрите опять легенду, которую они создали вокруг Маленького Большого Человека, вы поймете, что я имею в виду. Она в некотором отношении не имеет ничего общего со мной лично, и раз уж так вышло, что меня отождествляют с ним, то это скорее я должен жить в соответствии с легендой, а не наоборот. И если бы я сделал что-то такое, что противоречило бы этой легенде, то это означало бы только то, что я не есть Маленький Большой Человек. Таким путем индейцы добиваются того, что их основные представления остаются неизменными, а герои — безупречными, и индейцам не приходится лгать. Хотя, как мне кажется, такой фокус не прошёл бы с теми, кто понимает принцип работы таких вещей, как деньги и колесо. После этой беседы в типи Горба вошёл другой мой сводный брат, Лошадка, одетый шайенской женщиной, и развлек всех нас изящными танцами и прекрасным пением. И мое сердце радовалось, видя что он добился такого успеха в качестве химанеха.
Ночевал я в типи Старой Шкуры. А на следующее утро встретил ещё одного старого приятеля. Я как раз возвращался после купания в речушке, когда увидел какого-то индейца, который, как мне показалось, то ли слепой, то ли нарочно не пропускает на своём пути никаких зарослей полыни и кактусов. Присмотревшись, я пришёл к выводу, что верно последнее, потому что такой трудный путь можно было выбрать только умышленно. Но мало-помалу он добрался до речки, где и принялся мыться. Но не водой, а — грязью на берегу!
Я сразу узнал его. Это был Младший Медведь. Так что когда он закончил свои странные процедуры, я подошёл к нему. Считает ли он меня своим врагом, как и раньше, или нет, я не знал. Но мне казалось, это было так давно, что я об этом вовсе и не думал.
На мое приветствие он ответил вовсе не враждебно, но вместо того, чтобы по-шайенски сказать «здравствуй», говорит «до свидания». А потом точно так же как человек после купания сядет высохнуть на берегу, он заходит в воду и сидит в речке. По-моему, после того, как он умылся грязью, это имело смысл. Тут я сообразил, что он делает всё наоборот, и тогда стало ясно, почему он так себя ведёт.
Позже мою догадку подтвердил Лошадка, который отложил в сторону своё рукоделие — он вышивал бисером — и покинул толпу женщин, с которыми обычно околачивался, чтобы посплетничать.
— Так и есть, — подтвердил он. — Человеком Наоборот Младший Медведь стал в прошлом году, когда у Белого Человека Наоборот купил Громовой Лук.
Я должен кое-что объяснить. Вы знаете, что обычно Шайену-воину трудно найти ровню. Но Человек Наоборот заходит ещё дальше. Он воин до такой степени, что во всём, кроме как в бою, поступает наоборот. Так, он не ходит по тропам, а предпочитает ломиться через заросли. Моется он грязью, а сохнет в воде. Если вы его попросите о чём-нибудь, то он сделает наоборот. Спит он на голой земле, главным образом в самых неудобных местах, а вот на подстилке — никогда. Не может он и жениться. И живет он сам, один, на некотором удалении от стойбища; и, сражаясь, он сражается в одиночку, а не с основными силами Шайенов. А в бою он несёт Громовой Лук, к верхнему концу которого прикреплен копытообразный наконечник. И когда этот лук у него в правой руке, то он не имеет права отступать.
Ну, кажется, в этом деле существует ещё целый миллион прочих правил, потому-то он и является таким не похожим на других, и в любом стойбище таких «человеков» раз-два и обчелся…
— Так ты помнишь Койота? — говорит Лошадка. — Его убили Поуни. Юты убили Красную Собаку… — Он продолжал перечислять новости, которые оказались довольно-таки кровавыми. Потом он, взглянув не без игривости и лукавства на меня, добавил:
— А сам я подумываю перебраться в вигвам Желтого Щита его второй женой.
Я поздравил его и подарил ему маленькое зеркальце для бритья, которое брал с собой в дорогу, чему он был безмерно рад, и после того, как мы с ним попрощались, он, наверное, часами смотрелся в это зеркальце.
Но перед этим я спросил у него о своей бывшей подруге Ничто.
— А на ней женился Белый Человек Наоборот, — рассказал он. — И она сейчас ждёт ребёнка.
Немного попозже я её и сам увидел — она сидела перед своим типи и толкла какие-то ягоды. Просто удивительно, до чего эта девушка изменилась всего за пару лет. Даже без беременности она была бы довольно-таки тучная. Нос у неё расплылся по лицу, и я не мог припомнить, чтобы прежде у неё был такой злой взгляд. А то, что раньше было блестящими чёрными волосами, теперь смахивало на хвост лошади, только что продравшейся через заросли терновника.
Но самые большие перемены произошли в её характере. Когда я проходил мимо, она с таким ором напустилась на собаку, что прежде мне не приходилось слышать, а когда из типи вышел её муж, то вся эта брань обрушилась на его голову. Шайенские женщины — прекрасные жёны, но иногда они бывают до того сварливы — сварливей не найдёшь.
Мне кажется, можно смело сказать, что та сабельная атака на Соломоновой протоке спасла меня от того, чтобы все это слушать до самой смерти.
Ну, через некоторое время Шайены принялись сворачивать стойбище, готовясь откочевать на север. Мы со Старой Шкурой Типи стояли и смотрели как женщины разбирают вигвамы, делают из жердей волокуши и грузят на них скарб. На голове у вождя красовалось сомбреро, которое из-за разницы в размерах наших голов сидело несколько высоковато на его косицах. Ну, а поскольку это сомбреро было всего лишь вместо того цилиндра, который я потерял, то я по сути ещё ничего ему не подарил, так что теперь мне показалось, что ничего другого не остаётся, как подарить ему свой «Кольт» драгунской модели. С одной стороны, это был довольно-таки небольшой подарок. Но, с другой стороны, я оставался без лошади, без какого-либо оружия, без шляпы, без куртки — свою я подарил Горбу — а взамен я получил одеяло, каменную трубку, нитку бус и тому подобное, с чем мне предстояло вновь присоединиться к неприязненно настроенным погонщикам и преодолеть остаток пути до Денвера.
— Дедушка, — сказал я. — Я не смогу податься с тобой на речку Паудер…
— Я тебя слышал, — ответил Старая Шкура. Вот и все, что он сказал.
Однако я всё же не мог просто так уйти. А, может, мне самого себя надо было убедить, потому как на второй день у Шайенов я заметил, что они уже не столь непривлекательны для меня. Да и с запахами стойбища я вновь стал свыкаться. Похоже, что со временем я, возможно, вернулся бы к тому себе, каким был прежде.
А, может быть, и нет. Но я почувствовал, что есть определенный риск. Ведь немаловажным было то, что в Денвере дела мои шли совсем неплохо. Да и честолюбивые замыслы к тому времени мне уже были ведомы, потому что в мире белых без честолюбия ни черта из тебя не выйдет. Но ведь по-Шайенски это не передать — там и в помине нет такого понятия.
Оно, конечно, индейские мальчишки мечтали стать великими воинами, а некоторые даже чувствовали призвание вырасти в вождей, но это всё сугубо ЛИЧНЫЕ цели, потому что ни у какого вождя нет власти в нашем понимании этого слова. Индейский вождь ведет за собой только личным примером. Так, если взять вот этот переход на Пороховую речку, то Старая Шкура Типи не отдавал своим людям никаких приказов туда идти. Всё, что он сделал, так это только решил, что ОН туда пойдет, обязательно пойдет. И Горб решил, что Он пойдет, и так далее. И другие пойдут с ними лишь только потому, что считают их мудрыми людьми, а если кто не считает, тот не пойдёт, вот и всё. Ну, а Горящий Багрянцем все ещё никак не мог решить, он по-прежнему сидел на том самом месте, где недавно ещё было жилище Горба и его жёны, а дочери Горба разбирали вигвам как раз вокруг Горящего Багрянцем.
А, с другой стороны, что я ещё собирался делать, когда вел этот караван в Колорадо, как не заняться самому торговлей? Я говорил уже, что коммерсант я никудышний, у меня нет нужной жилки, но при всем при том я себе втемяшил в голову, что она вовсе и не нужна, что и так разбогатеть ничего не стоит в таком совершенно новом месте, каким был Денвер. И уже предпринимались кое-какие шаги, чтоб сделать Колорадо Территорией. А через пару-тройку лет, заработав достаточно денег, я вполне мог бы выдвигаться в губернаторы, ведь я умел читать и писать, чем едва ли могло бы похвастать большинство тогдашнего населения этих мест.
Но как мне объяснить, хоть малость намекнуть об этом индейцу, скажем, Старой Шкуре Типи?
И тут мне помогло появление Младшего Медведя, который ехал как раз в нашу сторону. Само собой, сидел он задом наперед, лицом к хвосту, однако, как раз это и делало его команды-наоборот и подергивания уздечкой нормальными. Он давал лошади команду «влево», имея в виду «вправо», а так как он сидел, поворотясь к лошадиному крестцу, то в этом был опять же здравый смысл, поскольку лошадь шла вперёд, что и надо было.
— Почему, — спрашиваю я, — Младший Медведь стал Человеком Наоборот?
Как я и думал, вождь дал объяснение вполне традиционное:
— Потому что он боялся молнии и грома.
— Вот потому и я решил поехать на запад со своими фурами, — объяснил я.
И, знаете, ведь в этом объяснении была некая доля правды.
Учитывая то, во что, в конце концов, тот договор вылился, я испытываю определенную гордость оттого, что я сыграл кое-какую роль в том, чтобы отправить своих друзей подальше от беды. Чёрный Котёл, Белая Антилопа и другие южные Шайены и Арапахи, которые прикоснулись к перу, оказались в резервации вдоль реки Арканзас, в юго-восточной части Колорадо, месте без дичи, маловодном, с бесплодными землями. А через несколько лет, как раз когда их мирное стойбище располагалось на Песчаной речке — Санд-Крик, на территории той самой резервации Третий Колорадский Добровольческий Кавалерийский полк устроил им кровавую баню…
Глава 14. В ЛОВУШКЕ
Эта резня при Санд-Крике произошла в шестьдесят четвертом, в самом конце года. С мятежом к тому времени, как вы знаете, было уже покончено, иначе этой бойни вообще бы не было, потому как войскам было бы не до того.
Что до меня, то после той поездки в Миссури я превратился в домоседа. Да ещё втемяшил себе в голову заделаться крупным бизнесменом-воротилой или там встрять в политику. Ко всему, я заподозрил своих так называемых компаньонов, Болта и Рамиреса, которые Должны были со мной делить все поровну, в нечестности. Но как я мог что-то проверить, когда всё время был в разъездах? В знак доказательства вы бы послушали, как они принялись возражать, когда я заявил, что впредь собираюсь безвыездно работать при лавке!
Ну, в бухгалтерии я не шибко разбирался, так что доказать, насколько они меня обобрали, не мог. Но с тех пор, как перестал разъезжать, моя доля заметно возросла. А следующее, что я сделал, так это построил дом и женился.
Мне было тогда двадцать. Женщина, на которой я женился, вернее, девушка восемнадцати лет от роду, была шведкой. Родилась она в Швейцарии и лишь за несколько лет до этого вместе с родителями переехала в Америку. Осели они в Спирит-Лейк, штат Айова, где её мамаша с папашей были злодейски убиты во время нашумевшей резни, учиненной бандой индейцев из племени Санти-Дакота. Было это лет за пять до нашей женитьбы, так что была она достаточно небольшой, чтобы спрятаться в погребе для картошки, что она и сделала, и в результате осталась жива. Звали эту девушку Олга. И когда я на ней женился, то чтобы её спрятать, потребовалась бы, пожалуй, щель побольше. Потому как росту у неё было едва ли не шесть футов, да и все другое под стать, хотя лишь него жиру не было у неё ни унции. Была она повыше меня, даже когда я обувался в ковбойские сапожки на высоких каблуках.
Кожа у Олги была очень белая и тонкая, а волосы такие красивые и светлые, что даже в пасмурный день, казалось, на них падает солнце. В Денвер она приехала с одним семейством, которое после гибели её родителей взяло её к себе, за что она чёрт знает сколько работала на них: стряпала там, глядела за детьми, убирала, дрова колола — в то время как хозяйка слонялась с недовольным видом по дому, а хозяин так и норовил похлопать Олгу ниже пояса.
Девушка мне приглянулась с самой первой встречи, и дело не в том, что была она красавицей, хотя и была таковой, и не потому, что роскошное тело делало её вдвойне привлекательной при моих деньгах. А главным образом потому, что у неё был золотой характер, лучше и не сыскать. Из себя её вывести было невозможно, а я всегда питал некоторую слабость к кротким женщинам. Так, ей и в голову не приходило, что она втройне уже отработала тем людям, что её взяли, за то немногое, что они для неё сделали. И когда мы поженились, мне каждый Божий день стоило немалого труда удерживать её дома: управившись по хозяйству у нас, она так и рвалась подсобить тому семейству.
А к следующему году у нас с Олгой и у самих появился ребёнок, а ещё я выстроил дом, про который уже упоминал. Славный домишко, весь деревянный, на четыре комнаты, с острой крышей. Конечно, он не шёл ни в какое сравнение с хоромами Пендрейков, но для Денвера был в самый раз. Ребёнок, которого родила Олга, был мальчиком, и мы его назвали Густав в честь её папаши, убитого индейцами, и этот мальчик, хоть ещё и совсем кроха, выглядел вылитым шведом, был такой белобрысенький, голубоглазый…
Из детства среди Шайенов я вынес убеждение, что я смышленый малый, и даже время, проведенное у Пендрейков, ничего не изменило. Ибо, как мне кажется, в любви нельзя быть умным. А вот в бизнесе — можно, И я себя считал парнем что надо. Это при том, что с компаньонами у меня не было даже никакого письменного соглашения, так что Болт взял себе за правило упоминать об этом в конце каждой субботы, когда подбивал приход за неделю, вычитал расход, а потом делил выручку на три части, хотя, как через некоторое время я заметил, наличные брал только я, а он и Рамирес предпочитали свои класть тут же в сейф.
Когда об этом я заикнулся, мне сказали, что они «подвергают свой доход повторной вспашке» — Болт был большой мастер по части таких фразок, когда надо было растолковать какую-нибудь тонкость.
— Тогда на что же вы живете? — спросил я. Рамирес расхохотался, обнажив большие белые зубы, но Болт рассудительно заметил:
— Разумеется, в кредит. Мы, Джек, люди цивилизованные, а цивилизация отнюдь не строится на деньгах как таковых, а скорее на ИДЕЕ денег. Вот, например, возьми индейцев, тех, что торгуют с нами. Допустим, приносят они нам шкурку или чего там и тут же требуют чего-нибудь взамен на ту же сумму. Им и в голову никогда не придет открыть у нас счёт, а ведь по нему они могли бы, когда надо, брать припасы и прочие товары, а долг каждого из них записывался бы, а потом вычиталась стоимость шкурок. Таким образом, они избавились бы от перепадов и скачков в своей дикарской жизни, и круглый год могли бы жить одинаково хорошо, в голодные и сытые времена, выплачивая долг после удачной охоты. Ну, он мог часами излагать свою теорию бизнеса и разглагольствовать о том, как они с Рамиресом предпочитают повторно вкладывать в наше дело свою долю вместо того чтобы сорить деньгами налево и направо. У них самих счета были и у цирюльника, и в салуне, и везде в подобных местах. Ну, а остальные свои потребности они удовлетворяли из наших собственных складов и записывали в бухгалтерскую книгу на свой счёт. Не то, что я: когда я покупал что-нибудь Олге для дома, то тут же вносил в кассу звонкую монету, хотя, разумеется, при этом, как совладелец, пользовался скидкой.
Ну, а на счёт второго, о чём он часто говорил, а именно; что наше дело строится всего лишь на честном слове, и больше ни на чем, то этим он просто гордился, а я — меня это малость тревожило. Я полагаю, он об этом говорил так часто, небось, потому, что я все время требовал оформить все законным образом.
Однако, такой тактикой преуспели они только в одном: моя подозрительность дошла до того, что я больше не стал ничего слушать и решительно воспротивился, и мы наняли стряпчего и справили бумаги, по которым моя треть была узаконена документально. Или, по крайней мере, мне так казалось — хотя бумаги эти я изучал очень придирчиво. Да, тут уж я твёрдо решил не дать маху и бумаги эти проштудировал с превеликим усердием и скрупулезностью — вы ведь знаете, что читать я умел.
Но, видать, у права свой собственный язык, особый… С Олгой мы жили душа в душу, и, главным образом, считаю, потому, что она почти не говорила по-английски, ну, а я, понятное дело, по-шведски — ни бельмеса. А раз уж потолковать по душам нам не удавалось, то мы прекрасно уживались, горшков не били, да и вообще — дурного слова друг от друга не слыхали!
Сынок наш, крошка Гэс, бутуз был очень славный и сообразительный, и мне очень нравилось качать ногой колыбельку, а он что-то там лепетал, агукал, сучил ручонками и делал все такое прочее, что делают младенцы; а напротив, в нашей маленькой комнатушке сидела Олга и всегда что-нибудь штопала-шила, и стоило мне только посмотреть на неё, как она, в этой своей умилительной шведской манере, принималась улыбаться и спрашивать: не хочу ли я чего-нибудь поесть. В этом она была совсем как индианка; считая всех вечно голодными.
Затем как-то в конце осени шестьдесят четвертого Болт и Рамирес неожиданно смылись из города, оставив на меня все свои задолженности. Тогда-то я и раскумекал, что означало это наше соглашеньице: мне в одиночку предстояло отвечать перед законом за всё наше коммерческое предприятие, ну и, понятно, за все долги. Я ведь упоминал уже, что эти типы на счёт фирмы вносили все свои расходы, даже на стрижку и бритьё.
Да-а-а, встрял я в передрягу благодаря своей «прозорливости», если воспользоваться словечком преподобного Пендрейка. Несмотря на то, что внешне все выглядело иначе, наша лавка, в последнее время приносила одни убытки. Происходило вот что: Болт и Рамирес урезали цены — и, чем больше мы сбывали, тем больше на этом прогорали. Хочу сказать: тем больше прогорало наше дело — они-то ведь никогда по сути не платили наличными, как я уже упоминал об этом.
Задерживаться в Денвере я не стал. С Олгой, которая по-моему, так до конца и не уразумела настоящую причину, мы упаковали чемоданы, и вместе с сыном сели на утренний дилижанс, бросив все к чертям собачьим на произвол судьбы: и дом, и дело, и притязания на респектабельность. Мне не было ещё и двадцати трёх лет, а я уже попал в несостоятельные должники.
И всё же я испытал что-то вроде облегчения. Что ж, жить припеваючи оно, конечно, чего лучше, но нельзя не согласиться и с тем, что и в поражении есть свои плюсы — это чувство огромной свободы. И пока мы тряслись по дороге, ведущей на юг, в Колорадо-Сити и Пуэбло, в душе моей воцарился покой, и радовался я почти, как Олга. Она, как мне кажется, была уверена в том, что мы в отпуске и просто путешествуем. На дворе стояла середина декабря 1864. У реки Арканзас дилижанс должен был сворачивать на восток и, если ехать до конца, можно было как раз к Рождеству добраться до форта Ливенуорт. Билеты я купил до конечной станции и денег у меня оставалось в обрез — лишь на пропитание, да за ночлег на остановках — хотя первое время мы могли немного сэкономить, так как Олга прихватила с собой целую корзину всякой снеди.
Каких-то особых планов у меня не было — хотелось Только махнуть куда-нибудь подальше: скажем, перебраться у Ливернуорта через Миссури и заехать в городок, где обитал преподобный Пендрейк, чтобы перехватить у него деньжат. Пожалуй, намерение Шайен теплилось. А ещё можно было в Ливернуорте заскочить к начальнику тамошнего гарнизона: он мне ещё когда я был мальчишкой, обещал посодействовать в устройстве в армию. Кажется, к тому моменту я уже научился брать от жизни только то, что она сама мне предлагала, и в этом моем таком душевном состоянии большим подспорьем для меня оказались и Олга, и Гэс.
Гзсу было уже годика два, но мы его ещё ни разу не стригли — уж больно хорошо ему было с беленькими кудряшками. Глазенки его, небесно-голубые, пристально рассматривали все вокруг, почти не отрываясь. Это была его первая в жизни поездка, и чем ухабистее оказывалась дорога, тем больше она ему нравилась. Когда нас, словно горошины, подбрасывало внутри экипажа — а на тогдашних дорогах в дилижансе запросто можно было все зубы порастерять — он заливался радостным смехом, как колокольчик. Во всём он пошёл в мать, и меня это вполне устраивало, потому как я никому не пожелал бы иметь мою рожу, фигуру или характер.
Но вот чего до сих пор я не сказал, так это что кровавая бойня при Санд-Крике произошла всего за две недели перед этим: тогда на рассвете отряд полковника Чивингтона атаковал стойбище Шайенов и Арапахов и стёр его с лица земли; при этом среди погибших две трети составляли женщины и дети.
Ну, сам-то я при Санд-Крике не был, так что не считаю себя вправе обсуждать то, что там случилось, хотя это и сказалось на моей дальнейшей судьбе, так как в последующие дни Шайены по всему фронту вышли на тропу войны. А этот полковник Чивингтон (мы его как раз и встретили на реке Арканзас, ниже по течению от форта Лайонс) так он все ещё преследовал остатки индейцев из того селения на Санд-Крике — Песчаной Речке.
Тогда колонна солдат остановилась, и к нам подъехал молоденький лейтенантик. Он козырнул Олге, которая выглядывала из окна дилижанса, и сказал кучеру на козлах:
— Полковник Чивингтон просил вам всем засвидетельствовать его почтение. Нижнее течение реки нами от индейцев очищено, так что позвольте вас заверить, что подведомственная нам территория совершенно безопасна.
Услышав эту новость, кучер с облегчением вздохнул, да и мне тоже полегчало на душе: ведь на последней станции он ни о чём другом не говорил, а только о возможности налёта враждебно настроенных индейцев, тогда как Олга, которая мало понимала, когда о чём угодно говорили, но услышав упоминание об индейцах, сразу начинала ерзать, буквально не находя себе место.
— Ты слышала? — спросил я и похлопал её по руке, которая, возможно, и не была такой нежной, как у миссис Пендрейк, но зато принадлежала мне.
А она поднесла крошку Гэса к окну и сказала:
— Смотреть, красифый лошадка!
Она имела в виду скорее всего не лошадь лейтенанта, а исполинского жеребца во главе кавалерийской колонны ярдах в пятидесяти от нас. На этом гигантском звере восседал сам полковник Чивингтон — я его раньше видел в Денвере. Я даже как-то обменялся с ним рукопожатием, и потом весь остаток дня в память об этом сильно ныла рука. Боже, до чего же он был здоровенный! Особенно огромной была его грудь колесом, хотя и одна его голова была никак не меньше всего Гэса.
Он заметил, что мы глядим на него, и застыл в седле как каменная статуя, потом отдал честь ручищей-колуном и прокричал громовым голосом проповедника:
— Ну и задали же мы жару этим чертякам!
Потом войска пошли дальше на запад, а мы продолжили свой путь в восточном направлении, и, по-моему, где-то через час пути от того места, где встретили полковника — мы как раз переехали вброд обмелевшую речонку и выползали на противоположный высокий берег, и я поддерживал Гэса, высунувшегося из окна, чтобы посмотреть как с задних колес стекает и капает вода — я услышал, как ойкнула Олга, обернулся и увидел, что её розовое личико побелело как мел и почернели голубые как небо глаза.
Тогда я взглянул вперёд: с северной стороны на обрыве, маячило примерно с полсотни всадников. Индейцы! И не было необходимости мне объяснять, я сразу догадался, что это Шайены. Маленький Гэс тоже их заметил и тотчас радостно залепетал и захлопал в крошечные ладошки, а когда я передал его в материнские руки, индейцы поскакали на нас.
Ну, вскоре мы забрались на гребень берегового склона и дальше дорога шла уже прерией среди холмов, вот мы и рванули во весь опор. Был ясный зимний день — холодный ветер прорывался сквозь боковые шторки. Я достал свой пистолет, но расстояние было ещё слишком велико. Однако ехавший на крыше дилижанса идиот-охранник сразу же от страху наделал полные штаны и начал из своего дробовика палить неразумно и понапрасну — ведь оно до ближайшего индейца было никак не меньше, чем с четверть мили. Когда же, наконец, они приблизились настолько, что в самый раз было остановить их на почтительном расстоянии, у него кончились патроны!
Ну, этот дробовик если на что и годился, так только чтобы отпугивать, потому как попасть из ружья или револьвера можно было только случайно — дилижанс так швыряло из стороны в сторону, так трясло, да и цель тоже не стояла на месте. Это всё равно, что если бы бросать горошинку в прыгающего кузнечика, и самому при этом нестись во весь дух. Хорошо только, что и индейцам оказалось не легче попасть в кого-нибудь в дилижансе. Так что пока мы продолжали катить, далеко не все ещё было потеряно. И хоть лошади наши подустали, но, с другой стороны, это само по себе означало, что следующая станция, где мы могли их сменить, была милях в пяти-шести.
Но я ещё не представил наших спутников. Их было трое. Один — коммивояжёр — Живчик, который ехал с нами от Колорадо-Сити и всё время пытался всучить свои товары. На крыше дилижанса был привязан его сундук, но на коленях он держал небольшой чемоданчик, и просто диву даешься, какое невероятное количество барахла он из него извлекал! Потом был ещё владелец ранчо, крепко сбитый такой детина лет под пятьдесят. Тот без конца пытался завязать разговор про победу Чивингтона и о том, «на самом ли деле разрешила она индейский вопрос». И, наконец, на последней станции к нам сел какой-то угрюмый и злобного вида попутчик. Не сказав никому ни слова, он выпихнул коммивояжёра из дальнего правого угла и плюхнулся туда сам, после чего только поправил на поясе рукоятку своего большого «Кольта», чтобы мгновенно можно было его выхватить, если только кто-нибудь вздумает дохнуть в его сторону. Клянусь, я бы не потерпел такого обращения от этого сукиного сына, но меня он не трогал, так что я не стал ничего предпринимать, к тому же этот коммивояжёр мне никто: ни брат, и ни сват.
Хотя теперь, когда за нами гнались, я был рад присутствию этого типа. Тем более, когда охранник сверху оказался паникером, коммивояжёр был безоружным, а фермер — его звали Перч — настойчиво предлагал остановиться и постараться от Шайенов откупиться — оказывается он когда-то прикупил земли у дружественных Осаджей, на основании чего и полагал, что можно с любым индейцем договориться, были бы деньги. Имея таких попутчиков, совсем немудрено было влюбиться в этого хама, которого я дальше буду называть Чернявым — у него были пышные чёрные усы — потому как имени его я так и не узнал. Вот кто чертовски сохранял спокойствие: просто сидел себе лицом вперёд и ни разу даже не оглянулся на преследователей, но рукоятка его револьвера, отполированная до блеска, видать, от частого употребления, торчала наготове на всякий случай.
А случай этот представился гораздо раньше, чем я рассчитывал. Ещё с полмили мы неслись по открытой прерии, сохраняя расстояние между нами и индейцами, но затем пони Шайенов стали нас быстро настигать. Сидел я спиной к кучеру, в левом углу дилижанса, и когда ближайший индеец оказался ярдах в ста, я высунулся и в него выстрелил, потому как, если до сих пор расходовать заряды по примеру охранника было бессмысленно, то теперь, когда они так приблизились, это приобрело большой толк: надо было показать им, что нас голыми руками не возьмешь.
Я не попал в этого всадника даже и близко, но тот вильнул и поскакал с другой стороны дилижанса. Я и говорю Чернявому:
— Стрельни теперь ты в него, дружище!
Но Чернявый и бровью не повел, сидит себе и смотрит исподлобья перед собой и все. И я подумал, вот только выберемся мы из этой передряги, и я займусь тобой, парень, ох займусь! Но в тот момент мне было не до выяснений, так что я это оставил так, к тому же этот самый коммивояжёр меня дернул за рукав.
Он говорит мне:
— У меня здесь с собой смесь машинного масла и растворителя. Прекрасно удаляет пороховой нагар! Рекомендую — превосходное средство для любых стволов!
Потом вытаскивает из своего чемоданчика какую-то бутылочку и предлагает не церемониться, а испробовать средство на моем стволе, причём, бесплатно. Понравится — он мне уступит целую пинту, с боль-шо-о-ою скидкой.
Вот видите, сколько было проку от этих моих попутчиков. Значит, выхватываю я бутылочку из рук у него, из горлышка её выскакивает пробка, а содержимое проливается прямо на кончик сапога Перча. Клянусь, жидкость мгновенно проедает носок сапога — и Перчу ничего не остаётся делать, как тут же скинуть левый свой сапог и вышвырнуть его в окно!
И вот, сэр, представляете, как только индейцы поравнялись с сапогом, то двое из них остановились, спешились и стали его внимательно рассматривать. И тут мне пришла в голову идея… Так что вылезаю я наружу, оставаясь только одной ногой в окне, что, кстати, когда дилижанс мчится на полной скорости, сделать не просто, и окликаю ребят, которые снаружи. Ну, кучеру, тому совсем не до меня, ну а охранник, как только показалась моя голова, приставил к ней свой дробовик и, похоже, разнес бы всю башку мне, будь у него хоть один патрон — бедняга с перепугу, видать, принял меня за краснокожего. Понадобилось немало времени и сил, да ещё пришлось надсадно драть горло, прежде чем я всё же докричался, несмотря на свист ветра и охватившую его истерию, до его куриных мозгов и втолковал свой план, и в конце концов он пополз к тому месту, где крепился багаж, стал открывать чемоданы и коробки, и выбрасывать разную одежду и прочее содержимое. Чего только не было в сундуке коммивояжёра: пальто, платья, воротнички, костюмы, отрезы материи, которые разворачивались и полоскали на ветру — один такой отрез пришёлся прямо в индейца, хлестко ударил его, и концы его заполоскали по бокам, тогда этот индеец на скаку обмотал материю вокруг себя, однако, тут соблазн взял верх, и он остановился, чтобы хоть краем глаза посмотреть на себя в зеркальце. Ну, в сундуке тоже были зеркала, но, падая на землю, они разбивались вдребезги, впрочем как и бутылочки с маслом для волос. Зато оловянные тарелки оставались в целости, и Шайены обязательно останавливались и подбирали их. Но все это было ничего по сравнению с фурором, который вызвали парящие в воздухе дамские шляпки. Ими, да ещё содержимым нашей большой сумки, открытой вслед за сундуком, завершилась эта часть погони. Последнее, что я увидел перед тем, как дилижанс пошёл под гору, так это как двое Шайенов ссорились из-за панталон Олги, украшенных кружевами и лентами; эти панталоны каждый из них тянул на себя, а с полдюжины индейцев нарядились в шляпки с разными безделицами, оборками и складками.
Потом у дилижанса отвалилось колесо и мы ещё по прерии ярдов двести проехали прежде чем удалось остановить животных, потому как, хоть лошади и устали, но были слишком напуганы, и как только кучер отцепил их от дилижанса, так они тут же убежали, волоча за собой постромки.
Мы с кучером немного обсудили как нам быть дальше: оставаться на месте или уходить. Находились мы на возвышенности над рекой, внизу почва оказалась слишком рыхлой чтоб задержать экипаж. На другом берегу Арканзаса, зимой сильно обмелевшего и покрытого тонкой корочкой льда, тянулись песчаные холмы; там можно было продержаться до тех пор пока заметят, что дилижанс не прибыл вовремя, и вышлют войска, хотя, возможно, ждать пришлось бы долго — ведь не станут бить тревогу, если дилижанс опаздывает меньше, чем на сутки. Но в одном сомневаться не приходилось: трофейное имущество Шайенов отвлечет их не надолго. Скоро они будут тут как тут, хоть покамест о нашей поломке им неизвестно, ведь мы находились в ложбине.
В этой аварии, слава Богу, никто не пострадал — дилижанс устоял, не перевернулся; более того, похоже, небольшая встряска всем пошла на пользу, по крайней мере, Перку и коммивояжёру; если можно так сказать, эта встряска вышибла им дурь из головы. Да и Олга выглядела менее встревоженной, чем прежде, во время погони. Все столпились возле экипажа, и я уже переговорил с кучером, как вдруг заметил, что Чернявый ещё не вылез. Я заглянул внутрь дилижанса, который опасно накренился. Чернявый всё ещё мешкал в своём углу, но угрюмая рожа упрямо вперилась вперёд, да вот только глаза теперь были подернуты пленкой, словно запруда пеной. Я помахал рукой у него перед глазами — а он сидит и в чёрный ус себе не дует, никакой реакции. Тогда я уж снял с него «Кольт» и забрал из карманов патроны да попытался отыскать хоть какие-нибудь документы, но ничего не нашёл, да и времени было в обрез.
Наверно, он умер от разрыва сердца и совсем, видать, недавно. От страха или не от страха — кто его знает. Но остальным сейчас об этом я говорить ничего не стал. А вскоре мы уже перебирались вброд через Арканзас, при этом сильно в ледяной воде промочили ноги и не имели возможности их просушить, так как поначалу не осмелились развести костёр, а потом, когда нас обнаружили, возникло много всяких обстоятельств, когда нам стало не до того. И едва мы добрались до песчаных холмов на южном берегу, как заметили, что Шайены уже почти взобрались на бугорок, а потом как припустят вниз, к брошенному дилижансу. Они думали, что мы там, внутри — вот потому-то его сначала окружили, потом спешились и, издав боевой клич, набросились на экипаж: вытащили тело Чернявого, сорвали с него одежду, набросили на шею аркан и давай тащить волоком по прерии, и волочили до тех пор, пока тело не распалось на куски. Но, кажется, Чернявому уже было всё равно, что мёртвому припарки…
Очень многие из индейцев понапяливали на себя самые различные предметы женского туалета: изысканные модные шляпки, про которые я упоминал, ленты и чехлы от корсетов, а тот храбрец, который победил в споре за панталоны Олги, разорвал их пополам и надел на руки, как рукава. В оловянных мисках ножами они понапрокалывали дырок, нанизали их на красные ленты и те, привязанные к лошадиным хвостам, вовсю звякали и грохотали. Некоторые замотались в отрезы. Склянки со средством для укрепления волос не все разбились, и я видел, как кое-кто из индейцев к ним прикладывался, вот я и поинтересовался у коммивояжера содержимым бутылочек. Ну, а раз теперь их он продать не мог, то сразу же признался, что так, ничего особенного, просто подкрашенная вода и я возблагодарил Господа за это. Потом они увидели наши следы на другом берегу. Вдоль гребня самого высокого холма мы развернули оборонительный рубеж, за ним, в глубине, на обратном склоне расположились Олга с Гэсом и коммивояжер. Последний оказался там не потому, что струсил — просто у него не было оружия. У кучера был карабин, у охранника, к счастью, нашлись ещё два револьвера кроме бесполезного теперь дробовика. Перчу я отдал свой карманный «Ремингтон», себе оставил большой «Кольт» Чернявого. А у Шайенов было всего два-три ружья, и, судя по всему, в плохом состоянии. Вот если б нам для пущего эффекта удалось организовать стрельбу залпами и не подпускать их на расстояние полета стрелы из лука, то, вполне может быть, мы смогли бы остудить наступательный пыл Шайенов.
Поэтому, пока их кони осторожно, чтоб не порезаться, ступали в реку, с хрустом взламывая корку льда у берега, я всем нашим парням указал каждому свою цель, и когда индейцы добрались до чистой воды и перешли на галоп, мы выстрелили все как один.
Я в первый раз бил из этого «Кольта», вот моя пуля и перелетела выше цели, срезав на головном уборе индейца белое перо. Но слепая удача улыбнулась Перчу, который из моего крошечного пистолетика угодил в колено лошади. Скорее всего пуля всего лишь его царапнула, а не перебила кость, однако лошадь скинула седока, который шлепнулся в воду, подняв тучи брызг. Пытаясь его объехать, столкнулись ещё два воина, а наш кучер расщепил лук в руках ещё одного и тот его отбросил в сторону, словно ошпаренный.
Этого оказалось достаточно, чтобы скомкать атаку на одном фланге и повлиять на боевой дух в целом; но двоим индейцам до того хотелось, хоть ты тресни, немедленно достичь успеха, что они готовы были переть грудью даже на жерла пушек. Ну, кучер в это время как раз перезарядил наше единственное дальнобойное оружие, охранник, как и прежде, палил очертя голову, а Перчу — увы! — больше не везло…
К тому моменту, как эти двое нетерпеливых Шайенов, один — на вороном, другой — на пегом в куче брызг почти что проскочили мелководный Арканзас и оказались в семидесяти ярдах, я уже дважды в них выстрелил, и оба раза начисто промахнулся. Они же не дрогнули и, как и прежде, неустрашимо на нас мчались. Все ближе, ближе… Я вжался в песок брюхом, подбородком — тоже; несколько песчинок попали в рот, и мне казалось, что под языком зудят прыщи. Шайен на пегом затянул победную песню, и я её, конечно, понял, и мне стало совсем не по себе — я знал, что он взвинтил себя, как это делают Шайены, до истерики и что ему сейчас в неистовстве нет удержу, и только смерть одна способна его остановить.
Осталось сорок ярдов до того, в кого я целил, Он уже выбрался на берег и неистово хлестал лошадь, гоня её вверх по склону нашего песчаного холма. Тогда я ещё раз выстрелил из последнего патрона в барабане. Промах! Но кучер уже закончил заряжать свой карабин, раздался выстрел и он попал Шайену прямо в грудь. Это был отличный выстрел, и очень непростой даже для такого близкого расстояния. Шайен перелетел через хвост своей лошади — ленты дамской шляпки, взметнулись вверх, эту самую шляпку я как-то раньше не приметил — и он скатился почти к самой реке, потеряв при этом шляпку; слова песни замерли у него на устах и больше он уже не встал, хотя, когда наступили сумерки, он был ещё жив — после того как все стихло, мы слышали его судорожное дыхание.
Не помню, что стало со вторым; наверно, повернул назад, видать, духи от него отвернулись. До сумерек индейцы предприняли ещё две атаки. Есть вещи и приятней, чем лежать на холодном песке, когда на тебя несётся с полсотни индейцев. Но их наскоки мы отразили, при этом несколько человек ранив; правда, во второй раз перед отходом они ранили Перча стрелой в плечо.
Когда солнце село, индейцы заняли рубеж на противоположном берегу; больше они не издавали насмешливых криков и не потрясали копьями — видать, за день эта сторона боевых действий им порядком приелась. Новых атак можно было ожидать с рассветом на следующее утро. Пока же они молча пожирали нас глазами, а потом, когда стемнело, развели костры, потому как похолодало и становилось всё морознее. Потом все они закутались в одеяла и принялись за ужин, припасенный в мешочках из бизоньей кожи.
Мы же все сидели на песке; совсем стемнело, поднялся ветер, стало слишком холодно даже для того, чтобы пошёл снег. У Перча было ранено плечо и обморожена нога, так как ему пришлось расстаться с одним сапогом, а затем ещё и переправляться вброд. Я не сомневался, что он лишится этой ноги, но сейчас он отказывался от немедленного хирургического вмешательства на столь низком уровне, ссылаясь на то, что боль в ноге сводится на нет болью в плече. Он оказался тертым калачом, этот Перч, с характером. Кремень, а не человек. Кто б мог подумать…
Кучер взял с собой большую флягу, и воды, по крайней мере, на ночь было достаточно. Но жевать было нечего. И костёр развести мы тоже не могли — на голых холмах не росло ничего, что можно было бросить в костёр. Но у всех имелась теплая зимняя одежда, а в ложбине за нашим гребнем можно было укрыться от ветра. Когда стало совсем темно, мы спустились в эту ложбину, а на вершине холма оставался кто-то один, по очереди.
Я говорил уже, что Олга после того, как у дилижанса отвалилось колесо и наше положение стало пиковым, взяла себя в руки, да и сейчас по-прежнему была совершенно невозмутима: от нижней юбки оторвала несколько кусков ткани, перевязала Перчу раненое плечо и всячески старалась растереть ему замерзшую ногу. А этот охранник, худой такой, длинноносый, нервный, который, потеряв голову, безрассудно палил в индейцев, так он сейчас, в перерывах между атаками, все дергался, сопел носом и чесался, словно у него были блохи. Так вот, когда он спустился в ложбинку, Олга подошла к нему и вытерла лоб — он был весь в поту, несмотря на холод — и тогда он говорит ей: «Благослови вас Господь, миссис», и сразу засыпает как ребёнок.
Хочу сказать, что она была хорошей женщиной и старалась быть полезной. А малыш Гэс, как только затрещали первые выстрелы, которые вызвали у него восторг, захотел пострелять и себе, и с этой целью пополз к верхушке холма, но Олга его перехватила. Потом он утратил интерес к стрельбе и играл сам с собой в этой ложбине, рисуя на песке каракульки. Я ими обоими здорово гордился, да и переживал за них чёрт знает как, вот и решил, что надо сделать все возможное и невозможное, только б спасти их.
И решил я отправится в Ларнед, который милях в сорока отсюда, однако, по пути, милях в десяти, должна быть почтовая станция, если только индейцы её не уничтожили, и там я мог раздобыть лошадь. А к следующей ночи я должен был вернуться с военной подмогой, а до моего возвращения наши, наверняка, были в состоянии продержаться.
Остальные согласились с моим планом, хотя этот отважный вояка-коммивояжёр хотел отправиться вместо меня — он заявил, что здесь от него мало проку как от стрелка. Кучер, по той же причине, предлагал, чтобы отправился охранник. Но я знал, что для этого дела подхожу больше всего, вот и настоял на своём.
Всем я пожал руки, поцеловал Олгу. Малыш Гэс сладко спал у неё на руках, и я не захотел его будить, так что только прикоснулся губами к его пухлой щечке и поправил сползшую набок шерстяную шапочку, хотя этой холодной ночью он не мерз — на ощупь был горячим как раскаленный уголек, да и как же иначе — мальчишка он был хоть куда, крепенький…
— Все будет хорошо, милая, — сказал я Олге, — не волнуйся.
— Я ждать стесь, — ответила она и похлопала рукой по песку, и в этом я нисколько не сомневался, потому что человек она была серьёзный — так что ничего похожего на безнадежность я не испытывал. Я передал «Кольт» коммивояжеру и в кромешной темноте ушёл. Где-то милей ниже по течению реки перебрался на северный берег, затем снова натянул сапоги и побежал дальше до почтовой станции.
Здесь все прошло хорошо — разве только меня едва не подстрелили, так как завалился я к ним глухой ночью. Их там было трое — явно мало для того, чтобы вернуться и разогнать полсотни Шайенов. К тому же, один оказался мертвецки пьян, а двое других, когда узнали, что индейцы совсем рядом — рукой подать, сразу наделали в штаны, и тотчас же драпанули прятаться в земляную щель, и даже выход за собой заложили дерном. Но зато я получил лошадь, которую едва не загнал до смерти, пока доскакал до форта, где обо всем сообщил начальнику, который без особых проволочек поднял солдат в ружьё, дал команду: «По коням», я получил свежую лошадь и кавалерийская колонна тронулась в путь. Скакали мы быстро, даже для армии.
И за час до заката мы были на возвышенности, откуда в позаимствованный бинокль я увидел наш брошенный дилижанс. Шайенов поблизости не было. Но и из наших на песчаных холмах никого не было видно — скорее всего они залегли, ведь разве на таком расстоянии отличишь нас от индейцев…
Во всяком случае, именно это я твердил сам себе, пока мы не подъехали поближе; потом я бросился на тот берег, стегая без конца выбившуюся из сил армейскую лошадь, чтобы заставить её лезть в трясину оттаявшей за день под солнцем и сильно размякшей поймы, а затем, чтобы направить в воду. А когда лошадь не без труда взобралась на противоположный берег, я с неё спрыгнул и побежал вверх по склону, громко крича.
Первым я наткнулся на коммивояжера. Муравьи уже подобрались к его глазам, хотя убили его, видать, всего какие-то пару часов назад. В его теле торчали три стрелы, голова была без скальпа и кровь ещё не запеклась. Рядом, в том же виде, лежал кучер; правая рука его исчезла — он был метким стрелком и Шайены таким образом это отметили.
Охранник был весь изрублен, а вот тело Перча не тронули: он с перевязанным плечом и отмороженной ногой, если можно так сказать, был «испорчен» и на трофеи не годился. И ко всему, он был лысым.
Каким-то образом их смяли. Возможно, убили кучера, а остальные без него растерялись и с ними справиться оказалось легче. Как оно было на самом деле, я не знал. И совсем у меня упало сердце, когда я спустился в ложбину, и не нашёл там ни Олги, ни Гэса. Как, впрочем, нигде в окрестностях их обнаружить мне не удалось. Мою семью Шайены увезли…
Глава 15. ЮНИОН ПАСИФИК
Я не вдаюсь в подробности того, как на следующий день мы бросились по следу Шайенов, потому как те, по своему обыкновению, распались на множество группок и разбрелись кто куда, так что узнать, с какой из них Олга и Гэс не представлялось возможным. Жалеть об этом не стоило, потому что если бы солдаты настигли их, то не исключено, что индейцы, из чистой злобы могли убить мою жену и нашего сына.
А в сложившейся ситуации можно было договориться с индейцами о выкупе. И если уж на Арканзасе Шайены их не убили, то впоследствии не стали бы этого делать, тем более что их взяли в бою. Уж в этом-то я был уверен почти на все сто процентов, если можно вообще быть уверенным в том, что дикари будут все время думать о своей выгоде. Вдруг в какой-нибудь стычке с белыми их разобьют, или какой-нибудь краснокожий вояка хлеб нет лишнего… Но размышления о подобных «вдруг» не имели смысла, поскольку от них совсем опускались руки.
В то время я ни о чём другом не думал, как только о том, что моя жена и ребёнок в руках этих ублюдков. Сорвать своё зло я был готов даже на Старой Шкуре, не будь он тогда на Пороховой речке.
Конечно, теперь-то я прекрасно понимаю, что отыскать свою семью и выкупить её мне было бы проще, будь рядом старый вождь или его люди, но как его отыщешь? Индейцам ведь ни телеграмму не отобьёшь, ни письмецо не напишешь. Так что отыскать его я и не пытался, а, вернувшись с солдатами в форт Ларнед, подался на некоторое время в разведчики. Но тут, как на грех, стычки с краснокожими в районе Арканзаса вовсе прекратились, и нападение на наш дилижанс было единственным серьёзным случаем за всё время. А настоящая каша заварилась вдоль Платта, где Шайены вместе с Лакотами и Арапахами отрыли томагавк войны. Эти племена бросили тысячу воинов на маленький городок Джульсберг и, конечно же, разграбили его.
Целый месяц краснокожие нагоняли страх на всех в районе Платта: громили ранчо и почтовые станции, обрывали телеграфные провода, нападали на обозы с переселенцами. Потом, уже в феврале, они опять нагрянули в Джульсберг, потешились вволю и на прощание спалили его дотла.
Весной эта нечисть откочевала на север, в Чёрные горы, а потом ещё дальше — к Пороховой речке. К лету солдаты сели им на хвост, произошло несколько серьёзных стычек, но к осени наших ребят, и без того измотанных боями и переходами, в горах накрыл буран, после которого войско лишилось почти всех лошадей. Солдаты, еле живые, оборванные и босые вернулись назад только благодаря Фрэнку Норту и его следопытам-Поуни, которые отыскали остатки войска и благополучно вывели его из гор. После этого бесславного похода Лакоты и Шайены совсем обнаглели и к следующему году выбили войска полковника Карингтона из тех фортов, которые он понастроил для защиты Боузменского тракта, ведущего к золотым рудникам Монтаны.
Нелегко признаться себе в том, что было, ох как нелегко. Но что было то было — вместо того, чтобы костьми лечь, но отыскать Олгу и крошку Гэса, я запил. Чёрт возьми! Никогда прежде со мной такого не бывало, но уж вовсе доконали меня неудачи…
Прошло несколько месяцев, и за то время, пока мы несли дозор в долине Арканзаса, нам не попался ни один Шайен. Понемногу я начал успокаиваться, потому что рассудил, что если индейцы, захватившие мою семью, ускользают от солдат без потерь, то у них нет особых причин жаждать крови их белых пленников. Я тешил себя мыслью о том, что когда всё утрясётся, я добуду разного товара, на который так падки краснокожие: одеял всяких, бус и другой дребедени и пойду от кочевья к кочевью как мелкий торговец. Таким макаром, как мне казалось, я непременно нападу на след Олги.
Свои надежды я подкреплял виски. И чем больше я пил, тем меньше мне нравились эти краснокожие ублюдки, особенно — Шайены. Ещё в Денвере я ловил себя на мысли, что не очень-то мне охота возразить, когда какой-нибудь идиот орет во всю глотку; «Нам надобно истребить этих краснокожих всех до единого, вот что!», теперь же я с готовностью поддакивал подобным речам. И кто знает — не сам ли я орал что-нибудь подобное, когда у очередной бутыли показывалось дно?
Распространяться о своих попойках не буду, но хреново мне в то лето шестьдесят пятого было жуть как, потому что если я не был пьян до блевоты, то блевал с похмелья. Понемногу меня несло на восток. Теперь, когда война закончилась, Канзас понемногу застраивался, и там, где недавно паслись бизоны, уже вырастали ранчо и городки поселенцев, обозы которых тянулись по прерии один за другим, упираясь друг дружке в задницу, и везде, где появлялись белые, рекой лилось спиртное…
Но вскоре у меня кончились монеты и заглядывать в каждый придорожный салун стало не на что, а подзашибить деньжат во время привалов какой-нибудь работенкой вроде охоты я не мог — не было ружья. Да и если бы было, то у меня так тряслись руки, что какая там к чёрту охота! Правда, мне перепадал стаканчик-другой, но этого уже было недостаточно, а большего за здорово живешь не предлагали — выпивку надо было отработать.
И стал я помаленьку шутом гороховым. Подходил к обозу на привале или там к ранчо, или же, если забредал в какой-нибудь городок, то прямиком к салуну и говорил:
— Ребята, не желаете ли поразвлечься? Выпивка ваша — развлечение моё!
В те времена народ был попроще и всегда какая-нибудь добрая душа клевала на мои штучки и ставила выпивку. Я мигом выдувал достаточно пойла, чтобы унять дрожь — а трясло меня как в лихорадке — и давай валять дурака, петь и плясать. А голоса у меня отродясь не было, да ещё огненной водой я давно сжег глотку, так что когда принимался орать песню, то самому казалось, что это ворон каркает, сзывает стаю на падаль.
Одну из таких вороньих песенок я разучил ещё в Санта-Фе. Помню хреново, но вроде говорилось в ней про маленького мула, так когда я орал её в Омахе, штат Небраска, то в салуне были какие-то парни, как раз погонщики мулов. Они тут же соорудили из тряпья и ремешков что-то вроде вьючного седла, нацепили его на меня и давай гонять на четвереньках вокруг стола да пинать под зад сапожищами. А один из них — самая подлая душонка — принес кнут с длинным ремешком и уже намылился хорошенько вытянуть меня по заднице, да так, чтобы кожа лопнула, как вдруг подходит к нему какой-то другой парень и говорит:
— Ну-ка, оставь его мне!
А тот гадёныш ему перечить — чёрта, мол, с два. В это время я рухнул на пол и смотрел на все на это как сквозь кровавый туман. И плевать мне было на то, отстегают меня или нет. Я и не помнил даже толком, как я в той Омахе оказался и какого чёрта я тут забыл. Но понимать-то понимаю, что действительно заслужил я хорошую трепку.
— Ну, ты, дохлый педераст, — говорит в это время тот парень этому стервецу с кнутом, — так твою распротак, вонючка, я тебе все зубы пересчитаю!
И ка-а-ак врежет гаденышу в пасть, да так, что там уже и считать было нечего — половина зубов оказалась на полу. Дружки подняли того типа и выволокли из салуна, а публика принялась вопить и улюлюкать. Один все орал:
— Вот так чудо с сиськами!
Я так толком и не понял, к чему он это мелет. А победитель надо мной наклонился, седло отстегнул, поднял, словно дитя, закинул на плечо, словно я не мужик, а свёрнутое серапе, и вышел прочь.
А на улице меня — швырь в конскую поилку, а оттуда выбираюсь, а он своей ручищей меня окунает и окунает в вонючую воду. Ну я и решил — пойду ко дну, потому что ни сил, ни желания жить у меня больше уже не было.
Но только когда я уже принялся пускать пузыри и барахтаться перестал, мой мучитель меня из этой мерзости выудил, саданул пару раз по горбу кулачищем, вновь взвалил на плечо, втащил по узкой лесенке в какую-то комнатушку и швырнул на латунную кровать.
И только тут я хорошенько его рассмотрел! Глядь — снимает он шляпу, а по плечам — волосы: длинные, рыжие, прямо огнем горят. Баба! И подходит она ко мне, садится на кровать рядом и говорит:
— Слушай, малыш, сама не знаю, чего это я за тебя заступилась. Видать, понравился ты мне. Как увидала тебя на полу, как ты там распластался, так у меня что-то в душе и перевернулось. И ни хрена с собой не поделаю, милый ты мой, ни на что не годный, никому не нужный… Как бы не полюбила я тебя…
Ну и начались всякие там бабьи бредни. А я вгляделся в неё и говорю:
— Погоди, Кэролайн, ты что, родного брата Джека не узнаёшь?
Мне это раза три пришлось повторить, прежде чем до нее дошло — уж больно голосишко у меня слабый был и от пережитого, и от мысли, что Кэролайн такая мысль в башку пришла — меня трахнуть.
У неё от изумления челюсть так отвисла, что на кровать шмякнулся изо рта кусок жевательного табаку в полфунта весом. Потом она как всплеснет руками да как заорет:
— Сукин ты сын!
Этого ей показалось мало и она присовокупила с дюжину отборнейших ругательств, по части которых с моей сестрицей вряд ли кто мог потягаться. А потом она заплакала и ну меня обнимать, целовать, воды принесла в жестяном тазу, обмыла мою чумазую рожу и после этого уж точно опознала и все повторилось опять: слёзы, объятия, поцелуи.
Кого-кого, а уж Кэролайн, родную кровь, я всегда был чертовски рад видеть, особенно теперь, когда как никогда нужна была мне поддержка.
После месяцев пьянок, стыда и унижений сил у меня совсем не остались, так что ворковали мы с сестрицей недолго, и я, как в омут, провалился в сон.
Наутро я подыхал с похмелья, задыхался без выпивки как без воздуха, корежило всего и трясло; я купался в испарине, пару раз меня наизнанку выворачивало и блевал я желчью, аж задницу сводило, но Кэролайн и капли мне не дала, а заместо этого принялась вымачивать меня в жестяной ванне, которую где-то раскопала. Пробултыхался я в этом корыте целый день да ещё и следующий прихватил, а сестрица, как только шкура моя привыкла к кипятку, подливала новую порцию. Так что когда в конце концов я прошёл эту пытку, то с потом вся многомесячная зараза из меня вышла, только чуть не вместе с духом: когда выполз я из корыта, то был выжат как лимон, ноги меня не слушались, подгибались, как у новорожденного жеребёнка, и меня от ветра качало.
Кэролайн за то время, что мы не виделись, не сильно-то изменилась, вот только черты лица пожестче стали, да табак начала жевать. Еще, хоть и мылась она регулярно, но здорово от неё попахивало мулом: она на этих тварях возила грузы вдоль Платта, где как раз шло строительство Тихоокеанской дороги.
Я валялся в постели, пока не окреп, а она мне всё рассказывала всякие там история из своей жизни, что с ней произошли с тех пор, как она бросила меня у Старой Шкуры. Чего только, если верить этим рассказам, с ней не приключалось! Были и взлеты, но чаще падения — ведь сестрёнка так и осталась романтиком, а это значит, что вечно её подстерегали разочарования.
Тогда, от Шайенов она подалась дальше на запад и добралась до самого Сан-Франциско. Именно там она попыталась наняться матросом на какую-то посудину, но команда ещё быстрее Шайенов раскусила её принадлежность к слабому полу, и Кэролайн в один момент оказалась за бортом этой калоши. Так и не могу понять, как сестра не уяснила своей бестолковой головой, что для того, чтобы понравиться мужчинам, вовсе не нужно делать то, что делают они! Скорее — наоборот… но нет, я Шайен знаю причину: она считала себя уродиной, вот в чём дело. Но на самом-то деле все было не так — уродиной она не была, хотя и писаной красавицей назвать её было нельзя. Но была она совсем не безобразна, просто резковатые черты лица, вот и все.
Море морем, но когда началась Гражданская война, у неё появилась мысль похлеще: она отправилась на Восток и взялась выхаживать раненых. Ну, это-то у неё должно было здорово получаться, ведь при мужской силище и выносливости у моей сёстры было мягкое женское сердце, все беды с ней происходили именно из-за него. Тогда-то Кэролайн втрескалась в одного парня, которого повстречала в госпитале близ Вашингтона, округ Колумбия — вот ведь как далеко она забралась!
Парень не был раненым, а, судя по всему, был санитаром и работал с ней бок о бок. По словам сёстры, был он малый застенчивый и культурный настолько, что в свободное время кропал стихи, это же удавиться можно!
Она чувствовала, что парень отвечает ей взаимностью, ведь он давал ей почитать кое-какие стишки, а в них было полным-полно разных страстей-мордастей. И, хотя он ей прямо об этом не говорил, но Кэролайн догадывалась, что стихи те посвящены ей, и они вместе купали и бинтовали этих несчастных и страдания их как бы укрепляли их любовь друг к другу, ну и так далее… Не вижу особого смысла в том, чтобы пересказывать эту историю, а суть её вот в чем. Когда этот парень убедился в том, что Кэролайн втрескалась в него по уши, он ей признался в любви… к курчавому мальчишке-барабанщику, которому осколком оцарапало розовое плечико!
А до того момента моей сестре и в голову не приходило поинтересоваться, почему это такой здоровый парень подался добровольно выносить горшки, хотя мог запросто отправиться на поле сражения. Я прекрасно помню, как его зовут, вот только называть это имя не собираюсь, потому как оно достаточно известно благодаря его стихам. Просто я не хочу портить людям удовольствие от чтения этих стихов, вот в чём дело, если, конечно, их кто-нибудь читает.
Для сестрёнки это, конечно, было большим ударом, и она с разбитым сердцем вернулась на Запад и нанялась в погонщики мулов.
Неловкости от того, что она поначалу, не разобравшись, хотела сделать меня своим любовником, у неё не было и капли, потому как, видать, крепко закалили её разные передряги на этом поприще. Теперь-то, наверное, она считала, что единственный способ заполучить мужчину — это привести его силой, как она и поступила со мной.
Я спросил её, не встречала ли она во время своих странствий ещё кого-нибудь из нашего семейства.
— Нет, никого, — буркнула Кэролайн, отшвырнув только что снятый сапог в сторону и метко пустив в плевательницу тоненькую струйку табачного сока, — хотя в госпитале я слыхала от одного солдатика, что он служил с неким Биллом Крэббом, который при Фридериксбурге геройски пал. Так мне сдается, что это был наш маленький братец, упокой Господь его душу.
Ничего, на мой взгляд, не могло быть более невероятного, чем то, что Билл остепенился после того, как я видел его в пятьдесят восьмом, но я об этом сестре, ясное дело, говорить не стал. К тому же, сейчас я не имел никакого права поносить кого бы то ни было.
А потом Кэролайн сказала вот что:
— Расскажи мне о себе, Джек. Как же так вышло, что ты дошёл до ручки?
Это прозвучало как приглашение к откровенному разговору без обиняков. Вот я и поведал ей свою историю, и должен к её чести сказать вот что: когда я был маленьким ребёнком, Кэролайн никогда меня сильно не жаловала, даже бросила на произвол судьбы среди индейцев, но теперь… Она выслушала меня не перебивая, и вот что главное: испохабив свои собственные дела, она так горячо сопереживала моим передрягам, что у меня впервые за долгое время отлегло от сердца. Честное слово, какой-то комок в груди растаял. Когда я рассказал ей про несчастных Олгу и Гэса, молчавшая до того Кэролайн вдруг безжалостно бросила:
— Лучше тебе, Джек позабыть про них. Не думаю, что они ещё живы.
— Не говори так, Кэролайн, — взмолился я.
— Я просто говорю, дорогой братец, то, во что ты сам боишься поверить, — хладнокровно возразила сестра, послав новый заряд в плевательницу. — Уж ты-то наверняка знаешь нравы индейцев, если жил среди них так долго, как говоришь. Надеюсь, ты не забыл, как они зверски расправились с нашим папашей? Кто-кто, а уж я этого никогда не забуду. Эти твари мне всю жизнь перепакостили. Да ты-то, хотя и совсем желторотый был, наверняка прекрасно помнишь, какой привлекательной и аппетитной девушкой я была… Куколка! Была… До того, как эти твари не отняли у меня самое дорогое — мою честь! Я до сих пор вижу это во сне!
Похоже, что эта история с индейцами, которую Кэролайн сама додумала до такой развязки, служила ей своеобразным оправданием всех её неудач с мужчинами. Так же поступал и мой брательник Билл, когда та же история, только в его изложении, оправдывала все его пакости. Что взять с жертвы кровожадных индейцев?
Вы только не подумайте, что я слишком строг и несправедлив к членам своего семейства, просто в те времена они были не единственными, кто во всех своих неурядицах винил индейцев.
Другое дело я. Хотя моей ситуации не позавидуешь — и в переделке со всем семейством я побывал, да и моих жену и сына Шайен захватили именно дикари, может статься, что их уже нет в живых… Но разве это повод скатиться на дно? А я ведь был близок к этому! Нет, чёрт побери, ещё не все потеряно! Просто годы жизни в Денвере, среди сытости и благополучия, расслабили меня, я утратил всегдашнее жилистое полуголодное состояние и захирел.
— А, может быть, они и не убивали твою жену, — произнесла Кэролайн, — может, они ей только вдули всем племенем…
Просто поразительно, как твои самые близкие родственники умеют ударить по самому больному месту! Хотя, в данном случае не всё так просто… Помните, я же всегда считал, что Кэролайн до сих пор не может простить краснокожим, что они не овладели ею силой. Ещё не видя Олгу, сестрица моя уже завидовала ей по v всем статьям: тому, что она была замужем, тому, что у неё был ребёнок и даже, небось, позавидовала тому, что на неё-то индейцы польстились. Идиотская ревность, которую испытывает баба к женщине, завладевшей её братом!
Этот разговор круто изменил наши отношения. Кэролайн прекратила все процедуры, которые было поставили меня на ноги — все эти ванны, сытную пищу и прочее, а заместо этого приволокла откуда-то бутыль с виски и предложила мне утопить в ней своё горе.
По-видимому, я её более устраивал в роли жалкого, вконец опустившегося человечишки. По сути сестрица моя мало чем отличалась от тех подонков, которых развлекала степень моего ничтожества, все мои кривляния за рюмку пойла.
Шайены были бы глубоко опечалены тем, что их соплеменник дошёл до ручки, они бы посчитали, что это — несмываемый позор для всего племени, а эти… Американцу просто маслом по сердцу, когда он видит, что кто-то другой, а не он, копошится среди отбросов!
Ну, удовольствие от того, что я не оправдал кое-чьих ожиданий, я получил полное! Думаю, что не встреть я свою сестру, то непременно сдох бы от пьянства, да и продолжай она меня исправлять, результат был бы таким же самым. Но как только она проявила активную заинтересованность в том, чтобы помочь мне поскорее оказаться среди подонков, весь мой остаток жизненных сил взбунтовался вовсю. Не буду говорить много, но с того дня я не брал в рот ни капли спиртного.
Не хочу сказать, что в тот же миг я встал из-за стола совершенно нормальным человеком — нет, конечно. Прежде, чем я научился ходить как все нормальные люди, не пошатываясь, — прошло недели две, а то и больше, и только через месяц я смог выполнять кое-какую мужскую работенку по хозяйству. Так что когда я говорил, что вконец дошёл до ручки, я вовсе не преувеличивал. Довольно долго потом ещё у меня тряслись руки и бывало такое, что все расплывалось перед глазами, словно в сильном тумане или как будто смотрю под водой. И до самой осени меня не покидало чувство, что на солнцепеке я непременно грохнусь в обморок. В конце лета я подыскал работу рядом с Кэролайн: стал таким же погонщиком мулов, хотя сестрица из кожи вон лезла, чтобы помешать мне и даже дошла до того, что заявила нанявшему меня подрядчику, что я — конченый алкоголик. После этих слов парень не спускал с меня глаз и мне приходилось под этим неусыпным оком ишачить вдвое больше остальных.
Да и взяли меня на работу только потому, что рабочая сила была нужна позарез и хватали всех подряд, лишь бы человек отличал задницу мула от его головы. Строительство Тихоокеанской железки шло полным ходом. Дело в том, что поначалу они слишком долго раскачивались, а теперь время стало поджимать и началась страшная запарка. Короче говоря, работу я получил в тот момент, когда дороги было всего десять миль колеи, а строить её должны были начать ещё в шестьдесят третьем году.
Однако случилось так, что к зиме у государства нашлись деньжата и на дорогу, так что к следующему апрелю колея протянулась аж до Норт-Бенда, а к июлю было уложено миль 80–90 до самого Чэмпена.
На тяжёлых работах горбатились эмигранты-ирландцы, однако вкалывали там и ветераны войны. Парни и тут не ударили в грязь лицом, укладывая ежедневно по 2–3 мили полотна. Здоровенные потные чертяки заколачивали костыли так, словно это были обойные гвоздики, другие тем временем укладывали шпалы и подтаскивали рельсы. А сзади, наступая на пятки, пыхтел и ревел паровоз. От искр из его топки время от времени вспыхивала трава в прерии, вернее то, что от неё осталось после того, как по ней протопало человеческое стадо, потому что бизоньи стада давно откочевали в более спокойные места.
Там, где кончался рельсовый путь, мои давние знакомцы — проходимцы всех мастей — прямо в палатках торговали пойлом, содержали игорные дома и бардаки. Так эта нечисть и продвигалась вместе с работягами, предлагая выпивку, шлюх и карты, хватало здесь и разных там торговцев мелочевкой и даже проповедников, было полно солдат-дезертиров, иногда встречались индейцы. Это были краснокожие из миролюбивых племен, которые забредали сюда, чтобы выменять на шкуры всякую утварь, продать своих скво, просто поглазеть на железные полосы, уложенные в прерии. Если вам никогда не доводилось видеть индейского зеваку, то вы многое упустили в своей жизни: простодушные парни могли таращиться на заинтересовавший их предмет хоть целый день, не пошелохнувшись ни разу под жгучим солнцем.
Помню, видел я, как один Поуни несколько часов кряду пялился на паровозную трубу, а когда я, не удержавшись, спросил его, для чего, по его мнению, нужна эта хреновина, он важно ответил:
— Поначалу я думал, что это большая пушка, что стреляет по птицам, но потом увидел, что она распугивает птиц своим шумом задолго до того, как они до неё долетят…
— Потом я подумал, что это большой котёл, чтобы варить суп, но потом я увидел, что белые люди едят в другом месте…
— Воинственный Медведь смотрит на эту штуку и думает: она для того, чтобы делать виски, потому что каждый вечер все белые ходят пьяные…
Тут он замолчал. Я уже было собирался объяснить парню, что это такое, но не успел и рта раскрыть, как он мне говорит: «Дай, пожалуйста, табаку». Я отрезал ему кусочек плитки, он его взял, потом пришпорил босыми пятками коня и рванул галопом с того места, на котором простоял часа четыре, не меньше. Может, он с самого начала просто искал, у кого бы разжиться табачком — кто знает?
Мы с Кэролайн вкалывали на земляных работах и потом, когда чугунка уверенно двинула на Запад, попали в разные бригады, которые занимались насыпью железнодорожного полотна.
Местные дельцы обычно договаривались построить насыпь длиной в милю или две и всегда были рады лишней упряжке, потому что им приходилось из кожи вон лезть, чтобы поспеть перед теми, кто клал рельсы. А эти ребята, как я уже говорил, работали как бешеные. Я прямо не мог прийти в себя, до чего же они быстро отгрохали эту чугунку там, где совсем недавно, десяток лет назад, моя семья тащилась на волах по поросшей чертополохом прерии.
Начинали мы с Кэролайн просто как погонщики, ишача на хозяев упряжек, но уже в Лоун-Три разжились собственными мулами. Мы сложили в кучу заработанные деньги, да и у сестрицы нашлось кое-что в чулке. Но всё равно денег не хватало, и нам пришлось взять в долю одного парня. Звали его Фрэнк Затейник. Не знаю, было ли это его прозвище или фамилия такая чудная, но имечко это ему было в самый раз. Он держал две палатки, в одной из которых размещался салун, а в другой — бордель. Оба вертепа приносили верный доход — работяги, которые целый день махали кайлом и таскали тяжёлые рельсы, вряд ли были способны вечером тащиться в другое место за выпивкой и девочками. Так что конкурентов у Затейника не было, и он процветал. А познакомились мы с Фрэнком вот как. Среди его девочек затесалось несколько подруг Кэролайн, с которыми та свела знакомство ещё на речке во время совместных постирушек. Эти шлюхи считали для женщины страшным позором вкалывать до седьмого пота, погоняя мулов, и все склоняли сестрицу на свою сторону. Кэролайн же в свою очередь была исполнена рвения наставить этих заблудших овечек на путь истинный, но так как она в этом не преуспела, Фрэнк смотрел сквозь пальцы на её потуги. Его это даже слегка забавляло, и он пару раз выставлял выпивку, только чтобы послушать, как моя сестрица костерит его за сводничество. А когда он узнал, что мы не отказались бы от помощи для того, чтобы купить упряжку мулов, то предложил купить пай в наших доходах, главным образом, как я предполагаю, из-за Кэролайн, хотя и шанс заработать лишний доллар этот парень никогда не упускал…
Значит, весь шестьдесят шестой год тянули чугунку через Небраску. К зиме темп немного сбавили, но к апрелю шестьдесят седьмого полотно протянулось уже до Пэкстона, который находился в каких-то пятидесяти милях от Колорадо, во как! А уже за Колорадо рельсы должны были круто повернуть на юг, до Джульберга, а там опять на север, пересечь оставшуюся часть Небраски и пройти через Вайоминг.
И вот тут-то, когда потеплело, мы стали частенько сталкиваться с Шайенами и Лакотами. Ночью эти дикари угоняли наш скот, а днём изводили рабочих своими набегами, появляясь маленькими группками и тут же исчезая в бескрайней прерии.
Ох, как им хотелось сдержать железную поступь дороги! Им, должно быть, чертовски не нравилось, что там, где они ещё вчера чувствовали себя полновластными хозяевами, сегодня уже протянулись железные рельсы. Конечно, им так и не удалось собрать все силы в один кулак, чтобы нанести нам решительный удар, но нервы они нам помотали изрядно. Краснокожие видели, что они уже лишились Колорадо, а теперь эта чёртова железная машина катит по Небраске, громыхая и рассеивая искры. Что до меня, то я с самого начала рассчитывал на то, что индейцы обязательно появятся. Стоит ли говорить, Что я ещё не оставил надежды отыскать жену и сына? Именно это и было причиной того, что я связался с этой дорогой: постепенно проходя по стране, я мог кое-что разузнать об их судьбе. В конце дня я поглощал свой харч и лениво препирался с Кэролайн, которую ничто не могло образумить, потом укладывался спать в крошечной палатке и все время напряжённо чего-то ждал. Я ждал своего часа…
Не знаю, обращал ли кто внимание на то, сколько выдержки и терпения необходимо человеку в бою, но разве может это сравниться с томительными месяцами, днями, часами и минутами ожидания боя?
Когда индейцы наконец-то стали нападать на рабочих железной дороги, то казалось, что они специально избегают тех мест где могу оказаться именно я. Даже когда они нагло угоняли скот, на моих мулов не посягнул никто. Чёрт возьми! А я проводил бессонные ночи, крепко сжимая в одной руке верёвку, а в другой — ружьё. Нет, я не хотел убить кого-нибудь из краснокожих, нет. Я должен был захватить кого-нибудь из них в плен! Скальп мне был ни к чему, а вот из пленного можно было вытрясти что-нибудь о судьбе Олги и Гэса.
Но, как я уже упоминал, индейцы словно сговорились и обходили мою палатку десятой дорогой. Вот что я имел в виду, когда говорил о терпении и выдержке.
И лишь к самому лету, наконец, подвернулся случай кое-что разузнать. Железная дорога к тому времени была проложена до старой почтовой станции Лоджпоул, и я как раз работал с запада от неё. Поехал я как-то с поручением в Джульсберг и как раз уже собирался отправиться назад, как тут у водокачки остановился заправиться водой паровоз и я увидел, что он волочит за собой товарные вагоны, в которых расположился Фрэнк Норт с компанией.
— Что случилось, Фрэнк? — спрашиваю я его.
— Да Шайены пошаливают у Сливовой речки, — отозвался тот. — Мы как раз двигаем туда задать им жару.
— Ничего, если я с вами?
Фрэнк не возражал — в конце концов у нас свободная страна, и я вскарабкался в вагон. Вооружён был я винтовкой «Баллард» калибра 0,56 да на ремне у меня висел капсюльный «Ремингтон» калибра 0.44.
Я спросил у Норта, сможет ли он дать мне лошадь и он ответил, что у Поуней можно отыскать запасного пони, но на индейской лошади не всякий всадник усидит — здесь нужна сноровка и особая выучка.
Я только усмехнулся про себя — здесь ведь никто не знает про то, что я жил среди Шайенов, которые по вполне понятным причинам не были сейчас уважаемым в этой компании племенем.
Пока мы тряслись по рельсам, один Поуни забрёл, заметно пошатываясь, в тот угол вагона, где сидел я и давай пристально меня разглядывать. Ну, раньше Поуни с белыми частенько дрались, в основном вдоль пути на Санта-Фе, но после того, как на запад привалила целая куча народа, индейцам ничего не оставалось как всячески демонстрировать своё дружелюбие. К тому же, Поуни — заклятые враги Шайенов, так что в их лице белые нашли надёжного союзника против общего недруга. Головы свои Поуни выбривали, оставляя только на макушке длинную прядь. Дикарский кодекс чести — воина с такой причёской очень удобно скальпировать.
Ну, одним внешний вид индейцев нравится, другим — не очень, а как по мне, так я вообще на то, как они выглядят, мало обращаю внимания. И подобное отношение с моей стороны вполне понятно, если учесть где я воспитывался. Вы ведь помните, что я юношей сражался против Поуней на стороне Шайенов.
Значит, некоторое время этот индеец таращится на меня, потом переползает к Норту и что-то лопочет тому на своём языке. Вернее, он даже и не лопотал, а надрывался что есть мочи, потому как этот поезд грохотал невыносимо, но я, не зная этого языка, не смог разобрать ни слова.
И вот Фрэнк сложил руки рупором и кричит мне: — Он говорит, что сражался с тобой на Найобраре, когда ты был Шайеном! Только не смейся, а то ты его обидишь!
Предупреждение было излишним, так как мне было вовсе не до смеха, потому что я-то знал, что этот чёртов индеец говорил правду. И тут я вспомнил, как однажды небольшой отряд Поуней средь бела дня угнал у нас большой табун лошадей по речке, которую мы, тобишь Шайены звали Сюрпрайз. Мы бросились в погоню, под одним Поунем была ранена лошадь и он не смог удержаться в седле. Я был к нему ближе всех и попытался смять его конем, но индеец не давал мне приблизиться, ловко выпуская стрелы одну за одной, пока не подоспели его товарищи. Тогда он вскочил на круп пони и, цепко ухватившись за спину какого-то соплеменника, издал победный клич Поуней. Племя бежало под градом наших стрел и мы добыли в этом бою много скальпов, но этих двоих на одном пони мы так и не догнали.
Видно, этот воин был одним из тех двоих, которые спаслись. Меня потрясло, как он смог узнать меня через столько лет, да ещё без боевой раскраски и в одежде белых! Ну, я больше не проронил ни слова, пока мы не доехали до станции на Сливовой речке и не вышли из вагона. Я подумал, что пусть уж лучше Норт считает это смешным совпадением и пока он с каким-то офицером выяснял обстановку, я подошёл к этому Поуни и тихонько сказал:
— Тебе в тот день здорово помогали духи.
Звали этого индейца, как выяснилось Бешеный Медведь. И он мне так это невозмутимо отвечает:
— Раньше ты был Шайеном. Теперь ты белый. Не понимаю.
— Ну, это долгая история, — говорю, — но с тех пор Шайены похитили мою жену и сына. И я буду сражаться с ними рядом с тобой. И пусть ничто плохое не стоит между нашими сердцами. — После чего я добавил в индейском духе: — Ничто не меняется кроме земли…
— Теперь меняется и земля, — отвечает Поуни, — но тебе я верю. Но верю не твоим словам — ты похож на лжеца. Просто Вождь Пауней (так они кликали между собой Фрэнка) говорит, что ты всего лишь болван, который ездит на телеге. Он попросил оберегать тебя в бою.
* * *
Прежде чем рассказать про то, что приключилось в этом бою, я хочу сначала сказать про то, что Шайены учинили на Сливовой речке, потому что для них это было немалым достижением и, насколько я знаю, такого триумфа у них уже не было ни до, ни после этих событий.
Они спустили под откос товарный поезд! Им как-то удалось повыдирать из рельс костыли и позагибать их вверх, а потом выкрутить, так что как только пошёл первый паровоз, так тут же — трах-тарарах! и полетел под откос к едрёной матери. И где эти Шайены поднабрались ума-разума — понятия не имею!
До сих пор обычно рассказывали про то, как они скакали вдоль поезда и пытались заарканить его за трубу своими лассо, но это уж совсем смахивало на анекдот.
На Сливовой речке мы простояли двое суток, и Поуни за это время прочесали все окрестности, но Шайенов мы так и не нашли. Норт и другие было решили вернуться, как вдруг откуда ни возьмись на южном берегу реки появился вооружённый отряд краснокожих, который, как мне показалось, возвращался на место славной победы — это так похоже на индейцев, вспомните хотя бы, как они дважды овладевали Джульсбергом.
Поуни, издавая боевой клич, хлынули к мостику, но тот оказался слишком узок для такой оравы, и многие, бросившись в воду, поплыли на тот берег. Но когда они начали выбираться на противоположный топкий берег, их лошади вязли в болоте и индейцам пришлось спешиться.
Все это внесло страшную неразбериху в ряды Шайенов, которые не ожидали сопротивления там, где в прошлый раз все было так легко и просто. А когда Поуни открыли смертоносный огонь из карабинов Спенсера, те повернули коней и бросились наутёк.
Мы с Нортом приблизились к мостику. Как я и предполагал, обо мне он был не Бог весть какого мнения, но когда начался бой, ему стало не до меня и, как только мы перебрались на противоположный берег, я птицей полетел на пони, отобранном мной у Поуней.
Эх, скакать по-индейски, очертя голову в гущу драки! Вольготно-то как! Сколько лет я уже не сидел в индейском мягком седле!
И вот несемся мы по прерии с добрую милю, стреляем и по нам палят вовсю, и драпает от нас толпа Шайенов, Поуни победно вопят, трещат их карабины, а Шайены бегут, бегут!
Постепенно равнина сменилась цепочкой холмов. Вокруг трещала беспорядочная пальба, но сам я ещё не выстрелил ни разу, да и Бешеный Медведь все время держался рядом, оберегая меня от непредвиденных осложнений.
Шайены спасались бегством, но слабо верилось в то, что им это удастся — уж слишком быстрой была погоня.
Стремительная атака Поуней — и Шайены, поливаемые огнём из карабинов, сбились в беспорядочную кучу. Потом мы атаковали их с флангов, ведь мы были на лошадях, а многие из них — нет, потому что своих лошадей индейцы отдали скво и детям. Я видел, как выстрелом сбило с седла индейскую женщину. Она была грузной и чем-то напомнила мою приёмную мать — Бизонью Лощину. Это зрелище заставило меня содрогнуться. Теперь мне было не по душе скакать вместе с Поунями и претило стрелять в Шайенов — пусть уж спасают свои семьи. И вообще, какого дьявола я сел в этот поезд?
Обуреваемый такими тягостными мыслями, я все скакал и скакал, и поначалу не заметил, что порядком отдалился от Поуней, которые в то время напирали на правый фланг Шайенской цепи. А Шайены по-прежнему откатывались назад, хотя при этом по-прежнему упорно сопротивлялись. А я в это время спускался в долину за первой грядой холмов. Передо мною, изрядно рассеянные, Шайенские женщины и дети отчаянно подстегивали своих пони, а за ними то тут, то там гнались верховые Поуни.
Было довольно-таки сухо, и вздымались густые облака пыли, которые, смешав с клубами порохового дыма, ветер разносил по окрестностям и над землей стелилась тонкая пелена тумана. Эта пелена просеивала солнечные лучи и все кругом смотрелось в густых тонах, как это всегда бывает в определенный вечерний час. Теперь я находился где-то в полумиле от самой гущи боя, так что до моего слуха доносилось скорее потрескивание, чем грохот выстрелов.
Для того, чтобы осмотреться и дать передохнуть своему взмыленному пони, я остановил его у края глубокого оврага. Плохое место для передышки во время боя, и, будучи индейской лошадью, мой пони это знал и упирался, несмотря на усталость.
А потом он издал звук, похожий на прерванный глубокий вздох и стал подо мной оседать, словно я это сижу на большом мешке с зерном, а в мешке большая дыра, из которой это зерно быстро высыпается. Но я успел с него соскочить до того, как он совсем рухнул — у меня достало опыта понять, что стрела угодила ему в брюхо. Хоть я и не слыхал, как она летела и не почувствовал, когда она впилась.
В овраге был Шайен. Я залёг у самого края этого оврага, поджидая, пока он покажется, а рядом в предсмертных судорогах хрипела моя лошадь, и больше никаких звуков. Я нацепил свою шляпу на дуло «Болларда», высунул её над краем и — танг! — её поля прошила стрела, пройдя целиком, вместе с оперением, и на излете едва не ранила меня, хоть шляпа и ослабила удар.
Потом, не успел убрать я своё ружьё, как он — хвать его за ствол, да настолько цепко, что я, не отпусти ружья, наверняка свалился бы в овраг на него сверху. Но я — маленький человек. Ружьё я выпускаю, хотя и ухитряюсь нажать на курок; пуля вздымает облачко пыли в песке на дальнем склоне, не причинив ему вреда, вот разве во время выстрела его тряхнуло, и он — дерг руками, словно обжегся. Потом вверх взмыл приклад, и ружьё пропало совсем из виду.
Ну, ружьё было однозарядное и проку ему от него не было, разве что вдруг у него оказались бы патроны 56-го; калибра. Так что я выхватываю револьвер, бросаюсь к обрыву и, точно застрелил бы его в упор, если бы он все ещё был на склоне, там, где схватил ружьё. Но к тому моменту он уже скатился на самое дно: стоит на коленях. «Боллард» сжат в руке и весь в песчинках, к тому же в нем нет патрона — и он это знает — и стрелы у него вышли, так что он выхватывает нож и, поднимаясь, затягивает песню смерти.
И я узнаю его. Это был Тень-Что-Он-Заметил. Беда вот только, что он не узнает меня, потому как, едва я стал спускаться, он двинулся мне навстречу с совсем не дружелюбными намерениями, сжимая в руке длинный острый нож.
Глава 16. МОЯ ИНДЕЙСКАЯ ЖЕНА
— Погоди, брат? — крикнул я на языке Шайенов. — Давай поговорим!
И тут — я смотрел только на него — я спотыкаюсь и лечу с обрыва; рука непроизвольно сжимается и мой револьвер стреляет сам собой.
А у него нож наготове, клинком кверху; он себя левой ухватил за правую руку — это чтобы нож крепче держать. Чувствую сейчас лезвие воткнётся мне прямо под ребро. Ну, а выстрел мой, само собой — мимо.
А падать мне футов шесть, не больше — но, знаете, время штука относительная — и в памяти у меня только одно: будто завис я над этим ножом как на фотографии или на картине. Подо мной стоит Тень, присел, весь напрягся — ждёт столкновения. В волосах у него два орлиных пера — в разные стороны. На смуглом теле капли пота. На шее украшение: дикобразьи иглы сплетены нитками синих бус; на левой руке, выше локтя — медный браслет, на бёдрах грязная красная повязка. Чёрные зрачки буравят мне живот, там, где сейчас вонзится лезвие. Лицо разрисовано красным, а поверх — жёлтые молнии.
Так вот лечу это я на нож, не успев даже, испугаться, и думаю: ну вот и хана — вот меня и выпотрошили, но тут время опять ускорилось, глядь — а мы уже оба кувырком катимся дальше, а на мне — ни царапины; видать, в полёте меня развернуло и нож пропорол мне только рубашку на боку. На мгновение бок будто обдало теплом, а, может, мне и показалось — просто оттого, что я ждал удара, а его не было; если бы нож в меня и впрямь воткнулся, я б уж точна ничего не почувствовал — в поножовщине так оно и бывает… В общем, покатились мы с ним по песку, по кустам и колючкам, а он детина здоровый, даром что полсотни разменял. К тому же с ножом, а мой револьвер тю-тю — и нету, я пытаюсь что-то сказать, а он мне в горло вцепился, на кадык пальцем жмёт чуть не проткнул насквозь. А я ростом поменьше — и давай его коленом в пах, а ему, хоть бы хны, ноль внимания, фунт презрения, видать, хозяйство у него просто железное, а тут он как надавит мне под левым ухом — так я и дергаться перестал.
Тут он уселся на меня верхом и сжал ногами — а они у него как клещи недаром сорок лет с коня не слезал; лежу я и об одном только и думаю: резал бы уже скорей — и дело с концом, а то сдавило, что мочи нет, и в глазах темно…
Он занёс свой здоровенный гринриверский тесак без крестовины — я пока живой его помнить буду, этот нож, до последней зазубрины. И тут вдруг у него на горле появилось красное пятнышко, маленькая такая дырочка; из неё тихо заструилась кровь, и только тут я услышал выстрел. Потом плечи у него дернулись, будто его в спину кто толкнул — это был второй выстрел. Он выронил нож и начал падать на меня: глаза открыты, а из горла течет кровь. Я отталкиваю его, он клонится назад, как резиновый, но ногами он по-прежнему стискивает мне ребра… Тут я беру руки в замок и как кувалдой — бац! — его в пупок — и только тут эти тиски разжимаются… словно у него внутри лопнула какая-то пружинка.
А потом сверху, с обрывчика прыгает этот Поуни, Бешеный Медведь, приставляет дуло своего «Спенсера» Тени ко лбу и третью пулю всаживает ему между глаз, а после надрезает ножом кожу у него на голове, за волосы ухватил и — чавк — скальп у него в руке. Тут он мне ухмыльнулся, содрал с Тени набедренную повязку, обтёр скальп об его хозяйство и гаркнул что-то победное на своём языке.
Что тут скажешь, он, конечно, спас мне жизнь, но только я-то помню, как чувствовал себя Младший Медведь, когда я сделал для него то же самое… ну, тогда, чёрт-те сколько лет назад: благодарности я не ощущал. Тень-Что-Он-Заметил когда-то взял меня с собой в мой самый первый набег, и держал он себя, как мой старший брат или дядя. Я был просто влюблен в него. И сейчас меня что ударило в самое сердце — не то, что он убит, все мы там будем. И не то, что смерть его была насильственной, — Шайен, Настоящий Человек не мог умереть иначе. И даже не то, что это я оказался причиной его смерти — так уж сложилось. Нет, вся печаль была в том, что Тень так и не узнал, кто я такой. Он сражался со мной, как с врагом. Хотя, раз уж на то пошло, разве не для того я оказался здесь, чтобы сражаться с Шайенами?
Чёрт побери, ну и ноги у него были! Просто железные! Я до сих пор дышал с трудом. Кое-как поднялся на ноги и молча смотрел, как Бешеный Медведь вскарабкался на обрывчик, исчез, а вскорости снова появился на краю, уже верхом на пони, самодовольно потряс винтовкой и уехал рысью. Он даже не произнёс ни слова насчёт убитой подо мной лошади, которую я взял у него на время.
Сперва у меня даже возможности не было удивиться, с чего это вдруг Тень оказался тут, в этой балке, но теперь, когда я, еле двигаясь от боли и дурноты, вырыл ему неглубокую могилу его же собственным ножом и присыпал тело землей, вот тогда-то я и подумал, что где-то здесь в кустах могут быть ещё Шайены, и если кто-нибудь вздумает выстрелить мне в спину, так я буду этому только рад. Уж лучше это, чем встретиться с ними лицом к лицу. Как мне смотреть в глаза моим былым друзьям и братьям?
Но едва я притрусил песком кончик его длинного носа, как услышал какой-то шелест в кустах чуть поодаль — и поразительно, как сам собой во мне проснулся инстинкт самосохранения; я тут же схватил упавший револьвер, продул его, очистил механизм и заменил все капсюли. Это заняло буквально одно мгновение, а потом я пополз змеей по дну сухого русла. Кусты шевелились, но, что бы ни было тому причиной, оно пока оставалось там, за ними. С минуту я лежал без всякого движения, а потом раздвинул ветки ивняка и просунул туда сперва револьвер, а потом уж голову, чуть не цепляя носом за курок. Передо мной открылась крохотная полянка, размером едва-едва на одного человека, и там лежала на спине женщина. Это была индианка, юбка задрана, голые ноги раздвинуты — она рожала.
Крохотная коричневая головка уже вышла наружу, глазки были закрыты, отчего личико в момент появления на свет глядело чуток сварливо, а теперь на волю протискивались махонькие плечики. Женщина не издавала ни звука, только одно приподнятое колено цеплялось за куст — вот этот шорох и я услышал. Женщина терпеливо ждала, что будет дальше, только время от времени закусывала край воротника своей рубахи из оленьей кожи; может, её глаза и выдавили каплю влаги, но других признаков волнения не было. Все это время она была тут, вот потому-то и оказался здесь Тень, потому-то и дрался он так свирепо.
Шайенки в таких случаях всегда уходят сами в кусты и, когда дело сделано, приходят обратно с младенцами и возвращаются к будничной работе. В этот раз вся разница была в том, что она принялась за дело посреди боя. Но маленький парень должен появиться на свет, когда он к этому готов.
Я был смущён по многим причинам. У Шайенов роды — это дело, связанное с необычайной стыдливостью настолько, что я был убеждён: эта женщина воспримет смерть Тени не так тяжело, как то, что я её увидел. И всё же я стоял как приворожённый, хоть в полумиле от моих торчащих к небу каблуков не прекращалась пальба и вопли, знаменующие великий день Поуней… Из неё показалась маленькая разделённая надвое попка младенца, две половинки были тесно сжаты. Она ещё потужилась, и тут весь малыш выскользнул легко, как рыбка, на подстеленное внизу синее одеяло; она села, откусила пуповину, завязала её на маленьком животике ребёнка, шлепнула, чтоб он начал дышать, и он отнёсся к этому как настоящий Шайен: только чуть охнул, почти бесшумно. Я так думаю, он уже знал, что крик может навести врагов на его племя, и потому воздержался от громогласных высказываний, как будет воздерживаться всегда. А шлепок этот был первым и последним, который он когда-нибудь получит от своего ближнего. Этот шлепок введёт его в жизнь, где не будет шлепков, но будет возможность познать все возможные виды увечий.
Я выбрался оттуда задом и вернулся к песчаному бугорку, под которым лежал Тень. Через минуту и она появилась из кустов, шагая твёрдой, бодрой, деловой походкой, и головка ребёнка выглядывала из одеяла у неё на груди. Увидев меня, она потянулась к ножу, торчавшему у неё за поясом; думаю, она сумела бы как следует воспользоваться им, несмотря на новорожденного. Только я раньше направил на неё револьвер, что может вам показаться дикостью лишь в том случае, если вы до сих пор не поняли, какими жутко твердолобыми становятся Шайены, хоть мужчины, хоть женщины, когда приходится выслушивать слова белого человека.
— А теперь, — говорю я, — если ты не будешь меня слушать, я пристрелю и тебя, и твоё дитя. Тень-Что-Он-Заметил был убит воином Поуней. Ты слышала его выстрел, а потом слышала, как он уезжал отсюда. Если ты — родственница Тени, то, может быть, ты слышала про Маленького Большого Человека — это меня так звали, когда я жил с общиной Старой Шкуры Типи. Я был другом Шайенов о тех пор, пока они не украли мою жену и сына. Это из-за них сейчас я оказался здесь. Я хочу забрать тебя с собой и обменять на них.
Она, значит, изучает меня этими своими тёмными глазами и говорит:
— Ладно.
— Мне не нравится так делать, — говорю я, — с твоим новорождённым и вообще, только у меня нет выбора.
— Ладно, — отвечает она снова, усаживается, распахивает платье под мышкой и даёт ребёнку грудь.
— Послушай-ка, — говорю я, — лучше бы нам выйти на открытое место. А то какой-нибудь Поуни наскочит тут на нас внезапно и убьёт тебя раньше, чем я успею объяснить, что к чему.
— Он должен сперва поесть, — спокойно говорит она мне и сидит как вкопанная.
Короче, пришлось мне сторожить на краю обрыва во время всего последующего разговора. Я не знал эту женщину — скорее, девочку; в те времена, когда я жил среди них, она была слишком маленькая, чтоб я её заметил, — если она вообще была там. Я думал, что она — жена Тени, судя по тому, что он её охранял, но выяснилось, что она из тех маленьких дочерей, про которых я упоминал уже, — ну, что он учил их, тогда, давным-давно, чтоб не хихикали, когда он рассказывает смешные истории.
— Твой муж убит?
— Белые люди его убили, — сказала она спокойно, не проявляя чувств. Тут я разглядел, что это привлекательная индианка с округлым, как ягода, лицом и большими глазами, разрезанными немного на китайский манер; под глазами, на слёзных мешочках, блестела кожа; красивый хоть и невысокий лоб под киноварной линией, отделяющей волосы. В блестящие косы вплетены полоски меха выдры, на шее — яркие бусы, а в мочках ушей — латунные кольца.
Я для начала спросил «где», а не «кто», потому что, может быть, она не сказала бы мне его имя, но вдруг услышал топот копыт — по равнине наверху приближались всадники, не меньше трёх; лошади были некованые, значит, это индейцы, но Поуни или Шайены, сказать не мог; однако при нынешних обстоятельствах я не хотел встретиться ни с теми, ни с другими. На языке Поуней я не говорил, а пока им на пальцах растолкуешь, они запросто подстрелят эту женщину. Ну, а насчёт Шайенов — тут понятно без объяснений.
Я об этом так подробно говорю, что у вас могло бы вызвать разные вопросы то, как я поступил; а я сгреб за руку эту девчонку и бегом загнал её обратно в кусты вместе с ребёнком, так и не выпустившим соска; а сам я присел там рядом с ней, все ещё придерживая её за руку, хоть она и не оказывала сопротивления.
Появились Поуни — а что это Поуни, я определил по разговору, и, по-видимому, обследовали сверху дно русла, но вниз не спустились. Затем они уехали после того, как, судя по звукам, один из них опорожнил мочевой пузырь на берег прямо с седла.
Но мы с ней сидели в укрытии ещё какое-то время, и тут я почувствовал, что она, сидя на корточках, налегает своим твёрдым телом на меня сзади — она искала поддержку; я обнял её, рука моя нечаянно скользнула в боковой разрез её платья, приспособленного для кормления ребёнка, и её свободная левая грудь, отяжелевшая от молока, легла мне в ладонь. Я мягко пожал её, не знаю уж зачем, ведь в этих обстоятельствах мне было не до любовных устремлений. Но я, и она, и этот маленький парнишка, который заснул, так и не оторвав махонького своего ротика от торчащего соска, — мы сейчас были вроде как семья. Я защищал их как положено отцу… как мне не удалось защитить Олгу и маленького Гэса…
Она откинула голову назад и прижалась тёплой щекой к моему лбу. Я почувствовал запах материнского молока, этот сладко-кислый аромат, а потом все старые, знакомые с давних времён шайенские запахи: огня, земли, жира, крови, пота и полной дикости.
Она сказала:
— Теперь я верю тебе. Ты — Маленький Большой Человек, и я буду теперь твоей женой, чтобы заменить ту, которую ты потерял, а это — твой сын.
Она положила его мне на руки, он тут же проснулся и, могу поклясться, этот кроха улыбнулся мне своими чёрными глазенками-бусинками! Здорово странно я себя почувствовал…
Она сказала:
— Думаю, нам пора идти. Они, наверное, соберутся на Весенней Речке.
— Кто?
— Наши, — ответила она, как если бы это было ясно без слов. — Сегодня великое волшебство было на стороне Поуней, но в следующий раз мы их побьём и отрежем им члены, и их женщины будут спать одни и рыдать всю ночь.
Я все ещё держал младенца.
— У тебя красивый сын, — сказала она, с восхищением глядя на нас обоих, а потом забрала его. — Есть у тебя какая-нибудь ноша, чтоб мне нести?
Я до сих пор был малость ошеломленный и ничего не ответил, так что она сунула дитя за пазуху, затянула пояс так, чтобы захватить его ножки, а потом влезла на берег, туда, где лежала моя убитая лошадь, сняла с неё одеяло, седельную подушку и куртку, которую я снял и привязал позади седла. Потом сползла обратно вниз. Похоже, она была разочарована тем, что ей придётся нести так мало.
— Ночью волки сожрут тело моего отца, — сказала она. — Нам следовало бы возложить его на погребальный помост, но здесь нет леса, а нести его туда, где есть деревья, слишком далеко.
И отступила назад, чтобы я мог занять место впереди и вести её, как подобает мужчине. Подозреваю, что только теперь я начал понимать её намерения.
— Но мы не можем вернуться в племя, — сказал я.
— Ты думаешь, белые люди разрешат тебе взять жену из Настоящих Людей? — спросила она. Тут она попала в точку, хоть малость и преувеличила. Такой поступок — не преступление, но Франку Норту, конечно, показалось бы здорово странным, если бы я вернулся из боя с семьей, которую я вдруг забрал у врага. Я, конечно, мог представить эту женщину и ребёнка как своих законных пленников, только тогда они бы подверглись поношениям и обидам со стороны Поуней, а после их забрали бы военные, отправили бы в какой-нибудь форт и держали бы там для обмена на белых, захваченных Шайенами. Это было как раз то, о чём я и сам думал раньше, надеясь, что смогу проследить за переговорами и выторговать Олгу и Гэса. Но сейчас, в этот поистине диковинный час, я обрёл чувство реальности. До меня ведь никогда и словечка не дошло, что моя белая семья все ещё живая, а я проверил все форты вдоль Арканзаса. И форты на реке Платт — когда работал на железной дороге.
Истина была в том, что я уже считал их мёртвыми, хоть и не признавался себе в этом.
— В таком настроении как сейчас, — сказал я, — Шайены меня застрелят сразу, как увидят.
Моя женщина ответила:
— Я буду с тобой.
Вот так я снова соединился с Настоящими Людьми. Я ни о чём не жалел, оставив в прошлом только мою лошадь — у кузнеца в Джульсберге — да мою долю в нашем маленьком транспортном деле. А что до моей сёстры Кэролайн, то должен сказать, что перед самым моим отъездом в Джульсберг она мне сообщила, что Фрэнк Затейник, хозяин борделя и импровизированного салуна, просил её руки и что она склонна ответить согласием.
Не буду подробно описывать наш путь по сухому руслу до следующей долины и дальше по ней за холмом, скрывавшим нас от Поуней, которых мы больше не видели. И как мы дальше шли миля за милей то в гору, то вниз, пока нас не застигла ночь, и эта женщина устроила какое-то укрытие в кустах, накрыв его сверху одеялами, как крышей, и мы там спали, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться, — ночью в прерии, где все время дует ветер, обычно холодно.
На следующий день мы добрались до Весенней Реки и, продвигаясь вдоль нее, нашли место сбора племени; туда все ещё приходили уцелевшие, вроде нас. Как я и ожидал, пару раз мне пришлось столкнуться с молодыми Собаками, но моя женщина отогнала их от меня, как и обещала, — у неё был острый язык и непреклонная целеустремленность.
Старая Шкура обзавелся новым типи с тех пор, как я видел его в последний раз, но я узнал его щит, висящий перед входом.
— Подожди здесь, женщина, — сказал я; она сделала, что ей было сказано, а я вошёл внутрь.
— Дедушка, — сказал я.
— Сынок, — приветствовал он меня, как будто мы расстались две минуты назад. — Ты голоден?
Такого уравновешенного темперамента я не встречал ни у одного человека!
Когда я рассмотрел его, мне показалось, что он ничуть не изменился, вот только глаза у него оставались закрыты. Я подумал, что он погружен в свои видения, и, будьте уверены, он тут же принялся живописать словами всю картину происшествий в сухом русле.
— Я видел, что ты возвращаешься к нам, — говорил он. — Ты ничем не мог помочь Тени-Что-Он-Заметил. Он знал, что умрет в этот день, так он мне и сказал. Наша магия оказалась слабой против этих стреляющих много раз винтовок. Наверно, мы не должны были снова идти к железной тропе, но молодые воины хотели разрушить ещё один огненный фургон, если удастся поймать его. Мне рассказывали, что очень интересно видеть, как эта большая штука едет, фыркая и выбрасывая струи искр, как будто хочет сожрать весь мир, а потом натыкается на тропу, которую мы загнули к небу, и переворачивается на спину, всё ещё испуская пар и рёв, и умирает с большим шипением.
Я сел рядом с ним, и мы закурили, само собой. Заметив, что в течение всей процедуры он так и не открыл глаз, я наконец решил, что он ослеп, и спросил — возможно, проявив тем самым дурные манеры.
— Это правда, что я слепой, — признал он, — хотя винтовочная пуля не попала мне в глаза, она прошла через шею сзади и перерезала тропу, по которой увиденное попадает в сердце. Смотри, — сказал он, приподняв веки, — мои глаза все ещё видят, но оставляют все увиденное внутри себя, и оно теряется без пользы, потому что не доходит до сердца.
Глаза и вправду были яркие и блестящие. Я думаю, у него был перерезан или как-то иначе поврежден нерв.
— Где это случилось, дедушка? — я передал ему обратно длинную трубку.
Его как будто смутил этот вопрос, потому что дым надолго задержался у него в груди, прежде чем наконец повалил из носа и рта.
— На Санд-Крик, — сказал он в конце концов.
— О Господи! — простонал я.
— Я помнил твой совет, — сказал он, — но мы всё же не ушли на Пороховую Реку — Паудер. Вместо этого мы отправились на совет, вести переговоры. Я расскажу тебе, как это вышло. Горб никогда ещё не посещал таких собраний, и ему хотелось иметь серебряную медаль, как у меня. А потом наши молодые люди сказали: «Почему мы не можем получить подарки от белых людей за то, что поговорим с ними? Мы всегда на севере, и всё достаётся этим южным Шайенам». Должен признать, что я и сам был не прочь получить новое красное одеяло…
Старая Шкура тихо вздохнул и продолжил:
— Вот поэтому мы повернули и пошли обратно, и коснулись пера вместе с белыми людьми, которых послал их Отец, и Горб получил свою медаль, а молодые люди — новые трубки-томагавки, ножи и зеркала, а потом мы собрались уйти на реку Паудер, но солдатский вождь сказал: «Вы должны остаться на этом месте. Вы на это согласились, когда коснулись пера». Скажу тебе, я этого не понял. Однако я знал очень мало о договорах, и я поверил, что солдатский вождь прав, и мы остались; хотя эта земля была очень плохая, без воды и без дичи. А потом солдаты напали на селение, где мы расположились лагерем вместе с Чёрным Котлом, и уничтожили очень многих из нас, и вот тогда я был ранен в шею и стал слепым…
Меня охватили самые страшные мысли, и я спросил о его жене, Бизоньей Лощине.
— Она погибла на Санд-Крик, — ответил Старая Шкура Типи. — И женщина Белая Корова тоже. И Горящий Багрянцем На Солнце, и его жена Падающая Звезда. И Горб, и Высокий Волк, и Резаный Нос, и Птичий Медведь…
— Мой брат Горящий Багрянцем На Солце…
— Да, и его жена, и дети. И многие другие, чьи имена я назову только в том случае, если ты захочешь оплакать их, хотя это случилось несколько зим назад, и теперь они достигли Другой Стороны, где вода сладка, бизоны изобильны и где нет белых людей.
Последние два слова он произносил теперь по-особому, но не с откровенной ненавистью, потому что Старая Шкура Типи был настоящий мужчина и не позволил бы себе сидеть здесь и поносить своих врагов. Это занятие для побежденных, вроде мятежников, которые проиграли Гражданскую Войну. А он не был побеждённым. Может быть, он не был победителем, но уж никак не побежденным. Шайенов нельзя было назвать неудачниками, как если бы они построили паровоз и он оказался хуже, чем у «Юнион Пасифик» или изобрели ружьё, которое не стреляет прямо.
Ну, я и спрашиваю у него — просто чтоб проверить своё впечатление:
— Ты ненавидишь американцев?
— Нет, — говорит он и прикрывает глаза — блестящие, хоть и мёртвые. — Но теперь я понимаю их. Я больше не считаю, что они дураки или сумасшедшие. Я знаю теперь, что они прогоняют бизонов не по ошибке, поджигают прерию своими огненными фургонами не случайно и уничтожают нас, Настоящих Людей, не по недоразумению. Нет, они хотят все это делать, и делают успешно. Они — могучий народ… — В этом месте он снял что-то со своего украшенного бусами пояса, встряхнул и сказал: — Настоящие Люди верят, что все живое — не только люди и животные, но также вода, и земля, и камни, и даже мертвецы и их вещи, как эти волосы. Человек, которому принадлежали эти волосы, теперь лысый там, на Другой Стороне, потому что сейчас я владею его скальпом. Так уж устроена жизнь. Но белые люди верят, что всё мёртвое: камни, земля, звери — и люди, даже их собственные люди. А если, несмотря на это, кто-то сопротивляется, пытаясь остаться живым, белые люди уничтожают его. Вот, — говорит он в заключение, — в чем разница между белыми людьми и Настоящими Людьми. Тут я взглянул поближе на скальп, которым он потрясал, — а волосы были светлые и шелковые. На мгновение я решил, что он снят с головы моей дорогой Олги, и подумал еще, что где-то среди этих мерзких трофеев он должен держать и крошечный скальп с головы маленького Гэса… этот вонючий старый дикарь, проживший всю жизнь среди убийств, грабежей и грязи, и я чуть не зарезал его — но спохватился и понял, что волосы эти желтее, чем у моей жены-шведки.
Я упомянул об этом эпизоде, потому что он показывает, как в одно мгновение могут перевернуться чувства человека, когда он вспоминает о собственном горе. Только что он потряс меня рассказом про Санд-Крик, а в следующую минуту я был готов убить его…
Ну, Старая Шкура распознал мое состояние, даром что слепой был.
— Есть ли у тебя, — спрашивает он, — большое горе, или это просто на душе горько?
Тогда я рассказал ему все, только он никогда не слышал о схватке, в которой были захвачены Олга и Гэс. Врать он не умел. Я уже говорил, что это поразительно, как индейцы узнают о событиях, происходящих где-то далеко от них, но, тем не менее, бывают вещи, о которых они ничего не слышали. В те времена пленение белой женщины с ребёнком было делом обыденным. И Шайены из одной общины могли ничего не знать о пленниках, захваченных другой общиной, если не стояли лагерем вместе.
Ну, Старая Шкура и говорит;
— Наши молодые люди в эти дни злы. Много раз бывало, что им не хватало терпения дождаться выкупа или обмена пленников, они теряли разум от бешенства и уничтожали пленных… Но скажи, не голос ли Солнечного Света слышал я недавно у моего типи? Она вдова Маленького Щита, который был убит две луны назад, но теперь она будет твоей новой женой и даст тебе нового сына, так что у тебя будет снова то, что ты имел раньше, и даже лучше, потому что, конечно же, женщина из племени Настоящих Людей куда лучше, чем любая другая. Он вовсе не был бессердечным, просто выбрал самую лучшую возможность, как приходится делать индейцу в той жизни, какой он живет. У него у самого две жены были зверски уничтожены, и он оплакивал их положенное время, а потом нашёл замену обеим. Его новые жёны то входили в типи, то выходили, пока мы разговаривали — молодые женщины, и тоже сёстры, и, наверное, лет на пятьдесят моложе вождя, но, клянусь Господом, мне показалось, что обе беременны.
— Ладно, — сказал я. — Но вот что и тебе скажу: если я снова найду мою первую жену и сына, то я отберу их у любого мужчины, который их сейчас у себя держит. А если их убили, то я убью того, кто это сделал.
— Конечно, — сказал Старая Шкура, потому что для индейца нет ничего понятнее, чем месть, и он бы презирал меня, если бы я не хотел отомстить.
Худшего времени, чтоб поселиться с Шайенами, было не сыскать. Их преследовали по всей границе, а они, стоило только оторваться от преследователей, тут же совершали какой-то новый акт насилия против белых. Так что я, присоединившись к ним, превращался в ренегата и должен был опасаться своей собственной расы. С другой стороны, и сами Шайены представляли для меня постоянную угрозу, потому что для многих из них один вид белого лица уже был поводом для нанесения увечий. Я полагаю, единственное, что спасло меня, это что община Старой Шкуры держалась вдали от главных сил Вождя Индюшачьей Ноги, который командовал сражениями у железной дороги, так что я почти все время находился в клане, где меня вырастили и где легенда о Маленьком Большом Человеке все ещё что-то значила. Моя женщина Солнечный Свет была для меня хорошей защитой, и, конечно, Старая Шкура. Но были здесь воины, выросшие с тех пор, как я покинул племя, вроде молодого Разрезанного Живота, который однажды совершил налёт на почтовую станцию, вернулся с кувшином виски и говорит мне:
— Я хочу, чтобы ты ушёл в прерии и спрятался, потому что, хоть я и не хочу убивать тебя сейчас, но захочу, когда стану пьяным. Мне от этого печально, потому что мне говорили, что ты — хороший человек, но так будет.
Самый лучший способ быть убитым — это позволить, чтоб вот такой мальчишка отдавал тебе приказы, ну, я и говорю:
— Я думаю, это тебе лучше уйти в прерии, чтобы пьянствовать, потому так уж я устроен, что на меня что-то находит, когда я вижу пьяного, и я вынужден застрелить его, даже если это мой брат. И ничего я с этим не могу поделать, уж такой я есть.
Он принял к сведению мой совет. Сумел я пережить и другие подобные угрозы, но не могу сказать, чтобы меня особенно любили, и меня это задевало — ведь я помнил своё детство на Пороховой Речке, годы, когда я был Маленьким Большим Человеком. Что ж, теперь я вырос, а это всегда приносит разочарования. Ладно, я ведь настоящий счастливчик просто потому, что сумел до сих пор сохранить волосы. Я жил сегодняшним днём, а в таком образе жизни есть своя прелесть, даже если имеется у тебя какая-то отдаленная цель… но я не стал гнаться за ней, я решил, пусть она сама придет ко мне, а зная, что она придет, я мог жить спокойно, без видимой цели, как индеец, есть жаренный горб, когда мы находили бизона, и затягивать потуже пояс на пустом брюхе, когда не находили, и валяться под тополем, наблюдая, как моя женщина Солнечный Свет работает вовсю, а этот маленький парнишка спит, привязанный к специальной доске у неё за спиной. Его звали Лягушка-На-Склоне-Холма, потому что мы прошли мимо такой лягушки, когда удирали после битвы у железной дороги, а младенец как будто проснулся в этот момент и кивнул лягушке, и мы оба, я и Солнечный Свет, решили, что будет правильно, чтобы мальчик сам выбрал себе имя.
Когда мы добрались до индейского лагеря, Солнечный Свет должна была исполнить траурные обряды по своему умершему отцу, и хотя она отдавалась этому вполне добросовестно, вопя и рыдая с ужасающей громкостью, ей всё же приходилось прерывать это важное занятие, когда она кормила Лягушонка, и не было у неё возможности рвать волосы и резать себя ножом с малышом на спине. Так что пришлось её родственницам помочь, и они старались всю ночь и следующую ночь тоже, потому что Тень пользовался в племени большим уважением и, что самое ужасное, не имел погребального помоста, который защитил бы его тело от волков. Ну, эти женщины выли и стонали, пока не начинали задыхаться, как ребёнок, который рыданиями доводит себя до исступления — я имею в виду белого ребёнка; маленькие индейцы этого не делают.
Взять хоть этого Лягушонка, привязанного к своей доске-колыбели, с маленькой головкой, похожей на коричневую бусинку; когда он не спал и не ел, эти острые чёрные глазки так и рыскали по сторонам, изучая все вокруг, и никогда он не хныкал. Он часто напоминал мне маленького Гэса, потому что мой мальчик спокойным нравом пошёл в свою маму, но была между ними и примечательная разница. Гэсу всегда страшно нравились мои карманные часы — я их держал перед ним на весу, чтоб они тикали, как все делают с детишками, а им это доставляет жуткое удовольствие. А вот Лягушонку — нет. Они его не огорчали, да его вообще ничего не огорчало, но он на них никакого внимания не обращал: смотрел мимо них и слушал тоже мимо — если можно так выразиться.
А, может быть, его просто не интересовал человек, державший часы. Солнечный Свет и Старая Шкура все уговаривали его, что он мой сын, но только Лягушонка нелегко было одурачить. Не то чтобы он ненавидел меня; я был для него просто вроде устройства, которое его время от времени поднимает и обнимает, а ещё подбрасывает высоко в воздух и ловит, ему нравились эти движения и прикосновения, но ничего личного он в этом не признавал.
А, может быть, вина была моя, потому что, хоть он мне и нравился, я не участвовал в его воспитании и никак не мог представить нас с ним в будущем, как отца и сына, независимо, найду я когда-нибудь Гэса и Олгу или нет.
С Шайенами покончено. Они сами это знали, и я знал, и маленький Лягушонок был рождён с этим знанием. Самое лучшее, что я для него мог сделать в качестве отца, — это отвезти в Омаху или Денвер и отдать в школу. Сделать из него белого, приучить жить в постоянном квадратном доме, каждое утро вставать и отправляться на работу по часам… Но вы уже видели, что он думал об этом приборе для измерения времени.
Однако я не мог бы просить у Бога более пылкой жены, чем Солнечный Свет. Эта женщина была очень предана мне, и до такой степени, что — стыдно признаться, но это правда — начинала надоедать мне. Я думаю, обстоятельства нашей встречи в какой-то мере определили наши последующие отношения. Она видела что-то особенно трогательное в том, что я явился к ней в час острой необходимости — хотя тут она явно преувеличивала: она была достаточно крепкая, чтоб произвести на свет это дитя и спастись своими силами. Для меня же она с самого начала была бременем, которое я тогда, в той балке, по собственной воле принял на себя в качестве единственного выхода в минуту опасности и которое, кажется, становилось все тяжелее, когда мы жили здесь, в лагере.
Я должен объяснить, потому что, как вы знаете, Шайенские мужчины никогда не делают того, что в мире белых считается работой. Когда я не охотился, то проводил большую часть времени, лежа на спине под деревом, или, если что-то мешало, то в тени типи. Я немного играл в карты с другими воинами и изредка скакал с ними на перегонки на своём пони, которого мне дал Старая Шкура, но старался не побеждать, чтобы не иметь потом неприятностей с проигравшими. Я никогда не присоединялся к военным отрядам, потому что в эти дни они всегда выступали против белых людей. Вы можете подумать, что сохранить такую позицию мне было невозможно, но если так, то вы не знаете индейцев, среди которых человек может жить практически на любых условиях, кроме открытой вражды, да и в этом случае останется цел до тех пор, пока у него будет хоть один верный защитник. А у меня таких было двое: вождь и моя жена. Иногда какой-нибудь возбуждённый молодой воин являлся со свежим белым скальпом и пытался оскорбить меня, размахивая им, но я либо управлялся с ним подобно тому, как управился с Разрезанным Животом, либо смотрел прямо сквозь него, как будто он был стеклянный, — в зависимости от ситуации и от того, какой у него, по моему мнению, был характер. Ну, а если Солнечный Свет была рядом, то она так на него набрасывалась, что под конец я начинал втайне ему сочувствовать, потому что у неё был воистину острый язычок, — я не помню, говорил ли я уже, что, если Шайенские девушки застенчивы и скромны в речах, то, став замужними женщинами, они совершенно изменяют своим манерам и специализируются на темах, которые в цивилизованном обществе более свойственны салунам, чем местам, где бывают приличные люди. Я полагаю, им простительно говорить таким образом, ибо в семейной жизни они весьма добропорядочны. Среди Шайенов вы редко встретили бы женщину с отрезанным носом — не упоминал ли я, что индейцы Равнин отрезают своим женщинам кончик носа, если те развлекаются с другими мужчинами?
Так вот, сударь, я так полагаю, что по всему свету холостяк всегда оказывается в крайне невыгодном положении, беседуя с почтенной замужней дамой, а Солнечный Свет принималась крайне неодобрительно высказываться о потенции молодого парня, его мужских доблестях и всякое такое, а вокруг хохотали другие женщины, среди которых могла находиться и некая юная девица, по которой он страдал, так что бедняга спешил поскорее удрать… кому приятно явиться героем, а уйти шутом? Довольно противно, когда тебя защищает женщина, да ещё в таком стиле… но Солнечный Свет на том не успокаивалась и начинала восхвалять меня. Для начала она рассказывала, как я спас её от Поуней, и простая история о том, как мы прятались в кустах, все дальше отходила от действительности; теперь это была повесть, в которой я сражался с пятью или шестью врагами и троих поверг в прах. Ну, а дальше, само собой, если она была так красноречива насчёт сексуальных способностей другого мужчины, о которых ей ничего не было известно, представьте себе, что она могла наплести о человеке, относительно которого она здесь была авторитетом: я превращался в племенного жеребца-рекордиста.
Скажу вам честно, такая характеристика меня смущала, но сами знаете, как оно бывает: человек временами становится жертвой собственного тщеславия, и ночами, под одеялом из бизоньей шкуры я из сил выбивался, пытаясь подтвердить такую репутацию. Господи Иисусе, иногда утром я выпрямиться не мог я чувствовал себя так, будто меня лошадь лягнула в поясницу. Наверное, нехорошо говорить об этом, потому что Солнечный Свет была мне Шайен женой, а хотя мужчина может бесконечно трепаться о своих похождениях на стороне, тема эта становится проявлением дурного вкуса, как только речь заходит о законном супружестве, — не знаю уж почему.
Но наконец, мне удалось сорваться с крючка: в один прекрасный день Солнечный Свет забеременела. Случилось это, должно быть, в последних числах марта шестьдесят восьмого года, судя по тому, что произошло девять месяцев спустя; другим способом я оценивать время не ногу, потому что к тому дню я уже прожил среди Шайенов три сезона и вернулся к их способу датировки событий, например, «когда дикие гуси летят на север», что означает приход весны, так же как появление шерсти на неродившихся телятах, извлекаемых нами из тел убитых бизоньих маток.
Все это время мы кочевали в основном между реками Арканзас и Платт, сейчас это южная часть Небраски и север Канзаса, а там строилась очередная железная дорога, Канзасская Тихоокеанская, вдоль Реки Дымных Холмов — Смоки-Хилл-Ривер, где раньше были богатые бизонами места, а теперь — из-за строительства — зверя Становилось все меньше, и мы чаще ели коренья, чем мясо. За нами гонялись войска и Поуни, но под руководством Старой Шкуры, хоть и был он слеп, нашей общине удавалось ускользнуть от них; однако наши небольшие военные отряды, уходящие в набеги, не раз участвовали в мелких схватках.
По-прежнему наша община держалась в стороне от остальных Шайенов, хотя время от времени мы встречались с другими общинами, и в таких случаях я принимался расспрашивать про Олгу и Гэса. Дело это, из-за моей белой кожи, было трудное и щекотливое, и потому, возможно, я не всегда слышал правду. Как бы то ни было, эти расспросы ничего мне не приносили, кроме нескольких напряжённых моментов, потому что некоторые из этих общин держали в плену других белых, и вовсе не хотели, чтобы я совал нос в их типи.
И от Старой Шкуры в этом деле немного было помощи. Слепота заставила его отказаться от привычных манер поведения — он больше не мог видеть толстых шлюх — но зато усилила в нем желание идти своим путем. Осенью шестьдесят седьмого года случилось кое-что: правительство подписало очередной договор с южными Шайенами, Кайовами и Команчами, по которому индейцы соглашались оставаться в западной части Оклахомы, известной в те времена как Индейская территория. Гонец нашёл наш лагерь и доставил приглашение Старой Шкуре, но после Санд-Крика вождь уже был сыт по горло договорами и не поехал на конференцию. Он не считал себя обязанным соблюдать этот договор.
— Я не буду жить в этом плохом месте, — сказал он мне, имея в виду западную часть Индейской территории, — Трава здесь растет плохо, вода горькая. И по праву это земля народа Змеи — я знаю, они сейчас наши друзья, но они совокупляются с лошадьми, и это делает их чуждыми мне. Придет туда и Народ, Играющий На Скрипке (он имел в виду Апачей), это отважные люди, но ужасно уродливые, коротышки, кривоногие, вовсе не такие красивые, как Шайены. Давным-давно, когда мы с ними воевали, я захватил в плен Апачскую женщину, но с ней лежать было всё равно что с кактусом, так я отправил её обратно к её народу с подарком — а это большое оскорбление… Мне сказали, что Чёрный Котёл был на этом собрании. Но я слишком хорошо знаком с договорами, которых он касается пером. Я был с ним на Санд-Крик и потерял мою семью, моих друзей и мое зрение. Но я и без глаз вижу яснее, чем он.
В моих интересах было оставаться на юге и даже уговорить его присоединиться к основной группировке южных Шайенов, потому что если моя семья ещё жива, то, вероятнее всего, она где-то среди них. Но я не мог, просто не мог. Была у меня слабость к этому старому индейцу.
Вот потому-то я и сказал ему:
— Я не могу понять, почему ты не уходишь на Паудер. Если бы ты сделал так, когда я первый раз это советовал, то не оказался бы на Санд-Крик.
— Я скажу тебе, почему, — говорит на это Старая Шкура. — Я родился там, на Ручье Розового Бутона, Роузбад-Крик. И волшебство мое действует лишь в половину силы, когда я ухожу южнее Реки Раковин (так он называл реку Платт). Но американцы, кроме немногих трапперов, не интересуются этими краями, и до тех пор, пока Настоящие Люди будут оставаться там, их не потревожат белые люди.
— Вот я точно так считаю, — говорю я ему, а сам думаю: «неужели старый чёрт и мозги потерял вместе со зрением?»
— Да, — отвечает он, — и я, вождь самых великих воинов на лице земли, должен прятаться от опасностей, как заяц? Я должен позволить им прогнать меня из этих краев, где восемьдесят лет я убивал бизонов и Поуней? Настоящий Человек всегда идет туда, куда хочет, и если какие-то люди попытаются остановить его, он уничтожит их или погибнет от их рук. Если бы я был таким трусливым, мой народ никогда бы не уважал меня. В этой общине есть много замечательных молодых людей, и они больше не имеют сомнений, которые испытывали наши воины в прежние дни. Они решили сражаться с белыми людьми повсюду, где найдут их, и срывать эти железные рельсы и прогонять прочь огненные фургоны. Когда это будет сделано, они уничтожат всех остальных американцев, чтобы мы снова могли без помех охотиться и воевать против Поуней.
— Дедушка, — говорю я, — и ты честно веришь, что это возможно?
— Сын мой, — отвечает Старая Шкура, — если это невозможно, тогда солнце озарит своими лучами день, подходящий для смерти…
А потом произошла битва у острова Бичера, когда пятьсот или шестьсот Шайенов загнали полсотни белых разведчиков на песчаный остров посреди сухого русла реки Арикари у впадения её в Арканзас и осаждали их там девять дней. Но и на этот раз белые были вооружены многозарядными винтовками Спенсера и отбивали все атаки, убив множество индейцев; в их числе погиб и великий шайенский воин, Прямой Нос. А потом пришла кавалерия…
Я там не был, но наши молодые люди были, а они возвратились в лагерь, угнетаемые чувством усталости и поражения. Какое-то время я не выходил из вигвама, чтобы избежать неприятных случайностей, но я мог бы этого и не делать, если бы знал их настроение. У Шайенов до сих пор не было огнестрельного оружия, стоящего доброго слова, а люди чувствуют себя очень паршиво, когда имеют численное преимущество и всё же не могут побить врага, у которого оружие лучше. Я давным-давно закопал свой револьвер, а «Боллард» держал подальше от глаз — незачем портить людям настроение.
Итак, теперь индейцам оставалось попробовать взяться за эту проблему с другого конца и изобрести какое-то волшебство, чтобы сделать себя неуязвимым для пуль. Одному парню, кажется, это удалось — ему прострелили грудь у острова Бичера, а он сделал какой-то фокус-покус с раной, и она закрылась без неприятных последствий. Он после этого взял себе имя Защищённый От Пуль. Ну, подверг он своему волшебству несколько других воинов, и через пару недель после битвы у острова они отправились сражаться с кавалерией. Из семерых Настоящих Людей, попробовавших это волшебство, двое были немедленно подстрелены. Защищённый От Пуль привез их обратно в лагерь и попытался поднять из мёртвых. Один слегка дрыгнул ногой, а другой замер навсегда — так он и не воскрес. Тогда только Защищённый От Пуль признал свою неудачу.
Я полагаю, именно из-за таких событий Старая Шкура и даже его свирепые молодые люди вынуждены были ограничить свои амбиции и постараться просто выжить, и через некоторое время мы оказались в одном селении с людьми Черного Котла, которого белые люди в более поздние времена называли иногда великим индейским государственным мужем, — я думаю, потому, что он всегда подписывал договоры, чтобы сохранить мир, и отдал большую часть шайенских охотничьих земель железнодорожным компаниям и ранчерам.
Как бы то ни было, именно так я оказался в битве при Уошито. И, как обычно, на стороне побеждённых.
Глава 17. В ДОЛИНЕ УОШИТО
К Чёрному Котлу мы пристали в конце большой летней охоты на бизонов, во время которой все Шайены в этих краях сошлись вместе, и потом подались вглубь Индейской территории, через реку Канейдлан, мимо Антилоп-хилс (Антилопских Холмов) и дальше в долину реки Уошито, в резервацию, что была отведена Шайенам по договору на Медисин-Лодже. Там, растянувшись вдоль реки, обосновалось несколько стойбищ: мы, ниже нас по течению ещё одно селение Шайенов, дальше Арапахи, Кайовы, Команчи и несколько Апачей. В этой долине, поросшей тополиными лесами, индейцы и решили перезимовать.
Место было что надо, подходящее; однако Старой Шкуре тут отчего-то не нравилось и он все сетовал на его унылость, все бубнил, что вода тут горькая, хотя я этого никак не замечал. И всё же я его не упрекал, потому как здесь, среди такого скопища народа, находились вожди и повлиятельнее: и Чёрный Котёл, и вождь Арапахов Маленький Ворон, и знаменитый разбойник-Кайова Сатанта; тот, вообще, раскрасил себя красной краской по пояс, везде слонялся и все трубил в армейский горн. И все они ноль внимания на Старую Шкуру, да оно и понятно: он-то и стал участвовать в совете на Мадисин-Лодж, был беден и под его началом было всего, что называется, полторы калеки. Да, спесь — порок общий для всех имеющих власть, будь они бледнолицые или краснокожие.
И мой старый вождь по большей части был предоставлен самому себе: сидел в гордом одиночестве, предаваясь видениям, и лишь изредка пускался произносить речи, но в те дни много публики не собирал: юноши его на него дулись за то, что он не ходил на тот совет, ведь другие индейцы то и дело хвастали подарками, полученными там, и расточали похвалы грандиозному конному представлению, что перед правительственной комиссией устроили различные племена; а краснокожих хлебом не корми, а только дай поглядеть какое-нибудь зрелище или попраздновать. Помню, давным-давно, я ещё был ребёнком, стояли мы на реке Сюрпрайз, неподалёку от Лакотов. И вот в один прекрасный день они давай из всех стволов палить да вопить во все глотку. Мы грешным делом подумали — может, на них кто напал, вот и бросились им на выручку, но выясняем, что они просто-напросто гуляют. Тут Горб у них и спрашивает — с чего, на что они ему и отвечают, дескать, не знаем, но солдаты в форте Ларами празднуют, и Лакотам не хотелось бы, чтобы о них подумали, что они, мол, не умеют веселиться. Тогда Горб говорит, что он считает, что и Настоящим Людям надо устроить праздник; так что мы тоже весь тот день орали, издавали боевые кличи и тратили патроны почем зря. Позже я понял, что это было Четвёртое июля, День Независимости.
Вам, наверно, интересно, а что сталось с теми двумя индейцами, что я их все время упоминал, когда рассказывал о своей юности среди Шайенов и которые, когда я попал к индейцам во второй раз, казалось, бесследно пропали. Я говорю о моём враге, Младшем Медведе, который стал Человеком Наоборот, и Лошадке, что сделался химанехом.
Оба были живы — я наводил справки и выяснил, что они просто кочуют с другими общинами, по-моему, потому как нуждаются в компании себе подобных, да и к тому же для маленькой кочевой общины Старой Шкуры два представителя столь диковинных профессий — это уж слишком. Человеку Наоборот, должно быть, чертовски одиноко, так как ему с обыкновенными людьми постоянно приходилось говорить задом-наперёд; а химанеху, хотя он все время в компании женщин — судачит с ними, шьет и все такое прочее — зачастую, наверно, не хватает родственных душ.
И мне недоставало их обоих по одной и той же причине. Ведь у меня совсем не было друзей кроме Старой Шкуры, да и никаких своих личных недругов — тоже. Впрочем, я говорил уже, что чего-чего, а вражды и неприязни ко мне хватало, и только я более-менее привык мирно проходить мимо молодых людей из стойбища Старой Шкуры, как мы влились в орду Черного Котла, и все началось с начала, потому как, несмотря на то, что Шайены находились якобы в состоянии мира, у них и в мыслях не было распространять его на белых, и они, пока стояла хорошая погода, как и прежде совершали набеги на ранчо и фермы, так что стоило кому-нибудь из них прискакать в селение и встретиться со мной — как он тут же хватался за нож, даже в центре нашего стойбища. И не то чтобы это я им не нравился лично, нет. Им не нравился цвет моей кожи. Так вот я и хотел сказать о Младшем Медведе, что знал меня как облупленного, как оно всегда и бывает между личными врагами; теперь, когда его не было под боком, я понял, какое наслаждение испытывал я от его враждебности, сугубо личной враждебности ко мне, а не к цвету кожи, враждебности с детства.
Что же касается Лошадки, то благодаря его образу жизни, его ничто не тяготило: с ним в компании всегда было приятно: он мог спеть, сплясать, с ним можно было покалякать, потому как в отличие от Шайенов-воинов ему не надо было без конца заботиться о поддержании мужского достоинства и магической силы. И если случится, что речь вдруг зайдет о химанехах, я всякий раз буду употреблять индейское словцо, потому как, в отличие от своего белого собрата, химанех своё место в жизни знает.
Так, значит, обоих, и Младшего Медведя, и Лошадку я встретил в огромном стойбище на Уошито, о чём и собираюсь вам сейчас поведать.
Стоял конец ноября; реку сковала корка льда, и в долине выпало снегу чуть ли не по колено. Днём снег обычно немного подтаивал, а потом ночью подмерзал, образуя твёрдый наст — бывало выйдёшь за стойбище с его утоптанным снегом, как поднимется такой скрип и хруст, словно это несется стадо бизонов, да ещё чего доброго в кровь изрежешь ноги. Но сюда на зимовье индейцы все прибывали и прибывали; и не только отряды воинов, но и целые кочевья: женщины, дети, табуны лошадей да своры собак. Стоило им расположиться, как я обычно давай высматривать — вдруг среди них есть кто из бледнолицых. При этом столько неприятных столкновений имел я с молодыми задиристыми воинами, что пришлось мне раскрасить себя точно так же как когда-то в битве при Соломон-Форк. А чтобы спрятать свою рыжую шевелюру, у шамана за пару замшевых накидок Солнечного Света я выменял один из этих его наголовников — бизонью голову с рогами. Только раскрасил себя я не цветной краской, а наоборот — совершенно чёрной, из сажи и сала. Тем паче, что моя одежда европейского покроя всё равно изодралась, и носил я теперь ноговицы да синее одеяло. Тем не менее все знали, что я белый, но кажется, начали ко мне относиться лучше за то, что я превратился в индейца настолько, насколько это вообще возможно.
Так вот, сэр, в тот день про который я веду рассказ, пожаловала ещё одна кочевая община и стала устанавливать свои типи, где-то в миле ниже нас по течению, там где Уошито изгибается подковой, и где глубоко уже у самого берега — футов восемь. Те, что знал про это место, как правило, новоприбывших о нем предупреждали, а то вдруг взбредёт кому в голову тут окунуться, ведь все Шайены привыкли обмываться в холодной воде поутру. И, ей-Богу, кто-то из них уже и правда купался, сигая в студеную воду прямо с обрыва. И пока женщины ставили типи, они в этот собачий лютый холод плавали в ледяном крошеве. Вот в этот-то момент и оказался я неподалёку. Гляжу — а на середине реки — Младший Медведь! Плавал он презабавно: на каждом втором взмахе рук голова его обычно поднималась из воды до края носа — а глаза при этом оставались закрытыми, потому как сверху, понятно, вода стекала, а так как ртом он дышал, то казалось, что это всплывает утопленник с речного дна.
А пока я наблюдал за ним, слышу как кто-то окликает меня самого сзади: голос при этом слишком нежный для мужчины-воина или взрослой женщины — скорее он принадлежал девушке. Оглядываюсь — ба! — да это же Лошадка! Одет он был в женское платье из белой антилопьей замши, с длиннющей бахромой — дюймов на восемь, краше которого мне видать ещё не приходилось. На груди оно было расшито стеклярусом каких хочешь оттенков, и даже в эту холодную зимнюю пору бусинки на солнце сказочно искрились и переливались всеми цветами радуги, ну, просто северное сияние над Большим Каньоном. Вдобавок на себя Лошадка нацепил с полдюжины браслетов, с шеи у него свисала нитка бус, да такая длинная, что и споткнуться об неё не мудрено, а мочки ушей, словно тающая конфетка-тянучка, непомерно удлинялись под тяжестью вдетых в них огромных медных дисков.
По тому, как он подбирался ко мне я подумал, уж не затевает ли он ущипнуть меня. Так что по-быстрому, скороговоркой называю себя.
Он отвечает: «О, конечно, я знаю тебя» и давай хихикать. По-моему хихикать все время у него теперь вошло в привычку. Меня это страшно коробило, но ради нашей старой дружбы я силился не реагировать на это хихиканье.
Вот тут на берегу реки, среди утоптанного снега мы и возобновили нашу дружбу, и, понятно, он не стал задавать мне глупых вопросов, что я, дескать, тут делаю — это было бы просто негоже для двух друзей-приятелей, выросших вместе, но мне пришлось Шайен обняться с ним, и признаюсь, его объятия были не братские, скорей сестринские.
— Так, значит, ты ушёл из селения отца? — спрашиваю у него, выпутавшись в конце концов из объятий.
— Да, ушёл, — говорит он, играя бусами, — после Санд-Крика. Отец велел. Он сказал, что его магическая сила стала негодной и приносит одни несчастья всей семье. Он сказал, что не хочет, чтобы со мной что-нибудь случилось — уж очень я красивый. И всё же я не ушёл бы, даже после этого, да вот Младший Медведь, — и он показал рукой в сторону воды, — ушёл от нас после Санд-Крика. Тогда с ним вышла неприятная история. Ты ведь знаешь, что Человек Наоборот не имеет права сидеть или лежать на мягком или на подстилке? Он всегда спит на голой земле. Ну, а в ночь перед тем как на нас напали, Младший Медведь, во сне, не просыпаясь, встал с земли, подложил шкуры, улегся на них и провел так весь остаток ночи. Утром к своему ужасу он себя находит в постели. И эта мягкая подстилка из бизоньей шкуры забрала у него всю его силу Человека Наоборот, поэтому, когда начался бой, он был слабый как младенец, так что пришлось мне помогать ему бежать от солдат по дну сухой балки и прятаться в кустах.
— Очень жаль, что так вышло, — говорю я довольно искренне, потому что, это Младший Медведь ненавидел меня, а не я его, хотя, случалось, что он и раздражал меня, не без того.
Но Лошадка, по-моему, совсем в характере химанеха — пропускает мои слова мимо ушей.
— А-а-а, — говорит он, — Медведь давно избавился от этой своей силы. Когда мы прибились к общине Краснокрылого Дятла, то он продал кому-то и Громовой Лук и свою силу Человека Наоборот, после чего стал свободен и смог жениться.
Тем временем предмет нашего разговора самолично появился из воды, отряхнулся, чтобы вода не замерзла, и по тому как Лошадка оборвал беседу и бросился вытирать Младшего Медведя красным одеялом, а потом и помогать с облачением, я сразу смекнул кто есть кто в этом брачном союзе.
И вот когда Медведь предстал при всем параде и перевел взгляд на меня, я не смог отказать себе в удовольствии отпустить в его адрес шпильку. Шайены химанехов не порицают, но зато проехаться за счёт сожителя у них это в порядке вещей.
Вот я и говорю ему не без ехидства:
— А мы тут о тебе говорили… с твоей красавицей-женой.
— Ну, и хорошо, — улыбается он беззлобно и выжимает из каждой косички по полведра воды. — А теперь пошли знакомиться с другой.
Он обменивает у Лошадки мокрое одеяло на сухое, запахивается в него и ведет нас стойбищем к своему типи. По дороге он смотрит на остромордую собачонку, которая, по-моему шибко смахивала на койота, и жестом велит Лошадке приготовить её для гостя. Лошадка вытягивает из-за пояса дубинку и ни слова не говоря — бах её по голове. После чего тащит уже не только мокрое одеяло, но и желтую тушку за задние лапки. Таким макаром мы подходим к видавшему виды типи и ныряем вовнутрь.
Посередине жилища пылает яркий огонь, а над ним висит обычный закопченый котелок; в котелке что-то помешивает обычная толстая женщина. На ней обычный слой грязи и копоти, вот только лицо-то у неё… белое и волосы — светлые, пусть даже под слоем копоти… Боже, это Олга!
Тут Младший Медведь оборачивается ко мне и улыбается, как мне в тот момент показалось, глумливо, хотя теперь-то я понимаю, что это было просто от гордости, ибо он даже не подозревает, что между его женой, т. е. женской женой, и мной может быть что-то общее, кроме цвета кожи.
— Мужчины будут курить, — объявляет он, — а потом есть.
Олга, когда-то такая чистюля, выглядит чудовищно: на ней грязное замшевое платье и ноговицы, на ногах старые рваные мокасины. И если Медведь с завидной регулярностью каждый Божий день при любой погоде купается в реке, то она, видать, с такой же регулярностью воды избегает. Я тут выразился, что волосы у неё были светлые, но, пожалуй, заврался — на самом деле они были какие-то зеленовато-тусклые, а уж спутаны как у нечесаного конского хвоста.
С собой оружия у меня никакого — оставил дома на случай, если вдруг встретится воинственно настроенный юноша, так чтоб он сразу оценил мои мирные намерения; а Младший Медведь — детина хоть куда, ростом больше пяти футов; к тому же мы находились как раз в самом центре стойбища, где, натурально, у него полным-полно друзей. Но мне на все на это было наплевать. Я видел только мою дорогую милую женушку, низведенную до положения рабыни этим отвратительным дикарем, и мои пальцы сами сжались в кулаки; ещё мгновение — и я бы бросился на Медведя и разорвал бы ему глотку. Но тут оборачивается Олга, раскрывает рот и давай поносить и чихвостить Младшего Медведя, причём, самыми последними словами, да так что крик её, небось, разносится по всей округе — куда там той Кэролайн или той же Ничто (пришлось мне как-то слышать, как она распекала своего мужа), да, в эту минуту Олга запросто перекрыла бы их вместе взятых и вообще заткнула бы за пояс любую бабу, хоть белую, хоть индеанку, которая когда-либо терзала мои барабанные перепонки.
— Может, ты мне Шайен скажешь, что мы будем есть, бездельник ты эдакий, лентяюга! — разошлась она не на шутку. — Да я уж и забыла, когда ты в последний раз приносил добычу! Посмотри на Лошадку, он и то куда больше мужчина, чем ты! — Тут, как бы в подтверждение её слов Лошадка, что до той поры свежевал снаружи собачку, появился на пороге с большим куском мяса, с которого ещё капала кровь; рукава его платья, чтобы не запачкались, были переброшены за спину. Лошадка попытался было успокоить Олгу — но куда там! Олга накинулась на Медведя пуще прежнего:
— Тебе бы с ним одеждой поменяться! Да и химанех из тебя не выйдет. Для этого ты слишком туп и косорук! А это что за побирушку ты приволок с собой?! Чтобы он у нас отнял последние жалкие крохи, что не ты добыл! Скажи этой слабоумной попрошайке, пусть убирается вон! Пусть пляшет бизонью пляску где-нибудь в другом месте!
Тут Младший Медведь бросает на неё грозный взгляд и ввертывает:
— А ну-ка, женщина, замолчи, иначе я тебя отлуплю!
— Да ты же сам отлично знаешь, кто кого отлупит! — огрызается Олга в ответ. — Да вот эту вот дубинку я сейчас разломаю в щепки об твою ленивую спину, лодырь ты эдакий!
Она пятерней зачесывает сбившиеся было на лоб волосы назад и на лбу остаётся длинный грязный мазок, потом презрительно сплевывает в огонь, выхватывает у Лошадки кусок собачатины и швыряет его в котелок, поднимая тучу брызг. Какие-то капли, то ли кипятка, то ли крови, попадают и Лошадке на платье. Он от ужаса, что кровь могла запачкать его платье, визгливо вскрикивает, так что Олга бросается к нему со словами «Прости, дорогой» и выводит наружу, чтобы там при свете солнца поглядеть на эти пятна.
Вы, должно быть, подумали, что Младшему Медведю передо мной стало стыдно, но как бы не так. Он недоуменно пожимает плечами и зажигает трубку.
— Обычно, — говорит он, — эта женщина нежна, как голубка. Я думаю, что это перед гостем она решила себя так показать, потому что добытчик я хороший. Вот и пса этого разве не я принес? И любовник я замечательный тоже — накопил сил за годы, когда был Человеком Наоборот, когда мне нельзя было иметь женщину, а сейчас я…
Ну, и он долго ещё похвалялся в таком духе, самым бессовестным образом заливая при этом. По правде говоря, его порочность меня просто ужасала. Сколько раз твердил я, что презираю брехунов и хвастунов и вот вам нате — этот индеец выхваляется и брешет, как самое последнее кабацкое трепло!
И не то чтоб я думал обо всем этом в тот момент — нет, я все ещё не мог прийти в себя после встречи с Олгой. Кем-кем, а Несчастной Жертвой она не была, уж это определенно; но до чего же Шайен она переменилась! Помню, какой приветливой и кроткой была она, когда мы были мужем и женой, смиренная овечка да и только — тише воды, ниже травы, и по-английски едва могла пару слов сказать. А тут — уже свободно бранится по-шайенски. Ну, может, этот грубый язык больше подходит для её шведской глотки, но вот куда девался её панический ужас перед индейцами — ведь помните, что Санти-Дакоты вырезали когда-то всю её семью…
Господи, ну не странно, что, размышляя про все это, я на некоторое время забыл о маленьком Гэсе; как вдруг вбегает он, одетый как дикарь, светлые волосенки заплетены в косицы. Теперь ему должно быть лет эдак пять; крепенький, несмотря на холод его мускулистое тельце полураздето. В руке у него лук, и он протягивает его Младшему Медведю.
— Отец, — говорит он, — тетива порвалась. Пожалуйста, сделай мне новую. Она нужна мне для нашей войны.
Медведь, довольный, расплывается в улыбке, с любовью поглядывая на Гэса, хотя при этом и корит его.
— Настоящий Человек не должен вмешиваться, когда гость курит. — А сам тем временем из своего колчана, висящего на жердине, достает шнурок и натягивает новую тетиву.
Тут, наконец, я обретаю дар речи и спрашиваю Гэса, своего родного сына:
— А с кем вы воюете? Кто враги? Поуни?
Голос мой, должно быть, звучит как-то ненатурально, но Гэс не задерживается на мне взглядом. Он всё ещё не отдышался после бега и, как и положено ребёнку, совершенно поглощён этой своей сиюминутной надобностью. И как только Младший Медведь натянул тетиву, Он хватает лук и уже на ходу отвечает:
— Нет, не Поуни! — звонко и свирепо отвечает он на этом гортанном языке. — Бледнолицые!
— Ну-ка вернись и окажи, как подобает, уважение гостю, — говорит Младший Медведь ему вслед, но, по-моему, довольно-таки вяло, и прежде чем он все это промолвил, мой Гэс уже присоединился к своим товарищам. С улицы донеслись их воинственные песни и боевые кличи. Себя, видать, он считал что ни есть настоящим индейцем…
Не знаю, что там думала Олга, ну, а после того, что я увидел, мне и выяснять расхотелось. Более мерзопакостной сцены мне наблюдать не доводилось. В стойбище, ниже нас по реке, у одного Кайова была белая женщина и он её имел за самую жалкую рабу. Сам я в этом стойбище чувствовал себя не очень-то спокойно, вот и был там всего ничего, убедился, что это не моя жена Олга — и всё, но эту несчастную и её полуторагодовалого ребёнка видел. И, правда, жалкое зрелище.
Но здесь несчастнее всех был Младший Медведь, вы бы видели его физиономию, когда Олга ни с того ни с сего обрушилась на него. Теперь же, когда мы остались одни, он принялся хвастать, что отдал за нее десять лошадей одному южному Шайену, что захватил её на реке Арканзас. А между прочим, когда замуж брали индианку, то за нее отцу давали, как правило, не более трёх-четырёх лошадок.
Вы, небось, решили, что я сидел и скрежетал зубами. Ничего подобного. Я был точно во сне и говорю ему как ни в чём не бывало:
— У этого мальчика белая кожа.
— А волосы как утреннее солнце, — радостно подхватывает Младший Медведь. — Его имя Вещая Сила, но обычно мы называем его Пузатый. Мне кажется, он станет самым могущественным военным вождём Шайенов. Тебе ведь известно, что у великого вождя Оглалов по имени Неистовая Лошадь была светлая кожа и светлые волосы, и он был заколдован от пуль.
— Так, значит, ты отец этого ребёнка, — я затянулся из каменной трубки и передал ему в ожидании, что он сейчас совсем заврется, но он какое-то время молча смотрит в огонь, полуприкрыв веки, и лишь потом отвечает:
— Нет, его отец — та самая вещая птичка, которая явилась мне на Санд-Крик, Песчаной реке, и сказала: «Довольно тебе быть Человеком Наоборот! Беги отсюда! А люди пусть думают, что хотят. Тебе уготована более важная судьба, чем сражаться с синими мундирами. Ты должен взять себе в жёны женщину со светлыми волосами и вырастить моего сына». Как птичка сказала, так я и поступил.
Ну, в это время заходят Олга и Лошадка, варят эту собачину и подают нам, при этом моя бывшая жена нет-нет, да и пускается почем зря поносить Младшего Медведя, меня же, как и прежде, совершенно не замечает, и мне кажется, что если Лошадка и рассказал ей что-то про меня, то это была до того невероятная история, что с Джэком Крэббом у неё никак она не связалась.
Из вежливости я с горем пополам проглотил пару кусков, а потом даже выдавил из себя ответное приглашение, как того требовали приличия.
— Я женат на дочери Тени-Что-Он-Заметил. Он был великий воин, ты ведь знаешь, — сказал я.
Меня стало задевать, что этот индеец бахвалится тем, что у него в типи белая жена, моя, кстати, — у меня ведь тоже имелась кой-какая гордость. Хотя сердиться на него всерьез я не сердился, а если и ненавидел, то совсем иначе, совсем не так, как думал, что возненавижу человека, у которого окажется моя жена. Ведь он её силой не держал — это было ясно.
Настроение у неё, похоже, было скверное, но женщины порой любят надуться на весь свет. Видать, он у неё под каблуком — узнала от Лошадки, наверно, что при Санд-Крике он наложил в штаны и теперь колет ему глаза и вьет из него веревки…
Такого, когда мы жили вместе, за нею я не знал — и слава Богу! Хотя теперь я понял, чего избежал — я б тоже хлебнул этого сполна, узнай она, как я прогорел тогда в Денвере. Но она так и не узнала. Тогда она ничего не знала и знать не хотела, кроме дома и ребёнка. Видать потому, что по-английски почти не понимала. Но вы бы видели, до чего ж она вписалась в эту шайенскую жизнь! Когда собака сварилась, она вышла из типи и принялась за дело вместе с другими женщинами; болтала, шутила с ними без умолку, и если бы не светлая кожа и волосы, ни за что бы её от других не отличить.
Чёрт меня подери! Извините, что ругаюсь. Но я сидел как мешком пришибленный, и ничего не мог взять в толк. Чудеса да и только. Я не психовал. И не был огорчён. Я даже не смутился, хотя, может, только потому, что она не могла меня узнать: на мне был этот наголовник с бизоньими рогами и рожа размалёвана. Потому как это Джэк Крэбб потерял свою жену, а не Маленький Большой Человек — я так на это и смотрел. Вы, небось, думаете, что мне не терпелось узнать во всех подробностях, как это все случилось тогда там, на Арканзасе, когда индейцы перебили горстку белых и захватили Олгу с Гэсом? Небось, думаете, не терпелось спросить у Младшего Медведя, кто продал ему Олгу и мальчишку, а потом пойти и убить его, чтобы защитить свою честь?
Но в тот момент мне ничего такого и в голову не пришло. Нет, когда я увидел в типи Младшего Медведя свою жену и сына, судя по всему, счастливых и довольных, я не нашёл ничего лучшего, как тут же сообщить о своей собственной женитьбе на Солнечном Свете. Больше того, давай хвастать, что не отдал за нее ни одной лошадки, потому как отец её умер, а братьев у неё не было.
Младший Медведь, как и все хвастуны, не мог вынести, что кто-то его переплюнул. Он надулся, набычился и все жевал-жевал какой-то хрящик. С возрастом глаза у него превратились в щелочки, как у китайца, а теперь под низким лбом их и вовсе не было видно, и только мешки под глазами едва проступали под краской, которая не совсем смылась во время купания, И все это время, пока я был у него, меня не покидало ощущение, что он не узнал меня, то есть, я хочу сказать, что для него, конечно, не было секретом, что я белый, хоть и одет как Шайен, но он никак не связывал меня со своим детством. А тот единственный случай, когда мы виделись с ним после детства, когда он был Человеком Наоборот, видать, совсем выпал у него из памяти.
Так вот, сэр, дальше мы ели молча. А когда съели все, вытерли об одежду руки и вышли на улицу, где Олга и ещё несколько женщин мездрили свежую кожу, растянутую на чистом от снега клочке земли. Олга как раз стояла нагнувшись, толстой задницей ко мне, и я бы ни за что не признал её, потому как хоть она всегда была баба в теле, но не до такой же степени. Ну, а рядом бегал малыш Гэс, увертываясь от воображаемых пуль, которыми из палочки-ружья палил в него его смуглый сверстник — небось, Гэс заставил того изображать белого врага. Да-а-а, вот так номер, скажете, кто ещё кроме моего сынка мог отмочить такое, и, чёрт побери, этот случай задел меня за живое побольше, чем всё прочее вместе взятое. Тут уж я совсем было хотел подойти к нему да сказать:
— Сынок, я твой отец. Ты что, забыл своего настоящего папку?
Но, конечно, ничего я этого не сказал — не место было и не время — да и, чёрт побери, как бы это я объяснил малышу, почему я в таком виде? Чистую правду говорю. А правда, она ведь состоит из маленьких подробностей, о которых, если разобраться, смешно и говорить. Но чёрт с ним, теперь, когда все позади, я готов сказать все как есть: я не забрал назад свою жену и сына из-за этих дурацких бизоньих рогов.
Так вот, собрался я уходить от Младшего Медведя и, значит, повторяю приглашение: приходи, мол, завтра ко мне в гости, посидим — поедим в моем вигваме и в своей браваде, чтобы скрыть нахлынувшие при виде сына чувства дохожу до того, что добавляю:
— И приведи с собой всю семью!
Тут Медведь вдруг как бы очнулся от спячки и говорит мне тихо так:
— Значит, ты решил остаться? — Выходит, признал меня Шайен. — Я так и не поблагодарил тебя, — продолжает он дальше, — за то, что ты приносил мне еду, когда меня держали в форте пленником. Так вот, я хочу это сделать сейчас.
Я, честно, было испугался, что он опять начнет, как тогда на холме, говорить, что обязан мне жизнью, вот и решил тотчас же уходить, но он меня остановил:
— Погоди. Я хочу извиниться за грубость моей жены. Она хорошая женщина. Просто не выносит бледнолицых, потому что они убили её отца и мать…
— Послушай, — добавляет он, — по дороге сюда мы видели следы белых солдат. Хоть вожди прикоснулись к перу и у нас теперь мир, я думаю, они ищут эту деревню.
Ничего не скажешь, Младший Медведь всегда умел напомнить мне, кто я такой на самом деле, какая кровь течет в моих жилах. И давно бы мне пора было привыкнуть, но меня это всегда заставало врасплох. Вообще-то, если разобраться, я за индейцев, пока они не цепляются к моему цвету кожи. Даже когда цепляются, например, Старая Шкура или Солнечный Свет, ничего страшного, родня как-никак. Но этот Медведь, все я ему поперёк горла…
— Может, — отвечаю, — это они преследуют тот большой военный отряд, что только что вернулся из набегов на мирные ранчо вдоль реки Смоуки-Хилз. А, может, они разыскивают ту женщину с ребёнком, которую захватили Кайовы.
Но тут он упёрся не на шутку:
— Не знаю. Я не Кайова, я — Шайен. Я не нападал на мирные ранчо. Но всё равно, если я встречу солдата, он станет в меня стрелять.
Ну, что сказать, он был прав, — по крайней мере, возразить я ничего не смог. Но меня взбесили его слова: он вроде как обвинил меня в чем-то. Вот в этом-то все и дело: я всегда ему поперек горла, потому как я белый. Вот для солдата — для него все индейцы на одно лицо, неважно, что они принадлежат к совсем разным племенам — так и для Медведя я отвечал за всех белых, за все их грехи, хоть я и жил теперь в этом индейском селении и одевался как дикарь.
И я пошёл домой, в свой типи. До сих пор я все ещё ни разу не упомянул, что хотя отец Солнечного Света умер и братьев у неё не было, она имела трёх сестёр, и они жили вместе с нами. Одна из этих сестёр тоже была вдовой, и у неё было двое ребятишек. А я был единственный взрослый мужчина в этом доме и мне приходилось ходить на охоту и кормить всю эту ораву. А они, женщины, то есть, делали всё по дому, и если б я только захотел, наверно, я мог бы спать с ними со всеми. Но спал я только с одной — с Солнечным Светом, и мне хватало её одной, пока она не забеременела, ну а потом, может, я был немного святоша, потому как держать гарем мне было не по вкусу.
Так вот, лежу я на подстилке из бизоньей шкуры, смотрю на Солнечный Свет, на её огромный живот — и думаю только об одном, что в эту самую минуту, может, Олга носит в себе семя этого дикаря. Запятнана навеки. Я-то хоть могу в любое время бросить свой вигвам и вернуться в цивилизацию, принять ванну и опять стать белым человеком. А она нет. Ведь у неё внутри сидит семя Шайена… Меня просто тошнит от этих индейцев. Я буквально задыхаюсь от вонищи в своём собственном доме, где эти грязные бабы, которых я кормлю, стряпают гнусное варево нам на ужин. У нас ведь тогда не было свежего мяса, на охоту в тот день я не пошёл, а рассиживал вместо этого в гостях и ел собачье мясо, приготовленное моей законной женой в типи её незаконного мужа.
И пока я истекал желчью, ко мне, неловко ковыляя, подошёл маленький Лягушка и протянул игрушечную деревянную лошадку, что я вырезал для него. Сейчас ему было столько лет, сколько Гэсу, когда его захватили индейцы. Я сунул игрушку ему назад. Он посмотрел так серьёзно — сначала на меня, потом на неё, аккуратно положил ёе мне на постель и вышел. И это был первый знак, что атмосфера в типи накалена. Потом я заметил, что все женщины как-то странно притихли, а детишки вдовы — сёстры моей жены — мальчик и девочка, не шутят со мной как бывало, не пристают с расспросами, а держатся на своей половине.
Свет молча подала мне миску кореньев, смешанных с ягодами. И коренья, и ягоды были заготовлены ещё летом и хранились в сушеном виде. Я зачерпнул ложку этого кушанья — словно набил полный рот грязью.
— А где та часть говяжьей туши, что я принес вчера? — спрашиваю раздражённо.
Вид у Солнечного Света перепуганный, но она меня поправляет:
— Но это было три дня тому назад…
— Я сказал «вчера», значит — вчера, или ты, женщина, хочешь, чтобы я тебя побил?
Она немедленно соглашается со мной и начинает извиняться:
— Да, ты прав. Это было вчера. Это я, глупая…
— Ох, лучше помолчи! — перебиваю я. — У нас здесь слишком много ртов — всех не прокормишь. Не могу я каждый день приносить мясо, на вас не напасешься… Почему твои сёстры не выходят замуж?
Женщины потупились. Я закашлялся, потому как эта дрянь попала не в то горло.
— И если вы думаете, что я буду спать с вами, — обращаюсь ко всем им и ни к кому конкретно, — то вы просто сошли с ума.
Тут одна из них подходит к Солнечному Свету и что-то на ухо ей шепчет, после чего жена говорит:
— Если ты подождешь, сестра моя сходит выменять на мясо своё платье, расшитое бисером.
А я хорошо знал, что у сёстры, которая сделала это предложение, почти ничего не было, кроме этой рубашонки, да и та ничего не стоила, разве что за неё можно было выменять обглоданную кость. Да и само по себе это платьице было не ахти каким, латаное, в пятнах, а кое-где и бусинки оторвались. Да, богатым семейством, скажу я вам, мы не были, ведь в доме был только один мужчина, это — я, а я не ходил ни в какие набеги на поселки белых и с торговцами никак не был связан — не хотел, чтобы кто-нибудь из них меня в этом образе увидел, да и лошадей у меня не было кроме того пони, что его мне дал Старая Шкура.
— Нет, не надо, — отвечаю ей. — Я не голоден. Мне было немного неловко, но не хотелось этого показать. Я ведь прекрасно знал, почему ни одна из них так и не вышла замуж: потому как жили они в типи белого мужчины, а шайенские юноши не станут околачиваться возле такого дома и пытаться очаровать их игрой на приворотных флейтах. Тем более с каждым годом одиноких женщин в племени становилось все больше — потому как много мужчин погибало на войне. Не иначе как я стал для этих девушек проклятьем. Но, в конце концов, не я же придумал взять Свет в жёны! Нет, не я.
— Я не хотела тебя гневить. Извини, — говорит Свет. Она весь день, не покладая рук, трудилась, в том числе нарубила хворосту и на бизоньей шкуре приволокла его немалую кучу за четверть мили к нашему вигваму. А ведь она должна была рожать со дня на день. И если бы пришёл срок, она бы бросила на землю топор, отошла бы за дерево и там, прямо в снегу, родила бы — а потом дорубила бы дрова до конца и вернулась бы с ребёнком и дровами.
— Садись сюда, поешь, — говорю ей, — я не сержусь на тебя.
Она села и принялась уплетать это месиво, черпая его большой роговой ложкой. Остальные сделали то же самое и ложки зачавкали в кашице, словно солдатские сапоги по болоту. Если бы тогда в Денвере я бы не был таким легковерным дураком и не попался бы на удочку, то теперь мог бы спокойно сидеть в своих собственных хоромах, есть на серебре и фарфоре и выписать из Англии какого-нибудь дворецкого во фраке. А если бы мой папаша не был чокнутым, то Бог знает, кем бы я стал. Я так полагаю, что все тешат себя подобными мыслями.
Когда Свет покончила с едой и подобрала с платья и земли крошки пищи, которые выпали у неё с ложки, потому что она все ещё переживала — все они переживали — несмотря даже на то, что я вроде отошёл — так вот после всего этого, когда она взяла свою и мою миски, чтобы их помыть, она, поколебавшись, тихо справляется у меня:
— Так когда ты убьёшь его?
— Кого? — спрашиваю, а сам тем временем вновь закипаю, потому что прекрасно понимаю о ком она спросила, да и против воли всплыли в памяти давно забытые намеренья — вот я и вышел из себя:
— Нечего тебе лезть не в своё дело!
Свет присаживается на корточки и разглаживает бизонью шкуру рядом со мной.
— Я постелю ей хорошую подстилку, — говорит она, — и дам ей своё лучшее красное одеяло. А белый мальчик, если захочет, сможет спать рядом с нашим племянником, Пятнистым Пони.
Я говорю спокойным тоном:
— Белая женщина у Младшего Медведя совсем не моя жена, а мальчик — не мой сын. Их убили на реке Арканзас.
И снимаю с шеста за спиной лук, с которым иногда ходил охотиться, чтобы поберечь свинец и порох. И добавляю:
— А если, женщина, я ещё раз услышу, что ты говоришь об этом, то я тебя поколочу так, что ты всю жизнь об этом помнить будешь.
Забеременев, Свет сильно раздалась — хотя даже теперь была куда стройнее Олги — и лицо её сейчас, когда она расплылась в улыбке, стало круглым как луна. И тотчас же повеселели остальные женщины и дети — хоть и говорил я тихо, а ели они громко, — и принялись болтать и смеяться как обычно, потому что, если уж по правде, то мы были на редкость дружной и счастливой семьёй.
Видите ли, все они решили, что я теперь убью Младшего Медведя и заберу Олгу с Гэсом, потому-то я такой злой в последнее время, решили, что я сам себя накручиваю для этого дела, и решили, небось, что Медведем я не ограничусь, а поубиваю и их всех заодно, потому как кто-то, а Шайенки хорошо знают, что делает с мужчиной сильная страсть.
В общем, волноваться им было нечего, потому как Маленький Большой Человек не собирался никого обитать. Скажу больше, по всем правилам мне положено было назавтра принимать у себя Младшего Медведя с его семейством и оказать им гостеприимство. Но уж после того — всё, хватит. Я не собирался дружить семьями с мистер и миссис Медведь и бесконечно обмениваться визитами. Не думаю, что Олга, после той перемены, что с ней произошла, когда-нибудь поймет, что к чему и кто я такой — потому как я ведь не собираюсь снимать эту бизонью шапку и как и прежде рожу буду мазать сажей, да и Олга никогда не станет искать меня — но вот какой-нибудь индеец, определенно разнюхает про всё — чутьё у них на такие дела — просто жуть. Не у Медведя, конечно — парень он глупый и надутый как индюк, а вот Лошадка вполне мог бы, или кто-нибудь из моих женщин. А, может, Гэс — и этого я не переживу.
Вот и надумал я бежать отсюда: на следующий день, после обеда, и вернуться на железную дорогу. Оно ведь к Шайенам я вернулся, чтобы найти Олгу с Гэсом, и я их нашёл и больше мне здесь делать было нечего — такие вот дела…
Вот такие были у меня настроения, когда я наконец натянул на себя сверху кучу звериных шкур и грязных одеял и попробовал уснуть. Улеглись и женщины с детьми, но в очаге лежало достаточно поленьев, чтобы огонь горел всю ночь напролет, иначе мы бы замерзли даже несмотря на то многочисленное тряпье, в которое закутались, потому что в щели сквозь шнуровку полога порядочно поддувало. Изредка я слышал как на холоде снаружи бьет копытом мой пони. Я привязал его возле входа к колышку, а не пустил в табун к остальным лошадям на выгон. Ведь он в то время был моей единственной лошадью, и я не мог допустить, чтобы его угнал какой-нибудь Поуни, хотя ни о каких Поунях окрест я не слыхал.
Ну, а насчёт того, что Младший Медведь сказал мне про солдат, я решил, что это его обычная глупость. Ведь мы были где: мы были в резервации, выделенной Шайенам по договору при Медисин-Лодж, поэтому с чего бы им нас искать. Нас — в смысле род Старой Шкуры. Если солдаты кого и ищут, то скорей всего тот отряд, что шёл в соседнее стойбище ниже нас по течению Уошито. Конечно же, в такую погоду никто не сунется. Зимой вообще никто не воюет, а американская армия и подавно: их здоровым лошадям по этому насту да такому глубокому снегу в жизнь не пройти…
Всякое такое лезло в голову мне и я никак не мог уснуть. Я, может, и решил, как мне быть с Олгой и Гэсом: их надо оставить в покое, а вот как мне быть с самим собой, этого я никак не мог решить. Кровь стучала в висках, потом заныло в паху. В смысле чувство такое, будто там что-то торчит, как сушеное яблоко. Потом до меня дошло, что я хочу женщину, но это желание было не похоже на то что я до сих пор испытывал, особенно здесь, среди Шайенов. Я вам говорил, что из нас двоих горячей была Свет, а не ваш покорный слуга. Так вот на этот раз я сам потянулся к ней, совершенно забыв про её нынешнее состояние.
Я протянул руку и в темноте ощутил сквозь одеяло большой живот. Она проснулась, высунула руку, положила её сверху на мою и говорит:
— Твои слова обидели Вунхэй.
Вунхэй это та сестра, что предложила выменять на мясо своё платье, расшитое бисером. Имя её означает «Та, что обожглась». Ребёнком, может, обожгла палец или ещё чего. Была она очень миловидная и в потомстве Тени самой младшей, на пару лет моложе Света, и очень на неё похожа — и глазами и блестящими волосами, только вот тоненькая, что твой ивовый прутик. И до чего ж она напоминала мне подружку моих юных лет Ничто, до того как та вышла замуж, раздобрела и превратилась в сварливую тетку…
Беднягу Ничто тоже убили при Санд-Крике…
Короче, до сих пор я считал Вунхэй родственницей, говоря по-белому — своячницей, так к ней и относился, как к сестре жены, а шайенских взглядов на этот счёт не принимал. Так вот, когда Свет сказала, что Вунхэй обидели мои слова, она имела в виду моё заявление, что я буду спать только со Светом, а с её сёстрами не буду. Я похлопал Свет по животу и убрал руку. Теперь, как всегда, вся загвоздка состояла в том, чтобы решить, кто же я такой в конце концов — индеец или белый. Если белый — то надо отходить ко сну, а то что Олга превратилась в дикарку, так это её сложности, а не мои. С другой стороны, я начал ощущать какую-то ответственность за сестёр Света: просто содержать их было недостаточно. Это из-за меня они остались старыми девами. Мне надо что-то делать, ведь они славные женщины. Может, я кривлю тут душой, не знаю, решайте сами. Помню только, что затем я встал, прошмыгнул вокруг костра посредине типи к постели Вунхэй и опустился рядом с пей на колени. Тень моя упала на неё, и в полумраке блеснули её глаза.
— Прости за то, что я сказал, — говорю ей.
— Я слышала тебя, — отвечает она и приподнимает с моей стороны шкуры, которыми была укрыта, и я забираюсь под них и прижимаюсь к её тонкому смуглому телу. Она оказалась голая и горячая, и буквально обожгла меня после моей прогулки по холоду без набедренной повязки. Прелесть, а не девушка. Оказалось, она ещё не знала мужчину и являла собой прекрасный образец, той высокой нравственности, что свойственна Шайенкам, но инстинкты у неё были здоровые. Ну, скажу я вам — вот это да! Ей было лет восемнадцать и она оказалась такой податливой и гибкой…
Так вот, не стану гадать сколько времени я выполнял свой семейный долг, долг мужа сестры, но это заняло порядочно времени, и в конце концов Вунхэй, видимо, сочла мои извинения достаточными и уснула в моих объятиях. Вот так! А я вылез, подоткнул её одеяло и испытал неприятное ощущение того, что сквозняк леденит мое хозяйство. Кажется, я дрожал от холода, потому что другая сестра жены, что спала неподалёку, села и поманила меня к себе.
Когда же я подошёл к ней, она шепнула:
— Хочешь, я подложу ещё дров в огонь?
— Нет, не надо, — отвечаю, а у самого зуб на зуб не попадает, потому что из-под одеяла Вунхэй я вылез весь в поту, который теперь прямо на мне превращался в лёд.
— Тогда, — говорит она, — иди лучше сюда, пока не замерз.
Звали её Роющим Медведем, и была она лет на пару старше, чем Солнечный Свет. Ей двадцать три-двадцать четыре. Скуластая очень, и это впечатление она, бывало, усугубляла тем, что носила косички за ушами. Черты лица у неё были резкие, но правильные и была она крепка как кобылица. Лежала она одетой, но пока я добрался до неё, успела задрать подол. Из всех сестёр одна она была ниже меня ростом, но мощная была — ничего не скажешь. Допустив меня на поле брани, она заставила меня биться до победного исхода и при этом пятками так впилась в меня, словно ехала верхом, только вверх ногами — долго ещё потом у меня оставались синяки…
Потом ей захотелось поговорить:
— Я слышала, что белая женщина, которая живет у Младшего Медведя, — уродлива и странно пахнет. Я знала, что она не может быть твоей женой. Только такой трус как он, станет держать такую женщину.
И т. д. и т. п. Да, ехидная она была, эта сестра, но надо вам сказать, что немного злости женщине в постели совсем не помешает. Наоборот, придаст остроты. Это как с лошадьми: самые лучшие боевые кони всегда немного норовисты — потому-то такому и не грозит быть запряжённым в волокушу.
К тому времени, как я оторвался от Роющего Медведя, у меня голова пошла кругом, я словно захмелел, но она, раззадорившись от своих собственных слов, вцепилась в меня и требовала ещё один заезд.
— Не уходи, — прошептала она, — Женщина-Кукуруза слишком устала.
Это относилось к последней сестре, вдове с двумя детьми, которые лежали рядом с ней. Клянусь, о ней я как-то даже до сих пор и не думал. Была она крупнее и полнее своих сестёр, и старше, лет эдак двадцати восьми.
— Я тоже устал, — говорю Роющему Медведю, — и ты, наверное, устала. Лучше спи…
Но когда возвращался на своё место возле Света, чувствовал, что она следит за мной, так что пришлось прилечь ненадолго и притвориться спящим, прежде чем её голова исчезла под одеялами и я смог украдкой встать и пробраться к Женщине-Кукурузе.
Да, я устал и всё тело моё ломило, но покуда оставалась ещё одна сестра, что-то пекло меня и толкало вперёд. Но как бы там ни было, когда я к ней подобрался, Кукуруза спала, и я без церемоний откинул одеяло и юркнул к ней. Она, даже толком не проснувшись, тут же обхватила меня — у неё уже был муж и двое детей, и всё это ей было не в новинку, как для Вунхэй, и не было жаркой битвой, как для Роющего Медведя, а было чем-то простым и нормальным, как глоток воды или кусок пищи. Она была теплой и мягкой, и на такого парня, нервного и тощего, как я, действовала весьма успокаивающе.
Кто из них был лучше? А это уж не вашего ума дело. Может, я и так сказал слишком много, ну да, ладно… Одно поймите: мое поведение в ту ночь по шайенским понятиям совсем не было развратом, а как раз наоборот: все они считались моими жёнами и я выполнял свой долг.
Надо ли говорить, что после выполнения этого долга я едва волочил ноги, зато в душе моей воцарился величайший покой. Мне не спалось по-прежнему, но больше меня не мучили ни горести-печали, ни заботы. Я опять надел набедренную повязку и ноговицы — рубашку я так и не снимал — завернулся в одеяло и вышел на улицу.
Меня обдало ледяным воздухом. Стоял такой трескучий мороз, что от стужи нельзя было вздохнуть всей грудью. Из стойбища Младшего Медведя, за милю от нашего, донёсся гулкий собачий лай. Луна уже скрылась и было темным-темно. Наступила предрассветная пора.
Итак, почти всю ночь я провел за исполнением своих мужских обязанностей. Теперь не могло быть ни малейшего сомнения в том, что я раз и навсегда заделался стопроцентным Шайеном, по крайней мере настолько, насколько это вообще зависело от тела. В результате этих моих ночных трудов вполне мог зародиться новый человек, а то и два; а ведь тогда мне и в голову не приходило, каково бы им пришлось в этом мире, который с каждым днём становился все хуже и хуже даже для чистопородных созданий. Да, об этом тогда я и не подумал, ибо в тот момент меня посетило то редкое чувство, когда все вокруг кажется удивительным, ясным и слаженным. В тот миг мне казалось, что мир устроен правильно и справедливо. Духи помогали мне, иначе и не скажешь. Я ОЩУТИЛ СЕБЯ ЦЕНТРОМ МИРА. И это чувство ни с чем не сравнить: чувствуешь как время сворачивается кольцами вокруг тебя, а ты стоишь посередке и властен над всем сущим, что принимает форму линии, угла или квадрата. Словно Старая Шкура над теми антилопами, которых он околдовал, и они, как зачарованные, двинулись туда, куда он хотел, прямо к нему, а кругом, и ближе и дальше, выстроились Шайены, нынешние и прошлые, живые и духи, потому как все и вся в этом мире связано и Тайна сия велика…
Это был прекрасный миг. И тут, прямо из ночной тьмы, вдруг появляется Солнечный Свет. Я её скорее почуял, чем увидел, до того была кромешная тьма.
— Тебе не спится? — спрашиваю я, полагая, что она вышла из типи.
— Я ходила в лес, — говорит она, протягивает руки и передает мне крохотный сверток в одеяле: внутри — как будто теплится уголек. Но то был не уголек, а новорожденный младенец. Пока я выполнял свой долг, она тихонько встала, вышла в лес и родила.
— У тебя теперь ещё один сын, — говорит она. — Он будет голосистым. Разве ты не слыхал его могучий крик?
Но, конечно, там с сёстрами, я ничего не слушал и ничего не слышал. Я вообще не заметил, что она вышла.
— Я надеюсь, наши враги далеко, — добавила она, — потому что он громко кричал, когда пришёл.
Ну, это нисколько не повредило этому ощущению мира и покоя у меня в душе, а наоборот — усилило его. Я прижал малыша к груди, а Солнечный Свет склонила голову ко мне на плечо — и тут случилось вот что. На тёмном горизонте появился пылающий золотистый шар и, медленно вползая на небо, он стал переливаться чудными цветами: багровым, яично-жёлтым, изумрудным, бирюзовым, густо-синим, потом черно-фиолетовым, ярко-синим — и опять засиял голубизной словно глазок в крыше мира, а за ним огромная радуга, та самая, по которой, как по мосту, там, в Другой жизни, проезжают вожди в праздничных одеждах. Наконец, когда этот шар подняли достаточно высоко, на какое-то мгновение от превратился в перламутровый, после чего все цвета сменились ослепительно белым.
— Вот ему имя, — сказала Солнечный Свет, — Утренняя Звезда.
Я передал ей сына и она пошла в типи его кормить.
И так уже получилось, что в этот самый миг, по ту сторону холмов за долиной Уошито, это чудо наблюдал ещё один человек — и он тоже получил своё имя в честь этой звезды. Мне кажется, что он воспринял его как перст судьбы, тот самый, что сделал его генералом в возрасте двадцати трёх лет. И, может, он был прав, потому как через несколько мгновений ему суждено было помчаться навстречу величайшей своей победе.
Через пару лет индейцы-Вороны, что служили у него в разведчиках, назовут его Сыном Утренней Звезды. А на самом деле его звали Джордж Армстронг Кастер.
Глава 18. ВЕЛИКАЯ СИЛА ДЛИННОВОЛОСОГО
Вскоре восток озарился первыми лучами света. Заходить в типи я не торопился — меня переполняло счастье, я был настолько счастлив, что подумывал, а не пробить ли мне на самом деле лед на реке и не бухнуться в прорубь, как это делают Шайены. Но моему пони, привязанному рядом, не терпелось поутру попить воды. И тогда он, не поверите, смотрит на меня так своими большими лучистыми глазами и говорит:
— Родимый, своди меня к реке попить воды. — Я не говорю, что он это выразил словами, но он это сказал. Л потом добавил, — Нас ждёт горячая схватка.
И мне плевать, верите вы в это или нет. Он так сказал. И я тому свидетель.
— А-а-а, это ты слышишь, как в верховьях долины хрустит снежный наст, — отвечаю я ему, — Это всего лишь табун лошадей, твои братья и сёстры.
— Нет, — говорит мой пони, упрямо качая головой, пока я освобождал его от привязи. На холоде и его, и моё дыхание вздымали густые клубы пара.
— Поехали, — говорю я, — и ты сам увидишь!
Я сел на него верхом и стал выезжать из тополиной рощи, среди которой расположилось наше стойбище. Мой типи стоял у самой опушки, вдали от больших деревьев, которые могли бы привалить его в случае бури, поэтому мы проехали всего каких-то сорок шагов, и, оказавшись у открытой поймы речки, стали всматриваться в сторону луговины, где был табун. И в это мгновение у себя за спиной я услышал отдаленный выстрел, он доносился с дальнего конца селения. И я не оглянулся лишь потому, что прямо на меня, вытянувшись цепью, через всю заснеженную пойму неслась лавина животных. Но утренний воздух бывает обманчив, особенно когда он так прозрачен — он увеличивает предметы, поэтому на расстоянии человека можно принять за лошадь, а лошадь — за бизона. Вот потому-то я принял эту лавину за табун наших пони, обращённых в паническое бегство нападением Поуней-конокрадов. Я развернул пони, чтобы ехать за ружьём, но тут грянул духовой оркестр в полном составе: флейты, барабаны, трубы. Мне показалось, я схожу с ума — звучала ирландская мелодия под названием «Гарри Оуэн», которую мне как-то доводилось слышать на воскресном концерте в Ливенуорте в исполнении гарнизонного оркестра. При первых звуках музыки мой пони встал на дыбы и сбросил меня на землю.
— Я же говорил тебе, — пронзительно заржал он и рванул в бешенстве навстречу лаве, промчав эдак футов 50, прежде чем его передние ноги надломились в коленях и он рухнул в снег, — и заскользил, оставляя за собой длинный красный след. Ему угодило в шею ещё когда я на нем сидел верхом, — дело в том, что вся эта кавалерийская лава при первых звуках музыки открыла огонь. Я был весь в крови своего коня. Стоило поднять голову и казалось, что воздух насквозь пропитан звенящим свинцом. Но я всё же вскакиваю и бегу, целый и невредимый, к своему типи. Должно быть, при этом я что-то кричал, но утверждать не стану — из-за этой музыки я ничего не слышал: ни топота копыт, ни ружейных выстрелов, а только грохот этого оркестра.
Тем временем из типи с моим ружьём и кожаной патронной сумкой выскакивает Роющий Медведь. Шагов за десять до меня она бросает мне винтовку и для замаха отводит руку, чтобы с силой бросить и патроны, но внезапно у неё на виске проступает маленькое черное пятнышко, словно туда села муха, и она замертво падает в снег. А ещё дюжина пуль полоснула сзади нее по покрышке типи; вбежав вовнутрь, я увидел юную Вунхэй; платье на груди у неё было просто изрешечено, половину этих пуль вобрала в себя её смуглая грудь, которую я ласкал всего лишь несколько часов назад…
Солнечный Свет сидела в дальней части хижины и кормила грудью Утреннюю Звезду.
— Ложись! — закричал я. — Ложись на землю!
Она калачиком свернулась вокруг ребёнка, и я прикрыл её сверху бизоньими шкурами. Кинулся сделать то же самое с Лягушкой и оставшейся в живых Женщиной-Кукурузой, и её детьми, но тех в типи уже не было.
А когда я вновь метнулся к выходу, синие мундиры были совсем близко и стреляли уже из-за нашего типи по другим, расположенным в глубине рощи. О том, чтобы выскочить, не могло быть и речи, я бы угодил прямо под конские копыта. Тогда я в задней стене пропорол ножом дыру и пролез в неё. Индейцы выскакивали отовсюду: одних вскоре сражали пули, другим удавалось укрыться за деревьями, и оттуда они стреляли в ответ, в основном из луков, но было ещё довольно темно, а кроме того между ними и солдатами метались свои.
А кавалерия теперь гарцевала посреди стойбища, и оркестр, открыто расположившись посреди долины, гремел по-прежнему. И эта музыка сводила меня с ума. Я плюхнулся на брюхо за дерево. Из ружья я так ни разу ещё и не выстрелил, но двойственность моего положения была тут ни при чем. Нет, я бы в этих вояк палил бы без всякой жалости, было бы только чем; они разрушили мой дом, убили двух моих женщин; из-за них моя любимая жена и малютка-сын подвергаются смертельной опасности… В такие минуты нет жалости к врагу, будь он хоть брат, хоть сват.
Да вот стрелять мне было нечем. Дома ружьё держал я незаряженным на случай, если дети вздумают поклацать. А патроны остались в сумке под телом Роющего Медведя, шагах в пятнадцати от того места, где я залег, как раз среди гарцующих кавалеристов.
Часть Шайенов бросились к реке; они прыгали в воду и, используя высокий берег, как заслон, оттуда прикрывали отход большой группы женщин и детей по самой середине реки в ледяной воде.
Мне показалось, что среди них я заметил Женщину-Кукурузу с детьми, но в это время сгустился ружейный дым и заволок ту сторону, а когда Шайен завеса немного развеялась, то под каким-то кавалеристом упала лошадь и своим крупом заслонила обзор. И тут в глаза бросились седельные сумки на этой лошади — ведь там обычно есть запас патронов. Я рванул туда, но не успел добежать, как животное вскочило на ноги и припустило прочь без всадника. Думаю, лошадь просто оглушило. Но всаднику досталось крепче. Он лежал, странно откинув левый сапог по отношению к верхней части ноги. Это был молодой парнишка, почти мальчик, у него только начали расти усы. Наши взгляды, его и мой, встретились, и в его глазах мелькнули огоньки, будто это были окошки, за которыми сзади кто-то зажег лампаду, но причиной этой вспышки были не проблески сознания, а угасание жизни, потому что в следующее мгновение голова его резко завалилась вперёд, выставив напоказ раскроенный на затылке череп, напоминавший разрезанный апельсин. А Шайен, сделавший это деревянной боевой дубинкой со вставленным треугольным куском ржавого железа, подхватил карабин парнишки, его патронташ и бросился со всех ног к реке, издавая победный клич, но тут же, едва выскочил на берег, словно в отместку получил и сам пулю в спину; бултыхнулся в воду, окрасив её кровью, и скрылся под нею, оставив пенистый след и круги на поверхности.
А солдаты, судя по тому, что шум стал глуше, будто за стенкой дерутся соседи, достигли уже дальнего края деревни. У меня мелькнула мысль вернуться к своему типи и взять патроны из-под тела Роющего Медведя, но я понимал, что очень скоро солдаты пойдут назад, прочесывая местность, и такие мои действия невольно могут привести их туда, где скрывается Солнечный Свет — вот почему я принялся рыскать среди других типи, и именно тогда увидел дородное тело Черного Котла, распростертое возле входа в собственное жилище. Свой последний договор он уже подписал. Сначала был Санд-Крик, а теперь — вот этот… Рядом с ним лежала его жена. Она умирала.
Старая Шкура Типи! — вспомнил вдруг я: надо немедленно найти его. Ведь сейчас он совершенно беспомощный, рядом с ним нет сыновей, и он слеп. Поэтому я побежал назад, ведь его типи был рядом с моим; по пути мне попадалось много мёртвых индейцев, да меня и самого чуть не подстрелил какой-то незнакомый раненый индейский воин, но он помер до того, как смог натянуть тетиву. Этот случай заставил меня задуматься; а как я выгляжу? Ведь мое лицо было вымазано черной краской; зимой благодаря ей теплее носу и щекам, но в данный момент куски краски, по-видимому, кое-где поотваливались — ведь столько всего было. Ко всему ещё и мои волосы теперь ничто не скрывало.
Что со всем этим делать, я не знал.
Я прошмыгнул в типи Старой Шкуры. Конечно, он все ещё был там, но на произвол судьбы не был брошен. Две его юные жёны отчаянно пытались уговорить его спасаться бегством. У одной за спиной был привязан грудной ребёнок. Но особенно распалена была другая — не помня себя, бросилась на меня с тесаком, хотя до этого видела меня много раз.
Я сдерживаю её дулом своего незаряженного ружья и говорю:
— Я помогу дедушке, а вы бегите.
— Тогда убей и меня, — кричит Женщина-Кисточка, та, у которой в руке тесак.
— Быстрей беги, слабоумная! — кричу надсадно, и, шагнув в сторону, как двину её по толстой заднице ложем ружья. — Давай к реке!
Это её немного образумило, а тут другая, с ребёнкком, говорит:
— Я тебе верю, — и они убежали.
— Мой сын, — произносит Старая Шкура совсем буднично, — садись рядом со мной. Покурим.
Поверите ли? Этот старикан как ни в чем не бывало, расселся себе на бизоньей шкуре и давай набивать трубку!
— Дедушка, уж не лишился ли ты разума? Нас убивают синие мундиры. У нас совсем мало времени, чтобы добраться к реке, до того, как они вернутся.
— Чёрный Котел погиб, — говорит он. — Это мне известно. Я слепой и не могу сражаться. Но и убегать не стану. Если сегодня мой день умереть, я хочу умереть здесь, внутри круга…
Ну, по твёрдому выражению его дубленого дряхлого лица, по стиснутым челюстям мне стало ясно, что этими своими речами его я не пройму. Вот и говорю:
— Хорошо, я раскурю трубку.
Он подается головой вперёд; я левой рукой резко хватаю за чубок, а кулаком правой что есть силы бью его в скулу. Рука моя совсем занемела, никак не могу разжать. А вот Старой Шкуре, кажется, все нипочем — сидит себе как истукан.
— Мой сын, ты очень горячишься, — говорит он. — Ты пронес руку мимо трубки. Подай мне головню. Я сам зажгу, и когда мы покурим, твоё волнение вознёсется вверх вместе с дымом и улетит прочь, как маленькая бизонья птичка.
Я уж и не думал, что моя правая рука когда-либо отойдёт, вот и подаю ему головешку левой. К этому моменту выстрелы опять стали возвращаться в нашу сторону. Понимаете, ударил я его только затем, чтоб он потерял сознание, тогда б я смог снести его к реке. Сейчас же я подумывал о том, чтоб оглушить его, заехав прикладом ружья по голове, но голова его, похоже, была ещё крепче скул, тем более, что жесткие густые волосы, наверняка смягчают удар, как подушка.
Он закоптил трубкой и пустил жертвенные струи дыма на восток, запад и т. д. «Господи! — подумал я, — до чего это вошло у него в привычку, вот это индеец до мозга костей». Не секрет, что о чужеземцах, дикарях и им подобных думают, что в случае опасности они поведут себя совсем как мы, чуть ли не по-английски заговорят. Чушь. А сейчас именно мне нужно стать Шайеном.
И на меня от отчаянья нашло красноречие.
— Эта река — часть большого круга вод земли, — говорю высоким, самым визгливым тоном, который только можно себе вообразить (в подражание фальцету классического ораторского искусства Шайенов). И, кажется, это сработало! Старая Шкура прислушался и отставил трубку в сторону.
— Священные воды струятся по телу земли точно так же, как кровь обращается внутри человека, или соки движутся в дереве. Все соединяется в этом едином круговороте. О, дух Белого Бизона, услышь меня! Выведи детей твоих к реке целыми и невредимыми!
Я не хочу, чтоб вы подумали, что в этот момент я насмешничал или издевался. Хотел бы я посмотреть, насколько насмешливо вы себя поведете, оказавшись на поле брани. Нет, в тот момент я услышал какой-то голос. Должно быть, это во мне заговорила врожденная склонность к проповедничеству, унаследованная мною от папаши, но какими бы ни были причины, а на меня снизошло вдохновение.
Однако не настолько я был поглощён, чтобы не заметить, что Старая Шкура откуда-то из-под себя выхватывает здоровенную старинную пищаль, которая заряжалась с дула. «Господи, — подумал я, — он собирается меня прихлопнуть за то, что я лезу из кожи вон, чтобы спасти его, этого старого хрыча».
И тут со стороны входа до моего слуха доносится какой-то шум; я смотрю — а там, просунув вовнутрь револьвер, присел на корточки солдат и вглядывается в полумрак вигвама.
— Бу-у-у-у-ум! — В жизни мне не доводилось слышать громче выстрела, чем этот, из пищали Старой Шкуры! Чтобы поднять такой грохот, изрытая пламя и дым почти на полтипи, в неё, должно быть, набили двойной заряд, и когда пуля угодила в этого парнишку, его вышвырнуло через полог, как пустой мундир.
Вождь привстал. До сих пор он лежал на спине, пропустив ствол пищали длиною в пять футов между кончиками мокасин. Стрелял он на звук.
— Сынок, сними с него скальп, — сказал он. — После чего продолжим разговор о реке. Может, я туда и пойду.
— Наверно, уже слишком поздно, — отвечаю. — Теперь они сбегутся, как стая койотов на падаль. И больше я с тобой спорить не хочу. Пойдём…
Я беру его за руку и ставлю на ноги. Он нисколько не упирается. Мне кажется, он решил идти, иначе мне ни за что бы не сдвинуть его с места, это факт. Ножом я пропорол дыру в покрышке и уже собирался было его уводить.
— Постой, — говорит он. — Мне надо взять свой священный узел. — Это было нечто бесформенное, но большое и завернутое в рваные шкуры. Содержимое его являлось тайной, но мне как-то случилось украдкой заглянуть в такой узел одного умершего Шайена, прежде чем того уложили вместе с этим свертком на погребальный помост; и что в нем оказалось, как не пучок перьев, совиная лапка, костяная свистулька, сухая бизонья лепешка и тому подобный хлам! Но он, безусловно, верил, что вся его сила в этом ненужном хламе, и кто я был такой, чтобы разубеждать его? То же самое и со Старой Шкурой: его узел я нашёл в куче явно ненужной, полуистлевшей рухляди позади его ложа.
А потом все повторилось сначала:
— Постой! — говорит эта мумия. — Мой боевой головной убор из перьев!
Сколько знаю его, ни разу не видел, чтобы он надевал эту штуковину, ведь я уже говорил, что вожди Шайенов, как правило, не любят кичиться, обычно это самые простые и скромные из всех людей, что приходилось видеть. И свой убор он хранил в круглой сумке из сыромятной кожи, висевшей на жерди типи.
— Хочешь на него взглянуть? — спрашивает. — Он очень красивый. Для меня это память о моей боевой юности. — И он — так и есть — давай развязывать сумку.
— Как-нибудь в другой раз, дедушка, — говорю я, вешая её за кожаный шнурок себе на плечо.
Примерно в это время множество карабинов начинает поливать свинцом наше типи; гул стоял такой, что казалось, мы находились в улье. Но, думаете, мы тут и ушли? Как бы не так. Старая Шкура сначала должен был захватить свой священный лук и колчан со стрелами, потом особое одеяло, и, понятно, рог для пороха и мешочек для дроби, а также трубку и кисет для табака. Я едва переставляю ноги под тяжестью всего этого барахла, а кавалерия Соединенных Штатов уже пыхтит и храпит у самого входа в наш типи.
Тогда я принимаюсь вовсю ругаться по-английски и вопить истошно по-шайенски, а сам тем временем силюсь подтолкнуть его к той прорези, которую сделал, но что толку: его не сдвинуть с места, стоит как вкопанный и надевает на себя остальные свои сокровища: браслеты, ожерелье из чьих-то когтей, нагрудные украшения из крошечных косточек и все такое прочее.
А солдаты уже со стороны входа поджигают типи!
Теперь я больше не боялся быть убитым, более того, я жаждал смерти, уж лучше смерть, чем томительное ожидание. Я даже зарыдал, а, может, то было не рыдание, а смех. Но в любом случае то была истерика.
— Идем, мой сын, — говорит тут он. — Мы не можем оставаться в этом типи весь день. Солдаты вот-вот его сожгут.
Так вот, в конце концов, это он меня выводит наружу потому что мои ноги стали словно ватными. Теперь, разумеется, даже кавалеристы поняли, что нападать надо не только через вход. Так что были они уже и сзади. И мы шагнули прямо на трёх всадников — те выстрелили в упор, и настолько близко, что я и сам не знаю, почему от этой вспышки у нас не загорелись волосы.
Единственно, о чём могу определённо заявить — они промазали, и хотя оглушительный гром все ещё стоял у меня в ушах, я услыхал слова Старой Шкуры:
— Не обращай, сынок, на них внимания. Я только что увидел, что сегодня не наш день умирать.
Если у вас есть хоть капля здравого смысла, вы едва ли поверите дальнейшему рассказу о том, как мы добрались до реки. Да я и сам не верю. Но тогда вам придется найти этому какое-то другое объяснение, потому что вот он я сегодня, стою перед вами и, значит, должен был уцелеть во время сражения при Уошито в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом году…
Тут Старая Шкура отдает мне свою пищаль, а сам двумя руками поднимает этот свой священный узел и начинает петь. И тогда я увидел, что взгляды этих солдат обращены не на нас, хотя мы прямо у них перед глазами, а они все палят в ту дырку, через которую мы вышли. И я услышал, как один сказал:
— Ребята, мы всех их, кажется, перестреляли. Давайте заглянем в середину.
Но другой посчитал иначе, мол, следует дать ещё пару залпов, так что они продолжали поливать свинцом опустевший типи. А вождь и ухом не повел., знай, шествует себе неторопливо к реке, безучастный ко всему, и распевает, высоко держа над головой священный узел. Теперь уже везде в селении были солдаты, большинство спешились, хотя кое-кто ещё сидел верхом, но нам было всё равно — что конные, что пешие. Мы проходим у них под самым носом, а они нас не видят и не слышат, хотя голос вождя звучал зычно, меняясь от густого баса до писклявого фальцета, да и выглядели мы диковинно, даже для стойбища Шайенов. Старая Шкура — за поводыря, его незрячие глаза закрыты, а потом плетусь я, рожа в чёрных подтеках, рыжие лохмы, обряжен в ноговицы и одеяло, и тащу на себе весь этот хлам, да ещё два незаряженных ружья.
Теперь мы вышли в тыл цепи стрелков: те вели огонь по индейцам, оборонявшим берег, причём боевые действия к этому моменту сместились ниже по течению реки от того места, где я наблюдал их раньше, так как Шайены шаг за шагом отступали вдоль берега. Большинство женщин и детей уже скрылись из вида, хотя то тут, то там ещё беспорядочно тянулись отставшие, бредя в ледяной воде Уошито.
Ладно, до сих пор брел он напролом — и я так и не пойму, почему нас не увидели и не убили; может, весь фокус в необычайной дерзости, и это благодаря ей солдаты не замечали нас. Но вот попрет ли он подобным образом через цепь стрелков, под перекрестный огонь?
Ведь он такой, что запросто сможет. И он-таки потащился. И мы прошли, целые и невредимые, под посвист пуль над ухом, словно этот свист всего лишь сопровождал его пение. Но при этом произошло вот что: индейцы перестали стрелять и не стреляли до тех пор, пока мы не оказались на берегу.
Но ведь солдаты ТОЖЕ НЕ СТРЕЛЯЛИ! Честное слово, я чуть не рехнулся от всего этого… А ещё благодаря тому шоку, который испытал, неожиданно очутившись в обжигающе студеной воде — ощущение такое, словно живьём содрали кожу от щиколоток до пупка.
Так вот, когда мы со Старой Шкурой вошли в воду, индейцы направили нас вниз по течению следом за женщинами и детьми. Кто-то, помню, посоветовал:
— Когда дойдете до большой излучины, выйдите из реки, потому что там у обоих берегов с головой.
Кажется, меня приняли за персонального поводыря и няньку при вожде, который из-за своей слепоты нуждается в опеке. Шёл я неохотно. Солнечный Свет с Утренней Звездой все еще, насколько я знал, прятались под шкурами в нашем типи. Но чем, спрашивается, я мог им помочь? Теперь солдаты уже полностью овладели селением и сгоняли в кучу женщин и детей, которые не могли бежать и не могли оказать сопротивление. Скоро, конечно, найдут моих жену и сына и присоединят к пленникам, и все чего я сумею добриться, предприняв сейчас попытку их освободить, так это только, что меня самого казнят, как изменника, если не убьют прежде, без того, чтоб вдаваться в выяснение личности.
Вот и побрел я с вождём по реке, и теперь не он меня вел, а я его, потому что едва он ступил в воду, как его магия перестала действовать и он вновь превратился в слепого и дряхлого старика, что в его положении теперь, когда основные опасности остались позади, вполне в порядке вещей. Но в момент опасности он показал себя в высшей степени молодцом. Под защитой берега мы неплохо продвинулись, хотя уж очень скоро в этой ледяной стихии тело мое окостенело.
Мы прошли где-то три четверти мили, когда поравнялись с группой женщин и детей — маленькие дети, многим из которых вода была по самое горло, не могли ведь быстро идти. Тогда я выбросил хлам Старой Шкуры в том числе и оба наши ружья, и, подхватив одного такого мальчугана, посадил его себе на плечи. Таким образом мы прошли ещё с порядочную милю и оказались у подковообразной излучины. Тут все вышли из воды, чтобы обойти глубокое место, срезав язычок суши, а дальше вновь войти в реку.
В промокшей насквозь одежде было нестерпимо холодно. Мальчугана я опустил на землю, и он присоединился к своей матери и другим её детям, но отошли мы совсем недалеко, когда эта женщина села и принялась разрывать своё платье на узкие полоски и перевязывать ноги своим ребятишкам, которые ещё немного и их, по-моему, поотмораживали бы, хотя никто из этой малышни не проронил ни звука жалобы.
Как раз в это время нам в тыл заехал кавалерийский отряд. Впоследствии я узнал, что это был разъезд под командованием майора Джоэла Эллиота, который Кастер послал рассеять крупное скопление Шайенов на южном берегу, ниже по течению реки от нашего стойбища.
Охраняли нас трое вооружённых воинов и один из них по имени Камешек остановился и выстрелом из старого ружья застрелил лошадь под каким-то кавалеристом, а в следующее мгновение от ответных выстрелов сам рухнул замертво на землю.
Тут женщины с детьми поспешно бросились назад в реку, и должен признаться, что я последовал вместе с ними. Был, правда, момент — это когда Камешек упал, а я подумал, что должен побежать и подобрать его ружьё и выполнять роль, подобающую мужчине, но двое других воинов меня опередили.
Так вот, когда уже почти все женщины и дети были в воде, за излучиной, а я со Старой Шкурой как раз спускался обрывистым берегом, сверху кто-то закричал:
— Можете возвращаться! Мы их окружили!
Так что я давай подталкивать Старую Шкуру опять наверх, и он, как мне показалось, сейчас шёл куда охотнее, чем когда спускались вниз.
И, передавая мне свой священный узел, говорит довольно-таки бодро:
— Дай мне мое ружьё. Я сам хочу убить несколько солдат, прежде чем молодые воины их всех истребят.
Я его оставил вон там, — говорю я и пользуюсь этой возможностью, чтобы ускользнуть от вождя. Теперь вокруг много женщин и ему помогут; к тому же с юга сюда скачет большой отряд Шайенов, а ещё один тем временем вклинился между рекой и горсткой кавалеристов, и теснит их в заросли высокой сухой травы на склоне, ведущем к обрыву.
А тот кавалерист, под которым Камешек завалил лошадь, оторвался от своих, чтоб захватить в плен женщину, которая перевязывала детям ноги. Она же нарочно медлила, пока его со всех сторон не обступили. И тут я стал свидетелем, как на него стремительно набросилась толпа и подмяла под себя, а когда рассеялась, то он уже лежал, раздетый догола и весь в крови, на утоптанном вокруг снегу.
Разъезд майора Эллиота спешился и отпустил лошадей, которые пугливо припустили вдоль по долине, а сами солдаты залегли в высокой траве — трава их полностью скрывала, и, если бы не дымок от карабинов, ни за что нельзя было бы догадаться, что там кто-то есть. Стреляли солдаты по-прежнему не переставая, но огонь велся в панике, поспешно и не прицельно — так что большая часть выстрелов приходилась прямо в хмурое зимнее небо; и когда индейцы это увидели, они не стали подкрадываться ползком, а как были верхом, так и ворвались в самую гущу цепи и принялись резать солдат, как цыплят, а женщины и дети сбежались на это поглазеть. Бой этот длился, наверно, минут двадцать, и в его конце если и можно было что-то разглядеть, то лишь только согнутые спины Шайенов, склонившихся снять скальпы или безжалостно зарезать.
Не знаю, приходилось ли вам видеть кровавую баню зимой. Зрелище это неприглядно в любое время года, но зимой особенно: на холоде кровь очень скоро стынет и тело коченеет до того быстро, что если чуть помешкаешь, то, чтобы снять с трупа рубашку, придется ломать конечности.
Сказал я об этом совсем не для того, чтобы над вами поизгаляться, а только для того, чтоб вам стало ясно, что мною двигало, когда я поспешил в заросли травы: мне позарез был нужен мундир. Ведь индейцев было до полусотни и на всех нас приходилось добычи всего пятнадцать трупов. Но мне немного повезло: я натолкнулся на Младшего Медведя — он стоял на коленях и орудовал ножом. Теперь я понял, что это он в числе двух-трёх смельчаков первым бросился на солдат. На голове у него красовался большой боевой убор, который я поначалу не признал. Левый рукав его рубахи был залит кровью, и её капли стекали с бахромы рубахи на нос и губы трупа, с которого он снимал скальп. Ещё он крепко покрылся испариной, потому как нож у него, по-моему, был тупым, а этой левой руке недоставало силы, чтобы, когда кожа была подрезана, отделить скальп.
Однако настроен он был вполне миролюбиво. И заметив возле себя мои ноговицы, не поднимая головы, попросил:
— Потяни, пока я режу.
Я так и сделал: стал на колени и ухватил клок светлорусых мягких волос мёртвого парня. Был он, пожалуй, довольно-таки молод. Рот у него перекосило, будто в немом крике. Но я на него старался не смотреть, ведь он вполне мог оказаться кем-то из знакомых, к тому же в том, что я делал, не было места ничему личному. Вот, наконец-то, скальп отделился, и я был благодарен Младшему Медведю, что он сразу у меня его забрал.
— Я видел, как ты самым первым бросился добывать скальп, — говорю я. — Это было смело.
Медведь вытер пот со лба, вымазав его при этом кровью, тяжело вздохнул и пожал плечами, однако, видать, был доволен. Потом протянул мне нож и сказал точно таким же тоном, каким вы, небось, пригласили бы гостя за праздничным столом отведать жареной индейки:
— Давай, возьми себе что-нибудь. Вон на левой руке у него красивое кольцо.
— Хорошо, — говорю я, — я бы взял себе рубаху и штаны.
Младший Медведь на это отвечает жестом, который означает что-то вроде «Милости просим — фирма угощает», и я снимаю с солдата мундир и сапоги, а после неподалёку нахожу и его шляпу. Все это собираю в узел и беру под мышку, а Младший Медведь возвращается к работе. Теперь солдат лежит в одном шерстяном исподнем. Сам того не ведая, он сделал мне огромное одолжение, и я подумал, что надо бы его отблагодарить, хотя, конечно, об этом он так никогда и не узнает.
Вот и говорю Младшему Медведю:
— Ты бы лучше перевязал руку, пока не истек кровью.
Он посмотрел на руку, словно только сейчас заметил рану, пощупал мускулы и поморщился от боли.
— Идем, — говорю я. — Где твой пони?
Оглянувшись, я совсем неподалёку увидел его лошадь, которую терпеливо держала за уздечку, конечно же, никто иная как Олга. И тут же рядом с нею был малыш Гэс, который наблюдал за тем, как остальные индейцы разживаются окровавленными трофеями. В руке у Гэса был крошечный деревянный ножик, и он размахивал им, подражая процедуре снятия скальпа. Мне показалось, он был не прочь попробовать снять настоящий скальп, но Олга другой рукой держала его и не отпускала от себя ни на шаг, и это свидетельствует в её пользу.
Медведь ещё с минуту чего-то там такое делал, а что — конечно, я не смотрел. Потом он поднялся.
— Ладно, — говорит, — я пошёл, а ты можешь забирать всё остальное. Спасибо, что помог.
И протягивает мне свою руку, я пожимаю её — и она остаётся у меня в руках, потому что это вовсе не его рука, а правая рука убитого солдата, которую он отрезал и засунул в свой рукав, вытащив перед этим свою собственную.
— Ха-ха-ха, — засмеялся он. — Отличная шутка! Когда он подошёл к Олге со скальпом в руке, волоча за собой это исподнее, как кожу содранную со всего человека, он всё ещё смеялся.
Теперь мне предстояло надеть этот мундир — дело непростое и деликатное, потому что едва он окажется у меня на плечах, как я стану для индейцев чужаком, ну а пробраться в селение одетым как-то иначе — не выйдет. Конечно, я хотел сделать это, чтобы найти Солнечный Свет с ребёнком. Теперь, наверное, их уже взяли в плен, а в синем мундире я, пожалуй, сумею пробраться к ним и в суматохе сражения мы сможем удрать в горы. Ведь вряд ли у кого вызовет подозрение солдат, конвоирующий индианку с ребёнком за спиной.
Закончив кровавую резню в густых высоких травах, Шайены вновь двинулись в низовья. Среди них я увидел слепого Старую Шкуру. Его вела какая-то женщина, хотя нет, не женщина — это был Лошадка, который как-никак, а его родной сын. Все было так, как и должно быть. Я выполнил свой долг, и мне надо было позаботиться о своей собственной семье.
Постепенно стрельба затихла. Лишь изредка то здесь, то там доносились одиночные выстрелы, а дым, поднимающийся над стойбищем, теперь стал чёрным — горели типи. Люди из нашего стойбища направлялись теперь в другие селения, ниже нас по Уошито. В то, что солдаты станут преследовать противника, я не верил: было уже пополудни и к тому же на обрывистом дальнем берегу я заметил отряд верховых индейцев, которые, по-моему, как раз и подошли из низовых стойбищ, чтобы противостоять продвижению солдат. В этой долине было полторы тысячи типи, из которых лишь немногим более пятидесяти находились в стойбище Черного Котла и Старой Шкуры. Но беда в том, что все эти селения растянулись вдоль реки более чем на десять миль, и одно от другого располагалось поодаль. Мне кажется, что как раз на берегах Уошито индейцы и получили урок того, как надо располагать свои селения, потому что через восемь лет на Литтл-Биг-Хорн они уже не оставили промежутка между кругами типи, в которые смог бы протиснуться Кастер.
Джордж Армстронг Кастер… До сих пор я никогда в жизни не слыхал этого имени, хотя понимаю, что имя он себе сделал во время войны с мятежниками. А вот кое-что новенькое и для вас: индейцы почти никогда не знают, кто на них нападал до самого конца сражения, а иногда и после. Вот смотрите, что до сих пор случилось со мной в этот день: вблизи я видел только двух солдат: один из них — это тот кавалерист, что стрелял в типи Старой Шкуры, а другой — жертва Младшего Медведя. Известно, что напали на рассвете. Напали белые, в синих мундирах. А кто командует этими синими мундирами, никто не знал, да и знать не хотел. Впоследствии, когда соберётся ещё один совет, чтоб подписать мирный договор, то на нём, по-видимому, будет присутствовать и солдатский вождь, который скажет во вступительном обращении к Шайенам:
— Вы помните, как я разбил вас на Уошито? Тогда-то индейцы впервые и узнают, кто с ними тогда сражался. И в дальнейшем станут называть этого человека не его белым именем, а по каким-нибудь особенностям его внешнего вида на этом совете, как впоследствии генерал Крук стал Трёхзвёздным Вождём, генерал Майлз — Медвежьим Мундиром, а генерал Терри как-то был наречён Тот-Другой, видать, у индейцев кончились имена.
А когда Шайены и их союзники познакомились с Кастером, то прозвали его Длинноволосым, но я уверен, что девяносто девять процентов из них навряд ли узнали бы его в парадной форме, гарцующим во главе войск; и даже вожди, с которыми он совещался, не признали б его, если бы он подстригся. И такой момент ещё наступит…
Теперь же я плелся в хвосте своих индейских товарищей, отступающих вниз по Уошито. О Кастере я никогда не слыхал, но по медной бляхе на полевой шляпе мёртвого кавалериста узнал, что был он из роты Джи 7-го Кавалерийского полка. И тут я подумал, а что если вдруг столкнусь я с другими парнями из этой же роты? Так что я немедля отцепил эту бляху и выбросил куда подальше. Потом на её месте пропорол ножом дырку — будто эту бляху сбила пуля.
Но в форму я ещё не стал облачаться, хотя индейцы, раздевшие трупы солдат, сразу понацепляли на себя награбленное: вот промелькнул индейский воин в сержантском кителе, вон там виднеется малыш, обряженный, как в платьице, в серую фланелевую форменную рубаху, а вот какая-то женщина надела поверх платья солдатское исподнее…
Наконец, дошли мы до холма, и я присел, делая вид, что завязываю на мокасинах шнурки, и сидел до тех пор, пока последний Шайен не скрылся из виду. Потом лёг брюхом на снег и через заросли кустистой травы отполз в сторону ярдов на двести, после чего поднялся на ноги, осмотрелся вокруг и выбрал путь, как лучше незамеченным спуститься к речке. Выбравшись на берег, в очередной раз бросился в ледяную воду и, надо сказать, в этом месте вода доходила мне до самого горла. Главное было — не замочить мундир, и когда я перешёл вброд речку, он был сухим, так что я был готов немедленно в него переоблачиться хотя бы ради одного тепла — набрякшие кожаные ноговицы буквально смерзлись и задубели, так что идти в них было просто невмоготу.
Не забыл я и стереть с лица черную краску, ну, а если где немного её и осталось, то смотреться будет она вполне естественно как пороховая гарь. Несложно догадаться, что мундир и сапоги оказались мне велики. Тогда в армии уже стали носить и брюки, и рубаху свободными, но вот кавалерийский френч кроили в обтяжку. Так что мне просто ничего другого не оставалось делать, как, несмотря на лютый холод, расстегнуть этот френч и хоть как-то немного скрыть свой мешковатый вид. Сапожищи болтались — ногам было где разгуляться внутри обувки, а что до шляпы, то она всё равно сползала даже после того, как я напихал в неё всякой там травы.
Тем не менее я решил идти и высунул голову из кустов, которые использовал как раздевалку. И неожиданно для себя вижу, что пялюсь прямо на Шайена, шагах в двадцати от меня. Я и глазом моргнуть не успел, как он пустил в меня стрелу. И, казалось, летит она по воздуху так медленно-медленно, и вся сложность заключалась только в том, что и я тоже от неё увёртывался медленно-медленно, как будто окунулся в бочонок патоки. А железному наконечнику треугольной формы, с краями острыми, как бритва, видать, очень полюбился мой нос, потому как куда бы я этот нос не поворачивал, наконечник гонялся за ним. Хочу сказать, что так почудилось. Мерещилось как будто я кувыркаюсь, кувыркаюсь, а стрела словно приручена и повторяет каждый виток и поворот всего в каких-то долях дюйма от моего носяры. На самом деле произошло все это в какие-то мгновения — стрела пропала, Шайен упал на землю мёртвый, а в поле зрения возник кавалерист — капрал с дымящимся ружьём.
— Мать честная! — сказал он, — ну, и место же ты выбрал, чтоб наложить кучу!
Вот оказывается, чем — он подумал — я занимался тут, в кустах. И что мне оставалось делать, как не осклабиться в улыбке?
— Забирайся, — сказал он и показал на круп своей лошади. — Ну, как, не больно?
Тут краем глаза я заметил, что стрела застряла в полях шляпы, причём, настолько близко к правому виску, насколько это вообще возможно, чтобы при этом не поцарапать кожу. Но если посмотреть со стороны капрала — перо сначала, потом наконечник, — то, наверное, казалось, что стрела эта пронзила мне башку. Я отбрасываю стрелу в сторону, запрыгиваю на лошадь позади него и мы возвращаемся в селение.
И вот мы уже едем нижним краем стойбища тип и, и капрал этот пускает лошадь рысью навстречу небольшой группе людей в синих мундирах. Мы соскакиваем с лошади и капрал козыряет какому-то человеку.
— Сэр, — докладывает он, — мною произведена разведка ме…
— Минутку, — перебивает его этот офицер и поворачивается ко мне. А я стою себе немного в стороне и пытаюсь сообразить, где это я, потому что солдаты так и шныряют туда-сюда, туда-сюда; типи обыскивают, грабят, сгоняют в кучу шайенских женщин и детей, в один табун сводят захваченных индейских пони…
Я едва узнаю место, где прожил не одну неделю.
— Солдат! — рявкает этот офицер. — Извольте подойти ко мне!
Я подхожу, потому как вижу, что это он обращается ко мне. Внешность у него приятная, он высок ростом, хорошо сложен и, как припоминаю, на воротничке его форменной рубашки вышито по две звезды с каждой стороны. А ещё у него пшеничные усы и длинные светлые волосы, вьющиеся, доходящие до плеч.
Его голубые глаза смотрят холодно и колюче, а брови до того бесцветные, что замечаешь их только потому, что они кустисты. И голосом «как терка» он приказывает:
— Застегните ваш китель!
Я немедленно приступаю к выполнению приказа. А он говорит:
— Считайте себя под арестом! Доложить о себе начальнику сержантского караула!
Тут капрал, подобравший меня, ещё раз решил оказать мне поддержку.
— С вашего позволения, господин генерал, — говорит он, — этого солдата я нашёл в кустах, и чтобы его спасти пришлось убить индейца. В голову ему угодила стрела и, по-моему, бедняга просто малость спятил.
Намекать дальше мне не надо было, я наклонил голову набок, немного выпучил глаза и вывалил язык.
Лицо генерала исказила раздраженная гримаса:
— Ладно, уберите его отсюда. Тут в конце концов боевой штаб, а не психиатрическая лечебница.
— Господин генерал! — обратился ещё раз мой благодетель. — Разрешите доложить о результатах разведки…
— И не подумаю! — отрезал тот. — Большой ценности они представлять собой не могут, если вы вместо того, чтобы наблюдать за перемещениями противника, занимались спасением придурков.
Он резко обернулся к нам спиной и сообщил своей свите:
— Итак, я принял решение — пустить захваченных индейских пони в расход. Перестрелять всех до единого!
Среди офицеров один был такой крепко сбитый, отеческого вида, у него ещё из-под шляпы выглядывала седина. Я видел, что он смотрит на меня и глаза у него смеются, словно он меня раскусил. Но теперь, после этих слов генерала, он встревожился и пустился возражать.
— В табуне восемь сотен лошадей, — говорит он. — Может, не надо расходовать патроны почем зря.
— Я уже принял решение пе-ре-стре-лять, — говорит генерал, — и не нуждаюсь, Бентин, в ваших соображениях на этот счёт.
Бентин долго-долго смотрит на генерала с нескрываемым презрением, а потом этим своим доброжелательным тоном говорит капралу, который вместе со мной все ещё стоит неподалёку от него:
— Соберите-ка лучше, голубчик, команду, человек пятнадцать, — и ступайте, предайте казни всех наших четвероногих пленников. Ну, а если выйдут патроны — сходите к утесам, позаимствуйте у Шайенов.
Капрал отдает ему честь, я тоже, и, клянусь, он подмигивает мне. Генерал, однако, ничего этого не видит — он энергично вышагивает вперёд-назад в элегантных сапожках, отдавая приказы солдатам и офицерам, один из которых, видать, был капельмейстером оркестра, потому что вскоре этот самый оркестр заиграл.
Когда мы уже отошли на некоторое расстояние, капрал мне и говорит:
— Думал, у тебя хватит ума не попадаться Крепкому Заду Кастеру с расстегнутым кителем. Редкий сукин сын, верно? Чёрт побери, если б какой-нибудь Шайен всадил бы пулю в его медный лоб, то я бы ему приплатил!
На что я ему говорю:
— А вот Бентин — человек, вроде, неплохой.
— Неплохой?! — воскликнул капрал, прямо-таки взрываясь в ответ на мою сдержанную похвалу. — Да парни из его роты тебя убили бы на месте, если б ты не признал, что он самый лучший офицер, что когда-либо служил в американской, чёрт её дери, кавалерии!
— Именно это я и хотел сказать, — говорю я.
А на самом же деле я в это время стремился улучить мгновение, чтобы драпануть от него и попасть туда, куда сгоняли пленных.
— Видал, как он посмотрел на Кастера? Ни в грош его не ставит, определённо скажу тебе. Конечно, против субординации не попрёшь, но ведь и оставить это просто так — тоже нельзя, и полковник не оставит. Он сейчас и правда серьёзно беспокоится за майора Эллиота. А Крепкий Зад на его поиски разъезд не пошлет, нет не пошлёт. Так что, вот это я на самом деле там и делал, когда с тобой столкнулся. Ты, кстати, случайно, не видел никого из его ребят?
— Нет, не видел, — говорю.
Вот тогда-то я и понял, что это Шайены в густой траве на том берегу скорей всего уничтожили команду Эллиота. Шайен мудро я поступил, выбросив эту бляху со шляпы к чертям собачьим…
— Бентин с Эллиотом вместе в войну служили, — объяснил капрал. — Ну, да ладно, придется теперь заняться лошадьми. А тебе лучше, если сможешь, найти свой карабин. И моли ещё Бога, что Кастер не заметил, то ты его потерял. А то как цыпленка распластает тебя на снегу и всыпет горячих.
— Да, я оставил его у одного салаги, — говорю я, потому что обучился военному жаргону, когда оказался среди солдат после сражения у Соломоновой протоки. — Пойду принесу…
— Лады! Тогда давай — одна нога здесь, другая там — бего-о-ом марш! И намотай себе на ус, я на тебя глаз положил, — говорит он, обращаясь теперь со мной, как сержант с новобранцем. Вот как оно среди белых — всё зависит от чина, а я-то было совсем забыл, как быстро могут меняться взаимоотношения.
Вскоре, как только между нами оказалось несколько человек и лошадей, я повернул к загородке с пленными: в центре селения поставили несколько типи и согнали туда женщин и детей. Приблизившись, я услышал скорбную песню-плач Шайенов. Понятно, что типи эти охранялись солдатами, вот и принялся я обмозговывать, как бы мне туда проникнуть. Потому как при этом вовсе не собирался рассказывать, зачем я это делаю.
Кроме того, мне совсем не улыбалось, чтоб меня захомутал ещё кто-нибудь и дал бы ещё какое-то особое задание. Мое недавнее нелегкое положение белого среди индейцев буквально ничто по сравнению с моим нынешним положением. Я и так едва волочил ноги в огромных сапожищах, шляпа держалась у меня на одних ушах, а френч сидел на мне, как на корове седло…
Но тут я вспомнил, как смело и дерзко Старая Шкура шагал под перекрестным огнем, кстати, это был единственный случай, когда его магия сработала против белых. А все потому, что он сохранял этот свой кураж, да еще, по-моему, ему помогла слепота, ведь никакие ужасы его не отвлекали. Ну, я-то глаза закрывать не стал, однако заставил себя собраться, надулся, чтобы хоть как-то заполнить собой мундир и лихо, твёрдым шагом подошёл к сержанту, стоявшему на входе в один из этих типи. — Генерал Кастер прислал меня допросить пленных, — доложил я.
— Хорошо, — отвечает он и делает шаг в сторону, но затем, не успел я ещё войти в типи, хвать меня за локоть и тычется усами в ухо. — Послушай, — говорит он, — будь другом, замолви меня словечко перед какой-нибудь юной скво. За мной не пропадёт. Наверно, тебе это раз плюнуть, уж коль ты говоришь по-индейски. Передай ей, пусть как стемнеет, подойдёт к выходу и свистнет, а я ей дам подарок. Он похлопывает меня по плечу, и я вхожу в середину. В типи натолкали шайенских женщин и детей — не отдохнуть, было до того тесно, что никто не мог сесть. Так что все стояли, плотно завернувшись в одеяла и уставившись на меня. Довольно многие жёны распустили волосы, чтобы в горе рвать на себе волосы; многие в знак аура сильно порасцарапывали себе щёки, исполосовав их длинными бороздами ссадин. И их стенания, их то повышающиеся, то понижающиеся завывания песен смерти не стихли при моем появлении. Но когда малые дети увидели мой мундир, они пообхватывали ноги своих матерей и попрятали свои смуглые головки в одеяла.
Особенно истошно выла одна старуха: пока ей хватало дыхания, она вопила пронзительным визгливым голосом, потом широко открывала рот и на вдохе подвывала другим тоном, а когда в её легкие набирался воздух, возвращалась к настоящему рыданию. Через минуту-другую — все это время я молчал — она внезапно перестала причитать и говорит мне:
— Уходи и дай нам спокойно умереть от горя. Оказалось, что это изречение, возможно, вполне искреннее, но в то же время с дальним прицелом, имело также и сиюминутную цель — выяснить, понимаю ли я язык. Потому что, как только я дал знак, что понимаю, она вцепилась в рукав моего френча и давай опять причитать, впрочем, перемежая причитания следующими словами:
— Я — сестра Чёрного Котла. Я говорила ему, что нас покарают, если он не остановит нашу молодежь от набегов на белых. Но он меня не слушал. «Закрой рот, глупая женщина», — бывало, говорил он мне. Ну, разве я не была права?! Теперь Черного Котла нет больше в живых. Все наши воины погибли. И нас, беспомощных, солдаты предадут смерти. А я столько раз говорила ему, что нехорошо затевать войну с белыми людьми — ведь они всегда были нам друзья. Они замечательные люди, хорошие и добрые, и я понимаю, почему они покарали плохих Шайенов. Но что мы, немощные, могли поделать?! А теперь, думаю, из-за наших плохих людей придется страдать нам.
— Закрой рот, глупая женщина, — говорю я. Эту старуху я знал. Звали её Рыжеволосая, хотя космы у неё были седыми и, честно говоря, о том, что она — сестра вождя, я слышал впервые. Не стану утверждать, что это — враньё, но, если и не враньё, то единственная крупица правды во всём её разглагольствовании. Но, представьте себе, я её не упрекаю, потому что это была неплохая линия поведения, и убежден, что несколько попозже она её с успехом применила по отношению к самому генералу Кастеру. Однако у меня имелись дела поважнее, чем выслушивать старую каргу.
Тогда она мгновенно прекращает рыдать и говорит:
— А хочешь сегодня ночью красивая девушка принесёт луну и звезды в твой вигвам?
Конечно, все это время я осматривал лица вокруг, но Солнечного Света не увидел.
— Ну, тебя никто не собирается убивать, — говорю я ей, — так что можешь больше не кривить душой. Если бы сейчас ты меньше была занята враньём, ты бы разглядела, кто я такой. Ведь тебе отлично известно, что я — не солдат. Я только что сюда вернулся, потому что помогал нашим, тем, кто остался в живых, невредимыми спуститься в низовья, а одет я так, чтобы можно было ходить среди синих мундиров.
Старая ведьма, хитро прищурившись, зыркнула на меня:
— Конечно, я знаю, кто ты такой. Я просто подумала, что ты стал предателем.
Это вольный перевод. На самом-то деле она сказала; что думала, будто я, увидев мясо в руках белого человека, стал его собакой.
— Послушай, старая, я ищу свою жену и сына и хочу найти их до того, как они достигнут твоих лет, когда разум высыхает и превращается в прах, и его ночью через дырочки в ушах выдувает ветер.
Вижу, эта перепалка стала доставлять ей удовольствие. С такими, как она, гарпиями, завсегда так. Она входит во вкус и отплачивает мне той же монетой, громко выразив сомнения в моей мужской зрелости и так далее. Словно это мы благодушно подтруниваем друг над другом в самой гуще обычной индейской жизни за тысячу миль от белых кавалеристов, потому что у Шайенок язык как бритва — палец в рот им не клади — а с годами они становятся ещё языкастее. Строптивая и беспощадная, эта старая сучка, дай ей только нож, выпустит кишки этому кобелю-сержанту, распоров ему брюхо от пупка по самую грудину и глазом не моргнет, вот только б знала, что это сойдет ей с рук. Но в данной ситуации, как мне кажется, она могла бы выступить и в роли сводни. О, за жизнь она будет цепляться изо всех сил, и я снимаю за это перед нею шляпу — честь ей и хвала!
Однако, что сталось с Солнечным Светом, она и правда не знала, и я принялся осматривать остальные типи, но с тем же успехом, и тогда в мое сердце закралось страшное предчувствие, и с этим предчувствием я направился на верхний край селения, где находился мой типи Вернее, прежде находился, ибо от него ничего не осталось, только зола от нашего очага, одна-две шкуры, несколько пучков бизоньей щетины и тому подобное. Солдаты развалили все типи, а потом вместе со всем добром сожгли на одном большом костре, на самом берегу Уошито, дым от которого я раньше видел. Но к этому часу от костра осталась только дымящаяся гора пепла; снег вокруг нее растаял и образовался большой бурый круг.
А на лугу тем временем приступили к уничтожению восьми сотен пони; то-то поднялась неразбериха, потому что кое-кому из истребительной команды при виде обезумевших, поднимающихся на дыбы, храпящих и истекающих кровью животных, колошматящих друг друга как только свинец обжигал их нутро, должно быть, ударило в голову, так что очень скоро пули стали залетать в лагерь, а оттуда посыпалась отборная брань перепуганных солдат. По-моему, кто-то кинулся жаловаться Кастеру, потому что я видел, как рядом с ним скакал какой-то офицер, пытаясь докричаться до его неподвижной спины, но тот, как всегда, не слушал и, единственно, что сделал, когда подъехал к табуну, так это собственноручно прикончил несколько пони, наверно, чтобы показать пример, как это следует делать.
И все это время гремел и гремел оркестр. Потом я поплелся туда, где рыли могилу для индейцев, убитых в селении; их тела, выложенные бок-о-бок в линию, не были раздеты, разве что на сувениры солдаты сняли кое-какие мелкие предметы: ожерелья и тому подобное. Скальпированы тоже были единицы, а следов надругательств я вообще не заметил. Надо всё же признать: на Санд-Крик это не было похоже. Здесь были кадровые войска, а не волонтеры. Профессиональные солдаты не так жестоки и кровожадны, как любители. Там я вновь увидел Чёрного Котла, но уже без серебряной медали. Потом я увидел юную Вунхэй… увидел Роющего Медведя… Должно быть, там были останки семи-восьми десятков человек, и, как мне кажется, ещё немало трупов осталось лежать в кустах и лесной чаще неподобранными, да и потом, наверное, какую-то часть тел погибших отбили индейцы из низовья.
Женщина-Кукуруза со своими детьми и нашим маленьким Лягушкой, видать, спаслись, бежав по Уошито, потому как здесь их не оказалось. Но что случилось с Солнечным Светом и Утренней Звездой? Среди убитых, слава Богу, я не нашёл их, но, с другой стороны, когда я кинулся помогать старому вождю, они всё ещё прятались под шкурами. Я бы их увидел, если бы им удалось добраться до реки, обязательно бы увидел, когда находился за излучиной.
С места погребения я ушёл до того, как в яму опустили Вунхэй и Роющего Медведя, до конца всего этого… Помню, тогда я был вне себя, я совсем впал в отчаяние, едва ли не сошёл с ума; чувствую, если б не ушёл, то обязательно бы бросился в эту могилу вслед за ними. Вунхэй лежала, похожая на мёртвого воробушка, а Роющий Медведь… нет, смерть её легкой не была, как мне казалось раньше… но не хочу больше об этом говорить — они ведь мне были не чужие. Может, они и были индианки всего-навсего, но это были мои женщины, я их любил, а вот им от меня было совсем немного проку…
Я облазил весь лес, я облазил все кусты, я нашёл три мёртвых тела, но ни одно из них не принадлежало Солнечному Свету; я забрел под самые утёсы, и Шайены, засевшие в них, увидели меня и устремились вниз — так что пришлось мне спасаться бегством. Индейцев было более чем достаточно для того, чтобы отбить селение, тем более, что солдатам было не до них — они уничтожали лошадей, жгли добро, сгоняли пленных, ну и тому подобным были заняты, но Кастер знал, как навязывать индейцам оборону — и только оборону. Была зима — он сжег их вигвамы. Индейцу нельзя без лошади — вот он и уничтожил всех их пони. А ещё он захватил в плен пятьдесят человек женщин и детей, и индейцы теперь оказались не в силах что-либо предпринять, только беспомощно следили за солдатами.
Они теперь боялись, что потом он обрушится на селения вдоль Уошито ниже по течению, и он знал это, вот и решил выступить в этом направлении, и, имитируя угрозу другим стойбищам, поддержать в индейцах состояние тревоги и страха, тем самым заставив их воздержаться от решительных ответных мер. Это я узнал уже (потом. А в то время, скрываясь в чаще, услышал, как труба заиграла сбор. И думаю, не прошло и получаса после этого, как весь полк двинул маршем вдоль реки. Пленных захватили с собой — усадили их верхом на пони, которых по такому случаю пощадили во время уничтожения табуна. И, разумеется, на марше гремел оркестр.
Из укрытия я вылезать не стал ни чтобы проводить их взглядом, ни чтобы выяснить, что они делают. Впрочем, последнее несложно было определить на слух. Представьте зимнюю застывшую долину, где ружейный выстрел слыхать за пять миль. А теперь представьте себе, докуда доносился гул оркестра. Шайены в панике оставили утесы, чтобы присоединиться к своим семьям. У Кастера был свой особый почерк, что да — то да. И что бы он ни делал, всем этим он говорил Остальным: Я всегда побеждаю, а вы вечно терпите поражение.
Так вот, когда я на слух определил, что арьергард уже дошёл до излучины-подковы, то вернулся туда, где раньше было наше селение. Перед уходом солдаты снесли даже те типи, где содержались пленные, а потом подожгли их. Эти вигвамы всё ещё горели. На лугу лежали трупы восьми сотен лошадей, некоторые ещё дергали копытами. Благодаря морозу мертвечина своим душком ещё не привлекла стервятников, хоть я и заметил, что по долине, где-то в полумиле в сторону верховья, рыщут три койота, да в тополиных кронах таится ворон или два. Леденящий ветер, задувший со второй половины дня, поднимал с пепелища на берегу чёрные клочья и разносил их по долине.
Кастер перестрелял не только индейских лошадей, но и собак, не ушедших вслед за бежавшими от него индейцами, и их окоченевшие трупики то и дело попадались среди пустых гильз, стрел и мусора. На снегу и земле было много кровавых следов, в тени её алые капли замерзли, но на солнце кровь впиталась в снег и побурела.
Из нескольких сот душ, совсем недавно обитавших на этом месте, из них из всех только один я остался тут. Я примостился на неприветливом берегу Уошито. Быстрые воды этой реки и прежде знавали кровь; красные пятна в проточной воде никогда долго не застаивались, а смешивались с потоком и уносились вниз; и где-то там, за тысячу миль, кто-нибудь напьется воды и, сам того не зная, проглотит частичку ещё чьего-то сока жизни. Солнце садилось за дымчатые горы, золотя их края, словно это небо на западе украсили орденской лентой. Кастер, если можно так сказать, разметал свои личные цветы даже на горизонте.
Заметьте, я не сидел там, охваченный жалостью к самому себе или пылая яростью. Я просто сидел и пытался во всём разобраться. Казалось, жизнь только вот-вот стала налаживаться, и нате — всё полетело к чёртовой матери. Мне было уже двадцать шесть, однако, насколько припоминаю, здесь я тогда впервые в жизни виновным во всех моих несчастьях назвал конкретного человека.
Если бы не он, я спокойно перезимовал бы в этом стойбище на Уошито, а потом, когда весной полезла бы новая трава, мы бы наплевали на договор и двинулись бы на север, по пути охотясь на бизонов и Поуней, и, может, вновь бы устроили обложную охоту на антилоп, был бы только здоров Старая Шкура, да не разгони железная дорога дичь, и так бы кочевали до самого Паудера, где бы хорошо повоевали с Воронами, а в горах Бигхорн поохотились бы на медведей и нарезали бы кольев и жердей для типи. И все это время вместе со мною были бы эти четыре славные женщины, тотчас готовые исполнить мое малейшее желание…
И во всех этих своих утратах я обвинял генерала Кастера. И хотя я ещё не представил, где и как я это сделаю, но я определенно решил убить этого сукиного сына.
Глава 19. К ТИХОМУ И ОБРАТНО
Что случилось с Солнечным Светом? Тела её я так и не нашёл. Наверное она спаслась, затаилась, пока кавалерия прочесывала вигвамы, потом незаметно выскользнула и сумела добраться до утёсов. Женщина она была решительная, хладнокровная, и не теряла головы в таких ситуациях.
Индеец и по духу, и по складу ума и характера так устроен, что легче меня переносит удары судьбы. А возьмите меня: я вот, с одной стороны, вроде как собрался убить Кастера, а с другой стороны, решил, что больше никогда уже не смогу жить среди Шайенов, хотя бы потому, что не хочу быть жертвой во время очередной резни.
Пока я, замышляя убийство, неподвижно сидел на берегу Уошито, сгустились сумерки. Повеяло жутким холодом, а на мне ничего, кроме фланелевой форменной рубашки да кавалерийского френча не было. Все одеяла и шкуры, всё солдаты растащили, а что не растащили, то сожгли. А куда им было деваться — свои рюкзак и шинели они оставили на месте сбора перед атакой, и те в свою очередь стали добычей Шайенов. Что касается отсутствия оружия — то мне было просто не до него надо было подумать, чем прикрыть своё бренное тело иначе холод доконает меня прежде, чем я доберусь до Кастера.
Поэтому я побрел на пепелище тех типи, где содержали пленных. К счастью покрытие одного типи до конца не сгорело; я притоптал его тлеющие края и за вернулся в уцелевший кусок. Это была бизонья шкура с которой соскоблили мех, так что если она и согревала то не сильно. Но мне угрожал не только холод — вышла луна и осветила поля, усеянные лошадиными трупами Там уже копошились койоты; но что койоты, если в лунном свете я разглядел большие сумрачные тени; то были волки — самые кровожадные и опасные создания в прериях. Рыча и громко чавкая, они клыками разрывали мерзлую конину и от этого зрелища, и от этих звуков меня пробирал лютый мороз — до самых кишок.
Что было делать? Ополоумев от такой горы мертвечины, волки наглеют и у них появляется искушение отведать живого горячего мяса. Спасение одно — костёр! Я принялся лихорадочно ползать по пепелищу в надежде отыскать хоть один тлеющий уголек. И тут со стороны реки послышался конский топот и храп. То возвращалась конница Кастера.
Его задумка удалась: он распугал индейцев в низовьях реки, заставил их сворачивать селения и спасать женщин и детей, вместо того чтобы напасть на него объединёнными силами. Осуществив задуманное, он спокойно повернул назад.
И волки, и койоты, и я — все бросились врассыпную. Уж не знаю куда подевалось зверьё, сам я драпанул в кусты, и скорее услышал, чем увидел, как молчаливые всадники проезжали по сожжённому селению. Потом, когда прошёл арьергард, я пристроился сзади шагах в трёхстах-четырёхстах и трусил за ними несколько часов аж до тех пор, пока они не стали биваком. Как я добежал, не знаю, но добежал, несмотря на стужу, безысходность и неприкаянность. И грело меня только то, что солдаты мерзнут так же, как и я. Но у них были товарищи по несчастью, в то время как мои не Вскоре они разложили большие костры: издалека казалось, будто в долине праздничная иллюминация. Ну, что ж, подумал я, перерезать Кастеру горло я ещё успею, первым делом надо отогреться. А то зуб на зуб не попадает и пальцы сводит; дрожь такая, что не до Кастера — до костра бы добраться. Ну, я и прошмыгнул сначала мимо часовых, потом протиснулся сквозь плотный круг солдат к огню.
— Пожевать есть чего? — обратился тут ко мне какой-то солдатик, закутанный в индейское одеяло. Я покачал головой. В его мутных глазах отражались пляшущие языки огня.
— Ну, не молодчина ли этот Крепкий Зад! — заговорил он. — Здорово придумал: оставил нас без шинелей, без жратвы. Не иначе как получит за это ещё одну медаль.
С другого боку послышалось:
— Свою-то шинель, небось, прихватил, а заодно и мяса с полтуши не меньше, и бьюсь об заклад в эту самую минуту его денщик как раз жарит, варит…
— Лафа же некоторым, верно, парни? — это сказал парень с мутными глазами, а кто-то другой шикнул на него — ещё Крепкий Зад услышит.
— Да пошёл он! — ответил Мутноглазый. — Что он мне сделает? Паек что ли урежет?
На что другой ему ответил:
— Прикажет вырыть холодную, прямо тут, в снегу, и посадит туда тебя. Вот так вот!
— Да ты что?! — спросил я, стараясь выглядеть своим в этой компании.
— Что «что»? Да то самое! Ты, небось, новобранец, а то б знал: в прошлом году летом, во время кампании, он так и сделал. Вон спроси у Гилберта, — и кивнул на длинного тощего солдата с крючковатым носом и пышными бакенбардами, который тер озябшие руки, протянув их поближе к костру. Тот подтвердил:
— Точно. Мы тогда были как раз в походе — и «губы» у него под рукой не было. И вот несколько парней припозднились на вечернюю поверку. Так он приказал вырыть яму, где-то десять на десять и глубиной, может, ярдов пять, посадил нас всех туда, а сверху приказал накрыть досками. Пекло было жуткое, а нас там как сельдей в бочке, не продохнуть…
— А сам зато свалил спокойненько в самоволку — к своей бабе, — перебил Мутноглазый. — Смылся как раз в разгар индейской компании. И знаешь, что ему было? На год отстранили от должности! Так он поехал к своей тёще в Мичиган, и весь год только и делал, что удил рыбу!
И вновь вмешался Гилберт:
— Ну, тут я его не осуждаю, хоть он и сукин сын, глаза б мои его не видели, потому как было ради чего ехать — она у него и впрямь краля — пальчики оближешь.
— Прямо уж… — подыгрываю. Я уже вполне согрелся и стал подумывать о деле.
— А то нет! Ты что, никогда не видел миссис Кастер? Уж можешь мне поверить, как увидишь — так колом встанет, аж выть захочется! А поделиться не с кем… ха-ха… — кроме доньи Ладони. Вот тебе и вся разница между солдатом и генералом. Кстати, никто не хочет смотаться к пленным и подыскать какую-нибудь скво — старую каргу?
Дальше разговор вконец низвёлся до похабщины, что вряд ли станет для вас чем-то неожиданным, если вы имеете хоть какое-то представление об армии. Так что я бочком-бочком и скользнул в темноту — пошёл обшаривать лагерь. В конце концов я пришёл сюда не затем, чтобы слушать непристойности. Но чтобы убрать Кастера, нужно было первым делом его найти, при этом, заметьте, не вызывая подозрений. А я отнюдь не пожарная каланча, чтобы смотреть поверх голов — да и голов-то здесь было сотен семь, не меньше.
Пленники содержались особняком; у них горело два небольших костра; у костров на земле, завернувшись в одеяла, спали женщины, многие вместе с детьми. Краснокожий есть краснокожий, он будет спать, что бы ни случилось. Индейских лошадок сгуртовали в стороне и от кавалерийских жеребцов их отделяла широкая полоса. Животные заметно нервничали.
Я облазил весь бивак, а раскинулся он, изрядно растянувшись, да и к тому же его ярко высвечивали огромные костры; солдаты намерзлись, намотались, проголодались — эх, какую резню могли б устроить каких-нибудь три-четыре десятка индейцев. Но индейцы были кто разбит, а кто одурачен тем же Кастером. Да и потом вообще: какой индеец воюет ночью? Кастер мог и не выставлять охранение. А чего ему было бояться — ведь на всю округу был всего лишь один боеспособный противник.
И это был я. В конце концов мне методом исключения Шайен удалось его вычислить. У подножия небольшой высотки пылал офицерный костёр, но генерала там не оказалось. В гордом одиночестве он сидел наверху. У него был своей отдельный небольшой костёр и при его желтом свете он что-то писал. Лишь ординарец генерала, в смысле его денщик, время от времени появлялся у костра и подкладывал в огонь поленце-другое. Дрова он брал у команды бедолаг, что всю ночь напролет рубили их в лесу и носили в лагерь.
И вот, когда они в очередной раз принесли дрова, я принялся помогать им складывать поленья в штабеля, против чего никто из них не возражал. Сам же я выжидал, пока за дровами придет этот самый денщик, что он в конце концов и сделал; к тому моменту я уже валился с ног: ни согнуть, ни разогнуть спину не мог, и проклинал нерадивость всех денщиков на свете.
— Ну и как там генерал? — спрашиваю.
Тут надо вам объяснить, что денщиком может быть не каждый, а лишь человек особого склада: он должен уметь подать шинельку, прислуживать за столом, а потом ещё и выкопать гальюн и, насколько знаю, подтереть своему хозяину щепетильное место. Но на этом месте вся его щепетильность и заканчивается, а с остальными он и груб, нагл, и заносчив до безобразия.
— А тебе то что? — роняет он через плечо. — Ты давай — пошевеливайся! Подай-ка лучше два чурбачка посуше.
— Да мне-то что — мне ничего. Я просто подумал — измотался старик. Небось, с ног валится?
Денщик хмыкнул с чувством сопричастности к Великому Заду.
— Хм-м… Жди — как же! Скорее вся армия свалится с ног, чем генерал. Да он здесь задаст перцу любому, в любое время суток. Ты думаешь это ему нужно поспать да пожрать? Он что — встретили индейцев, порубили на бифштексы, — он и сыт. Ему хватит. А если и велел стать биваком, то только ради таких слабаков, как ты.
— А-а-а… То-то я гляжу, что он не спит, не ест, а что-то пишет и пишет, — замечаю я.
— Да-а-а, — с любовью отвечает денщик, — разумеется, пишет! Письмо супруге — миссис Кастер, Он пишет ей чуть ли не каждый день.
В то время, как вы догадываетесь, почтовых ящиков в прерии не было. Так что когда Кастер отправлял свои письма по почте — это означало, что он попросту отправлял нарочного за многие сотни миль — в неизвестность. Но денщика это не волновало: он уже оседлал любимого конька и принялся взахлеб расписывать достоинства Крепкого Зада — и вскоре мне стало до того тошно, что, честное слово, я бы с большим удовольствием просидел все это время своим собственным голым задом на кактусе, чем слушать этот бред сивой кобылы.
Но когда я уж было решил, что снискал благоволение Задового холуя он вдруг заткнулся и подозрительно покосился в мою сторону.
— Слушай, а ты, часом, не метишь на мое место, а?
— Нет, что вы, что вы, сэр, — замахал я на него руками. — Упаси Боже! Признаться, для этого я слишком туп. Но я без ума от героев. Возможно, потому как сам немного трусоват. Честно скажу, во время последней атаки я сегодня чуть в штаны не наложил. И знаете, что меня спасло от такого позора? Гляжу, а впереди лавы сам генерал, на лихом коне, волосы дыбом — развеваются на ветру; он нам машет рукой — мол, за мной, ребята, вперёд! Вот это я понимаю — герой! Хорошо вам, сэр, все время быть рядом с ним…
При этом я скорчил такую умиленную, обожающую рожу, что он клюнул.
— Ладно, — говорит он, — хочешь понести вместо меня дрова? Думаю, ничего страшного не будет, если ты донесешь их до подножия и оттуда, так и быть, посмотришь на генерала. Запомни, это высокая честь! Только тебе, по дружбе. Больше никому. Ну их засранцев…
— Увидеть генерала… так близко! Да, я об этом и мечтать не мог! — Тут я аж зубами заскрипел, но совсем не по той причине, по какой, небось, подумал этот холуй. — Да за такое счастье… Послушай, а что если… месячное жалованье за ещё большую честь: самому подложить дрова в костёр такого великого человека!
От такого предложения он сперва опешил и даже возмутился, но не настолько, чтобы не дать себя уговорить. Я написал ему расписку — разумеется, от чужого имени — на то, что как только получу жалование, то тут же обязуюсь отдать ему 13 (тринадцать) долларов (что составляло месячное жалование рядового) за право единовременно и самолично отнести дрова на вершину вышеупомянутого бугра и сунуть их в генеральский костёр, после чего незамедлительно спуститься вниз. В чём и подписался — тем же именем.
Ударив таким образом по рукам, мы отправились к высотке. Согласно уговору он остался внизу, а я поднялся по склону с моими двумя бревнышками. Те солдаты, что почем зря костерили генерала зря это делали: генерал был без шинели — в одном мундире; более того, он даже расстегнул ворот рубахи и снял шапку, которая лежала рядом. Правда, у костра было тепло и в его свете генеральские локоны и усы отливали золотом. Сам генерал тем временем, не отрывая взгляда от листа бумаги, под который подложил штабную книгу, испещрял его беглым почерком. При этом он макал время от времени перо в походную чернильницу и стряхивал лишние капли в огонь. Поленья сердито шипели.
Я сунул бревно в угли и пошуровал. Спиной я повернулся к денщику, чтобы он случайно не заметил, как свободной рукой я полез за ножом — нож был за пазухой. Яркий сноп искр взметнулся в черную пропасть неба. Но Кастер не пошевелился, ведь тогда ему пришлось бы изменить угол, под которым освещался его благородный профиль, ибо сейчас он также рисовался, как и утром, когда геройской поступью вышагивал по сожжённому дотла индейскому селению. Но тогда он изображал «Генерала, обходящего поле брани», а сейчас — «Солдата на привале».
Просто удивительно, до чего такой человек, как Кастер, может подействовать на воображение его будущего убийцы; в моей голове тут же замелькала целая череда столь же монументальных картин: нож, занесенный над генералом; генерал в нимбе золотых волос; грозный оскал убийцы (то есть, мой) и тому подобная дребедень, но все это — увы! — заканчивалось одной и той же картиной: «Убийца схвачен!»
Не знаю, сколько времени ушло впустую на эти детские фантазии. Пришёл убивать — так убивай, чёрт побери, а воображение лучше оставить дома. По крайней мере, если ты белый. Так или иначе, но момент был упущен, потому как тут заговорил Кастер.
По-прежнему не отрывая глаз от бумаги и не прекращая писать, он открыл рот и сказал:
— Будьте любезны, кофе, пожалуйста!
Может, я в тот момент просто сдрейфил, а, может, у меня всегда была кишка тонка — просто так взять и зарезать человека, но как мне тогда показалось, да и сейчас так кажется, в ту минуту ничто иное как доверие, а может, доверчивость в его голосе спасли ему жизнь, тем самым изменив ход истории. Можете назвать меня малодушным, трусом, кем угодно, но я не мог перерезать горло человеку в то время как он пишет письмо жене и собирается пить кофе.
Так что убийца покорно отвечает: «Есть, сэр!» — и спускается вниз, где ждёт денщик.
— К генералу, бегом марш! — говорю я ему. — Он хочет принять ванну.
* * *
Не стоит, думаю, рассказывать во всех подробностях о том, как я покидал расположение 7-го Кавалерийского полка — потому как я ушёл оттуда той самой ночью. Ушёл прямо в лютую стужу, в глухую пору, в одиночку по заснеженному полю. Ну, а что было делать?
И пусть от своего замысла я не отказался, но мне требовалось время, чтобы прийти в себя. Я знал, что рано или поздно, а придет мой час и я доберусь до него, но это будет потом, когда я избавлюсь от этого наваждения. Да, находиться рядом с пленными Шайенами было для меня невыносимо. А уйти в низовья, к ещё свободным индейцам, об этом я и думать не хотел. Всё, с меня хватит! Я был сыт по горло.
Вот я и решил вернуться к белым, вернуться в город и раздобыть денег — где и как, всё равно — и на эти деньги купить себе сюртук, парчовую манишку и револьвер с перламутровой рукояткой. И вот, разодетый таким франтом, в один прекрасный день я встречу, обязательно встречу генерала Кастера, фланирующего под ручку со своей супругой по улице какого-нибудь городка, скажем, Топики или Канзас-сити, потому как мне было известно, что он любил эти города. (О, я разузнал о нем намного больше, чем сказал: так, он питал слабость к шикарным ресторанам и театральным зрелищам, и даже как свои пять пальцев знал Нью-Йорк — так, по крайней мере, сказал его денщик).
«Позвольте засвидетельствовать моё почтение вашей Супруге, сэр!» — скажу я ему и попрошу его на пару слов конфиденциально, и мы отойдём на несколько шагов в сторону, а его красавица-жена останется стоять на месте, кокетливо при этом улыбаясь из-под зонтика. И вот мы отойдём в сторону и я ему скажу: «Сэр, — скажу я ему, — вы — сукин сын». И тут он, конечно, как джентльмен, непременно потребует сатисфакции. Поэтому следующая сцена мне виделась уже в прерии, на заре: мы стоим спина к спине, дальше отсчитываем ровно по десять шагов, поворачиваемся и стреляем, потом он лежит на земле и сквозь расшитую рубаху у него на груди проступает красное пятно. Оно расплывается, расплывается…
«Сэр, — говорит он на последнем издыхании, — ваша взяла!»
Потом смотрю, а я палкой ковыряю мерзлую землю, выковыриваю ледяной корешок и грызу его, грызу. Очнулся ещё раз, смотрю — а я подкладываю какие-то листья под френч, вроде как от этого теплее будет — и бреду, еле волоча ноги, дальше. Вскоре все спуталось у меня в голове: я потерял представление о времени, забыл кто я, что я, где, куда и зачем — я просто спятил. Может, я не столько брел, сколько бредил. Вообще я удивляюсь, что выжил.
Я ничего не видел, кроме белой тьмы, будто бреду я бесконечной тополиной рощей и тополя осыпают меня белым пухом. Конечно, то был не пух, а снег — поднялся буран. Но холода я не чувствовал, ибо дошёл до такого состояния, когда притупляются все чувства. Может, это отупление чувств меня и спасло, иначе я бы, наверное, улегся прямо в пуховую перину и уснул бы вечным сном. Кажется, только теперь я понимаю, что же мной двигало в тот момент. Я брёл почти что на восток, случайно вышел к Симарону, и дальше двигался уже по льду. В бреду вы будете цепляться за что угодно, лишь бы оно вело хоть куда-нибудь. Потому-то я и брёл по мёрзлому руслу, т. е. пересекал Индейскую территорию по горизонтали, вместо того чтобы идти, как собирался раньше, на север — в город Канзас. Вот так-то я добрел до земли криков, когда просто свалился посреди заснеженной прерии, которая казалась одним большим белым саваном… Очнулся я уже в бревенчатой хижине. Там жило индейское семейство из племени криков. Глава этого семейства натолкнулся на меня совершенно случайно во время охоты и принес к себе в дом. И вот эти добрые люди — сам он, жена его и несколько человек детей — выходили меня, подняли на ноги, дали во что переодеться, ибо мундир мой совсем превратился в лохмотья. Индейцы эти были родом из Джорджии. Там их немало истребил Эндрю Джексон, прежде чем удалось их победить и окончательно сломить, а вскоре правительство силком переселило их из родных мест сюда, далеко на Запад, аж за штат Арканзас, точно так же как и Чероков, Чоктавов и ряд других. Причём, племена эти совсем не были дикими, наоборот: они жили в бревенчатых домах, одевались как белые, пахали землю, а перед войной даже имели собственных рабов из негров. Так вот у этих криков я провалялся до весны шестьдесят девятого. А после поправки сходил несколько раз на охоту, чтобы хоть как-то отблагодарить своих хозяев за хлеб да соль, ну и помог управиться им с весенним севом. Конечно, я рад был подсобить, но при этом своими собственными глазами лишний раз убедился, что когда дело доходит до работы на земле, то тут я совсем уже становлюсь вылитым Шайеном.
В действительности же эта вполне цивилизованная и тихая налаженная жизнь в восточной части Индейской территории была куда опасней, чем на первый взгляд казалось, если только судить по этим мирным крошечным фермам, разбросанным вокруг. Так вот, это индейское семейство, когда увидело мой синий мундир, приняло меня за дезертира, которых здесь было как собак нарезанных, и за это ко мне расположилось, ведь они давно имели зуб на армию, ещё со времен Джексона, да и потом, в войну, большинство криков приняли сторону мятежников-южан; курьезный случай, ежели вспомнить, как те их выперли из Джорджии, но вот что было им по нраву у южан, так это рабство. Во всяком случае, когда война закончилась, им это федеральные власти попомнили, а заодно с ними проучили и Чоквавов, Арапахов и других — когда западную часть Индейской территории превратили в резервации для степных индейцев — Шайенов и им подобным. Вот где они-то, настоящие причины битвы при Уошито…
Но начал я говорить про дезертиров… Я сказал о том, что в восточной части Индейской территории их развелось как собак нерезанных, а ещё тут слонялись толпы вчерашних рабов-негров, без гроша в кармане, шатались бывшие солдаты из армии мятежников, и тоже в кулак свистели, а ещё бродили индейцы, что от рук отбились, шастали беглые злодеи, скрывались от правосудия, и все время сюда отовсюду стекались бандиты, убийцы и просто разное отребье. Короче, всякого барахла хватало. Вдобавок в каждом из них было столько всяких кровей намешано! Попадались и такие, что были сразу и белыми, и чёрными, и красными, и от каждой породы взяли только самое худое.
Я вам уже сказал, что жить тут было опасно даже если из своей хижины носа не кажешь и кроме своего клочка земли ничего не видишь, потому как бандиты не сидели на месте, а так и рыскали по округе и убивали всех, кто под руку попадет. Да, бандитам тут было вольготно — потому как единым законом было кулачное право, а про иной закон тут и слыхом не слыхивали. Обычно, если пришьешь кого, то никому до тебя и дела нет, кроме федерального маршала аж в Форт-Смите или Ван-Бьюрене, в Арканзасе, то бишь, где имелся суд. А они не слишком-то шевелились в те времена, потому как судейские были все как один мятежники и, значит, как началась война, махнули на все рукой. Тогда говаривали «К западу от Сент-Луиса забыли про выходные, а к западу от Форт-Смита забыли про Бога».
В это время бандитским осиным гнездом был городок под названием Маскоги — это в восточной части земли криков, куда я как раз и подался после того как покинул гостеприимную семью, приютившую меня. Там я рассчитывал сесть на дилижанс и таким образом добраться до Канзаса, а уже оттуда по железной дороге Тихоокеанской компании доехать до конечной станции, найти Кэролайн с Фрэнком Затейником и превратить в звонкую монету свою треть нашего дела — фирмы грузовых перевозок, потому как я уже говорил, что мне нужны были деньги. Да и как бы там ни было — я всегда смогу перехватить сотню-другую у этого Фрэнка, ведь не исключено, что к этому времени он стал мне зятем.
В Маскоги я отправился пешком, миль так за сорок. Денег на дилижанс у меня не было, но за спиной болталась котомка с енотовыми шкурами, которые я надеялся в городе продать — а что, шапки из них получаются ноские. Как раз такая была и на мне. Так вот, сэр, дохожу я до места, которое принял за дальнее предместье, до огромной такой лужи, в грязи которой валялись свиньи и вдоль которой тянулись ветхие лачуги, и вижу там цветного старика, который как раз тем и занимался, что пас этих свиней.
Подхожу к нему и спрашиваю:
— Слышишь, дядя, где тут город Маскоги?
Он задумчиво поскреб макушку сквозь пропотевшую косынку:
— Э-э-э, да ты его уже почти прошёл!
— А где же здесь почтовая станция?
— Станция? — ещё раз задумался он, — так это вверх по улице, за углом. Но сейчас я бы туда не ходил. Я думаю так, масса, что теперь её как раз грабят.
И точно, не успел он договорить, как с той стороны, что вверх по улице, за углом послышались звуки перестрелки и из-за поворота вылетело несколько всадников и — прямо на нас. Мы так и нырь — в канаву, а то б затоптали нас, как пить дать. Чего они неслись как на пожар, я сразу не понял, потому как никто их не преследовал.
— А некому, — объяснил мой новый знакомый, когда мы вылезли из грязи — кто-то вчера застрелил шерифа.
Я поблагодарил его и потащился на станцию, где теперь, надо думать, было уже не опасно. На станции, правда, не было ни души — лишь в луже крови лежал кассир, а в тонких дощатых стенках, которые не могли защитить бедолагу с одним дробовиком, зияли огромные пробоины. Так вот, стою я, значит, внутри того, что осталось от конторы и думаю, мол, мне-то что с того денег ведь на билет покамест нет, как вдруг слышу снаружи конский топот и в помещение врываются три угрожающего вида посетителя, вооружённые до зубов.
Поначалу эти типы таращатся на меня как баран на новые ворота, потом замечают тело мёртвого кассира и один из них, видать, главарь, бросает остальным:
— Говорил же, что опоздаем! Вот теперь этот пройда нас и обошёл. — И роняет мне тоном уязвленного самолюбия. — Мы тут одного уже… того… и здесь ты фиг бы нас обскакал, да вот понимаешь, нам дилижанс подвернулся. Так оно, ясное дело, пока брали его, пока жгли, пока кучера… того… пока охранника… потом всех пассажиров… тоже того… А среди них деваха, м-м-м!.. дак мы её сначала… того… а потом и тово…
Я уже говорил, на поезд у меня не было ни шиша. Но в этот момент меня всё же больше беспокоило другое — У меня не было никакой пушки. Эти подонки сразу заметят, что я без нее и — тогда уж точно станет одним трупом больше. Надо было быстро шевелить мозгами, пока они стояли, разинув рты. Блеск, как это я ловко сделал «почтового голубка»!
— Моим ребятам это не понравится, — покачал я головой. — На дилижанс мы и сами мылились, а теперь ребята, небось, уже обнаружили, что их обставили, и, известное дело, очень обиделись. Ведь вы, джентльмены, наш пирог ухватили.
— А сколько их у тебя? — спрашивал главарь. Его можно было бы назвать красавчиком, если б не то прискорбное обстоятельство, что с того момента, как его обмыла бабка-повитуха, с водой он решительно больше не знался. Был он полукровка — смесь индейца с белым: волосы светловатые, черты лица — тонкие, но кожа — цвета мореного дуба. Второй был почти негр, с прямыми и чёрными как смоль волосами, собранными на затылке в узелок. Третий выглядел вполне белым, но большего урода мне видеть не доводилось: кривой на один глаз и через всю рожу — шрам, видать, хорошо его кто-то полоснул ножом; от рубца губа справа задралась и теперь казалось, что он все время скалится, даже когда и не скалится.
— Девятнадцать или двадцать, — говорю я и внаглую отворачиваюсь, потому как знаю, что теперь им придется выбирать: либо слушаться меня, либо пристрелить в спину. Но вышло так, что они клюнули, потому как главарь принялся хвастать:
— Я — Джонни Псих, — говорит он. — Слыхал, небось, а? Про мои мокрые дела в округе каждая собака знает. А сколько маршалов пытались меня взять! Но черта лысого! Ни у кого не вышло. А вот я в прошлом месяце одному из Ван Бьюрена снес полголовы. А это — мой двоюродный брат Джимми Копченый, — кивнул он на чёрномазого. — А этого звать Косой. У него нет языка. То ли вырвали, то ли отстрелили. Не может говорить, но ей-Богу, злой как чёрт!
Я отвечаю:
— И слыхом не слыхал про вашу шайку. Мы из Сент-Луиса, проездом в Техас. А в этой вашей дыре остановились добыть деньжат на мелкие расходы. А потом дальше — в Канзас, а там уж развернёмся на всю катушку — будем резать, будем бить, воровать и грабить. Налево и направо.
Косой что-то мычит — через его увечную губу текут слюни. Джим Копченый выходит на улицу и через какую-то минуту я слышу, как он стреляет из ружья; выглядываю и вижу, что это он упражняется в стрельбе, пытаясь отстрелить закрученный хвостик у бродячего кабанчика.
— У моего брата, — говорит Джонни Псих, — не все дома, но для мокрого дела он человек незаменимый. Я тут подумал, может, рвануть нам с тобой и твоими ребятами. Порезать, пострелять и — что ты нам ещё сказал — ей-Богу, это мы с удовольствием!
Вид у него был как у мальчишки, который клянчит и канючит, чтобы папка взял его с собой на рыбалку. В глаза так и заглядывает. Честное слово, он был как невинное дитя, этот Джонни. Он был даже симпатичный, сам не знаю почему. Может, это индейская кровь давала себя знать.
Всё же с большой неохотой я согласился принять его и его парней в свою несуществующую банду, но собирался при первом же удобном случае с ними распрощаться. Вот и сказал им, что, мол, должен встретиться со своими, что могу их, конечно, взять с собой, но на их собственный страх и риск.
Тут я притворился, что моя лошадь куда-то запропастилась, поэтому Джонни Псих одолжил мне свою, из числа захваченных при налете на почтовую карету. (Вот только пушки какой-нибудь мне не хватало). Когда стало смеркаться, показал я рукой на перелесок и сказал, что там вот должны хорониться мои ребята, ну а если нет, то появятся с минуты на минуту. Так что мы сделали привал и разожгли костёр. Из торбы с награб ленным они достали ветчины, да ещё бобов, потому как эта шайка убивала всякого, кто попадался, и забирала всё, что у него было. И в этот раз нам встретилась небольшая ферма по пути, и мне едва удалось удержать их от разбоя, и то лишь когда пообещал им, что, мол, соберутся мои ребята и тогда уж погуляем вволю.
Я и не заметил, как исчез Джонни Копченый, потому как он все время держался сзади. Но когда мы выехали под деревья, его с нами не оказалось. Появился он позже, когда мы жрали. Теперь на нём была другая шляпа, а карманы оттопыривали две бутылки виски. На поводу за собой он вёл ещё одну лошадь, — на ней было навьючено всякой всячины: мешки с сахаром и кукурузой, одеяла, керосиновые лампы и прочее добро, даже скамеечка для ног.
Джонни Псих сказал ему что-то на языке криков, а потом во всю глотку загоготал:
— Мой брат Шайен заглянул туда, на эту ферму! Не смог устоять! Совсем как дитя малое!
Мне было жаль несчастных, что проживали на этой ферме, но я так считаю, что если уж человек отмучился, то уж отмучился; но так уж вышло, что чужая беда обернулась для меня спасением. Не мог же я и завтра водить их за нос — ведь любая, даже на хромоногих клячах, даже пешком — любая банда должна была прибыть на встречу с главарем. И если она не прибудет, а они не прибудут, то тут уж мне не отвертеться, припрут к стенке и поминай как звали. Но тут случилось вот что: Джонни Псих и Джим Копченый распили эти обе бутылки на двоих, хмель ударил Джонни в голову и он совсем расчувствовался. Выяснилось, что кроме грабежей и разбоя он не чурался и прекрасного, так что будучи убийцей и насильником, он был ещё и поэт. И вот, устроившись у костра, он принялся навзрыд читать стихи собственного сочинения — размазывая слёзы, сопли и виски по небритым щекам:
Мамаша родная моя, Твой сын не вертопрах. Но только ты моя семья, Всё остальное — прах. Ах если был бы я богат, В шелка б тебя одел, Но вот беда: семь лет назад Твой сын осиротел. Мамаша милая моя Нашла себе приют, Где херувимов — до чёрта И ангелы поют.Там было ещё куплетов десять, а то и двенадцать — точно не могу сказать сколько, потому что достигнув кульминации, Джонни издал истошный вопль, схватил карабин и всадил пулю в Копченого — прямо в лоб. Дальше пришёл черед Косого: не успел он проснуться, как тоже получил пару дырок в спину. Зато уж весь остаток магазина (а это пуль десять-двенадцать, судя по тому, что у Джонни был шестнадцатизарядный «Генри») пришёлся точно в скатанное одеяло и енотовую шапку, что должны были изображать спящего меня. После чего Джонни тихо улегся и мирно захрапел. Я вышел из-за дерева, откуда наблюдал за этим поэтическим казусом, подобрал карабин, выпавший из сонных рук, выбрал два самых лучших «Кольта», забрал всех лошадей и отбыл в северном направлении. Прежде чем уехать, я подумал, а не размозжить ли Джонни Психу башку и тем самым сделать одолжение его будущим многочисленным жертвам, но кроме того, что я терпеть не могу, когда стреляют в спину, у меня появилась к нему едва ли не симпатия. Видать, это на меня так повлияла его поэзия.
* * *
Следующий год или два я провел в разъездах: в основном в поисках Кэролайн и Фрэнка Затейника, с расчётом перехватить у них сколько-нибудь деньжат — ведь не мог же я отправиться сводить с Кастером счёты без единого цента в кармане. Но вот чего не знал я, когда находился на Индейской территории, так это что компания «Юнион Пасифик» дотянула железную дорогу до Юты, где произошла стыковка со встречной веткой, которую строила другая компания — «Централ Пасифик», причём, произошло это примерно в то же время, когда я покинул семейство криков, у которых провел зиму шестьдесят девятого. То есть дорогу закончили, и она соединила два океана. Так вот, с выручкой от продажи крошечного табунца Джонни Психа — а надо сказать, лошадей я без всяких приключений пригнал в Топику — на дилижансе добрался я до Омахи, а уже оттуда отправился на запад. Почему-то мне казалось, что Кэролайн с Френком застряли скорее всего в каком-нибудь городишке, одном из тех, что выросли, как грибы, вдоль чугунки, и держат там салун.
На каждой станции я о них справлялся, однако, все мои расспросы ничего не дали — они как сквозь землю провалились. Но как бы там ни было, а мне всегда хотелось взглянуть на Сан-Франциско хоть краем глаза; вот я туда и рванул. К тому времени чугунка мне осточертела во как. Не спорю, она была чудо техники, а как же… Но я так наболтался в этих вагонах, когда неделями без твёрдой почвы под ногами, наглотался столько дыма и копоти — чёрт знает, сколько надувало его в открытые окна, а то ещё внутри вагона что-нибудь загорится от горящей искры: мягкое сидение из зеленого плюша там или чья-нибудь одежда… Тем не менее, говорили, что в час мы делаем двадцать пять миль. И уверен, что так оно и было.
В Сан-Франциско я пробыл не так уж и долго, как у меня вышли все деньги, потому что за все там драли втридорога. Так дешевле, чем за пятьдесят центов прилично не поесть. А потом, уж не знаю почему, но эти холмы, на которых раскинулся город, стали действовать на меня угнетающе: ходишь как в воду опущенный; конечно, на вершине оно здорово — грех жаловаться, но ведь рано или поздно, а приходится спускаться, а когда спустишься — на душе кошки скребут, будто тебе дали по шапке. Слишком долго, видать, жил я на равнине.
Да и Кэролайн с мужем в городе я не нашёл, а ведь не было там ни одной забегаловки, ни одного борделя, куда бы я не заглянул. И вот на это угробил я не один месяц — потому как по количеству дешевых злачных мест этот город не имел себе равных. А когда деньги вышли, я нанялся работать на конюшне: навоз выкидывал, чистил и все такое. Ничего другого найти не мог. Но как-то с юга Калифорнии приехал один парень, и я случайно услыхал от него, что там требуются возницы гонять фуры с какими-то грузами из Сан-Педро в Прескотт, штат Аризона, и что за это неплохо платят.
Так что весной семидесятого я оказался в Педро и разыскал там хозяина этого дела. Поначалу он не поверил, что я, с моим ростом и комплекцией справлюсь с этой работой.
— Приятель, — сказал он, — это такая работёнка, где все время рискуешь головой. Ведь в пустыне погибнуть — раз плюнуть; а потом могут убить Апачи или бандиты… А зыбь Солтона — да это сущий ад! На сотню миль! Там даже мулов надо кормить, не распрягая, прямо на ходу, иначе засосет колеса. И потом: за двадцать дней надо сделать четыреста сорок миль. И при этом не угробить мулов…
Не стану пересказывать вам весь наш разговор. Мне кажется, достаточно сказать, что таки убедил его я, и он согласился:
— Ладно, рискну, пожалуй. Пару лет назад я нанял одного мальчишку, годков семнадцать, и знаешь, он управился. Хотя, надо сказать, парень он был здоровый для своих-то лет…
Конечно, с таким ростом как у меня, то и дело приходится терпеть такие речи. Но я говорю об этом только потому, что он назвал имя этого парня, а имя его было Уайет Эрп. Тогда впервые я услыхал его, но запомнил — уж больно необычно звучит. Как будто кто рыгнул: «Э-э-э-рп!»
Босс совсем не сгущал краски, когда говорил, насколько эти ездки рисковое дело, все было, как он сказал: жарища, зыбучие пески, Апачи и бандиты — но уж лучше все это вместе взятое, чем управляться с десятью мулами. Вот это оказалось трудней всего: не сорваться, не схватить дрын и не отдубасить этих упрямых тварей до полусмерти. Доводилось мне править мулами и на постройке железнодорожной насыпи, на «Юнион Пасифик». Так что, вот что скажу вам: чем хуже дорога, тем хуже ведет себя эта тварь. Точно так же и люди — именно благодаря своему ослиному упрямству они и выживают, и выкарабкиваются из всяких передряг.
Вот и я тоже. Уперся, как мул. И несмотря ни на что, проработал возницей весь семидесятый год, хотя со временем легче не стало. Но деньги зашиб неплохие, и к зиме вернулся в Сан-Франциско. Там накупил себе разной шикарной одежды. Купил и револьвер — «Смит-и-Вессон», модель «Америкен», как раз только появилась. Кстати, замечательная пушка калибра 0,44 дюйма.
Еще купил себе билет на поезд до Омахи, билет дорогой — в первом классе, за сто долларов, да ещё впридачу по два доллара в сутки за спальное место. Ведь я ехал не просто так, я возвращался, чтобы убить Кастера.
Джорджа Армстронга Кастера.
И не просто убить, а убить красиво.
Глава 20. ДИКИЙ БИЛЛ ХИКОК
Весной 1871 года добрался я до Канзас-сити, который с тех пор, как я знал его под именем «Уэстпорт» — Западный порт, заметно разросся, и, если помните, форт Ливенуорт располагался неподалёку. Не успел я прибыть в город, как узнаю, что здесь, на зимних квартирах как раз и находится Седьмой кавалерийский полк под командованием, ну, конечно же… генерала Кастера. Генерала частенько встречали в городе: у его портных, в ресторанах и в театре на спектаклях, которые он особенно обожал, о чём нетрудно было догадаться, зная его театральную натуру. С ним всегда была его супруга, о которой ходила молва, что она уж такая красавица, что просто спасу нет, как пройдет по улице, так все на неёи оглядываются, причём, и мужчины, и женщины. Ну и генерал, само собой, был тоже хорош. Джентльмен, что поведал мне вышеозначенный пассаж, был весь из себя блондин, у него были шелковые пшеничные усы, а длинные кудри доходили до плеч. Росту в нем было футов шесть; тонкий в талии, но зато широк в плечах и, судя по одежде, большой щеголь: носил он чёрный сюртук с лацканами, отделанными бархатом, расшитую сорочку, отложной воротничок, чёрный галстук-шнурок, а венчал все это великолепие высокий цилиндр.
Он вовсе не был театралом и звали его, даром что похоже, отнюдь не Кастер, хотя Кастера он чем-то напоминал. Но были и отличия: он был светлее, лицом помягче, волос у него вился больше, и в глазах таилось больше синевы. Да и нос у него был не орлиный, а какой-то такой — утиный, прямо скажем, нос. Это был Джеймс Батлер Хикок, прозванный Бешеным Биллом за то, что в бешенстве пришиб человека, обозвавшего его «Утиный нос».
Но вернемся к Кастеру, у которого Бешеный Билл работал следопытом за год до Уошито, в Канзасскую кампанию. Кастера Билл отлично знал, а Кастер — Билла, и оба питали друг к другу расположение; Билл оказывал вполне безобидные знаки внимания жене Кастера и не пытался развеять тот туман небылиц, каким была окутана его персона, в которые, впрочем, верил и сам Кастер; так что все были друзья, как всегда оно и бывает в кругу больших особ, красивых и влиятельных. Потому как все бывает по-ихнему, пока какой-нибудь жалкий, кривоглазый и кривоносый тип не выстрелит им в спину, как это произошло с Хикоком, когда в старательском посёлке Мёртвый Лог-Дервуд некто Джек Маккол разрядил в него свой «Кольт». А случилось это в 1876 году, всего лишь два месяца спустя после того, как индейцы расквитались с другим длинноволосым. Да, с Длинноволосым.
Но до этих событий оставалось ещё пять лет, и в тот момент мы с Биллом находились на Базарной площади Канзас-сити, и я был совершенно уверен, что до конца недели непременно разыщу Кастера с тем, чтобы исполнить свой долг. А теперь позвольте сказать пару слов о Базарной площади. Тогда это было всенепременное место встречи охотников на бизонов, которые на лето «линяли» сюда, пока в прерии линял бизон; армейских следопытов, сбивавшихся в теплые компании в «мёртвый» сезон между кампаниями; караванщиков между ездками. Тут-то и можно было вернее, чем в газетах разузнать последние новости, особенно, если дело было деликатное. Как мое, например…
Вот тут-то я и познакомился с Бешеным Биллом, который как ни крути, а был здешней достопримечательностью, за год или два до того прославившись в качестве маршала Хейс-Сити, в этом же штате.
Днём Хикок обычно дремал на скамеечке у полицейского участка, там, где его приятель Том Спиерс, маршал Канзас-сити обожал собирать самых «крутых» ребят с Дикого Запада, потому как, с одной стороны, знал и любил большинство из них, а с другой — этим держал их подальше от греха. Здесь они могли друг с другом почесать языки и посостязаться в стрельбе, при этом не смущая наиболее зажиточных и уважаемых сограждан. Ну, а так как Спиерс и его помощники находились всегда под боком, то до настоящей драки Дело, как правило, не доходило.
Да и в любом случае нельзя сказать, что знаменитые виртуозы «Кольта» и «Винчестера» так уж часто схлестывались между собой. Оно ведь, любой мастер по разрешению конфликтов насильственным методом испытывает искреннее уважение к коллеге, другому такому же специалисту.
Теперь относительно моей мести Кастеру. Для вас, начитавшихся учебников истории, не составляет секрета, что Кастер погиб в бою с индейцами 25 июня 1876 года, откуда понятно, что я его так и не убил. Не будь он исторической личностью, я бы мог держать вас в напряжении до самой последней минуты, но уж раз так обстоят дела, то долго вас томить не буду, а сразу признаюсь, что в Канзас-сити я оказался накануне Дня Всех Дураков — 1 апреля, а Седьмой полк был отозван с равнин в марте, так что Кастер укатил на Восток. Вот мы с ним и разминулись всего на каких-то пару дней!
Возможно, вы меня спросите, а почему я не последовал за ним. Ведь не в Китай же он уехал, в конце концов! Ведь я уже пересек чуть не пол-Америки, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Ведь уже два года прошло с того дня, как я дал себе клятву на берегу Уошито и с тех пор только этой мыслью и жил.
Все что могу сказать в своё оправдание, так это лишь то, что во всём виновата Миссури, было в ней что-то, что остудило мой пыл. У Старой Шкуры Типи было такое же чувство относительно Платта и смотрите, что с ним происходило, как только он оказывался южнее этой речки: Санд-Крик и Уошито. Надеюсь, уже теперь-то он научился больше доверяться чутью, а не идти на поводу у своей гордыни, и держится подальше к северу от Платта.
Если по правде, то меня что-то остановило в Канзас-сити, там, где Миссури поворачивает в сторону Сент-Луиса. Я глянул на её мутные воды, на её бесконечные водовороты и подумал: «Ладно, как бы то ни было, а из прерии Кастер убрался — и это главное». А, может, это я его спугнул, но не в обычном, а в колдовском смысле, конечно, потому как уж больно странно совпадали наши приезды-отъезды. Но в любом случае дальше на Восток я не поехал. Об этой части страны у меня было забавное представление: мне казалось, что прямо от Сент-Луиса до Атлантического океана — всё один сплошной город, причём, главным образом трущобы, которые кишат бедными эмигрантами из Европы с землистыми лицами, и эти эмигранты готовы лизать сапоги могущественным, сиятельным особам типа Кастера. И там я буду чувствовать себя не в своей тарелке, ну и добраться до него будет куда сложней.
В Канзас-сити я оказался совсем рядом с тем городком, где тринадцать лет назад обитала чета Пендрейков и, вполне вероятно, проживала там и поныне, потому как в их положении и съезжать куда-либо надобности не было — от добра добра не ищут, и я подумывал о том, чтобы отправиться туда и просто разок-другой проехаться по улице, и всё, но даже и на такой пустяк кишка оказалась тонка: ведь после стольких лет разлуки, после стольких битв и… жён, я всё так же страстно и пылко любил миссис Пендрейк.
Вот в чём была подлинная трагедия моей жизни, а всё остальное супротив неё — семечки!
Мысли о Ней вновь заполонили мой ум, ибо после известия о бегстве Кастера я неожиданно почувствовал себя как никогда обманутым, разочарованным, ну, как в воду опущенным. Да-а, уж таким я не был с тех самых пор, как давным-давно покинул Миссури, и чего уж там, в столь мрачном расположении духа мысль о миссис П. была неизбежна.
Ладно-ладно, думал я, вот даст Бог, появится Кастер опять на Западе, тут уж я его, как пить дать, ухлопаю. И в этом я ещё раз себе поклялся, но скорее уже машинально, потому как, честно говоря, на его скорое возвращение надежд у меня не было.
Теперь центральные равнины целиком были очищены от враждебных индейцев. Уже следующим летом, после сражения при Уошито, войска генерала Карра при Саммит-Спринге разгромили шайенское военное общество Собак, убив при этом их предводителя Высокого Бизона, после чего в Канзасе и Колорадо Настоящих Людей не стало…
Ну, а что же я? Так вот, в то время я свел знакомство с Бешеным Биллом, Хикоком, а знакомство с ним само по себе на некоторое время становилось едва ли не основным родом занятий. Перед этим я наводил справки о Кастере, и кто-то указал мне на Бешеного Билла как на человека, служившего у генерала следопытом. Прежде мне о нем слыхать не доводилось, но на Базарной площади имя его гремело, и, помнится, когда я подошёл к нему впервые, он как раз каким-то парням показывал пару револьверов с рукоятками из слоновой кости — подарок сенатора, которого он сопровождал в вояже по прерии.
Вот тут-то, значит, протискиваюсь я сквозь толпу и спрашиваю у него:
— Ты, что ли, Хикок? — Мне на него указали, как на такого, но должен же я был с чего-то начать…
— Ну, я, — отвечает этот высокий подтянутый джентльмен с длинными светлыми волосами, мельком скользнув по мне взглядом своих небесно-голубых глаз, а затем правой рукой вскидывает револьвер и выстреливает весь барабан быстрее, чем можно сосчитать сами выстрелы, в вывеску на стене салуна за сотню ярдов через площадь наискосок.
Позже этот случай вошёл в историю, понятно, без малейшего упоминания моего в нем участия, однако, стрелял-то он ради меня, а вот на меня-то его стрельба не произвела никакого впечатления. Я-то разыскивал Кастера, а этот субъект мне как раз его и напоминал, но не стрельбой, а волосами — по самые плечи. Так что, думаю, они с Кастером одного поля ягоды. И вот когда он расстрелял весь барабан — все шесть патронов, а я и глазом не моргнул:
— Ну, раз ты Хикок, — говорю ему нетерпеливо, то с тобой мне и надо поговорить. Всего на пару слов.
Он перебрасывает пустой револьвер из правой в левую, а другой, таким же манером — из левой в правую. Приёмчик этот назывался «пограничной сменой» и при этом обе пушки должны были находиться в воздухе не более какой-то доли секунды.
Затем Хикок ещё шесть раз выпаливает в эту вывеску и вся публика гурьбой валит через площадь к салуну, чтобы убедиться своими собственными глазами, насколько удачно он стрелял. А кто-то из хвоста в толпе вокруг Хикока подкатывается ко мне и пристает с вопросом:
— Вы, наверно, Хикока очень хорошо знаете, раз беспокоите его в такой момент?
— Совсем не знаю, — отвечаю я, — и не знаю, захочу ли вообще знать. А с чего это он такая важная птица?
Парень этот так и всплеснул руками:
— Так ты что, никогда не слыхал, как он разделался с бандой Маккенлиса? Лет десять уж тому, на почтовой станции Рок-Крик, округ Джефферсон. Кажись, бандитов было шестеро, и они пришли по его душу. Так он троих уложил из револьвера, двоих пришил ножом, а одного прихлопнул ударом по голове!
Я тут же в уме делю на два, ведь на Диком Западе я с десяти лет и кое-что о таких стычках знаю. И если вам когда-нибудь станут расписывать о том, как кто-то в одиночку схлестнулся больше чем с тремя, и победил, так знайте, что это ничто иное, как враньё. Впоследствии я убедился, что и тут был прав: на самом деле Бешеный Билл тогда убил только Маккенлиса и ещё двух с ним — и то всех из засады!
— Да-да, сэр, — заливалось соловьем это трепло, явно складом характера из числа тех, что и денщик Кастера, — так оно и было. А вот в Хейсе (Билл там был маршалом) он не поладил с Томом Кастером, братом известного генерала. Так вот, когда Том напился и стал буянить, Билл его упрятал за решётку, а тот потом вернулся с двумя солдатами, чтобы пересчитать Биллу ребра, так Билл одного заколол ножом и пристрелил другого… Вот это уже мне было интересно, и я у него спрашиваю, а как же Хикок всё же прикончил брата Кастера: застрелил его или зарезал.
— Да нет, он убил солдат, а не Тома. Ну, это было совсем другое дело.
К этому моменту Хикок и остальные уже успели рассмотреть вывеску над салуном и как раз возвращались назад, и этот прилипала, который болтал со мной, у кого-то справляется, ну, мол, как там, а другой ему отвечает:
— И не поверишь, но, ей-Богу, он — всю дюжину! — всадил в серёдку от буквы «О»!
И тут все от эдакого чуда присвистнули и поразевали рты, хотя нет, не совсем все, потому как там были и другие следопыты, виртуозы в обращении с «Кольтом», такие как Джек Галлахер, Билли Диксон, Старик Килер, и ряд других — прославленные в то время имена — так они понапускали на себя задумчивость, чтобы не выдала ревность. В жизни везде так: по одну сторону — таланты, по другую — поклонники.
Я опять пробиваюсь к Бешеному Биллу и говорю:
— Всего на пару слов, если можешь…
У него, после того, как он так блестяще палил и вызвал бурю восторгов, было прекрасное настроение, но, наверное, его раздражало, что нашёлся-таки такой тип, как я, который полностью поглощён своими собственными делами, вот он и обращается довольно-таки небрежно к одному из своей свиты:
— Гони его отсюда!
И тот надвигается на меня. Его уродливая волосатая рожа выражает презрение, а сам по себе детина он дюжий. Но тут внезапно застывает на месте как вкопанный, потому как мой «Смит-Вессон» 44 калибра уткнулся как раз туда, где над ремнем свисает его пузо.
— Попридержи-ка, свою прыть, приятель, — говорит ему Хикок и гогочет. — Этот маленький шельма взял тебя на мушку… Вот что, — обращается он уже ко мне, — спрячь ты свой пугач и айда пропустим по маленькой — я угощаю!
Вот мы с Бешеным Биллом идем в салун и как раз проходим под той самой вывеской, в кружочек буквы «О» которой он послал дюжину пуль за добрую сотню ярдов. Я мельком зырк на неё и вижу, что так и есть — попал без вранья. В салуне мы взяли виски и тогда он выбрал самое дальнее от двери и укромное местечко, поставил свой стул в самый-самый угол, сел и отбросил фалды сюртука по сторонам с тем, чтобы обнажить рукоятки заткнутых за пояс револьверов, и все время, что мы там были, он присматривался ко всем, кто входил, при этом без всякого ущерба для нашей беседы, разве что за одним исключением — это когда бармен уронил стакан и Хикок молниеносно среагировал, как кошка, вскочив со стула.
Тогда в баре он и рассказал мне, что Кастер укатил на Восток вместе с полком, и всё остальное, о чём я уже упоминал.
— Чего это вдруг тебя генерал заинтересовал? — спросил он у меня, но, естественно, настоящую причину своего интереса я ему так и не назвал, а соврал что-то вроде того, что хочу наняться в проводники-следопыты, а потом, чтобы тщательно скрыть свои чувства, которые, я, может, проявил, роняю как бы между прочим:
— Слыхал, что у тебя с его братом Томом вышла какая-то история…
— Ну-у-у, — говорит он, — это было давно. Все уже в порядке.
Так вот, этот его ответ является прекрасным примером того, о чём я хотел сказать. Сам Бешеный Билл никогда не бахвалился. Нет, хвастуном он не был. Да ему это и было ни к чему. За него это делали другие. Когда я говорю, что вокруг его имени столько всякой брехни, я вовсе не хочу сказать, что он приврал хоть слово в свою пользу. Так, он никогда не говорил, что вздул Тома Кастера или что он уничтожил банду Макканлиса, точно также как не станет когда-либо упоминать об этих своих попаданиях в середку буквы «О». Но это станут без конца делать другие, раздувая при этом статистику: увеличивая расстояние и уменьшая цель. Ещё какие-то лет тридцать тому назад мне попадались типы, заявлявшие, что самолично были на Базарной площади в тот самый день, когда Бешеный Билл всадил двенадцать пуль — одна в одну — в точку над «i» за двести ярдов.
Вот в этом месте нашего с Хикоком разговора бармен как раз и уронил стакан, а Билл машинально вскочил со стула, в любую секунду готовый нажать на курок.
Когда он опять сел, я ему и говорю:
— Чего ты так боишься?
— Быть убитым, — ответил он вот так просто и отхлебнул виски, а потом посмотрел пристально на меня и, лукаво прищурив свои небесно-голубые глаза, выдает:
— А, может, ты надумал это сделать?
В ответ на это я просто рассмеялся и говорю:
— А кто как не ты сам позвал меня сюда немного выпить?
— Слушай, — пристал он ко мне как банный лист, — скажи прямо, это Том Кастер подослал тебя сюда? Потому как что до меня, то с этим все кончено. У меня нет никаких к нему претензий. Но если он опять надумал заварить кашу, то ему не надо бы подсылать парня, который носит «Смит-Вессон» — американская модель в тугой кобуре из телячьей кожи. И говорю это, приятель, для твоего же собственного блага.
Я был жестоко оскорблен, я ведь гордился этой своей новой пушкой, а ещё я очень болезненно воспринял саму мысль, что я могу работать на кого-то, кто носит имя Кастер.
— Вот что, Хикок, — оборвал я его, — ничьим холуём я не являюсь. Заруби это на носу! И если мне надо будет с кем-то расквитаться, то я это сделаю лишь только для себя и больше ни для кого. А если ты ищешь повод для ссоры, то можем спрятать пушки, и я тебя голыми руками отделаю так, что долго помнить будешь, и не посмотрю, что ты здоров как бык.
— Не кипятись! — говорит он. — Я не хотел тебя обидеть. Давай ещё по одной выпьем.
И он позвал бармена, но тот как раз отлучился в подсобку и его не слышал, тогда Бешеный Билл вежливо опросит, чтобы я, если могу, сходил бы к бару и принёс бутылку.
Все ещё обижаясь, я ему говорю:
— Ты что, хромой?
Он отвечает, оправдываясь:
— Да, понимаешь, не хочу я, чтоб какая-нибудь сволочь мне продырявила спину. — И поспешил добавить. — Я не имею в виду тебя. Тебе, приятель, я доверяю. Но вот остальным…
Это он сказал по адресу каких-то десяти безобидных посетителей салуна. Была только середина дня и народу в нем было не густо. За одним столиком сидели четверо — резались в карты, ещё двое-трое сидели за столом у самой стойки бара. Да, помню, ещё за одним столиком, как раз посередине заведения, сидел какой-то забулдыга, мертвецки пьяный, уронил голову прямо в лужицу разлитого виски, смахивая на хомут, брошенный в непроточное болотце.
Так что всякое уважение к этому хваленому Бешеному Биллу у меня пропало напрочь; я запрезирал его, считая, что он либо заячья душонка, либо не в своем уме, раз не может пройти к бару через помещение, где царят тишь да гладь. Но потом мне пришло в голову, а вдруг всю эту комедию он разыграл ради меня одного. Может, он ждёт-не дождётся, чтобы я повернулся к нему спиной, и тогда бы он спокойненько меня — пиф-паф!
Вот вам яркий пример подозрительности, от которой у ганфайтеров мозги повернуты набекрень. Я и сам моментально стал её жертвой, достаточно было лишь оказаться рядом с Бешеным Биллом. При этом чувство такое, будто ты сплошной обнажённый нерв.
В это время кто-то из игроков, видать, только что сорвал банк, торжествующе завопил, и мы с Хикоком ОБА вскочили со стульев, потянувшись за нашими пушками. И я убедился, до чего же Шайен он был прав, критически отозвавшись об этой моей тугой кобуре из телячьей кожи. Она обтягивала пушку как перчатка — чем быстрее ты в неё суешь руку, тем сильнее цепляется эта железяка.
Вот я Хикоку и отдаю должное:
— Ты меня сейчас насчёт кобуры хорошо убедил.
— А я всегда кобуру терпеть не мог, — признается он мне, — теперь, убедившись воочию, насколько я неловок с оружием, он, кажется, стал целиком мне доверять, — и свою пушку предпочитаю затыкать за пояс. Тебе надо попросить портного сделать здесь по-настоящему ровный поясок и никаких, упаси Боже, лишних стежков или там пуговиц для подтяжек, ну и, конечно, жилет надо ушить, чтоб никакие складки не мешали. И, смотри, — продолжал он, — мой сюртук скроен так, чтоб его фалды распахивались по сторонам.
— Единственно, — говорю я, — чего мне не понятно, это почему револьверы при ходьбе не выпадают и не проваливаются в штанины брюк.
— А-а-а, — говорит он, — тут вся хитрость — открытый затвор и, как прищепкой, прицепить пушку к резинке кальсон.
За разговором на эту сугубо специальную тему он все больше и больше стал проникаться ко мне симпатией. Он оживился и заговорил с большим жаром. Людей, как правило, хлебом не корми, а дай только поговорить об их специальности и её орудиях. Вот Билл и принялся мне обстоятельно расписывать достоинства и недостатки различных способов ношения револьверов и пистолетов: и за шелковым кушаком, и в кобуре под мышкой, и на портупее, и в скрытых карманчиках жилета, и на специальном креплении к тыльной стороне руки — ну, это годится только когда пистолетик дамский, — и в задних карманах с кожаной прокладкой и многих-многих других. Он даже утверждал, что знает одного парня, который носил небольшой пистолетик между ног, и когда его, бывало, притирали к стенке, он обычно просился, чтоб ему перед смертью позволили удовлетворить малую нужду, и, получив на это разрешение, расстёгивал ширинку и открывал огонь. Беда вот только, что как-то раз уж очень он поторопился и отстрелил себе конец…
В тот день узнал я страх сколько всего. А ведь прежде мне казалось, что я владею оружием чертовски здорово, но… рядом с Бешеным Биллом я был молокососом. Конечно, я понимал, что он фанатик. А как же иначе, его настолько поглотил собственный монолог о кобурах, патронах, о длине ствола, о том, как надо подпилить рычаг, чтобы спуск был очень чуткий, о разных способах взводить курок, чтобы палить быстрее, об особых заточках ударника и о прочём тому подобном. Он напрочь забыл о выпивке и даже о своих подозрениях, став говорить «дружище» и «старик» вместо довольно зловещего в его устах «приятель».
Через некоторое время слушать это мне малость поднадоело, и я ему напомнил, что мы, как будто, собирались повторить по стаканчику и поднимаюсь со стула, но он меня остановил:
— Садись, дружище. Я принесу.
И направляется к бару, и это несмотря на то, что бармен уже давно вернулся из подсобки и мог бы сам принести нам эту бутылку.
Но вот что позабавило меня: Бешеный Билл прихватил с собой цилиндр, хотя мог смело и на стуле его оставить. По-моему, он ещё малость меня Шайен подозревал: вдруг я стащу эту его штукенцию. А может, попросту боялся, что когда вернется, то по забывчивости сядет на него.
Но в любом случае, Бешеный Билл находился уже в двух шагах от стойки бара и как раз собрался заказать нам выпивку, как вдруг пьянчужка — помните, я говорил о нём, тот что лежал за столиком посередине зала — вскакивает во весь рост, а в руке, на которой он лежал, навалившись всем телом, откуда ни возьмись — «Кольт». Он решительно направляет его прямо Хикоку в широкую спину и нажимает на курок. Думаю, стрелял он шагов с 7–8. Но всё это происходило очень быстро — не успеешь и чихнуть.
Я что имел в виду: что если б кто чихнул в этот момент, то так бы никогда и не узнал, что произошло, потому как в следующий миг «пьяный» опять сидел, развалившись все в той же позе с той только разницей, что у него из дырочки между глаз сочилась кровь. И смешивалась с лужицей спиртного.
Этот «пьяный» и правда тогда выстрелил, да вот только пуля его попала в потолок, потому как за то время, что он вскакивал и нажимал на курок, Бешеный Билл успел его увидеть в зеркала за стойкой бара, развернуться, перебросить цилиндр в левую руку, обнажив револьвер в правой, и убить этого сукиного сына наповал. Потом Билл надел цилиндр, подошёл к трупу и осмотрел его. Тут вокруг собрались и другие, а вскоре пришёл и маршал Спиерс. И Том Спиерс спрашивает:
— Билл, ты знал этого Строхана?
— Нет, — отвечает Хикок, извлекая пустую гильзу и вставляя на её место новый патрон.
Ну, меня это происшествие несколько взбудоражило, и хотя к крови я был привычен, но здесь кровопролития я никак не ожидал. Так что я залпом опрокинул виски, который мне недрогнувшей рукой налил Бешеный Билл, прокашлялся и спрашиваю:
— Его имя тебе что-нибудь говорит?
Он опять пожимает плечами, делает несколько глотков из стакана, глаза его слипаются, словно вот-вот он уснет, и, наконец, отвечает:
— Да. Помнится в Хейсе был человек с таким именем.
— И у тебя с ним были неприятности?
— Да. Я его убил, — говорит он. — Ну, так вот, насчёт твоего «Смит-Вессона». Игрушка, конечно, красивая, но у него гильзы часто рвутся и заклинивают. На твоем бы месте я его положил на полку, а сам взял бы какой-нибудь «Кольт» со звездчатым экстрактором…
Тем временем Спиерс велел двум парням убрать труп а потом уже обратился к Бешеному Биллу:
— Освободишься — загляни на пару минут в участок. Думаю, маршалу надо было составить протокол. Хикок на прощание махнул ему рукой — левой, конечно же. Я мог бы тогда сразу догадаться, что тут что-то назревает, когда увидел, что он взял цилиндр в правую руку — ту, которую он целиком и полностью приберегал для револьвера. Чего мы только не делаем правой рукой: указываем пальцем или кого-то маним к себе, чешемся, достаем деньги и всё такое прочее, а он никогда ничего не делал правой, она все время была у него свободной. Единственным исключением было рукопожатие и то, он едва подавал пальцы и тут же убирал руку назад.
Не в тот день, а уже попозже я как-то спросил у Бешеного Билла, подозревал ли он на самом деле этого, якобы пьяного или же всегда и везде, даже в помещении, ходит с револьвером в руке.
— Подозревал, конечно, — ответил он. — Да я всегда подозреваю всякого, будь он хоть трижды покойником, если только не видать его руки. И пусть в девяноста девяти случаях из ста я ошибусь, но если хоть раз попаду в точку, то все хлопоты окупятся сторицею.
Хикок был как никто наблюдателен во всём, что касалось убийства. Так, сейчас, он сразу заметил, насколько я потрясен происшедшим, хотя, с другой стороны, не думаю, чтоб он меня узнал, отлучись я на пару минут по нужде. Все его мысли и чувства были направлены на одно, и этой своей одержимостью он был похож на индейца, ничего другого не замечая. Так, он совершенно не реагировал на качество виски, который мы пили, кстати, пили мы редкую дрянь. А позже до меня дошло, что и его кажущаяся заинтересованность в разговоре о генерале и миссис Кастер — не что иное, как просто проявление подозрительности: вся штука оказалась в том, что он подумал на меня, что я замыслил его убить и лишь оттягиваю время. На самом-то деле ему было плевать на них, его вообще никто не интересовал сам по себе, просто как личность.
Впрочем, он мог быть и внимательным, но только если это входило в сферу его всепоглощающей страсти. Так что в тот момент он проявил заботу, вот и говорит мне:
— В трудный момент всегда тяжелее смотреть со стороны, нежели участвовать… Тебе сейчас лучше всего помочь сможет женщина. Пошли, я покажу тебе самое шикарное заведение в городе.
Но сперва ему пришлось по пути заскочить в ресторан, и там он съел большой кусок мяса, потому что, как ни странно, объяснил он, но от этого неприятного случая у него разыгрался чудовищный аппетит; однако если не считать эти два случая, то я больше никогда не слыхал, чтоб Бешеный Билл упоминал, что застрелил брата Строхана, хотя и на улице, и в ресторане самые разные люди, которые прослышали об этой истории, поздравляли его или же наоборот, подчеркнуто уступали ему дорогу.
Шикарное место, куда он привел меня, оказалось танцевальным залом. А добрались мы туда уже к вечеру. До этого, в ресторане, он так неторопливо и с таким волчьим аппетитом уминал этот свой бифштекс, после чего ещё вкушал сладкий пирог и лакомился он так долго, что я окончательно пришёл в себя, ведь смерть в конце концов мне не в новинку. А раз так, то и я решил перекусить, только взял себе жаркое, потому как бифштекс показался мне уж очень жестким. Жаркое, впрочем, оказалось отнюдь не лучше, и я даже пожаловался управляющему, но вот Хикок, кажется, нашёл харч превосходным.
Потом мы пошли в танцзал. Надо сказать, ещё было рано, мы были первыми клиентами, и девушки из задней двери стекались лениво, позевывая при этом и потягиваясь, потому как, думается мне, они лишь только что встали, проспав весь день.
У входа была надпись: ПРОСЬБА СДАВАТЬ ОРУЖИЕ ПРИ ВХОДЕ.
И когда мы проходили, откуда ни возьмись, появился здоровенный детина в полосатой рубахе и спрашивает:
— Извините, парни, вы читать умеете? Бешеный Билл окинул его взглядом своих ясных синих глаз и тихо так спрашивает:
— Долли есть?
— Джентльмены, с оружием туда нельзя. Надо его сдать, — говорит вышибала, а потом, по мере того как внушительный вид Билла его впечатляет, объясняет. — За ваше оружие не беспокойтесь. Вот смотрите, к каждому револьверу я прикладываю бирку и пишу имя владельца.
И с этими словами потянулся к карманчику жилета, разумеется, чтобы достать бирку и карандашик. Я же, памятуя про принципы Бешеного Билла, подумал: «Боже милостивый, вот ещё один покойник!»
Но тут из служебного помещения появляется пухленькая такая дамочка, пышечка лет сорока с огромным и высоким бюстом, глубокую ложбинку между половинками которого подчеркивает низкий вырез её красного сатинового платья, расшитого чёрными бусинками. Волосы у неё чёрные, роскошные, собраны в хвост, и такого же цвета небольшие усики.
— Билли! — радостно басит она, подбегает к Хикоку, навалившись всей грудью, заключает его в объятия и крепко чмокает в щёку. После чего объявляет вышибале:
— Мистер Хикок на особом положении!
— Хикок! — лепечет тот, бледнея при этом, как полотно, и бочком-бочком с глаз долой. Вот что значит репутация! А ведь человек этот работал вышибалой и дело своё знал что надо. Я сам некоторое время спустя был восторженным свидетелем потрясающей сцены, когда он небольшой палкой отдубасил трёх здоровенных и отчаянно-пьяных охотников на бизонов. Но стоило ему услышать «Хикок», как магия этого имени на него так подействовала, что он сразу сник и счел за лучшее больше не попадаться на глаза его владельцу.
— А что за симпатичный приятель у тебя? Познакомь нас, — обращается дамочка к Биллу, и он, едва узнав мое имя, сообщает его ей.
Тогда Долли хватает меня в охапку и прижимает к себе; я утыкаюсь прямо в ложбинку её груди и утопаю, и задыхаюсь в мягких волнах. Но, чёрт подери, она скользит руками все ниже, хватает меня за ягодицы и давай тереться об меня своими ляжками. Не скажу, чтоб это меня не возбуждало, потому как женщина она была что надо, но что-то в этом и отталкивало, словно это тетя забавляется с тобой, да и ко всему, надо было подумать и о собственном достоинстве, вот я её и оттолкнул.
— У-у-у, — сложила она толстые губы бантиком, — какие мы петушки, ты только посмотри!
Хикок засмеялся:
— Разве не видишь? Человек не в себе. Найди лучше ему хорошую девчонку, пусть успокоит нервы.
Так что она сзывает всех женщин, а они у неё девочки — первый класс, на Западе лучше не найти до самого Сан-Франциско. Одна или две вообще красавицы, а так у всех — нормальные фигуры, и не было ни одной там со старыми шрамами или с большими оспинами. Да, заведение у Долли оказалось первый сорт, надо отдать ей должное.
Я принялся их разглядывать: некоторые делали мне непристойные знаки, другие, наоборот, казались сдержанными и даже неприступными, потому как девочки должны иметься на всякий вкус, но та, которую я выбрал, не была ни развязной, ни равнодушной. На вид как будто грустит и томится; росточка невысокого, фигурка тоненькая, волосики блеклые, рыжевато-каштановые, видать, начали завиваться, но получилось как-то растрепанно, клочками. Под глазами на тонкой коже смутно проступали веснушки. Одета в красное платье, выставлявшее напоказ плечи и коленки, каблуки комнатных туфель стоптаны, из-за чего выглядит малость кривоногой.
Судя по описанию, не сильно такая привлекает, верно? Да она и на самом деле меня не привлекала. Но дело в том, что в тот момент шлюха мне и не была нужна. Ведь идея пойти в бордель принадлежала не мне, а Хикоку; и скажу вам, что когда что-либо предлагает такой парень, как он, вы к такому предложению наверняка отнесетесь со всем вниманием, тем паче, если вдруг стали свидетелями, как он пристрелил человека, особо с ним не церемонясь.
Так вот, стало быть, не испытывая никакого желания, я выбираю эту вот девчонку, как наименее физически желанную, и мы с нею немного потанцевали под дребезжащее пианино, по клавишам которого колотил лысый человечек, которого называли, как и всех ему подобных «маэстро». Танцор я не ахти какой, но в таких местах совсем и не требуется уметь танцевать, тут партнерша прижмется пару раз к вам животом, какую-то минуту потрется им о ваш живот, а потом потащит вас в крошечную комнатушку-спальню, по-английски «криб», откуда и происходит выражение «криб-гёрл», т. е. «подстилка», «проститутка».
Так вот, едва маэстро забарабанил по клавишам, как эта девчушка, вот это самое и давай вытворять, пустилась ввинчиваться своим животом в меня, только вот живота, который можно было бы назвать этим словом, у неё не было, и она как граблями просто цепляла меня своими острыми костями, атак как я и сам кожа да кости, то эти телодвижения способны были вызвать все что угодно, но только не вожделение. Вот я все её от себя и отпихиваю, пытаясь при этом под музыку отплясывать джигу в тяжелых сапогах, потому как маэстро шпарит довольно оживленную мелодию, однако эти мои действия она воспринимает как знак того, что мне не терпится уединиться, и она машинально, с усталым видом, хотя и настойчиво, выдергивает меня из зала.
В каморке её имелась железная койка, да ещё стоял расшатанный стул, который обязательно бы развалился, было бы куда, потому как он едва втискивался между стеной и койкой, ну, а что до длины данного помещения, то о ней красноречиво говорит тот факт, что входная дверь распахивалась только в коридор. Чуть не забыл; ещё на небольшой полке стояла керосиновая лампа. Она зажгла лампу, я же уселся на кровать — больше не было куда. Тут она одним махом сбрасывает с себя платье, вешает его на крючок, и в чем мать родила садится мне на колени.
Ну то, что она весьма юное создание, я знал и раньше, но лишь сейчас понял, до чего юное: маленькие плоские грудки, узкие бедра, острые коленки — она была не просто худенькая, а совсем ребёнок, это меня сперва обмануло её накрашенное личико.
Так что я у неё спрашиваю, а сколько же ей лет.
— Двадцать, — говорит она.
Я откидываюсь назад, чтобы посмотреть ей в глаза.
— Ну-ну, расскажи ещё что-нибудь.
— Тогда восемнадцать, — она наклоняется ко мне и начинает расстегивать мой воротник.
Но я её скидываю с колен и встаю, что вряд ли удалось бы сделать человеку более рослому, ну, а что такой длинный парень, как Хикок, может тут с такими низкими потолками делать, я вообще не представляю, разве что только свернуться в три погибели.
Похоже, она испугалась, что я сейчас уйду, вот в испуге и давай меня уверять, что, дескать, всё она знает и умеет и что нареканий на неё никогда прежде не бывало. На что я ей говорю:
— Все, что мне сейчас надо, так это только, чтоб ты сказала правду, сколько тебе лет. Другого мне от тебя ничего не надо, потому как, кажется, на днях я подхватил гонорею. Но всё равно охотно дам тебе доллар.
— Доллар? — возмущённо вскрикивает она и тут все мои былые представления о ней как в общем-то невинной и несчастной девушке рассеялись. — Ты, дешевка, да здесь только спустить штаны стоит в пять раз дороже!
— Да провалиться мне на этом месте, — говорю я, — но пять долларов я не дал бы даже за то, чтоб забраться на русскую королеву!
Ее возмущение меня забавляло: веснушки у неё загорелись, волосы порыжели. Кого-то мне она напомнила…
— Нет, правда, — продолжаю, — это ж надо, чтобы досталась худющая зеленая соплячка! Тебе, небось, четырнадцати нет?
— Да мне скоро семнадцать, — бросает она гневно. — А ты вали отсюда со своим долларом, иначе позову Гарри — пусть вышвырнет тебя к едрёной фене!
Тут что-то в этой крошке тронуло моё сердце. Нет, это было не плотское желание, потому как для этих целей я завсегда предпочитаю баб, видавших виды. Наверно, мне просто понравился её напор.
Так что я соглашаюсь:
— Ладно, я заплачу. Но слушай, чего мне за это надо. Я хочу просто посидеть здесь достаточно долго, чтобы мой приятель подумал, что я весело провожу время. А ты свои деньги получишь, но ничего тебе за это делать не надо.
Ее это вполне устроило, когда она увидела, что я не вру, и получила пятерку. На самом-то деле, думаю, такой вариант ей ещё больше понравился: в те времена заработать пять долларов просто сидя сложа руки удавалось далеко не каждый день.
Теперь, обнаружив свой подлинный петушиный характер, она уже больше не стала напускать на себя мрачный меланхолический вид, который оказался не более, чем ролью-маской. Я ведь, кажется, упоминал, что здесь они старались потрафить на любой вкус. И она, по-моему, должна была прельщать такого парня, которому бы нравилось воображать, что спит он с маленькой, измаявшейся за день девушкой-служанкой, ко всему ещё и сироткой впридачу, в чулане под чёрной лестницей…
В действительности же она оказалась довольно-таки нахрапистой и беззастенчивой девицей. Так, сейчас она вполне могла бы одеться, но не стала этого делать, а при свете керосиновой лампы, как была нагишом, разлеглась, подложив руки под голову и приподняв колени, да ещё спрашивает:
— Слушай, у тебя сигары не найдётся?
— А-а-а, так ты ещё и куришь?! — восклицаю я. — Боже, ну не чересчур ли ты бедовая! — подзуживаю её для смеха. Надо было как-то убить время, а я не знал, чем заняться. Сел в ногах, где было свободно, ибо хоть она и разлеглась на кровати во всю длину, но росточку была небольшого, да ещё и ноги в коленях согнула.
— Я прежде думал, — говорю я, — что в Канзас-сити девчонки куда культурней и больше леди.
Ну, тут мне показалось, что в её зеленых глазах вспыхнули огоньки; потом вдруг она закрыла их руками и её худенькая грудь затряслась от рыданий. Вскоре мне стало неловко, я взял её в руки и вновь посадил на колени, — и она рыдала у меня на груди, вцепившись в мою рубаху, словно я — это её последний шанс.
— Ну-ну, успокойся, — говорю ей и отечески целую в спутанные рыжие завитки на макушке и похлопываю по голой дрожащей спине, — и расскажи дяде Джеку, что за беда у тебя приключилась.
Она немного посопела мне в шею, а потом поведала следующую историю:
«Родилась я и выросла в Солт-Лейк-сити, в одной из тамошних наиболее уважаемых семей. Моя мама в пятнадцать лет вышла замуж за известного старейшину мормонов. И если бы я назвала его имя, вы бы сразу его вспомнили. Впрочем, о мормонах у людей сложилось странное представление из-за того, что у тех много жен, но скажу вам, возможно, по этой причине ничего подобного этому танцзалу вы не найдёте в Солт-Лейк-сити. У папы моя мама стала одиннадцатой женой, и возьмите нас здесь у Долли: мы тут без конца друг с дружкой грыземся, а вот мои матери никогда не сказали друг другу худого слова. И было у меня сестёр — пятнадцать человек и двадцать один брат, а дом наш смахивал скорей всего на постоялый двор. И мы с раннего утра до ночи только и делали, что работали да молились, молились да работали…
Лет до четырнадцати не было на земле девчонки чище, чем я, потому что я относилась к человеческому телу как храму Господнему и порочные мысли не оскверняли мой разум…
К тому времени я выросла довольно симпатичной. И вот как-то посылают меня матери к соседям — одолжить сахару. А по соседству жило семейство ещё одного старейшины мормонов по имени Вудбайн, и было у него всего лишь шесть жен, а детей — десять, и так случилось, что все женщины и дети в это время работали в поле, а дома был только глава семьи, человек лет под пятьдесят, с черною окладистой бородой…
«Амелия, да ты ли это? — говорит он, пропуская меня в дом. — Какой красавицей ты стала! А сахар, кажется, в кладовке». — Вот идёт со мной туда и говорит: «Кажется, он на верхней полке. Я подсажу тебя». — И берёт меня на руки, огромные-огромные, вот и всё, что тогда случилось, только он, когда опустил меня на землю, был красный как рак, и никак не мог отдышаться, хотя я весила немного. Но через день или два подзывает меня к себе папа и говорит, что старейшина Вудбайн желает меня взять в жёны, седьмой женой. Раз уж папа решил, то возражать не имело смысла, и перечить ему я не осмелилась, так что вот что я сделала той самой ночью — бежала куда глаза глядят…»
— Ну, — говорит она, вздрагивая при одной мысли об этом, — сколько раз сожалела я о своей глупости, потому что за эти два года я ничего хорошего от мужчин не видела, многие из них были такие же бородатые, как старший Вудбайн, и такие же старые, встречались такие волосатые, как медведь; и вместо того, чтобы быть подстилкой для любого встречного-поперечного, я могла бы быть уважаемой женой мормона…
Думаю, все это вполне смахивало на правду, хотя такие истории часто можно было услышать от любой проститутки: все они, их послушать, из благородных семейств. Не скажу, что во всё поверил. Да и упоминание Солт-Лейк-сити, и мормонов само по себе не привлекло моего особого внимания, хотя, может, помните про бзик моего папаши отправиться в Юту, из-за чего я и попал к Шайенам и из-за чего меня ждали все последующие приключения…
Но пока вот Амелия сидела у меня на коленях совершенно голая, я заметил крошечную родинку в желобке её шеи. Так вот всё дело в том, что моя сестра Сью-Энн, которой было 13, когда я видел её в последний раз, имела точно такую же родинку, причём, в том же самом месте… Я ведь сказал прежде, что эта маленькая шлюха кого-то мне напомнила. Но, если не считать этой отметинки, это была не моя сестра, та была светлее и возраст не тот…
— Послушай, — говорю я Амелии, — должно быть, у меня есть кое-какие родственники в Солт-Лейк-сити. Когда я видел их в последний раз, а это было много лет тому назад, они собирались отправиться туда и стать мормонами. И если им это удалось, ты, может, слышала о них…
Она вскинула голову и посмотрела мне в глаза. Несмотря на все эти рыдания, глаза у неё были совершенно сухие, но вот что ей удалось, так это вытереть изрядное количество румян и пудры о мой чёрный сюртук. А без краски она оказалась такой же веснушчатой, как и я, и волосы у неё были довольно-таки рыжие.
— Моя фамилия, — говорю, — как и моих родственников — Крэбб. То были моя матушка да моя сестрёнка Сью-Энн, — теперь ей, по-моему, немного больше, чем… ну, думаю, лет тридцать, да ещё была Маргарет, та несколько моложе…
— Сью-Энн? — воскликнула Амелия. — Но именно так звали мою маму! — Она засмеялась, тряхнула кудрями и вновь разрыдалась, обхватив меня за шею. Вот тут-то, наконец, меня осенило, кого она мне так напоминала: меня самого!
— Так, значит, ты и есть мой дядя Джек! — говорит она.
— Вот что, — роняю я, — надень-ка лучше платье.
Глава 21. АМЕЛИЯ
Наверное, за всю свою жизнь я не испытал большего потрясения — это же надо: встретить родную племянницу в борделе!
А что если б я… От одной мысли об этом у меня мурашки по телу поползли. Тогда бы я скорее всего пустил бы себе пулю в лоб, потому как кем-кем, а дегенератом никогда не был…
И вот чем дольше я смотрел на неё, тем больше убеждался в нашем родстве: прежде мне не было никакого дела до того, как торчит мой нос — словно кто по нему съездил, когда я был мал, а он ещё не окреп; но, понимаете, у девчонки-то, этой моей племянницы, я увидел такой же — крючком, и выглядел он довольно-таки ничего, очень даже пикантно. Но чёрт меня подери, если с самого начала я не учуял в ней родную кровь! А как же иначе объяснить, что выбрал я именно её и что в плотском смысле она меня не привлекала.
В моем щекотливом положении это все был, конечно, плюс. Но а минус, минус-то, что родная племянница — блядь! И никуда от этого не деться: от стыда я был готов провалиться сквозь землю. А что делать? А делать нечего. «Одевайся», — только и буркнул, хотя буркнул не зло, а по-доброму, как дядя. Снял с крючка её платье, подал и отвернулся, пока она одевалась.
Тут мне вдруг стало неудобно, что и сам я оказался в подобном месте. И, ей-Богу, ну, не смешно ли, но захотелось мне перед нею оправдаться. Вот и говорю ей:
— Амелия, я хочу, чтоб ты знала одно: я здесь исключительно из уважения к одному моему приятелю.
— Мистеру Хикоку? — взметнула она брови вверх. — Так он завсегда здесь пропадает.
Я пожал плечами.
— Я собираюсь тебя забрать отсюда — говорю ей. — Все. С этой самой минуты ты здесь подстилкой больше не работаешь! Через неделю ты забудешь про все эти твои публичные дела, как про кошмарный сон. А не пройдет и полгода, как ты станешь самой настоящей леди!
Эта счастливая мысль пришла мне в голову прямо сейчас, пока я здесь стоял. Потому как сам я всю жизнь мечтал о приличном обществе. Что ж, мне не удалось… так, может, пусть хоть она… Вот и решил я отдать её в один из пансионов под попечительством какой-нибудь приличной старой девы. На первое время кой-какие деньжата у меня были, ну, а потом… Слыхал я от охотников за бизонами, что этот бизнес сулит куда как немалые барыши. Две-три тыщи за один сезон, с сентября по март, а потом эти ребята приезжали сюда, в Канзас-сити, и за лето умудрялись спустить все до цента на виски и женщин. Но не я, ведь у меня есть цель: вернуть Амелию обществу. В жестоких передрягах я уже потерял две семьи, и вот, кажется, обретал третью. Незадача только, что третья обреталась в публичном доме.
Но из этого дома ещё надо было выйти. При этом могли возникнуть некоторые затруднения, так что я достал свою пушку из кобуры и сунул её за пояс, как это советовал Хикок. Но потом подумал — а вдруг начнётся перестрелка, тогда шальная пуля может угодить в Амелию. Нет, лучше пустить в ход деньги. Что-что, а эта штука не должна дать осечку, когда имеешь дело с белыми людьми.
Так вот полез я за деньгами. Глядь — не могу найти, а ведь я только что отсчитал ей пять долларов. Я был уверен, что они в жилете.
— Амелия, — спрашиваю, — ты случайно не видела, куда я положил свои деньги?
До сих пор я рассказывал только про себя. Потому как это открытие насчёт нашего родства повергло, видать, её в состоянии шока: не говоря ни слова, она надела платье, а дальше только стояла молча и без конца поправляла волосы. И даже когда я вкратце сообщил ей о своем твёрдом намерении забрать её отсюда, она в ответ лишь как-то туманно улыбнулась, одними краешками губ. Но сейчас, после моего вопроса, взгляд её оживился и она говорит:
— Они, наверно, выпали и закатились под кровать. Тут я наклоняюсь, чтобы заглянуть под кровать, а она тем временем быстро распахивает дверь и порывается в неё прошмыгнуть, да вот только её старый дядюшка оказался куда проворней, чем она думала: хвать её за ногу и не пускает.
— Мне кажется, — роняю я, — понадобится немало времени, чтобы выбить из тебя дурь. А ну-ка гони мои деньжата, иначе придется их из тебя вытряхнуть.
Она достаёт пачку из причёски. Небось вытащила, пока расписывала мне про свою жисть среди мормонов да плакалась на плече, а сама тем временем шарила по карманам. Но я не стал сердиться — подумать только это ж с какой компанией ей пришлось водиться целых два года! Бедный ребёнок…
По черной лестнице мы поднялись к ней в жилую комнатушку, которая была едва ли удобней рабочей спальни. Амелия собрала свои немногие и жалкие пожитки — пудру, кой-какую одежонку — и сложила их в картонный чемоданчик; ну, а я заставил её переодеться в платье более приличное, чем этот её наряд кокотки, и, крепко взяв под руку, повел вниз — к выходу; по пути мы ещё раз прошли длинным коридором — теперь со всех клетушек доносились шум, возня и крики, а в танцевальном зале было не продохнуть — столько туда набилось нетрезвой и буйной публики — так что сразу стало ясно, с какой стати на входе отбирают пушки. Если б не это, то через час они б перестреляли друг друга, как пить дать. Тогда-то я и стал свидетелем, как этот здоровенный вышибала Гарри хорошенько вздул трёх дюжих охотников на бизонов и вышвырнул за шкирку прочь на улицу.
Так вот, сэр, доходим мы до кабинета, что у самого парадного входа, и завожу я Амелию в него Долли всё ещё находилась там, однако Бешеного Билла не было Сколько жить буду, помнить буду, значит, выходим мы, а Долли как раз переплетает кожаный ремешок арапника Ну, говорю сам себе, пусть только посмеет замахнуться на меня или Амелию, тогда всажу в неё всю обойму и не посмотрю, что женщина.
А Долли подняла глаза, улыбнулась в усики и говорит:
— Ну, как, развеялся? Может, перчик, пойдешь ещё кого возьмешь? Давай, будь молодчиной! Билли придет ещё не скоро.
— Вот что, Долли, — говорю ей. — Этого ребёнка я забираю сейчас с собой. — Мне было стыдно признаться, что с Амелией мы родственники, вот я только и ограничился предупреждением: — И не вздумай останавливать — не потерплю!
Она сначала завязала узелок на конце арапника, и — хлясь им по своей ладони, а потом уж говорит:
— А с какой стати стану я тебя останавливать? И чего ты не потерпишь? У нас тут дом терпимости!
И хрипло засмеялась, и царственной походкой вышла из кабинета и величаво поплелась сквозь толпу вдрызг пьяных посетителей куда-то в глубь борделя; толпа от неё шарахалась, рассыпалась по сторонам, образуя проход — словно это в бухту Сан-Франциско величаво входил огромный военный корабль, и мелкие посудины тикают куда попало прочь с дороги…
Привел Амелию я в ту гостиницу, где остановился сам. Дежурный за конторкой тотчас же стал ухмыляться и скалить свои гнилые зубы, но я резко поставил его на место и снял ей номер на втором этаже с моим по соседству. Мы поднялись наверх, я расстелил ей постель, понюхал воду в кувшине на туалетном столике — проверил свежая ли — дал ей свою мужскую ночную рубашку из фланели — приличной ночной сорочки у неё не было — и пожелал ей спокойной ночи, поцеловав в лоб.
Через все это она прошла покорно и словно набрала в рот воды — видать, внезапно обретя семью, от изумления никак не могла прийти в себя.
В эту ночь я долго не мог уснуть — слишком был взволнован. «Амелия Крэбб» — вот под каким именем записал я её в книгу постояльцев гостиницы. Мормонского же имени её я не знал, да и знать не хотел. Не проявлял я любопытства и к её предыдущей жизни, даже о её матери, моей сестре Сью-Энн не стал расспрашивать. Уж слишком долго я был в отрыве от своей родной семьи. Мне становилось как-то не по себе, как только я представлял их жизнь в Солт-Лейк-сити, среди этих так называемых Святых Последних Дней, жизнь, настолько непохожую на все, что мне было знакомо. Когда мы шли в гостиницу, я у Амелии спросил о моей матери, её бабушке, но она ответила, что очень жаль, но она её не помнит, из чего я сделал вывод, что мамы так или иначе нет в живых. Дело совсем не в том, что я какой-то там чурбан бесчувственный, нет, дело не в этом. Просто теперь все мои помыслы были направлены на эту несчастную девушку, и её будущее заботило меня куда больше, чем прошлое. Ведь кроме нее у меня никого не было. И я надеялся, что сумею о ней позаботиться. Тем более, что теперь не надо было опасаться ни индейцев, ни солдат американской армии. А с остальными я как-нибудь сумею сам управиться, даже с Бешеным Биллом, если на то пойдет…
На следующий день мы вышли в город, правда, довольно-таки поздно, потому как в борделе у Амелии вошло в привычку спать почти что весь белый день, и купили кой-какой одежды — и в платье, наглухо застегнутом до подбородка, с лицом ненакрашенным и чисто вымытым вы бы приняли её исключительно за девушку самого что ни на есть благородного происхождения и ни за кого другого! Была она несколько бледна, но, с другой стороны, от этого казалась ещё благородней, потому как в те годы светские дамы делали все, только б солнечные лучи не коснулись их нежной кожи.
И тут до меня дошло, что нам немедленно следует съехать из этой гостиницы, и дело совсем не в том, что эта гостиница оказалась клоповником или чем-то таким еще, нет, просто она располагалась не в самой культурной части города: к ней примыкало несколько салунов, да и перед входом вечно околачивались всякие неотесанные нахальные рожи, жевали табак и харкали табачным соком куда не попадя — к тому же кое-кто из них мог знать Амелию и раньше, по заведению Долли. Так что, чёрт меня подери, если я тут же не переехал в самый шикарный отель в Канзас-Сити, с модным газовым освещением, с плюшевой мебелью в холле, с лакеями в ливреях с роскошными, расшитыми золотом галунами, и не снял номер «люкс» — две спальни, а между ними роскошная гостиная. Стоил он, если не ошибаюсь, семь-восемь долларов за день, а то и больше. Точно не помню. Зато отлично помню, что поначалу администрация много о себе понимала и смотрела на меня свысока, но я сорил деньгами налево и направо, как будто это семечки, и очень скоро их отношение переменилось.
А вот с Амелией никаких затруднений не возникало, ибо просто поразительно, как она устремилась к новой жизни. По-моему, это её воспитание среди мормонов оказалось не таким плохим в качестве основы, а остальное дополнила природная смекалка; немало позаимствовала она из модных дамских журналов, что я ей покупал, а кое-что перенимала от великосветских дам, что проживали в апартаментах этого ж отеля: жен и дочерей сенаторов, а также генералов и крупных негоциантов. А какую походочку она себе выработала! Прямо казалось, что у неё на ногах колесики под длинными юбками. А как она брала чашку чая! Как будто птица в полете взметалась и замирала — вот какова была её грациозная ручка. Ко всему, она оказалась хорошенькой, даже красавицей, с этим её вздернутым носиком, маленьким ртом: волосы были у неё великолепные, как осенняя листва, стоило только помыть их несколько раз да сделать причёску у настоящего дамского парикмахера. От неё без ума были все мужчины в этом отеле, но прилично и учтиво: тут никто не глазел ей в глаза, широко разинув рот, не облизывал губы и, вообще, ничего подобного никто тут себе не позволял, как та неотесанная деревенщина, с которой я до сих пор только и знался.
Ну, все это влетело мне в копеечку и уже через пару-тройку дней моя пачка долларов заметно похудела и стала не толще мизинца, и это при том, что ещё не было уплачено за отель — а счёт рос с каждым часом, потому как Амелия всё время чего-нибудь да заказывала, чтобы прислали в номер. Но именно это я и задумал, потому как хотел, чтобы она пожила в уединении до тех пор, пока благородный стиль не войдет у неё в кровь и она не перестанет к себе относиться, как к падшей женщине.
Побывал я и в ряде пансионов, но до сих пор не обнаружил такого, чтоб меня устраивал. Причины были разные: в одних черствые старые девы-начальницы передо мной драли свои вострые носы и заявляли, что у них нет свободных мест на пять лет вперёд, но были, скажу вам, и другие, которые сильно напоминали мне Долли.
Но надо было где-то раздобыть ещё деньжат, и в этом плане я ничего другого не придумал, как только вернуться на Базарную площадь и сесть за покерный стол. Там каждый вечер эти охотники на бизонов и правда играли по-крупному: игра обычно начиналась за полночь, когда они возвращались из театров и борделей, и продолжалась до самого утра. Когда я сказал «по-крупному», то имел в виду, что в случае удачи можно было где-то в полшестого встать из-за стола и иметь в кармане две-три сотни долларов. Такое время меня вполне устраивало: я спокойно провожал Амелию до её спальни и, пожелав спокойной ночи, тихонько выскальзывал из номера, а, проведя за картами всю ночь напролет, успевал возвратиться до её подъема — и все шито-крыто. Мне ведь не хотелось, чтоб она узнала, что её дядюшка играет: потому как это был тот самый образ жизни, от которого я так хотел её оградить.
И надо же — в первый вечер на Базарной площади встречаю Бешеного Билла! Он сидел в своем излюбленном углу того самого салуна, где застрелил брата Строхана, и, когда я вошел, махнул мне рукой. Играл он в покер с какими-то ребятами и как раз сорвал крупный банк.
— Дружище, — говорит он мне, — я по тебе соскучился. Никогда б не подумал, что такой человек как ты, способен бежать со шлюхой.
Такие речи об Амелии мне не понравились, но чтобы спорить с толком, пришлось бы признать, что она мне родня, а делать этого мне не хотелось.
— Да, сэр, — продолжает он, — если вам так же сильно везет в карты, как в любви, то, прошу покорно, садитесь с нами! Послушайте, вы, — обратился он к человеку, сидевшему напротив, — уступите ему ваше место.
Человек этот не то чтобы был очень доволен, но просьбу поспешил выполнить. В этот момент из всех людей на свете меньше всего хотелось мне играть против Бешеного Билла. Потому как до сих пор я не успел признаться вам, что в этот вечер я собирался мухлевать. Знаю, существует масса людей, которые нечестную игру в карты считают едва ли не самым тяжким грехом на свете. Да я и сам от шулерства был не в восторге, но посчитал, что при сложившихся обстоятельствах мой случай особый и заслуживает снисхождения. По-моему, все, кто неразборчив в средствах, так говорят о попытке обелиться, но я здесь вовсе не собираюсь впадать в душеспасительные рассуждения, а тем более читать мораль, я просто рассказываю как оно было на самом деле, а было вот что: я собирался жульничать со своими противниками, как только можно. Да вот только никак не ожидал, что играть придется против Бешеного Билла.
Так что первые часа два я играл честно, и уже к двум ночи у меня осталось только последние пять долларов. И тут-то я, поразмыслив, взял себя в руки и подумал, что кроме малышки Амелии нет у меня ни одной живой души на свете. И либо я добуду денег, чтобы превратить её в добродетельную женщину, либо мы опять окажемся у разбитого корыта, и тогда не все ли равно — укокошит меня Билл или нет. И убедился я, что выбора у меня нету…
Так вот, Фрэнк Затейник, который без памяти втрескался в Кэролайн, был большим докой по части азартных игр и показал мне пару-другую хитрых трюков, с помощью которых можно было добиться перевеса. Но, честно говоря, я не настолько хорошо набил руку, чтобы достать из рукава туза — а вот настоящему виртуозу такое раз плюнуть: извлечет в мгновение ока — никто и не заметит; да и на раздаче карты подтасовать я тоже оказался неспособный. Вот и остановил свой выбор на кольце-«зеркальце». Это обычный перстень с достаточно гладкой поверхностью, начищенной до блеска в каком-нибудь месте, чтобы там отражалась нижняя сторона сдаваемой карты. Таким образом, вы были в курсе того, что у соперников на руках и, значит могли играть соответственно.
Перед этим я купил латунное кольцо, спилил плоскость в четверть дюйма на наружной поверхности довольно-таки широкой его полосы и отполировал этот участок бархаткой, участок не настолько большой, чтобы заметить невооружённым взглядом, но вполне достаточный, чтоб мне было видно. До сих пор к его помощи прибегнуть я не решался, но сейчас, когда пришла моя очередь сдавать, я потер руками о сюртук, словно вытирал пот, а на самом деле доводил до блеска своё крошечное зеркальце на внутренней стороне руки, и — пошло-поехало…
Уже очень скоро выигрыш Бешеного Быка стал таять и, кажется, часам к пяти-шести он отодвинул от себя горку последних монет и, странно улыбаясь, сказал:
— Ну, дружище, если тебе так же везет в любви, как в карты…
Слова замерли у него на губах. Он поднялся и быстро вышел из салуна на улицу, подставляя при этом все время спину, до того, видать, огорчился.
Про тех двух недотеп, с которыми мы играли — а они были из тех холуев, что считают за честь проиграть Бешеному Биллу — до сих пор я и упоминать не считал нужным. Этих жополизов, что по очереди позволяли ему каждую ночь вздувать себя, ошивалось там навалом. Теперь же, когда я сгреб свой выигрыш — а там оказалось немногим больше сотни долларов — эти типы, самодовольно усмехаясь, внимательно посмотрели на меня, потом переглянулись и один из них как бы вскользь заметил:
— Припоминаю покойного француза Хэнка, так он тоже как-то Бешеного Билла обставил в покер.
В ответ я только им усмехнулся и пошел к выходу. Все, прочь из затхлого салуна, донельзя прокуренного и провонявшегося перегаром, на свежий утренний воздух! В те времена, надо сказать, приходилось заботиться о своей репутации, а они не спускали с меня глаз, и тут я вижу, что на улице меня поджидает Хикок: цилиндр сдвинут на затылок, золотистые волосы спадают на плечи, большие пальцы красивых белых рук засунуты в нижние карманчики жилета, и по бокам торчат эти две перламутровые рукоятки. Тем временем по улице спускается какой-то человек и катит перед собой тележку; через площадь наискосок кто-то седлает мула, — мул надул бока, как они это обычно делают, чтобы расслабить ремешок подпруги, а хозяин его при помощи пинков и тычков старается затянуть этот ремешок потуже.
Так, сэр, подумал я, вот и вся недолга, сколько раз бывал за эти годы на волосок от смерти — и нате! Потому как Хикок, как пить дать, собирался продырявить меня за то, что я его облапошил, и, значит, Амелии опять придется податься в шлюхи, а мне опять повезло как утопленнику. Но отступать перед Бешеным Биллом нельзя, пусть он даже сейчас и прав. И сам не знаю почему, но хоть бояться я его и боялся, в то же время само его присутствие было для меня что красная тряпка для быка.
Вот я и шагнул через раскачивающиеся двери на крыльцо, сплюнул и говорю:
— Ты ждешь меня?
Он какую-то долгую напряжённую минуту сверлил меня этим своим хладнокровным взглядом, но потом внезапно сменяет гнев на милость и говорит:
— Идем, дружище, позавтракаем вместе.
Уже за бифштексом, яйцами и жареной картошкой Бешеный Билл сказал:
— Всякий, кто хорошо играет в покер, навроде тебя, непременно должен научиться быть с оружием на ты.
Не знаю, говорил он это с насмешкой, или серьёзно: я даже и не сообразил сразу, с какой это стати он предложил давать мне уроки за так. Но как бы там ни было, я согласился. И этим мы стали заниматься каждое утро после игры. Обычно сначала мы с ним завтракали, а потом ехали за город и упражнялись. И я понял, что несмотря на то, что столько лет ношу револьвер, а было при случае и пускал его в ход, но рядом с Хикоком я обращаюсь с оружием как самый зеленый салага.
Он мне много чего рассказывал о технических особенностях разных револьверов и прочих пушек, кобур, патронов и так далее и о тому подобном, но больше всего мы практиковались, упражняясь в прицельной стрельбе, с одной стороны, а с другой — шлифуя навыки мгновенно выхватывать оружие. Я догадался, что прежде, чем он стал брать меня с собой, он всё равно ездил сюда сам, потому что ганфайтеру, как и хорошему пианисту, требуется постоянно упражняться, чтобы не потерять беглость пальцев. А вот какие упражнения с этой целью он обычно делал: через горлышко бутылки загонял внутрь пробку, это — раз, и раскалывал ребром монеты пулю на две части — два; причём в обоих случаях с расстояния двадцать-тридцать шагов и из исходного положения — револьверы в кальсонах. Вот как это происходило: я на уровне груди держал серебряный доллар, потом ронял его, и прежде чем монета падала на землю, Билл успевал выхватить свой револьвер, выстрелить и попасть в монету, да так, что мягкий кусок свинца диаметром 0,45 дюйма, как масло ножом, разрезался на две равные половины.
Наверно, в первые свои тридцать попыток, я даже не попал в доску, на которую падала монета, а что до бутылки, то тут у меня чередовались то перелеты, то недолеты. Ну, а потом я добился того, что все время мазал на какие-то шесть дюймов, и вечно вправо от цели. Вот я и внес коррективы в свою технику ведения огня — взял левее, и в одно прекрасное утро, уже в конце первой недели, таки открыл счёт попаданиям. Было это в упражнении с долларом, а несколько попозже удалось мне и загнать пробку в бутылку — это оказалось ещё легче. Но я никак не мог уразуметь, что за прок в том, что ты лучше всех стреляешь или быстрее чем другие успеваешь обнажить оружие, если потом на деле это не применять. Вот взять, например, Бешеного Билла: единственное на что он мог сгодиться с этим своим умением, так это стать блюстителем порядка и патрулировать на улицах какого-то коровьего городка в надежде, что какой-нибудь буян окажет ему — властям — сопротивление, так что он против этого нарушителя спокойствия спокойно сможет применить оружие. Такой как он, даже не сможет стать бандитом, потому как для бандита главное разбой и грабежи, а не забавы с оружием или как в случае с Джонни Психом и его бандой, для которых все удовольствие — убить или поизмываться над беззащитным человеком. То есть, они хотят чего-то конкретного. Но быть ганфайтером, только если, конечно, серьёзно быть, — это значит быть поглощённым одной идеей. По сути это не что иное, как бесконечная проверка утверждения: Я ЗАТКНУ ТЕБЯ ЗА ПОЯС.
Наверное, это дело чести, ведь тут всё равно, какого ты размера или веса, ведь с «кольтом» в руке окажутся в одинаковых условиях и верзила и лилипут. Вся загвоздка только в том, а что это дает, если узнаешь, кто кого Шайен заткнул за этот самый пояс…
Вот о чём стал я подумывать, потому что не успел я поднатаскаться как следует в этом деле, как Хикок мне и говорит:
— Конечно, стрельба по бутылкам это ерунда. Что-либо доказать может только поединок лицом к лицу. Вот, например, я знавал отличных стрелков, которые, выйдя против человека, едва отличавшего мушку от курка, цепенели, подставлялись и умирали ни за понюшку табаку.
В покер я теперь играл ежедневно, причём всю ночь напролет, и, наверное, лишним будет говорить, что с помощью перстенька-зеркальца я уходил домой не с пустыми руками. Сейчас я уже не был настолько неосторожным, чтобы столько выигрывать за раз. После того первого вечера, который для меня мог плохо кончиться, я поубавил прыти: так если в один вечер я выигрывал двадцать долларов, а во второй — тридцать, то на третий я урезал выигрыш аж до пятнадцати зелененьких. Если же выигрыш достигал более-менее крупной суммы, скажем, в пятьдесят долларов за ночь, то я как-то пытался все это компенсировать на следующий вечер и спускал долларов эдак пять, а то и шесть. В целом я зарабатывал неплохо, но не настолько, чтобы это кололо людям глаза и вызывало подозрение, хотя, конечно, любое везенье в карты способно породить недоверие и сомнение в тех, кому не повезло. Но я со своим перстеньком действовал умело и если мои противники меня в чем-нибудь и подозревали, так это в каких-нибудь банальных трюках вроде туза в рукаве, «сдачи второй» или там подтасовке, или в крапленой карте — а в этом я был неповинен и неопытен, как малое дитя.
Потом, после игры, обычно я упражнялся в стрельбе, а потом уж возвращался в отель, где как раз успевал к подъему Амелии, к часам так около восьми. Я делал вид, что и сам лишь только встал, и мы вместе потягивали кофеек, который подавали нам в гостиную между нашими опочивальнями. Это было, правда, великолепно и ей, как мне кажется, нисколько не приелась эта новая жизнь, чего, честно говоря, поначалу я боялся; и мне она, такая жизнь, была по средствам, так что остаток утра мы коротали, расхаживая по дорогим дамским магазинам, где она накупала платьев, туфелек и шляпок, а потом днём обычно нанимали экипаж и разъезжали в нем, либо же бродили по аллеям парков, а как наставал вечер, то время проводили ещё более благородно: были в концертах всяких там пианистов или скрипачей, на вечерах декламации и тому подобном.
А в промежутке между всем этим и едой я изощрялся малость подремать; но мне тогда немного надо было. Мне было 29 лет. Я был в расцвете сил. У меня было чьим перевоспитанием заняться и у меня было кого обирать, я был знаком с Бешеным Биллом, я недурно зарабатывал, отменно ел, шикарно одевался.
Но главным была всё же моя любовь к Амелии. Для нее чего бы только я ни сделал. Она превращалась в такую светскую даму, что очень скоро, как мне кажется, я мог бы привести её в заведение Долли и никто бы там ни за что на свете её не признал. И дело не только в шикарных шмотках, а прежде всего в том, что она из картинок в журналах да наблюдая за светскими женщинами в лучших местах Канзас-Сити, куда я водил её, переняла самый элегантный способ как себя держать. Ну, прежде всего у неё была тонкая, изящная, как тростинка, шейка, и теперь она несла свою голову с великолепной копной рыжеватых волос, прелестно и хитроумно уложенных с помощью черепаховых шпилек и янтарных заколок подобно дивному птичьему гнезду над мраморной колонной.
— Дядя Джек, — обычно говорила, она, подойдя к двери своей комнаты, перед тем, как мы собирались выйти из отеля, — что ты хочешь, чтобы я сегодня вечером надела: пальто, баску или сак?
Это все были виды женского верхнего платья, что тогда носили. Ну, я не сильно отличал их одно от другого, но так как мне было лестно, что у меня спрашивают, то я делал свой выбор и она ему подчинялась, потому что она все своё удовольствие видела в том, чтобы угодить и сделать мне приятное.
Ну, раз уж вы знаете, как она относилась ко мне, так знайте же и о моем отношении к ней: я получал истинное удовольствие от всего, что бы она ни делала — потому как все она делала тонко и изящно; а голос её, который, пожалуй, звучал как-то визгливо, когда она находилась у Долли, теперь стал прекрасен, как журчанье ручейка в папоротниковых зарослях в полуденный зной. Я получал огромное удовольствие просто от того, что смотрел, как она ест, скажем, суп. До чего же она была благовоспитан а, вы только послушайте! Так, она никогда не разевала рот, когда жевала, не чавкала, не стучала ложкой по тарелке; она до того неслышно ела суп, что стоило закрыть глаза и ни в жизнь не догадаться, чем она занята.
И до всего этого она дошла сама, да и, честное слово, какой из меня может быть учитель по части приличных манер? Впрочем, когда я жил у миссис Пендрейк, то, по крайней мере, кой-чему научился: я научился определять ценности жизни и, насколько это в моих силах, смог бы поддерживать Амелию, когда она на верном пути, а это означало, что мне приходилось буквально лезть из шкуры вон, чтобы деньги плыли рекой, что в свою очередь заставляло меня за карточным столом играть нечестно.
И это возвращало меня в общество Бешеного Билла. Играть против него я не хотел, и в отдельные вечера мне удавалось улизнуть от него. Но тогда он ходил из салуна в салун и искал меня, а когда находил, то сгонял кого-нибудь из моих партнеров, садился вместо него и начинал проигрывать по новой. Это было подозрительно, слишком подозрительно, на мой взгляд, но стоило ему оказаться за нашим столом, как я тут же убирал свой перстенек — хотя старался наилучшим образом использовать его до появления Билла, так, чтобы вечер прошел не зря.
Так вот, что мне давал этот перстенек? Лучше карта, чем соседу? О, нет, но благодаря ему я знал, что на руках у соседа, правда, только при своей раздаче; а это не так уже нечестно, чем, скажем, вытащить из рукава спрятанную карту, однако, определённое искусство всё же требовалось, но только везение определяло, кому придут какие карты. Не могу сказать, чтобы от того, что я использовал «зеркальце», мне фартило больше или, наоборот, меньше. Но вот что удивительно: всякий раз как Билл садился рядом и я отказывался от услуг своего крошечного зеркальца и играл честно — мне начинало неудержимо и фантастически везти! Флеши, стриты, тройки, пары так и шли как по мановению волшебной палочки. Билл упрямо продолжал играть. И всякий раз после игры мы завтракали, а потом отправлялись на наше стрельбище; и если не считать того удивительного выражения, которое застывало у него на лице, как только я срывал свой первый банк за вечер, и которое так и не пропадало до тех пор, пока я не покидал салуна, чтобы встретиться с ним у входа — он по-прежнему уходил первым — то на лице его больше ничего не отражалось, ничего такого, что можно было бы назвать дурным настроением, неприязнью, завистью или подозрительностью.
Что до уроков стрельбы, то, по-моему, они нужны ему были, чтобы восполнять чувство собственного достоинства, напоминая мне сразу же после конца нашего вечера за покерным столом, что, несмотря на то что в карты я его вздул, ему нет равных в другой более серьёзной и азартной игре, где ставки — жизнь и смерть, потому что, хоть и стреляли мы по пробкам да монетам, но нельзя было отрицать, что у них, как и у человеческого глаза, примерно одинаковый диаметр. Впрочем, не сомневаюсь, что когда Бешеный Билл выходил на поединок лицом к лицу, то он смотрел в глаза противника, словно то были пробки.
Я стрелял по этим неодушевленным предметам, и, правда, успешно овладел оружием, и я был быстр. Хотя сама по себе скорость не столь важна, как меткость, потому что, как говорил Билл, главное — это послать пулю туда, куда хочешь, чтоб она попала. Так, он видывал до того прытких, что ухитрялись сделать три выстрела, прежде чем неторопливый сделает один; но эти три скоропалительных приходились мимо, в то время как неторопливый поражал шустряка прямо на месте насмерть. Потому как, объяснял он, тут уж все зависит от личности: в каждом отдельном случае все решает один точный выстрел, и не так уж важно, был он сделан молниеносно или неторопливо. И в зависимости от того, насколько вам это удалось, вы или убили сами или убили вас. А раз уж вы решились стрелять в человека, то разум ваш отключается, а воля, тело и револьвер сливаются в единое орудие с одной единственной целью. Словно револьвер — это продолжение вашей руки, а ваш палец извергает дым и свинец. По сути вот в чем состоит прицеливание как технический приём: это словно вы тычете пальцем, когда желаете подчеркнуть ваш довод в споре. А раз так, то любой человек по природе своей меток: обрати внимание, говорил он, как-нибудь во время словесной перепалки, что если б палец твоего оппонента оказался «кольтом», то тебе тогда б не повезло — тотчас бы стал мертвяком. И вот однажды утром мы с Биллом установили две одинаковых доски, в щелях которых торчало по одинаковой монете, отошли шагов на двадцать и выстрелили, и оба эти наши выстрела слились в единый залп. И наши пули ребрами монет рассекло пополам.
— Дружище, — говорит Хикок, смерив меня взглядом — смотрел он сверху вниз сквозь свой огромный нос и пышные усы, — ну вот я и научил тебя всему, чему здесь можно научиться. А остальные уроки можно получить только от живой мишени, причём, заметь — стреляющей в ответ.
— Поди это случайно вышло, — говорю я. — Мне просто повезло.
И это не было рисовкой. Этот фокус он мог повторять раз сто подряд на дню, в то время как я знал: у меня это выйдет, ну, скажем, два раза из пяти, не больше — себя ведь знаешь и выше головы не прыгнешь. И потом я чувствую, что он, конечно, действовал не со всей быстротой, на которую был способен.
— В случайность я не верю, — сухо отрезал он и голос его прозвучал резко, как щелчок бича.
У Бешеного Билла, то есть, Билла Хикока, хватало и заклятых врагов, и преданных друзей. Стоило только где-нибудь в Канзасе в семидесятые годы хотя бы вскользь упомянуть его имя, как на него живо реагировали в ту или иную сторону и, должно быть, в спорах о нем было убито нами больше человек, чем он убил сам. Встречались и такие люди, что, полагаю, чисто из зависти на все лады склоняли его имя, и при этом упорно повторяли, что стрелок он не ахти какой, да ко всему ещё и заячья душонка, хотя, конечно, порядочно было и таких, что ему приписывали самые невероятные деяния и подвиги. Но несмотря на всю эту шумиху вокруг него, я осмеливаюсь предложить вам свои собственные впечатления от встреч с этим незаурядным человеком в Канзас-сити в 1871 году. Конечно, в тот период он занимался не только этим, он даже в покер, и то играл ещё с другими и выигрывал, кстати. Но я рассказываю только то, что знаю лично. И когда я пытаюсь понять, что он за человек, когда я взвешиваю все за и против, то все его плюсы и минусы как-то уравновешиваются, и не выходит он у меня ни чистой цацей, ни чистой бякой. Так, он обучил меня классно стрелять из револьвера. Однако, не повстречайся он мне на жизненном пути, я скорей всего прекрасно обошелся бы без этого умения, без которого можно было прекрасно обойтись, как это вам и ни покажется странным, для того чтобы прекрасно уцелеть на Диком Западе. Или вот возьмите для примера инцидент с братом Строхана: не владей Бешеный Билл мастерски оружием, он бы погиб, но ведь и не будь он ганфайтером, то и брат Строхана не стал бы за ним охотиться. Так что же Шайен Хикок сделал для меня на самом деле? Показал мне, как лучше всего сохранить башку на плечах? Нет, скорее преподнес мне новый способ, как ею рисковать.
Видать потому, когда эти уроки подошли к концу, я испытал странное облегчение, и мне как-то сразу поверилось, что за покерным столиком нам с ним больше не встретиться. Так и было вечер или два, а тут ещё один парень рассказал мне, что Хикоку предложили место маршала в Абилине — это один из тех новых городков на Западе, куда техасцы пригоняют скот для отправки на восток и где после перегона ковбои получали расчёт, и, словно с цепи сорвавшись, пускались в разгул, пока было на что: пили, шлялись по борделям, палили из оружия, и как раз незадолго перед этим прихлопнули тогдашнего маршала Тома Смита, по прозвищу Задери Медведя, который обеспечивал порядок, обходясь одними кулаками. И вот теперь Абилин желал иметь на этом месте самого что ни на есть лучшего стрелка.
— Как думаешь, согласится? — спросил я.
— Ясное дело, — ответил тот парень. — Оно ведь после брата Строхана он уже давно никого не убивал.
Это было типичное мнение о Хикоке. Ему, мол, по нраву отправлять людей на тот свет. Так думали многие из тех, кто им восхищался, потому как в любом обществе (разумеется, белых) всегда немало таких, кто где-то в глубине души подумывает об умышленном убийстве, да вот только себя считает слишком слабым, чтобы совершить его на самом деле — вот и подставляют вместо себя человека навроде Хикока. Любому Шайену убийство доставляет удовольствие, но не Бешеному Биллу — к этому он совершенно безразличен. Так, на труп брата Строхана он едва взглянул, и то лишь только, чтобы проверить, не может ли этот труп выстрелить ещё раз. Не думаю, чтобы Хикоку вообще что-нибудь нравилось. Ведь для него жизнь заключалась в том, чтобы делать то, что нужно, всякий раз соразмеряя свои действия с тем единственным, точным выстрелом. Он был что называется идеалист.
Правда, через день или два оказалось, что я ошибся, предполагая, что Хикок уехал, потому что едва мы сели играть, как ввалилась в салун его здоровенная фигура. Он сделал шаг в сторону, чтобы в дверном проеме не маячила его могучая спина, пока по привычке, оценивающим взглядом он озирал зал. Одет он был в новый костюм: уже не в сюртук, а в замечательную замшевую куртку, доходившую едва до колен, с воротником и манжетами, отороченными мехом; внизу у этой куртки свисала бахрома с ладонь длиной. Перепоясан он был кушаком красного шелка с кисточками от узлов на поверилось, что за покерным столиком нам с ним больше не встретиться. Так и было вечер или два, а тут ещё один парень рассказал мне, что Хикоку предложили место маршала в Абилине — это один из тех новых городков на Западе, куда техасцы пригоняют скот для отправки на восток и где после перегона ковбои получали расчёт, и, словно с цепи сорвавшись, пускались в разгул, пока было на что: пили, шлялись по борделям, палили из оружия, и как раз незадолго перед этим прихлопнули тогдашнего маршала Тома Смита, по прозвищу Задери Медведя, который обеспечивал порядок, обходясь одними кулаками. И вот теперь Абилин желал иметь на этом месте самого что ни на есть лучшего стрелка.
— Как думаешь, согласится? — спросил я.
— Ясное дело, — ответил тот парень. — Оно ведь после брата Строхана он уже давно никого не убивал.
Это было типичное мнение о Хикоке. Ему, мол, по нраву отправлять людей на тот свет. Так думали многие из тех, кто им восхищался, потому как в любом обществе (разумеется, белых) всегда немало таких, кто где-то в глубине души подумывает об умышленном убийстве, да вот только себя считает слишком слабым, чтобы совершить его на самом деле — вот и подставляют вместо себя человека навроде Хикока. Любому Шайену убийство доставляет удовольствие, но не Бешеному Биллу — к этому он совершенно безразличен. Так, на труп брата Строхана он едва взглянул, и то лишь только, чтобы проверить, не может ли этот труп выстрелить ещё раз. Не думаю, чтобы Хикоку вообще что-нибудь нравилось. Ведь для него жизнь заключалась в том, чтобы делать то, что нужно, всякий раз соразмеряя свои действия с тем единственным, точным выстрелом. Он был что называется идеалист.
Правда, через день или два оказалось, что я ошибся, предполагая, что Хикок уехал, потому что едва мы сели играть, как ввалилась в салун его здоровенная фигура. Он сделал шаг в сторону, чтобы в дверном проеме не маячила его могучая спина, пока по привычке, оценивающим взглядом он озирал зал. Одет он был в новый костюм: уже не в сюртук, а в замечательную замшевую куртку, доходившую едва до колен, с воротником и манжетами, отороченными мехом; внизу у этой куртки свисала бахрома с ладонь длиной. Перепоясан он был кушаком красного шелка с кисточками от узлов на концах. А из-за кушака по бокам торчали его шестизарядные «кольты», рукоятками слоновой кости вперёд. Я сразу понял: он ищет меня. Спрятаться некуда, вот я и окликнул его. Он подошел и сел играть; и ясное дело в течение всей ночи я как всегда выигрывал, причём, совершенно честно, не пользуясь кольцом, а уже на рассвете он вскрыл меня, поставив сотенную и показал мне тузовый фуль.
Я же ему отвечаю:
— У меня две пары.
Видеть довольную ухмылку на лице Билла было в диковинку, но сейчас именно это он и делал, пощипывая кончики пышных усов.
— Ну, наконец-то вышло, — восклицает он облегченно.
И тут я выдаю:
— Две пары. Обе дамы.
И всё же он, как и прежде, улыбался, когда придвинул деньги на мою половину — сейчас я выиграл у него как никогда много, а он хоть бы хны — даже затеял шуточный разговор с другими, а потом вслед за ними вышел из салуна. Не знаю, как это меня угораздило разыграть эту комедию — поиграться с ним как кошка с мышкой, дать ему на какую-то секунду подумать, что вот он наконец-то обул меня. Это было, конечно, нехорошо — но вышло у меня это как-то подсознательно. Ведь не я первый и не я последний затеял подтрунивать над человеком, который столь откровенно выставил свою слабину.
Наконец и сам я ухожу из салуна, ухожу последним, и бармен, зевая, желает мне спокойной ночи. Я выхожу на крыльцо и, понятно, вижу Бешеного Билла: стоит посередине улицы на расстоянии двадцати шагов. Я подумал: вот она та самая дальновидность, с которой практиковались мы в стрельбе, потому как если так много упражняешься, то взгляд твой такое машинально подмечает…
Я говорю:
— Билл, ты не хочешь пойти позавтракать?
Он отвечает:
— Нет.
Я спускаюсь лестницей на улицу, а он отходит на такое же количество шагов, и руки у него свободно свисают по бокам.
Я спрашиваю:
— Случилось что?
— Да, — говорит он, — ты шулер, мошенничаешь в карты.
— Нет, что ты! — говорю я, — Может, только когда играли мы в первый раз, но с тех пор больше ни разу, клянусь. И я верну все, что тогда выиграл.
— Не вздумай лезть в карман, — предупреждает он.
— Но ты же видишь, что пушка вот, — показываю я, — у меня за поясом.
— А может, у тебя в жилете спрятан «Дерринджер»?
— Клянусь, Билл, никакого «Дерринджера» нет. — И скажу вам одну удивительную вещь: я его сейчас совсем не боялся, а вот он, мне кажется, меня Шайен побаивался. Нет, не боялся я Бешеного Билла, я ведь не собирался с ним стреляться. А что касается его, то едва ли он сильно опасался, что я способен с ним тягаться в обращеньи с пушкой. Нет, он страшился вероломства, коварного предательства, выстрела в спину, особенно теперь, когда я признал, что однажды играл с ним нечестно. В те времена признаться в чем-нибудь подобном, даже будучи пойманным за руку, решался мало кто.
— А хочешь, доставай его, — говорит он кивая на мой револьвер.
— Нет, не хочу, — отвечаю.
— Чёрт побери, — говорит он. — Я же научил тебя всему, чего умею! Ты же сам видел, что стреляешь не хуже. Все ведь честно, верно?
Я ничего не ответил.
— Что, разве нет? — повторил он свой вопрос, едва ли меня не умоляя. — Вот что, дружище, никто ещё не смог играть как шулер с Бешеным Биллом. А если тебе нужны были деньги, стоило только попросить.
— Я уже сказал, что с тобой никогда не мухлевал. Кроме одного раза…
— Тогда, — говорил он, — ты, приятель, ко всему ещё и лжец. А Бешеному Биллу никто никогда не лжет.
А теперь следует отметить два момента в этой нашей Словесной перепалке. Первый — о себе он говорил как будто он целая организация или там департамент; ему лично плевать было с высокой горки на эти мои предполагаемые оскорбления, но он не мог допустить такого безответственного обращения с благородной фирмой «Бешеный Билл Хикок Инкорпорейтид». Знаете, это как если бы говорить «Ваша честь», имея в виду высокий суд, а не какое-то конкретное истасканное лицо.
А второй момент вот какой. Он говорил все резче и оскорбительней, добавив к слову «шулер» ещё и «лжец», причём, оба эти слова в те времена на Западе были смертельным оскорблением, хотя со временем, кажется, они несколько подутратили эту свою крепость. По-моему, так, слово за слово, и он дошел бы до «сукиного сына», а это уже было выше всякой меры, ну, разве «конокрад» тогда было не менее поносным, а, может, даже пообидней, но тут оно было — пришей кобыле хвост. И если вас при всем честном народе обзывали каким-нибудь из этих слов, то вы это не могли просто так оставить — такое оскорбление смывалось только кровью.
Однако на улице, к моему счастью, ещё не было ни одной живой души, так что стать свидетелем моего позора при ярком свете белого дня было некому. Другие игроки уже скрылись за углом, а бармен ушел через чёрный ход, проулком.
Но в любой момент мог кто-нибудь возникнуть так, что ещё до этого я должен был сделать выбор: либо быстрая смерть, либо на всю жизнь бесчестие. Кажется, я понятно выразился, что драться с Бешеным Биллом не собирался. Но, с другой стороны, мне не хотелось, чтоб о моем отказе стало известно всем. Если об этом узнают, то все — в покер мне больше не играть. И дело не только в том, что скоро все узнают, что я мухлюю, но и потому что станут считать меня трусом, которому впредь можно садиться на голову и которым безнаказанно можно помыкать. Последнее и правда было страшно, потому как в те времена шулера были не в редкость. Мухлевать пытались все, все кому не лень — просто я был ловчее других. Оно ведь и сам Хикок иногда за покером украдкой смотрел снос. Конечно, так не узнаешь, что у кого на руках, но видеть, что в сносе, — это уже немало. Вот почему тогдашние правила доходили аж до того, что если кого за этим делом схватят за руку, то ему уже не сносить головы. Да только Хикок-то играл обычно в карты с теми, кто сам его боялся как огня.
Так что морали он придерживался не больше меня, но, что меня совсем уж возмущало, это то, что он заговорил о честности, не имея ни малейшего понятия о том, как я его вожу за нос. Если можно так сказать, он обвинял меня в убийстве, не имея в знак доказательства трупа. И говорю вам об этом только потому, чтоб вы не судили меня слишком строго, когда услышите, что было дальше…
В следующую минуту я вдруг вижу, как навстречу по улице катит фургон — все ещё слишком далеко, чтобы возница понял, какая тут у нас каша заварилась, но ещё чуть-чуть, и он будет рядом.
Я сместился так, чтоб от Бешеного Билла быть на запад, то есть, чтоб солнце оказалось прямо у него над головой, то есть, било прямо мне в глаза. При других обстоятельствах я бы просто опустил поля своей широкополой шляпы, но сейчас, оказавшись лицом к лицу с таким человеком, как Хикок, нельзя было сделать даже самое невинное движение.
Вот я и щурился.
— Так, значит, ты утверждаешь, что я шулер? — переспрашиваю у него.
— Да, утверждаю, — говорит он.
— И лжец?
— Да. Лжец. Тогда я говорю:
— Позволь опустить поля шляпы. Ясное дело — левой рукой. Солнце бьет прямо в глаза.
— Сделай милость, но только потихоньку, — разрешает он и при этом сует большие пальцы за пояс — как раз перед белыми рукоятками «Кольтов».
Моя левая рука медленно-медленно поползла вверх, словно гусеница по стене, на ширину пальца надвинула шляпу на лоб. Потом я выворачиваю руку ладонью от себя и резко разжимаю пальцы. А сам же тем временем правой — хвать пушку.
Какую-то долю секунды я не знал, что делает Бешеный Билл — если помните, не кто иной как он научил меня во время поединка сосредотачиваться на самом себе. Поэтому не скажу, чтоб хорошо видел, как он обнажил оружие, зато уж видел яснее ясного, как дуло его «Кольта» изрыгнуло прямо в меня свинец и дым.
Глава 22. ШАРЛАТАНЫ
Тут бы мне и крышка, не пойди я на хитрость. Так вот, ловлю я солнечный лучик своим волшебным перстеньком и посылаю зайчика прямо Хикоку в глаза, а сам тем временем валюсь на землю. Он ослеплен, причём внезапно, но действует как всегда молниеносно и дважды бабахает точь-в-точь туда, где всего лишь какой-то миг тому назад была моя голова. Думаю, какую-то минуту он ничего перед собой не видит — только плывут у него перед глазами зеленые круги, потому что далее он опускает свой «Кольт» и стоит себе, не может проморгаться. И вид у него, как я припоминаю, прямо-таки жалкий, и это при всех его шести футах, затянутых в кожу, да ещё с меховой оторочкой.
А я, целый, невредимый и в полной безопасности, лежу себе на земле под его огнем и в ус себе не дую. Но лежу себе тихо, не осмеливаясь и рта раскрыть, иначе ему тогда раз плюнуть пальнуть на звук моего голоса. Мой же револьвер у меня, и в этот момент я мог бы запросто укокошить великого Бешеного Билла, тем самым войдя в историю.
Ну, на самом-то деле тишина стояла не дольше, чем пальба, потому что тут Билл и говорит:
— Ладно, дружище, опять твоя взяла. Давай стреляй, ну…
Я молчу.
— Говорю тебе, давай стреляй, а то ведь и я стрельну!
А тот паренек на фургоне прижался к обочине еще за пару кварталов и забился под свою телегу, как мышка. Парочка выстрелов в те дни вряд ли кого подняла бы с постели, тем более в такую рань, так что кроме этого парня, насколько мне известно, никто нас не видел.
— Ты что, хочешь сделать из меня посмешище? — возмущается Билл, приходя прямо-таки в бешенство, и посылает ещё три куска свинца — как раз туда, где я, по его мнению, должен был находиться; завершилась его пальба молниеносной «пограничной сменой», когда пушка из левой руки перелетела в правую, чуть не столкнувшись в воздухе со своей товаркой, совершавшей обратный перелет. Эффектный трюк, на который способен лишь настоящий профессионал.
Теперь, видать, он малость оклемался и разглядел, что я валяюсь на земле — подходит ко мне, поддевает носком сапога и говорит:
— Ага, так Шайен я в тебя попал! — Он принял меня за раненого или мёртвого. А я ни гу-гу и глаза закрыты. — Извини, дружище, — говорит он, — но ведь все было честно, не так ли? Я же тебя учил… Ладно, давай-ка снесу тебя к этому коновалу, пускай послушает, а если он скажет, что ты труп, так я тебя похороню по первому разряду, будь покоен.
По всем расчётам ему уже давно было пора сунуть пушку в кобуру, и едва он нагнулся поднять меня, я возвращаюсь к жизни и — тик — дуло ему прямо под нос.
— Ну что, съел? — спрашиваю. — Да за это время я мог бы хлопнуть тебя раз пять, не меньше.
С его образом жизни расходовать энергию на удивление — это уже было слишком. Он только покосился и медленно попятился, поднимая при этом руки вверх… Затем точно так же медленно опустил их вниз и неожиданно расхохотался.
— Старина, — говорит он сквозь смех, — ну, ты даешь! Большего пройдохи я в жизни не встречал! Знаешь, а ведь не одна сотня человек отдала бы все, что у них есть, за единственную возможность вот так пальнуть без помех в Бешеного Билла! Что ж ты так…
Он смеялся, но думаю, что где-то в глубине души Билл крепко обиделся, ведь было задето его самолюбие, а уж чего-чего, но самолюбия у него было в избытке. Боюсь, ему больше бы понравилось, если бы я его убил, чем видеть такое безразличие к своей знаменитой персоне со стороны такой заурядной персоны как я. Но его шкура меня ничуть не интересовала — меня больше беспокоила судьба своей собственной.
Тут он ещё раз попытался намекнуть на значительность своей персоны и говорит:
— Теперь, небось, пойдешь трезвонить, как ты обскакал самого Билла Хикока?
А я ему:
— И не пикну.
Как видите, я слово сдержал и до сих пор рта не раскрыл.
Вообще-то за рекламу, как известно, надо платить. А то ведь с этими патлатыми красавцами типа него да Кастера что получается — не столько огня, сколько дыма, только и слышно: «а ля Кастер» или «а ля Хикок»… И все задарма, тьфу!
От огорчения у него даже усы поникли, но он снова расхохотался, чтобы показать мне своё дружеское расположение, и говорит:
— Знаешь, я тут еду маршалом в Абелин… И если ты, старина, когда-нибудь окажешься в тех краях, буду рад пропустить с тобой стаканчик-другой: само собой, ставлю я… Но провалиться мне на этом самом месте, в покер, чёрт подери, я с тобой не сяду!
Он пожал мне руку. Не помню, говорил ли я, что ладошка-то у него, как для мужчины такой комплекции, была миниатюрной, да и нога, кстати, тоже — не больше моей.
Бешеный Билл повернулся и, не теряя достоинства, побрел по улице, прямой, как палка, и только патлы по плечам — хлоп, хлоп, хлоп… Да ещё эта его курточка до колен — длинноногая девчонка, да и только!
В Канзас-сити я проваландался все лето семьдесят первого. И на жизнь себе и Амелии по-прежнему зарабатывал за покерным столом. Ну, разумеется, по-прежнему мухлевал, не без того… Пару раз был схвачен за руку… А однажды какой-то нервный джентльмен пульнул мне в ягодицу, но пистолетик, будучи дамским, большого урона мне, слава Богу, не нанес, так что вскоре я опять занял своё место за столом… В другой раз ещё один нервный джентльмен погнался за мной с ножиком — пришлось его слегка подстрелить в руку, чтоб не так резво бегал…
Как бы там ни было, но эти незначительные кровопролития весьма заметно подмочили мою репутацию, и теперь уже затащить кого-нибудь за свой стол становилось все труднее, а если это и удавалось, то с меня не спускали глаз.
Так что белая полоса везения сначала покрылась кое-где бледно-серыми крапинками, потом эти крапинки начали неумолимо расплываться в жирные пятна, белые просветы между которыми становились все уже и уже…
Выпадало мне и посидеть когда-никогда за столиком в одной компании с активно практикующими доками кровопускательных наук, независимо и гордо носящими такие печально известные имена как Джек Галахер или, скажем, Билли Джонсон; они как раз обретались в то лето в Канзас-сити. И тут уж я даже не рыпался, будьте уверены. Знаете, чем больше нюхнул пороху, тем меньше желания пропадать ни за понюшку табаку.
А карманные расходы маленькой Амелии становились все больше мне не по карману. Как-то прихожу домой в гостиницу и что же я вижу? — посреди гостиной рояль, и какой! Чистое красное дерево! А у рояля — седовласый джентльмен немецкой наружности: с бородкой и в очках, прибывший прямиком из Сент-Луиса вместе с роялем, чтобы настраивать его и давать уроки игры. А мне что же — плати?! И не только, значит, за эту фисгармонь и её доставку, а ещё и жалование этой личности, плюс ещё ейное жилье и полный пансион. А что касается этого немчуры, то в перспективе, хотя, возможно, Амелия и выучится играть сама, без его помощи, то всё равно инструмент будет требовать настройки до гробовой доски.
Я так никогда и не выяснил, жулик он или нет, но немцем он казался настоящим, и, конечно же, в своей музыке разбирался, правда, упросить этого типа сыграть какую-нибудь вещицу целиком, а не просто повторять без конца гаммы, было чертовски трудно. При этом он время от времени доставал набор настроечных инструментов и колдовал над струнами и молоточками.
Счёт за всё это достигал четырехзначной цифры; точной суммы не упомню, потому что когда я этот счет увидел, то у меня аж в глазах потемнело. Но всё же, когда я пришёл в себя, то испытал даже что-то вроде гордости за Амелию и её начинания. Кажется, она просто добыла адрес фирмы по производству роялей и на почтовой бумаге гостиницы отправила туда письмо с просьбой прислать ей самый лучший, и, видит Бог, они ей его отправили — даже не проверив банковский счёт! — на судне из Сент-Луиса вместе с немцем.
Но, к счастью, попутчику рояля было всё равно, где и как он живет — настолько фанатично он был предан музыке, поэтому я разместил его на койке-раскладушке в уголке моей спальни, и это вполне его устроило, а сидел он на одной колбасе и чёрном хлебе, если вообще вспоминал о еде, так что хоть на нем я малость сэкономил.
Однако надо признать, что Амелия так и не выучилась как следует играть на пианине. И это было единственное, что у неё выходило из рук вон плохо: честно говоря, от её игры впечатление было такое, будто по клавишам разгуливает кошка. Учителя обычно это приводило просто в бешенство — он негодовал, рвал на себе волосы и бороду, вопил как резаный, а однажды, помнится, когда Амелия в девяносто девятый раз приступила к какой-то пьеске, всякий раз спотыкаясь в одном и том же месте, немец разрыдался как ребёнок.
А через пару месяцев Амелия подходит ко мне и спрашивает: «Дядя Джек, не возражаешь, если я пианино отошлю назад? Оно на меня нагоняет ипохондрию».
Вот каким слогом она теперь заговорила, ну, прямо вылитая англичанка, как пить дать, сузила губки, а слова посылает через нос. Да чего там — высший класс!
Конечно, я соглашаюсь, потому что желаю девочке счастья, — и вот, значит, покупаю немцу билет, ковригу хлеба и ломоть сыра, нанимаю каких-то босяков перенести инструмент из номера на борт судна, отплывающего в Сент-Луис… Но случилось так, что это судно пустилось наперегонки с другим, что бывало тогда частенько, и разогналось до того, что его котлы взорвались, и оно сгорело к едрёной фене по самую ватерлинию, а вместе с ним сгорел и рояль ясным пламенем.
Но я за этот инструмент по-прежнему оставался должен долларов эдак 930 и то и дело получал послания на сей счёт, полные хамских угроз. Потом в один прекрасный день ко мне нагрянули нудные такие господа в котелках и давай совать под нос всякие бумажки — мол, незаконное владение, лишить права собственности и все такое прочее. Но когда до них дошло, что взять-то с меня им нечего, они решили упечь меня в каталажку. Ан не тут-то было: я нанял одного законника, и этот писака состряпал какой-то договор, по которому я был обязан выплачивать им каждую неделю по пятьдесят долларов по гроб жизни, после чего эти зануды успокоились окончательно, а мне этот договор стал в пару сотен долларов, которые я заплатил законнику за труды.
И все это в то самое время, когда я не мог никого затащить за свой карточный стол, чёрт подери! Стоит ли говорить, что неоплаченная сумма по гостиничному счёту выросла до умопомрачения, а из магазинов готового платья ежедневно донимали требованиями немедленной оплаты нарядов Амелии, кроме того я задолжал парикмахеру, в конюшне и в двух ресторанчиках… Плюс ко всему Амелию заклинило на мысли продолжить музыкальные занятия — так что вскоре место немца и его рояля заняла огромная грудастая бабища, до того грудастая, что даже Долли рядом с ней показалась бы чахоточной плоскодонкой! Она обучала пению и, как сама говорила, была чистокровной итальянкой и совсем недавно распевала, ежели ей верить, в опере какого-то города там, у них, в Италии… В Майлане, что ли?.. Звали её синьорина Кармелла. Пела она ничего себе, так что вполне возможно, что все её слова были правдой. Стоило ей ноддать пару и пустить трель, как все бокалы у нас в комнатах начинали дребезжать и трескаться, а когда она распевала гаммы, то к нам прибегали даже те постояльцы, которые жили в конце коридора на четвертом этаже. Если она не орала песни, то была обычно пьяна. Тогда она вела себя совсем тихо: укладывала свою тушу на диван и отбивала своим жирным пальцем, унизанным дешевыми перстнями, такт для Амелии, затем ей это надоедало, она икала пару раз и засыпала богатырским сном. И тут-то мне приходилось выбирать: оставлять её отсыпаться — а это могло занять уйму времени, каждый час которого обходился мне в два доллара — или же растолкать эту пьянчугу. А она, не продрав глаз, всегда тискала меня в своих объятиях, принимая спьяну за какого-то своего бывшего сердечного дружка Винченцо! Амелия просто помирала со смеху.
Что же касается талантов моей дорогой племянницы по части пения, то, боюсь, они не ушли далеко от недавнего битья по клавишам, хотя в отличие от немца сеньорита Кармелла лицемерно признавала, скрепя сердце, что у девочки есть-таки искра Божья — видать, ни на минуту не забывала про своё жалованье.
Но больше всего меня поражало то, что когда Амелия разговаривала, можно было заслушаться её чистым приятным голоском, а вот пела она скорее как ворона, чем как жаворонок… Да, видать, разговор и пение — вещи разные и сравнивать их не стоит. Я, конечно, чтобы не огорчать девочку, ничего поперек по части её занятий не говорил, даже нахваливал иногда, но вот Кармелла… Она явно хватила через край, когда в один прекрасный день они с моей племянницей дуэтом заявили, что Амелия вполне обучена и пора снять зал для её сольного концерта. Тут уж я взвился на дыбы: уж очень мне не хотелось, чтобы мою малышку после первой же песни растерзала разъяренная толпа, а что будет именно так, я не сомневался ни на секунду — разве что если бы нам удалось наскрести целый зал глухих. И я впервые отказал Амелии.
Девочка не плакала и не скандалила по поводу моего отказа, нет, она просто тихонько слегла и несколько дней ничего не ела, а когда я входил к ней в комнату, она лишь печально и кротко улыбалась, а её бледные ручки неподвижно лежали при этом поверх покрывала, и я видел, что она скорее заморит себя, нежели откажется от этой затеи, потому как в жилах её текла кровь Крэббов. Так что я в конце концов сдался.
И вот снимаю я в каком-то доме зал, печатаю программки, подряжаю мальчишек раздать билеты задаром и в лучшей части города — продавать их и пытаться не стоило — а вечером заряжаю двустволку и на всякий случай сажусь на самом видном месте, перед всеми… Но беспокоился я зря — зрителей было всего шестеро, что оказалось не так уж и важно, потому что малышка Амелия настолько волновалась, что едва могла разглядеть зал, а про то, чтобы сосчитать зрителей и речи быть не могло. Что же до синьорины, которая подрядилась аккомпанировать ей на фисгармонии, так она до того налакалась, что не один раз грохалась со своего круглого стульчика, так что если с чем и возникали сложности, так это только с тем, чтобы взгромоздить её на место. Так что всем нам было не до публики. Хвалебный отзыв в газетах стоил мне, насколько я припоминаю, всего пять долларов — в те времена много платить журналистам было не принято. Но по дешевке я смог устроить только это.
А к старым долгам прибавились новые: за зал, за аренду этой чертовой фисгармонии, за программки и, разумеется, синьорине за услуги. Да, чуть не забыл, ещё за круглый стульчик, который эта корова Шайен доломала!
Но малышка Амелия была без ума от своего концерта и, закупив десяток или два десятка экземпляров газет с тем самым отзывом, что стоил мне пятерку, раздавала их направо и налево, так что я ни о чём не жалел, хотя сумма моих долгов приняла просто чудовищные размеры.
В то время на покер уже надеяться не приходилось, так как стоял конец августа, и охотники на бизонов потянулись в прерию открывать новый промысловый сезон. Да, ещё немного — и в Канзас-сити не останется ни одного из тех, кого можно было бы просто уговорить сыграть, не говоря уже о том, чтобы сыграть со мной. Я уже стал было подумывать над тем, не заняться ли и мне бизоньим промыслом, потому что стрелок я был неплохой, и за сезон — с сентября по март — вполне мог подзаработать тысчонку-другую. Но этим надо было заниматься основательно и всерьез, то есть, для начала нужны были деньги для покупки снаряжения. Ведь если охотиться на бизонов, то не обойтись без крупнокалиберной винтовки «Шарпс» да запаса патронов к ней, да ещё фургон нужен и те твари, что его будут тянуть, потом ещё нужен шкуродер, потому как ни один уважающий себя охотник к мёртвому зверю ножом не прикоснется. Спросите — почему? А чёрт его знает… Вообще-то, хотя это и покажется вам смешным, но охотники на бизонов считают себя за белую кость и у них свой кодекс чести да ещё масса всяких условностей такого рода… А я ведь назвал только самое необходимое. Охотники, которые ходят на бизонов артелями по 10–15 человек, включая возниц и кашевара, так те берут с собой целый арсенал: после нескольких выстрелов ствол «Шарпса» накаляется, а разве есть время ждать, пока он остынет, когда стадо в любой момент может напугаться выстрелов и запаха крови?
Ну да не буду долго распространяться на эту тему. Скажу лишь только, что беде моей помог счастливый случай — встретил я благодетеля по имени Аллардайс Т. Мериуэтер. Встретился я с ним в одном из салунов Канзас-сити, куда я как-то забрел средь бела дня посидеть да поразмышлять над стаканчиком виски…
Как только я вспоминаю этого человека, так первым делом приходит на ум его манера изъясняться.
Так вот, стою я у стойки бара и тут ко мне подходит какой-то тип и произносит следующее:
— Сэр, — говорит он, — я полагаю, что вы простите мне мою прямоту, если я скажу, что уж если мы с вами — единственные джентльмены среди окружающего нас сброда, то это обстоятельство должно вызвать в нас естественное желание стать под общие знамена…
— Не понял, — перебиваю я его.
— Вот именно, — подхватывает он и называет себя.
— Крэбб… — тянет он через мгновение после того, как я представился в свою очередь. — Вы к какой ветви Крэббов принадлежите — к бостонской, филадельфийской или нью-йоркской?
Ясное дело, что принял я его за одного из тех франтов, что валом валили сюда с востока — подлечить слабые легкие или там ещё чего. Считалось, что прерии способны возвращать здоровье… И тут такое меня зло взяло: представляете, я, значит, сижу на мели и денег мне взять неоткуда, а у этого маменькиного сынка за все заплачено и разгуливает он тут у нас, словно сам чёрт ему не брат…
Ну, я и буркнул, всем своим видом показывая, что мне абсолютно наплевать, поверит он мне или же нет:
— К филадельфийской.
__ А-а-а, — закивал он. — А вот мои знакомцы из вашего рода все сплошь из бостонцев или нью-йоркцев…
Да, я ещё не рассказал, как он выглядел: спереди, кажется, нормального размера, но сзади — боров боровом. Выбрит до синевы, рот такой вялый, безвольный… А ещё масса всяких безделушек: в галстуке булавка с бриллиантом, цепочка для часов какая-то хитроумная, с фасонной чеканкой, в петлице — бутоньерка, трость с золотым набалдашником, лайковые перчатки и прочая дребедень… А возраста он был примерно моего.
— А какой университет вы закончили, — снова пристает он ко мне, — Гарвардский или Йельский?
— Первый, — отвечаю.
— Ну, а я — второй, — говорил он. — Но у меня была масса знакомых, даже, вернее, закадычных друзей в Гарварде начала шестидесятых… Ведь, судя по всему, именно в это время там учились и вы. Кстати, вы были знакомы с Монтгомери Бриэром, с Уильямом Уиплом или Бартли Платтом — все они из клуба «Индейский пудинг?» Возможно, вы знавали Честера Ларкина — он из «Мускусных быков» или Мансарда Ритча из «Кенгуру»…
— Нет, — говорю я в том же духе, — никогда не знал. Я был из «Антилопы».
— Ну тогда, сэр, — говорит он, — разрешите в связи с этим ещё раз пожать вашу руку! Лучшей рекомендации и желать невозможно! Полагаю, каждый джентльмен цивилизованного мира наслышан об избранности и аристократичности «антилоп»… Так что нет ничего удивительного в том, что я сразу же выделил вас из этой толпы: порода говорит сама за себя…
И он ещё некоторое время продолжает в том же духе. Потом мы ещё раз выпили. Мне поначалу было забавно его разыгрывать, но потом его трескотня мне наскучила, и я уже собрался было уходить, как он мне и говорит: — Сэр, ничего другого мне не остаётся, как надеяться на вашу милость… Я оказался в отчаянном положении, ибо — увы — не могу, подобно вам, похвастать нравственной чистотой… Да, я подобно тростинке, колеблемой ветром, оказался слаб перед натиском порока… Боюсь, что добрая старая фирма Мериуэтеров, которую я рано или поздно унаследую, едва ли найдёт опору в моём лице… Короче, сэр, за две недели я умудрился спустить за карточным столом те пять тысяч, что дал мне отец на целый месяц путешествия по Западу… Дать ему телеграмму, чтоб выслал ещё денег, я не решаюсь… И вот сейчас я взываю к вам как к единственному джентльмену среди всего этого сброда… Двадцать долларов, мистер Крэбб, всего двадцать долларов… Для вас это жалкие гроши, а мне они спасут жизнь!
Он смахнул со щеки набежавшую слезу.
— А взамен, Джек, — продолжал он глухо, — я вручу вам расписку, на которой будет начертано благородное имя Мериуэтеров, чье слово ценится на вес золота, а в качестве залога предложу вам… ну, хотя бы вот эту булавку!
Вся эта история меня мало взволновала, но как только речь зашла о драгоценной безделушке, сердце мое дрогнуло: Шайен человек я жалостливый, да и камень на булавке был размером не меньше как с желудь… Так что наскреб я ему требуемую сумму, пока этот простак не передумал.
— Благослови вас Господь, — торжественно произнес он, принимая деньги и протягивая мне булавку. — Надеюсь встретиться с вами при более благоприятных обстоятельствах.
У него при виде денег настолько улучшилось настроение, что парень тотчас же испарился из салуна, даже не оставив мне расписки. Впрочем, меня это вполне устраивало: сделка была что надо — такой бриллиант всего за двадцать долларов! Да я немедленно загоню его за очень даже кругленькую сумму…
Но только я начал расплачиваться с барменом, как эта булавка — хлоп — и падает на пол! Камень — вдрызг, и количество осколков не оставляет ни малейших сомнений в том, что этот бриллиант не иначе как стекло чистейшей воды.
Я тотчас выскакиваю из салуна. Глядь — а этот мерзавец трусит по улице! Я — за ним, и после непродолжительной погони (мозги у него Шайен работают быстрее, чем ноги) хватаю отпрыска славного рода за грудки, прижимаю к стене и приставляю к его печени ствол револьвера.
Он от такого неделикатного обращения поначалу покрылся холодным потом, потом принялся хватать воздух своим вялым ротиком, но довольно быстро опомнился и внаглую произносит:
— Так, значит, сэр, вы меня раскололи?
— Ага, — соглашаюсь я, — и могу запросто за это вырвать тебе глаз!
Но угрожающего тона мне хватило ненадолго — всегда питал слабость к парням, которые не теряют присутствия духа под дулом «Кольта». Так что отобрал я у него свои деньги и спрятал пушку в карман.
— Ну ты и жулик, — говорю, — прям артист какой.
— Нет, — отвечает, — вы это преувеличиваете. И вообще, до двенадцати лет я был совершенно невинен.
— И вот что удивительно, — продолжаю я, — как же тебе это удалось? Как это я не заметил, что задница твоя так и светит из штанов, что манжеты потрепаны, словно их собаки жевали… Да чего стоит одна дырка на сапоге, из-за которой ты, наверное, всю лодыжку натер чернилами! Как я этого не заметил — ума не приложу!
— Да-а-а, — протянул Аллардайс, и в голосе его звучала уязвленная гордость, — знавал я времена и получше. Нынешняя полоса невезения — явление временное… Признайтесь, что работаю я неплохо, если даже вы накололись на булавку, простите за скверный каламбур.
— Что да то да, — вынужден был признать я, — если бы я её случайно не уронил, ты бы исчез без шума.
Он тяжело вздохнул и говорит:
— Если вы не против, то я бы предпочел отправиться в участок немедленно. Понимаете, мне крайне неприятно, когда смакуют мои промахи…
— Думаю, Аллардайс, — отвечаю я, — что дело не в этом. Надуть меня ты не смог, а что касается участка, так ничто на свете не вызывает у меня такую скорбь, как зрелище потери свободы. Тюрьма — это не мой метод перевоспитания. Заблудших душ типа тебя я либо пристреливаю на месте, либо отпускаю на все четыре стороны… Слушай, как раз сейчас я ломаю голову над тем, как бы раздобыть крупную сумму. Для этого нужна хорошая идея, а идеи — это по твоей части.
Вы бы только видели, как он преобразился после моих слов! Сдвинул шляпу на затылок, принялся тростью вертеть — фу-ты, ну-ты. Даже его обшарпанность куда-то подевалась. Нет, этот парень мне положительно нравился: прирожденный артист, ему бы на сцену!
— Сэр, — говорит он эдак важно и, переложив лайковые перчатки в левую руку, тянет мне правую, — сэр, вы можете на меня рассчитывать!
Аллардайс предложил провернуть трюк с брошью. В мою задачу входило лишь пойти в определенный ювелирный магазин и купить там брошь, которую он предварительно приметил.
— Во что это обойдется? — спрашиваю я.
Он отвечает, дескать, ерунда, каких-то там три сотни долларов. И так надменно смахивает пылинки с шелковых лацканов фрака, что обыкновенный человек ни за что бы не заметил, до чего они истрепаны.
— Да если б у меня были три сотни, — говорю я, — разве я стал бы мошенничать?
— Дорогой мой Джек, — вносит ясность Аллардайс, — в таких делах всегда следует отталкиваться от желаемой цели. Если мы с тобой замахнулись на две тысячи долларов, то нет ничего проще, чем получить три сотни оборотного капитала. В числе моих способностей есть и такая, как карманные кражи, так что добыть искомую сумму за один вечер — пара пустяков… Да, я предвижу твой вопрос относительно того, что почему я, к примеру, не вытащил твой бумажник вместо того, чтобы канючить подаяние и подсовывать эту жалкую булавку? Во-о-т! — восклицает он, — вот тут-то кроется сложнейшая нравственная загадка всего этого дела! Каждый человек, уважаемый сэр, имеет чувство собственного достоинства. Так вот, я — мошенник, и я должен соблюдать кодекс чести своего ремесла, иначе я не смогу ладить с самим собой. Разумеется, я умею обчищать чужие карманы, но способен на это деяние только в интересах какой-нибудь красивой махинации, иначе мои пальцы утратят ловкость и меня тут же схватят. Брр! Предстать перед судом присяжных в роли мелкого жулика!
Аллардайс был не просто плут, он был ещё и философ! Мне кажется, что он мог бы разглагольствовать на эту тему месяца два, а то и больше, но мне срочно нужна была монета, вот я его и оборвал, предложив скорее переходить к делу, брать быка за рога. Что он и сделал, через день или два благополучно вернувшись с этими тремя сотнями, что, полагаю, подтвердило его приверженность своим принципам, ведь он мог запросто их пропить или ещё как-нибудь спустить. Но нет, жулик он был честный, если вы понимаете, что я хочу сказать.
Вот тут-то и настал мой черед действовать. Взял я эти деньги и пошел в самый шикарный ювелирный магазин под названием «Каллер и Ко», где и купил брошь, описанную Аллардайсом, ошибиться тут невозможно — была она в виде рубинового сердечка с золотым веночком, а посередке этого сердечка сверкал бриллиантик. Просили за брошь 4 сотни, но я предложил им три — хотите берите, хотите нет — и они взяли. К тому же я дал понять, что в общем-то к покупке безразличен. Несомненно, меня приняли за какого-нибудь владельца ранчо, у которого завелись свободные деньжата, которые он тратил на приглянувшуюся шлюшку, что для Канзас-сити было делом вполне обычным.
На следующий день Аллардайс заходит в магазин и разыгрывает обморок, вдруг обнаружив, что брошь уже продана. О-о-о, видимо эту сцену разыграл он со всем ему присущим блеском, актер он был прирожденный, я ведь говорил уже об этом, и я бы с превеликим удовольствием её посмотрел, но нельзя было, никто не должен был заподозрить, что мы как-то связаны друг с другом. А изображал он из себя заезжего щеголя с Востока. Дескать, увидал эту финтифлюшку в витрине Каллера и решил непременно купить её своей возлюбленной, однако вынужден был ждать, пока получит свои ежемесячные 5 тысяч от отца, известного банкира и тэ дэ. Теперь же, когда он прибегает в магазин с необходимой суммой, то Каллер буквально вгоняет ему в спину нож, продав эту прелестную вещицу!
Тут сам старик Каллер, лысый, со стоячим воротничком, давай оправдываться:
— Но, сударь, — говорит он, — мы ведь и понятия не имели, что вы заинтересовались этим украшением. Если б только…
Но Аллардайс его резко обрывает и закатывает сцену, разыгрывая дикий приступ раздражения: он наотрез отказывается смотреть другие брошки и угрожает, что впредь в магазин Каллера он ни ногой (хотя и раньше ноги его там никогда и не бывало) и требует, чтобы ему доставили другую, но такую же точно брошь.
— Она была, знаете ли, единственной в своем роде, — говорит расчётливый старик Каллер, — но давайте я телеграфирую в Нью-Йорк. Возможно нам удастся убедить ювелира сделать точно такую же ещё одну вещицу для такого страстного поклонника творения рук его…
После слова «Нью-Йорк» Аллардайс шлепается в очередной обморок, и служащие магазина принимаются его обмахивать, дают воды и, наконец, он сообщает, что на следующий день уезжает из Канзас-сити в Сан-Франциско, где и живет его любимая, ну и что он согласен заплатить за эту брошь в два, нет, в три раза больше, чем она того стоит, если только эту брошь ему доставят лично в руки до отправления поезда, который отбывает завтра в полдень.
Каллер едва не проглотил свой галстук.
— Ну, хорошо, — говорит он осипшим голосом. — Может, что-то и получится. Вполне может быть. А взяли мы за нее, — говорит этот хитрый старый козел, — мы за нее взяли… насколько помню… ровно одну тысячу долларов. — И вылупился на Аллардайса, ожидая, что того сейчас хватит удар.
А Аллардайс совершенно безразлично ему и говорит:
— Ладно, тогда я заплачу три тысячи. Но не откладывайте дело в долгий ящик, мой друг. Вы можете найти меня в гостинице «Эксельсиор». — И оставив одну из своих визитных карточек, выходит прочь из магазина.
Я же, делая у Каллера покупку, не преминул, как бы между прочим, назвать свою гостиницу, так что следующий шаг, который предпринимает ювелир, так это кидается ко мне со всех ног. Но, не желая посвящать Амелию в свои грязные затеи, я принимаю его в спальне и запираю дверь на ключ. Ну, а в гостиной Амелия как раз брала у синьориты Кармеллы один из своих уроков пения, и, честно говоря, её вокал едва ли способствовал тому, чтоб нервы у старика Каллера успокоились.
— Произошло ужасное, мой дорогой мистер Крэбб, — говорит он. — Та брошь была уже куплена другим человеком, и он, знаете, заплатил за нее целиком одному из моих помощников, хотя сам я был в полном неведеньи относительно этого. Не мог бы я вернуть вам паши деньги и забрать свою вещь? Конечно, ситуация ужасно неудобная, я это прекрасно понимаю и собираюсь компенсировать вам, дорогой сэр, все эти неудобства. Примите, пожалуйста, взамен любое другое изделие с десятипроцентной скидкой.
В глубине души я хохотал, вспоминая, что рассказывал мне Аллардайс про философию надувательства: в любой афере жертва и мошенник — оба жулики, а честный человек на аферу никогда не клюнет. Потом, однако, он добавил, что, увы, но таковые за все время его скитаний ему не попадались. Но вы только посмотрите на старину Каллера! Он вознамерился отхватить 2700 долларов, предлагая взамен только 20-долларовую скидку!
Так что мне его было совсем не жаль. Я отвечаю ему, что об этом не может быть и речи, ибо моя дорогая маленькая племянница, которая находится в соседней комнате (известная певица, между прочим), страстно полюбила эту вещицу, и я скорее позволю перерезать себе горло, чем заберу её у неё сейчас, и что купил я эту вещь на законных основаниях и не виноват в том, что он неумело ведёт дела.
Ну, в конце концов он решил предложить мне больше, но я сказал, что в данных обстоятельствах не в деньгах дело, так что он стал постепенно увеличивать сумму, и я только волновался об одном: чтобы этого старого хрыча от волненья не хватил сердечный приступ, и он не протянул ноги у меня на ковре прежде чем мы дойдём до 2 тысяч, ибо именно эту сумму мы с Аллардайсом сочли разумной, иначе закуси мы удила, и он мог бы почуять неладное.
До этой суммы он дошел где-то через пару часов, и тогда я ему сказал:
— Мистер Каллер, вы меня уговорили. Я не могу устоять, когда вижу, что человек так расстраивается.
Деньги у него были с собой, и когда он вынул пачку, я пожалел, что не довел сумму до двух с половиной тысяч, так как, похоже, именно столько он захватил с собой. Но, чёрт побери, как бы там ни было, а для первого раза это было совсем неплохо. Я заработал тысячу за два часа. Позже в салуне мы встретились с Аллардайсом и поделили выручку пополам.
— Я зарегистрировался в «Эксельсиоре», — сообщил он, — и просил портье передать мистеру Каллеру, что мои планы несколько изменились, и что я отправился охотиться к западу от Топики, вернусь через неделю и тогда, надеюсь, мы сможем устроить наше с ним дело. Этого времени, — добавил он, — мне вполне хватит, чтобы без излишней спешки смыться из города.
— Аллардайс, а куда ты направляешься дальше? — спросил я у него, потому что он вёл образ жизни, вызывающий интерес.
— В Сент-Луис, наверное. Там я ещё ни разу не был. А что ты, Джек, собираешься делать? Я бы тебе советовал уехать из Канзас-сити и побыстрей. Конечно, у Каллера против тебя нет никаких доказательств, но скоро он поймёт в чём дело и, как мне представляется, может тебе устроить неприятности. Как бы ты посмотрел на то, чтобы нам отправиться вместе? Мне кажется, у тебя настоящий дар к надувательству.
Видите ли, он ничего не знал про Амелию, потому как от своей гостиницы я держал его подальше. В конце концов, он Шайен был жуликом.
— Это могло бы быть совсем неплохо, — говорю я ему, — но, как мне кажется, истинное мое призвание лежит где-то на лоне природы. И направляюсь я в края бизонов на зимнюю охоту.
Аллардайс энергично протянул мне руку:
— Джек, рад был с тобой познакомиться.
— И я тоже, Аллардайс, — говорю я ему, — желаю тебе всего самого наилучшего и успехов во всех твоих начинаниях.
Тогда я видел его в последний раз. Как сейчас помню, стоит он в этой низкопробной забегаловке и велит подать шампанского. Ему так не терпелось начать красивую жизнь, что он не мог дождаться, когда попадет туда, где это больше к месту. Я уходил с предчувствием, что через день или два он опять будет на бобах, потому как мошенничать он мошенничал не ради денег, а ради удовольствия, ради самой игры. Какой артист! И какой славный парень, который так меня выручил тогда в Канзас-сити!
Из этих денег я отдал небольшую часть долгов своим кредиторам, чтобы показать, что человек я в общем-то добропорядочный, и на короткое время заткнуть им пасть, а ещё внёс аванс за обучение в пансионе, который я наконец подыскал для Амелии, заведение было аристократическое и девицы жили при нем, а директриса была до того высокомерна, что едва выдавила из себя пару слов.
Так вот, я знаю, что слушая всё это, вы с нормальным цинизмом тешите себя мыслью, что рано или поздно, а Амелия вернётся к старому. Люди просто терпеть не могут, когда кто-нибудь вылезает из грязи. Должен вас разочаровать. Теперь, когда Амелия вошла во вкус, никакая сила на земле не могла помешать ей стать благородной леди. Приведу пример. Так, если обедая в ресторане, она роняла вилку, то никогда за нею не нагибалась и не поднимала с пола, нет, она не поднимала. Для этого, говорила она обычно, существуют официанты. И так получилось, что этот принцип она применяла ко всему, что бы ни делала: так, если у неё с колен на ковёр гостиничной комнаты падала книга, то она, конечно, звонила в колокольчик, и к нам наверх вбегал бой в кургузой ливрейке, поднимал книгу и отдавал ей.
Теперь единственное, что меня беспокоило, как бы она не принялась возражать против моего желания определить её в эту Академию для благородных девиц под попечительством мисс Уэмсли, в которой, наверняка, после той роскоши гостиницы с немцем, синьориной Кармеллой, и всем прочим, покажется ей слишком скромно, но мои опасения не оправдались, потому как мисс Уэмсли была родом из Англии, или просто из Бостона, но как бы там ни было, она произносила вместо «просто» — «пгосто», говорила «семэстэр», такие «манэры» Амелии были в диковинку и она спешила их «поскогее пегенять», и после того, как мы там впервые побывали, чтобы записать Амелию, я у неё спросил:
— А ты не будешь скучать по Синьорине? И она мне ответила:
— Ты вызываешь пгосто смэх.
Выяснить, будет ли она скучать по дяде Джеку, я не стал. Я не надеялся, что будет, но не имел ни малейшего желания услышать то ли ложь, то ли неприятную правду. Я не был настолько глуп, чтоб не понимать, что чем больше она становится той, кем я хотел её видеть, тем меньшее удовольствие ей будет доставлять мое присутствие.
Так что я чувствовал, что сейчас мне самое время отправляться стрелять бизонов. Этим я избавлю Амелию от своего общества, а заодно и подзаработаю деньжат, чтобы обеспечивать её как подобает. И не вернусь до следующей весны; ну, а тогда уж, наверное, буду просто наведываться в этот пансион каждое второе воскресенье, когда посетители могут приезжать на чаепития, и постараюсь не забыть вынимать ложечку перед тем, как пить чай. Других каких-то далекоидущих планов у меня тогда не было.
После того, как я заплатил за обучение в этом пансионе на полгода вперёд и выделил Амелии какую-то сумму на карманные расходы, у меня снова денег было не густо, но я ухитрился закупить большую часть необходимого снаряжения и припасов в кредит и нанял себе шкуродера, с которым можно было рассчитаться уже по возвращении весной, когда будут проданы шкуры. Все это я провернул уже в Колдуэлле, штат Канзас, который на то время являлся главной штаб-квартирой торговли шкурами бизонов. А что касается Канзас-сити, то этот город я покинул среди ночи, оставив неоплаченными все свои счета, в том числе за гостиницу. И, насколько мне известно, я всё ещё им должен.
* * *
Пространства, по которым бродили бизоны, простирались от южной Небраски аж до самой реки Колорадо, в Техасе. А до появления железной дороги они, пространства эти, то есть, были вдвое больше и тянулись до Канады и дальше. Когда теплело, огромные стада шли на север, а потом, когда выпадал первый снег, откочевывали на юг.
Теперь же, говоря о том, что Тихоокеанской железной дорогой это стадо на континенте было разрезано надвое, я вовсе не хочу сказать, что к югу от дороги осталось мало животных, или, наоборот, осталось их мало к северу. Правда, в 1871 бизонов было уж никак не меньше десяти миллионов, потому что именно столько их было убито в южных прериях с этого года по 1875. Десять миллионов за пять лет! И я, в меру своих сил, приложил руку к их уничтожению по той простой причине, что чем больше сдашь шкур, тем больше получишь денег. А использовали эти шкуры главным образом вот для чего: после дубления их разрезали на приводные ремни для разной техники. А ещё их пускали на сапоги, сбрую, отделку одежды.
Ну, а связываться с мясом убитых животных у охотника ни времени, ни возможностей не было, разве изредка себе на ужин отрежешь язык или горб, так что в основном мясо оставалось там, где упало животное, и поедалось либо волками, либо сгнивало на солнце. Потом кто-то обнаружил, что кости — отличное удобрение, вот и стали их собирать, грузить полные фургоны, а затем перемалывали в порошок и фермеры удобряли ими свои гектары, так сказать, процветая на чужих костях.
«Ну, а что делать с мясом?» — этот вопрос по-прежнему оставался нерешенным, и никуда не деться от того факта, что бизона использовали не по-хозяйски, расточительно, не то, что индейцы. Те, так или иначе, а находили применение каждому кусочку, каждому дюйму, от рогов и ушей до копыт. В дело шел даже половой орган — из него варили клей. Однако, как вы знаете из моего рассказа, индейцы частенько голодали ещё задолго до того, как уничтожили бизонов, и ещё больше голодали до того как вообще появился белый человек, потому как прежде индейцы не имели для охоты ни лошадей, ни ружей, чтобы стрелять издалека, как при нашей охоте. Так что про все это не забудьте, прежде чем станете валить на нас, белых охотников, вину и поносить почем зря, как мне кажется. Мы просто изо всех сил постарались заработать себе на жизнь и интересовала нас только цена на шкуры, а до остального нам дела не было. Бывает, что из сообщений обо всем этом, написанных людьми там никогда не бывавшими, складывается впечатление, что, дескать, огромная армия охотников хлынула в прерии, чтобы уничтожить на континенте всех до одного бизонов для того, чтобы очистить пастбища для крупного рогатого скота или чтобы истребить индейцев, лишив их источника мясной пищи. Конечно, все это было, но без нашего злого умысла. Мы ведь были просто небольшой группой парней с винтовками «Шарпс», и если бы вы когда-либо поднялись на пригорок и увидели б оттуда бескрайнее море бизонов, миль на двадцать одни бизоны, вы бы ни за что не поверили, что когда-нибудь всего несколько тысяч охотников, таких как я, изведут миллионы этих огромных тварей.
И всё же, сказав это, признаю, что сожалею о содеянном. Но мы это сделали, и вот как оно обычно происходило: в конце августа — начале сентября охотники съезжались в Небраску, чтобы застать там стада и вместе с ними спускались по мере того, как холодало, на юг, до Техаса, по пути убивая бизонов, и промысел обычно продолжался до марта следующего года. Затем весной охотники шабашили и ехали, как вам известно, в Канзас-сити отдохнуть и развеяться, ну, а бизоны тем временем на лето тащились на север и там линяли.
На такой охоте лошадь не использовали. Шли пешком, подбираясь как можно ближе к одной из небольших группок, на которые разбивались животные, когда паслись. Потом устанавливали крестовину для упора при стрельбе, на неё клали длинноствольную винтовку «Шарпе» и принимались отстреливать бизонов по краям этих группок. Вот так, удобно устроившись, можно было бить в течение довольно продолжительного времени, пока бизоны не начинали понимать, что происходит, потому как звуки выстрелов их не страшили, как не тревожило и то, что вокруг падают их товарищи. Пугал их только запах крови.
При благоприятном и постоянном ветре можно было завалить одного за другим до тридцати животных, а остальные в это время спокойно щипали травку. Их можно было бить до тех пор, пока один из них не учует кровь, не всполошится и не забьет копытом по земле. Потом другой бизон её учует и заревет, тут уж запаникует группа, и страх постепенно охватит все огромное стадо на площади пяти квадратных миль, минута — и замелькали только хвосты несущихся в чудовищной панике животных. Или, как иногда Шайен случалось, с другого края стада вели стрельбу другие парни, и тогда бизоны охваченные паникой, мчались бы на вас, и вы бы перед смертью увидели необыкновенную картину: весь горизонт — рога, рога, рога…
Но этого обычно не происходило; и когда стадо уносилось, к вам на фургоне подъезжал ваш шкуродер, который до того момента находился сзади, и приступал к работе над убитыми животными: делал несколько длинных надрезов, накидывал веревку вокруг собранных на шее складок, другой конец веревки привязывал к лошади и отгонял её — таким образом сдирая шкуру целиком. А в лагере шкуры растягивали на колышки для просушки, после чего высушенные шкуры складывали в штабеля в ожидании заготовителей, которые время от времени посылали фургоны во все охотничьи лагеря.
Ну вот, сэр, чем я был занят зимой семьдесят первого, и тот промысловый сезон мы с моим шкуродером закончили за рекой Канейдиан, в техасском Пэнхендле. В конце марта вернулись в Колдуелл и получили от заготовителей за шкуры около шести тысяч долларов за зиму, что означало, что за свой первый промысловый сезон я один убил две с половиной тысячи бизонов. А такие матерые ребята, как Билли Диксон или старик Киллер, добыли куда более моего.
Однако, по-прежнему казалось, что бизонов не стало меньше. Возле речки Луговой Собачки, ниже Канейдиан, мы со шкуродером поднялись как-то раз на вершину холма и увидели перед собой бескрайнее пространство, устланное буроватой шерстью. По-моему, видно было миль на 25 — день был ясный. Так вот, проведя вытянутой рукой слева направо по линии горизонта, вы очертили бы пространство, на котором был миллион бизонов…
В Колдуэлле я расплатился со шкуродером, с кредиторами за снаряжение и после всего у меня оставалось ещё несколько тысяч. И с этими деньгами я направился в Канзас-сити посмотреть на успехи Амелии.
Но прежде чем рассказать об этом, должен вскользь упомянуть о некоем любопытном совпадении. Помните, что передо мной гонял из Сан-Педро в Прескотт фуру один парень с очень смешным именем? Уайетт Эрп? Ну, так вот, я столкнулся с ним во время охоты и хочу вам сейчас об этом рассказать…
Глава 23. УСПЕХИ АМЕЛИИ
Мы тогда стояли у Солёной протоки, есть такая на реке Арканзас. Ночью, настрелявшись за день, охотники на бизонов в округе обычно сбивались на ночевку в тёплые компании — вместе выпить, поболтать и перекинуться в картишки. А неиссякаемым источником спиртного были коробейники, которые то и дело заявлялись на фургонах, полных виски в бочках. Не было такого медвежьего угла, куда б не добрались эти удальцы — хоть к чёрту на кулички. В прерии ведь пруд-пруди мест, где раз плюнуть помереть без воды, а вот промочить горло или даже напиться вдрызг можно было едва ли не везде.
И вот как-то вечером мы с моим подручным шкуродером подъезжаем к соседнему лагерю пропустить по маленькой и — кого бы вы думали я там вижу — у фургона на раздаче хлопочет мой братец Билли собственной персоной! Ну, что сказать вам про него — как нашёл в молодости дело, чтоб грело душу, так от него ни на шаг. Может, помните, рассказывал я, как встретил его в пятьдесят седьмом — он тогда сбывал краснокожим своё огненное пойло самого дерьмового пошиба. Ну, он так быстро и так низко опустился ещё тогда и за следующие пятнадцать лет хуже не стал, потому как, хуже было просто некуда. Зубы вот только порастерял, а так все тот же. Такой же фрукт. Как раз заливал клиентам о своем знакомстве с Джоном Уилксом Бутом, которого вроде бы, вовсе и не убивали, и живёт он себе, мол, как ни в чём ни бывало в Эль-Пасо, штат Техас, и что у него там лавка.
Припомнил я тут, как из собственных уст его слыхал, на чём настаивает он свой товар, и решил, что лучше мне, пожалуй, воздержаться от такого добра, но вот шкуродера своего отговорить не смог, ибо иначе пришлось бы признаться насчёт сродственника, а мне это было вовсе ни к чему — вот он пошел и потребовал себе налить:
— Ну-ка, плесни своей гремучей смеси!
И надо же такому случиться: у Билла как раз бочонок почти закончился — осталось на самом донышке, и ему пришлось его наклонить, чтобы наполнить ковшик. Так вот, приподнимает он его слить остатки — и тут при свете костра мой шкуродер замечает неладное — таращится в бочонок, потом на Билла.
— Постой, постой… — говорит он. — Это чего там такое… плавает?
Бил отвечает:
— Да, это так, ничего… просто винный камень… Знаешь, как в хорошем вине?
Тут шкуродер отпихивает его в сторону, хватает бочонок и опрокидывает. И вместе с жижей на землю возле костра шлепается с полдюжины… голов, коих опознать для этой публики особого труда не составляло.
— Ка-а-амень? Я те дам камень, сукин ты сын! — закипает шкуродер. — Да ведь это головы! Гремучей змеи!
На это заявление Билл лишь щербато скалится:
— Да уж не коровьи.
Тут парни начинают заводиться. Того и гляди все бочки ему переломают вместе с ребрами. И тогда он признается, что в каждом бочонке на борту его шхуны прерий содержится ровно по шесть змеиных голов. Эта новость заставляет некоторых отчаянных голов, кто уже отведал, отойти в кусты и мучиться там морской болезнью, а остальные — без лишних слов — достают веревки и присматривают сук покрепче, такой, чтобы выдержал моего братца; но тут сквозь толпу протискивается длинный как жердь паренек и обращается к Биллу:
— Ну, ты, запрягай и вали отсюда! И чтоб духу твоего здесь больше не было.
— Да от этого никто ещё не умер! — вопит от возмущения Билл. — Я же как лучше. Для вас стараюсь. От них оно ядреней. Вернее пробирает. Всем нравится. Это ж такой продукт. Вали отсюда! У повторяет долговязый. — А вы, ребята, расступитесь! Дайте ему пройти! И пусть катится колбаской на все четыре стороны!
И, ей-Богу, все расступились. Сам не знаю почему — мне-то он совсем не показался: парень как парень, ничего особенного. Хотя нет — было в нем что-то такое сродни Кастеру или Хикоку, и не только длинные патлы — какой-то особый кураж, что ли…
А шкуродер подходит ко мне и возмущается:
— Ну, ты когда-нибудь видал такое?
Я злился на брата, чувствовал себя не в своей тарелке и вообще мне было не по себе — и тут я не удержался и похвастал харчами. Получился звук вроде «и-и-э-э-рп» — так на меня подействовал вид этих самых змеиных голов — хотя бурды этой я в рот не брал ни капли.
Тут возле меня оказался долговязый, ледяным взглядом окидывает меня из-под чёрных бровей и спрашивает:
— А ты чем недоволен?
Я говорю, что всем доволен, но хотел бы знать, с чего это он взял, чёрт побери, что я чем-то недоволен.
— Так, а чего ж ты меня звал? — говорит он.
— Да никого я не звал!
— Звал! — настаивает он. — Ты сказал «Эрп». Так вот моя фамилия Эрп.
— А-а-а… — отвечаю, усмехаясь, — это меня просто… стошнило.
Тут он как врежет мне!
Ну, я что ж… вскакиваю на ноги, уже с пушкой. А он отвернулся и пошел прочь. А что мне — остаётся только или продырявить ему спину или признать, что инцидент исчерпан. Ну, не мог же я допустить, чтоб за ним осталось последнее слово, вот и бросаю ему пару тёплых фраз вдогонку, да таких, что у всех чуть не отпали уши. Ну, он тогда поворачивает оглобли.
— Ну, ты, тошнотворное создание, — добавляю, — а, ну, доставай свою пушку, — потому как он эдак неторопливо направляется ко мне, и уже совсем рядом, и при этом не делает ни малейшей попытки достать свой револьвер. А так как он подошел совсем впритык, то не стану же я в самом деле стрелять ему прямо в брюхо. Наконец, когда между нами осталось меньше шага, он своей левой хватает мою правую, — а пальцы у него, что твои клещи! — а правой спокойно достает свою пушку и тяжелым стволом — трах! — меня по темечку. Тут я, честно говоря, и отключился.
Трюк этот прозвали «завалить бизона» и когда Эрп заделался маршалом, он взял его себе на вооружение как излюбленный приём. За всю свою бурную жизнь укокошил он немногих — всего двоих или троих, зато уж завалил таким образом, пожалуй, не одну тыщу. Большего ехидства и фанаберии, чем у него, ей-Богу, не встречал. Вот например, Бешеный Билл, тот в подобной ситуации честно и откровенно пристрелил бы обидчика. Другое дело Эрп. Для этого он был чересчур высокомерным и заносчивым типом. Раз он с тобой стреляется, значит, вроде как считает тебя ровней, так сказать, достойным противником. А он ровней никого и не считал: остальные, мол, недостойны и того чтоб он их пристрелил. Вот он и кроил им черепа.
Уж не знаю, как там у него это выходило, но стоило ему лишь взглянуть на тебя, как на кучу дерьма, и ты, хоть с этим и не согласен, но поневоле на миг помедлишь, прежде чем пустить в ход пушку, а ему этого как раз и хватит, чтоб тебя завалить. Как бизона.
* * *
Как я уже упоминал, в Канзас-сити вернулся я весной семьдесят второго. За двадцать пять центов помылся в цирюльне, после чего облачился в городской костюм из сундучка, оставленного здесь на хранение, и направил свои стопы прямиком в школу Амелии.
Директриса, даром что сизомордая, была сама любезность:
— Ах, — сказала она, наливая мне чаю в изящную чашечку, — мы так переживали, что вы не вернётесь вовремя из этой вашей научной экспедиции!
Мне не терпелось поскорее повидать свою племянницу и посмотреть, каких ещё хороших манер поднабралась она за зиму, но решил, что надо Шайен ответить взаимностью мисс Элизабет Уэмсли, тем паче, что сидел я, развалившись в кресле посреди гостиной её «Академии для благородных девиц»; какой-то фикус в горшке щекотал мне за ухом своими листьями, руки покоились на вышитой батистовой салфетке, а ещё одна такая же лежала у меня под головой, которую я, как культурный человек, смазал медвежьим жиром.
— Надеюсь, — сказала мисс Уэмсли, — что вы собрали много диковинных раритетов и уникальных окаменелостей для экспозиции в наших очагах культуры на восточном побережье.
Представляете, под каким соусом малышка Амелия преподнесла ей мою охоту на бизонов!
— Вы непременно должны мне рассказать об этом, — продолжала она, — но прежде, право же, я думаю, нам следует обсудить ряд безотлагательных, хотя и низменных, вопросов. А и правда, — она выставила напоказ крупные передние зубы в некоем подобии улыбки, — разве они всегда не одни и те же?.. Не сомневаюсь, дорогой мистер Крэбб, вам не надо объяснять, что если питомица проучилась в нашем заведении хотя бы две недели, а потом покинула его, то гонорар за семэстэр не возвращается.
Я счел за благо опрокинуть чашку себе в рот потому, как почувствовал, что иначе оболью скатерть.
— Она сбежала… — прошептал я, обмерев.
На что мисс Элизабет Уэмсли зашлась трескучим смехом. Звук был такой, как будто рвали шелковую шаль.
— Ну, что вы, мой дорогой мистер Крэбб! Ни в коем разе! Наша милая Амелия выходит замуж, вот что! Увы! У нас не было никакой возможности изыскать способ оповестить вас. Не имея ни вашего почтового адреса, ни каких-либо других координат, чтобы отыскать вас среди этих ваших бескрайних пустынь и неприступных гор…
— За кого? — спрашиваю. И думаю, что будь я где-то в другом месте, а не в этом душном салоне, где стоял затхлый запах засушенных цветов, то далее с моей стороны последовали бы яростные проклятия в адрес этого негодяя и угрозы убить подлеца. Мне просто и в голову не пришло, что на Амелии и впрямь может кто-нибудь жениться, или хотя бы пообещать… кроме какой-нибудь шушеры вонючей, конечно. Видите ли хоть я тут и поминаю то и дело, что она поднабралась хороших манер, но в глубине души-то я никогда не забывал, что вытащил её из грязи, и не сомневался, что стоит предоставить её самой себе, как она тут же скатится в ту же грязь.
Но тут мисс Уэмсли и говорит:
— При всей присущей нам скромности, мистер Крэбб, я право полагаю, что в данном случае нам позволительно бы было выразить глубокое удовлетворение выбором Амелии. Воспитанницы Академии Уэмсли — хозяйки лучших домов Новой Англии, и неудивительно…
— За кого?! — повторяю, потому что никак не возьму в толк, что она не для того тянет, чтобы смягчить удар, а для пущего эффекта.
И, клянусь, тут она называет имя сенатора штата и сообщает, что это его сын, молодой адвокат в Канзас-сити, которого мисс Уэмсли наняла представлять интересы Академии по делу о неуплате за обучение, — тут она бросает на меня многозначительный взгляд, — по каковой причине он и появляется в Академии, встречает Амелию и «сердце его, — как сказала моя собеседница, — пронзает стрела Купидона». Всю зиму он, как водится, ухаживает за ней, а свадьба назначена на май. Потому мисс Уэмсли и беспокоится об уплате — ведь её семестр заканчивается в июне. А денег, что я заплатил прошлой осенью, хватило только на первое полугодие, и, начиная с семьдесят второго года мисс Уэмсли вынуждена содержать Амелию в кредит, хотя в кредитоспособности такого известного исследователя и путешественника как я, она ни разу не позволила себе усомниться.
Я незамедлительно выкладываю кругленькую сумму. Мне было стыдно за свои скоропалительные и превратные выводы насчёт Амелии, но от такого головокружительного взлета малышки у меня буквально закружилась голова. Конечно, я мечтал о том, чтобы со временем устроить ей достойную партию, но чтобы так вдруг… да тут любой ошалеет.
Как только эта старая наседка получила денежки, она тут же их убрала и выпорхнула в предпокой, чтобы послать за Амелией, у которой как раз был урок то ли кройки, то ли шитья, то ли ещё чего-то такого. Войдя, племянница чмокнула меня в щёку, только что вышедшую из-под рук брадобрея, и я порадовался своей предусмотрительности. Потому как, если чьё прикосновение и могло напомнить мне о миссис Пендрейк, так это прикосновение Амелии. И это при всём при том, что мисс Уэмсли обряжала своих девиц в длинные и глухие убогие платья мышиного цвета. И никаких румян, пудры или там украшений. Так что почти все воспитанницы, что встречались мне по дороге, отличались друг от друга не больше, чем мыши одного помёта.
Все — но только не Амелия. В тех же стеснённых обстоятельствах она умудрялась выглядеть королевой.
Она присела рядышком со мной на диван, скромно сложив руки перед собой, грациозно наклонила голову и сказала:
— Надеюсь, ваше путешествие оказалось плодотворным.
— Мисс Уэмсли, — говорю я ей, — только что мне сообщила, что ты выходишь замуж.
В её глазах на мгновение вспыхнул бесовской огонек, и я тут же добавил:
— Я совсем не возражаю. Полагаю, что ты выходишь по любви.
Поначалу Амелия скромно потупила взор, как её и учили, не скрывая, однако, торжества, но потом вдруг посмотрела на меня спокойно и прямо, не цинично, а по-деловому. И отбросив свой прежний надменный светский тон, говорит мне:
— Ты что, и в самом деле верил, что я тебе родная племянница? Потому ведь как, сам понимаешь, если да, то у меня, честно говоря, будет скверно на душе.
Сами знаете, можно прожить полжизни и ни разу так и не столкнуться с подобными вопросами людского бытия. Если все называть своими именами, то от полной определенности человеку станет только хуже. К примеру, знавал я горьких пьяниц, что протянули долгие годы единственно потому, что сами себе никак не признавались, что окончательно спились. Вы, небось, ещё тогда в самом начале, когда я только связался с Амелией, решили, что я и впрямь поверил в наше кровное родство, хотя доказательства-то были очень хлипкие, потому как девчонка в её положении наплетет клиенту с три короба, лишь бы он был доволен, а еще, небось, подумали, что прикидываться моей племянницей, занятие уж явно попроще, чем то, от которого я её отвадил.
И не то чтобы я всего этого не понимал. Но, послушайте, чёрт побери, я прожил такую жизнь, что всё же заработал себе право выбирать, кто мне родственник, а кто — нет. Всякий раз, как у меня складывалась какая-никакая, а настоящая семья, от неё меня отрывало какое-нибудь несчастье. И я постепенно свыкся с мыслью, что настоящих родственников мне иметь не суждено, и когда малышка Амелия стала набиваться мне в племянницы, я тут же решил, что так тому и быть, и не она, а это я должен благодарить судьбу, и это мне, а не ей повезло…
— Я ведь знала, — говорит она, — что тебе, как и мне, это нравится, но теперь у меня появился хороший шанс выбиться в люди, и кто его знает, когда ещё такой подвернётся? — Тут она берёт меня за руку и говорит, — Ей-Богу, мне бы очень хотелось, чтобы ты был у меня посажённым отцом. Понимаешь, мать моя сбежала, когда мне и двенадцати не было, с каким-то бродячим торговцем, а отец допился до белой горячки и через пару лет после того умер. Было это в Сент-Джозефе. И тогда я поплыла по течению. Ну, то есть, села на корабль. А один парень — он ходил в заведение Долли — бывало мне рассказывал про мормонов — вот откуда я знаю, как они живут.
Она улыбнулась — поверители, ей каким-то непостижимым образом удалось сохранить простодушную невинность улыбки.
Так вот, сэр, примирившись с тем, что мне суждено вскоре лишиться общества моей «племянницы», я почувствовал себя несчастным и одиноким, но то, что я коренным образом изменил её судьбу, возвратило мне душевное равновесие и я испытал едва ли не блаженство. Если уж мне не дано выбиться в люди, то хоть в этом случае я сумел устроить, если можно так сказать, благополучие ближнему. А о чём ещё остаётся мечтать?
— Амелия, — говорю тут я ей, — для того, чтобы испытывать родственные чувства, совсем не обязательно состоять в кровном родстве. Вот есть, например, у меня родной брат. Он торгует виски. Так он, представляешь, до того опустился, что виски настаивает на змеиных головах! Так вот мне на него, извини за выражение, глубоко наплевать. А всех, кого мне и впрямь довелось любить в этой жизни, я сам отбирал. По-моему, истинные родственные души разбросаны по всей вселенной, и среди них редко когда затешется какой-нибудь родственник. Вот в этом смысле ты мне родня, была и есть, а на остальное наплевать. И раз уж я люблю тебя как таковую, то и не собираюсь выдавать. Ну, посуди, какой же из меня посажённый отец! Уж лучше тебе на этой свадьбе сойти за сироту, тем более что ты сирота и есть. Ну, она, конечно, давай возражать — и мне от этого теплее стало на душе. Потому как если б и впрямь не любила она меня хоть чуть-чуть, то, небось, не захотела бы, чтоб я фигурировал на её свадьбе. Но я был неумолим. Теперь мне стало совершенно ясно, что моя старинная мечта выдать её замуж в хорошие руки, а затем по воскресеньям хаживать в гости и обедать за одним столом вместе с ней и её мужем, так и останется мечтой. Я ведь никогда не смогу корчить из себя ученого мужа, искателя древностей или кого-то там ещё — уж не знаю каких там небылиц про своего «дядюшку» наплела она этому сенаторскому сынку. Но через некоторое время я всё же понял, что не иметь никого со своей стороны на свадьбе для невесты, пожалуй, не дело, особенно если учесть, что такая свадьба, как эта, представляет собой значительное событие в жизни Канзас-сити — там будут, наверняка, лучшие люди города. И тогда я обещался, что так и быть, найду ей посажённого отца.
За помощью я обратился к Синьорине и, слава Богу, оказалось, что с ней как раз и живет один парень, который годится на эту роль. Вылитый джентльмен, хотя и слегка побит молью: козлиная бородка, седые бачки, лет пятьдесят или около того. Правда, был он алкоголик, но поклялся всеми святыми, что сумеет дойти до алтаря не шатаясь, вот только для этого ему необходима поддержка в виде небольшой суммы денег.
А ещё приобрел я для Амелии самый лучший свадебный наряд, а также полный гардероб, необходимый для дальнейшей супружеской жизни; а деньги, что остались, вручил ей как приданое. Но слов благодарности от неё я так и не услышал. Ни разу за все время нашего общения. Потому как она понимала, что поступает со мной без обмана и что мы квиты. Возможно, для женщины пройти через публичный дом не такая уж и плохая школа жизни.
Само венчание я наблюдал с хоров и тогда впервые увидел жениха — смотреть было не на что. Длинный, но хлипкий, в очках — в свои двадцать пять! А вот папаша его — другое дело — дядя крепкий, с квадратным подбородком и седыми, отливающими сталью волосами. Впечатление было такое, что старик с рук на руки сдавал Амелии этого парня.
Хахаль синьорины Кармеллы отработал свой гонорар блестяще. Взяв Амелию под руку, он продефилировал по проходу церкви настолько прямо, будто аршин проглотил. Кармелла же на церемонию не попала; видите ли, эта чета взяла себе за правило — чтобы постоянно кто-нибудь из них валялся в стельку пьяным дома. И в этот день был её черёд.
А вот Долли пришла и наблюдала с хоров вместе со мной. И любуясь счастьем, выпавшим на долю одной из её девочек, была растрогана до слёз и проплакала всю службу от начала до конца, хотя после окончания церемонии следов слёз на её густо напудренном и нарумяненном лице я не заметил. И когда новобрачные вышли из двери храма, и вокруг их кареты столпилась всякая чистая публика, и стала бросать рис в близорукое лицо молодого, то при этом Амелия стояла в общем-то с насмешливым видом. Долли налегла грудью на мой локоть и говорит:
— Да-а-а, свадьба что надо! Ну, что Короткие Ручки, пошли теперь ко мне, так и быть, возьмешь девчонку — за мой счёт. Авось найдешь ещё племянницу.
Держались мы в самой хвосте толпы с тем чтобы не смутить Амелию; а потом карета отъехала, и больше я малышку уже никогда не видал. Но в году эдак восемьдесят пятом или шестом, ей — Богу, провалиться мне на этом самом месте, раскрываю я как-то газету и читаю, что Грувер Кливленд назначил её мужа министром! Так что она в жизни и впрямь неплохо устроилась — из всех моих родственников одна-единственная… Потому-то я про нее и рассказываю.
* * *
На бизонов я охотился ещё парочку лет, вернее, зим, потому что летом шатался по коровьим городишкам Канзаса и играл в покер. А ещё я пристрастился к фаро, по тем временам очень популярная была игра. А что до бизонов то, ей-Богу, к тому времени только слепой не замечал, как их стада пошли на убыль. Конечно, их была ещё не одна сотня тысяч, но уже не миллионы, много, но не уйма. И если б вам довелось увидать одну из тех скупок на железной дороге, куда свозили шкуры, вы б поняли, почему я так говорю. Когда смотришь на них издалека, из прерии, кажется будто вырос целый город, а на самом деле это тюки бизоньих шкур, сложенные в штабеля, ждут погрузки на товарняк. А в прерии теперь уже не встречалось таких громадных стад, на какие мы с моим шкуродером натыкались тогда, в семьдесят первом году. Да-а-а, такого потрясающего зрелища в Америке больше не увидишь!
Что да, то да — бизоны пошли на убыль, потому как это зверь дикий, но зато его домашний сородич, корова, — прибывал не по дням, а по часам. Их огромные стада перегоняли из Техаса по Чизгольмскому тракту через Индейскую территорию в Канзас, в новые городки, что как грибы лезли вдоль чугунки, как только она шагала дальше. Теперь, в начале семидесятых, чуть ли не ежегодно возникал такой новый город: сначала Абилин, потом Элсуэрит, Уичито и Додж-сити.
Все ждали этих стад, потому что ковбои, пригнав их на скотоприёмные дворы у железной дороги, получали расчёт. И, конечно, тут же спускали все свои пачки долларов на местные развлечения — потому как, сами понимаете, сколько месяцев ковбой не видел бабы и вообще никакой другой цивилизации.
Так что, кто держал какое дело, те были совсем не прочь, чтоб эти парни веселились во всю катушку, хотя это ведь такая публика, что если развернётся, то и впрямь до упаду, вдребезги — в буквальном смысле слова, потому как ковбои неделями кряду пыль глотали, мокли под дождём и мерзли на ветру, управляясь с гигантскими стадами. А корова — тварь пугливая: чихнешь среди ночи, а они как рванут в панике кто-куда, трое суток потом собирай; а ещё скотокрады нагрянут или индейцы…
Вот потому стоит ковбою увидеть вывеску, вроде той, что повесили в одном городе на въезде: У НАС В УИЧИТО СБЫВАЕТСЯ ВСЁ! — и стоит ступить ему на Мейн-стрит, а там и впрямь сбывается и виски, и всё, что пожелаешь… ну, сами понимаете и минуты не пройдёт, как он напьётся до чёртиков, а ещё через минуту выхватит пушку и начнет палить куда попало…
Да-а-а, случалось и мне схлестнуться с ковбоями, и я до сих пор ношу отметины — могу показать. Бывал я пару раз и в Уичито, и как раз в те самые годы, когда там «сбывали всё», только вот как наняли они моего старинного дружка Уайета Эрпа присматривать за этим городишком, то «сбываться» стало там уже далеко не всё, а потом, когда я увидел его в деле, как он кроит черепа стволом своей пушки, а эти техасцы падают как подкошенные, то, скажу я вам, они сильно упали в моих глазах.
Но речь не о них. Сам-то я в те годы не был ни ковбоем, ни шерифом. А кем же я был, чёрт побери? А Бог его знает. Не сказать, чтобы я был уж стар, не привык считать себя пережитком предыдущей эпохи, ещё до железных дорог и перегонов скота, до ганфайтеров и всяких там мейн-стритов с их игорными залами и мануфактурными лавками. В то время мне едва стукнуло тридцать, так что, может, это была всего лишь сентиментальность. Но как бы там ни было, эти годы промелькнули как в дыму — только и помню мельтешение карт, сивушный угар, а то и дуло револьвера. Но мне так или иначе удавалось выйти сухим из этих неприятных положений, и хотя в карты я чаще выигрывал, чем проигрывал, в то же время я как никогда чувствовал себя банкротом. Теперь мне кажется, что я действительно жил тогда в ожидании близкой смерти. И это ожидание довело, меня до того, что я даже садился спиной к двери.
Вернее, сел один раз и что же? Мне тотчас продырявили спину — а кто? Кто его знает! Случилось это в Додж-сити, и мне так и не удалось выяснить, кто стрелял. Ну, что вам сказать о Додж-сити. Ненавистный городишко! Все там ненавидели друг друга: охотники на бизонов ненавидели шкуродеров, а те и другие ненавидели ковбоев, картежники люто ненавидели всякого, кто играл против, и их всех объединяла ненависть к солдатам близлежащего форта.
Чтобы заработать врага в Додже достаточно было просто попасться кому-нибудь на глаза, и уже за одно это он был готов выпустить тебе кишки. К примеру, взглянешь на небо и скажешь, что будет дождь — и всё — считай нарвался на пулю. Так что когда я-таки нарвался, меня это ничуть не удивило. И уж совсем бальзам на раны: в меня стрелял мазила — даже кость не задел. И месяцев через семь-восемь я был совсем уж как огурчик, вот разве что к дождю немного ныло. Но к тому времени я уже покинул негостеприимный Додж — ведь я не очень-то стремился установить личность этого незадачливого убийцы. Интересовало меня лишь одно: где б раздобыть динамиту в достаточном количестве, чтобы от всего этого городишки не осталось и камня на камне. Потому как сам я белой вороной там не был, я ненавидел всех в этой дыре…
Последний раз я промышлял бизонов зимою 1874—75 гг., и мы не столько стреляли зверя, сколько искали его по прерии. За весь охотничий сезон, с осени до весны, я чистыми заработал долларов триста пятьдесят — это чтоб вы знали, до чего мизерная была добыча. Ну, а как приволок я шкуры в Додж, тут меня в скорости и подстрелили в спину, о чём я уже говорил.
Как только я малость оклемался, тут же отправился на север и добрался до самого Вайоминга, причём за всю дорогу так и не встретил ни одного дикого индейца. Наоборот, всё время натыкался на гомстедеров, этих фермеров-поселенцев, что строили себе из дерна свои дерьмовые землянки и сеяли пшеницу да кукурузу. Были они все народ радушный и доброжелательный, тому же у многих имелись дочери на выданье, так что принимали меня с распростертыми объятиями и потчевали, чем Бог послал — и очень даже кстати — потому, как дичи в прериях почти не осталось.
А внутри землянок было не так уж плохо — я даже не ожидал. Хозяйки затягивали потолок куском материи, чтобы не сыпалась на голову земля, а на крыше лежал такой толстый слой дерна, что и в самый сильный ливень воды не пропускал ни капли. Все неприятности начинались только на следующий день, когда вода-таки просаживалась, и тогда уж жижа лилась на голову неделю кряду. Дожди, конечно, перепадали не часто — так что жить можно было, но вот посевы все выгорали.
А потом летом семьдесят четвертого налетели тучи саранчи, просто миллиарды, и словно покрывалом устлала всю равнину от Арканзаса до Канады, и сожрали они не только все посевы, но и сбрую, и брезент с фургонов. А в Керни, штат Небраска, эти букашки остановили поезд: просто облепили его толстым слоем — фута три. А когда недели через две вся саранча сгинула, вокруг картина была такая словно ничего и не сеяли, всё оказалось сожрано на корню. Ну, я уже упоминал, как непросто было индейцу управиться со своим клочком земли, но белым фермерам тоже приходилось несладко, по крайней мере в те времена.
Честно вам скажу, сэр, землю пахать — нет, эта жизнь вашего покорного слугу никогда не привлекала. И я двигал всё дальше на север. Объясню почему: дело в том, что ещё раз, сам не знаю, как это вышло, но жизнь моя опять пересеклась с жизнью Джорджа Армстронга Кастера, которого мне уже, кстати, давно уже не хотелось убить. Нет, сэр, такой уж я человек: коль не удаётся отомстить за обиду сразу, то не могу я все время носить камень за пазухой и долго лелеять ненависть в душе. Наверное, это мой недостаток. В том плане, что тогда, в 1871, в Канзас-сити я его упустил, а потом занялся перевоспитанием Амелии, и так, то одно, то другое — глядишь, а после Уошито уже восемь лет пролетело. Я так думаю, что почти все мы как-то подчинены закону о сроках давности в глубине души т. е. ненависть, она постепенно затухает, если ты, конечно, не чокнутый.
И потому, хоть кумиром моим он, разумеется, вряд ли мог стать, но прикончить его мне уже так сильно не хотелось. Я просто выбросил его из головы, а когда летом 1874 узнал, что он опять объявился на равнинах и во главе колонны движется в Чёрные горы производить там съемку местности, мне было уже всё равно.
Но случилось так, что у него в обозе были ученые, что обнаружили в этих краях какие-то залежи, и вот об этом прослышали репортёры и раструбили эту весть по всей стране:
ЗОЛОТО!
ТАМ ГДЕ МЕЧТА СТАНОВИТСЯ ЯВЬЮ — СЕНСАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ИЗ ЧЁРНЫХ ГОР!
КЛАДОВЫЕ ЗОЛОТА — РОССЫПИ СОКРОВИЩ
НАКОНЕЦ НАЙДЕНЫ! ЗОЛОТОНОСНЫЙ РАЙОН ШИРИНОЙ 30 МИЛЬ!
ЗОЛОТОЙ ПЕСОК ПОД КОПЫТАМИ ЛОШАДЕЙ!.. В ВОЙСКАХ АЖИОТАЖ
ВСЕГО ШЕСТЬ ДНЕЙ ПУТИ — И ВЫ ТАМ!
ПАРТИИ СТАРАТЕЛЕЙ ФОРМИРУЮТСЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.
По договору шестьдесят восьмого года, после того как Лакоты и Шайены разгромили войска Соединённых Штатов и сожгли все форты вдоль Боузменского тракта, эти самые Чёрные горы были оставлены за ними. А это, скажу вам, лакомый был кусочек — земля богатая лесом, где кишели медведи и олени. Лакоты называли эти горы Паха-Сапа и считали священными, потому как для индейцев любое урочище, столь изобильное лесом и зверьём — священно. Белый человек, если найдёт такое место, тут же бросится туда и начнет эксплуатировать его на всю катушку. Другое дело краснокожий — тот знает меру.
Я был там как-то раз, в этих горах, ещё мальчишкой. Помню, накануне Старая Шкура долго колдовал и ему привиделось, будто мы убили шесть оленей, двух медведей и вырезали двадцать семь жердей для типи. А потом так и вышло, один к одному, и больше ничего мы в Чёрных горах не взяли и ушли оттуда, ничем не потревожив их тихие синие леса и незамутнённые серебристые воды. И даже если б мы тогда нашли там золото, мы бы и знать не знали, что с ним делать.
Но сам-то я с тех пор порядком изменился. Вот и отправился в Дакоту из-за этого самого золота. В пятьдесят восьмом, во время золотой лихорадки в Колорадо, мне не слишком-то много его перепало, но всё же я был белый человек и решил попытать счастья ещё раз.
И я уже не гнался за Кастером. Да и индейцев не искал. Но встретил и то, и другое…
Глава 24. КЭРОЛАЙН
Весной семьдесят шестого я прибыл в город Шайенн, что в Южном Вайоминге. Здесь была станция все той же «Юнион Пасифик» и что-то вроде перевалочной базы старателей, захваченных золотой лихорадкой Блэк Хиллз. А надо сказать, что по договору с Лакотами «бледнолицые братья» должны были держаться подальше от Чёрных гор, и всякого, кто сунется, армия должна была тут же заворачивать обратно. Но такой участок двумя-тремя полками наглухо не закроешь, даже когда захочешь, а уж тем более, — когда нет. Как поймают кого с кайлом да лопатой, а он: «Я, что, я — ничего», — на том все и кончалось. В самом деле, не станешь же стрелять в своего, белого, из-за каких-то паршивых индейцев! Ну, а тому только и оставалось, что сделать вид, будто заворачивает оглобли, и подождать за ближайшим холмом, пока патруль уберётся подальше, и уже спокойно продолжать путь к заветной цели.
Действие патрулей можно было сравнить с тем же старательским ситом, однако, с той разницей, что сквозь это сито мог просочиться любой, кто возымел такое желание; но, как ни странно, даже это крупноячеистое сито перед Блэк Хиллз вызывало в городе чувства, весьма далекие от признательности к армейским властям. А все дело в том, что в Блэк Хиллз подозревали второе Колорадо (была, как вы помните, такая золотая лихорадка), а раз так, то и вопрос ставился ребром: на чьей стороне армия — на стороне прогресса или на стороне варварства? При этом подразумевалось, что прогресс олицетворяют собой белые, поэтому армия не должна мешать честным старателям столбить участки, а наоборот — выступить и прогнать нахальных краснокожих, ну, чтобы не стояли на пути прогресса. Раздавались и более радикальные голоса. А в общем, так или иначе, но в воздухе пахло грозой.
Чёрных туч, что надвигались на Блэк Хиллз со стороны равнин, не могли не замечать и сами индейцы, но их беда была в том, что остановить грядущее нашествие им было не под силу. Единственное, что им оставалось, это тихо-мирно спускать непрошенных гостей с родных гор, оказывая им самое любезное внимание, чтобы — не дай Бог! — эти самые гости как-нибудь не обиделись. Вот уж поистине христианское долготерпение!
Ну, так значит, весной семьдесят шестого прибыл я в город Шайенн, подчеркиваю — город Шайенн, а вовсе не индейское племя, ибо город, хотя и был назван в честь племени, отличался от него решительным образом. Если бы, скажем, настоящему Шайену (который индеец) вдруг вздумалось проехаться по Шайенну (который город), можно было смело ставить сто к одному, что до центра он не доедет — первый же белый, кому он попался бы на глаза, проморгавшись, тут же разрядил бы в него свою пушку. Да, ну так вот, не успел я прибыть в Шайенн и что же я вижу? — на улице смачная потасовка. И хотя дерутся только двое, зато есть на что посмотреть: какой-то невзрачный малый самого что ни на есть худосочного телосложения бойко охаживает здоровенного верзилу и вот-вот усадит его прямиком в лужу.
При виде хорошей драки я всегда чувствую, что нет таких дел, которые не могли бы обождать, и присоединяюсь к толпе зевак: надо же поглядеть, кого это там охаживают. Присматриваюсь — и что же? Оказывается — это мою сестру Кэролайн.
Наблюдать, как какой-то ублюдок, пусть даже из лучших побуждений, молотит мою сестру, я, конечно, не собирался, и пусть он был чуть не вдвое меньше её, разница не могла служить оправданием столь явного неуважения к женщине. Однако, поскольку в толпе никто вмешиваться не спешил, то прямого вмешательства, наверное, не простили бы и мне. Поэтому, особенно не дергаясь, я с независимым видом извлекаю из кобуры свой новехонький «Кольт», нежно перевожу барабанчик и жду, когда они хоть на миг разомкнут объятия, чтобы, значит, ненароком не зацепить Кэролайн. Тут как раз этот недомерок проводит славный апперкот, Кэролайн совершает что-то вроде пируэта и уже совершенно неприлично приземляется на все четыре. Я приподнимаю «Кольт», но тут мой сосед по зрительскому ряду и говорит: «Что ж, сэр, полагаю, вопрос о Пиковой Даме можно считать решенным!»
«Что за чёрт! — думаю про себя. — Как некстати привязался!» — а вслух спрашиваю: «Вопрос о ком, сэр?»
— О Пиковой Даме, сэр, — отвечает он и сплевывает табачную жижу ровно в дюйме от носка своего сапога. — Вы, я вижу, припозднились к началу, так вот, эти две сучки заспорили ещё в баре: та, рыжая, что поздоровее, что она, мол, Пиковая Дама — и все тут, а та, что поменьше, как раз входит в бар и фигуру ей со средним пальцем: «давай, — говорит, — выйдем, разберёмся!»
Я незаметно опускаю «Кольт» в кобуру. «Слава Богу, — думаю, — удержал сосед от греха!» — и гляжу, что ж это за конкурентка объявилась у моей Кэролайн? Та стоит — руки, как у боксера, чтобы, значит, в случае чего, поставить, а, вернее, уложить Кэролайн на место. Ну, что сказать? Более страшной дамской рожи я в жизни ещё не встречал, а повторять ту отборную брань, которую она вылила на поверженную Кэролайн, даже язык не поворачивается! Да-а-а, по сравнению с ней излияния той же Кэролайн могли показаться воскресной проповедью, а ругань портовых грузчиков — выступлением церковного хора.
Тут надо заметить, что в ту пору прозвище «Пиковая Дама» или иначе «Джейн Баламутка» было на слуху у всех ковбоев от Техаса до Канзаса, от Небраски до Аляски, если, конечно, на Аляске были ковбои. Само собой, слыхал это прозвище и я, но вот повидать этот редкостный экземпляр довелось впервые. Как я уже сказал, рожа у этой дамы была преотвратнейшая: печеный картофель, и тот — смазливей, а уж всяких там прелестей-статей — и с подзорной трубой не сыщешь. И вот поглядела эта красавица на Кэролайн, убедилась, что та вроде как вставать не собирается, ткнула её носком сапога, сплюнула, подобрала сомбреро, что валялось тут же в грязи, и, не потрудившись отряхнуть, нахлобучила на голову, стриженую, как у мальчишки. После чего она, к вящему восторгу публики, ещё раз продемонстрировала своё незаурядное искусство слова, на сей раз безотносительно к Кэролайн, и поплелась в салун.
Помнится, я рассказывал о том, как сестра спасала меня после злосчастного поединка с зелёным змием — вот и пришел мой черед отплатить ей добром за добро! Но как ни хотелось мне рассчитаться с ней той же монетой — увы, ввиду её могучей комплекции задача оказалась для меня непосильной. Пришлось ограничиться малым: сбегать к ближайшему лотку и, растолкав чьих-то лошадей, набрать воды в шляпу. Воду я с размаху выплеснул ей в лицо, и Кэролайн одарила меня взглядом, полным неосознанной любви и признательности. Тем не менее, первое, что она произнесла при виде родного брата, было:
— Так где эта шлюха? Сейчас я её прибью!
Я сел рядом с ней на корточки и сказал: «Кэролайн, тебе задали трепку, причём, по всем правилам, и, насколько я могу судить, совершенно заслуженно. Зачем ты доказывала джентльменам, что ты Пиковая Дама, когда на самом деле Пиковая Дама — та самая дама, что вытерла об тебя ноги?»
Кэролайн понадобилось ещё некоторое время, чтобы окончательно прийти в себя и сообразить кто я такой, однако она все ещё была слишком расстроена, чтобы выразить свои сестринские чувства подобающим образом. С огромными усилиями мне удалось оторвать её от земли и придать ей хоть какую-то устойчивость, необходимую хотя бы уж для того, чтобы не смущать общественный пейзаж зазывным положением фигуры. Что и говорить, в вертикальном положении вид Кэролайн внушал ещё большую тревогу, чем при горизонтальном: глаз оплыл, как свеча; губы — как у того негра; в причёске пролысина — выдрала проклятая конкурентка; ухо — чуть не откушено, а про синяки и говорить нечего — живого места не видно! Хорошо еще, что неподалёку от салуна проживал то ли лекарь, то ли знахарь, а в общем — человек, у которого от властей был соответственный патент на то, чтобы, значит, соответственно пользовать тела и кошельки посетителей популярного заведения. С этим лекарем-знахарем нам просто здорово повезло: он сумел поставить не только диагноз, но ещё и пару-тройку примочек, и даже дал склянку с каким-то патентованным зельем для поддержания, как он выразился, то ли тонуса, то ли модуса вивенди.
Заботами высокоучёного джентльмена Кэролайн почувствовала себя не в пример лучше прежнего, а уж глоток патентованного зелья — тот окончательно привел её в чувство. А вернее — даже в два чувства: чувство мести и чувство голода. Преодолеть такую раздвоенность чувств, по мнению Кэролайн, можно было только в салуне, причём, как можно быстрее — пока действует этот самый фокус вивенди, но в салун я её уже не пустил, а для поддержания фокуса вивенди повел в ближайшую забегаловку, где под моим присмотром она уплела отбивную размером с лошадиное седло и чуть не три фунта жареной картошки.
Ту отбивную я прекрасно помню и по сей день, ибо если величиной она могла соперничать даже с лошадиным седлом, то прочими вкусовыми достоинствами — разве что с лошадиным копытом. Благодаря этому обстоятельству отбивная с лихвой оправдывала своё название: у меня, например, она отбила аппетит, зато у Кэролайн — поползновения на чужой титул.
Одержав нелегкую, но тем более почетную победу над суровым продуктом, Кэролайн душевно размякла, утратила боевой запал и вроде как удовлетворила свою жажду мести. Отколупнув от стола щепочку, она задумчиво принялась ковырять в зубах, и тут, озирая облик сестры, я с горечью отметил зубодробильные последствия её салунного образа жизни. И пусть, как говорится, в зубы я ей не заглядывал и не считал, с первого взгляда мне и так стало ясно: считать особенно нечего — все они уже наперечет. Я понял, как несладко приходилось Кэролайн все эти годы, и меня охватило острое чувство жалости. Оно ведь как получается? Женщина, с какой стороны её ни возьми, а существо отличное от мужчины, и что касаемо зубов, то в её жизни они играют куда большую роль, чем в нашей. Женщине — ей ведь и поулыбаться надо, и подхихикнуть, ну и посмеяться, наконец, чёрт подери, — было бы что показать! А что тут покажешь, когда вместо передних — сплошная пробоина? Вот то-то и оно!
— Ну? — говорю я ей, собираясь выяснить, как же она докатилась до такого состояния.
— Что «ну»? — оживилась Кэролайн. — Не «ну», а был бы ты настоящим братом, уже б давно сбегал и пристрелил эту поганую шлюху!
— Может быть, я ещё так и сделаю, — рассудительно заметил я, — но только вначале хотелось бы знать, чего такого она натворила кроме того, что перекрасила тебя из пиковой в червовую. С бубной пополам. И это при том, что у вас разные весовые категории.
— Это потому, что я не в форме, Джек! — пожаловалась Кэролайн. — Я форменным образом не в форме!
И залпом вливает в себя полкружки кофе.
— Мне очень плохо. Мне так плохо, что я просто-таки помираю. Ты и представить себе не можешь, до чего мне плохо!
Вот тут она была неправа. Я вполне представлял себе, до чего плохо может быть человеку, у которого в желудке застрял этот кулинарный монстр — я опять же имею в виду отбивную. Так что я очень даже сочувствовал Кэролайн. Более того, со свойственной мне врожденной деликатностью я попытался показать ей, где облегчить свою участь, но Кэролайн лишь безнадежно махнула рукой.
— Ах, да я не о том, Джек!
И в доказательство допивает остаток кофе.
— Я действительно умираю. Но умираю не от чего-нибудь, а… от любви! Да-да, Джек, твоя сестра умирает от любви, но… тебе этого никогда не понять, потому что ты черствое, холодное, бездушное и бессердечное существо — все вы, мужчины, одинаковы!
Несмотря на явную категоричность этого утверждения, я решил с нею не спорить, а наоборот, собрал в кулак всю свою мягкость, теплоту и сердечность и как можно задушевней спросил, в чём дело.
— В чем, в чем — ни в чем! — хлюпнула она носом, и я тут же переменил тему — не люблю, когда женщины плачут.
— Слышь, Кэрол, — интересуюсь я самым беззаботным тоном, ну, чтобы отвлечь её от грустных мыслей, — а как там, кстати, поживает твой разлюбезный Фрэнк, как его — Путаник, что ли? Помнится, году этак в шестьдесят седьмом он питал к тебе сильную слабость…
— Ах, да никак он не поживает, — вздыхает она, — если мы говорим об одном и том же. Только звали его не Путаник, а Затейник. Впрочем, это всё равно, потому как Фрэнк, несмотря на своё честное имя, оказался просто бесчестным подлецом и негодяем!.. Джек! Как только ты смылся, покинув свою беззащитную сестру на произвол судьбы, так этот подлый негодяй сразу же и полез попользоваться моей беззащитностью. Пришлось охладить его пыл, ну не то, чтобы очень, а так, слегка. «Кольтом» по голове… И знаешь, что этот подлец мне устроил? Он взял — и переохладился! Джентльмен называется… Но ему-то что: был Затейником, стал покойником — и всё. А мне что делать? Ты, кстати, куда пропал? Тут майор Норт всем рассказывал, будто в той драчке с индейцами ты драпанул так, что только тебя и видели; оставил, говорит, поле боя, и ещё этой… дизентерией обозвал.
— «Дезертиром», — поправил я машинально. Но Кэролайн не слушала:
— Я и говорю, что страшно обидно, когда твоего брата обзывают всякими дурацкими учеными словечками. Сказал бы уже просто: «Ох, и болячка этот ваш Джек!» — и то б легче было Кэролайн относилась к тому, увы, нередкому типу людей, коих в общении с другими более всего прочего интересует собственное мнение, а вернее — только оно их и интересует. Отличительной чертой этого типа является его полная неспособность прислушаться или хотя бы выслушать мнение собеседника, и что всегда меня особенно поражало, так это то, что при всей его, этого типа, категоричности, он настолько увлечен собственным краснобайством, а если точнее — то просто игрой на чужих барабанных перепонках, что даже и не замечает, в какой бездне ошибок, заблуждений, противоречий, иллюзий и дешевого самообмана пребывает его ум. Взять ту же Кэролайн — так на каждую фразу из двух слов у неё приходится, как минимум, по три-четыре неверных умозаключения, но едва кинешься их исправлять, как тут же обнаруживаешь, что только подкинул ей повод для новых, аналогичных же, умозаключений. Всё это я, разумеется, подумал про себя, а вслух, конечно, ничего говорить не стал — теперь вы понимаете, почему.
Не дождавшись моей реакции на «болячку» Кэролайн, естественно, не смутилась, а как ни в чем не бывало вернулась на более накатанную колею.
— Так что после досадного недоразумения с Фрэнком, — продолжала она, — пришлось мне, как ты, наверное, догадался, держаться подальше от этой их железки со всеми её затейниками и покойниками. Пришлось податься в Калифорнию, оттуда — в Орегон, потом в Аризону, а потом ещё — в Санта-Фе и, наконец, — в Техас. В Техасе я была дважды. Нет, трижды! Или четырежды? А ещё — в Айове. И даже — в Вирджиния-сити. Где я только ни побывала, Джек! Я везде побывала! Но при этом я всегда, слышишь — всегда! — оставалась честной девушкой!
— Успокойся, Кэрол, я нисколько в этом не сомневался, — заверил я её. — Ну, а что Шайен за петрушка у тебя приключилась с этой (я кивнул в сторону салуна), Баламуткой?
Тут Кэролайн напускает на себя вид оскорбленной невинности: начинает сморкаться, потом вытирать нос рукавом, потом опять сморкаться, и я уже чувствую, что её не остановить.
— Да ты сама посуди, — говорю ей, — если эта стриженая и впрямь Баламутка, так ей же самой хуже: морда такая, будто по ней эскадрон проскакал, язык — что поганая метла, фигура — чахоточная, внешность — тифозная, — положительно, я не знаю мужчины, который упал бы на её прелести! Ну а что до драки, то Господь Бог, знамо дело, что натворил, э-э-э, сотворил женщину совсем для другого!
Наше с Богом понимание женской природы вызвало у Кэролайн приступ хохота. Причём, как и следовало ожидать, отнюдь не по адресу.
— Джек, — заключила она, отсмеявшись, — ты совсем не знаешь мужчин! Ты и представить себе не можешь, скольким из них подавай именно такую — драчливую к языкастую; да они от неё просто с ума сходят! Я и больше скажу: где бы я ни была, а была я, можно сказать, везде, за мной постоянно увивалась целая куча поклонников, и среди них, между прочим, сам Бешеный Билл, Билл Хикок, — небось, слыхал о таком? Ну, так вот: это мерзкое пугало, эта вертихвостка, подстилка, гремучка, вонючка, вошь недошибленная, сопля придорожная, мозоль в сапоге и заноза в заднице вечно перебивала мои самые верные, самые выгодные партии! Стоит им услыхать её имя — и, даже не взглянув на морду, они тут же слетаются, как мухи… известно на что. Баламутить — это она умеет. Так что дело не в морде, Джек. Не в морде, а в имени, понимаешь: в и-ме-ни! А оно у неё даже не настоящее! Настоящее — что-то вроде Джейн Кэнери. Канарейка грёбаная, тьфу! Но иногда просто диву даешься: зайдешь в салун, все твое — все на месте, а никому, никому-никому не нужна, разве что пьяни задрипанной, да и то… лишь затем, чтобы за сиськи дернуть, но зато если скажешь: «Хэлло, ковбои, а вот и я ваша Джейн Баламутка!» — и весь этот салун — он твой, Джек, твой до последней капли виски! Ах, что тут начинается, ты бы видел; все просто из штансв лезут, чтобы, значит, тебе угодить: стульчик пододвинут, стаканчик нальют, ну, ущипнут, конечно, не без этого, но рук — рук ни одна свинья не распускает, иначе мозги вышибут! Тут один попробовал, симпатичный такой, так его живо за дверь выкинули: «Научись, — говорят, — как вести себя с дамой!» — представляешь, Джек? Ну, и ты, глядя на такое к себе отношение, сразу чувствуешь, что ты для этих парней не какой-нибудь хвост собачий и не коровья лепешка, а — женщина, женщина с большой буквы, любимица публики!.. Джек, в моей жизни были большие неудачи — вся моя жизнь была одной большой неудачей, и мне, как никому другому, хочется чувствовать себя любимицей… любимой…
В голосе Кэролайн послышались жалостливые нотки, ещё чуть-чуть — и расплачется, а утешить её мне было нечем. Нечем, потому что на сей раз она была права.
В дальнейшем я неоднократно размышлял о том поразительном и своеобразном феномене, который с нелегкой руки Кэролайн можно было бы назвать «феноменом имени». И пришёл к выводу, что он-таки сильно отличается от того, что она обозначила словом «морда». Действительно, если морда как бы всегда с тобой, то уж об имени этого никак не скажешь. Имя живет какой-то своей, особой, отдельной от тебя и непостижимо загадочной жизнью. При этом имена незаслуженно забываются, зато другие настолько обрастают легендами, что уже не имеют ничего общего со своими владельцами. За примерами ходить далеко не надо. Возьмите хотя бы меня: какая удивительная судьба выпала на мою долю; в каких только передрягах, переплетах, перепалках, перестрелках и перипетиях не довелось мне побывать; в каких только грандиозных событиях нашей истории не принимал я самого непосредственного участия! И что же? Бьюсь об заклад, вы обо мне даже не слышали! А возьмите того же Билла Хикока, того же Эрпа, того же Кастера, и вот уже нате вам: все так и млеют от восторга: «Ах, этот Билл, этот Эрп, этот Кастер!» А чего млеть-то, спрашивается, ведь если подумать, то все это только имена, а за ними — обычные люди со своими грешками и страстишками, ошибками да промашками! Но об этом-то как раз говорить и не принято, вот и выходит, что вместо человека бродит по земле какое-то привидение, призрак, одним словом — имя, да ещё и другим именам свет застит. Попробуйте-ка, напишите книгу «Бешеный Джек Крэбб» или «Последний бой Крэбба», так у вас тут же и спросят: «А был ли Крэбб?» Да был он, был! Только об этом, кроме него самого, никто уж и не вспомнит…
Но в тот момент эти горькие мысли меня ещё не посещали, и думал я совсем о другом, а именно: о моем давнишнем приятеле Билле Хикоке. Должен заметить, что его виды на Кэролайн сильно потрясли мое воображение, ибо представить его в роли ейного ухажера мне никак не удавалось. Даже несмотря на все усилия моих умственных способностей.
— А что, — осторожно попытался выяснить я, — Билл… Он что… тоже здесь, в Шайенне?
И тут уж Кэролайн, дотоле крепившаяся, как деревянная плотина в лихое весеннее половодье, дала волю нахлынувшим на неёчувствам. Добиться от неё большего не смогла бы и знаменитая испанская инквизиция.
Делать было нечего, и я оставался в неведении относительно истинного положения вещей аж до следующего утра, когда решил прогуляться по главной улице Шайенна. И вот, ни о чём не подозревая, иду я себе по улице; врагов у меня в Шайенне пока никаких, да и время ещё такое — для стрельбы вроде как рановато, в общем — тишь да гладь, солнышко припекает — хорошо! И вдруг дверь какой-то лавчонки чуть не вылетает из петель, и на пороге появляется — ну, кто бы вы думали? — ну, конечно же Билл собственной персоной!
Со времени нашей последней встречи он заметно прибавил в весе и поубавил в прыти: даже при том, что он распахнул дверь ногой, я, например, успел бы сделать из него решето прежде, чем он сообразил, кто я такой и что мне от него надо. Зато причёска… причёска совершенно не изменилась — волосы до плеч, только теперь ниспадают не на замызганную оленью куртку, а на самый настоящий городской сюртук, даже с фрачными фалдами. Под мышкой у него зажаты несколько коробок и свёртков и, хотя это крайне неудобно, — все под левой — сказывается выучка, благодаря которой он спровадил на тот свет по совокупности все мужское население среднего американского городка. Глазки его, ввиду некоторой припухлости лица, кажутся теперь совсем маленькими, но так и рыскают по улице, так и шныряют: взад-вперёд, взад-вперёд, туда-сюда, туда-сюда — видно, мается человек в ожидании. Честное слово, мне его даже жалко стало: от жалости руки просто сами зачесались — дай-ка, думаю, пульну ему над ухом, пусть приятель расслабится… Но потом ещё раз подумал и… передумал: а вдруг, знаете, старине Биллу нынче не до шуток, не поймёт шутки…
— Привет, Билл, — говорю, — ну, как? Не припоминаешь?
— А-а-а… привет, — в растяжечку произносит он, а на лице и мускул не дрогнет. Видно, что помнит он меня не хуже любой выбоины на своем «Кольте», а это — просто выгадывает время, прикидывает, где у меня пушка и как скоро я смогу её вытащить вдруг что. Наконец решив, что меня можно не опасаться, он заметно добреет лицом и даже расплывается в улыбке: «Да-а-а, сколько лет… Ну что, шулер, все ещё играем?»
— Да нет, — говорю, — только поигрываем, потому как мы люди серьёзные и собираемся на промысел.
И тут я узнаю, что он вроде как тоже. И предлагает стыковаться. Обмыть будущее компаньонство мы отправляемся в салун. И вот, когда мы уже начинаем хлопать друг Друга по плечу и вместо «ты да я» говорить просто «мы», Билл принимается вносить поправки: «Только вначале я ещё должен жениться», — внезапно припоминает он.
«Ага, — смекнул я, — так вот в чём причина слез моей Кэролайн!»
— Уж не на Баламутке ли? — спрашиваю.
Хикок одаривает меня взглядом, каким одарил бы ребёнка, сумасшедшего или калеку, то есть людей, которых по причине их известной неполноценности, лично он стрелять бы не стал.
— Да, ходят такие слухи, — снизошел он до объяснений, — говорят даже, будто мы с Джейн уже вроде как того… и будто у неё от меня ребёнок, девочка, но лично я в эти слухи не верю.
Поразмыслив над его заявлением, я вынужден был признать, что с дипломатической точки зрения оно было составлено безукоризненно: из него не следовало ровным счётом ничего кроме того, что можно было узнать не только от Билла. Но, видимо, он и сам почувствовал, что отношения между компаньонами должны строиться на чем-то большем, чем дипломатия, и поэтому продолжил:
— Так что женюсь я не на Баламутке, а совсем даже напротив — на миссис Агнес Лэйк Тэтчер, вдове нашего знаменитого циркового аттракциониста мистера Уильяма Лайка Тэтчера. Ныне благополучно упокойного, — зачем-то уточнил он. — Миссис Агнес тоже была циркачкой и скакала стоя на спине у белой лошадки… Замечательная женщина, скажу я тебе! Я как увидел её впервые, так и обмер: сердце ёкает, душа в тревоге — вдруг слетит и прямо под копыта… Эх, думаю, был бы я её мужем, к арене и близко бы не подпустил! Цирк, он, знаешь ли, занятие не женское, потому что цирк — он и есть цирк, будь то в Париже, будь то в Нью-Йорке!
«Вот так да! — думаю себе, мысленно почесывая в затылке. — Ну и дела! Это надо же!» — я, разумеется, огорошен. Но огорошил меня вовсе не факт Билловой женитьбы на вдове какого-то Тэтчера. И не жестокость этого Тэтчера, посылавшего свою будущую вдову скакать на лошади в стоячем положении. И уж, конечно же, не глубина Билловых рассуждений о цирке. Что меня огорошило, так это та легкость, с которой он принялся жонглировать словечками из чуждого нормальной жизни обихода. «Постой-постой, — подумал я, — а не означает ли это, что великий Билл, молниеносный Билл, Билл, гроза всех ганфайтеров Дикого Запада, на востоке и сам позорно выступал в цирке?!» — под «востоком» я, конечно, не имел в виду Париж…
Представьте себе, все оказалось именно так, как я и думал! Более того, Билл, похоже, даже не сознавал, какой позор он навлек на всех нас, честных жителей фронтира: ковбоев и старателей, бандитов и ганфайтеров, словом — всех тех, кому по роду своей деятельности приходилось сталкиваться с его прославленным «Кольтом»!
— Ты, Джек, не обижайся, но по сравнению с цирком твой покер — просто детские игрушки! — не подозревая о буре возмущения в моей душе, продолжал разглагольствовать Хикок. — Если б не крайняя нужда, ни за что б не бросил!
«Лучше б ты и не начинал!» — подумал я в ответ.
— А дело было так: после Нью-Йорка, где, собственно, мы и встретились с миссис Агнес, задумал я дать представление неподалёку от Ниагарского водопада — доход, как ты понимаешь, верный. Придумал пару аттракционов, сколотил труппу: ну, там, стадо полудохлых бизонов, заспанного мишку и дюжину наездников из Команчей — всё чинно, всё как положено; уже и прибыль стали подсчитывать за вычетом накладных расходов. И что же? От рева водопада все мое зверье как будто взбесилось, вроде как этот водопад прямо на них и падает: медведь орет так, что за ним и водопада не слышно: бизоны сносят загон — и в толпу: ну, а индейцы есть индейцы — у них охотничий инстинкт: заулюлюкали и вперёд, на бизонов! В общем, Джек, кто на том представлении побывал, тот его уже никогда не забудет. Одно обидно: как по мне, так за такое шоу никаких денег не жалко, ну, а меня, что называется, взяли за грудки и давай трясти-вытряхивать… Джек, ты и понятия не имеешь, почем там нынче сломанные ребра — у нас покойники дешевле! Вот и пришлось распродать все, что осталось, еле обратно добрался…
Цирковые похождения Билла — то была прелюбопытная страничка из его великой биографии, но вся она была в прошлом, а меня больше интересовало будущее.
— Кстати об индейцах, — ввернул я как бы между прочим, — тут ходят слухи, что Лакоты не очень-то жалуют непрошеных гостей…
— А-а-а, ерунда! — отмахнулся Билл (разумеется, опять-таки левой рукой). — Скоро за них возьмется армия!
— За кого? — не понял я. — За гостей?
— Да нет же! За индейцев, конечно!
Моя непонятливость начала выводить его из себя.
— Ты, парень, пойми, что если ваш брат чего-то захочет, то его уже не остановить; я как раз слыхал, — тут он понизил голос до шёпота, — из абсолютно компетентных источников, что Грант отдал тайный приказ войскам — золотоискателей больше и пальцем не трогать — пусть себе идут, а как начнется хорошая заварушка (а она-таки обязательно начнется), то наша доблестная армия развернет знамена и — в горный поход, по священным местам. Под это дело уже готовится переброска войск в долину Паудер.
Упоминание о долине Паудер меня неприятно коробит, что, впрочем, вполне понятно при том, что вы знаете об этом благословенном месте, воспетом ещё Старой Шкурой Типи.
— Значит, долина Паудер, — говорю. — А во главе, небось, как всегда лихой укротит — Да ты, приятель, никак с луны свалился! — удивляется Билл. — Ты, что, не в курсе специальных слушаний в Конгрессе?
Мне остаётся развести руками. Я, конечно, сомневаюсь, чтобы человека, упавшего с луны, могло интересовать хоть что-нибудь, кроме собственного здоровья или священника, но Биллу об этом ни-ни, потому что он может обидеться и тогда все, что он хотел бы мне поведать, придется вычитывать из газет.
Не поймите меня превратно, я вовсе не против газет, я их очень даже люблю и даже иногда читаю… при определенных условиях: ну, во-первых, когда забесплатно, во-вторых, когда нечего делать, и в-третьих — желательно перед сном; я — нормальный человек, и самое сильное ощущение, которое вызывает у меня всякая политика, это зевота. Признаюсь честно, когда несколько лет спустя я наткнулся на ту заметку — ну, ту, где говорилось про мужа Амелии, так я подумал: это ж надо, чуть было не подтерся именем родственника! Кстати сказать, когда мы познакомились с Биллом в Канзасе, он тоже плевать хотел на политику, а что его преобразило, так это, наверное, грядущая женитьба — она ведь, знаете, даром не проходит; я сам занимался политикой, когда жил в Денвере и был женат.
В общем, заметив недоумение на моем лице, Билл, конечно, обрадовался и тут же начал просвещать меня насчёт армейского скандала. Что там и как, толком не помню, но связан он был с армейской торговлей, где свой куш вроде бы имел даже Орвил Грант, братец самого президента. Фокус, как это ни странно, был совсем прост: на торговлю в воинских поселениях нужно было получать специальную лицензию, которую военное ведомство, значит, с превеликой радость и выдавало, но только не всякому-якому, а лишь тем, кто имел к нему, к этому ведомству, подход. В дальнейшем, желая компенсировать поход в министерство, а равно — получить законную прибыль, счастливые обладатели лицензий принимались взвинчивать цены до фантастических высот: простой гвоздь, наверное, и сам удивлялся, что попадая в армейскую лавку, он стоит как золотой! При виде такой обдираловки военный министр Белкнап — ясное дело! — не мог оставаться в стороне: неизвестно, что ему там перепало с этих лицензий, но на содержание армии он стал требовать слишком больших денег, а это, в свою очередь, очень не понравилось кое-кому в Конгрессе — я думаю, из тех ребят, кто на те же денежки рассчитывал сам. Так вот, эти ребята ужасно разволновались, им стало жутко интересно, куда деваются деньги, в смысле — ТАКИЕ ДЕНЬГИ, когда официально Штаты ни с кем не воюют?.. «Да что он их, ж…й ест?!» — небось, спрашивали они сами себя, имея в виду Белкнапа. Чтобы это выяснить, они сколотили специальную комиссию, которой, стало быть, и поручили разобраться, дескать, что, откуда, куда и почем. И тут уж, как министр ни крутился, ни вертелся, как ни пытался доказать, что и сам не понимает, куда что девается, а взяли его за это самое место, и взяли крепко.
Скандал разросся ещё больше, когда обнаружилось, что все запасы продовольствия и домашней утвари, которые правительство обещалось поставить в дружественные племена по договору, попали все в те же нечистые руки, и те без лишней волокиты сплавили все это добро подчистую… через армейские лавки. С подобным нахальством конгрессмены ещё не сталкивались, они не выдержали и, невзирая на лица, потребовали объяснений.
— …Короче говоря, — подытожил Хикок, — пока мы тут сидим-прохлаждаемся, в Вашингтоне идёт большая драчка, всё бурлит, всё клокочет…
— Так отчего бурлит-то? — не понял я. — Этот сыр-бор из-за чего?
Гляжу — у Билла отвисает челюсть, глаза выкатываются — сейчас в обморок упадет.
— Ты-ты-ты, что, издеваться вздумал?! — спрашивает он, превозмогая икоту.
…Да-а-а, полезно белым хоть иногда поглядеть на себя со стороны; всем полезно, но белым — особенно. Воспитанный в индейских традициях, я в этой ситуации не узрел ничего удивительного, наоборот — было бы удивительно, если бы белый, дорвавшись до дойной коровы, не выдоил бы из неё всё, что она может дать. Прикидывая, чьим братцем подфартило родиться Орвилу, если и приходилось чему-то удивляться, то это только его скромности. Представьте себе, человек воровал-воровал, а наворовал так мало, что другим людям пришлось создавать специальную комиссию, чтобы разобраться, чего он там наворовал! Да если вдуматься, то как раз те денежки, что бухнулись на эту комиссию, нужно было взять да отдать Орвилу — за его скромность, чтобы не чувствовал себя таким ущербным… Примерно в этом духе я и ответил Биллу.
— Нy, с-с-слушай, т-ты, — говорит мне Билл (еще немного — и у него начнется нервный тик), — ты спрашивал о Кастере, так вот, я тебе уже битый час толкую: Кастер нынче не пойдёт против Лакотов — его вызвали в Вашингтон давать показания!
— Что ж, — обрадовался я, — это прекрасный шанс выслужиться перед президентом!
Скрывать не стану, именно так я Биллу и сказал. Вот как думал, так и сказал, и честно признаюсь, недооценил я Кастера, ох, недооценил…
Но и Билл, в свою очередь (к этому моменту он, кстати, слегка оклемался и стал спокойнее относиться к разнице в точках зрения), оказался прав лишь наполовину. А точнее — на треть. А ещё точнее — на четверть. Или того меньше. Изучив стакан с виски на прозрачность, он тяжело вздохнул и помотал головой: «Не-е, парень, твое дело — покер, а не политика. Политика, она, знаешь ли не для твоего ума, — там такие комбинации, что тебе и не снилось! Там и карт побольше, и ставки повыше, там игра идет по-крупному… Но шулеров всё равно кто-то будет хватать за руку и выводить на чистую воду. Так вот, я тебе говорю: Кастер выступит против Белкнапа и Орвила. Даже если старина Грант его за это попрет из армии!»
Вот что мне сказал Билл Хикок. Тоже, как говорится, что думал, то и сказал, — к тому часу мы были уже изрядно набравшись; ну, а насчёт его правоты — чёрт его знает! — на пьяную голову судить трудно… Лично мне показалось, что он прав лишь в одном — насчёт махинаций… в политике…
— Билл! — говорю я Биллу. — Пусть все так, как ты говоришь, пусть так… Но зачем Кастеру это надо?!
Билл пожимает плечами.
— Зачем… Почему… Да затем, что Кастер — человек чести! А честь, она, штука такая… Знаешь, вокруг полно людей, что Кастера на дух не переносят и очень хотели бы побывать у него на похоронах… но никто и никогда не скажет, что Кастер замарал свою честь, потому как для него она — ну, то, без чего нельзя жить, отбери — и нет человека. Вот так-то, приятель!
Больше о политике мы не говорили.
Дальнейшее помнится смутно. Билл поставил ещё по одной — за будущую миссис Хикок, которая «не чета тем, которых мы навидались ещё в Канзасе», потом признался, что хотел бы завести собственное дело, а для этого нужны деньги, а в кармане ветер свищет; потом размышлял о наших с ним радужных перспективах (это они ему так виделись, потому как у меня, у «индейского выкормыша», на золото должен быть нюх, ну, вроде, как у той собаки на мясо); потом… потом мы пьём ещё по одной, на сей раз уже за мой счёт, и потом ещё долго прикидываем, чего нужно взять в поход, брать ли кого-то в долю и, если брать, то кого, и кого-то вроде бы даже взяли… но вот кого — хоть убей — не помню… Помню только, что настроен был Хикок решительно, и, вернувшись из Цинциннати, где, по настоянию супруги они должны были провести медовый месяц, он твёрдо решил идти со мной в горы…
А ведь изменился Бешеный Билл, изменился… И не только внешне. В Канзасе, я мог бы поклясться, он не то что о каких-то министрах — при каком президенте живет, и то, наверное, не слыхивал! А уж хитросплетения большой политики (в отличие от спускового механизма) интересовали его едва ли в большей степени, чем узор… на кучке дерьма. Не очень-то заботил его и свист ветра в кармане. Но замечу, что если любовь творит чудеса, то одно из них как раз и сидело передо мной! Представьте себе Билла, подносящего к губам стакан… правой рукой! Не можете? А я это видел собственными глазами, провалиться мне на месте, если я лгу! Мало того, пару раз он даже не дернулся, когда в салун вваливались новые посетители! И — да что там говорить! — я полез в карман за долларом, а он и бровью не повел, как будто так и надо…
Вы только не подумайте, что он обабился или, как сказал бы любой ковбой, что «она взбила из него сто фунтов масла» — что вы! — не прошло и одного дня, как он, не моргнув глазом, ухлопал какого-то молодчика перед конюшней на постоялом дворе — тот то ли не знал, что перед ним Бешеный Билл, то ли наоборот — хотел прославиться от Вайоминга до Нью-Йорка, только Билл оказался всё равно быстрее, хоть и славы ему этот лишний покойник все едино не добавил; нет, я говорю о том, что появилась в нём какая-то трогательная незащищенность, исчезло то извечное напряжение, что сопровождало каждый его шаг по этой земле, и, может быть, поэтому он показался мне каким-то другим, совсем не таким Биллом, какого я знал по Канзасу и о котором сейчас столько понаписано.
Естественно, я не стал докучать ему расспросами о том, было у него что-то с Кэролайн или не было — не знаю этого по сей день и, скорее всего уже не узнаю никогда. Но если из области достоверного воспарить в сферы предполагаемого, то зная Кэролайн, можно прийти к выводу, что романтическое приключение с Биллом если и впрямь имело место — то только в недрах её больного воображения. С высоты моего возраста и опыта я отчётливо вижу Кэролайн и ясно понимаю, что выйти замуж было её самой заветной мечтой и, вследствие этого (как оно часто бывает), мечтой несбывшейся. Оттого-то она и впадала то в смех, то в слезы, а мне приходилось выслушивать её бесконечные россказни о бесчисленных ухажерах от несчастного Фрэнка до Бешеного Билла. Сейчас мне уже начинает казаться, что даже и Затейник никогда не предлагал ей ни руки, ни сердца, ни чего другого; а так, на беду свою зашел поболтать о том-о сём, неловко пошутил, а здоровье хлипкое, вот и очутился в покойниках раньше, чем успел понять, что с любовью не шутят. Впрочем, как утверждал один мой темнокожий приятель, каждый находит себе смерть но душе — не в том смысле, что какая больше нравится, а в том, что при всём богатстве, выбора-то у нас и нет: смерть у каждого своя, какая душа — такая и смерть.
Ну, да Бог с ним, с Затейником, а нот что касается Кэролайн, то крушение надежд ранней юности, конечно же, не могло не сказаться на её душевном равновесии. С возрастом пропасть между мечтами и действительностью только усугубилась — увы, все мы стареем, а Кэролайн на ту пору стукнуло ни много ни мало, а, дай Бог памяти, сорок четыре; замуж она так и не вышла, хотя и прилагала к тому все усилия — и так с того достопамятного дня пятьдесят второго года, когда пьяные Шайены, порезав мужчин каравана, побрезговали её девичьими достоинствами. Отдавая ей должное, нужно сказать, что сохранилась она прекрасно. В волосах — ни серебряной нити, на лбу — ни морщинки, ну разве что крупные черты лица обозначились резче обычного. Да если бы не отсутствие передних зубов да не это багровое ухо, вам бы и в голову не пришло, что ей за сорок! И вот, казалось бы: держи рот на замке, ухо как-нибудь да заживет, а нет — так и чёрт с ним! — можно и платочком прикрыть; а там, глядишь, кто-нибудь и клюнет — и не такие замуж выскакивали, но… если верно говорят, что браки заключаются на небесах, то небеса, видно, попросту позабыли о Кэролайн! Да-да, как это ни печально, но времени на решение матримониальных проблем у моей сестры больше не было…
Несмотря на бравый вид, исподволь, исподтишка и незаметно к сорока четырем годам сестру мою Кэролайн источила самая настоящая старость. Я не оговорился: то была именно старость, но старость не снаружи, а внутри, и насколько она пощадила её обличье, настолько же не пощадила её ум. Бедолашная Кэролайн тронулась рассудком. Разум её угас. Последней свечой, догорающей в кромешной тьме её сознания, оставалась её несбывшаяся мечта.
Окончательно я это понял, когда после встречи с Хикоком вернулся в гостиницу, где мы с Кэролайн снимали комнаты, и решил поставить её перед фактом его женитьбы — лучший способ прекратить дамскую истерику — это отвесить даме оплеуху.
— Слыхала новость? — говорю я как можно беспечнее, рассматривая потолок, а сам краешком глаза, конечно, наблюдаю за ней. — Бешеный Билл-то, — говорю, — однако жениться собрался!
Кэролайн как раз готовилась отойти ко сну. Откинув покрывало, она сидела на кровати и сосредоточенно наводила педикюр — складным ножом чесала себе пятку правой ноги. При моих словах нож слегка помедлил, затем задвигался вдвое быстрее.
— И вовсе не на Джейн Баламутке, — добавляю ещё более беспечно, а глаз мой сам начинает коситься на этот ножичек.
Кэролайн заканчивает процедуру, спокойно складывает ножичек, подымает голову и гордо выпрямляется — ни дать ни взять — королева английская: «А я знаю, — говорит, — потому как НА САМОМ ДЕЛЕ он женится на мне!»
Тут я и сел. Тут я и понял, что НА САМОМ ДЕЛЕ её место не здесь, а в психушке.
Само собой, в первую попавшуюся я её не потащил, так как в Шайенне их не было, а надо бы, ох, как надо! — ибо стоило мне обмолвиться о Билловой свадьбе, как ни о чём другом ни говорить ни думать Кэролайн уже больше не могла. Проходит день, второй, третий, а она всё талдычит о своём замужестве — у меня мурашки по коже так и бегают: ну, что делать? Пришлось запереть её в номере, чтоб не шастала по городу и не позорила перед людьми, знакомство с которыми должно было споспешествовать моим дальнейшим начинаниям. В отместку Кэролайн ободрала в комнате все занавески, обмоталась ими, как огородное пугало, а ещё на голову нацепила, хренова невеста, фата, говорит, ей будет. Как же! И вот в таком виде она стала кружить по комнате, даже и не пытаясь ни выломать дверь, ни сигануть в окно, что само по себе уже свидетельствовало о её душевном нездоровье куда больше, чем любой медицинский консилиум. Впрочем, медицине я никогда особо не доверял: ну как, скажите, ей объяснишь, что нет и не было в мире силы, что заставила бы здоровую Кэролайн просидеть на одном месте целый день, тем более — в четырёх стенах, тем более — взаперти? А тут ведь не день и не два, а, почитай, без малого неделю! Да от такой жизни и нормальный с ума сойдет, чего уж говорить о больных! Так что, не мудрствуя лукаво, собрал я консилиум в одном своем лице и уже без тени сомнения объявил Кэролайн сумасшедшей.
* * *
Ближайшее «кукушкино гнездо», то бишь, соответствующее учреждение, находилось в Денвере. В Денвере я не был с того часу, когда в шестьдесят четвёртом злокозненном году вместе с Олгой и Гэсом поспешно покинул все блага цивилизации и устремился в неизвестность. Вернуться на пепелище семейного счастья с грузом прожитых лет за спиной и больной сестрой на руках — на это, согласитесь, способен далеко не каждый. Не рискнул и я. Не считаясь с затратами, погрузил я её, родимую, на «Юнион Пасифик» и повез на восток, в Омаху, В поезде Кэролайн вела себя на удивление тихо, потому как была убеждена в том, что церемония бракосочетания состоится именно там, куда я её везу, — пришлось приврать, конечно, но чего не сделаешь ради спокойствия близких! «Хикок, — сказал я ей, — приличный джентльмен, и хочет, чтобы всё было честь по чести, а главное — в большом городе». Это подействовало…
В те годы Омаха уже несомненно заслужила право называться большим городом: кроме тех благ цивилизации, что были в Шайенне, она имела и такое современное удобство как собственный приют для умалишенных. Приют помещался в довольно-таки мрачном здании с решетчатой оградой и с претензией на лужайку, а заправляли им такие умственно-причудливые субъекты, что если бы не специальная форма, то они смело могли сойти за собственных же пациентов. Передавать в их руки Кэролайн было совершенно безрадостным удовольствием, доложу я вам; но делать было нечего, и где-то даже обернулось к лучшему, — потому как Кэролайн приняла приют за собственный особняк, а этих, которые в форме, — за швейцаров, лакеев и прочую челядь, а посему немедленно занялась предсвадебными приготовлениями, тут же позабыв обо мне, своём брате Джеке Крэббе. Даже «до свиданья» не сказала…
* * *
А настоящую свадьбу Билла Хикока я пропустил. Состоялась она, как вы знаете, не где-нибудь, а в Шайенне, и сразу после свадьбы он укатил в свадебное путешествие. Так что лицезреть его драгоценную супругу при всём моём любопытстве мне не довелось…
Не довелось мне и отправиться с Биллом на поиски золота. Из Цинциннати он вернулся один и, не дожидаясь меня, подался в горы. В стороне от индейских троп, там, где и посейчас стоит посёлок со скромным названием Мёртвый Лог, была-таки обнаружена золотая жила. Кое-кто на ней сколотил приличное состояние. Кое-кто, но не Билл…
2 августа 1876 года в старательской халупе, давшей начало всему посёлку, Билл Хикок сел играть в покер. И сел спиной к двери. В халупу влетел человек по имени Джек Мак-Колл и застрелил Билла.
Происшедшее остаётся загадкой до сих пор. Что заставило опытного ганфайтера совершить ошибку, на которую не способен даже новичок? Почему оставил открытой спину? В первый и последний паз в жизни… А я скажу почему. Достиг человек той степени страха, после которой уже ничего не страшно. Великий Билл Хикок просто устал. Устал бояться. А для ганфайтера это последнее дело.
А перед смертью на руках у него оставалось четыре карты: два туза и две восьмёрки — расклад, прямо скажем, не ахти какой, мерзкий расклад. С таким раскладом только и делать-то, что блефовать, а вот блефовать-то Билл Хикок и не умел! Но вот что такое земное величие: всю жизнь я занимался тем, что крапил карты и выигрывал, а вот поди ж ты — слава моя, пожалуй, что так со мной и помрет; Билл Хикок покрапил карты всего лишь раз, и то уже на пороге смерти, но даже это его последнее поражение в результате обернулось выигрышем. Игроки в покер знают, о чём я говорю: расклад в два туза и две восьмёрки носит название «мертвецкая рука» — это в честь Билла… За что ему такая слава?! Упокой его душу, Господи!
* * *
Ну, а я, как пристроил Кэролайн в психушку (а было это в апреле), поглядел на Омаху, увидел, что стоит она на Миссури, и решил: поднимусь-ка я до Дакоты, если повезёт — то до Пьерра, а там, глядишь, и до Блэк Хиллз рукой подать. К тому времени ледостав уже прошел, река только-только открылась для судоходства, и на первом же колёсном пароходике я без труда добрался до Янктона. А в Янктоне — вот уж поистине перст судьбы! — меня поджидал другой, такой же чумазый пароходик под названием «Дальний Запад». «Дальний Запад» спешил на… похороны Кастера.
Я, конечно, шучу. Кто там и на чьи похороны попадет, никто из нас в апреле 76-го не только не знал, но даже не догадывался. А дело было так. Оказавшись в Янктоне, я обнаружил, что обречен на несколько дней вынужденного безделья, поскольку на паровом судне уйма различных работ: разгрузка-погрузка и всякое прочее — почти все, как вы понимаете, вручную. От нечего делать я осмотрел достопримечательности порта, а некоторые из них даже посетил. Вокруг только и разговоров, что о «Дальнем Западе». А надо заметить, что в те времена, когда речная навигация всецело зависела от мастерства и сноровки самого человека, его опыта, знания реки и чутья на речные подвохи, имена лучших капитанов всегда были на слуху. И чем гуще были туманы, сквозь которые они проводили свои суда, тем ярче сияли бакены их капитанской славы. С особым почтением в этом ряду легендарных имен произносилось имя Марша, капитана, изрядно походившего и по Миссури, и по Миссисипи и, между прочим, водившего дружбу с неким небезызвестным писателем м-ром Марком Твеном. Последнее, хотя и не относится к достоинствам, но тоже не лишено любопытства: столь высока была судоводческая репутация Марша, что подмочить её не могла даже непонятная дружба с литературным крючкотвором. Но впрочем речь не об этом. Лично меня не столько заинтересовал сам, пусть и трижды выдающийся Марш, сколько необычный и весьма неожиданный маршрут его корабля. Капитан Марш обещал провести свою посудину вначале вверх по Миссури, затем — по Йеллоустоун, и дальше — чуть ли не к устью Паудер! Бывалые речники лишь головами качали — так далеко па запад не забирался ещё ни один корабль. Но с другой стороны, говорили они, если кто-то и совершит невозможное, то только Марш. Столь единодушное расхождение мнений порождало многочисленные споры; на исход плавания уже потихоньку делались ставки, и хотя до отплытия оставался ещё не один день, на причале ежедневно собиралась толпа зевак. Как видите, беспримерный поход «Дальнего Запада», действительно, вызывал неподдельный интерес, причём, как видите, не только у меня. И всё же самый большой, самый неподдельный и даже самый непосредственный интерес к этому походу питало… ну, конечно же, военное ведомство!
Собственно, военному ведомству этот поход и понадобился: в долину Паудер, в Монтану, стягивались поиска. Время от времени они вступали в стычки с индейцами, а поскольку всё это — расход боеприпасов и перевод продуктов, то нот Марш и подрядился доставить это военное удовольствие нашим солдатам прямо к столу, так сказать, к главному «блюду» кампании — разгрому «мятежных Лакотов».
«Мятежные» Лакоты, похоже, и сами понимали, что Чёрные горы для них безвозвратно потеряны, и судя по военным реляциям, не очень-то за них и цеплялись: ну, налетят, слегка постреляют и… обратно в кусты — картина, в общем-то, знакомая ещё по Уошито… Но в том-то и дело, что для полного повторения не хватало самую малость: решающего победного сражения или иначе — резни. Обеспечить таковую были призваны: генерал Крук, наступавший с юга; Гиббон, что двигался с запада, и Терри (он шел с востока), а все они должны были сойтись в той самой точке, где реки Паудер, Танг и Бигхорн впадают в Йеллоустоун. Задумка была простой, но действенной: тройными вилами пройтись по всей территории Монтаны, загнать индейцев (тех, кто ещё остался) в междуречье и там совместными усилиями уничтожить. Для этих целей в каждой колонне имелась пехота, кавалерия и артиллерия, оснащённая пушками Гэтлинга. Припасы для них и должен был доставить «Дальний Запад», если верить обещанию капитана Марша.
Поболтавшись в порту и потрепавшись с грузчиками, я заключил, что своё обещание Марш давал не ради красного словца, а полагаясь на два важных обстоятельства: самую высокую среди всех речных пароходов осадку своего «Дальнего Запада» и две новых паровых лебедки, с помощью которых он и собирался перетащить судно через любые мели. Впрочем, куда больше, чем во всякую технику, грузчики верили в самого Марша. Своей верой они заразили и меня.
Но «Дальний Запад» не брал пассажиров, и я решил было совсем махнуть на него рукой, однако, в Янктоне я услыхал ещё одну новость, и эта новость начисто лишила спокойствия: Кастер вернулся из Вашингтона в войска.
Для этого ему не пришлось лжесвидетельствовать в конгрессе, наоборот — он обрушился на Грантова братца со всей силой своего красноречия, и, может, тут его военной карьере и пришел бы конец, но на его защиту грудью встали все генералы: он им, видите ли, понадобился — вспомнили, как он сжег деревню Черного Котла. Так что Грант лишь поморщился, зубами поскрипел и махнул рукой.
Вот так и я, услыхав эту новость, махнул рукой на свой пароходик и помчался к Маршу. В отличие от Кастера, который подвесил свою карьеру на волосок оттого, что не мог лгать, я солгал, не моргнув глазом, и даже угрызений совести при этом не испытал: мне было не до высоких чувств — я должен был ехать! С наглым видом я направился прямо на капитанский мостик и заявил Маршу, что получил от Кастера телеграмму, где ясно сказано, что Кастер нуждается в моих услугах, поскольку я, пятое-десятое, известный разведчик, служивший под его началом ещё во времена Уошитского похода. Марш воззрился на меня с недоумением. Но я — челюсть вперёд, глаза честные; так, мол, и так, Кастер без меня как без рук, а кроме того, я сам готов оплатить свой проезд. Марш сказал, что с его стороны возражений нет, если только я сам смогу отыскать себе место под солнцем, то есть, на палубе, — всё остальное, что он мог бы предложить мне в более обычных обстоятельствах было в буквальном смысле слова «начинено» военными чинами всех родов войск, включая маркитантские. Я, конечно, опять шучу: на самом деле, маркитант был только один, но с собою он вез такое оружие как виски, причём, в количестве достаточном для того, чтобы свалить с ног и обезвредить целую армию. Так что, потолкавшись среди бочек и ящиков, которыми была заставлена вся палуба (трюм, разумеется, тоже), в конце концов я подыскал себе укромное местечко, где удалось расстелить одеяло и вытянуть ноги…
Вот так в начале мая 1876 года я и оказался на борту «Дальнего Запада», спешившего через Южную Дакоту вверх по Миссури, в долину Паудер, в гущу боевых действий и в то же время на похороны генерала Кастера.
Глава 25. ОПЯТЬ КАСТЕР
Из-за весеннего половодья наш пароход дошлёпал до форта Абрахам Линкольн на берегу Биг Мадди ни много ни мало, а недельки, эдак, через две. Вот тут-то как раз и выяснилось, что ровно две недели назад войска под началом генерала Терри покинули форт и сейчас должны были находиться уж никак не меньше чем на полпути к Йеллоустоун. Не могу сказать, чтоб это известие свалилось мне совсем уж как снег на голову, но приятности в нем было не больше, чем в ушате холодной воды из той же Биг Мадди, ибо насколько я приблизился к Кастеру, настолько же и он удалился от меня, будучи первым заместителем Терри.
В то время форт Линкольн был непритязательным местечком, расположенным как бы в насмешку над фортификационными наставлениями, в низине, окружённой большими холмами, откуда индейцы могли следить за всеми передвижениями войск. Судя по тому, что на склонах виднелись груды камней, уложенных как я присмотрел, заботливой человеческой рукой, именно так они и поступали. Представляю, что было бы, если бы у них была артиллерия…
Но пушки пушками, а едва наш корабль пришвартовался у пирса, как по сходням поднялись две весьма интересные женские особи, причём обе из них — настоящие леди, а одна — даже очень хороша собой. Да что там «хороша» — то была самая прекрасная женская особь, что когда-нибудь встречалась мне, не считая, разумеется… сами знаете кого. Так что все в ней, в этой особи было прекрасно, все, что ни возьми: хоть манеры, хоть грация, а хоть и все остальное — воистину, она представляла собой незабываемое зрелище для здешних мест, где глаз положить не на что, кроме пустынных холмов да голых камней, за которыми, к тому же, сидят индейцы. А была это никто иная, как миссис Кастер, и, честное слово, я сразу подумал именно на неё, хотя до этого если что и знал о ней, то только понаслышке. Миссис Кастер была круглолица, у неё были большие печальные глаза, а пышные волосы были убраны под бархатный капор наподобие английского дерби… Вот, значит, какая пташка вспорхнула на борт «Дальнего Запада»! Неудивительно, что пока они поднимались по сходням, поглазеть и позубоскалиться на неё вывалила вся команда вместе с пассажирами. Но, между прочим, лишь один человек догадался протянуть даме руку, ну, чтоб дама чувствовала себя дамой и не бултыхнулась в реку — так вот, этим человеком был я. Да-да, можно пожимать плечами, можно удивляться хитросплетениям человеческих судеб, но факт остаётся фактом: именно Джек Крэбб протянул руку помощи миссис Кастер. И вот, казалось бы, ну, что здесь такого: мало ли кто кому протягивал руку — история, она как бы выше подобных мелочей, но я вот что скажу: почем знать, во что сегодняшние мелочи выльются завтра? Понимаете, о чём я говорю?
Миссис Кастер оперлась на мою руку и ступила на палубу. «Спасибо» она не сказала, а просто взглянула на меня и улыбнулась, блеснув жемчужными зубками, — и то была наивысшая благодарность, которую она могла позволить себе за мое джентльменство. Но, честное слово, если бы в ту минуту она сказала мне: «Джек, тут у меня неприятности, и, насколько я понимаю, из-за индейцев», — то я, наверное, не колеблясь, пошел бы и пострелял всех индейцев на свете! Но она только кивнула и прошла мимо, направляясь к капитанскому мостику. Вот так-то. А вы говорите — «мелочи». Да и кто я был для неё? Ни ростом не вышел, ни чинами, да ещё и физиономия под слоем копоти не в лучшем виде — но уж это вина не моя, а владельцев и команды «Дальнего Запада», не потрудившихся оснастить свою посудину какими бы то ни было умывальными удобствами. Вот из-за всех этих мелочей миссис Кастер только и одарила меня разве что единственной полуулыбкой и проследовала далее — на капитанский мостик. А я — я поплёлся за нею как последний деревенский придурок, которому загулявший ковбой бросил в шляпу серебряный доллар…
Кроме миссис Кастер, как я уже говорил, на борт «Дальнего Запада» поднялась ещё одна женская особь, цо этой особи Господь отпустил гораздо меньше достоинств, именно — всего два, причём, одно из них, как мне показалось, явно проистекало из другого, ибо эта дама приходилась родной сестрой генералу Кастеру, а затем уж, по совокупности, и законной женой лейтенанту Джеймсу Колхауну. Описать её внешность я не смог бы уже через минуту после того, как я её повидал, — ни за очень большие деньги, ни даже под угрозой того, что с меня снимут скальп — уж такая вот она была неописуемая.
Заметив спешивших к нему дам, капитан Марш любезно пригласил их к себе в каюту, а я (как не получивший приглашения), был вынужден отираться под дверью. Чтобы не вызывать недоумения матросов, я сделал вид, будто у меня в этом неподходящем месте развязались шнурки и принялся тщательно их перешнуровывать. Эта позиция, хотя во всём остальном и неудобная, дала мне возможность подставить ухо под самую замочную скважину и следить за ходом беседы, не напрягая слуха.
— Капитан, пожалуйста, умоляю вас, — послышался голос, действительно, полный такой мольбы, что даже у меня, человека пусть и не постороннего, но, безусловно, чужого Кастеру, и то от жалости защемило сердце, — капитан, прошу вас, разрешите нам плыть на вашем корабле!
— Простите, мэм, но ничем не могу помочь: это совершенно невозможно! — отвечал на это Марш, возбуждая во мне протест своей черствостью.
В разных вариациях этот диалог повторялся несколько раз, капитан оставался непреклонен, и я предпочёл удалиться, ибо женские слезы всегда приводили меня в смятение.
Присоединившись к толпе пассажиров, что разглядывали унылые холмы, окружавшие порт Абрахам, мысленно я, тем не менее, оставался с миссис Кастер. Она была явно чем-то обеспокоена: она волновалась, и волновалась настолько, что готова была умолять Марша, лишь бы отправиться вместе с нами! Что же случилось такое, из-за чего супруга славного генерала, героя битвы при Уошито, грозного истребителя южных Шайенов, генерала, бросившего вызов самому президенту, генерала, отыскавшего золото в Блэк Хиллз, генерала, у которого под началом было шестьсот испытанных сабель, а на вооружении лучшие в мире пушки Гэтлинга, генерала, от которого ждали только победы, освещать которую был, кстати, прислан корреспондент «Нью-Йорк Геральд» мистер Джеймс Гордон Беннет, — что же случилось такое, от чего супруга этого великого человека (ко всему прочему, ещё и любимица всех ковбоев, старателей и даже, если судить по Биллу Хикоку, ганфайтеров) сейчас заламывала руки на палубе «Дальнего Запада», тщетно пытаясь разжалобить ледяное сердце Марша? Ответа на этот вопрос у меня не было. Я прекрасно понимал, что у миссис Кастер, должно быть, были веские причины, чтобы вот так волочиться за Маршем на виду у всей публики, ибо Марш, посчитав разговор оконченным, выпроводил дам из каюты, и теперь изо всех сил пытался от них избавиться. При этом он то порывался бежать на капитанский мостик, то наоборот — с галантностью медведя подталкивал их под локоток в направлении сходен. Но что ж это были за причины, по которым дамы отказывали Маршу в галантности и не отпускали на мостик, в результате чего могло показаться, будто все трое гуляют себе по палубе взад-вперёд — ну, просто так, от нечего делать, вроде как капитан показывает дамам корабль, а они, в свою очередь, проявляют к этому большой интерес? Да-да, именно таким образом они и должны были выглядеть в глазах стороннего наблюдателя, но я-то был не посторонний, я-то прекрасно понимал, в чём дело! Единственное, чего я не понимал, это что же за всем этим кроется? Для того, чтобы это выяснить, я должен был либо стать четвертым в их компании, либо…
Я предпочел второе. Спустившись на берег, я тут же набрел на опытного сержанта, чьё присутствие на пирсе, а не в войсках, объяснялось его грядущей отставкой, о чём он с нескрываемой радостью и поведал мне сразу после приветствия. Пурпурный нос и водянистый взгляд заставляли предположить, что большинство тягот и лишений военной службы ему пришлось стойко перенести не в седле, а у стойки бара. В пользу этого предположения говорил пусть и не скромный, но зато, опять-таки, очень стойкий запах, распространяемый сержантом футов этак на пять — на шесть вокруг себя. Стоя на пирсе, сержант решительно глядел на тот берег, где располагался богатый салунами город Бисмарк, в котором, очевидно, и протекали его суровые армейские будни.
— Слышь, — спросил я его, намекая на миссис Кастер, — а с чего это нашей первой леди захотелось на передовую? Она что, индейцев не видела?
— А-а-а, — кивнул он понимающе, — так ведь в том-то и дело, что видела! Сон у неё был…
Он повернул на шее шарф, обстоятельно высморкался и закинул грязный конец за спину. Взгляд его вновь упал на мирный город Бисмарк.
— Вот что, приятель, — изложил он диспозицию, — есть там одно свиноранчо неподалёку от пристани, — вдвоём на вёслах враз обернёмся!
— Значит, сон, говоришь, — раздумчиво заметил я, возвращая его к действительности.
— Ну да, сон, — огорчился сержант, — а во сне огромный такой Лакот; сам голый, в одной повязке; ухмыляется, а в руках у него окровавленный скальп.
— Ну и что? — не понял я. — Лакоты — на то и Лакоты, чтобы собирать скальпы.
— Тьфу ты! — сплюнул сержант. — Ох, и туго же ты соображаешь, парень! Дело ж не в том, что скальп, дело в том, какой скальп! А скальп — светлый, с золотистым отливом. Дошло?
— Дошло, — говорю. — Очень, очень дурной сон!
— Это уж точно, — согласился он, — сон совершенно дурацкий. А все из-за чего? А из-за того, что не надо было генералу стричься перед самой кампанией!
— Как? — ахнул я. — Кастер? Постригся?! Да этого просто не может быть! Ты, наверное, шутишь, а?
— Я?! — тут сержант даже обиделся. — Ты, сынок, руками не размахивай, ты вот поезжай вместе с Маршем, там и посмотришь. Вернёшься — можешь поставить стаканчик!
— Но ведь это… это слишком невероятно; это даже в голове не укладывается! — забормотал я в растерянности. Это всё равно, что против Лакотов послать не Кастера, а кого-то другого, человека без опыта, без имени, да просто без шансов на успех! Какой же он теперь Длинноволосый, когда он неизвестно кто! Кого, спрашивается, должны бояться индейцы? Как они теперь должны его называть?
Сержант пожал плечами.
— А хоть и Сыном Утренней Звезды — ну, чем плохо? Как по мне, так лучше и не надо! Между прочим, его Вороны так прозвали…
Сержант имел в виду разведчиков Кастера — в деле на Уошито, он явно не понимал нашей с миссис Кастер тревоги по поводу счастливого имени её мужа.
— А, так ты тоже был на Уошито! — поинтересовался я, почти уверенный в обратном, — уж больно мне не понравились эти его намёки на то, что и он, дескать, личность в этой жизни бывалая, и потому вроде как может судить что в ней, как и почём.
— Нет, в самом деле я, конечно, не был, — признался он (признался, я думаю, только потому, что сразу не смог сообразить, кого я подразумеваю под словом «тоже», себя или Кастера), — в деле я не был, а вот пленных стерег! И просидели они у меня под мушкой все сражение, как миленькие, — никто и не пикнул! Вот так-то.
…Да, такой уж мне попался мудрый сержант — из тех сержантов, что всегда ухитряются находиться при, но никогда не в самом деле! Хотел бы я сказать ему все, что я о нем думаю, но как раз в этот момент на сходнях в сопровождении Марша показалась миссис Кастер вместе со второй дамой. Капитан усадил их в экипаж, что стоял тут же у пристани, а потом долго глядел им вслед — до тех пор, пока экипаж не скрылся из виду. Бедняжка, — вздохнул он наконец. — Но поймите же и меня: куда я её возьму? Под индейские стрелы? А отвечать кто будет? При том, что Грант с Кастером, они как кошка с собакой — того и гляди, передерутся! Кастер из-за неё как-то раз уже побывал под трибуналом — года, эдак, два или три тому назад, в Канзасе…
— А-а-а, помню-помню, — обрадовался сержант, как будто его кто-то спрашивал. После того, как все его начальники отправились в поход, он совершенно забыло субординации, и даже перестал бриться, свидетельством чему была его не менее как недельной давности борода.
— Помню, — сказал он и поскреб эту свою нахальную бороду, — но трибунал — это ещё что! Вы бы видели, как он отыгрался на Гранте во время Большого парада по случаю конца войны! Вот это была умора! Проскакал мимо — и чести не отдал! «Лошадь, — говорит, — понесла»! Ну, понимаете? Лошадь под трибунал не отдашь — лошадь, она и есть лошадь, животное, одним словом, а он — «понесла», говорит! Как же — понесла, когда он её нарочно пришпорил — вся кавалерия заметила, а Гранту и сказать нечего!
Несмотря на живость изложения, Маршу рассказ не понравился: то ли оттого, что он тоже был склонен к безрассудным поступкам, от которых сам же потом и страдал, то ли оттого, что мысли его были заняты совершенно другим, — но в ответ он лишь вздохнул и повторил ещё раз: «Бедняжка».
— Может, ещё обойдётся? — сказал я. — Иногда кажется, будто Кастер заговорённый…
— Так-то оно так, но если с ним что-то случится… Нет уж, пусть лучше она остаётся здесь, — рассудил Марш.
С этими словами он отправился распорядиться насчёт погрузки, а я остался один на один с сержантом, который чуть не насильно пытался вовлечь меня в поход на свиноранчо. В разговоре, однако, выяснилось, что свиноранчо — вовсе не свиноранчо, а наоборот, — так на местном жаргоне назывались питейные заведения; именно они послужили причиной тому, что славный Седьмой кавалерийский полк вышел в поход, не получив ни цента жалования. И проклиная весь белый свет, сержант поведал мне грустную историю о том, как Кастер приказал всем забыть слово «жалование» до тех пор, пока полк не окажется в степях Монтаны. Как всегда в таких случаях, пострадали невиновные, ибо полковая казна (а это двадцать пять тысяч долларов, что составляло жалование за два месяца), отныне пребывала в тех местах, где была и даром никому не нужна, в то время как сержант, едва успев отметить начало кампании с гарнизонными крысами и больными, уже сидел на бобах и отчаянно нуждался в деньгах. Все это он рассказал мне, разумеётся, не для того, чтобы меня разжалобить, а для того, чтобы один ветеран Уошито вошёл в положение другого и заплатил за выпивку. «Ты парень, что надо, — обнадёжил он меня. — Поехали, и тебе будет что вспомнить в последнюю минуту перед боем!»
Несмотря на лестные слова, от приглашения я отказался, на том, однако, основании, что закончив погрузку, Марш не станет дожидаться, пока я вернусь из увольнения, а поплывет себе дальше; а мне, как ни крути, сподручнее добираться вместе с ним.
На том мы и расстались: я поднялся на борт «Дальнего Запада», а он пригорюнился у швартовой тумбы на берегу: вид у него был такой, будто я в чем-то его обманул.
О дальнейшем моем путешествии вспомнить особенно нечего: день проходил за днём, а мы ползли и ползли вверх по Миссури, затем по Йеллоустоун, останавливаясь то нарубить дровишек для парового котла, то скинуть припасы пехотной колонне, что поджидала нас у Глендайв-крик, а то и просто почесать языком у какого-нибудь поселка. Только в начале июня оказались мы в устье реки Паудер, где раскинулся лагерем Седьмой кавалерийский полк.
Я говорю «полк», но на самом деле народу здесь было на целую армию, если не больше: кроме кавалеристов, по лагерю бродила бесчисленная пехота; у орудий возились пушкари; в дальнем конце виднелся обоз — не менее ста пятидесяти фургонов, расположенных полукругом; ещё дальше, за фургонами, паслось немалое коровье стадо, что внушало тревогу о будущем состоянии армейских желудков; ну, а раз уж здесь оказались коровы, то с ними — и всякий прочий цивильный люд, как-то: пастухи, шкуродеры, маркитанты и, наконец, совсем непонятно кто — общим числом человек двести-триста. Неподалёку от артиллерии щипали травку мулы, причём, судя по их количеству, можно было предположить, что недостатка в снарядах у Кастера тоже не будет. Индейских лиц я подметил немного, не более сорока, и все они, по моему же наблюдению, были из племени Арикара, или, как его ещё называли, — Ри. Индейцы Ри были, скажем так, потомственными врагами Лакотов, поэтому Кастер брал их к себе в разведку не задумываясь, и, видимо, был прав — более надёжных союзников против Лакотов он не смог бы купить ни за какие деньги. А ведь было время, когда по берегам Миссури ещё кочевали Шайены, и Ри относились к ним вполне дружелюбно; так что — кто знает? — быть может, если бы жив был Старая Шкура Типи, то не видать бы Кастеру таких разведчиков; ох, не видать — не видать, как пить дать, не видать, как своих ушей.
В отличие от других известных мне индейских племен, что проживали на Миссури, Ри, то бишь Арикары, все как на подбор, были смуглы и низкорослы, а уж неопрятны до такой степени, что любой самый шелудивый пёс в шайенском стойбище слыл бы у них наипервейшим чистюлей; недаром люди говорили, что Ри скорее зарежется, чем вымоет руки. Но сейчас, среди этого многоликого, но бледнолицего столпотворения, я был рад даже и этим несчастным, ну и пусть их, пусть, что грязными руками!.. Я бродил по лагерю и вспоминал Шайенов, Лакотов, Криков и Арапахов, словом — всех тех, кто когда-то жил в этих местах, а теперь оказался неизвестно где; ходили слухи, что Лакоты, например, обосновались на Роузбад, мелкой речушке милях в пятидесяти западу от Паудер.
…Роузбад… Что ж, в юные годы побывал я и на ней. Знаете, отчего она так называется? Вы, небось, думаете, «розовый бутон» — это так, вроде как фигура речи. Ничего подобного! В былые годы её берега покрывал густой-густой шиповник; так что бывало, плывешь по ней в пору цветения, и кажется, будто плывешь среди райских кущей — красота необыкновенная, рябь на воде — и та! — розовая… во как оно было в мои-то годы. Впрочем, кущи кущами, шиповник шиповником, но если Лакоты и впрямь поселились на Роузбад, то нынче им выходило разбирать вигвамы, иначе… иначе потечёт по «розовой» реке кровь, как когда-то потекла по Уошито.
Размышляя таким образом, я вновь приблизился к месту стоянки «Дальнего Запада», где полным ходом шла разгрузка. Как обычно, наблюдающих было в два раза больше, чем грузчиков, и как обычно, наиболее важные персоны были первыми среди первых. Кастера среди них не оказалось, но меня это не смутило. Зная его, я тут же предположил, что, скорее всего он занят более прозаическим делом, а именно, — пишет письма, и, как вы понимаете, не в Конгресс. Так что, потолкавшись вокруг первых, и не желая мешать вторым, я отошёл в сторону и пристроился у штабеля только что сгруженных бочек. Бочками командовал маркитант с таким беспокойным взглядом, что можно было подумать, будто там у него золотой песок. Но поскольку песка в бочках вроде как быть не могло, то оставалось предположить, что у хозяина что-то не в порядке: либо со зрением, либо с мозгами. Лично я уж было склонялся ко второму, но тут дохнул ветерок, я потянул носом и… едва устоял на ногах — в ноздри мне шибанул сивушный дух такой силы и крепости, что у меня разом выветрились все сомнения в маркитанском здравомыслии; просто золото у него было не сыпучее, а жидкое. Невольно мне припомнился отставной сержант в ореоле алкогольных испарений, и я даже испугался: а вдруг он, учуяв запах виски, передумал оставаться среди тыловых крыс, тайком пробрался на «Дальний Запад» и рванул вослед боевым товарищам? Но… хотя все вокруг и пахло сержантом, самим сержантом и не пахло. А на том месте, где я грешил увидеть его добротную наружность с баклажанным носом и томатными глазами, стоял маленький невзрачный индеец.
Он стоял, неподвижно уставившись на бочки, и, казалось, буравил их острыми зрачками. Какое-то время я наблюдал за ним, но потом мне стало как-то не по себе: внезапно я вспомнил, где встречал подобные застывшие взгляды. И место, где это происходило, приятным не назовешь: там содержались дебилы, недоумки, умственно-неприкаянные и душевно-отчаявшиеся люди. Мимо меня пробежал некий солдатик, так я живо ухватил его за рукав и стал кивать на это жуткое создание; индеец, даром что был замухрышка замухрышкой, а внушал, знаете ли, животную тревогу за собственную жизнь. Ах, этот! — слишком громко, на мой взгляд, отрапортовал солдатик. — Это, приятель, не кто иной, как сам Кровавый Тесак, собственной персоной! Да ты не бойся, — заметив мои опасения хмыкнул он. — Тесак индеец смирный, на своих не бросается! Пока не выпьет. Ну, а выпьет — тут уж держи ухо востро — напрочь дурной делается, по пьянке любимую жену зарежет! Ты не гляди, что он неказист с виду, он, между прочим, лучший разведчик и любимец самого Крепкого Зад-д-д… На слове «зада» солдатик поперхнулся, видать, сообразил, что поскольку я в штатском, то могу оказаться кем угодно, вплоть до генеральского меньшого брата Бостона Кастера или, опять же, его племянника Армстронга Рида; оба они ошивались по лагерю и оба непонятно зачем. Так что солдатик ещё пару минут кашлял, прежде чем, наконец, решился доложить, что Кровавый Тесак является лучшим разведчиком и любимцем «самого крепкого и зад-д-диристого ква-ква-квалерийского полка под командованием славного генерала Кастера».
С чем я его поздравил и отпустил. А вот грязный и замусоленный Кровавый Тесак меня не на шутку заинтересовал. В любом случае, пока он был трезв (а я надеялся, что это его состояние сколько-нибудь да продлится), он мог оказаться чрезвычайно полезен для моих начинаний. Очень кстати я припомнил, что по негласным правилам индейцам строжайше было запрещено пить на «белой» воинской службе, тем паче — вместе с белыми, а уж за потворство индейскому алкоголизму можно было лишиться патента, нашивок, да и вообще — нажить себе кучу неприятностей. Поэтому, сколько бы Тесак ни торчал у бочек, как бы ни клянчил и не канючил, как бы не намекал взглядами, жестами и телодвижениями на свою жгучую жажду, шансов у него не было никаких. В какой-то момент осознание горькой правды осенило даже его одурманенные мозги: взгляд потух, плечи опустились, и он пошёл прочь — вид у него был такой, словно на трезвую голову ему довелось побывать на похоронах у той самой горячо любимой жены, которую, по словам солдата, он сам же и зарезал.
Вот тут-то, в годину его отчаяния, когда, казалось бы все рухнуло, все потеряно, откуда ни возьмись, появляюсь я и жестами показываю, что готов принять участие в его дальнейшей судьбе.
Моя личина у маркитанта возражений не вызывает, без помех заполнив у него флягу, я двинулся с Тесаком за пределы лагеря.
Не знаю как там сейчас, а раньше долина Паудер была сплошь изрезана оврагами, что создавало бесчисленные возможности для доверительной дружеской беседы. Полазив среди густых зарослей полыни и чертополоха, мы подыскали приятное местечко, достаточно укромное для двух человек и… одной гремучей змеи. Гремучка обнаружила свое присутствие, когда он отошёл пописать, Тесак вовсю косился на меня (чтоб я не объехал его с дележкой) и, соответственно, не уследил за направлением струйки. Как мне послышалось, гремучка шикнула на него самыми последними словами, на что Тесак ответил ей тем же, и на том они благополучно расстались. Черт его разберет: может, знал он что-то особенное, может — не сезон, а может, как говорится, и не судьба, но, в моем разумении, в девяноста девяти случаях из ста последнее слово должно было остаться за ней… Ну, а Тесак, облегчив пузырь (на предмет, чтобы больше влезло), великодушно предложил мне воспользоваться отвоеванной территорией, ибо, как он пояснил знаками, змей в округе много-много, видимо-невидимо, — столько, сколько солдат у Кастера.
Поблагодарив его за любезность, но не желая уходить в сторону от цели нашего рандеву, я отклонил приглашение и протянул ему флягу, к которой он тут же и припал, да так жадно, будто и вода в ней была не огненная, а самая обычная, из ручья. Только к середине фляги (а она у меня большая, полведерная) тесаковы щёки пошли бурыми пятнами, лоб покрылся мелким бисером, а из-под воротника полезли местные насекомые, ошарашенные подзабытой дозой алкоголя.
— Ну, и что собирается делать Длинноволосый? — спрашиваю я напрямик, помогая себе пальцами.
В ответ послышалось ещё несколько бульбушек. Но потом, сообразив, что я в языке Ри, прямо скажем, ни бе, ни ме, а только шевелю пальцами, Тесак отвлекся от упоения и, опять же пальцами, изобразил, что Длинноволосый постригся. И покачал головой.
Я показал, что мне это известно и пожал плечами: мол, что с того, если человек удачливый? Но Ри был не согласен: он даже не покачал, а затряс головой и волосы вороновым крылом упали ему на глаза. Я заглянул в них и без слов прочитал все, что он хотел сказать. «Кастер умрет» — вот что сказали мне его глаза.
Белому, наверное, так до конца и не понять этой смиренной индейской обреченности перед неизбежным или тем, что он считает таковым — для этого нужно родиться индейцем; но если уж тебя угораздило появиться на свет где-нибудь за вигвамом, то можешь быть уверен: тебе уготована судьба, полная, пусть даже самых неожиданных, самых невероятных, но… предопределенных событий; искусство состоит в том, чтоб суметь увидеть приметы этих будущих событий в настоящем. Тот же волос для индейца — не просто волос, а и некая связующая нить между прошлым и будущим, и скальп для него — не просто воинский трофей, а нечто неизмеримо большее…
Подобно тому, как охотник по единому следу «вычитывает» зверя, индеец по скальпу «вычитывает» человека, его прошлое, настоящее и будущее, его жизненную силу и способность победить в бою.
Скажем, воин, у которого вследствие болезни выпала хоть часть волос, больше не воин, ибо жизненных сил в нём ровно настолько, насколько в скальпе осталось волос; и уж, естественно, такой скальп не украшает пояса настоящего мужчины: что за доблесть победить слабого и бессильного? И если, допустим, индеец встретит белого, утратившего шевелюру в силу естественных причин, он сразу решит, что перед ним либо трус, либо подлый обманщик, нарочно обривший голову в каких-то задних, непостижимых для бедного индейца целях; следовательно, человек сомневается, что может победить в честном бою, если сомневается — значит, на то есть основания; а раз есть основания, то именно в честном бою ты его и победишь. Главное — избежать подвоха.
Так или примерно так рассуждал, а, вернее, даже не рассуждал (потому что и рассуждать-то было нечего) мой обреченный собутыльник. Я говорю «обреченный», потому как и сам он чувствовал себя таковым.
Обратившись лицом к солнцу немым языком жестов, он произнес:
— Недолго осталось мне видеть тебя.
Я понял, что ещё чуть-чуть, и он запоет песню смерти, поэтому поскорей вернул ему флягу, одновременно объясняя, что-то, о чём он собирается петь, произойдет, по крайней мере, не раньше, чем опустеют огромные бочки на пристани. С этим трудно было не согласиться, и он незамедлительно внес свою лепту в их окончательное опустошение.
— А много ли Лакотов выйдут против Кастера? — спросил я, выждав момент, когда он слегка отвлекся от процесса.
— Много, — показал он, — очень много. Как звёзд на небе…
В ответ я тогда махнул рукой в сторону лагеря: посмотри, мол, сколько там солдат! И ещё идут: и с запада и с юга…
Тесак помотал головой:
— Всё равно нам конец… — Он немного помолчал и добавил: — Плохо, очень плохо он поступил…
Далее он показал, что Кастер с отрядом своих воинов пришёл в его стойбище, сделал богатые подарки и пообещал, что ещё до конца месяца уничтожит всех Лакотов, этих заклятых врагов родного племени Кровавого Тесака, и когда это случится, американский народ изберёт его Президентом.
Что ж, теперь-то мы знаем, как оно все обернулось, а тогда… Я бы сказал, что шансов на президентство у Кастера было предостаточно, все шансы были его! Вспомним, в Белый Дом он уже попал за свои подвиги на Уошито, а уничтожение Лакотов, этого последнего, но грозного оплота индейцев, да ещё в столетие независимости от короны — то было бы делом, перед которым даже Уошитская резня показалась бы детской забавой.
Добавьте сюда все неприятности Гранта, особенно эту историю с его братцем, и вы сразу согласитесь со мной, что самые честолюбивые планы Кастера были далеко не похвальбой пленного индейца, а трезвым расчётом самого что ни на есть трезвого ума. Особенно, если такую победу преподнести как личный подарок американцам к…
— Это будет до четвёртого июля! — воскликнул я. — Незадолго до праздника, понимаешь, Тесак?
Тесак не понимал. Среди белых у негр друзей не было, только я да Кастер, и по-английски он знал лишь несколько простейших слов. Я перекинулся на язык жестов, однако тут же споткнулся о слово «июль» — вот что оно обозначает, хоть вы мне можете сказать? То-то… И тут мне пришло в голову изобразить его по-шайенски. Шайены называют июль «луной, когда у буйволов брачные игры». Так что приставил я себе рога, помычал, а потом показал на пальцах как спариваются (это вам любой школьник покажет), ну, а затем уж указал на луну, после чего отогнул четыре пальца в знак четырёх дней. Вот, дескать, и будет день «Д». Но что толку объяснять Ри про летоисчисление, когда они даже не понимают такой элементарной вещи, как гигиена, в общем, ни хрена этот Тесак не понял, и когда я показал ему, как палят пушки (в смысле салюта), он похабно осклабился и выпалил чуть не весь свой запас английских слов:
— Напился, скотина?!
У меня и челюсть отвисла.
«Сейчас дам, «скотина» — подумал я, собираясь расквасить эту похабную пьяную рожу. Но передумал. Чем же я тогда отличаюсь от тех белых, кто подначивал несчастного Тесака, пользуясь его языковой беспомощностью?
— Допивай уже, страхолюдина! — ласково улыбнулся я и даже помог ему держать флягу.
Он вылакал все до последней капли, закатил свой орлиный взор, и не успев сказать спасибо за угощение, отошёл ко сну.
Входя в положение, я решил его более не беспокоить, а только разрядил ему ружьишко, чтобы он чего доброго спросонья не покалечился сам и не покалечил других, и бережно устроил его в более презентабельную позицию… Тут-то я и заметил, что виски у него седые.
Наша беседа прошла не зря и дала мне обильную пищу для размышления. Не то, чтобы меня поразил пессимизм Тесака — чего-то такого можно ожидать от любого солдата перед любым сражением — скорее, это был даже не пессимизм, а просто-таки непоколебимая уверенность в поражении. А ведь перед Уошито подобных настроений среди индейских сторонников Кастера не наблюдалось. В медицине такое дело, как сказала бы наша медицинская глиста, называется симптомом, а симптома без синдрома, как известно, не бывает. И тут я понял одну, а вернее, даже две чрезвычайно важных вещи. Неважно, сколько Лакотов и Шайенов соберутся против Кастера, то есть, важно, но не настолько, чтобы решить исход сражения: ибо все они, сколько бы их не набралось, говоря армейским языком, были без понятия о тактике, дисциплине и взаимодействии войск, это раз. Кроме дохлых ружей не было у них ровным счётом ничего, даже отдаленно сопоставимого с современной артиллерией — это два. А в третьих, — индейские воины были обременены и женами, и детьми, и всяким прочим скарбом, вот и выходило, что сколько их не собери, все это — пушечное мясо. Нет, вовсе не звездного их числа страшился пьяный, — пьяный, а умный Кровавый Тесак!
И теперь я открою вам совершенно дикую, невероятную, нелепую, но единственно истинную причину того, чему суждено было случиться в канун великой годовщины. Причина эта называется Кастер… А вернее, — его голова. А ещё вернее — причёска… Да-да, я не смеюсь. И пусть всякие там писаки твердят чего угодно, не верьте им: всё — ерунда! А мне врать незачем. То было второе озарение, посетившее меня после беседы с Тесаком. И тогда я совершил, может, и не героический, Но кажется главный поступок в своей жизни. И не побоюсь сказать, что именно он, этот мой поступок, повлиял на исход того поистине великого события…
Поступок тот не был делом ни рук моих, ни ног моих, ни ножа, ни револьвера, ни ружья, ни даже слова — то был Поступок Мысли. И состоял он в том, что я отказался от своей давно лелеемой мечты — убить Кастера. Я взвесил всю известную мне диспозицию. И решил, что сделать это сейчас — означало бы совершить самое гнусное предательство по отношению к тем, ради кого я и должен был это сделать.
Едва спустившись с трапа «Дальнего Запада», я сразу же уловил витавший в воздухе дух недовольства: солдаты — те открыто костили Кастера за его злокозненный приказ, из-за которого солдатская жизнь, и без того безрадостная, превратилась в сущий «сухой» кошмар, и что их особенно угнетало, так это недосягаемая близость полковой казны. «Это что ж получается? — рассуждали самые ретивые, — выходит, если тебя укусит змея или, что ещё хуже, выпотрошит лазутчик, то это что ж — забесплатно?!» «Слыхали, — многозначительно шептали другие, — тут бочки сгружают, а жалованья — шиш тебе! Эдак краснорожие нас нарочно заморят — от жажды подохнем тут все!» «Да-а, а в Бисмарке мы бы славно покутили!» — подливая масла в огонь заключали третьи…
Оставив Кровавого Тесака, я двинулся обратно в лагерь, размышляя о превратностях человеческой натуры, как тут на берегу, чуть выше того места, где Паудер впадает в Йеллоустоун, я вдруг заметил какую-то подозрительную тёмную личность, застывшую в рыболовной позе. Более того, эта личность кажется мне отдаленно знакомой, а присмотревшись повнимательнее я с удивлением констатирую, что личность эта есть никто иной, как…
— Привет, Лавендер, вот так встреча, вот так сюрприз! — говорю этой тёмной личности, испытывая равное изумление как от факта её присутствия в лагере, так и от того, что сумел узнать её после стольких лет в таком неожиданном месте.
Лавендер испуганно озирается и замирает в недоумении. Что ж, его можно понять: я-то узнал его сразу — как увидел — так и узнал, потому как на Дальнем Западе едва ли другая, столь же тёмная личность с таким же оливковым цветом лица, полными губами и приплюснутым носом, да к тому же ещё в неизменной шляпе-канотье с орлиным пером; а ему на то же дело требуется гораздо больше усилий — у него от таких, как я, давно в глазах рябит.
Он долго щурится, хмурит лоб, склоняет голову то на левое плечо, то на правое и, наконец, разводит руками, ссылаясь на ослабление памяти.
— Да Джек я, Джек Крэбб! — кричу я ему в лицо. — Ну, Миссури, пастер Пендрейк, ну?
— Ну-ка, ну-ка, — начинает интересоваться он, снимает шляпу, встает, затем охает и заливается счастливым смехом. Смеясь, он толкает меня в грудь, я — его, и вот мы уже барахтаемся как два медвежонка, пытаясь задушить друг друга в объятиях. Не знаю уж почему, но радости от этой встречи у меня больше, чем от всех остальных встреч со всеми моими родственниками и с теми, кто называл себя таковыми.
— Слушай, Лавендер, каким ветром тебя сюда занесло? — наконец спохватился я, терзаемый любопытством. — Неужто пастору прискучило перековывать мечи на орала и он решил наоборот? И заделался полковым капелланом? Или того похлеще — личным исповедником у Кастера? Слу-у-у-шай, а может он совсем пошёл в артиллеристы, и теперь у него своя большая-большая пушка?
Лавендер замахал руками.
— Боже мой, какая пушка?
— Погоди-погоди, — не унимался я, — сейчас угадаю! Ну, конечно же! Никакой пушки у него нет, а есть большая-большая сабля и нож, которым он ковыряет в носу и снимает индейские скальпы.
— Какие скальпы? Какие орала? Побойся Бога, Джек! — всерьёз ужаснулся Лавендер. — Орала на мечи — скажешь тоже! Да пастор скорее бы удавился, чем вообразил себе такое непотребство!
…«Пастырь-пастырь, на носу пластырь, а в руке псалтырь, а на лбу волдырь!» — вспомнилась мне детская дразнилочка — в разных вариациях она как раз гуляла среди миссурийской детворы в пору моей безгрешной юности; куплетов в ней была целая уйма, и далеко не все из них были такими уж безобидными; попадались среди них и такие, что имели рифму «кочерга» — «рога», но это к слову… А Лавендер… Лавендер — он все тот же. И пусть ему уже за сорок, на тёмном, цвета черного дерева лице до сих пор ни единой морщинки; та же улыбка, та же наивность в глазах, ну, разве что кучерявую голову уже прихватил иней.
На нём куртка из оленьей шкуры, штаны с бахромой и пояс, расшитый бисером; причём, если не ошибаюсь, в манере Лакотов.
— Не-ет, — покачал головой Лавендер, — в армию пастор не пошёл бы ни за какие коврижки! Преподобный Пендрейк со скальпом… Ты, наверное, смеешься, Джек?
«Гляди-ка, а не зря он пошатался по «белому» свету — догадлив стал, дальше некуда!» — подумал я и признался:
— Да смеюсь я, смеюсь…
— Грешно смеяться над мёртвыми! — огорошил меня Лавендер, всем своим видом отображая кладбищенскую скорбь.
— Преподобного Пендрейка больше нет с нами, — торжественно и печально объявил он, так, будто Преподобный Пендрейк скончался только сейчас, сию минуту, пока мы тут точили лясы и, между прочим, как раз ожидали его кончины.
— И как же это он, а? — зачем-то спросил я, как будто это имело хоть какое-то значение.
— Преподобный Пендрейк, — с глубоким прискорбием возвестил Лавендер, — ушёл от нас, подавился… облопался, то есть.
— Как облопался? — в свою очередь ужаснулся я столь неестественной по моим понятиям смерти.
Но Лавендер, как человек более попривыкший к таким смертям, только пожал плечами:
— Облопался, как есть облопался: откушал один из тех знатных обедов, что сварганила Люси; прилёг, по обыкновению, вздремнуть, а покуда дремал, обед проснулся и потихоньку вспять, и прямо в эту, как её — трах… трах… как же она по-врачебному называется? — ну да, трахею! По нашему — не в то горло, ну, не в пастора корм. И вот он то ли хрюкнул, то ли всхлипнул; поерзал — а никто ничего понять не может — вот и всё, так и почил в бозе наш Преподобный Пендрейк…
— Выходит, облопался… — промямлил я, будучи настолько потрясен этим способом ухода в другой мир, что даже не смог выразить приличествующее случаю сожаление.
— Облопался, ну и облопался, и что? — не понял моего смущения Лавендер. — Смерть как смерть, не хуже…
В эту минуту, прервав его на полуслове, дернулась леска, и Лавендер подхватил удочку; он выждал, пока рыба склюет наживку, и ловко выдернил из-под воды пухлого желтоватого окунька с вытаращенными от изумления глазами.
— Вот так-то, — философски изрек он (то есть, не окунь, а Лавендер), — все мы смертны, все мы не вечны, но если благоволение Господне и впрямь распространяется на слуг его, то смерть у пастора была что надо, лучшей и пожелать невозможно: набил брюхо — и на боковую, только и делов-то, что не проснулся… По моему разумению, он сам себе выбрал смерть по душе, а Господь лишь поглядел на него и согласился! Что ж там было на обед, дай Бог памяти… ну да: в тот день как раз Люси запекла поросёнка в яблочном соусе — знатный был поросенок; что-что, а куховарить Люси была большая мастерица…
Внутри у меня что-то шевельнулось, сердце екнуло — и я испытал нечто среднее между сердечным приступом и желудочной коликой. «А миссис Пендрейк, — спросил я, затаив дыхание, совсем как после удара под дых, — она-то как? Что с ней? Где она? Замуж не вышла?»
— «Миссис? — Лавендер подумал и нанизал на крючок нового червячка. — Зачем же замуж? Замуж миссис не вышла. А чуть не в тот же день захлопнула в доме ставни, заложила дверь, и не то что замуж — на похороны не вышла! В церковь приехал новый священник, вот, ну, и поселить его собирались в том же доме, — да куда там, не тут то было. Уговорить бедную вдову покинуть насиженное гнездышко так никому и не удалось: ни всем миром, ни каждому отдельно. Так что, насколько я знаю, живет она там и поныне, а духовный пастырь — что ж, он обосновался в другом месте».
…Да-а-а, всю жизнь нас преследуют романтические идеи юности. Вот и за мной, куда б не забросила меня судьба, неусыпно охотился светлый образ миссис Пендрейк. Иногда закроешь глаза и представляешь себе: вот ты, значит, входишь в дом, а на пороге Она, миссис Пендрейк — в чём-то таком, простом и домашнем, и вот она протягивает к тебе руки…
— …И никого из прихожан, хоть они и белые, даже на порог не пустила… — некстати донесся до меня голос Лавендера.
Вот так всегда: не успеешь размечтаться, как на тебе — вечно найдется какой-то нелепый Лавендер со своим языком: бу-бу, бу-бу — все мечты распугает! А ещё рыболов называется… Нет уж, как хотите, а настоящая, возвышенная любовь (про которую в книжках пишут) в нашем низменном мире как бы даже и не жилец — ей, бедной, только и остаётся, что вот, как миссис Пендрейк, забаррикадироваться в доме, а посторонних и на порог не пускать, — ничего, пускай не лезут, хоть и белые, хоть и чёрные! Она, может, от всех и отгородилась только потому, что меня ждёт; может, ей всю жизнь только меня и не хватало: ступаю на порог, а она… ну, об этом я уже мечтал. Возвышенная любовь, она и есть удел мечтателей, а я, как вы понимаете, мечтатель. Оно бы, конечно, и здорово махнуть рукой на всякую мелочную дребедень, прыгнуть в седло и в дорогу — навстречу большой мечте; но как подумаешь, что тебе уже тридцать шесть, и полжизни за плечами, а ещё долги надо раздать, и… вместо дребедени махнешь на большую мечту; не про нас он, этот пирог! С годами, знаете, даже в любви из радикала становишься консерватором.
На том я и успокоился. И вместо умозрительного созерцания миссис Пендрейк со всеми её мыслимыми и немыслимыми прелестями, я малодушно погрузился в созерцание реки Йеллоустоун с её плавным течением и бликами на воде. Невольно пришлось обратить внимание и на удочку, а с нее и на Лавендера: оказывается, все это время он продолжал шлепать губами и что-то рассказывать, ни дать ни взять, как та рыба.
— …При доме я пробыл ещё с год. Но со смертью Пендреика дом потерял хозяина, а без хозяина и дом — не дом. И тогда я стал думать. И думал-думал… Джек! — тут Лавендер хлопнул ладонью по земле. — Джек, так ведь это ж ты и был! Ну да! Это ж мы с тобой и говорили — ну, помнишь? — про индейцев и про то, как ты у них жил… Точно-точно, я хорошо помню, то есть, не тебя, а наш разговор (аи да Лавендер, аи да уважил!), ну, так вот, я и подумал: чего я делаю в этом женском доме, доме, где нет хозяина, я, свободный человек, которому давным-давно честный Эйб дал свободу? «Да пропади они пропадом!» — сказал я себе, взял сухарей и подался на Запад. Видимо, позвал меня голос родной крови, да я тебе рассказывал про моего родича, что ходил с капитаном Льюисом и капитаном Кларком…
Действительно, историю про Кларка и Льюиса (а в изложении Лавендера она выглядела историей этого раба, кажется, Йорка, у которого эти двое были вроде мальчиков на побегушках) я слышал неоднократно, и похоже, был обречен слушать ещё не раз — Лавендер собирался идти с нами до самого победного конца, пока, правда, неизвестно, чьего… Не преминул он рассказать её и сейчас — видно, для него она и впрямь была чем-то вроде отправной станции; но дилижанс его рассказа тянулся до того медленно, что я чуть было не заснул, и даже наверное заснул бы, если бы, закрывая глаза, тут же не натыкался на укоризненный взгляд Пендреика. А закрыть глаза на Пендреика всякий раз означало проснуться. Так всю дорогу меня и бросало то в жар, то в холод, пока на очередной станции не зазвонил колокольчик.
— …И пристал я к племени Лакотов, где вождём был старый и мудрый индеец по имени Сидящий Бык.
— Чего-чего? — подскочил я, окончательно проснувшись, — не может быть!
Гляжу — а Лавендер медленно наливается краской, багровеет и прямо, значит, на глазах из чернокожего превращается в краснокожего. Тут-то я и понимаю: «Может! ещё как может! Вот как он сказал — так, значит, оно и было! Хау».
Вот как ты опростоволосился, Джек, — перо в шляпе-то приметил, а то, что оно орлиное, внимания не обратил; думал — оно для красоты, а оно — вот оно что… Лавендер под ним орёл-орлом — зыркает сверху вниз, глаз острый, пронзительный, в горле клекот, но наружу ни звука — ждёт. И ведь прав шельмец: то, что можно сказать черному бою, никогда и ни при каких обстоятельствах не моги говорить свободному жителю прерий, тем более такому стервятнику — да за подобное оскорбление он тебе все глаза повыклюет! Я, как вы знаете, индейцев на своем веку повидал немало, и давно уже заметил такую их общую особенность: слово индейца — это как бы часть его самого, и выразить недоверие к его слову всё равно, что сказать, что он — не он.
Так что хочешь-не хочешь, а надо идти на попятную, благо, для меня слова весят куда меньше и гордость не такая раздутая.
— Ты, Лавендер, меня не так понял, — отступил я на шаг, успокаивая его жестом открытой ладони. — Я нисколько не сомневался в правдивости твоих слов: ты сказал — и для меня этого достаточно. И если я говорю, что чего-то не может быть, то это не потому, что быть этого не может, а потому что изумлен тем, что оно случилось. Подумать только, мой старый друг Лавендер встречался с самим Сидящим Быком! Это ведь против него мы идем сражаться? Да?
— Это правда, — важно кивает Лавендер, и я понимаю, что прощён. Что ж, пребывание у Лакотов даром для него не прошло: он перестал быть чёрным служкой белого человека и с гордостью истинного краснокожего больше не позволял ставить свои слова под сомнение. Одно жаль — в сравнении с другими краснокожими язык у него трудился что та ветряная мельница, но возможно, это было следствием его долгого молчания. — Пожив у Лакотов, я взял себе в жёны хорошую женщину, — тем временем продолжал он, и голос его потеплел — она была из племени хункпапа и была мне хорошей женой. И жили мы с ней в нашем типи очень хорошо. И прожили так несколько лет… — Лавендер мотнул головой, как бы отгоняя воспоминания; и пух его орлиного пера дрогнул, затрепетал, как ресницы, когда пытаются задержать слезу, — Они очень хорошие люди, Джек! А Сидящий Бык, он настоящий вождь, он, если хочешь знать, это гений. Когда он хочет увидеть, что происходит на земле, он просто закрывает глаза и… видит!
— Да, — соглашаюсь я.
— Это правда, — кивнул он.
Нос Лавендера, и так не маленький, теперь стал ещё больше, ноздри раздулись и на закрылках заиграли солнечные зайчики:
— Вот ты вспомнил Преподобного Пендрейка, Джек; ты сам его вспомнил, да? А ты не думал, что всю жизнь он как бы скрывался за теми высокими словами, что сам же проповедовал и нёс другим людям как слово Божье? Нет, я не против этих высоких слов — это и в самом деле очень хорошие слова, и даже, наверное, священные слова… Но, как бы это сказать? Слова для пастора были одно, а сам он — совсем другое; слова жили отдельно, а пастор отдельно. Как так получается, Джек?.. Нет, иногда он, конечно, поступал по Слову Божию; вот и меня выкупил у старого хозяина и дал свободу ещё до того, как честный Эйб написал свой Билль о правах, но, Джек, всякий раз, как он поступал сообразно Слову, это было настолько непохоже на пастора, что, казалось, будто это не он, а неизвестно кто, дурак какой-то! Джек, может, я существо и неблагодарное, но знаешь, мне до сих пор почему-то кажется, что пастор, он как бы и был, и… его как бы и не было, ты меня понимаешь, Джек?
— Понимаю, — кивнул я. — Мне тоже так казалось ещё тогда, когда я у них жил.
— Но почему, Джек, почему? — от волнения Лавендер даже сорвал с себя роскошную шляпу и швырнул её наземь. — Ну, пусть я тёмный и неграмотный, но ты-то, ты ведь белый, и читать можешь и писать, ну, скажи мне: почему, почему он всех обманывал?
— Он не обманывал, Лавендер. Он просто говорил о том, как ДОЛЖНО БЫТЬ, а ДОЛЖНО БЫТЬ и ЕСТЬ — это не одно и то же.
— Это правда… — подумав, согласился Лавендер. — А у индейцев было как раз наоборот: как есть, так есть; и потому мне было с ними легко и просто. И не хотелось уходить. Но я ушёл, Джек, и ты ушёл, а почему?
— Да потому, что мы родились не в дикости, а в ци-ви-ли-за-ции.
— Ну и что? — не понял он.
— А то, что когда знаешь, что мир за стойбищем не кончается, то уже никакие слова не помогают — просто берешь и уходишь. Хорошо тем, кто родился в вигваме, ездил у мамки на спине, а потом пересел на лошадь и никогда не изобретал колеса, — им и цивилизация не нужна, и все слова на месте…
— Да-а, если уж ты вышел из цивилизации, — сказал Лавендер, — и попал к дикарям, то поначалу и впрямь все хорошо, но потом поживешь-поживешь, и начинает тянуть обратно, так и тянет узнать, а что же там, дома. Вот и возвращаешься, а хорошо это или плохо, — кто его знает, — возвращаешься и все…
Он смотал удочки, прихватил улов: окунька, несколько краппи и другую рыбью мелочь, и, не оглянувшись, направился к палатке на краю лагеря.
— Эй, Лавендер, — крикнул я ему вслед. — Но если ты вернулся домой, чего ж ты опять попёрся в прерию?!
— Во всяком случае, — ответил он, — не для того, чтобы сражаться против Лакотов. Я нанялся толмачом. Знаешь, а вдруг и они — увидят эту армаду, возьмут, да и вернутся в лоно этих, как их… агентств?
— Ты что, и вправду так думаешь?
— Нет, — признался он, — не думаю. Но если в меня начнут стрелять, — то делать нечего, начну стрелять и я…
* * *
На следующий день я повстречался с Кастером. А на встречу меня толкнули длительные ночные раздумья относительно моего официального статуса. С одной стороны, я нисколько не сомневался, что в лагере подобных размеров, где и без меня хватало всякой разношерстной публики, я могу довольно долго оставаться эдакой «тёмной лошадкой», которую, поскольку она уже тут, все видят и признают за свою, не задаваясь вопросом, откуда она взялась и что, собственно, она тут делает. Но при таком всеобщем отношении, даже не слишком мозоля глаза, я, тем не менее, должен был тешить себя надеждой, что истинная цель моего пребывания в лагере, будучи известна мне одному, не станет известна окружающим в результате ненароком брошенного слова, намека или жеста, что, однако, было вполне возможно уже по той простой причине, что находясь во вражеском стане, я вынужден был постоянно скрывать свою сущность под личиной показного единодушия с врагом, а это, согласитесь, куда как нелегко. Я опасался, что моя истинная сущность как сторонника индейцев обнаружится у первого же костра, где идут разговоры о том, как славный Седьмой кавалерийский полк наголову разобьет Сидящего Быка, что хороший индеец — мёртвый индеец и все в том же духе. В порыве патриотизма солдаты могли и забыть, что Кастер — свинья-свиньёй, и дать в морду каждому, кто усомнился бы в его полководческих дарованиях.
Проблема состояла ещё и в том, что мои намерения до конца пока не были ясны и мне самому. Местоположение индейцев до сих пор не было известно; майор Рино и его отряд как раз с той целью и находились в разведке, предположительно, в долине реки Тонг, чтобы, значит, всё это разузнать и доложить. Планы в моей голове клубились самые смутные, например, такой: улучить момент, когда войска будут в непосредственной близости от уже разведанной индейской деревни, быстренько смыться и предупредить своих друзей о нашествии Кастера, но увы, даже при самом благоприятном стечении предыдущих обстоятельств, не было никакой гарантии, что меня не хлопнут перед самой встречей.
Самое лучшее в данный момент было бы наняться разведчиком, но получение этой должности как раз и было сопряжено с Кастером. И пусть командующим считался генерал Терри, всеми делами, похоже, заправлял наш уошитский герой.
С теми мыслями я и направился в палатку Сына Утренней Звезды, пройдя мимо денщика (не того, что был на Уошито, а нового) — и, оказавшись внутри, сразу увидал походный столик. За ним восседал сам генерал, как обычно, в писательских трудах. Странно, что писательский талант Кастера так и не был отмечен мемуаристами — генерал писал каждый день: писал приказы, письма жене, и даже целые статьи для журнала «Гэлакси» — так сказать, вести с поля боя. Последним делом он сейчас и занимался.
После стрижки генерал выглядел совсем другим человеком, он, пожалуй, похудел и даже поусох, отчего, наверное, и производил сильно ослабленное впечатление на того же Кровавого Тесака. И вот что бросилось мне в глаза ещё до того, как он поднял голову и заговорил: снаружи было ещё светло, но на столе горела свеча (как я понимаю, в качестве дополнительного освещения); и пока он, склонившись над бумагами, писал, предметом моего пристального изучения стала, значит, его генеральская макушка; пламя свечи колебалось, в какое-то мгновение мне вдруг почудилось, что на генеральской макушке зашевелились волосы (у меня, надо сказать, тоже), но затем блеснуло что-то вроде зайчика, и тут меня осенило: генеральскую макушку украшала едва заметная плешь.
КАСТЕР ЛЫСЕЛ! Я даже почувствовал вдруг к нему какую-то чисто человеческую жалость, проходившую, однако, по мере того, как я стоял перед ним, не будучи удостоен его генеральского внимания. Наконец, он поставил точку в своих записях, подождал пока они просохнут, отложил перо и холодно посмотрел на меня.
— Слушаю вас, — сказал он хорошо знакомым мне резким голосом.
— Генерал, — я изо всех сил пытался скрыть вновь поднимающееся отвращение к этому человеку, — я хотел узнать, не нужен ли вам проводник или тот же толмач. Там, знаете, вместе с Лакотами есть ещё и Шайены, а я как раз-то жил среди…
— Нет, — сказал он, снова принимаясь за перо, и кликнул денщика, — проводите этого человека!
В палатку шмыгнул солдатик и замер в почтительной позе, приглашая меня, стало быть, выйти вон, но я, конечно, разозлился — и ни с места. Тогда он ухватил меня за руку, ну, чтоб ускорить мой уход, но я отклонил его помощь, а руку вырвал:
— Ещё раз тронешь — кишки выпущу! — предупредил я его строго и решительно. Кастер вторично оторвался от бумаг и разразился сухим, кашляющим смехом.
— А ты, парень с перцем, как я погляжу! — заметил он, прокашлявшись. — Что ж, это мне нравится! Ладно, — он махнул денщику выйти, и когда тот вылетел, озираясь на меня как ошпаренный, Кастер откинулся назад на своем походном стульчике и уронил с улыбкой кажущегося превосходства: — И чем же ты можешь быть мне полезен?
Меня все ещё душила злость; но, понимая всю важность этого разговора, я повел долгий рассказ о своей жизни у Шайенов, опуская всякие опасные детали, связанные с Уошито.
— А-а, Шайены, — кивнул он, не выслушав меня до конца, — с Шайенами я расправился давным-давно, так что со своими услугами, мой дорогой друг, опоздал ты лет эдак на восемь. Шайены, повторяю, это не Лакоты. Шайенов я разбил в шестьдесят восьмом, прямо на Индейской Территории. Отстал ты, мой друг, от жизни, очень отстал!
Всё это он рассказал мне с прежней усмешкой, и эта усмешка выводила меня из себя больше, чем сами слова, но при всем при том я понимал, что если дать волю своим помыслам, то помыслы толкнут меня на убийство. И я вздохнул, и сказал так спокойно, как только мог:
— Севернее Платта достаточно много Шайенов, чтоб учинить вам большие неприятности, генерал, особенно, если они выступят вместе с Лакотами.
— А-а… — протянул он, — это не беда. Даже если жалкая кучка этих бродяг и пробилась на север к Лакотам, то вместе с Лакотами я побью заодно и их, причём, для этого мне понадобится всего лишь один, уверяю вас, только один эскадрон моего Седьмого полка, если наши высокопоставленные предатели ещё не снабдили их «Винчестерами» последнего образца — в каковом случае мне понадобится не один, а два, да-да, всего лишь два эскадрона. По мне, так лучше бы они воевали с агентствами — эти мерзавцы, с одной стороны, наживаются на ежегодной дани с индейцев, а с другой — позволяют грабить их.
Похоже, этот предмет его сильно волновал, потому как он нахмурил тяжелые брови, а нос хищно заострился.
— Мерзко то, что они потворствуют зверствам против своих же земляков. Чиновник «Агентства Красного Облака» так варварски обдирал аборигенов, что ему угрожали убийством, когда он попытался поднять американский флаг над своей конторой.
Тут он осекся, как бы осознав, что разговаривать на таких высоких нотах с кем попало ему не к лицу.
— Впрочем, для тебя это китайская грамота, — спохватился он. — Извини, но нанять тебя проводником при всём моём желании никак не могу. Но огорчаться не стоит, помни, ты оказываешь неоценимую услугу своей армии уже тем, что выполняешь свой долг, долг пастуха, или погонщика, или гуртовщика — не знаю уж, чем ты сейчас занимаешься. Не всем выпадает скакать впереди колонны, но для конечного успеха ноги важны не менее, чем глаза.
Промолвив эту возвышенную речь, Кастер отпустил меня мановением руки. И тут я не выдержал. Ещё нe понимая, что делаю, я открыл рот и сказал ему все, что накипело на сердце.
— АХ ТЫ Ж, УБЛЮДОК, — сказал я, — ЖАЛЬ, НЕ ЗАРЕЗАЛ Я ТЕБЯ, КОГДА МОГ!
Так я ему сказал, сказал, как выдохнул, и только после этого перепугался, но не потому, что так уж смертельно боялся за свою шкуру; нет, я испугался потому, что понял: теперь мне не предупредить моих индейских друзей, теперь это сделать некому. Слова ещё звучали в моем мозгу, когда Кастер сказал:
— Ну, что ж, спасибо, что вызвался добровольцем. Мне по душе твоя готовность. Можно не беспокоиться об исходе войны, если даже штатские рвутся быть в первых рядах.
Он снова взял перо, а я покинул его палатку. Кастер не расслышал реплики, брошенной ему прямо в лицо!
Его мысли были заняты отсутствием снаряжения, поэтому он не обращал внимания на происходившее вокруг. Это единственное возможное объяснение.
Думаю, поэтому ни в одном из списков участников битвы на Литл Бигхорн нет моего имени. Кастер думал, что я — пастух, а пастухи и погонщики — что проводники или переводчики. Всё потому, что меня всё время видели рядом с Лавендером…
Мы стояли лагерем на реке Паудер. Там же Седьмой конный отряд оставил все лишнее, сабли тоже были сложены и оставлены. Так что изображения последнего боя, где Кастер якобы размахивает саблей, а индейцы падают вокруг — враки. Черт знает откуда — из форта Линкольна — заявился знаменитый полковой оркестр, так замучивший меня в Уошито, но в атаках не участвовал, так как оркестровые лошади были нужны солдатам. Чуть позже остальные перебрались на 40 миль вверх по Йеллоустоун, к устью реки Тонг. Я прикупил себе индейского пони, мягкое седло и недоуздок из сыромятной кожи у Кровавого Тесака — у него как раз было несколько лишних животных. Насколько я помню, обошлось все это в 2 или 3 фляги маркитанского виски. Сделка неплохая, да ведь и пони был не первой молодости, кожа да кости, к тому же на нем было несколько ран от седла, которые я лечил старым шайенским средством — мазью из пареных листьев табака, горькой травы, животного жира и соли.
Последнее моё воспоминание об этой стоянке — оркестр на отвесном берегу Паудер, играющий походный марш… Конечно же, то был «Гарри Оуэн», и конечно, он навел меня на воспоминания восьмилетней давности. Я ещё не догадывался, что вместе с затихающими вдали звуками труб меркла знаменитая кастерова удача. Мой пони трусил в хвосте колонны, рядом с вьючными мулами, заменившими в походе фургоны, а далеко впереди вилась голубая колонна.
Глава 26. ПО СЛЕДУ ДИКАРЕЙ
Первое, что мы обнаружили в низовьях Тонг, было заброшенное стойбище Лакотов. Судя по всему, индейцы покинули его прошлой зимой в большой спешке, ибо вокруг виднелись не только остовы вигвамов, которые солдаты принялись быстро приходовать под костры, но и лохмотья старых шкур, чего индейцы обычно не оставляют, а Лавендер даже отыскал пару изношенных мокасин, внимательно изучив которые, он пришёл к выводу, что знает владельца. Надо заметить, что по мере нашего продвижения на запад Лавендер становился все мрачнее и мрачнее, а уж это стойбище повергло его в совершеннейшее уныние, так что не исключено, что вокруг ему стали мерещиться духи.
Поднятию настроения бедного негра нисколько не способствовал и тот факт, что чуть позже он набрел на место погребения какого-то воина, о чём свидетельствовала красно-чёрная окраска шестов, на которых в траурном убранстве покоилось тело. Дабы усопший не чувствовал себя нагим и беззащитным в Другом Краю, соплеменники снабдили его всем необходимым для тамошней жизни: теплой шкурой и луком, и стрелами, и мокасинами, и всякой другой, надобной долгому страннику всячиной. Могила была устроена на холме. Так вот, когда я подошёл поближе, то обратил внимание, как Лавендер не мигая смотрел на лежащее тело — так, будто между ними существовала какая-то тайная связь; ветер загибал поля его канотье, глаза слезились и рот кривился, будто он собирался что-то сказать.
Так оно было или нет, я не знаю, — как раз в этот момент на холм залетели кавалеристы и, спешившись, мигом разобрали погребение: шесты — на дрова, а мокасины, лук и стрелы — на память. Тело, завернутое в шкуры, осталось лежать на голой земле.
Лавендер перенес кавалерийский наскок всё так же молча — не отрывая глаз от мёртвого тела, а затем повернулся ко мне и, разлепив наконец губы, пробормотал: «Я… эта, того, наверное, пошёл рыбачить…» Бедняга, видать, и в самом деле был уже того…
Но не успели мы тронуться с места, как на холме появился Кастер на резвящейся кобылке. Эту кобылку знала в лицо, то бишь в морду, а ещё вернее — по окрасу, вся армия: из четырёх ног три у неё были снежно-белые; и звали кобылку Вик, сокращённо от «Виктория», что как бы соответствовало генеральскому призванию. И вот, значит, подскакал к нам Кастер, перегнулся с лошади, смерил труп прищуренным взглядом и говорит Лавендеру: «Разверни». Тот вздрогнул, но ослушаться не посмел. В шкурах, как мы и предполагали, действительно лежал воин, — эдакий здоровенный Лакот; для трупа он очень хорошо сохранился, и это позволяло определить причину его смерти — страшную плечевую рану. Какое-то время Кастер как бы удивленно взирал на останки, а затем кивнул Лавендеру: «Убери». Лавендер нагнулся и поднял труп, но не взвалил на плечо, а взял на руки и прижал к груди — так берут на руки ребёнка или любимую девушку, а высохший воин весил теперь не больше, чем они; так, с трупом на руках, он пустился с холма, пошёл вдоль берега и осторожно опустил его в воду — как раз в том месте, где Тонг вливается в Иеллоустоун. Мы с Кастером наблюдали за ним со стороны.
…Всё-таки удивительный человек этот Кастер! Я думал, он меня не узнает, а он, представьте себе, лоб наморщил и говорит: «Ну, здравствуй, гуртовщик!» — у меня рука так и потянулась к шляпе. Она б, конечно с большим удовольствием потянулась за чем-нибудь другим, но… умел-таки Кастер внушить уважение — ох, умел, чего не отнимешь, того не отнимешь… И вот мы таким образом с ним раскланивались, и я уж было раскрыл рот поинтересоваться здоровьем, делами и вестями из дому, как тут к нам подбежал солдатик и доложил, что на пепелище в деревне обнаружили останки белого человека, военного, кажется, кавалериста. Кастер пришпорил кобылку и умчался в деревню, солдат побежал за ним, а я поплёлся следом.
Когда я дошёл до места, скелет уже раскопали; в том, что это был кавалерист, никто больше не сомневался (среди пепла отыскались форменные пуговицы), и теперь все гадали, кто именно был этот несчастный. Из того же кострища солдаты повытаскивали целую груду камней и полуобугленных палок, и разведчики из племени Ри жестами объясняли окружающим, что как раз этими орудиями и был побит белый человек.
Кастер спешился. Люди перед ним расступались и вновь смыкались, и так он оказался как бы в кольце, наедине со своим бывшим подчиненным и сотоварищем. Вспомнил ли его генерал, узнал ли? На память он не жаловался, а что касаемо чувств, то ни одно из них не отразилось на его сером от пыли лице; он медленно стянул с головы шляпу, и вслед за ним этот жест повторили другие. Тут рядом прокатился шорох, а затем послышался нестройный гул голосом. Я прислушался: кто-то из солдат вроде бы опознал погибшего. То был не то Джерри, не то Джон, и числился он пропавшим без вести с 73 года. Как спичка, поднесенная к сухому хворосту, эта новость мигом облетела Седьмой кавалерийский полк, охватив его всепожирающей жаждой мести. Тут же вызвались добровольцы устроить немедленную карательную экспедицию; да что там! — весь полк был готов прыгнуть в седло и мчаться стрелять, рубить, колоть, резать, насиловать. И убивать, убивать, убивать — по одному слову, одному жесту человека, стоявшего в центре круга. Но Кастер молчал.
Что ж, как генерал, он был, наверное, прав: на много миль вокруг не было ни одного стойбища, а гоняться за одиночками — такого не мог позволить себе и командир рангом куда пониже генеральского. Да, «охоту за дикими гусями» ему не простили бы ни Терри, ни Грант; он сам не простил бы себе такой тактической или стратегической — не знаю уж, какой именно — промашки. Но на войне, кроме тактики-стратегии, есть ещё и другие законы, и вот по этим законам он просто обязан был что-то предпринять. Для этого вовсе не обязательно было прыгать в седло и скакать сломя голову по окрестным холмам в надежде изловить первого попавшегося индейца, чтобы потом побить его камнями — вовсе нет; я имею в виду другое: пусть это прозвучит кощунственно, но он должен был не столько совершить, сколько изобразить поступок (что-то сказать, махнуть рукой, да мало ли что!) — просто для того, чтобы показать солдатам, что он тоже солдат, приблизиться к ним, дать понять, что разделяет их чувства; а он — все молчал и молчал, и от этого казалось, будто между ним и солдатами какая-то невидимая стена: стена меж криком и молчанием, рядовым и генералом, живым огнем и мёртвым пеплом.
…Пользуясь преимуществом в росте, то бишь, его недостатком, я незаметно протиснулся сквозь толпу и стоял теперь совсем рядом с Кастером. Тогда, в палатке, при сумеречном свете, я даже и не заметил, насколько он постарел со времен Уошито: сейчас ему было тридцать с лишним, точнее — тридцать семь, а выглядел он на добрых десять лет старше. С начала похода он ещё ни разу не брился, щёки покрывала суровая густая щетина; усы обвисли, а короткая стрижка диким кустарником топорщилась в разные стороны. А при том еще, что вся растительность была щедро припорошена дорожной пылью, создавалось впечатление, что наш прославленный генерал сед. Сед, как лунь. Присмотревшись повнимательней, я не мог не отметить также и того любопытного обстоятельства, что пыль разукрасила генеральский лоб чёрными разводами, что придавало ему забавное сходство с индейскими шаманами; вот только разводы пролегали по руслам, уже проделанным морщинами, и самые глубокие шли от ноздрей к уголкам рта.
Я долго наблюдал за генералом, но незаметно задумался о себе. И вдруг понял, что вовсе не хочу, чтобы погибли эти шесть сотен белых людей, окружавших Кастера; не хочу, чтобы погибли отважные, но малочисленные Ри; не хочу, чтобы погиб Лавендер, и уж тем более — по моей вине. Понимаете, я оказался как бы между двух огней: предупрежу индейцев — они устроят Кастеру засаду, не предупрежу — Кастер их сотрет в порошок. А я не желал смерти ни тем, ни другим.
Так я стоял и думал, когда кто-то потянул меня за рукав. Даже не оборачиваясь, я уже понял кто это, учуял по запаху. Все верно: мой приятель Кровавый Тесак в сопровождении такого же скунса по кличке Стэб, «Пырок». Такая вот кровожадная компания. Ни слова не говоря, они вытаскивают меня из толпы и начинают размахивать руками. Я поначалу опешил, но затем сообразил, что если б они собирались меня побить, то уж, наверное, не в такой неурочный час, и уж, во всяком случае, не привселюдно. Действительно, гляжу, что-то больно часто они тычут в сторону реки.
— Там твой друг, Чёрный Белый Человек, — изобразил Лавендера Тесак, — он утопил тело мёртвого Лакота в реке.
— И теперь в том же месте удит рыбу, — пояснил Стэб.
— Мы думаем, — покачал головой Тесак, — что он использует мёртвое тело вместо наживки.
Когда индеец гневается, его лучше не распалять. Поэтому ничего этой парочке я объяснять не стал: мол, у каждого человека свои заскоки — хоть у белого, хоть у черного, хоть у Черного Белого; главное — чтоб человек был хороший. Поэтому я состроил самую серьезную мину, показал пальцем на ухо и приложил к сердцу ладонь: «Ты сказал. Я выслушал», — дескать, спасибо за беспокойство, сейчас пойду разберусь. После чего они ушли, а я остался.
— Больше всего на свете меня тошнит от двух вещей: от дурного виски и от индейца ри. Но от индейца тошнит больше, — ни с того, ни с сего раздался у меня за спиной чей-то хриплый бас.
Я обернулся: передо мной стоял сержант, причем, весьма толстомордый сержант, причем, его морда кажется мне знакомой. Гляжу, а он тоже начинает морщить лоб, а потом и спрашивает: «Слушай, а ты, часом, раньше не служил в кавалерии?»
Я заверил его, что «часом раньше — не служил» (в этом я его нисколько не обманул), а потом вдруг вспомнил. Б а! Да это же мой давний спаситель, тот самый капрал, что обнаружил меня в кустах после побоища на Уошито; я тогда ещё переоделся в армейскую форму, и он отвёл меня в деревню. А в деревне меня отчитал Кастер за — смешно сказать! — незастегнутые пуговицы!
С той поры мой спаситель получил повышение и прибавил эдак фунта два-три в поясничной сфере, и всё же это он, несомненно он.
Спасение, оно, как второе рождение, так надо ли говорить, насколько я был благодарен судьбе за то, что хотя бы могу пожать его жизнеспасительную руку. Мы обменялись рукопожатием, и я узнал, что его зовут Боттс.
— Ну, так что, Боттс, — спрашиваю я его, — в бой-то скоро пойдём, а?
Он неспешно раскуривает трубочку, от чего пряный воздух Монтаны наполняют запахи, сравнимые разве что с дурным виски или посещением целого стойбища ри; потом долго пыхтит, кряхтит, кашляет — соображает, стало быть, раздумывает, взвешивает, прикидывает — и, наконец, решается изложить свою стратегическую концепцию (я давно заметил, что у сержантов она всегда отличается высокой сообразительностью, взвешенностью и раздумчивостью).
— Да вот, как ни крути, — заявляет он, — а по всему выходит, что, вроде, как бы и нет… Индеец нынче пошёл… какой-то пуганный — от куста шарахается, а уж от Кастера-то — и подавно! Так что, я думаю, индеец будет бегать ещё долго — пока сил хватит… Хотя, чего бегать-то? От Кастера все одно не убежишь! Он, сукин сын, всё одно догонит — зуд у него охотничий, у щенка эдакого! Ты бы видел, как он прыгал да скулил, когда старина Терри послал в разведку Рино, — я думал, он его самого пошлет, но уже не в разведку, а сам знаешь куда… Испугался, вишь, что без него обойдутся! Вообразил, будто этот сопляк способен в одиночку разыскать и побить всех краснокожих! Как же — нашли героя! Видал он этих вонючек, впрочем, как и они его, — небось, до сих пор кругами ходят, в прятки играют… Не-ет, Рино индейцы не нужны — он их сам боится! Да и зачем ему лезть в бутылку, когда бутылка у него и так есть? Он с бутылкой не расстаётся, он, скотина, даже по утрам встаёт пописать — и то! — не с пустыми руками; ну и писает уже не чем-нибудь, а самым настоящим отборным виски! (В этом месте сержантский кадык непроизвольно дёрнулся и в голосе послышалось неподдельное возмущение, а именно та его разновидность, которую лично я бы назвал возмущением зависти).
— Выходит, что если индейцы кому-то и нужны, — пересиливая возмущение, заключил Боттс, — то только Крепкому Заду. Заду без них никак нельзя — они для него последнее оправдание перед Грантом. В общем, похоже на то, что из всей компании гоняться за индейцами всерьез будет только Кастер. Тут, брат, замешана большая политика, а в большой политике козырной картой может оказаться хоть и толпа старых скво.
— А я слыхал, он сам в президенты метит, — говори) Боттсу.
— Кто? Кастер?! — Боттс разражается ржанием, которому позавидовал бы любой жеребец. — Кастер?! В президенты?! Умора! Ты этого больше никому не говори, а то ребята животики надорвут! Ну, два голоса он ещё наберет, свой да супружницы. Ну, ещё этого… слизняка Тома, ты его, кстати, не видал пока? Та ещё каракатица, козёл спесивый! Ну, Бешеный Билл-то рога в Канзасе ему поотбивал, спесь слегка пооблезла… А тут ещё Дождь-В-Лицо (его пару лет назад прихватили за убийство троих белых), так тот пригрозил, что поскольку его подставил никто иной как Том, то в один прекрасный день он, выбравшись на волю, не то что надерет Тому уши, — а вырежет сердце. И съест. Так вот, с тех пор старик и а самом деле драпанул от правосудия, у Тома, похоже, недержание мочи — так что лично я бы на него не рассчитывал.
Вот какого мнения о Кастере был сержант его полка по имени Боттс. Впрочем, не лучшего мнения он был и о других офицерах. Единственным приятным исключением из этого сборища подонков и негодяев, по мнению Боттса, был капитан Бентин (его я помнил ещё по Уошито), а также капитан Кио, пышноусый ирландец, который славился тем, что с равным рвением исповедовал две такие малосовместимые философии, как католицизм и пьянство. Но поскольку первое он исповедовал только на словах, а второе — исключительно на деле, то это маленькое несообразие как-то не роняло его достоинства в глазах окружающих. Тем более при его немногословности и при том, что капитан Кио в отличие от майора Рино, пил не для храбрости, а просто так, просто потому что пил…
Теперь мне трудно понять, где это Боттс подцепил эту свою привычку шельмовать пьяниц и пьянство, потому как на протяжении всего нашего знакомства он постоянно прикладывался к фляге, за наполнением которой неусыпно следил маркитант. С другой стороны, он точно так же осуждал Кастера за то, что тот не курит и не пьет. Он вообще ненавидел все Кастерово племя, полагая что они-то и составляют главную угрозу кампании: неизвестно как там выйдет с индейцами, а Кастеры нас уже окружили со всех сторон, — вздыхал Боттс, ибо в дополнение к генералу и Тому нашего полку прибыло: младший братец Бостон и племянник Армстронг Рид, и лейтенант Колхаун, само собой, женатый на его сестре.
Заклеймив таким образом мужскую половину рода Кастеров, Боттс, по моим расчётам, должен был добраться и до женской, но слушать это мне было б уже невтерпеж, поскольку к кому-кому, а к миссис Кастер я испытывал самые нежные чувства; для меня она была что твой ангел, а ангелов хулить нельзя, даже если до этого ты и спас жизнь Джеку Крэббу!
Как оказалось впоследствии, большинство солдат стояли на тех же позициях, что и Боттс. Так вот, были у них на то основания, или не было, про то, как говорится, не мне судить, одно я знаю точно — ни один индеец никогда не позволил бы себе худого слова о своем вожде, а если бы вождь и в самом деле был так плох, что его можно было ненавидеть или презирать, то он не оставался бы вождём ни одного дня, возьми хоть Сидящего Быка, хоть Неистовую Лошадь, хоть Ссадину. Да индеец просто и в мыслях бы не допустил, чтобы в бой его повёл человек, которого он ненавидит или презирает. На такие вывихи способно лишь извращённое сознание белого человека. Вот так оно и вышло, что в битве на Литтл Бигхорн Седьмой кавалерийский полк оказался перед лицом двух врагов: всех до единого человека — индейцев племени Лакота и…. Седьмого кавалерийского полка…
* * *
Спустя несколько дней после нашего прибытия на Тонг к нам пожаловали вестовые от Рино. Как оказалось к тому часу Рино уже разбил… правда, не индейцев, а всего лишь лагерь; и разбил его в устье Роузбад. Что же касается индейцев, то его лазутчики частично опровергли прогноз моего друга: индейцев они хоть и не нашли, но зато нашли их следы — широкую полосу побитой копытами земли, на которой ещё отчетливо виднелись рубцы и выбоины от индейских волокуш. Ширина полосы составляла чуть не полмили, так что не обнаружить её было затруднительно. А уходила она вдоль русла Роузбад далеко вглубь долины.
Обнаружив следы индейцев, Рино, естественно, не бросился в погоню, а наоборот — решил подождать Кастера, а заодно и всех остальных. Вот туда-то, к месту слияния Роузбад и Йеллоустоун, и лежал теперь наш путь: кавалерии предстояло преодолеть его посуху, а генералу Терри со штабом — вплавь, на борту все того же «Дальнего Запада». Пехотная часть полковника Гиббона уже тащилась в заданный район по северному берегу Йеллоустоун.
Возможно, вы помните, что в тех местах Йеллоустоун течет с юго-запада на северо-восток, а притоки впадают в неё с юга, причем, все они почти параллельны друг другу. Первым из них была река Паудер (здесь я присоединился к кампании), затем была Тонг (здесь мы нашли труп Лакота и скелет кавалериста), затем — Роузбад, где в настоящее время лагерем стоял Рино; и наконец — Бигхорн. В двадцати пяти-тридцати милях вверх по течению Бигхорн разветвляется на два рукава, восточный из которых носит название Литтл Бигхорн. Такова была география нашего похода.
Вскоре после общего сбора у берегов Роузбад на борту «Дальнего Запада» состоялся большой тайный совет наших начальников. На совете присутствовали Терри, Кастер и Гиббон со своими штабами, а его результаты стали известны ещё до того, как кто-либо из них ступил на берег. Как всегда безукоризненно сработала солдатская служба взаимооповещения, а вот режим офицерской секретности оказался посрамлен… Впрочем, у солдат есть свои маленькие тайны, и я, конечно, не вправе их выдавать. Лично мне результаты совета доложил сержант Боттс.
— Наш план таков, — объявил он с таким видом, словно самолично принимал участие в его разработке. — Седьмой кавалерийский полк под командованием генерала Кастера поднимается к верховьям Роузбад и «завязывает» на себя индейцев, не давая им оторваться, вплоть до подхода основных сил. Если, паче чаяния, индейцев там уже не окажется, то надлежит, форсировав Роузбад, выйти в долину Литтл Бигхорн и таким образом завершить первый этап операции «Молот и наковальня» с тем, чтобы в дальнейшем, развернувшись на: сто восемьдесят градусов, взять на себя роль «молота» и погнать индейцев на наступающие части пехоты под командованием Гиббона и Терри, то бишь, на «наковальню». Тут-то, мы их, голубчиков, и прихлопнем!
— А если не прихлопнем?
— Как это? — не понял Боттс.
— Ну, если их, голубчиков, там уже нет? — усомнился я в добротности генеральского плана.
— Это как же?! — обиделся за начальников Боттс — План верный! Вот только… зная Кастера, я готов побиться об заклад, что никого он ждать не будет; а как найдет индейцев, так в драку и полезет!
От заклада я отказался, и Боттс удовлетворился тем, что на моих глазах осушил свою любимую флягу.
— А, впрочем, может быть, — сказал он, когда последняя капля, слегка помедлив, упала в его разинутую пасть, — очень может быть, что ты и прав. Может быть, Кастер и впрямь когда-нибудь станет президентом, и я этому даже не удивлюсь. Но с другой стороны… А что с другой стороны? Ах, да! С другой стороны, я точно так же не удивлюсь и тому, что индейцев на Литтл Бигхорн уже и след простыл: растаяли, испарились; сидят себе где-нибудь в горах и трубочку курят, — и плевать им на Кастерово президентство! А что — очень может быть! Индеец — не солдат, денег ему не платят, а потому воевать по-настоящему индейцу и смысла нет. Недаром на Уошито…
Вот то-то и оно, что так же, как сержант Боттс, почему-то считала вся армия: все почему-то были уверены, что Лакоты будут бегать и бегать — и так до тех пор, пока не попадутся в лапы тому же Кастеру, вопрос лишь в том, где, когда и при каких обстоятельствах (под «обстоятельствами» понимались собственные небольшие потери). Чего никто из нас в те минуты ещё не знал (а и знал бы, так не поверил!) — то было известие о самом настоящем поражении, что незадолго до этого разговора нанесли генералу Круку объединённые силы Шайенов и Лакотов.
В то самое время, как вы, наверное, догадываетесь, не было ещё ни радио, ни телеграфа, поэтому новости доставлялись адресату в лучшем случае галопом или рысью; иногда пешком, иногда ползком, а иногда — как это ни прискорбно — не доставлялись вовсе. И вот, пока мы строили наши планы и заключали пари о сроках окончательного разгрома Лакотов, они, как в результате выяснилось, отнюдь не собирались сидеть-дожидаться, пока мы придем их громить — они решили громить нас сами. Вопреки всем нашим прогнозам они почему-то не бежали от нас, а наоборот — взяли да обратили в бегство Крука. И даже при всем их наплевательском отношении к избирательской кампании Кастера, они уже приняли в ней самое деятельное участие!
Как оно всё случилось, не мог понять никто, а менее всех — «обиженный» генерал Крук. Но уж ему-то было точно не до логических построений — дай Бог ноги унести, и то ладно. На момент совещания он, собственно, этим и занимался: драпал почем зря или, говоря военным языком, «поспешно отводил войска на юг» — туда, откуда пришёл. Но обида была б ещё не обида, когда бы это позорище не проистекало у нас прямо под носом, а вернее — под носом у Рино, а именно: на том конце индейского следа, что обнаружили его разведчики, в верхнем течении Роузбад; там, куда уже намылилась двигать наша доблестная конница!.. Да, так к чему я завёл этот разговор про телеграф? Наверное, к тому, что война с Филадельфийской выставкой далеко не одно и то же…
Но вернемся к нашему совещанию. Ныне расплодилась такая куча писак, что если б их всех собрать, да в то время поставить под ружьё и в наш полк, то вся история, наверное, повернулась бы по-другому. Так вот, этот народ в один голос заявляет, будто тот совет на «Дальнем Западе» имел чуть не историческое значение, поскольку, значит, порешил судьбы многих людей и, соответственно, отразился на всей дальнейшей кампании. Наивный читатель может вообразить, будто и впрямь так оно и было, и этот совет действительно нарешал чего-то такого, чего не решилось бы и без него. Но я так скажу, что ерунда всё это, и если что-то происходило, то происходило само собой, помимо всякой говорильни; а если уж доискиваться до причин, то найдя одну, тут же натыкаешься на другую, а там еще, и ещё — и так, пока голова кругом не пойдет. Ну что, скажите на милость, помешало Рино взять да пойти по индейскому следу? Пошёл бы — и в самый раз: выручил бы Крука; вот Кастер, тот бы ни секунды не колебался! Ответ, казалось бы, ясен: Рино никогда с индейцами не воевал и даже сама мысль о том, чтобы обогатить свой боевой опыт за их счёт, представлялась ему настолько ужасной, что он предпочитал утопить её в виски прежде, чем она завладеет мозгами. Знал ли об этом Терри? Если не знал, то уж, наверное, догадывался! Отчего же он не отправил в разведку Кастера? Тогда Крук получил бы помощь, Кастер — индейцев, ну, а Рино достался бы кавалерийский скелет. А Рино, поскольку вечно пьян, ему ни холодно ни жарко, ему как с гуся вода, он этого кавалериста никогда и в глаза не видел! Казалось бы, все упирается в Терри, но у того свои соображения: он темечком чувствует колючий взгляд Гранта, против которого только что выступил, защищая своего не в меру правдолюбивого подчиненного. Так что и Терри ошибаться никак нельзя: он сам «между молотом и наковальней» — вот он и действует с оглядкой, наверняка и без риска, уповая больше на пушки и на индейское смирение, чем на быстроту маневра и военную хитрость. Итак, мы добрались до самого старика Гранта. А ему, оказывается, тоже несладко приходится: ему и о выборах надо думать, и конгрессменов утихомирить, и от индейцев житья нет, и от генералов голова болит, — а все из-за чего? Да братец насолил, что называется, и на первое, и на второе, и на третье! Ну, что стоило тому же Орвилу поменьше воровать — и тогда Кастеру не пришлось бы давать показания в Конгрессе и ссориться с президентом; президенту — коситься на генералов; генералам — оглядываться на президента, и… всем вместе разыгрывать одну карту. Но ведь и Орвил-то не мог иначе: не будешь брать — ещё неизвестно каких врагов наживешь! Вот то-то и оно… А Кастер вернулся с совещания мрачнее тучи. Кто-то из видевших его в те минуты, когда он направлялся к себе в палатку, потом говорил, что никогда ещё не видал генерала таким растерянным и удрученным, если не сказать — подавленным; генерал выглядел так, будто провёл на совещании не часы, а долгие годы, и вышел к людям уже глубоким стариком.
Да, с этим я не могу не согласиться! Пожалуй, вслед за мною уже многие стали отмечать эту генеральскую странность: казаться старше, чем ты есть на самом деле, точно так же, как до этого казался моложе. А впрочем, дело-то и не в том, что кажется: есть, знаете ли, такая порода людей, что долго-долго остаются молодыми — вплоть до самой старости, но в один прекрасный день старость так и обрушивается на них, падает, что снег на голову, в считанные мгновенья превращая цветущего вьюношу в согбенного дряхлого старца. Сдается мне, что к этой-то породе людей и принадлежал генерал Кастер. До самых тридцати семи он ходил в эдаких лупоглазых бой-скаутах или, вернее, «бой-генералах»: что ни поручи — все выполнит, честностью — так и светится; при этом не пьет, не курит, за дамами не волочится — ну, хоть картины с него пиши! И вот, нате вам — сломался… Что его поломало, не знаю и врать не буду — знаю только, что впервые я увидел его стариком в той заброшенной деревушке Лакотов, где он стоял в окружении солдат у скелета замученного кавалериста и… молчал. Много раз я возвращался в памяти к той никем не написанной картине! И каждый раз мне виделось одно и то же: серое старческое лицо, изборожденное глубокими чёрными морщинами; усталый опущенный взгляд; плотно сжатые губы и жалкий колючий кустарник на месте былого великолепия волос. От этой картины мне всякий раз становилось не по себе, от неё веяло холодом, но избавиться от неё мне всё равно не удавалось, и уже, как видно, не удастся до самой смерти. Но бывает со мной и так, что закрою глаза — и вижу совсем другую картину, и она кажется мне странно знакомой, хотя сам я наблюдать её никак не мог; эту картину я вижу глазами другого человека, а на ней — опустевший форт Линкольн, уходящая вдоль реки колонна и Кастер, машущий шляпой двум женщинам. На этой картине он уже пострижен…
Впрочем, Сын Утренней Звезды пока не считал себя побежденным старческими недугами. Неизвестно, как там в одиночестве, а на людях он хорохорился, что твой мальчишка. Во-первых, он отказался от великодушного предложения Гиббона усилить свой полк за счёт его эскадрона, а во-вторых, презрительно оглядев пушки, во всеуслышанье заявил, что таскать за собой лишнюю тяжесть его ребята не намерены, у них без того дел хватит. В этих пунктах он снискал горячее одобрение Боттса: сержант, как и другие солдаты, становился на удивление щепетилен, когда на карту была поставлена честь полка.
— Обойдёмся без посторонней помощи, — объяснил он мне, — тут мы за Крепкого Зада горой!
В общем, ни пушек, ни чужого эскадрона нам не досталось — честь полка, сэр, она, как вы понимаете, дороже! Ну вот, а Гиббон, значит, как человек менее разборчивый в вопросах полковой чести, оставил этот эскадрон у себя, не постеснялся прихватить и пушки, и в полном снаряжении двинул свою колонну на Биг-Хорн. Сам он задержался с тем, чтобы проводить нас, а затем вместе с Терри плыть на «Дальнем Западе».
Парад состоялся прозрачным июньским днём около полудня. С севера в долину залетал холодный порывистый ветер, реку знобило, и до самого дальнего горизонта в степи волновалась полынь. На ветру трепетала и чёрная бородка Терри, в то время как сам он, стоя на взгорке впереди своих офицеров, принимал парад. У подножья офицерского холма, как водится, сгрудилась музыка: трубачи изо всех сил выдували бравурный марш, барабанщики рассыпали дробь, и всё это ветер то относил за реку, то бросал нам в уши подобно артиллерийской канонаде. Но лошади весело гарцевали под седоками, и развевались вымпела, и наш Седьмой кавалерийский полк, молодцевато дефилируя перед Терри, постепенно вытягивался в длинную голубую ленту, что, извиваясь, ползла по долине и исчезала за холмом.
Я ехал в конце колонны с обозной командой (шествие замыкал арьергард) и как раз поравнялся с трибуной, когда Кастер подскакал к Терри (тот по такому случаю спустился с пригорка) и пожал руки ему и Гиббону. «Не жадничайте, Кастер, оставьте индейцев и на нашу долю», — усмехнулся на прощание Гиббон, как я понимаю, в шутку.
Но Кастер шутки не принял.
— Есть, — ответил он совершенно серьезно, — есть, сэр! — отдал честь, тронул поводья и в карьер — догонять голову колонны.
Я проводил его взглядом, пока он не скрылся за косогором, но до самой вершины он так ни разу не оглянулся. Когда ж, наконец, и я оказался на вершине, то, в отличие от Кастера, не выдержал и поглядел вниз: издали наши командиры казались совсем маленькими, не больше мух; оседлав лошадей, они спешили к месту стоянки «Дальнего Запада», что прибившись к берегу, сиротливо покачивался на волне подобно жухлому осеннему листочку.
* * *
Ну, что вам сказать, сэр? Едва мы выбрались из лагеря, как обоз дал прикурить всему полку. Я, разумеется, выражаюсь фигурально. Будучи, как и большинство цивильных, прикреплён, а вернее — самоприкрепившись, именно к обозу, я прямо должен заметить, что дело в обозной команде было поставлено из рук вон плохо. Ну, куда это годится, когда не прошло и двадцати минут с начала похода, а мулы уже постряхивали с себя тюки, как те спелые груши! И пусть таких мулов было всего пять или шесть, это ровным счётом ничего не меняет: о каких индейцах может идти речь, когда приходится сражаться с собственным обозом? Ну, а при том, что обоз — это как-никак снаряжение и продовольствие на целых пятнадцать дней (столько было отпущено на разгром Лакотов), то неудивительно, что Кастер был чрезвычайно недоволен! Судя по тому, что говорили нам присланные для наведения порядка лейтенант с дюжиной солдат, «недоволен» — это, пожалуй, самое мягкое из приличествующих данному случаю слов. Несчастные обозники даже не огрызались: понурив головы, они молча занялись поклажей, дотоле перетянутой так, будто к ней приложились то ли дряхлые руки самых что ни на есть трухлявых скво, то ли дрожащие пальцы самых что ни на есть беспробудных пьяниц. (Присланный лейтенант справедливо подозревал второе). Но вот что скажу вам я — я, старый обозный жук, — ругать обоз легче всего, трудней понять, что обоз, он хоть и плетется всегда в хвосте, но для успеха кампании он едва ли не головное дело, ибо каков обоз — такова и армия, не так ли? Так вот, наш обоз упреков не заслуживал, а уж если чего-то и заслуживал, то только проклятий!
В сухую летнюю пору Роузбад — речушка так себе, не речушка, а ручеек — местами всего-то три-четыре фута от берега до берега да столько же дюймов до дна, но попадаются в ней и ямы, и вымоины, и затоки с настоящими рыбными угодьями, где можно не только утонуть, но и, значит, наловить себе на ужин. Именно у такой затоки вечером первого дня Кастер и дал добро на бивак. Узрев возможность слегка поразвлечься, а также разнообразить походный рацион, что большей частью состоял из солонины и сухарей, бойцы устремились к затоке на рыбалку. Сказать, что рыбалка была их любимым из безусловно здоровых видов досуга, никак не скажешь, но охоту Кастер запретил, поскольку выстрел холмистых равнинах разносится так далеко, что переполошит и глухого, пусть даже он дрыхнет без задних ног под тремя одеялами за много-много миль от стрелка, вот по такому случаю у Лавендера разом объявился чуть не целый полк единомышленников. Окружённый вниманием, Лавендер, однако, не обрадовался, а почувствовал себя крайне неуютно: ему, ценившему одиночество как одну из самых притягательных сторон рыбалки, присутствие посторонних пришлось не по вкусу — он взял и забросил удочку. В кусты. Что ж, с каждым шагом нашего приближения к Лакотам он всё больше и больше отдаляется от окружающих, одиночество становилось его второй натурой, и даже ночи он ухитрялся коротать наедине с собой. Палаток, ввиду скоротечности кампании, мы не брали — солдаты ночевали под открытым небом (благо позволяла погода), а для удобства деликатных мест в земле выдалбливались ямки; так вот Лавендер и здесь оставался Лавендером: каждый раз он сооружал подобие индейского шалаша — набрасывал одеяло на куст или на вбитые в землю скрещенные колья и так скрывался от постороннего взгляда. В условиях той же хорошей погоды его ухищрения смотрелись довольно забавно и даже были бы смешны, когда б это не означало, что в кругу своего одиночества Лавендер не желал видеть даже меня, того, кто считался или, по крайней мере, числился его единственным другом.
В тот вечер, бесцельно блуждая по лагерю, почти впотьмах я налетел на какой-то кустарник, чертыхнулся и прямо перед собой увидел нечто тёмное и страшное — вроде присевшего на корточки гризли. От неожиданности я слегка опешил — чуть обратно в кусты не полез, но вовремя опомнился и сообразил: какие тут гризли, когда их здесь отродясь не бывало? Присмотрелся — действительно, никакой это не гризли, а самый обычный индейский шалаш. «Постой-постой, — подумал я себе, — а не здесь ли скрывается мой близкий друг Лавендер?» Подхожу поближе — шалаш как шалаш, да только не совсем: полог вверху не задернут — в крыше, выходит, Дыра, и сквозь эту дыру вьется к небу сизоватый дымок. «Ага, — думаю, — тут он, стало быть, и есть; но крыша, крыша-то уж точно поехала — это ж надо додуматься в шалаше готовить солонину; угорит ведь псих, как пить дать угорит!» Но прежде, чем броситься его спасать, я догадался потянуть носом и уловил запах, что никак не соответствовал паленой свинине, зато по всем статьям напоминал курительный табак. «Так вот чем он здесь занимается!» — сообразил я и уж совсем было собрался шугануть его шутки ради, да жалко стало и я передумал. Вместо этого я отошёл на два шага назад и тихо окликнул его по имени: «Лавендер!» Одеяло медленно разъехалось, в образовавшуюся щель хлынул мутный сумеречный свет и наконец показалась его тёмная физиономия, усыпанная крупными бисеринами пота — всё-таки жарковато ему приходилось в своей берлоге!
В руках у него длинная индейская трубка с черенком эдак фута на два — на три и каменная чаша; глаза не мигая глядят на меня, а сам он — истукан истуканом: не шелохнётся и ни гу-гу.
Зная Лавендера, я мог бы и не обращать внимания на видимое отсутствие гостеприимства: в конце концов, ему было гораздо хуже, чем мне: оба мы прожили достаточно долго у индейцев, оба были им чем-то обязаны, оба против своей воли возвращались к ним с войсками; но я пролез в армию исключительно в силу своей хитрости, не был вписан ни в какие реестры и жил, что называется, сам по себе: хочу служу, хочу — нет; Лавендер же — проходил по всем бумажкам, за службу получал жратву и деньги и, хочешь — не хочешь, а должен был их отрабатывать. Так что, как бы он ни пекся об этих индейских традициях, как бы свято их ни блюл, а суть вещей от этого не менялась: он был наемником и вместе с бледнолицыми шёл громить своих краснокожих собратьев! Так, во всяком случае мне представлялось в ту пору, когда и сам я был никем иным как соучастником готовящихся кровавых злодеяний.
…Ох, немало ж воды утекло с тех пор! Не скажу, что поумнел, но что изменился — это факт! Вот и прошлое — окинешь взглядом, а в нем — какой-то непонятный Джек Крэбб с какими-то странными амбициями, речами, поступками; иногда просто диву даешься: неужели это я? И вот этот самый Джек Крэбб непонятно с какой стати, но знаете ли, кичится перед Лавендером: то ли, значит, высотой своих помыслов, то ли мнимой своей независимостью, то ли — что совсем уж смешно! — принадлежностью к племени Кастера, Боттса, Большого Улисса, то бишь людей, что этого Лавендера и поят, и кормят, и одевают, и ещё деньги дают, чтобы, значит, шёл убивать своих бывших друзей, или соплеменников, или кто они ему там. Ох, запутался ты, Джек, запутался, и даже не понял, что несмотря на всю мелочь различий, оба вы одного поля ягоды, одного пера птицы, одной недоли дети; — вам и держаться вместе! Покричать, что ли? Да разве до себя докричишься?.. «Эй, Джек!» — неужто услышит? Кажись, услышал…
…Его безразличие к моей персоне меня не то что задевает, но как-то, знаете ли, коробит — в конце концов я, может, единственная для него родственная душа и уж как-нибудь да заслужил более душевного к себе расположения! В общем, обиделся я и даже повернулся уходить, бросив ему напоследок: «Не думал я, что ты такой занятой, — иначе б и не приходил!» — когда взгляд его несколько поосмыслился, и он прошлепал одними губами: «Входи и садись».
Так я и сделал, и вскоре мы передавали друг другу трубку, погрузившись в раздумия о нашем, значит, неприкаянном житье.
— Пожалуй, что деваться некуда, — подвел я некоторый итог своим раздумиям после пятой затяжки.
— Пожалуй, что так… — после длительной паузы согласился Лавендер.
Я выдохнул облако пахучего дыма — смесь была ещё та, настоящее индейское зелье, небось доставал где-то; да хоть у тех же ри…
— Слышь, Лавендер, — спросил я, — а ты ведь мне так и не сказал, чего тебя в армию понесло, в твои-то годы…
— Да вот… на родину потянуло — родные места поглядеть… Помирать скоро буду.
Я ещё подумал-подумал и понял, что он имеет в виду, и оценил его простую искренность. Ну вот, казалось бы, чего там в этих его родных местах: кактусы да полынь; чапараль да мискит; ну, тополя кое-где; бузина всякая, а больше и нет ничего — холмы да овраги; а вот поди ж ты — не может без них человек, не может — и всё тут! Говорят, рыба такая есть: всю жизнь ходит себе, ищет где кормёжки больше, а как помирать, так не куда-нибудь, а в родную речку, вот оно как бывает…
— Лавендер, а, Лавендер! А ты встречал кого-нибудь из этой своей родни, ну, что потомки того, знаменитого, который путешествовал с Кларком и Льюисом?
— Нет, — вздохнул Лавендер, — никого. Ни одного человека, о ком можно было бы сказать с уверенностью — да, это он. Правда, среди Лакотов попадаются смуглые, очень смуглые лица, но откуда они взялись, как их разберешь! Да и не в этом дело. Я ведь толком-то даже и не искал а как попал в племя, так, как бы это сказать… в нём и нашёл всю родню, какая мне была нужна. Да ты ведь и сам знаешь: чужаков они — кто любит, кто не любит, но нет в их сердцах ненависти, ненависть они берегут для врага.
Лавендер откинул одеяло пошире. Презрев дым и чад от нашей трубки, в шалаше радостно завыли комары. Похоже было на то, что сидя на ветках, они всю жизнь только и дожидались, пока мы появимся у них под кустом, чтоб утолить их сосущую жажду до следующей великой оказии. Пыхнув трубкой ещё два раза я ощутил зуд во всех сколько-нибудь уязвимых участках тела.
— Да-а, грызутся, — хлопнув себя по лбу, отметил я. — Вот и эти… такие же.
Говоря об «этих», я имел в виду уже не комаров. Но Лавендер понял меня с полуслова.
— Да-а, — кивнул он, — ты бы слышал, как они честят Кастера — слова такие, будто он всем и каждому самый что ни на есть кровный враг! Ну, разве вождь и племя не одно и то же? И разве во главе племени может стоять кровный враг? Джек, они его ненавидят, ненавидят и презирают одновременно, и не только его одного. Здесь каждый ненавидит каждого и все презирают всех, и все… с этим смирились. Возьми вот Рино: ну, какой мужчина потерпит, чтоб ему безнаказанно дали пощечину? А в Линкольне, в офицерском клубе, капитан Бентин отвесил ему такую оплеуху, что весь клуб вздрогнул — и ничего… А Бентин? Письмо в газеты написал — про Уошито, очень плохое письмо, очень Кастера обидел. Кастер хотел его плеткой отстегать, а капитан — за пистолет: «Попробуй!» — говорит. Но Кастер уже передумал и пробовать не стал.
Лавендер осуждающе покачал головой — то ли в адрес Кастера, то ли в адрес Бентина.
— Я тебе про Бентина вот что скажу, — добавил он спустя затяжку, — ты-то, может, и не знаешь, но сам он из южан, а как началась война, он — единственный из всей семьи! — переметнулся к янки, под полосатый флаг, и тогда старый Бентин горько пожалел о том, что породил такое чудовище — предателя, и проклял его, и попросил у небес, чтобы младшего Бентина убили в первом же бою! Но в первом же бою Бентина не убили, а как подвернулась возможность, он сам попросил какого-то большого генерала, и старого Бентина упекли в федеральную тюрьму — до самого конца войны! Вот ведь как — родного отца! — в тюрьму засадил…
— А моего отца убили Шайены, — зачем-то признался я. — Его убили, а меня вот — вырастили и воспитали, как родного сына…
— А я своего даже ни разу и не видел, — сказал Лавендер. — Хозяин продал его, когда меня ещё и на свете не было…
— …А я… — и тут, повинуясь какому-то безотчетному чувству, я рассказал ему всю свою жизнь: про Олгу и Гэса; про Солнечный Свет и Утреннюю Звезду; про Бешеного Билла и Амелию; про то, как оно вышло у меня в Денвере, и про то, что случилось на Уошито.
— Да-а-а, — сочувственно вздохнул Лавендер после того, как я умолк, — никогда бы не подумал, что быть белым, оказывается, тоже непросто.
— А это смотря какой белый! — ограничил я сферу его сочувствия. — Ты вон погляди на Кастера — ему родных разыскивать не надо, он их всех за собой в поход тащит!
— Что ж, можно сказать и так, — опять же вздохнул Лавендер, но вздох у него при этом какой-то такой двусмысленный…
— А тебе что, его жалко, что ли? — спрашиваю я напрямик.
Лавендер начинает выбивать трубку, потом ещё долго ковыряет золу и, наконец, снова вздыхает: «Да, жалко — не жалко, а ничего плохого он мне не сделал. Он, понимаешь ли, всегда относился ко мне как к ЧЕЛОВЕКУ. А что до тебя, Джек, то ты не забывай, пожалуйста, что он ведь солдат…»
— …А солдаты убивают, — продолжил я за него.
— …И умирают… — продолжил он за меня. — И если дойдет до смерти, то уж кто-кто, а Кастер сумеет умереть достойно.
С этими словами он спрятал трубку в кожаную суму (тоже индейское наследство) и поставил в нашем разговоре точку: «Джек, а ты… эта… завещание мне написать не сможешь?»
* * *
Не в силах отказать другу в его просьбе, я побрел по вечернему биваку в поисках карандаша и бумаги, но отыскать их в нашем полку, даром что командир такой писатель, было не легче, чем отыскать иголку в стоге сена. Огней в лагере не разжигали по той же причине по какой Кастер запретил охоту: огонь в ночной степи, как вы понимаете, виден каждому — даже спящему под тремя одеялами слепому; и вот я бродил в потемках, натыкаясь то на солдатские ноги, то на солдатские котелки, но грамотей мне попался лишь один. Этот деликатный образованный человек, не задавая лишних вопросов, позаимствовал мне карандашный огрызок, но вот с бумагой-то даже у него было худо. У него, собственно, вообще была только одна бумага, и ту он бережно хранил у своего сердца, потому как то было письмо его жены, и дать его мне он никак не мог. Я совсем было расстроился, но на фоне ночного неба увидел три тёмные фигуры, в которых опознал офицеров: лейтенантов Уоллеса, Макинтоша и Годфри — у кого ещё можно было выклянчить бумагу, как не у них! У них и бумага была подходящая — бланки приказов, — как раз то, что нужно и для завещания, оно ведь тоже по-своему приказ, только для душеприказчиков.
Позже я выяснил у того же Боттса, что в тот вечер у офицеров было совещание с Кастером — вещь настолько необычная, что под её воздействием в офицерские головы сразу полезли дурные мысли, а начиная с ночи офицеры уже разбились на два лагеря: на тех, кого мучит бессонница, и на тех, кому снятся кошмары. Боттс мне потом признавался, что на его памяти это было первое совещание, на котором Кастеру понадобился совет, поскольку Кастер, если с кем-то и советовался, то исключительно с самим собой. Неудивительно, что когда я повстречал эту троицу, они показались мне какими-то не такими: было бы посветлее, я бы сказал, что на них просто лица нет! Не зная сути дела (а я узнал её лишь на следующий день), можно было вообразить, будто они вдрызг проигрались в карты или, что того хуже, посажены на хлеб и воду за злоупотребление спиртным. Оказывается, это они шли с совещания. На совещании Кастер никого не распекал, не чихвостил и даже слова дурного не сказал, наоборот — он спокойно объяснил, что отказался от пушек, дабы не задерживать продвижение колонны, а кавалеристы полковника Гиббона могли стать помехой в моральном смысле, разбив полк на своих и чужих… после чего потрепался об особенностях данной компании в отличие от всех предыдущих и, наконец, испросил мнения и совета офицеров. Вот это их и доконало. От Кастера можно было ожидать чего угодно: он мог приказывать, требовать, настаивать, кинуться с плеткой на Бентина — но просить совета?! «Просит совета — ишь ты! — недоумевал Боттс. — С чего это вдруг?» После разговора с Боттсом мне стали понятны туманные опасения лейтенантов, пока я следовал за ними, не решаясь обратиться насчёт бумаги.
— Годфри, — ни с того ни с сего, как мне показалось, вдруг говорит Уоллес, — я начинаю думать, что в глаза Кастеру уже заглянула смерть.
— С чего вы это взяли, лейтенант? — очень вежливо (понятно, что под впечатлением от совещания) спрашивает Годфри.
— Да ведь, чёрт побери, никогда раньше он так не говорил!
Макинтош переводит взгляд с одного на другого и молчит.
Его мнение показалось мне наиболее значительным: в его жилах текла индейская кровь (мать была из восточных Ирокезов), и слов на ветер он зря не бросал.
Пройдет совсем немного времени, и эта троица распадется: в живых останутся двое, а третий… с третьего индейцы снимут скальп. Так вот, этим третьим как раз и будет лейтенант Макинтош.
Ну а я, видя занятость офицеров своими мыслями, так и не решился обратиться к ним со своим пустяком. Определив, что так или иначе нахожусь на офицерской тропе, я решил подождать кого-нибудь менее занятого.
Именно таким человеком и оказался капитан Кио со своими огромными чёрными усами и маленьким клинышком бородки под нижней губой.
Кио был ирландцем и в своё время служил не где-нибудь, а в папской гвардии в самом Ватикане, откуда, видимо, и вынес главные свои жизненные убеждения.
— О чём речь! — не колеблясь ответил он на мою просьбу. — Разыщи Финнегана, пусть выдаст из моего письменного набора.
Финнеган, по утверждению Боттса, числясь у Кио денщиком, в действительности состоял при нем чем-то вроде опекунского совета или ангела-хранителя казны. Основанием для такого утверждения служили недавние события в Линкольне, когда Финнеган внезапно наложил свою лапу на все капитанские денежки, чем, однако и спас как их, так и самого капитана — последний уже был готов допиться до окончательного посинения.
Поблагодарив капитана за отзывчивость, я уже повернулся уходить, но тот остановил меня странным вопросом:
— А ты-ы… уж не завещание ли собрался писать?
— А как вы догадались? — спросил я, потрясенный такой его проницательностью.
Капитан от души рассмеялся, в чем, услышав его смех, я поначалу узрел даже какое-то издевательство над общепринятым трепетным отношением ко всему, что окружает наш переход в иной мир, но поразмыслив, я в дальнейшем пришёл к тому выводу, что по всей вероятности, столкнулся сейчас с так называемым знаменитым «ирландским юмором», вся соль которого, может, в том и состоит, чтобы вот так — от души! — посмеяться, когда хочется плакать.
— А я уже написал, — отсмеявшись, признался Кеог. — ещё вчера. Правда, это было уже после того, как Том Кастер с Колхауном ободрали меня в карты. Так что завещать мне было особенно нечего.
— Тогда зачем же вы написали? — чувствуя, что попал в какую-то завещательную эпидемию, спросил я.
Ясный взор Кио пронзил меня сквозь вечернюю мглу.
— А затем, ЧТОБЫ БЫЛО, пропади оно пропадом! С тем я и поплелся искать Финнегана. Насчёт бумаги он был неприжимистым, и я взял бумагу, и вернулся к Лавендеру, и мы с ним состряпали наши завещания: Лавендер все завещал мне, а я, значит, ему, но затем встал вопрос с распорядителем нашей последней воли.
— Давай вот что, — предложил Лавендер, — свернем-ка мы… эта… нашу последнюю волю в трубочку, сунем в гильзу и дадим на сохранение Кровавому Тесаку.
— Почему Тесаку? — не понял я. — Он, что, не такой, как все?
— Тесак из племени ри, а все Ри — трусы, — с надменной лакотской гордостью пояснил Лавендер. — Вот увидишь, он сбежит с первым же выстрелом. И будет бежать и бежать — до тех пор, пока его не остановит Миссури.
По поводу этого заявления Лавендера я могу добавить лишь то, что монополией на истину, видимо, не обладает ни одна из живущих на земле рас: никуда Кровавый Тесак не сбежал, а уже в долине был убит выстрелом в голову, и его мозги забрызгали весь мундир майору Рино. Но к нашему завещанию это уже не относится, поскольку ни малейшего касательства к нему никакого Кровавого Тесака я не допустил — я его просто сжег. Жить с бумагой о своей смерти показалось мне дурным знаком. Правильно ведь говорил капитан Кио — ПРОПАДИ ОНО ПРОПАДОМ: но я-то его послушал, а он себя нет. Оттого, может, оно так и вышло, что я вот до сих пор жив, а Кио…
* * *
На другой день мы отмахали что-то около тридцати миль вверх по Роузбад и на исходе пятой мили наткнулись на тот индейский след, что разыскали разведчики Рино. Я все ещё тащился с обозом; а мулы, они мулы и есть, куда им за лошадьми? Так что колонна уходила все дальше и дальше, и когда я добрался до индейского следа, то обнаружил, что по нему уже здорово потопталась наша конница: кругом, где надо и не надо, виднелись отпечатки кавалерийских подков. И всё же по ширине полосы, что составляла порядка трёхсот ярдов, я сумел прикинуть приблизительную численность прошедших здесь людей. И если я был прав (а я думаю, что я был прав) то прошло их здесь никак не меньше тысяч, эдак, четырех, а то и пяти. В этой своей оценке я укрепился ещё больше после того, как повидал места ночных стоянок, что время от времени попадались на протяжении нашего пути, — шли-то мы, пусть и с обозными неприятностями, но куда шибче индейцев, и расстояния меж биваками у нас были не в пример длиньше ихнего; так вот, кольцевых отметин, означавших типи, насчитал я никак не меньше тыщи, а уж дырок от всякого дреколья, где стояли шалаши, так и вовсе было без счёту.
Естественно, что полноценных воинов среди всей этой публики была от силы половина, да и то — вряд ли; скажем так — треть с хвостиком; но имея дело с индейцами, всегда надо учитывать, что любой индейский мальчишка старше двенадцати уже умеет обращаться с оружием, а уж украситься «белым» скальпом — то его самая наизаветная мечта.
Побрезговав пушками и кавалеристами полковника Гиббона, Кастер, однако же, не отказался от услуг его разведчиков — индейцев из племени Ворон, чьи родные места сейчас, значит, и топтали наши кони. А в наши союзники Вороны угодили по тем же соображениям, что и Ри: их и так было по пальцам пересчитать, а заклятые соседи, те и вовсе довели их чуть не до полного исчезновения из природы. Но исчезать им, ясное дело, не хотелось, и от такой жизни глядели они на Кастера как на своего лучшего друга, защитника и спасителя. Надо полагать, что при жизненной важности для них этого похода они «вычитали» след самым добросовестным образом и, как есть, все доложили Кастеру. Какое отношение имел ко всему этому я? Да в общем-то никакого. После того, как Кастер отверг мои разведческие услуги, нарываться на его грубость вторично я уже не собирался. Не собирался, не собирался, но пришлось. А виной тому был приобозный лейтенант, что околачивался при нас в должности начальника походного охранения.
Работенка у него была — не бей лежачего, и от безделья он таки сильно изнывал. Ну, охраняешь, так охраняй себе, чего других понукать-то? Ну да к тому часу он уже притерпелся к нашей маневренности и давно уж не брызгал слюной, когда мы в очередной раз принимались перевьючивать нашу животину; а та, кстати сказать, так и норовила избавиться от лишнего груза, причем, особенно от ящиков с патронами, и тут уж наши мулы проявляли такую завидную прыть, что и лошадям не снилась — выскальзывали из поклажи, как мылом намыленные! И вот в один из таких разов, когда лейтенант стало быть, подустал орать, как недорезанный, и уже совершенно успокоился, я и обратил его внимание на несоответствие нашего и индейского следов, каковое, значит, и наблюдалось не в нашу пользу. «Большая деревня!» — указал я ему на ширину индейского следа.
На что лейтенант ухмыляется, как будто перед ним зеленый новобранец, и, ухмыляясь, допускает, что, действительно, имело место несколько сот голов противника.
Я подумал, что ослышался. И спрашиваю, а что, мол, по этому поводу доносят наши друзья-разведчики.
И что отвечает мне этот индюк? А индюк мне отвечает: какой, мол, прок в их донесениях, когда эти Вороны, хоть и славные ребята, а к настоящей войне несподручные, и потому глазомер у них сильно преувеличен.
— Когда б ты послужил на фронтире с мое, — отвечает он, — ты б уже усвоил, что при их глазомере нужно всё в аккурат делить на три.
…Я уже рассказывал вам о том, как небезразличны мне были индейские беды, и как распереживался я из-за солдат, когда они встретились со своим скелетом, но есть же в конце концов и такое близкое каждому человеку понятие, как собственная шкура! И вот, чем ближе мы подбираемся к индейцам, тем ближе и дороже становится мне она. И тут я чувствую, что в её интересах немедленно покинуть этот черепаший обоз и, даже не плюнув на этого индюка с куриными мозгами, я с места срываю скакуна в карьер.
Я был уже далеко, когда до меня донеслось его напутственное слово. Ну, что сказать? Оно характеризовало лейтенанта как человека очень неразборчивого в средствах выражения. Единственное, что я сумел разобрать, это то, что не видать мне, такому-растакому, жалованья, как своих ушей. Но я и не рассчитывал. Я уносился все дальше и дальше и даже не обернулся дать ему прощальный совет: протереть глазомер и прочистить мозги — ибо, когда б я и впрямь решил дезертировать, то уж, наверное, скакал бы в обратную сторону, а я скакал к голове колонны по тому самому индейскому следу, что мнился ему втрое уже того, что было на самом деле…
Впрочем, сказав, что я уносился, я имел в виду скорее состояние моего духа, нежели состояние пони — лошадку Кровавый Тесак мне продал совсем никудышнюю: пони был по-индейски, не подкован, копыта стерлись, и бедняга даже не знал на какую ногу хромать; так что хромал он на все четыре, а земля, как назло, сухая и грубая, потому как ежели где раньше и росла какая трава, то всю её обожрали непомерные табуны Лакотов. По такому случаю скакать мне довелось не час и не два, и потому вообразите моё внутреннее негодование, когда Кастера в колонне не оказалось! Не было его и в авангарде. А был он ещё в полутора-двух милях впереди. Тут я и вспомнил об этой сумасбродной генеральской привычке разъезжать впереди войск. Привычка эта заводила его весьма далеко: иногда к разведчикам, а иногда и того Дальше — к чёрту на рога. Ходили подозрения, что он тайком охотился. Может, и охотился. Но только не в эту кампанию. Нынче ж ему было и вовсе не до охоты — когда я подъезжал, Кастер был окружён… индейцами.
Окружение происходило на невысоком пригорке всего в трёх четвертях мили от меня. Помощи было ждать неоткуда. Я зажмурился и, не взирая на численное превосходство противника, коршуном бросился на него Подъехав поближе, я обнаружил, однако, что индейцы вроде как и не спешат снимать с генерала скальп а наоборот — беседуют с ним очень даже мирно; присматриваюсь — тьфу ты! — да ведь это ж не те индейцы от которых надо спасать Кастера, — будет такая нужда, они его и сами спасут! Одним словом, Кастер находится в окружении Ворон. Был здесь и Тот-Кто-Бежит-От-Белого, и Лицо Вполовину Жёлтое, и Тот-Кто-Держит-Путь, и совсем ещё молодой Кучерявый. Был с ними и толмач, бело-индейская помесь по имени Митч Боуэр. В общем, пока я их рассматривал, Кастер от меня улизнул, а как и когда — я и сообразить не успел. Зато вся эта компания встретила меня на пригорке, и не могу сказать, что очень дружелюбно.
По своей памяти я тоже не испытывал к ним дружеских чувств. А в этой толпе, вдобавок, находился Тот-Кто-Бежит-От-Белого, который в пору моей вражды с Воронами уже был взрослым воином; и вот я чувствую, что я у него вроде бельма в глазу: как оно выскочило, он толком не поймет, но то, что есть — прекрасно понимает. Мысленно он уже подставляет меня в различные картины своего прошлого, и ввиду их небогатого разнообразия, есть серьезная опасность, что вспомнит.
Честное слово, я испытал огромное облегчение, когда из-за холма, направляясь к нам, показался старший белый разведчик по имени Чарли Рейнольдс, эдакий приземистый малый с покатыми плечами. Он был действительно одним из лучших белых разведчиков фронтира, совсем не чета некоторым длинноволосым, вроде того же Буффало, Билла Коуди да и некоторых других, что больше славились умением пускать пыль в глаза, нежели ходить по следу. Единственный недостаток Чарли состоял, видимо, в том, что беседовать с ним было одно сплошное удовольствие, но только для тех, кому не нужен… собеседник. Своё участие в разговоре он ухитрялся низвести до такой степени односложности, после которой надобность в словах вскорости должна была отпасть вовсе. Неудивительно, что его прозвали «Одинокий Чарли» — это прозвище вы, конечно, слыхали; и слыхали гораздо чаще, чем его полное настоящее имя — Чарли Рейнольдс.
__ Чарли! — говорю я ему. Он тут же втыкает глаза в землю — такой, значит, своеобразный у него был способ общения. — Чарли! Ты сказал генералу, сколько здесь прошло индейцев?
— Гм, — произносит он в ответ, что судя по интонации, скорее всего означает «да».
— Это я к тому, — говорю я, — что некоторые офицеры заблуждаются насчёт того, что их можно по пальцам пересчитать.
Он пожимает плечами и что-то сосредоточенно высматривает на земле — судя, опять же, по его виду, то, должно быть, следы какой-то букашки или козявки, что незадолго до нас пробегала здесь по своим делам; лошадь его при этом не шелохнется — обученная.
Тут к нам подъезжает Митч Боуэр с таким, знаете ли, ко мне заявлением, какое из уст белого человека обычно воспринимается как признак недостаточной культуры; но в устах индейца — неужто опознал меня этот чёртов Тот-Кто-Бежит-От-Белого?! — в устах индейца здесь звучит уже нехорошая угроза; а при индейском уважении к слову отнестись к ней надлежит со всей серьезностью.
Впрочем, даже в худшем случае в заложниках у меня остаётся всё тот же Чарли, ибо заодно им придётся кончать и его — не может же он остаться безучастным к такому гнусному преступлению на «расовой почве»! Но Рейнольдс даже не подозревает о своей миротворческой миссии и продолжает изучать муравьиный след, вто время, как подъезжает к нам этот самый Митч Боуэр и говорит, обращаясь ко мне:
— Что тебе нужно?
— Сберечь скальп, — честно отвечаю я.
— Это будет трудно, — поразмыслив над моими словами, отвечает мне Митч Боуэр. — Это будет большой бой. Очень большой!
Засим он поворачивает коня и возвращается к своим Воронам — у меня отлегло от сердца: видать, он и впрямь ещё не набрался культуры, но это не опасно.
На протяжении нашего разговора Чарли бросил один взгляд на Митча, затем вновь уставился в землю.
— Чарли! — говорю я ему, — слишком много выходит на нас одних! А ведь он ждать не будет — ни Терри, ни Гиббона…
— Э-а… — согласился Чарли.
— Но, черт возьми! Хоть ты-то можешь ему объяснить? Ведь если он кого и послушает, то уж, наверное тебя!
— Нет, — отвечает он. И трогает лошадь с тем, чтобы удалиться. Я замечаю, что его правая рука на перевязи.
— Что, рана? — спрашиваю.
— Ногтоеда, — говорит он.
— Стрелять-то можешь?
— Э-а-а, — отвечает он и, вкрай изможденный длительной беседой, съезжает с глаз долой.
— …Рейнольдс? Да это заяц каких мало! — со свойственной ему прямотой сказал мне тем же вечером Боттс. — Косоглазие у него — на предмет, как бы смыться. Он ещё у Терри отпрашивался. Мочи, говорит, нет. Чую, говорит, могилой пахнет. Кажется, это была его самая длинная речь за все последние годы. А может — и за всю жизнь.
— Боттс! — взмолился я. — Ну, отчего так больно плохо ты обо всех думаешь? От этого я, может, и сам сижу вот, а на душе кошки скребут: а что, мол, думает обо мне мой приятель Боттс?
— Джек, — хлопает он меня по плечу, — а чего о тебе думать? О тебе и думать нечего! Слишком, понимаешь, тебя мало, чтобы много о тебе думать. Но все, что есть, все оно белого цвета — белого, как пить дать, и от этого ты никуда не денешься.
Деваться мне и вправду некуда, ибо сидим мы с Боттсом в зарослях чапараля, и затащил он меня сюда именно затем, чтобы напиться. Некоторых, знаете, хлебом не корми, а только дай им благодарного собеседника, на которого можно излить помои своего мнения об окружающих. Оно, казалось бы, и проще вылить их, так сказать, непосредственно; да вот — то ли застенчивость мешает, то ли воспитание, то ли, опять же… сухость во рту. А попробуй-ка промочить горло, а потом подойти к тому же Кастеру — да он и слушать не станет! «Да вы пьяны!» — скажет и, что обидно, будет прав. А как, спрашивается, подпоить его, чтобы прямо сказать ему, какое же он… Независимо от того, что… он не пьёт? И вот, по такой безысходности сижу я и выслушиваю Боттса, и мы потягиваем из наших фляг, а фляги у нас большие, полуведерные, и морды у нас — красные, даже во тьме видно; и в глазах стоит призрак самой что ни на есть белой горячки. Во мне уже и возмущение подымается, где-то под кадыком булькает, того и гляди — наружу выплеснется, а и сил на то, чтобы тихо-мирно отползти в сторону, тоже никаких нет. И вот с той мыслью, чтобы, значит, не допустить позора, я и проваливаюсь в темноту. До такого жалкого состояния я не допивался с тех пор, как по южным равнинам разыскивал Олгу и Гэса.
Результатом этой, в целом удачной, по словам Боттса, вечеринки, было то, что наутро я проснулся в наипаскуднейшем расположении духа и в таком виде вступил в самый долгий день моей жизни.
Глава 27. ЖИРНАЯ ТРАВА
Суббота 24 июня выдалась жарким и зловетренным днём: с утра поднялся южный суховей и под палящим солнцем в воздухе носилась едкая колючая пыль. Пыль набивалась в глаза, и уши, и ноздри, и не спасал даже галоп — всякий последующий на своей шкуре чувствовал каждую пылинку, поднятую предыдущим всадником. Шлейф от копыт взвивался вверх подобно гигантскому сигнальному костру.
Дабы несколько поуменьшить наши страдания, а может — не страдания, а тёмную тучу, что висела у нас над головой, Кастер отдал приказ на разделение колонны; и такой, значит, бороной в несколько зубьев мы и боронили прерию — до самого полуденного привала, а вскоре после него наткнулись на ещё один индейский след. Этот след шёл откуда-то с юга и сливался с тем, вдоль которого двигались мы сами. Но ещё до слияния двух индейских троп (если тропами называть две широких полосы, сплошь избитых копытами и перепаханных волокушами), мы обнаружили брошенное индейское стойбище, вернее, место стоянки, посреди которой высились столбы, служившие стеной для вигвама Солнечного танца. Подъехав к стойбищу я спешился и на полу в вигваме Солнечного танца наткнулся на рисунки, значение которых прочесть мне не составило большого труда. Весь пол был испещрен следами, изображавшими конские копыта: одна сторона — копыта с кавалерийскими подковами, другая — без подков; а в центре виднелись фигурки, в которых, опять же, можно было опознать солдат и индейцев; но индейцы стояли, а солдаты как бы падали перед ними головой вперёд. Самое удивительное, что ветер, насквозь продувавший частокол, следов почти не занес, а ведь рисунки были сделаны на самом что ни на есть сыпучем песке.
Наблюдать эти рисунки, к несчастью, довелось и нашим разведчикам из Ворон и Ри, и надо заметить, что послание на песке произвело на них удручающее впечатление. С лицами молочно-восковой бледности они обступили своих толмачей Митча Боуэра и Фреда Джирарда и наперебой стали втолковывать им зловещий смысл песочных письмен.
На ковыльных ногах я как раз маялся неподалёку, испытывая мутную тоску от вчерашнего спиртного; с утра меня вывернуло при одном взгляде на солонину, но даже спасительная рвота не принесла облегчения организму — все валилось из рук, набухшие веки слипались, как тесто, и больше всего на свете хотелось забиться куда-нибудь в тень и чтоб никто не трогал; но зато, как бы в виде компенсации за всю тяжесть остальных членов моего тела, в голове стояла удивительная легкость, из-за которой, даже не зная слов, я прекрасно понимал, о чём толкует разведка.
В разгар их переговоров в расположение въезжает Кастер, и Митч спешит к нему с докладом о ритуальной живописи с изображением, значит, падающих, то бишь, надо понимать, убитых солдат. Кастер уже готов пожать плечами на эту дикарскую, как он полагает, выходку, но тут вперед выхожу и я говорю: «Генерал!»
Кастер взирает на меня с недоумением — мол, что это ещё там за вошь выискалась; но быстро припоминает (я говорил, что на память он не жаловался) и подымает бровь: «Ах, это ты, гуртовщик! А мне казалось, что твое место среди мулов!» — при этом он, однако, не сердится, а наоборот — ситуация его даже забавляет.
— Я что-то сделал не так? Или не так понял? — спрашивает он усмехаясь. — Я, видите ли, не Господь Бог, а всего-навсего полковой командир…
— Сэр, — говорю я решительно, смаргивая пьяную слезу, — не знаю, насколько вы довольны действиями ваших разведчиков, но у меня сложилось впечатление, что по факту их доклада вы склонны расценивать данный живописный инцидент в качестве простого суеверия и, боюсь, что тем самым не придали ему того значения, какого он, несомненно, заслуживает.
Боуэр и Джирард одновременно начинают сверлить меня недобрым взглядом, но меня им уже не остановить.
— Видите ли, сэр, — мужественно продолжаю я, — с индейской точки зрения никакого суеверия здесь нет, и было бы глупо полагать, что индеец станет заниматься подобными пустяками. Быть индейцем отнюдь не означает тешить себя исключительно иллюзиями и принимать желаемое за действительное; а ежели кто так считает, то он сам невольно впадает в глубочайшее заблуждение, какое пытается приписать противнику. Мир, творимый индейцем, настолько же магичен, насколько и реален: одно зиждется на другом и без оного теряет свой смысл. Человек, написавший эти письмена, очень умный человек. Что касается магии, то о её воздействии на ваших индейских союзников даже говорить не приходится — достаточно взглянуть на их лица; но, сэр, вспомните, пожалуйста, и себя: разве не такое же воздействие произвёл на вас обугленный скелет в долине Тонг? Вот что такое магия, сэр! И смею вас уверить, что для писавшего на сей данный момент не столь уж и важно, сбудется его предсказание или нет: сбудется — очень хорошо! — значит, это было пророчество, прозрение, предвидение — называйте, как угодно, генерал; а и не сбудется — что ж, его вины в этом нет! — в конце концов не всем же предсказаниям сбываться, это, повторяю, пока что и не важно; но что действительно важно, так это то, что предсказание сделано и, хотим мы того или нет, ОНО УЖЕ ДЕЙСТВУЕТ. Генерал! В вашей власти было отдать распоряжение и захоронить останки несчастного, в вашей же власти распорядиться и стереть эти жалкие, как вам сейчас представляется, писульки — их, впрочем, и без вас уже к вечеру занесет песок; но, генерал, — помяните мое слово! — пока вы живы, ни схоронить, ни стереть увиденное вам не удастся — оно пребудет в вашей памяти так же, как и в памяти ваших подчинённых, и с этим вы уже ничего поделать не сможете — дикарь перехитрил вас! На то и была рассчитана магическая, с вашего позволения, сторона событий… Ну, а что касается стороны реальной или практической, то мне даже удивительно, что все наши белые, чрезвычайно практичные мозги до сих пор не поняли очевидного: и скелет и рисунки — то послание вам, генерал; индейцы знают, что вы идёте за ними, следят за каждым вашим шагом и объявляют, что принимают бой!
Так (или примерно так) я и сказал Кастеру. На протяжении всей моей продолжительной речи на губах у него блуждает призрачная улыбка — из тех, знаете ли, улыбок, что в любой момент могут обернуться даже грозой Но грозы не разразилось. Выслушав меня до конца, Кастер откинулся в седле и разразился… смехом, да-да смехом, но таким — как бы это сказать? — скрипучим и деревянным смехом, что если б не очевидное, то я бы подумал, что с частокола прокаркал ворон. Впрочем как я уже имел честь заметить, голова в тот день у меня была светлая, и то, что казалось мне, не обязательно должно было казаться другим. На небе, во всяком случае, не было ни облачка, настроение у Кастера под стать погоде, и он явно был расположен к шутке.
— Гуртовщик, — говорит он, — у меня репутация довольно сурового человека, но вместе с тем я, пожалуй, единственный из всех высших офицеров, кто способен стоять и выслушивать рекомендации всяких шкуродеров. У меня, видишь ли, слабость к различным колоритным фигурам вроде того же Калифорнийского Джо или Бешеного Билла Хикока или вот — безымянного гуртовщика, что мнит себя великим разведчиком и лезет давать советы генералу. Чарли Рейнольдс, на что уж отличный разведчик, а к генералу со своими советами не лезет.
С этими словами Кастер стаскивает с головы шляпу и, опять же со смешком, отвешивает мне, безымянному гуртовщику, нечто вроде поклона. После чего отрушивает шляпу о сапог (или наоборот — шляпой сбивает с сапога пыль), но результат, значит, один и тот же: то ли случайно, то ли понарошку, но вся эта пыль летит мне, безымянному гуртовщику, прямо в глаза. Складно это у него получилось, очень складно.
— Что-то невесёлая у нас кампания! — изволит он пошутить дальше, желая, видимо, довести шутку до свойственного мозгам белого человека практического завершения. — Но ситуация исправима. Я назначаю гуртовщика разведчиком, и не просто разведчиком, а своим личным разведчиком! Отныне твоя задача неотлучно находиться подле меня и сразу докладывать всё, что только взбредет тебе не ум. Помни, что это военная тайна, и разглашать её запрещено.
Вот так я и получил долгожданный официальный статус.
Должность моя, как вы успели заметить, именовалась очень громко, пожалуй, даже слишком громко, и была, как я подозреваю, единственной не только в нашем толку, но и во всей американской армии. Однако ж, при всей её внешней помпезности, она настолько щекотала ноздри моего самолюбия, что первым делом захотелось тут же на неё начхать. Это ж надо, чего выдумал: ты, значит, человеку правду, а он в отместку назначает тебя своим личным официальным шутом — вот до чего может пойти людская неблагодарность! Но с другой стороны… генерал, он ведь тоже прав: он меня выслушал, не побрезговал, ни разу не перебил, а уж как воспринял, то, как говорится, его собственно генеральское дело — правда, оно штука такая, как палка, о двух концах… за неё не должность, за нее по шее схлопотать недолго! Выходит, я счастливо отделался. Ну, а что до шутовской должности, так и в самом деле — начхать. Шут — он на то и шут, чтобы говорить правду; он, может, вообще единственный, кто может позволить себе говорить правду, всю правду и ничего кроме правды — другое дело, что эту правду все загодя принимают за шутовство… При таком раскладе, будучи личным советником Кастера, я оказывался ещё больше не при деле, чем при обозе! Но зато уж моя новая должность давала мне и ряд таких заметных преимуществ, о каких раньше и мечтать не приходилось: во-первых, не надо было плестись в конце колонны и глотать чужую пыль, что уже хорошо; во-вторых, не нужно было выслушивать, чего о тебе думают всякие заезжие лейтенанты, наоборот — теперь ты и сам мог им сказать все, что о них думаешь, пускай послушают; ну и, наконец, можно было попытаться уберечь Кастера от тех ошибок, которые он без меня, наверняка, совершит… Все эти мысли вихрем пронеслись в моей светлой голове; я вытянулся в струнку и радостно отрапортовал: «Да, сэр!»
Не знаю, чего уж там ожидал от меня Кастер, но со смеху он едва не скатился с лошади; глядя на него, заулыбались и оба этих сумрачных типа — Боуэр и Джирард; и уже вслед за ними — смущённые индейцы, они народ, хоть и непонимающий, но компанейский.
Итак, получив повышение, я тотчас же был готов проследовать за Кастером с тем, чтобы немедленно приступить к исполнению моих новых обязанностей, однако даже при всей моей исполнительности сделать это было не проще, чем на хромой кляче угнаться за самой резвой кобылкой из всех, что на ту пору состояли под седло в американской кавалерии. Не проехали мы и двух миль как я успел убедиться, что генеральская репутация не только сурового человека, но и в высшей степени энергичного командира, нисколько не преувеличена: взад и вперед гонял он свою Викторию, а когда Виктория выдыхалась, денщик тут же подводил к генералу Денди жеребца не менее лихих скаковых качеств. В течение дня генерал неоднократно принимал разведдонесения, но для встречи с разведчиками он уносился на милю, а то и больше вперед колонны; возвращаясь назад, он скакал бок о бок с кем-нибудь из полевых командиров, беседуя с ним, и все это время генеральский адъютант лейтенант Кук, личность весьма примечательная своими далеко растущими бакенбардами, писал приказы и рассылал их с курьерами по войскам. Когда прибывали ответы, генерал окидывал их орлиным взором и мчался дальше. Поспеть за ним, боюсь, я не смог бы и на более трезвую голову.
Таковые попытки я вскорости и оставил. Оставил хотя бы уж для того, чтобы ничем, повторяю — ничем, не напоминать все того же генеральского братца Тома. Этот, с позволения сказать, пресловутый Том, в свою очередь, старался во всём походить на брата и на этом поприще достиг уже немалых успехов: положа руку на сердце, его смело можно было признать вылитой генеральской копией — на тех же условиях, на каких и копией бронзовой статуи признается всякая гипсовая труха. И вот этот генеральский дагерротип со шляпой набекрень (так окрестил Тома кто-то из его поклонников, то есть, не Тома, конечно, а этого, дагерротипа) изо всех своих цыплячьих сил тужился изобразить орла; смотришь — вот он маячит далеко впереди в позе ковбоя, озирающего окрестности, а то вдруг — фырк! — и галопом обратно, да так шустро, словно за ним лавина индейцев с томагавками, — да что ж ему так приспичило? — думаешь про себя, а это он, оказывается, решил письмо отправить… в дальние края, в обозную команду. Иногда, правда, он становился задумчив и тогда действительно здорово смахивал на генерала, размышляющего перед сражением; но это его состояние продолжалось недолго, шагов эдак десятьнадцать, после чего он спохватывался и вновь уносился прочь. Единственным оправданием Тому во всех его цыплячествах в глазах полка могло быть только поведение прочей молодой поросли генеральского рода, а именно: братца Бостона и племянника Армстронга Рида — но те, видать, уже вконец ошалели от бескрайних просторов свободы и вели себя так, будто выехали не на бой с индейцами, а на пикник с дамами. Мои претензии к его родственникам я готов был изложить генералу по первому же требованию, но за целый день времени для доверительного разговора у него так и не нашлось.
Но Боттс-то, Боттс, ну, как в воду глядел! Не знаю, говорит, мол, как там насчёт индейцев, но то, что Кастеры нас окружили, это уж точно! В одночасье взлетев по служебной лестнице, я как раз очутился в окружении Кастеров, и все тяготы такового окружения испытал прямо-таки на своей шкуре; в какой-то момент я даже ехал впадать в тихое помешательство: их много — а я один; их-то много — а поговорить не с кем… С такой тоски я даже стал заговариваться… с этим, генеральским денщиком по имени Бэркман, но у этого малого, в отличие от того же Тома, набекрень была уже не шляпа, а то, что под ней (шляпу он натягивал прямо на нос), и будучи косноязычным тугодумом, этот страдалец, значится, служил: Заду — денщиком, а всем прочим — задом для битья (в плане остроумия), по каковой причине и пребывал в постоянном напряжённом ожидании всевозможных каверз и подвохов со всех, буквально со всех сторон, кроме как со стороны… тех же Кастеров. Только после пытки Бэркманом — ах, как же он отличался от своего уошитского предшественника! — сумел я разглядеть до дна всю глубину генеральского коварства: мой вещий язык, казалось, был обречен на молчание.
Между тем в степи уже начинало смеркаться, и часов около восьми, отмахав порядка тридцати миль, мы с Кастером одновременно решили, что пора бы и на ночлег. Однако едва наш полк расположился лагерем, как появились вестовые из разведотряда Ворон. Они привезли известие о том, что след Лакотов, резко свернув на запад, пересёк Волчьи Горы и вышел в долину Литтл Бигхорн или иначе — Жирная Трава, как называли её индейцы. След был совсем свежим, и это означало, что, возможно, уже на рассвете нам предстоит вступить в бой.
Новость о том, что индейская стоянка находится от нас всего лишь в нескольких часах перехода и что всё идёт к тому, что завтра запахнет порохом, несмотря на секретный её характер, разлетелась по лагерю ещё до того, как Кастер её досконально переварил и сделал соответствующие распоряжения. Как распространяются такие вести я вам, конечно, не скажу; скажу только что сержанту Боттсу эту новость доложил лично я к моменту нашей встречи он на скорую руку уже чего-то перехватил и, по обыкновению, собирался в обход по лагерю — сунуть нос куда просят и куда не просят.
— Ну, и что я тебе говорил? — сказал мне Боттс. — Завтра мы уже будем в деле, а Терри с Гиббоном ещё топать и топать как минимум сутки. Даже на разбор скальпов не успеют. Придут, а все уже кончено. Обскакал их Крепкий Зад! Зад, он хоть и большая задница, а вишь — не только крепкий, а ещё и умный!
Я попросил Боттса говорить потише, ибо наш разговор проистекал в непосредственной близости от командирской палатки, где даже у стен могли быть командирские уши, но Боттс только отмахнулся — командирские уши были заняты тем, что как раз в эту минуту выслушивали Кастера, а Кастер, как водится, выслушивал себя.
— Так что в данный момент им не до нас, — ухмыльнулся Боттс. — Но трепотню и впрямь пора кончать, потому как бойцы заждались…
Я это к чему рассказываю? Понимаете, при всех своих недостатках, ну там, языкастости, склонности к злоупотреблениям вредными напитками, солдафонской, опять же, грубости обхождения, Боттс был совсем не плохим, а очень даже хорошим сержантом, а уж о солдатах пекся, как о родных детях, очень за них переживал.
— Ох, уж эти рекруты, — вздыхал он по поводу подготовки новобранцев, — пороху никогда не нюхали, что ли? Он ещё и в бой не вступал, а слазит с коня — смотришь, а у него уже поджилки трясутся! Может, он и коня никогда не видал, а? Спрашиваешь, а он не мычит не телится, вернее — только то и делает, что мычит… А стрельба? Просто зла не хватает! Ему не сегодня-завтра под пули лезть, а он из карабина стрелял всего два раза в жизни, да и то — не в живую натуру, а уже в готовый натурморт из какой-нибудь тыквы… А индейцы? Ему с ними сражаться, а он, если и видал их, то только издали; а если и не издали, то уже не индейцев, а — чёрт его знает кого!? — вроде тех бездельников и попрошаек, что так и шастали вокруг форта — пожрать да выпить на дармовщину. Но разве ж то индейцы, Джек?! И вот я им говорю: спокойно, ребята, помните, что «Спрингфилды» от быстрой стрельбы нагреваются, и тогда заедает выбрасыватель; а что до магазинных винтовок, какими, значит, и являются те же «Винчестеры» или «Генри», которых шустрые доброхоты понапродавали индейцам, то в панику вдаряться нечего — достать вас может только шальная пуля, потому как «Спрингфилды» бьют в два раза дальше. Отсюда ясно, что пока тот индеец доскачет, чтобы сделать в тебе дырку, ты без лишней спешки успеваешь проделать в нем две, так что шансов скопытиться у вас, ребята, слава Богу, вдвое меньше, чем у ваших врагов!
Насчёт шансов я бы с Боттсом поспорил, а вот озабоченность его подготовкой рекрутов я вполне разделял. Рекруты составляли едва ли не треть наших сил. Были среди них и неудачливые ирландцы, и пара-тройка итальянцев и даже немцы. С немцами, с теми вообще выходил какой-то странный военный казус: многие из них драпанули в штаты как раз опасаясь призыва в свою немецкую армию — и что же? — пошатавшись по портовому востоку и не найдя применения своим рабочим рукам исключительно в меру языковых трудностей, они, опять же, попадали в армию, но уже в американскую, и уже в качестве американских солдат отправлялись на фронтир, где неразборчивые индейцы, значится, и снимали с них скальпы, выпускали кишки и дырявили почем зря из «Винчестеров», «Генри» и какой-то совсем допотопной рухляди. Помирать не до срока и так радости мало, но этим ребятам, им и вовсе не позавидуешь — это как-то, знаете, даже ни в какие ворота не лезет: смотаться от одной армии, чтоб угодить в другую, и забраться на край света, чтобы с тебя там снимали скальп, это даже совершенно обидно… А ещё как подумаешь, Что с их мычанием им даже не втолкуешь, что звук «чмок» издают не только поцелуи, то и совсем горько делается: эту истину им приходилось постигать на собственном же, увы, запоздалом опыте.
В думах об этих несчастных мы и стали прощаться с Боттсом, как вдруг из офицерской палатки донеслось Негромкое песнопение; мы переглянулись и остались послушать. Офицерский хор исполнил «Энни Лаури», затем ещё что-то столь же трогательное и не способствующее поднятию боевого духа; затем — «Спасибо тебе, Господи, за благодать Твою», отчего мне сразу пригрезилась наша церквушка на Миссури, а с нею и Преподобный с его Преподобной Супругой — даже слеза прошибла. И ведь понимаете, как песнопение оно конечно, не отличалось особой слаженностью — оно, прямо скажем, было не ахти какое, вот именно, что не ангельское, а до глубины души офицерское, но в этой дикой пустоши, где до нас, может, и нога-то белого человека никогда не ступала, от этих песен повеяло чем-то таким простым и безыскусным — вот как тепло родного очага, так что послушать выступление офицерского хора собрались не только мы с Боттсом, но и внушительная толпа рядовых, включая, промежду прочим, как и тех, кто не смыслит в пении, так и тех, кто слабоват в английском, — вот какова она, волшебная сила искусства; жаль, что не все это понимают…
Так вот, как ни печально, а недопонимание музыкального момента выказали, на мой взгляд, вернее, мой слух, и наши офицеры. Оно, конечно, чего греха таить — растравили они душу до самого донышка, не хуже индейских плакальщиц, да только больно уж не ко времени занялись они этим слезоточивым делом, потому как на всякое пение — должон быть свой особливый час. И если уж о том зашла речь, то в бытность мою Шайеном я, например, и представить себе не мог, чтобы нашим голосистым скво вдруг стукнуло в голову провожать мужчин на врага… погребальным плачем. В общем, не знаю уж, кто там из офицеров был главным за репертуар, но, судя по программе, это был явный меланхолик; дали б ему оркестр и — чует мое сердце! — вместо «Гарри Оуэна» пришлось бы нам выступать в поход под звуки траурного марша.
О том, что подобный настрой действует на бойцов не в ту сторону, офицеры догадались лишь под конец и после короткого совещания решили выступить с чем-нибудь более жизнерадостным, но, опять же, ни до чего лучшего, кроме как этой вот: «Что за весёлый славный парень…» они не додумались, на что, значит, Боттс, со свойственной ему громогласной прямотой не преминул заметить, что «если это они про Кастера, то это, надо понимать, сарказм».
На этой саркастической ноте и завершился офицерский концерт, и так уж получилось, что едва закончили выступать офицеры, как подошла пора выступать всему полку; так что, ещё не заполночь мы вновь оказались седле и, стараясь не шуметь, двинулись в направлении Волчьих Гор.
Большая часть нашего пути пролегала по жиденькому ручейку, что весьма кстати стекал в Роузбад откуда-то сверху и тем самым послужил нам единственно надежным ориентиром в этой глухой вороньей ночи. Темень стояла такая, что хоть глаз выколи, вытянешь руку — пальцев не видать, вот задним и приходилось скакать: хочешь — на плеск воды, а не хочешь — води носом, где пыль погуще; подавать же голос было строжайше запрещено — якобы в обеспечение скрытности нашего маневра. Ну да насчёт скрытности Кастер пожалуй, что погорячился — отдал приказ скорей для очистки совести, чем для выполнения. Знаете, что бывает, когда на марше теряются целые отряды? Объясняю: кто — кружкой по котелку, кто — ложкой по карабину; кто свистит, кто шипит, кто ухает; ну, а кто и ругнется — куда ж без этого? — хоть и сдавленно, но достаточно выразительно, чтобы откликнулись… При такой мороке проскакали мы всего-то миль шесть, пока, значит, не развиднелось и мы не оказались у подножья хребта. Здесь мы и сделали наш последний привал, и было это в половину третьего ночи. Что ж, погоня за индейцами подошла к концу. С первыми лучами солнца мы должны были пересечь наш последний рубеж перед атакой. Этим рубежом и считался водораздел меж долинами Роузбад, где пока что находились мы, и Литтл Бигхорн, где спали ни о чём не подозревавшие Лакоты. Так по крайней мере виделась оперативная обстановка с нашей стороны. Не скажу, что всеми, за всех ручаться не могу; главное — так она виделась человеку, от которого в высшей степени теперь зависела наша общая полковая судьба.
Вот и место для привала было выбрано с таким расчётом, чтобы — ни-ни! — чтобы — не дай Бог! — не потревожить индейский сон. Весь полк загнали в глубокий овраг и шепотом передали приказ: спешиться и ждать рассвета.
Надо ли говорить, что, как и большинство бойцов, я не то что спешился, а просто-таки плюхнулся на землю, как тот обозный тюк; ткнулся головой о камень, кое-как примостился и давай считать слонов. Считаю-считаю, считаю-считаю, а потом вижу: сколько их не считай, а все без толку. Ну я и бросил. Сел, огляделся, смотрю — а не только я, кажись, никто не спит! Кто-то ещё ворочается, кто-то за водичкой пошёл, а кто, как и я, сидит — глазами лупает, окрестности изучает. Хотя изучать особенно нечего.
Кстати, о Волчьих Горах: не знаю, кто им выдумал такое название, но до настоящих гор им, как говорится ещё расти да расти; на самом деле, они просто «плохая земля» в том смысле, какой в это слово вкладывают индейцы. Нет здесь ни головоломных круч, ни заоблачных вершин, а так — все больше холмы разнообразных калибров, балки да овраги — унылые, в общем, места; особенно при том, что и почва для растительности не слишком любезная, потому как есть — щелочная.
Естественно, то есть, с точки зрения законов природы, вода в ручье тоже была не сахар — не вода, а щелочь едкая; и совершенно закономерно, из тех же соображений, пить её отказались даже кони, а те, кто попробовал (я имею в виду рекрутов), те горько о том пожалели: кофе, сваренный на такой воде — напиток незабываемый по своим бодрящим качествам, язык от него облазит, как змея в линьку… Так что я очень даже поцимаю, от чего некоторые наши новобранцы вдруг пошли на нарушение дисциплины, устроив нам индейскую пляску с воплями и улюлюканьем. По всему поэтому, я думаю, что ежели кому из крепконервных и удалось поначалу заснуть, то пробужденье попортило нервы изрядно. А вот Кастер, тот за эти два дня, по-моему, не только не спал, но даже и не присел, если не считать лошадь. Более того — я даже не заметил, чтобы он завтракал, обедал или ужинал. И уж, само собой, занимался наружностью. Грязная щетина была уже достаточно отросшей, чтобы придать прославленному генералу вид завсегдатая третьесортного салуна в какой-нибудь дыре типа Канзас-сити. Его сорочка, всегда отличавшаяся ослепительной белизной, теперь могла успешно соперничать цветом с дорожной пылью. Но, тем не менее, генерал не утратил изысканности манер и того внутреннего свечения, которое многих заставляло вытягиваться в струнку даже когда Крепкий Зад не мог видеть этого подобострастного рвения, а газетного репортера мистера Келлога это свечение влекло к его источнику как мотылька к пламени свечи.
Мне вдруг захотелось немедленно, ещё до рассвета, повидать Лавендера, Кровавого Тесака и Боттса, хотя мы с ним расстались совсем недавно. Какое-то смутное чувство, по мере приближения рассвета перераставшее в безнадежную уверенность, дало мне понять, что при свете дня мы уже не увидимся.
Я уже было собрался отправиться на поиски своих приятелей, как вдруг весь лагерь в считанные секунды превратился в суетливо копошащийся муравейник, обитатели которого, чертыхаясь и лязгая оружием, занимали свои места в походной колонне. Тогда я помчался искать своего патрона и вскоре услышал его спокойный голос, которым он отвечал на неуместные вопросы репортера Келлога.
— Да-да, не дожидаясь подхода вспомогательных сил, — твёрдо произнес он, — я решил ещё до рассвета войти в долину Литтл-Биг-Хорн и с первыми лучами рассвета э… достичь, цели операции, застигнув противника врасплох, ибо, как говорили древние, кто предупрежден, тот вооружён…
В это время ему подвели Викторию, он вскочил в седло и помчался в голову колонны.
Взгромоздясь на своего пони, я через некоторое время присоединился к нему, вернее, к многочисленной толпе офицеров и разведчиков, которые густо облепили героя, видимо, желая погреться в лучах славы, которая воссияет с «первыми лучами рассвета», как, конечно же, зафиксировал в своем отчете для газеты мистер Келлог.
После стремительного ночного марша мы вошли в долину Литтл Бигхорн. Встречал нас разведчик Боуэр, который не без гордости сообщил генералу, что обследовал все холмы, окружающие долину, что под их прикрытием может разместиться целая армия и никому вокруг и в голову не придет, что…
Кастер нетерпеливо кивнул и отъехал в сторону, наблюдая как колонна вползает в долину и закручивается там плотными змеиными кольцами.
И вот, едва лишь хвост этой гигантской змеи подтянулся к туловищу и растворился в нем, на востоке начала заниматься заря. Серая предрассветная дымка сначала порозовела, затем цвета начали постепенно делиться на красное и голубое и по наполненной людьми и животными долине скользнул первый золотой луч…
Кастер выпрямился в седле, слегка тронул шпорами бока Виктории и направил её к небольшому взгорку, чтобы оттуда, видимо, скомандовать нечто, которое непременно должно было войти в историю Соединённых Штатов, но его голос вдруг потонул, растворился в жутком вое такой фантастической силы, что он не только перекрыл историческую команду генерала, но и привел в полную панику весь цвет кавалерии вышеупомянутой страны.
Глава 28. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
Первым опомнился Боуэр. На своем приземистом пони он достал рослую Викторию и схватил её под уздцы. Вокруг уже свистели индейские пули, и на плече у него сквозь куртку из оленьей кожи проступило тёмное пятно. Он был ранен, но, похоже, сгоряча этого даже не заметил.
Между тем, кое-кто из наших — из тех, кто уже догадался что к чему, — не дожидаясь команды, открыл ответный огонь. Залпа не получилось, но в наших обстоятельствах то было лучшее, что они могли сделать: какое-никакое, но то было действие, и оно вырвало из бездействия остальных. Голосом и жестами Кук вновь пытался бросить людей в седло. Было ясно, что если мы сейчас же не выберемся из лощины хоть куда-нибудь, на оперативный простор — ну, где могла бы маневрировать конница, — то прямо тут, в лощине, нас всех и положат. Вместе с лошадьми.
К тому моменту вышел из оцепенения и сам Кастер. Он повторил свою команду; на сей раз сигнал выдался как надо, и уже в следующее мгновение мы лавиной мчались вниз по Медсин Тейл и доскакали почти до самой воды. Индейцы, большинство из которых были спешившись, откатились назад и даже оказались в реке. От сотен всадников, а ещё большего числа пеших, брод забурлил как кипящий котел; но даром, что и река была неширока, и брод мелок — пешим вода по грудь, в то единственное решающее мгновение он был настолько запружен телами — и людскими, и конскими, что проскочить на ту сторону нам уже не удалось.
По счастью, справа под углом в 45° открылась ложбинка, и мы тут же кинули лошадей туда. Под плотным индейским огнем мы вихрем промчались вдоль поросшего густой травой берега, влетели в ложбинку и выскочили на высокий голый хребет. Хребет подымался на север, и где-то в миле от нас виднелась его наивысшая точка; туда-то, к вершине, Кастер и направил остатки своего полка — и то верно: лучшего места для обороны было и не сыскать. Роковым стечением обстоятельств оно-то и станет нашим «последним бастионом».
Впрочем, в той дикой скачке по косогору ни о каком «последнем бастионе» Кастер, конечно, и не думал, — он просто совершал удачный маневр: хоть и временно, но выводил людей из под обстрела, потеряв при этом всего лишь несколько человек, да и тех, можно сказать, ещё у брода. Отдавая ему должное, надо признать, что при той, казалось бы, всеобщей неразберихе, что творилась у реки, он совершил почти что невозможное: он сохранил управление войсками. Оглянувшись на скаку, я вдруг с удивлением обнаружил, что мы все ещё соблюдаем строй: скачем в колонну по четыре.
И всё б то оно было и хорошо, когда б у нашего спасительного маневра не было ещё обратной стороны. Обратная же, губительная для нас сторона была такова: едва завидев вражескую спину, индеец преисполняется не только гордости, но и такого воинственного пылу, что сбить тот пыл может только пуля; индейцу, ему ведь нет разницы между бегством и ретирадой по всем правилам, вот он и думает, что дело сделано, осталось только его довершить, а всякое при этом сопротивление его только злит. Теперь вам ясно, какое впечатление на индейцев произвела наша ретирада: для них то был верный признак того, что нам конец. Так оно и оказалось. А начало конца наблюдали те самые четыре Шайена, перед которыми — в такой неподходящий момент! — спасовал Кастер. Уж сколько лет прошло, а я все не возьму в толк: какого же… он вдруг взял да остановился — перед лицом четырёх дикарей, когда за спиной у него двести человек, двести карабинов! И знаете, иного объяснения, кроме как то, что он просто опешил, я, честно говоря, не нахожу. При той «куриной слепоте», что, как нарочно, поразила его командный ум в тот день, ему, должно быть, почудилось, что это и есть все индейские силы, обороняющие деревню; будучи сам человеком храбрым, причем, храбрым до отчаяния, до безрассудства, генерал, конечно, признавал это качество и за другими, но… не до такой же степени. Вот это его и озадачило. А нас погубило.
Действительно, эти четверо вовсе не собирались потрясать генерала своей храбростью. И никакого безрассудства в их действиях не было. Наоборот, их действия были совершенно разумны, ибо подчинялись ясно поставленной цели — выиграть время. За их спинами уже переходили реку другие воины, а ещё больше воинов занимали места в засадах, куда должны были оттеснить нас. Так что за их действиями скрывалось не отчаяние, а стратегия.
Да, странная смена ролей произошла в тот день на Литтл Бигхорн! Рино был послан в атаку, а вместо этого занимался обороной, потому что атаковали индейцы; Кастер собирался окружить деревню, а вместо этого оказался окружен сам. В своей последней великой битве индейцы действовали так, как должны были действовать мы, а мы — что ж, нас ожидала участь, какую мы уготовили им.
Пока мы в спешке отступали, вернее, мчались по гребню к спасительной высотке, наш строй совершенно рассыпался — местность для кавалерии была явно неподходящая. Когда же я оглянулся, то понял, что рассыпанный строй — это ещё не беда, а настоящая беда подходит с юга. Оттуда накатывалась длинная волна всадников — то были воины великого вождя Лакотов по имени Ссадина. А произошло то, что в конце концов они загнали Рино на тот высокий холм, с какого Кастер ранее лицезрел деревню, обложили его там и на положении осажденного оставили добивать на потом. Главные события, как верно рассудил Ссадина, должны были разыграться у нас… Их было не меньше тыщи, и скакали они с той непоколебимой уверенностью в себе, от которой у противника дрожат поджилки и в пятки уходит душа. В топоте копыт их лошадей слышалась поступь рока.
Тем временем на склоне, что спускался к реке, наши «серые лошадки» напоролись на засаду и оказались отрезаны: Лакоты, что дотоле скрывались в ложбинках с речной стороны, с гиком и криком вдруг выросли перед ними и осыпали их стрелами. «Серые» дрогнули, остановились и сбились в кучу; их потеснили и наконец загнали в глубокий овраг; он-то и стал их могилой. В считанные минуты дно оврага покрылось трупами, среди которых метались обезумевшие кони. Кони рвались наружу, но их копыта скользили и обрывались на почти отвесных стенах оврага. Коней Лакоты не стреляли, но погибали они и без индейских стрел.
Бойня в овраге могла выбить из седла любого командира, но только не Кастера. Увидев опасность с юга, он мигом спешил роту Колхауна, и та с ходу открыла беглый огонь по воинам Ссадины, вынудив их спешиться и залечь. Впрочем, если первое было очевидно, то второе могло лишь показаться, причем, показаться лишь самому Колхауну и его людям. Стрельба, едва, начавшись, тут же и прекратилась, дым развеялся и в дрожащем воздухе я заметил картину, от которой честно вам скажу, лично у меня волосы встали дыбом: в ожидании новой атаки рота Колхауна готовилась к долговременной обороне.
Выглядело это так: цепь растягивалась по фронту и для расширения сектора выгибалась в дугу; кони (опять же по четыре с одним солдатом на четверку) отводились в сторону и в тыл; ну и поскольку порядок есть порядок, то между солдатами, стало быть, устанавливался равный интервал. При этих перестроениях все ходят чуть не в полный рост, поглядывают туда, где средь моря полыни гуляют бесхозные индейские пони, и, небось, радуются — не нарадуются на дальнобойность своих карабинов: всадника-то они в любой момент снимут, пусть только сунется, если не трус. И не удивляет их, значит, ни затянувшееся затишье ни вольное поведение индейских лошадок — никто из них даже не подозревает, что никакого «любого» момента в запасе у них уже нет. Потому что убивать их будут прямо сейчас.
Я уже рассказывал вам о том, что такое наступательный дух индейцев; но даже не зная этого — по одной лишь поступи их коней можно было догадаться, что уж чего-чего, а разлеживаться индейцы не станут. С первыми ж выстрелами они не то что спешились — они скользнули в траву и уже в следующее мгновение ползли в направлении роты Колхауна. И пока рота занималась оборонительными порядками, они подползли к ней настолько близко, что карабины были уже не страшнее стрел; а верней сказать, стрелы стали опасней карабинов.
Прячась среди травы в малейших впадинках, ложбинках, ямках, за бугорками и холмиками; даже не высовываясь поглядеть на противника, на расстоянии вдвое меньшем полета стрелы сйу подняли луки и… сверху на колхаунскую роту обрушился смертоносный дождь. Взлетая высоко в небо, на какой-то миг стрелы зависали в воздухе и уж потом со свистом неслись к земле, а умирающие солдаты все ещё не могли понять: откуда ж она взялась-то, их такая нелепая смерть? Прошла едва ли не вечность, пока я услышал как вновь забабахали карабины, а мгновенье спустя рота была уже обречена.
Частичной тому виною был всё тот же расчёт на порядочную оборону, по какому, значит, поводу лошади и были отведены в тыл на попечение, стало быть, каждого четвертого из бойцов. Этим-то обстоятельством и воспользовались воины Лакотов, и пока всё внимание роты было приковано к фронту, они заползли в тыл и — фырк! — лошадей как ветром сдуло! И знаете, что сделали эти поганцы? Они просто вынырнули перед лошадьми, закричали, заулюлюкали, захлопали одеялами и тут же пропали, сгинули как и не было; а лошади с перепугу дернули так, что если кто из охраны сразу не бросил поводья, то его так и потащило по земле… Путь к отступлению был отрезан.
Потом все было просто. Ротная цепь стала редеть и таять с обоих концов, концы загибались в круг, круг становился все уже и уже, потом раздалось «хока-хей» (то был боевой клич Лакотов), из травы выплеснулась коричневая волна голых тел и захлестнула роту.
Все было кончено в один момент — я это видел собственными глазами, но поразило меня другое, и от этого, даже несмотря на жаркий день, по спине пробежали мурашки. То был вид голой, живой и остервенелой плоти. Лакоты сражались голыми! На них не было ничего, кроме набедренных повязок, — ни перьев, ни украшений, а у большинства — даже краски на лицах! Понимаете? Они как бы переставали быть людьми, в смысле — отдельными людьми, а превращались в одну безликую силу, силу самой природы. И природа им помогала: она давала укрытие и защиту каждому комочку того, что было плоть от плоти ее. Господи! Вы бы видели то ужасное поле: все в рытвинах и колдобинах, ложбинах и ямах, буграх и кочках, над которыми гуляет полынь, — оно казалось гигантской пористой губкой; и раз за разом — будто огромная невидимая рука сжимает эту губку — изо всех пор появлялись эти голые коричневые тела, затапливали часть наших сил и вновь исчезали сквозь поры в земле.
И все ж, несмотря на дикость обличья, ярость индейцев была не слепа: их действия пронизывал разум и холодный расчёт. Скрываясь в траве и за кочками, они наносили нам едва ли не больший урон, чем в лобовых атаках; их же собственные потери становились при этом едва ли не следствием их собственной случайной неосторожности. Вы спросите, а как же индейские ружья, которых больше всего-то и опасались и Кастер, и Боттс, да и другие наши начальники? Отвечу: да, ружья были, как были среди индейцев и настоящие снайперы; но ружей тех было не так-то и много, и большей частью — однозарядные.
У меня самого был, кстати, семизарядный «Винчестер», но между прочим, я дорого дал бы за то, чтобы поменять его на добрый старый однозарядный «Шарпс», с которым охотился ещё на бизонов — самое для него подходящее время! Я это говорю к тому, что картину боя, как и весь наш отряд, я наблюдаю с самой вершины гряды, находясь вдалеке от противника, как и подобает генералу во время оборонительного сражения. Под нами, оседлав пригорок, стоят «пегие» — отряд Тома Кастера; слева — Кио со своими людьми скачет наперерез индейцам, что побили Колхауна, прикрывать дыру в обороне; дальше виден овраг, куда на бойню загнали «серых»; а далеко-далеко справа происходит единственная на данный момент перестрелка: то один из двух взводов роты «F», где командиром капитан Йейтс, пытается сдержать уже взявших его в полукольцо Лакотов. С моей лысой вершины мне даже чудится, будто по колыханью травы я могу определить, как быстро сужается их полукольцо, но даже если это обман зрения, то всё равно — по редеющему огню становится ясно, что скоро все будет кончено… Не проходит и минуты, как над позицией взвода повисает тишина, и в бой вступают люди Тома Кастера и оставшийся взвод роты «F».
Да-а, многое можно увидеть с господствующей высоты; много увидеть, да мало сделать. Это я говорю о себе и о тех, чьё дело выполнять приказы. Ибо что касается Кастера, то своё дело — организовать оборону — он сделал; сделал даже при всем при том, что до мозга костей был кавалеристом, а это, согласитесь, предполагает наступательный образ мышления. Ну да наступать было все одно некуда, а времена, когда Кастер с одним эскадроном мог и впрямь прошерстить все индейские земли, те давно уж канули в безвозвратное прошлое. Мало того, с высоты нашего положения даже и дураку становилось ясно, что и кавалерией-то нам больше не бывать никогда, ибо если каким-то образом мы ещё и могли положиться на наших коней, то теперь —. лишь в качестве прикрытия. Послышались выстрелы — и лошади стали падать. От выстрелов генерал вздрогнул и приказал лейтенанту Куку записать «имена всех, кто это сделал», он поклялся отдать их под суд военного трибунала сразу же по возвращении в форт Линкольн. Эту клятву он дал сразу же после того, как послал курьера к Кио, чтобы тот, значит, двигал на подмогу Колхауну, который как-никак, а всё же приходился Кастеру зятем; хотя, если уж на то пошло, то шансов застать хоть кого-то в живых у Кио, пожалуй, что и не было. Тем не менее, в той стороне вновь загромыхали карабины, и вскоре все заволокло дымом и пылью из-под копыт. Ясный полдень превратился в поздние сумерки. Так что о падении самого Кио мы узнали лишь по длинному воплю индейцев.
Зато людей Тома Кастера мы видели достаточно хорошо — слишком хорошо, чтобы этому радоваться: шаг за шагом, фут за футом пешие, без лошадей, они пробирались к нашему расположению, и были уже совсем рядом.
Вот тогда-то, когда всё как один мы смотрели, как пробиваются к нам последние из оставшихся в живых бойцов Тома Кастера, за нашими спинами, со стороны кручи, что обрывалась в глубокий овраг, и раздался первый выстрел. Никто из нас, уже с трёх сторон обложенных индейцами, до этого выстрела и подумать не мог, что круча, неодолимым препятствием вставшая на нашем пути к бегству ещё тогда, когда мы были кавалерией, окажется едва ли не самым уязвимым участком нашей обороны.
Что ж, теперь, значит, мы были полностью окружены. Ниже нас по гребню уже прижатые к вершине были лишь остатки роты «С», поскольку говорить о Кио как о живом, наверно уже не приходилось. Там, где он сражался, всё ещё висела дымовая завеса, а в редкие просветы, что тягучий ветер приоткрыл нашему взору, мы видели лишь одно: индейцев, индейцев, индейцев; казалось, им нету числа, и они все приближались и приближались, и я уже думал: неужто им всем хватит места, чтобы вот так вот, разом, кинуться в атаку?.. Вот тут-то я и вспомнил слова Боуэра: «Их больше, чем у вас патронов»… Боуэр был славным парнем. Может, толмач из него был и не ахти какой, но я вот что скажу: были в нем и мудрость и мужество, что отличает настоящего мужчину, независимо от расы. Я видел, как он упал, когда метнулись мы прочь от брода, и я знаю, что ни один чистокровный Ворон не посмел подойти ближе к деревне своих врагов, чем это сделал полукровка Боуэр.
А чистокровные Вороны, живые и невредимые, к тому часу были уже далеко — на пути к своим жёнам и детям; вот разве что Кучерявый остался; остался поглазеть на сражение с отдаленной вершины, а про то, что он увидел, про то вечером уже на следующий день он и поведал некоторым пассажирам «Дальнего Запада», до стоянки которого не без риска для своей шкуры он благополучно и добрался. Потом его представляли чуть ли не как единственного из индейских сторонников Кастера, кто, дескать, пережил резню на Жирной Траве. Не знаю уж, какая там была резня на том холме, где стоял этот парень, но знаю одно: единственным из племени Ворон, кто был с нами в бою, то был Ворон, в груди у которого билось сердце белого человека, и звали этого человека Митч Боуэр. Так что, если не считать ри, что ушли с отрядом Рино, «наших» индейцев среди нас не было. И это так же верно, как и то, что на стороне Шайенов и Лакотов не было ни одного белого. О последнем обстоятельстве можно было б и не упоминать, когда бы, значит, не голоса некоторых уязвленных моих соотечественников, что на все лады перепевают одну и ту ж старую песню: дескать, не могли дикари, что не додумались даже до колеса и так далее и тому подобное, взять да и разбить вооружённую по последнему слову и так далее и тому подобное боевую кавалерийскую часть боевого генерала. И стоят, значит, за этими событиями то ли шибко обозленные бывшие конфедераты, то ли переселенцы, что переженились на индейских скво, одним словом — белые предатели белой расы. Таких разговоров наслушался я по разным кабакам немало, а начнешь разубеждать — до сих пор вспомнить тошно: под горячую руку знаете что бывает; а народ по кабакам, тот как раз больно-больно горячий, а уж патриотичный донельзя, изо всех своих патриотических сил как вмажет по уху, так мало не покажется! Так что, повякал я, повякал, а потом и бросил — себе дороже; так и не смог им втолковать, что хоть у смерти и белый оскал, но рожа-то у неё в тот день была красная, красная на все сто! Оно ведь как получилось: в тот день, наверное, впервые в жизни индеец сражался не оттого, что сражаться это мужское дело, не оттого, что ему нужны были наши кони, а оттого, что отступать ему было больше некуда, и оставалось либо пасть под нашими пулями, либо… вот это «либо» он и делал самым наисподручным индейским способом. С одной стороны, их было такое несчётное множество, что, казалось бы, только успевай на собачку жать да выкашивать по семь штук на заход; но с другой-то, с другой стороны, приклад у плеча, водишь стволом, а на мушку взять некого: вот только что он был здесь, мелькнул сквозь прорезь и — тут же сгинул, пропал за островком худосочной травы размером с твою шляпу; пока перезарядишь, глядь — а он, оказывается, там был не один, а вся дюжина, и за это время все вперед убежали, ярдов на тридцать, убежали — и нет их.
А наши ребята, рады стараться, знай, гатят себе из этих «Спрингфилдов», пока в конце концов не начинает сказываться то, что сержант Боттс деликатно назвал «некоторым недостатком этого оружия». От собственного перегреву, а, возможно, и не без соучастия немало способствующего тому безжалостно палящего солнца, под которым лишь изредка проносилась голубая дымка, выбрасыватель начал заедать и гильзы стали застревать в казеннике. А вот казенник, он как назло сработан был на совесть: кое-кто пытался вскрыть его ножом, да только с тем успехом, что лезвие обломал. От таких недостатков конструкции, от которых карабин мог запросто превратиться в дубину, да при сотне индейцев на нос, было отчего впасть в прострацию или вдариться в панику! Но никакой паники, кроме легкого замешательства, я в наших рядах не наблюдал, а вот из-за молчащего оружия, что действительно имело место при наличии патронов, потом поползли всяческие слухи, и многие Лакоты, в частности, утверждали, будто целый взвод в той стороне обороны, где стоял вначале Колхаун, а затем Кио, ни с того ни с сего вдруг взял да покончил жизнь самоубийством. Среди нас таких попыток я не замечал и не верю, что их затевали другие.
На гребне трусов не было. Когда заедали карабины, мы брались за револьверы; хотя, если быть честным до конца, вреда с того противнику было не больше, чем от плевков, коими миссурийская ребятня обыкновенно награждает друг друга перед тем, как пустить в ход кулаки… Нет, мы, конечно же, попадали, и не раз, и не два, но… оттого, что не видели падающего противника, в какой-то момент вдруг начинало казаться, будто все наши выстрелы вхолостую, а, стало быть, вхолостую и вся наша оборона. Это ощущение отнюдь не вселяло в нас уверенности в собственных силах.
Уже потом, наглядевшись на ползущих по склону индейцев, я понял, в чем была наша ошибка: мы смерили кручу кавалерийским взглядом и тут же забыли о ней, а прикидывать-то надо было на подъём пехотинца и не просто пехотинца, а индейского лазутчика. Подъём был вполне одолим, там лежали камни и даже росла трава. Так что, пока мы глазели на то, как с трёх сторон на нас прут тыщи индейцев, ещё одна тыща появилась у нас за спиной без единого нашего выстрела, не потеряв ни единого человека. В предвкушении победы одни из них уже затянули своё «Хока-хей, хока-хей», другие выкрикивали имя грозного своего народа: «Лакота! Лакота!» Но громче того и другого сквозь пенье и крики до меня донеслось такое пронзительно-знакомое простое горловое «хей-хей-хей-хей-хей», что, отдаваясь погребальным боем барабанов, стучало в висках во все ускоряющемся темпе, доводя мозг до исступления, до безумия, до беспамятства; ибо то и было его единственное страшное предназначение — сломить, запугать, подавить, уничтожить… то и был их боевой клич, клич Шайенов, Шайенов — Центра Мироздания.
Первая же пуля сразила Викторию, кобылку «в белых чулочках», любимицу Кастера, пуля попала ей прямо в голову, в аккурат под левый глаз. Виктория постояла, как бы раздумывая, что это и зачем, затем медленно, словно бы в грациозном поклоне согнула передние ноги — ну, как бы предлагая генералу сойти, чтобы не привалило крупом, — и рухнула наземь.
Самый славный кавалерист американской армии остался без коня. Глаза его затуманились, но при виде поднимавшихся к нам Шайенов он взял себя в руки и отдал приказ сделать то, за что ещё минуту назад грозил военным трибуналом: он приказал пристрелить оставшихся лошадей и тела использовать как бруствер. Но прежде, чем приказ был исполнен, мы потеряли несколько человек.
Окинув взглядом остатки роты «С» и поглядев на то, что ещё осталось от нас, сражающихся на самом верху, я понял, что нашу численность теперь надо измерять не сотнями, а десятками, — и выходит нас от силы человек эдак семьдесят пять — сто, не больше. В той стороне, где за дымом пропал Кио, повисла зловещая тишина, а со стороны отряда «серых», как, впрочем, и всей роты Йейтса, и подавно. Надеяться не на кого, и вот лежу я за крупом моей индейской лошадки, разряжаю «Винчестер» в Шайенов и время от времени даже попадаю в цель…
Жаль, конечно, что пришлось расстаться с таким славным боевым товарищем, каким, смею надеяться, в конце нашего путешествия почувствовал себя мой пони. Я пристрелил его прямо в лоб, но сердце мое при этом прямо-таки разрывалось… между чувством жалости и чувством необходимости. Ну, да что поделаешь, — рассудил я, — всё равно лучшие его годы уже позади; другой такой скачки, как та, где он обставил полковых рысаков, у него уже не будет, так что уйти из жизни ему, выходит, самый момент. В ту минуту я ещё не знал, что выше по течению Жирной Травы подобным же образом — от выстрела в лоб — пал к тому часу его старый добрый хозяин Кровавый Тесак… И вот, вспоминая тот растреклятый день, я, однако, начинаю думать, что если о смерти хозяина не знал я, то это вовсе не означает, что не знал о ней его преданный индейский пони: когда я приставил ему ко лбу свой «Кольт», в его печальных огромных глазах я увидел такую смертную тоску — как я теперь понимаю — по хозяину, что не дать им соединиться было бы просто жестоко! Ну, и вдобавок ко всему, после той убийственной скачки открылись его старые раны, так что в любом случае смерть была для него избавлением. Но и после смерти он продолжал служить мне так же исправно, как и при жизни: защищая меня от стрел, он вскоре был утыкан ими, как какой-нибудь дикобраз. Мне и представить-то жутко, во что бы я превратился, не будь у меня такого защитника!
Я подполз ему под самое брюхо и правильно сделал: индейцы стали посылать стрелы по высокой дуге, и казалось, будто среди ясного неба землю косит безжалостный секущий град с острыми, как лезвие, стальными градинами… Неподалёку от меня в открытом месте распластался боец: переползал, стало быть, в более надёжное укрытие, так на моих глазах его пронзила одна стрела, другая… третья… но, что самое ужасное, — они его не убили, нет! — они лишь пригвоздили его к земле; и вот он крутился и маялся, пока не догадался привстать и подставить голову под пули — слава Богу, что те не заставили себя ждать, и — слава Богу! — прекратили его мучения.
Так было кругом: казалось, вся жизнь сводилась к ожиданию конца и в твоей власти было лишь выбрать какого: ляжешь плашмя — пригвоздят стрелы; подымешь голову — вот тебе пуля; зароешься под брюхом, как я, например, — вроде б то и ничего, и даже в сравнительной безопасности, но в том-то и дело, что ничего, боя ты вести не можешь, противнику не мешаешь, а он себе подползает и подползает; индейцы, они ж, как змеи в траве, — их не видно, а они уже рядом.
Перед кем из нас не стоял выбор, так это перед Кастером, похоже, он бросил вызов любой из названных смертей, он вышагивал по вершине гряды, отдавая распоряжения то тому, то сему из пока ещё живого состава вверенного ему полка. Он не пригибался, не прятался, он стоял на виду у всех и, тем не менее, каким-то непостижимым образом на нем не было ни одной царапины. Иногда он указывал куда-то рукой, а то и двумя, причем, один раз, как я успел заметить — даже в разные стороны. В этот момент я глядел на него снизу вверх, и против солнца он представился мне гигантским чёрным распятием; индейские пули и стрелы так и свистели вокруг него, а попасть — никак не могли. Впрочем, время от времени генерал и сам, стало быть, выхватывал «Бульдог» и стрелял в невидимые для меня мишени. При этом он каждый раз становился в классическую позицию для стрельбы из пистолета, как и положено выпускнику Уэст-Пойнта: предплечье жёстко, рука в локте разгибается как железный шарнир — выстрел, и рука — на место. Спокойствие при этом надо тоже иметь железное: даром, что вокруг гуляет смерть, а генералу — хоть бы хны! — он как на том же офицерском стрельбище… воистину он являл собой образец офицера регулярной армии, той старой ещё школы, что вела только «честные» войны, по правилам. И пусть он был весь в пыли с головы до пят, включая щетину, и пусть рубаха была расстёгнута на верхней пуговице и пот ручьями, но офицерского достоинства он не ронял ни на минуту… более того, он улыбался и подбадривал остальных. Черт возьми — вокруг такое творится, а на гребне разносится лишь один его такой знакомый, с хрипотцой голос, то зовущий заполнить брешь в обороне, то вдохновляющий новичков, то расточающий похвалы за особо удачный выстрел; в этом голосе — клянусь вам — ни капли отчаяния, только уверенность, ибо голос его — то единственный голос доброй надежды.
— Прекрасно-прекрасно, — заметил он, останавливаясь как раз надо мной, и, понаблюдав за тем, как я выпускаю три последние пули из магазина. Целил я в ползущего по склону индейца, выдохнул, плавно нажал на спуск — тюк! тюк! тюк! — все три мимо. Поднимаю глаза от сапога и выше — фьюить! — оперенье индейской стрелы так и пощекотало генеральскую бороду.
— Генерал, — взмолился я, — хоть пригнитесь-то! Черта с два! Мои слова не доходили до него и в более спокойной обстановке, а уж теперь и подавно.
Он стоит в полоборота к цепи, глаза как два алмаза, лицо словно высечено из гранита, и весь припорошенный пылью, он выглядит как древний исторический памятник… самому себе. «Прекрасно, ребята! — орет он прямо у меня над ухом. — Мы обратили противника в бегство!» Накаркал и пошёл себе по цепи, подбивая носком подошвы лежащих стрелков, так сказать, для одобрения духа; а если у кого душа в пятках то, значит, выгнать её обратно — туда, где и положено ей быть у солдата; вот только… некоторые пятки уж и на генеральский сапог не реагируют: улетела душа, витает где-то в пороховом дыму.
А вот на живых этот генеральский кураж, он свое впечатление производит, но только куражиться над смертью никому — никому, кроме сумасшедших, — не дано! И это говорю вам я, повидавший, как некоторых смельчаков прибрала она к рукам почем зря: лишь за то, что попытались следовать генеральскому примеру. А генерал, он точно сошёл с ума, ну вот как тогда, когда в одиночку поскакал форсировать брод — навстречу пулям. А почему не погиб? А вот почему: ни пуля ни стрела не хотят брать того, кто уже лишен разума, он для них «персона нон грата». Генерал, как есть, впадал в безумие, и внутренним чутьём я уже понял, что если его достанет пуля или сразит стрела, то случится это лишь в одно из немногих мгновений просветленья.
Перезарядив «Винчестер», я вновь оборотился к индейцам: их змеиные головы то появлялись то исчезали в траве, создавая невероятные трудности для прицеливания — что ни говорите, а в искусстве незаметно подкрасться и чикнуть ножичком индейцу равных нет, он в этом деле мастак, с детства обучен. Единственный способ борьбы с ним это, значит, предугадать, где он окажется в следующий момент, так что каждый выстрел, как и каждый бросок, то уже не состязание реакций, а поединок мыслей — это вам подтвердит любой, кто побывал в настоящих «индейских» переделках и остался жив. О тех же кто мёртв, говорить не приходится: как правило, это люди, что до самого конца так и не поняли, в чем была их роковая ошибка. В свое время обучался такому искусству и я, и глядишь, смог бы куда-нибудь улизнуть, когда б не наша дурацкая позиция: голый, как колокол, холм на вершине гряды, и спрятаться на нем негде, кроме как за тем же любимым пони.
Пока я муссировал возможности к отступлению, грянул новый удар: пули посыпались на нас с соседней высотки ярдах в семидесяти пяти к югу. Это означало, что теперь уже вся до последнего человека рота «F» приказала долго жить — именно они держали эту высотку до индейцев. И вот мы слышим родной звук правительственных карабинов, а пули шлепают вокруг нас. Это, доложу я вам, совершенно разные ощущения: одно дело, когда из карабина стреляешь ты сам, и совсем другое, когда слышишь, как стреляют в тебя. Тут-то и замечаешь, до чего же мерзкий у него звук, а громкий — аж в ушах звенит, даже дергаться начинаешь, хотя давно известно, что «свою» пулю услышать всё равно не дано.
А захватившие высотку индейцы, произведя перевооружение за наш, естественно, счёт, тут же кинулись обновлять оружие. Патронов у них прорва: в каждом подсумке, притороченном к седлу; в карабинах тоже недостатка нет, так что ни горя им и ни печали — стреляй сколько влезет; а не пройдя инструктаж у Боттса, они и на перегрев не смотрят: пальба идет такая, словно именно сейчас и производится полевое испытание выбрасывателя.
А у нас патроны все тают и тают, их уже и по пальцам можно пересчитать. Обоз застрял неизвестно где, и хотя Кастер посылал за ним, причём, неоднократно, теперь уж, несмотря ни на какие генеральские приказы, ни на солдатские мольбы, им до нас ходу не было. Так что подумал я про себя, то есть и про себя и про обоз кажись, дело гиблое, «червячками пахнет», точно — индейцы побили, как побили и Бентина, и Рино, и как нас побьют. А что? Совершенно резонная мысль — интересно, что бы вы подумали на моем месте, когда швыряет тебя, как ту щепочку посреди враждебного океана, а в редкие прорехи в пороховом дыму только и замечаешь, что вот уж и того нет, и того…
Сравнение со щепочкой всплыло у меня в башке собственно потому, что подобно щепочкам прибила к нам индейская волна последних из оставшихся в живых бойцов роты «С», и теперь они тоже лежали среди нас, укрываясь за баррикадами из лошадиных трупов, и если где-то лошадиных трупов было более, чем достаточно, то у нас их теперь даже не хватало; то там то сям за крупом лежало по двое: когда двое живых, когда — живой с мёртвым, а когда — сами понимаете… Оно ж ведь как вышло: чтоб выскочить к нам на взгорок, как ни крути, а нужно было казать спину врагу, вот в спину некоторых и посекло, и последние шаги они делали, уже поливая кровью и землю и однополчан. Жутковато пришлось тем из нас, кто получил такого напарника: не успел обрадоваться, глядь — а глаза у него уже стеклянные… Тома Кастера среди прибившихся к нам не было, а вот молодой Армстронг Рид оказался как раз подле, меня, как бы даже не за соседней лошадью; минуту-другую я слышал, как щелкает его дорогая спортивная винтовочка, потом стало тихо, и когда я поглядел на него, он был уже мёртв: рот открыт в немом изумлении, язык вывалился и почернел. Что же касается Бостона, то с того момента, как Кастер дал сигнал в «атаку», я его больше не видел: видать, в той «атаке» у брода мы его и потеряли.
Таким образом, по-родственному, по-человечески, Кастер лишился обоих своих братьев, и племянника, и, похоже на то, что и любимого зятя; как командир — потерял большую часть пяти подразделений, и как кавалерист — коня. Потерял он и более мелкие вещи, как-то, например, шляпу и один из револьверов; а из второго — пока ничего, пока стрелял, для каковой цели теперь использовал положение «стрельба с колена»; на колене, как и в других местах, наблюдались прорехи, а на рубахе — отсутствие пуговиц, как если бы он рванул её на груди от недостатка воздуха.
Неподалёку от генерала, носом в галечник расположился газетный репортёр мистер Келлогг. Ко мне он повернулся спиной, и перезаряжая «Винчестер», я имел возможность окинуть его довольно продолжительным взглядом: ни дырок, ни пятен крови я не заметил, но не заметил и признаков жизни, отчего пришёл к выводу, что мистер Келлогг всё же мёртв: из наружного кармана его сюртука бессмысленным белым цветом выпирал свернутый в трубочку его последний репортаж… Сержант Хьюз, личный знаменоносец Кастера, похоже, получил пулю в живот: его скрутило в бараний рог, и он обвился вокруг древка — ну, вроде, как гусеницы, когда её ткнёшь острой палочкой, — знаете? — так он и застыл, не выпуская древка из рук и не давая полотнищу коснуться земли. Вымпел безжизненно обвис и лишь изредка трепыхался, будучи задет пролетающей стрелой. Да, я ведь ещё не говорил о собственных ранах, а ведь я тоже пострадал! В левое плечо мне угодила пуля — не пуля, а целая болванка из чего-то, что заряжается ещё с дульной части: сила удара была такова, что меня аж развернуло и так хряснуло хребтом об землю, что ещё с минуту я не мог ни вздохнуть ни охнуть. Но с первым же вздохом я вернулся на место и таки достал своего обидчика: заметив, как меня вышвырнуло из-за коня, он слишком о себе возомнил и нахально перезаряжал свою пушку у меня на виду; он, видите ли, чувствовал себя в безопасности, потому как на тридцать ярдов от меня что по левую что по правую руку не было уже никого, кто бы мог за меня отомстить. Для верности я стрельнул ему в грудь, не заботясь о дальнейшем, ибо надо было беречь патроны; с тем он и свалился в траву, и его приятели утащили его с глаз долой; а помирать или выздоравливать, про то я уже не знаю и как-то даже не интересовался.
Да-а, ну так вот, свои-то потери — раненых ли, убитых — индейцы скрывали; а наши — кого где застигло, тот там и лежал: кто в луже запекшейся черной крови, кто в месиве выпученных кишок, а кто — целехонек, ни дырки не видать, только глаза немигающие открыты, а в них — ни проблеска. А тут ещё вся наша лошадиная падаль: из-за жары того и гляди пустит дух, в общем — на нашу голову на холме объявились мухи. Они нагрянули все сразу, тьмой тьмущей, в количестве, превышающем даже число индейцев, поскольку ни запах пороху, ни выстрелы, ни суета, ни маета эту гнусную тварь не отпугивают, а только привлекают. На окровавленном плече, где ещё что-то чувствовалось, кроме боли, я сразу почувствовал их маленькие цепкие лапки. А ещё меня зацепило стрелой. Она скользнула по щеке, и кровь заструилась мне в уголок рта; по соленому вкусу я и обнаружил ранение.
Зато уж хмель выветрился как и не было, да и пагубные последствия бессонных ночей как рукой сняло, так что лучшего средства против этих недомоганий, чем бойня, я вам, пожалуй, и не назову. Подобной остроты зрения ни до, ни после того дня я у себя что-то не припоминаю. Одно обидно: тупилось мое зрение о чахлую полынь да диких индейцев, и грозила ему полная слепота, как у тех, кто лежал с немигающим взглядом. Ну, а тех, кто пока мигал и стряхивал мух, и вытирал пот, не забывая вести огонь, оставалось уж не более тридцати-сорока — по ним-то и велось исчисление времени, ибо сколько часов или минут прошло с начала скачки в эту долину и до сего момента, я вам сказать не могу: иногда казалось, что вся жизнь, а иногда — так, не дольше чиха.
Боковым зрением я замечаю, что в нескольких шагах от меня что-то падает, обернулся и вижу изменившееся лицо лейтенанта Кука: пышные бакенбарды заливает густой и липкий красный поток: переползал по цепи, на миг поднял голову чуть выше, чем следовало — этот миг и стал его последним. Гляжу — вслед за ним появляется и сам Кастер, на сей раз уже ползком, брюхом землю царапает; он тоже заляпан кровью, но, насколько я понимаю, чужой.
— Кук, — говорит он, толкая безжизненное тело своего адъютанта, — запишите приказ для Бентина, — отплевывается от песка и продолжает, — итак, диктую: «Скорее к нам — и победа наша!..» Вам понятно, Кук?
— Он мёртв, генерал, — говорю я ему.
— Запишите имя того, кто это сказал, Кук! — рявкнул Кастер; в глазах у него красная паутина, и глядит он не на меня и не на своего адъютанта, а куда-то туда, где покоится голова моего павшего пони.
Поглядел я на него, поглядел, а потом как-то жалко стало, что ли; так или иначе, но я взял на себя роль Кука, и разницы он даже не заметил.
— Слушаюсь, сэр! Будет исполнено! — отрапортовал я.
Кастер что-то невнятно пробормотал и перекатился на спину; руки он заложил за голову и уставился в небо. Рассыпаясь бликами на заточенных наконечниках, в небе над ним собирались стрелы; обозначившись в вышине уже неуловимые глазу, они косым дождём пронзали дымный воздух и вновь появлялись, но уже здесь, среди нас не щадя ни живых ни мёртвых; впрочем, Кастера это не касалось — ни с того ни с сего он вдруг улыбнулся; улыбнулся чему-то своему, непонятному и сокровенному.
За время сражения я часто слышал его голос, и — чтоб я сдох! — ни разу этот голос не дрогнул, а когда это всё же случилось, на генеральскую слабость — слава Богу! — уже мало кто обратил внимание: и мало нас было, да и тем недосуг; ну а что до меня, то я ушам своим не поверил. Понимаете, Кастер заговорил не своим голосом: как-то тихо и, вместе с тем приподнято, словно некий ученый муж делится с аудиторией плодами долгих своих раздумий.
— Отринув вековые предрассудки, — заявляет он, — а стрелы вокруг так и сыпятся и чаще всего втыкаются даже не в землю, а в холодную людскую и лошадиную плоть, — без предубежденья и пристрастья рассмотрев его со всех сторон, — развеивает он возможные сомнения, — в войне и в мире, у домашнего очага и вдали от дома, мы неизбежно придем к тому выводу, что видим перед собой предмет, достойный пристального изучения и исследования…
Он перевел дух, а я тем временем разохотил с полсотни индейцев переться, как есть, напролом — ишь, чего вздумали! — оно, может, нас не так-то и много: стрелять приходится за четверых, но голыми руками нас пока не возьмешь, рановато… Пока я убеждал индейцев не спешить, Кастер, оказывается, продолжал лекцию, так что частично я её пропустил, но зато, перезаряжая «Винчестер», узнал следующее: «Остаётся только сожалеть, что романтический образ, что предстает перед нами со страниц увлекательных романов Фенимора Купера, увы, не соответствует действительности. Лишённый романтического ореола, коим мы сами же и окружили его в нашем воображении, и будучи перенесен с книжных страниц в места, где мы вынуждены сталкиваться с ним наяву, индеец, таков, каков он есть, не может претендовать на имя «БЛАГОРОДНОГО КРАСНОКОЖЕГО».
В сизом дыму у него над головой открылся просвет, сквозь который проглянуло синее небо; Кастер ещё раз улыбнулся и назидательно поднял довольно-таки грязный палец.
— Нам он видится таковым, каков он есть на самом деле, и, насколько нам известно, был всегда: он был и остаётся ДИКАРЁМ в полном смысле этого слова…
Что ж, о смысле мне судить трудно, но тема, избранная Кастером, нашла самый горячий отклик всех собравшихся, и доклад его поминутно прерывался то ружейной пальбой, то неистовым воем пяти тысяч человек, сквозь который, как мне кажется, я расслышал и тонкий женский визг, что доносился откуда-то со стороны реки, и меня передернуло, — я слишком хорошо знал, что за ним кроется: женщины вышли с дубинами добивать наших раненых, увечить и уродовать мёртвых.
Слушать их мне было невмоготу и в каком-то полузабытьи я уставился в небо. Облако дыма над нашим холмом уже разделилось надвое, и часть его, подхваченная воздушным потоком, удлиняясь, медленно ползла на юго-восток. Через какое-то время на добрых три мили в той стороне стало так ясно, что безо всякой подзорной трубы, покуда хватал глаз можно было обозревать тот путь, что привел нас сюда: и хребет, и холмы, и долину. Солнце ярко освещало высоту, с которой Кастер глядел на деревню во второй раз, ну, ту самую, где ещё на лице юного Рида я заметил печать скорой смерти. Она настигла его уже здесь: он лежал в двух шагах от меня.
И вдруг на той высоте что-то дрогнуло: то ли отблеск, то ли всплеск; я прищурился — там явно что-то было, и это что-то трепетало на ветру. Оперенье головного убора? Да нет — с такого расстояния трепет перьев я б не различил… Индейский флажок на шесте? Зачем? Да и полотнище слишком великовато… И на одеяло не похоже: оно и больше и темнее, да и с какой стати там взяться одеялу, когда все на свете индейцы собрались вокруг нас и одеялами (ввиду кончины наших лошадей) больше не размахивали? И тут, даже не различая цветов, я понял, что вижу кавалерийский вымпел.
— Генерал! — ору я что есть мочи, прерывая его возвышенный монолог с тем, чтобы он поскорей вернулся на землю. — Смотрите! Смотрите туда!
А он и ухом не ведёт! Похоже, с той минуты, когда он в одиночку помчался атаковать брод, от чего его спас лишь героический рывок Митча Боуэра, он все глубже погружался в себя, отстраняясь от происходящего; попросту говоря, выживал старик из ума и в сей момент, кажись, как раз вступал в «пиковую» полосу старческого недуга:, ну чего, скажите на милость, он прицепился к этому, как его, мистеру Куперу, как бы тот ни досадил ему своими романами? Других дел, что ли, нет? Нужно было срочно вывести генерала из себя и заставить взглянуть на обстановку без, как он верно выразился, «предубежденья и пристрастья»; и я кричал, и кричал, и кричал — до тех пор, пока он не перевел потухший взгляд на восток; глаза его задержались на высотке и… зажглись!
— Это Бентин! — наконец-то своим голосом рявкнул он, встрепенулся и вскочил на ноги. Стрелы так и засвистели вокруг него — даже воздух потемнел, но… Кастер во весь рост, на виду у всех, был для них столь же недосягаем, как и Кастер, пропавший из виду; одно слово — сумасшедший.
— А, ну, ребята! — бросил он по цепи. — Дадим-ка залп, пусть услышит, где мы!
Преодолев мёртвую хватку Хьюза, он выдернул древко и стал размахивать вымпелом справа-налево, слева-направо, по широкому полукругу; а мы по команде раненого лейтенанта (окровавленную руку он прижимал к себе) разом бахнули изо всех имеющихся в работе стволов: штук из двадцати карабинов да нескольких пистолетов — в любом случае шуму достаточно, чтобы не спутать с теми же недисциплинированными индейцами.
Затем Кастер вызвал горниста, но живого уже не нашлось, и тогда мы снова дали залп. Кастер уже собирался скомандовать третий, но тут лейтенант сказал, что не хватит патронов. Пока Кастер думал что делать, за толпой осаждавших нас индейцев началось какое-то движение. Я осторожно выглянул из-за коня: ч-черт! — в индейском тылу где-то в полумиле за внешним кольцом окружения маленькие фигурки сновали вокруг табуна своих лошадок; в сторону Бентина вытягивался пыльный рукав. Чутьё? Или тоже заметили? А впрочем — какая разница?
Далекий вымпел ещё полоскался на холме, когда пороховой дым наших залпов стал заволакивать чудесное видение и, как потом выяснилось, навсегда. За то время, пока он был виден, он не сдвинулся ни на дюйм. Прощай, последняя надежда, сколь бы призрачной ты ни была!.. Ну, о тех событиях вы, конечно, читали; небось, попадался вам и тот отчет, где Бентин рассказывал, как он пытался спасти нас, и как индейцы преградили ему дорогу, вынудив отступить вместе с отрядом Рино на высокий холм, где они и заняли круговую оборону; а противник все прибывал и прибывал… Ну, откуда он прибывал, вам, должно быть, и без меня понятно, но я вот что скажу: тёмная это история!
Может, я покажусь вам пристрастным или, опять же, предубежденным, но иначе, извините, я не могу; в конце концов, я не Кастер и научных докладов под огнем забесплатно не делаю. Вы только загибайте пальцы: пока мы держались, мы не давали свободы тысячам самых отчаянных в бою индейцев, а их «запугала» какая-то пара-тройка сотен; у нас не хватало патронов на последний залп, а к ним, как стало известно, прибился обоз со всей охраной впридачу; у нас уж и карабины повыходили из строя, а они ещё и драться не начинали — ну, и что вы на это скажете?! Понимаете к чему я веду?
Ну, допустим, Рино, он как бы общепризнанный трус, но Бентин — тот никогда и ничего не боялся: ни отца родного, ни краснокожих, ни даже самого Кастера; и солдаты его чтили, в свое время мне просто уши прожужжали про то, какой он, значит, весь из себя достойный командир и свойский парень. Но меня-то жужжанием не проймешь: отчасти будучи индейцем, я всегда ощущал, что между словом белого человека и его делом может пролегать целая пропасть (оттого-то, наверное, и было мне среди белых и неуютно как-то, и сиротливо — так до конца и не привык), но вы уж поверьте мне: на что, на что, а на дешевую популярность я не клюю и, что касаемо белых, то убеждён в одном: судить нас надо по нашим делам. А дела на тот момент были таковы: Кастер глядел в глаза смерти, а Бентин наблюдал за ним со стороны, и если он не был трусом, то… как это назвать думайте уже сами.
В общем, мы продолжали отстреливаться, дым сгущался, надежды таяли, а подмога всё не шла и не шла. Один за другим умолкали наши карабины, кольцо смыкалось, и клочок земли, что мы удерживали, неуклонно уходил из-под ног, словно островок посреди реки в бурное половодье. Как я ни тянул, а в числе прочих умолк и мой «Винчестер». Выпустив последний патрон, ухватил я его за ствол и хряснул прикладом об землю, а потом ещё взял и в затвор песка насыпал — не хотелось, чтобы дикарь обратил мое оружие против меня; по крайней мере, ему пришлось бы сначала хорошо повозиться. Ну, а потом вытащил я свой «Кольт» и потянулся за ножом (он был припрятан в голенище левого сапога), но тут вдруг почувствовал, что достать его мне уже не судьба: левая рука висит, как плеть; и болеть не болит, но и толку с нее никакого. Ну да ладно, думаю, Бог с ним, с ножом-то: всё равно, пока дойдет до рукопашной, я уж и концы отдать успею. А тут смотрю — возвращается Кастер; ходил в дальний конец бастиона, все Бентину пытался знак подать. За то время, пока я его не видел, индейская пуля угадала в древко и расщепила как раз посередке, так что держит он в руках уже не все знамя, а лишь обрубок с полотнищем, но сам пока ничего: и цел и невредим, хоть и взмыленный весь и чёрный от пороховой гари; глаза его на почерневшем лице сверкают ярче алмазов и неотрывно глядят туда, на юго-восток, где за сизой дымкой скрылся от нас Бентин. И тут он тихо так говорит — сам себе, ни к кому не обращаясь: «Бентин не придет. Он меня ненавидит».
Кастер по-прежнему стоит во весь рост, открытый и пулям и стрелам, но я за него даже не волнуюсь: его несокрушимость была выше моего понимания; потому как, говорю вам, в двух футах над землей царила смерть, сплошная смерть, и муха б уже не взлетела — сбило б её на лету не одно, так другое; недаром новые мухи к нам уже не залетали, а старые, пресытившись кровью, только ползали по трупам и не решались убраться — боялись.
А Кастер, он не пел заклинаний, как Старая Шкура Типи на реке Уошито, не призывал на помощь богов и не танцевал магических танцев; Кастер оставался невредим, потому что он был Кастер — Кастер, которому нет равных, Кастер, непобедимый даже в поражении, Кастер, который всегда прав. Честное слово, такая уверенность в себе не может не восхищать, даже если отталкивает, и она меня отталкивала и восхищала одновременно. Я не выдержал и спросил: «Неужто он ненавидит вас так сильно, что может стоять и смотреть, как вместе с вами погибают ещё двести душ?»
— Зависть, — отвечает он. — Зависть и тщеславие! Всю жизнь я натыкаюсь на них.
Он говорил тихо, как бы размышляя вслух, но редкие выстрелы с нашей стороны не заглушали его слов.
— Я готов был предложить ему дружбу, но между нами встала она — зависть. Каждый мой успех стоил мне утраченных дружб и привязанностей. Людям свойственно любить слабых, гуртовщик. Вот так-то. И над этим можно смеяться, если это и впрямь смешно.
Он узнал меня. Он был в ясном сознании, пожалуй, впервые за те долгие часы, что мы провели вместе на этой высоте. Он больше не говорил сам с собой и, вопреки сказанному, вдруг действительно улыбнулся сквозь маску грязи и копоти — улыбнулся светло и умиротворённо; потом сделал пару выстрелов по каким-то невидимым для меня целям, всё ещё держа в левой руке обломок древка с боевым вымпелом, и тут-то он поймал свою последнюю пулю.
Она угодила чуть выше сердца, пробив совсем маленькую дырочку в его закопчённой сорочке.
Кастер чуть развернулся, медленно выпустил из рук древко, приложил правую руку к сердцу, словно клянясь в вечной верности, а затем упал на спину, раскинув руки подобно Спасителю. На его губах все ещё продолжала играть улыбка… Он лежал как человек, выбравшийся из городской суеты на лоно природы и наслаждающийся свежим воздухом, мягкой травой и безоблачным небом.
Вот тогда-то я и признал совершенно безоговорочно, что это был великий человек — уж вы поверьте, и если кто станет говорить обратное, не слушайте его. А если вы со мной не согласитесь, то кто ж тогда по-вашему великий — я ума не приложу.
Как бы там ни было, а кровь у него совсем не такая, как у многих. Не скажу там насчёт цвета, а вот по составу… такую ещё поискать…
Вот и всё, о чём я успел подумать перед тем как всё вокруг неожиданно стало красным, а затем быстро погрузилось в глубокую тьму.
Глава 29. ПОБЕДА
Перво-наперво я учуял какой-то резкий дурманный запах, потом целый букет, потом в затылке застучали барабаны: вначале забухал один, большой, вслед ему ударили другие, поменьше, и наконец их звуки слились в один протяжный заунывный гул: я вслушался в себя но барабанный рокот доносился откуда-то извне. А потом в меня ворвались голоса: криками, завываниями воплями, визгами — от гортанного хрипа до самого тонкого визга, едва ли не до свиста.
Осторожно-осторожно я разлепил глаза, малодушно предполагая, что нахожусь в аду, и, ясное дело, сразу вижу пламя, а затем — и самого Сатану — выглядит он так, как я всегда и думал, а то и хуже: на лбу — два рога, рожа — огненно-красная, изо рта — два огромных белых клыка и глазища — аж жуть берет!
Сатана сидел прямо передо мной и пожирал меня взглядом, ещё чуть-чуть — так и бросится на меня, а я что? — я и пальцем шевельнуть не могу, потому как слаб и немощен, только и силы, что взять да харкнуть в его жуткую харю… Я ведь как считал, я ведь считал, что демоны, они как люди: покажи им, что слаб — и все — пощады не жди. Но не успел я пересохшим языком набрать слюны, как Сатана открывает рот и… говорит по-шайенски:
— Ты проснулся?
Все ясно, сообразил я: меня убили Шайены, значит, я и есть у них в аду. И отвечаю по-шайенски:
— Проснулся. — И жду, что дальше будет. Эх, послать бы его… к нему самому, да вот беда: нет в Шайенском языке ругательств, кроме как обозвать мужчину женщиной.
— Вот и хорошо, — говорит он. — Так знай же, что свой долг я тебе вернул. И если мы ещё встретимся, то я тебя убью, и уже никто не скажет, что я поступил плохо.
Тут он как вскочит да как завопит: «уй-ю-ю-ю-у-у-у» — и выбежал из типи… Оказывается, мы были в типи… выбежал, а на нем-то ничего, кроме наголовника с рогами, набедренной повязки да мокасин, а все остальное — краска, с головы до пят. И никакой он не Сатана, а самый обыкновенный индеец.
А именно — Младший Медведь!
Пламя, конечно, оказалось небольшим костром посередине типи, а полог был отброшен таким образом, что я видел отблески большого костра снаружи, множество теней движущихся тел и очертания бегущих ног.
— Он побежал плясать, — говорит знакомый голос рядом, — но тебе некоторое время лучше оставаться тут.
Это неподалёку сидел на бизоньей подстилке Старая Шкура Типи: блики пламени плясали на его лице цвета мореного дуба.
— Ты хочешь есть? — спрашивает он.
Я изо всех сил попытался сесть, но куда там: руки, ноги как ватные, а сам я ни дать ни взять полупустой куль с мукой; тогда я пальцами ощупал ноющие части тела. На левом плече чувствую — повязка с какой-то сладковатой на запах мазью и с мхом, затянутая куском кожи, а ещё что-то на раненой щеке — на ощупь словно комок сырой грязи. Ну, а голова моя — в порядке, то есть, от боли совсем раскалывается, но череп, похоже, цел.
Наконец я шепчу шершавыми губами:
— Дедушка, не ожидал тебя увидеть.
— Я тебя тоже. — отвечает Старая Шкура Типи. — Хочешь, покурим?
— Так, значит, я жив? — говорю я.
Он протягивает руку и — тык в меня твердым, как рог, пальцем.
— Да-а-а, — говорит он, — если б ты был духом, то моя рука прошла б сквозь твоё плечо, как сквозь дым.
То, что я с ним разговариваю, видите ли, ещё ничего не значило, ведь он много говорил с умершими, и не только умершими людьми, но и с животными.
Я спросил у него, что сейчас… вечер, утро, ночь…
— Шайены и Лакоты перебили всех солдат на гребне к тому времени, — говорит Старая Шкура Типи, — когда солнце было вот здесь. — Он показал рукой в сторону горизонта: похоже было на шесть часов или полшестого. — А сейчас, — продолжал он, — уже ночь и все пляшут, чтобы отпраздновать победу. Остальных «синих мундиров» на холме дальше по течению реки мы убьем завтра. А сегодня был великий день…
Он вздохнул, а после вздоха продолжил:
— Я стал слишком дряхл и не могу больше сражаться и, как ты знаешь, глаза мои уже не видят, но малый меня сводил на Хребет Жирной Травы, отсюда хорошо видно место, где были солдаты. И я слышал шум битвы, и я вдыхал её гарь, и многое видел внутренним взором, а это даже лучше, чем видеть воочию, потому что, как мне сказали, всё равно всё заволок густой дым.
— Здесь собрались почти все Лакоты, а они замечательные воины, лучшие в мире, не считая Шайенов.
Он пришёл в возбуждение, при этом на его старческом животе выступили капельки пота, а его незрячие глаза засияли.
— У хункпапов есть мудрый человек по имени Сидящий Бык. Несколько дней назад они собрались на Пляску солнца на реке Роузбад, и он нанес себе сто кровавых ран, и ему пригрезилось много солдат, падавших в индейский лагерь с неба головой вниз. Потом мы подались охотиться в верховьях на бизонов и какие-то солдаты стали в нас стрелять, так что мы их истребили.
Наверно, это была колонна генерала Крука, которая подходила с юга, и теперь стало понятно, почему Терри и Кастер так никогда с ним и не встретились.
— А потом, — продолжил Старая Шкура Типи, достав при этом из кучи хлама за спиной томагавк и принявшись его взмахами сопровождать свою речь, — мы перебрались сюда, в долину Жирной Травы, и некоторые утверждали, что те, первые солдаты, как раз и были теми, которые привиделись Сидящему Быку, однако же другие возражали: «Нет, это не те, потому что эти солдаты не напали на наш лагерь, ещё придут другие». Но в этом споре я не участвовал, ибо хотя Бык и мудрый человек, но лишним вниманием его легко испортить, и Ссадина ему завидует. А это плохо…
С этим после нескольких недавних недель, проведенных в Седьмом полку, я был совершенно согласен, и испытывал едва ли не злорадство, услышав, что подобное имеет место и среди индейцев. Но это так, вскользь, между прочим, потому что в память мне глубоко запали эти последние минуты с Кастером на гребне и мысль о них я никак не мог выбросить из головы в течение многих дней, даже месяцев, а то и лет. Ибо трудно остаться таким, как был, когда побывал на волосок от смерти.
Ну, Старая Шкура Типи все говорил, говорил, говорил всю ночь напролет, пока снаружи стучали барабаны и продолжались победные пляски; огромные костры озаряли всю долину, а небольшие отряды Рино и Бентина в это время тряслись от страха, затаившись на окрестных холмах. Время от времени я проваливался в сон, и на это у меня были веские причины, весомей не бывает, и не думаю, что б вождь счел это дурными манерами, потому что и без меня он всё равно в общем-то говорил, говорил, говорил… ни к кому не обращаясь.
После Уошито он со своей общиной отправился на север через Канзас и Небраску на территорию Дакоты, где-то за восемь сотен миль, причем, большую часть пути пешком, ведь помните, как Кастер истребил их лошадей, а остальные из соседних стойбищ разбежались кто куда, так что Старая Шкура Типи и его люди, ну, те, кто остался в живых, не могли рассчитывать на большую помощь. И если по пути они оказывались поблизости от ранчо или каких-нибудь ковбоев, не говоря уже о солдатах, то те в них стреляли, если можно так сказать, без разговору; и всякий раз, как замечали они бизонов, то там всегда оказывались белые охотники со своими дальнобойными винтовками, из которых можно было убить зверя или индейца за полмили. Так что все время этого длительного перехода Шайены не переедали.
Я спросил о Солнечном Свете и Утренней Звезде, и вождь ответил, что их с ним не было, и он их больше уже не видел. Но раз уж он никогда не слышал, что б их убили, то ему кажется, что они пристали к тем Шайенам, которые остались на юге вместе с Кайовами и Команчами. И больше я о них не слышал, более того, я даже их не искал. И если Утренняя Звезда всё ещё жив где-нибудь в Оклахоме, то он наполовину белый, восьмидесяти пяти лет от роду, ну, а его матери, должно быть, за сто с хвостиком; и я всегда надеялся, что им принадлежит какой-нибудь клочок земли, и на той земле есть капля нефти и им не надо зарабатывать на жизнь продажей одеял туристам…
Потом, хоть я и не спрашивал, Старая Шкура Типи сообщил мне:
— А та желтоволосая женщина Младшего Медведя — умерла во время долгого перехода в северные земли, а их сына, у которого также были жёлтые волосы, захватили солдаты в сражении на речке Вещей Птицы. И там же погиб мой сын Лошадка и многие другие, а когда мы добрались сюда, то уже почти никого и не осталось.
Но здесь мы встретили других наших Северных Людей, так что старые распри из-за ошибок молодости теперь были забыты, так что они приняли нас, а ещё мы крепко подружились с Лакотами, потому что великий Оглала по имени Неистовая Лошадь женат на женщине-Шайенке. Так что мы охотились и хорошо ели, ведь здесь все ещё водятся бизоны: и к нам ещё пристали люди, такие воины, как Ссадина и Вороний Вождь, и военный вождь Шайенов Хромой Белый Человек, а также Две Луны, и Сидящий Бык имел видение, и на прошлой неделе мы разбили солдат на Роузбад, а сегодня мы ещё больше их побили на речке Жирной Травы, а завтра мы побьём остальных, тех, что прячутся на холме.
Наверно, можно сказать, что Олга пала ещё одной жертвой того, что натворил Кастер на Уошито, но что ему теперь за дело до моих проклятий, да и потом не мне Она была женой в последние годы. Удивительно превратная жизнь выпала этой шведке — но делать нечего.
А вот что касается Гэса, то в последующие годы я разыскивал его на центральных равнинах, но мне не встретился ни один белый и ни один индеец, который когда-либо слыхал что-нибудь про речку Вещей Птицы. Наверно, называли её так только Шайены. Так что мне не удалось ничего разузнать о нем. Но и сегодня мне бы хотелось найти моего мальчиками я охотно отдал бы все двадцать пять долларов золотом за любые сведения о нем.
И Лошадки больше нет в живых, и никогда больше не красоваться ему в этих шитых бисером платьях, блистая своими талантами.
— Наверно, это Младший Медведь оглушил меня сегодня, — говорю я.
— Да, — подтвердил Старая Шкура, — потом набросил на тебя одеяло и отнес на этот берег в мой типи. Сделать это было не так уж просто — наши люди, когда убили последнего солдата, совсем сошли от радости с ума, и; потеряв голову, индеец стал убивать индейца, и много рук цеплялось за Младшего Медведя, хотели вырвать его ношу, но он был перед тобой в долгу и долг свой исполнил, и теперь из всех моих сыновей хоть один да остался…
* * *
Наконец я уснул на несколько часов — первый спокойный сон за пару тяжелых и кровавых дней. Может, это и странно звучит, но в этом типи слепого старого человека, не замолкавшего всю ночь, я чувствовал себя хорошо и безопасно, хотя вокруг дикое ликование продолжалось всю ночь напролет, и, думаю, на следующий день не у одного индейца болело горло, а конечности ныли больше, чем после битвы.
Но уже с утра большинство из них были опять на ногах, полные бодрости и обложили тот холм, где закрепились Рино и Бентин. Сейчас ничем помочь им я не мог, я даже отогнал саму мысль, что Лавендер, Чарли Рейнолдс, Боттс и другие мои знакомые находятся вместе с Рино, если уже не сложили головы в долине. Но к типи Старой Шкуры я был прикован по своему собственному желанию, единственный белый человек где-то посредине того огромного скопления вигвамов, которые мы с Кастером рассматривали с кручи за день перед этим.
Проснувшись, я чувствовал себя заметно лучше, хотя боль в плече давала о себе знать, но онемелость почти прошла и я едва ли не физически ощущал как этот мох, или что там было, вытягивает её остатки. Я-то думал перед этим, что у меня сломана ключица, но если она и была сломана, то в последующие дни тоже как-то срослась и в дальнейшем напоминала о себе куда реже, чем та старая рана, которую я получил ещё в Додж-сити.
Да и след на лице почти что сошёл благодаря той чудодейственной грязи, и я совсем о нем забыл, и вспоминаю иногда лишь когда приходится смеяться, а в последнее время это бывает не так уж часто.
Когда я проснулся и стал ощупывать свои повреждения, Старая Шкура Типи сидел на том же месте, что и вчера. На дворе был теплый и ясный день, солнце сочилось сквозь крышу типи, костёр прогорел дотла.
— Кто меня выхаживал? — спросил я вождя.
— Младший Медведь, — говорит он. — Ты теперь хочешь есть?
Тут от костра на улице, где стряпали, вошла внутрь одна из дородных жен вождя и принесла мне миску варёного мяса. Всё шло как обычно, ведь холм, где засел Рино, находился на верхнем краю стойбища, в то время как круг Шайенов был расположен в самом нижнем конце, вне пределов слышимости стрельбы — до того большой была деревня.
Я взял миску, которую она безразлично протянула мне, поел немного, а потом и говорю:
— Дедушка, хочешь знать, что я делал у солдат? — потому что сам бы он никогда не спросил.
— Наверно, у тебя была очень важная причина, — говорит он. — Давай сперва покурим.
Так что мы покурили трубку, и тогда я говорю:
— А ты знаешь, кто был вождём у синих мундиров? Генерал Кастер.
Он попытался повторить имя генерала два или три раза, но не сумел, похоже «белое» имя генерала было для него пустым звуком.
— Длинноволосый, — говорю я. — Только на этот раз волосы у него были короткие.
— Теперь, наверно, у него волос нет, — говорит он, усмехаясь сам себе, — то был типичный индейский юмор.
— Уошито! — говорю я. — Тот самый, что был на Уошито!
— А, да, — довольно кивнул головой Старая Шкура Типи. — Я помню этот бой. То был плохой бой, но всё равно мы убили много солдат в высокой траве.
Ну, я был такой же упрямый, как и он, так что гнул свое:
— Разве никто никогда не говорил, кто там был во главе солдат?
— Белый человек был, — говорит старый вождь, — Там все были белые, если не считать несколько разведчиков-осаджей, так что, должно быть, белый человек был потому, что за осаджами никто не пойдет. — И дальше он принялся вспоминать о своих стычках с осаджами, когда он был молодым, и я не скоро смог его опять вернуть к теме нашего разговора.
— Раньше у этого Кастера волосы были по плечи, — говорю я.
— Как у Шайена? — спрашивает Старая Шкура.
— Нет, он в косы их не заплетал.
— А-а-а, тогда как у белой женщины, — говорит вождь. — Он что был химанехом?
И тут я даже обиделся за Кастера. Сейчас это может показаться смешным, но у меня было чувство, что я чем-то ему, Кастеру, то есть, обязан. В конце концов я пережил его, и слава Богу, и пусть он мне не нравился, но впечатление всё-таки произвёл, особенно своей смертью. Он был ни на кого не похож. Он был личностью, что да, то да. Может, он и был сукин сын, но выдающийся, он ни от кого не зависел. Никогда не ныл, не распускал слюни, ни перед кем не пресмыкался, пусть даже и перед самим президентом Штатов.
Но, думаю, передать это индейцам я никогда не смог бы, ибо независимость среди индейцев не исключение, а, скорее, правило, и, значит, не является проявлением каких-то особых достоинств. Да и никто из них не смог бы — не важно какое бы высокое место он ни занимал: ни Неистовая Лошадь, ни Сидящий Бык, ни Ссадина — приказать двумстам индейцам лечь костьми вместе с ним, — вот в этом-то и разница. А Кастер смог и без всякого. Так что белый назвал бы его принципиальным, и в то же время, с точки зрения индейца, его можно назвать человеком без всяких принципов вообще, тем более, что в отличие от дикарей солдаты не сражались ради удовольствия.
Я решил прекратить разговор на эту тему. Но как я и думал, Старая Шкура теперь проявил к разговору интерес. Он говорит:
— Я хочу, мой сын, пойти посмотреть на этого необычного человека или на то, что от него осталось. Отведи меня на гребень.
Я бы охотнее лёг в костёр, чем стал бы делать это. Но Старая Шкура Типи заметил, что воинов в деревне нет, они за много миль отсюда ниже по течению реки, а женщины и дети ещё вчера вечером намаялись увечить и раздевать трупы солдат, так что здесь будет тихо, а я мог бы нацепить на себя наголовник, такой как у Младшего Медведя, замшевую рубаху, ноговицы и раскрасить свое лицо. Не говоря уже о том, что я буду с ним…
Ну, и эти его жёны помогали мне облачаться в этот мой наряд, подрезали снизу запасные ноговицы вождя — при этом присутствовало двое ребятишек, думаю, его дети, шести-семи лет всего лишь, а ему тогда было не меньше девяноста — и мне нужна была набедренная повязка, так что одна из его жен дала мне линейный флажок роты Седьмого кавалерийского полка, который представляет собой звездно-полосатый американский флаг с раздвоенным концом. И рад сообщить нашим соотечественникам, что я так никогда и не задействовал его для данных целей. Я никогда не позволял себе ругаться в дамском обществе и никогда не позволял ронять авторитет государственного флага, даже в самом критическом положении — я воспользовался тогда своим старым шейным платком.
Но эти жёны теперь уже вошли во вкус этого занятия; переодевая меня настоящим дикарем, они с хихиканьем стали цеплять мне на шею ожерелья и прочую Дребедень, а потом принесли расшитый бисером пояс, к которому только что прицепили несколько свежих скальпов.
Я запротестовал: «Нет, нет!», но они с сорочьим гамом уже нацепили его на меня, и рука моя задела волосы одного из скальпов. Волосы были совсем чёрные и жесткие на ощупь, и я схватил этот скальп и, потрясая им, спросил:
— Где вы его взяли?
Выменяли, говорят они, на скальп с белыми волосами, который дал им Белый Медведь; а выменяли у одного Лакота из Хункпапов, который сражался в верховьях долины во время первой атаки синих мундиров.
Не знаю, сможете ли по-настоящему понять, что чувствуешь, когда в руке у тебя скальп друга.
— Этот скальп, — сказала самая толстая жена, — принадлежал Чёрному Белому Человеку, которого хункпапа узнал как человека, который когда-то жил с их племенем и был женат на женщине-Лакотке. «Что ты здесь делаешь?» — спросил хункпапа удивлённо. «Не знаю» — ответил этот Чёрный Белый Человек. Его сбросила лошадь и он лежал на земле со сломанной ногой, ружьё валялось в стороне. «Значит, ты в нас стрелял. Поэтому я думаю, что должен тебя убить» — сказал хункпапа. «Я думаю, что ты должен», — ответил ему Чёрный Белый Человек, так что хункпапа так и поступил.
Но даже так, уверен, всё же было лучше, чем всю жизнь протрубить дворником в Миссури.
Взяв Старую Шкуру за руку, я вышел из вигвама и мы через все стойбище Шайенов пошли к броду, который, значит, был совсем неподалёку, потому что через речку находилось селение миннеконжу. Все было так, как сказал вождь: все воины отправились сражаться и в лагере были только женщины, дети и старики, сидевшие на солнце и жевавшие беззубыми деснами. Некоторые женщины работали как обычно, а другие громко оплакивали своих погибших сыновей, мужей и братьев, потому что у индейцев тоже были потери, только они их не считали; наверно, человек сорок или пятьдесят. В стойбище Шайенов воздвигнут погребальный типи, в котором на помосте уложили тела павших, убили несколько лошадей и их остовы расположили у входа в это типи наподобие спиц колеса.
На солнцепеке играли дети. Я видел мальчика с маленькой игрушечной лошадкой из обожжённой глины; эту лошадку украшала любопытная попона — свернутый зелёный банкнот. Встречались и другие сувениры, напоминавшие про Седьмой кавалерийский полк: одна женщина была одета в синий френч с нашивками капрала, несколько детишек перебрасывались полевой кавалерийской шляпой, а в одном месте на земле валялись армейские подштанники с именем бывшего владельца, вышитым на поясе, ещё дальше попались рубашка, затвердевшая, как пергамент, от запёкшейся крови, рваные брезентовые патронташи, ненужные сапоги. У брода было ещё большее количество такого барахла; мальчики в реке купали лошадиный табун, при этом среди индейских пони выделялось несколько крупных гнедых жеребцов со знакомым тавром «7 КП».
На нас никто не обращал внимания, даже женщины миннеконжу, которые стирали в реке. Мы со Старой Шкурой Типи вошли в воду, а надо сказать, что Литтл Бигхорн — река со стремительным течением, и вода в этом месте доходила до пояса, и перешли реку вброд. Как был одет я, уже упоминалось, но я ничего не сказал об облачении вождя, а его голову украшал полный боевой убор из орлиных перьев, которые, если тщательно присмотреться, были немного побиты молью, но всё равно это был великолепнейший головной убор: каждое перышко заканчивалось белым пушком и крошечными круглыми зеркальцами на висках, а сзади он, этот головной убор переходил в длинный хвост из таких же перьев, конец которого доходил до пят и даже волочился по земле. Лицо было раскрашено алой краской, на щеках — жёлтые молнии. В одной руке он держал огромный лук, особый, с ненатянутой тетивой и с железным копьеобразным наконечником, прикрепленным к верхнему концу. В другой руке вождь нес тот старый священный узел, который я помнил по Уошито и даже ещё более давним временам; его кожаная обертка с одного края превратилась в труху и оттуда торчала птичья лапка — амулет, приносящий удачу. Я приглядывал за ней, чтобы не выпала, но засунуть назад не решался, потому что нельзя прикасаться к священным вещам других, нельзя даже знать что там, в этом узле.
Я увидел место, где ещё вчера мы переезжали через Овраг Священного Хвоста. Земля тут была взбита копытами, были тут и следы подкованных железом кавалерийских лошадей, уходившие прямо в воду, но мы так далеко не забирались, так что это, должно быть, они были оставлены отбитыми лошадьми, которых индейцы перегоняли в свою деревню.
Мы прошли милю, а то и больше, поперечным оврагом, по которому отходил Кастер, потом поднялись по склону и стали карабкаться ещё выше к этому последнему гребню. Мы немало прошли, прежде чем мне попался первый труп, хотя, возможно, здесь были и другие, свалившиеся в многочисленные ущелья вокруг, а то и сброшенные туда после того, как были раздеты и изувечены.
Но вскоре трупы стали встречаться чаще; издалека на ярком солнце они казались белыми-белыми, словно поле, усеянное валунами. Вон один, второй, а вон два или три; попадались и кучки по десятку, лежавшие там, где упали, почти все по подразделениям. Следов панического бегства заметно не было. Да, их убивали, но заставить бежать не смогли. А если вспомнить, сколько среди них было новобранцев, вспомнить, до чего они устали после двухдневного перехода без какой-либо передышки, вспомнить превосходящие силы противника, то надо признать, что они и правда не ударили в грязь лицом.
И сейчас, когда мы с трудом тащились вверх, Старая Шкура неожиданно произнес:
— После этого боя я стал лучше думать о белых людях. Я не догадывался прежде, что они знают, как надо умирать…
— А ты можешь их видеть, дедушка?
— Почти, — сказал старик. — Их тела так сверкают… Но как только мы подходили ближе, беломраморный цвет не оказывался чистым, он имел прожилки, а иногда был забрызган красным, который на жаре побурел. К тому же появился запашок, на который слетелись миллионы мух; при нашем приближении в небо взлетали стаи птиц и кружили над головами, а койоты отбегали на безопасное расстояние. А ещё было немало лошадиных трупов. На этой квадратной миле валялось их не меньше сотни.
Я сцепил зубы, задержал дыхание и устало потащился дальше — земля будто уходила из-под ног, словно брёл я зыбучими песками, хотя на самом деле была она сухая, как зола. Но я продолжал идти, ведь Старая Шкура Типи недаром шёл сюда, у него была какая-то большая цель. Не вурдалак же он… И, думаю, что лишь благодаря ему я вообще смог понять, что Шайен произошло на этом ужасном гребне и при этом не сойти с ума.
— Да, — сказал он, сделав глубокий вдох сквозь древние пергаментные ноздри, — наверно, там, на другой стороне они счастливы, счастливы, что умерли как воины, и не как Те-Что-Пасут-Коров, или как Те-Что-Растят-Кукурузу или как безумные Те-Что-Роют-Золотой-Песок, или как Те-Что-Кладут-Железо-Для-Огнедышащей-Телеги. И вот что, сын мой, я скажу тебе… Я ведь прежде долго думал, что все белые мужчины превращаются в женщин…
Он остановился на какую-то минуту, чтобы дать мне возможность отдохнуть. А и правда, этот ночной сон сотворил со мной буквально чудо, ну и, конечно, повязка на плече… Чудом являлось уже одно то, что я мог ходить, не то что лазить по горам. Ну, а сам Старая Шкура Типи не выказывал никакого переутомления, хотя на солнечном свете его преклонный возраст был заметен: эти овраги на его лице были настолько глубоки, что муха подумала дважды, прежде чем взбираться на их крутые склоны. Действительно, лицо его было миниатюрной копией здешних мест. И рядом с его обветренной кожей, там, где она проступала из-под краски, кожаная обертка его священного узла смотрелась почти что новой.
Сейчас он обернулся и, казалось, обозревал всю панораму; к груди он прижимал священный узел и копьеобразным концом лука, на котором болталось два пера, указывал перед собой:
— Оттуда шёл Ссадина и с ним много воинов, — сказал он, — а оттуда — Вороний Вождь. Там, внизу, Хромой Белый Человек и Шайены, а также миннеконжу и другие прорывались сквозь солдатские цепи, в то время как великий Неистовая Лошадь и Две Луны прошли вдоль реки, а потом зашли оврагами синим мундирам в тыл и внезапно ринулись на них… Да, мой сын, это был величайший бой всех времен, и другого такого уже не будет никогда.
Его хрипловатый голос слегка дрогнул, и по желобам у огромного алого носа с жёлтыми обводами скатились две слезы и исчезли в вертикальных складках его верхней губы. При этом рот его был подобен речной системе с притоками сверху и снизу.
И несмотря на всё, что я пережил, мне стало жаль его и я сказал:
— Наверняка ещё будут сражения, — хотя и не видел, что ему за толк в этом, поскольку он и так был слишком дряхл, чтобы участвовать в этой недавней битве.
— Нет, — возразил он. — Это конец.
Вскоре я собрался с силами и мы полезли дальше, и как раз мимо останков эскадрона «С», погибшего прямо под небольшой горкой; но я не ставлю перед собой цели представить подробное описание этой бойни, ибо думаю, что достаточно рассказывал о том, как обычно после боя появляются индианки и как они поступают с ранеными. Так вот, они получили возможность устроить такое пиршество сразу после битвы при Литтл Бигхорн, какое могло пресытить самого ненасытного обжору. Им предстояло обезобразить столько трупов, что через некоторое время они попросту устали их увечить, и в итоге много тел осталось нетронутыми, а с некоторых даже не сняли одежду.
Но Тому Кастеру досталось очень крепко. Он напоминал кровавый обрубок на мясницкой колоде. Я бы ни за что не узнал его, если б не его инициалы, вытатуированные на руке рядом с богиней Свободы и американским флагом. Его белокурый скальп содрали до самой шеи, череп раскроили, а живот распороли от грудины до паха, а там… нет, не хочу больше об этом, просто пусть его случай — то, как его изувечили — представит вам картину всех изувеченных, хотя его, судя по тому что я видел, обезобразили едва ли не больше всех. Помните, Ботси рассказывал, что Дождь В Лицо поклялся вырезать сердце Тома и съесть? Судя по всему, он вполне мог это сделать, хотя в последующие годы и отрицал.
Так что я просто содрогался от ужаса, когда забрался на вершину горки, и это меня, скорей, вел Старая Шкура Типи, а не я его, потому что если индейцы такое сотворили с Томом, то до чего же ужасен должен быть жребий генерала…
Мы пробрались через завал из конских трупов, которые из-за того, что стали разлагаться — ведь уже прошли сутки — распухли; запах — жуткий; тут были и бледные тела солдат, разбросанные вокруг как кукурузные початки. Какое-то время царила полнейшая тишина, но, наверно, мне это просто показалось, так как дул лёгкий ветерок и через какой-то миг я уловил равномерный шорох.
Потом я разглядел, что это было: ветер носил по земле сотни зеленых бумажек и время от времени какую-нибудь из них задувало на обнажённый труп, чтобы придать тому благопристойность. Это было то жалованье, выплату которого Кастер задержал и которое распорядился выдать только на следующий день после того как выступили из форта Линкольн. Индейцы находили деньги, когда грабили трупы, и выбрасывали прочь, как и другие бумажки, которые им попадались: любовные письма, приказы и тому подобное — и все это ветер разносил по местности, придавая ей сходство с заброшенным местом пикника там, где ни один из трупов не был изувечен, и тела погибших можно было принять за просто спящих, если б из них не торчали стрелы.
У лейтенанта Кука сняли скальп не только на голове, но и срезали кожу с одной щеки, где росли котлетообразные бакенбарды. Келлогг, парень из газеты, лежал на том самом месте, где я видел, как он упал, полностью одетый, непокалеченный.
Старая Шкура Типи сказал:
— Отведи меня к бывшему Длинноволосому.
Нелегко опознать голого мертвеца. У трупа индивидуальное стирается и становится каким-то неотчетливым; они все какие-то похожие, как люди в турецких банях, только при этом ещё и неподвижные.
Но в конце концов я всё же увидел Кастера; руки его по-прежнему были разбросаны в стороны, как у распятия, совсем в той самой позе, как когда он упал; он лежал на останках двух кавалеристов, наверно, его на них скинули, когда раздевали. На груди слева у него виднелась крошечная дырочка, а ещё одна была на виске с той же стороны. Из первой раньше проступило очень много крови, а из второй вообще ни капли. Думаю, что эту вторую он получил после, когда все пали и индейцы объезжали поле сражения, стреляя в каждого, чтобы добить наверняка.
С него не сняли скальп и тело не увечили. Меня удивило выражение его лица. Клянусь, на нем все ещё была смутная улыбка, как всегда ироничная и самонадеянная.
— Вот он, — сказал я Старой Шкуре, взял его за руку и подвёл к телу. Подойдя к Кастеру, вождь наклонился и быстро ощупал его голову. Что-нибудь злобное, мерзкое я бы ему сделать не позволил, но я знал, что он не собирается этого делать; он просто рассматривал покойного генерала так, как это делают слепые. Потом он выпрямился и говорит:
— Это тот самый человек, который был предводителем солдат на Уошито?
— Да.
— И на Песчаной речке перед этим?
— Нет, там был другой.
— А-а-а, — он кивнул древней головой в большом военном головном уборе, и перья убора наклонились все как одно подобно тому как в небе стая птиц одновременно изменяет направление полета. Зрелище было очень красивым, и я о нем упомянул лишь ради контраста со всем остальным в этом мрачном месте. Здесь, на всем этом поле, не было кроме нас и мух больше ни одной живой души. Все индейцы ещё вчера унесли своих мёртвых и больше не возвращались сюда.
— Правильно, — говорит Старая Шкура Типи.
Концом лука он слегка дотрагивается до обнажённого белого плеча Кастера, нанося ему символический удар, и что-то говорит, обращаясь к останкам, и слова эти я не могу передать лучшим образом, чем так:
— Ты — плохой человек и мы отомстим тебе.
И всё… И мы направились назад, в стойбище, только я все ещё находился под впечатлением от этой трагедии и этого триумфа. Кастер должен был умереть, чтобы склонить меня на свою сторону, и в конце концов ему это удалось: не могу отрицать, что это действительно выглядело благородно — стать самому себе памятником.
И я поделился со Старой Шкурой Типи мыслью, которая пришла многим другим белым после того как мир узнал о Последнем Бое Кастера — только мне она пришла в голову раньше, ведь я был первым американцем, кто видел его лежащего мёртвым, точнее также как был последним, кто видел его живым — романтическая мысль, вполне в духе героического представления генерала о себе, которое он сумел навязать даже такому скептику, как я.
Я сказал:
— Его не скальпировали, дедушка. Индейцы почтили его как великого вождя.
Старая Шкура Типи улыбнулся и посмотрел на меня как на глупое дитя.
— Нет, мой сын, — сказал он. — Я ощупал его голову. Его не скальпировали только потому, что он стал лысеть.
* * *
Вернувшись в типи вождя, я сразу свалился с копыт, ну, а о том, как утром и днём двадцать шестого индейцы продолжали осаждать остатки Седьмого полка на холме Рино, вы можете прочитать; а потом по селению проскакали мальчишки, пасшие лошадей, с известием о том, что появились ещё «синие мундиры» и движутся со стороны устья вдоль речки Жирной Травы. Тотчас дали знать мужчинам, чтоб возвращались, а женщины за какие-то три четверти часа разобрали бесчисленные вигвамы, и мы выступили в направлении на юг; мы все, то есть тысячи индейцев и десятки тысяч животных — колонна мили на четыре: женщины и дети верхом на пони, с волокушами, расположились посередине колонны, а воины в качестве охраны спереди и сзади.
Все ещё разукрашенный и в наголовнике, я влился в личный состав семьи вождя и трусил на одном из его пони; вождь ехал рядом на другом, ну, и понятно, поблизости держались его жёны. Когда мы трогались, два-три индейца всё же скосили глаза в мою сторону, но петушиться никто из них не стал. Надо думать, драться к этому времени им наскучило и никто не хотел без особой нужды к тому переть на рожон. А я узнал кое-что новое: оказывается, индейцы не могут все свое внимание направлять на что-то одно, даже на победу.
Я имею в виду, что они такие, когда воюют между собой, но чтоб они наголову разбивали белых, такого прежде мне не доводило видеть.
Группа Шайенов прошла долиной у позиций Рино лишь к вечеру, ведь в этой веренице Шайены шли последними; я оглянулся на эти горы, но ни одной живой души не разглядел — до позиций было несколько миль. К тому же, перед этим, чтобы скрыть наш отход, индейцы подожгли траву, и в воздухе ещё висела дымовая завеса.
Новые «синие мундиры», подступавшие с севера, конечно же, были войсками генералов Терри и Гиббона, которые шли на встречу с Кастером, опаздывая при этом на сутки, точно также как он явился днём раньше. Теперь им предстояло узнать о том, что Кастер погиб, а индейцы испарились. Ну, об этом можно прочитать, как можно прочитать и о том, как Рино и Бентин оборонялись на холме, и о том, как нашли тела Лавендера, Чарли Рейнольдса, лейтенанта Макинтоша и Кровавого Тесака среди прочих павших в этой долине.
Сам я шёл с индейцами низиной, и, к счастью, никого из своих друзей, кто сложил здесь голову, не видел Должно быть, они погибли выше, в лесу.
И, конечно же, можно прочитать о самой битве битве при Литтл Бигхорн, причем, в самых разных версиях, ведь спорят о ней до сих пор. Первым делом сообщения о ней появились в газетах, потом было дознание — военное расследование, проявил ли Рино трусость; и во время этого дознания была заслушана уйма свидетелей, и в результате Рино признали невиновным, хотя некоторые офицеры, те самые, которые во время трибунала показывали в его пользу, за дверями оного продолжали поливать его имя грязью. Даже те немногие, что остались от Седьмого полка, продолжали жить в соответствии с его славными традициями, обнимаясь на публике и понося друг друга наедине.
А потом наступил черед рассказов солдат и офицеров, которые находились на других участках сражения, в том числе разведчика из племени Ворон по имени Кучерявый. Ну, а потом нашлись парни, которые ходили по резервациям и расспрашивали индейцев, воевавших на стороне противника. И, естественно, ничего кроме путаницы из этого не вышло: никакие два дикаря не могли сойтись во мнении о том, что тогда происходило даже на их собственном конкретном участке, видя все по-разному, как у них неизменно бывает, не говоря уже о той роли, которую играют индейская вежливость и страх. Некоторые индейцы думали, что их накажут, если их истории будут звучать не слишком приятно для белого уха; а некоторые из вежливости сообщали исследователю то, что тот, по их мнению, хотел от них услышать. Так один все твердил, что все люди Кастера покончили с собой; другой — что войска перешли реку вброд, проникли в деревню, но были выбиты, а генерал был убит на самой середине реки.
Позже всех за дело взялись историки, причем, некоторые из них поселились на этом самом поле битвы, которое превратилось в национальный памятник, и таскались по нему с мерной лентой и теодолитом. Подчинился ли Кастер приказу или нет? Мог ли Бентин вовремя подойти к нему на помощь? Каким именно был путь из Лоунтипи этих пяти эскадронов? И на каждый вопрос — десятки ответов, причем, масса «за» и масса «против» по каждой частности.
Но был там и при этом выжил один только я, и рассказал я вам чистейшую правду, и ничего кроме правды, если только мне не изменяет память, ведь до сих пор ношу я рубцы от ран, полученные на этом гребне, у реки Литтл Бигхорн, территория Монтана, в бою с Лакотами и Шайенами двадцать пятого июня тысяча восемьсот семьдесят шестого года, в котором генерал Кастер и пять эскадронов Седьмого кавалерийского полка сложили свои головы. Все, кроме одной…
Отчего же я до сих пор хранил молчание? Ну, враждебные индейцы в этой стране никогда не были популярны, и в течение нескольких лет после Литтл Бигхорн любовь населения к краснокожим настолько поубавилась, что, наверно, гремучие змеи и те пользовались большей симпатией народа.
— А что, — говаривал я потом в какой-нибудь развесёлой компании в салуне, — так оно и было: меня спасли мои краснокожие братья-Шайены.
Прошло время и где-то в двадцатые, помню, ежели случалось мне заикнуться моим тогдашним приятелям насчёт моей индейской жизни, то они на меня начинали посматривать искоса, и даже как на сумасшедшего. А для меня, с моей-то наследственностью, сами понимаете, это вопрос больной…
Ну, а с тех пор как тут, в этой богадельне, стали но телику вестерны показывать, то мне случалось пару раз отпустить несколько крепких слов по их адресу, а то, ей-Богу, противно смотреть как какой-нибудь итальяшка, или там русский, небрит и накачан как циркач, а туда же — карячится, корчит из себя индейца. А краснокожим, им и бриться-то не надо, и так не растет, и мышцы нигде не выпирают. Ну, а в киношках этих индейцы, Господи прости, они ж просто бандюги, гангстеры какие-то. Я так думаю, уж если этим киношникам краснокожих под боком не хватает, взяли б уж узкоглазых, азиатов-китайцев там, или япошек, на эти роли, а что — пускай играют, потому как сходство чрезвычайное, Просто на одно лицо — они ведь двоюродные братья в седьмом колене. Взгляните без предубеждения и сами увидите, что так оно и есть.
Вот я, как правило, и помалкивал в тряпочку, а причина-то была простая: ну, кто бы мне поверил? Сами посудите. Но теперь-то мне и дела нет, поверят — не поверят, потому как возраст у меня такой. Так что, сэр, если и вы мне не поверите, ну и чёрт с тобой…
Глава 30. КОНЕЦ
Едва миновав долину, где погиб Лавендер, эта бесконечная вереница индейцев стала распадаться, дробиться на группки, которые потом в свою очередь разбрелись во все стороны, кто на восток, на Танг и Паудер, а кто ещё дальше, в район Слим-Батс, где уже в сентябре их разбили войска генерала Крука, а кое-кто из индейцев даже вернулся в резервации.
Сидящий Бык и его клан хункпапов долго кружили по прерии, покуда не оказались в Канаде, которую индейцы называли Бабушкиной Землей в честь королевы Виктории, и некоторое время там они обретались — в Канаде все ещё были бизоны, и конная полиция вручила им медали в знак Бабушкиного благоволения, при этом сообщив, что они желанны до тех пор, пока не поднимут руку на жизнь подданных этой самой Бабушки. Чего они и не делали, потому как в этих краях едва ли были вообще какие-нибудь подданные, а Сидящий Бык имел на американцев такой большой зуб, что всякий, кто не американец, был ему заведомо мил. Но через некоторое время он всё-таки вернулся в Штаты, и впоследствии разъезжал по Америке с цирком Коди, выступая в шоу «На Диком Западе», получая по пятидесяти долларов в неделю плюс мелочь на карманные расходы да исключительное право на продажу фотографий со своей собственной физиономией.
Ходили разговоры, что хотя он был духовным вождём Лакотов на Жирной Трве, но когда Рино атаковал нижний край деревни, Сидящий Бык струхнул и до конца боя прятался среди холмов, не очень полагаясь на свою собственную магическую силу. Но разговоры эти шли от Ссадины, так что я не знаю, правда, это или зависть.
А теперь давайте вернемся немного назад, в те дни, что последовали сразу после великой битвы. Старая Шкура Типи решил увести своих людей на юг, в горы Бигхорн, то есть, он попросту в один прекрасный момент вдруг повернул на своем пони в ту сторону, и те, кто хотел пойти с ним, пошли за ним. И я, конечно, тоже был в их числе. А когда я увидел, что Младший Медведь по некотором размышлении так и не последовал за нами, а в числе некоторых других Шайенов продолжил путь на восток, я вздохнул с облегчением. Наши с ним отношения подошли к концу: мы были квиты. Уже после того утра, когда он убедился, что я буду жить, он больше не приходил, ну и я, ясное дело, встреч с ним тоже не искал.
Его великий день всё-таки состоялся, и сейчас через столько лет мое сердце радуется при мысли об этом, потому что очень скоро после этого, осенью, тех Шайенов, с которыми он ушёл, разбил в пух и прах генерал Маккензи; а остальные сдались весной и оказались в резервации на Индейской территории, где их косила малярия и они от голода мерли как мухи. В конце концов они не выдержали, взбунтовались и стали пробираться с боями на север за сотни миль с женщинами и детьми, подвергаясь постоянным нападениям, раздетые и голодные, вооружённые только луками и стрелами, потому как ружья у них отобрали. По-моему, когда заходит речь о мужестве, то достаточно просто сказать «Шайены» и больше ничего не надо говорить, и так все ясно.
В конце концов правительство поняло, что их нужно либо совсем уничтожить, либо позволить жить в том краю, где они родились. Поэтому на реке Танг было основано агентство и северные Шайены живут там по сей день.
Но прежде чем пришли к этому выводу, немало крови было пролито, так что я не знаю, уцелел ли Младший Медведь тогда. Вот я и рад, что у него, по крайней мере, один великий день всё-таки был, и, конечно, если б не этот день, то и меня бы не было в живых.
В горы Бигхорн кроме нас направлялись ещё и другие индейцы, но мы держались отдельно и насчитывали всего десятка два вигвамов. Никого из этих людей, кроме вождя, я не знал. Старые мои друзья все либо умерли либо разбрелись кто куда. И хотя мне было только тридцать четыре, я чувствовал себя в каком-то смысле старше чем теперь. Сейчас к своему концу подходит лишь одна человеческая жизнь, а тогда умирал целый образ жизни. И Старая Шкура Типи всё это видел ещё там, на хребте Кастера, когда сказал, что другой великой битвы не будет. Я суть тогда не сразу уловил, да и вы, наверно, тоже её не сразу поймёте, потому что впереди ещё было много схваток, и жестоких, и кровопролитных, прежде чем воинственные племена покорились и согласились жить оседло в резервациях.
Как-то вечером, по-моему, в самом начале июля, разбили мы стойбище у подножия гор Бигхорн — нам тогда удалось добыть бизона — и в тот вечер мы как раз ели сочную вырезку из его горба, приправляя мясо горькой бизоньей желчью, в которую макали свои ножи. День выдался жарким, но на этой высоте прохлада наступает быстро. Костёр весело пылал, обдавая Теплом наши лоснящиеся от бизоньего жира лица; приятно потрескивал сосновый валежник, источая ароматный дымок, потому что мы добрались до настоящего хвойного леса. И скоро в типи стало до того жарко, что детишки посбрасывали одеяла и весело резвились вокруг, сверкая крошечными попками.
Толстые жёны вождя жевали, каждая со своей стороны, большую шкуру, это чтобы сделать её мягче, и между укусами сплетничали об интимной жизни Неистовой Лошади, женатом на девушке-Шайенке. Однажды, до того как наш род откололся, я видел этого великого воина. Всё лицо его было испещрено шрамами в виде стрелок, и больше никаких украшений, никакой краски, никаких перьев; он сам был как стрела в полёте. Год спустя его захватили в плен и закололи штыком во время потасовки в полицейском агентстве, причем за руку его держал другой индеец по имени Маленький Большой Человек. Но не я. То был Лакот, и имя его звучало иначе, чем моё, хотя на английский переводится одинаково. Старая Шкура Типи вытер лезвие ножа о ноговицы и рыгнул, словно издал трубный глас. Тогда-то я у него и спросил, что означают его слова, которые он сказал тогда на хребте. Потому что меня удивило, что после того как индейцы одержали такую победу, он стал более пессимистически настроен, чем после многих поражений.
— Да, мой сын, — сказал он, — теперь — конец. Потому как чего больше можно сделать с врагом, как не разбить его? И если б мы, как раньше, воевали друг с другом, то есть индейцы с индейцами, ведь война — это занятие достойное мужчины и к тому же приятное, то теперь пришёл бы черед другой стороны попытаться победить нас. И мы бы сражались так же упорно, как и всегда и, возможно, вновь нам бы удалось победить, но вначале они обязательно имели бы перевес, потому что это ПРАВИЛЬНО. Когда всё движется по кругу, как и заведено в природе, не может быть, чтобы все время побеждали одни, а другие — всегда терпели поражение. Ибо тогда прервется бесконечность жизни, а разве такое возможно? Нет, и даже когда я умру, я всё равно буду продолжаться во всём СУЩЕМ… Ведь бизон ест траву, я ем его, а когда я умру меня поглотит земля, которая даст жизнь новой траве. И потому ничто никогда не исчезнет бесследно, и каждая вещь вечно живет во всём сущем, хотя все вещи меняются…
Старик сунул нож в расшитые бисером ножны и продолжил:
— Но белые люди, которые живут среди прямых линий и углов, думают совсем не так как я. Им нужно либо всё, либо ничего, либо Уошито, либо Жирная Трава. И из-за этих своих заблуждений они очень упрямы. Они станут воевать даже ночью или в плохую погоду, но они не любят саму войну. Их интересует только победа, и больше — ничего, И если её можно добиться, поцарапав пером по бумаге, или просто произнеся какие-то слова, то они этому только рады… Они не захотят прийти и отомстить нам за смерть Длинноволосого, хотя легко могли бы сделать это. Я думаю, что если все мы вернулись бы теперь в резервации, они не стали бы никого убивать, ибо убийство — это тоже жизнь, а они жизнь ненавидят. Ненавидят и войну. В былые времена они стремились помирить нас с Воронами и Поунями, и мы пожимали друг другу руки, и некоторое время не воевали, но от этого все мы сделались слабы и вялы, а наши женщины становились дерзки и презирали нас, и к тому же, живя в мире, мы не могли облачиться в свои лучшие одежды. И потому в конце концов мы отправились в деревни Ворон, и я сказал речь: «Раньше, когда мы были врагами, вы нам нравились, — сказал я этим Воронам. — Теперь, когда мы друзья, вы нам ОЧЕНЬ не нравитесь! Я всё сказал!». «То, что ты сказал, не имеет смысла», — говорят они. «Да, не имеет, но это придумали не мы». А они в ответ: «И не мы. Раньше, когда вы воевали с нами, мы думали, что Шайены — хороший народ, а теперь мы думаем, что вы подобны шелудивым псам». И все поняли, что без войны не обойтись, делать было нечего и мы устроили большую битву…
Старая Шкура Типи покачал головой:
— Эти Вороны, — сказал он, — в былые времена были хорошие воины, но сегодня они покрыли себя бесчестием, воюя бок о бок с белыми солдатами. Я слышал, что на реке Жирной Травы они бежали, и я даже не удивился.
Ну, если говорить о бесчестии, то вот он я, пожалуйста, живой, заметьте, пример. А ведь я даже и не заикнулся хоть как-то объяснить, почему я был вместе с Кастером. Если это вообще можно было объяснить. Но хоть попытаться я был обязан. Вот и говорю я ему:
— Дедушка, немногие из людей могут похвастать твоей мудростью. Остальные часто попадают в такие положения, в которых не в силах разобраться, и вынуждены просто спасать свою жизнь. Так и я, Маленький Большой Человек… — и едва я сказал это, как тут же понял свою ошибку.
— О-о-о! — воскликнул Старая Шкура. — Никогда нельзя произносить свое имя вслух. Злой дух может похитить его, оставив бедного человека безымянным.
Я хотел взять свои слова обратно и продолжить свое объяснение, но вождь зевнул и сказал, что ложится спать, и как сказал так и сделал.
На следующее утро, когда мы проснулись и купались в холодном ручье, сбегавшем с гор, Старая Шкура Типи разделся, погрузил свое древнее тело в воду и принялся плескаться, словно воробей. Я как раз собирался хорошо позавтракать. А вождь тем временем вытерся одеялом, завернулся в другое и говорит:
— Мой сын, сегодня я должен подняться высоко в горы. У меня там важное дело. Ты отведешь меня туда?
И он сказал, что я, если хочу, могу утолить голод, а ему нельзя. Из чего я понял, что он задумал совершить какое-то священнодействие; и хотя я мог бы поесть, но мне не хотелось оскорблять богов своим полным брюхом. Так что к пище я тоже не притронулся, и мы с ним отправились в путь. Ну, об этом решении, в течение многих часов карабкаясь вверх, я ещё пожалел, потому как место, которое он выбрал, оказалось высокой вершиной. К обеду мы одолели только половину этой горы, но с собой не взяли даже и глотка воды, и чем выше мы поднимались, тем меньше было возможности её найти. А я ещё не совсем оправился от ран и дышать с каждым шагом становилось всё труднее.
А Старая Шкура Типи шагал твёрдо, решительно и широко. Голову его украшало единственное орлиное перо. На нем было красное одеяло и больше ничего кроме набедренной повязки. Думаю, издалека, когда не видны морщины, его можно было принять за молодого воина.
Ну, мы шли и шли, шли уже много часов, и когда поднялись выше линии леса, я почувствовал, что голова у меня кружится и в глазах двоится. Время от времени мы останавливались, чтобы я мог отдышаться, но вождь не садился, а лишь некоторое время нетерпеливо переминался с ноги на ногу, а потом говорил:
— Идем, мой сын. Бывает пора, когда надо помедлить, а бывает пора, когда надо спешить.
И я вставал и тащился вслед за ним.
Только к концу дня мы поднялись на вершину. Это была единственная остроконечная вершина во всей гряде; наверху почти не было растительности — сплошные камни. Неподалёку я увидел снежного барана-толсторога; тот прыгал с уступа на уступ. А к западу, сколько видит глаз, всё были только горы и горы, ничего кроме гор, до самого солнца, низко висевшего над дальними вершинами. Никогда в жизни не видал я такого неба, такого огромного и такого чистого. Бездонно голубым оно было, словно сапфировый купол над головой, но только куполу, ему положен предел, а этому небу, ему предела не было. Оно было открытым во все стороны и бесконечным. Будь ты птицей, можно было бы лететь прямо вверх бесконечно, лететь быстро-быстро изо всех сил, и всё равно оставаться на одном месте…
Глядя на большой круг Вселенной, я почувствовал, что голова у меня больше не кружится, и дрожь в коленях прошла. Я шёл и в то же время оставался на месте, в самом центре Вселенной, где все сущее объясняется само собой, просто потому, что оно существует. И был ты на реке Жирной Травы или не был, и на чьей стороне, и остался ты в живых или погиб — не имело никакого значения.
Все мы были просто люди. Тут, на вершине, не существовало никаких различий.
Я повернулся к Старой Шкуре, чтобы сообщить, что понял смысл его слов, но он уже повернулся ко мне спиной, сбросил одеяло и, подставив своё старое изрезанное тело лучам заходящего солнца, закричал могучим голосом, который прозвучал, словно раскаты грома, мечущиеся от вершины к вершине:
— Хэй-хэй-хэй-хэй-хэй-хэй-хэй!
Это был знаменитый боевой клич Шайенов, и он бросал его в лицо вечности и делал это в последний раз. В его незрячих глазах стояли слезы, ибо он плакал от пронзительного счастья, которое испытывал в этот миг, и старое его тело била дрожь.
— Выходи и сразись со мной! — кричал он, — Сегодня хороший день, чтобы умереть!
Потом он рассмеялся, словно знал, что смерть в этот момент испугалась его и спряталась в своём типи.
Потом он принялся молиться Духу Вездесущему тем же громоподобным голосом, ничего не клянча и не канюча, с благородством и достоинством:
— Благодарю тебя за то, что создал меня Человеком! Благодарю тебя за то, что помог мне стать воином! Благодарю тебя за все мои победы и поражения! Благодарю, что даровал мне зрение, благодарю и за слепоту, в которой я увидел дальше…
Я убил много мужчин и любил много женщин, и съел много мяса. Голодным я тоже бывал и за это тоже благодарен, как благодарен за пищу, которая голодному вдвойне сладостна.
О, Великий Отец, ты сотворил все сущее на свете, ты наставляешь его, и теперь ты решил, что Людям скоро придется вступить на новую тропу. Благодарю тебя за победу, которую ты даровал нам прежде, чем это произойдет. Даже если моему народу суждено постепенно сойти с лица земли, всё равно он будет жить во всех, кто смел, дерзок и силён. И женщина, увидев мужчину, который храбр, горд и непокорен, даже если он бледнолицый, воскликнет: «Вот настоящий Человек!»
А теперь я собираюсь умереть, и если смерть не хочет начинать сражаться, я прошу тебя в последний раз даровать мне былую власть над ходом событий.
На соседней скале показался баран-толсторог, тот самый, что я видел раньше, а, может, и другой, с роскошными кручеными рогами; он повернулся и, казалось, взглянул на нас недоумённо. Но Старая Шкура Типи имел в виду, конечно, не это. Да он и не мог это видеть, и потому ещё раз издал боевой клич, и покуда клич этот звенел над горами, эхом отражаясь от скал, где-то на западе раздался в ответ раскат грома; и хрустально чистое небо вдруг затянуло тёмными тучами, они закрыли солнце и чёрной громадой понеслись на нас.
Я стоял, объятый ужасом, и тут Старая Шкура Типи запел, и когда тучи оказались у нас над головой, в его лицо, обращённое к небу, ударили потоки дождя, смешавшись со слезами счастья.
Может, это длилось минуту, а может, час, но потом дождь прекратился, и когда косые лучи заходящего солнца прорезали у горизонта пелену туч, вождь вознёс к небу последние слова благодарности и свою последнюю мольбу:
— Прошу тебя, храни этого моего сына, — сказал он, — и не дай ему сойти с ума.
Потом он лёг на мокрые камни и в тот же миг умер. Я спустился ниже, туда, где начинался лес; принёс несколько жердей и соорудил ему погребальный помост. Я завернул тело в одеяло и уложил на этот помост.
Потом немного постоял в молчании.
Потом начал спускаться вниз.
Эпилог
Достигнув этой точки в своем повествовании, Джек Крэбб вскоре и сам отошёл в мир иной, о чём я подробно рассказал в «Предисловии». Остаётся лишь сожалеть, что нам уже никогда не услышать отчета о последующих годах его жизни, о которых в процессе общения с ним у меня сложилось представление, что они были не менее удивительны, чем первые тридцать четыре года. Целый ряд его замечаний, всегда очень эмоциональных, позволил мне заключить, что в дальнейшем Джек Крэбб какое-то время гастролировал с аттракционом «Дикий Запад» под руководством ныне покойного Уильяма Ф. Коди по кличке «Буффало Билл». Не исключено, что в составе этой труппы он побывал в Европе. И если я правильно истолковал некоторые из его туманных намеков, он, вероятно, добрался до самой Венеции, где был сфотографирован на борту гондолы в компании индейцев-Лакотов.
В последующие годы он, по-видимому, посетил Сандвичевы острова, ныне именуемые Гавайскими, где проявил живейший интерес к тамошним островитянкам, ещё не утратившим в те времена милого обычая купаться нагишом. Отдельные его реплики дали мне основание полагать, что в последние годы девятнадцатого и первые — двадцатого столетия он не обошёл своим вниманием и Латинскую Америку. При этом вскользь упоминались Гватемала, Куба, Мексика — причём, преимущественно эпохи революционных событий — хотя, как неоднократно и недвусмысленно заявлял сам м-р Крэбб, он был абсолютно лишен каких бы то ни было политических пристрастий.
Что, безусловно, столь же достойно сожаления, сколь и его очевидная готовность оправдывать насилие — как в отдельных его проявлениях, так и вообще — от чего я считаю своим долгом решительно отмежеваться. В конце концов, я белый человек и как таковой глубоко убежден, что добро и разум неизбежно восторжествуют, и лев возлежит рядом с ягненком — если позволено будет мне, атеисту, воспользоваться оборотом речи, более подобающим человеку верующему, дабы выразить свое нравственное кредо. Я сформулировал его как-то раз в беседе с Джеком Крэббом, и его ответ заставил меня содрогнуться: «Ну, пусть возляжет, отчего же не возлечь? Только одним ягненком тут не обойтись, сынок — придется периодически подбрасывать свеженького»…
Вне всякого сомнения, Джек Крэбб был человеком грубым, циничным, неразборчивым в средствах, а при случае жестоким и безжалостным. Предлагая вниманию читателя его жизнеописание, хоть и неполное, я никоим образом не могу рекомендовать его натурам чрезмерно впечатлительным. Этого человека следует рассматривать как продукт определенной эпохи, определённых обстоятельств и как дитя своей страны. Да, сэр именно такие люди отодвигали границы нашей страны все дальше на запад, покуда она не слилась со сверкающим океаном…
В заключение, однако, я должен честно признаться вам кое в чём. Дело в том, что до самого конца я так и не смог ответить сам себе на вопрос: в какой степени рассказ мистера Крэбба можно принимать на веру? Не раз и не два в холодном поту вскакивал я с постели посреди ночи, мучимый страшным подозрением, что всё это мистификация, что меня примитивно надули — вскакивал, бросался к своему рабочему столу, извлекал рукопись и, обхватив голову руками, сидел над нею до утра.
Безусловно, трудно поверить, что жизнь одного человека могла вместить хотя бы треть того, о чём поведал мистер Крэбб. Половину? Невероятно! Все?! Да у него просто мифомания!
Но вместе с тем, знакомясь с его повестью, вы непременно убедитесь, как убедился в этом я, что, если принять за правду какую-либо одну её часть, то вдруг обнаружишь — всё, что ей предшествует, и всё, что следует за нею, звучит отнюдь не менее правдоподобно. Скажем, если допустить, что Джек Крэбб знал лично Билла Хикока — Бешеного Билла — то отчего бы ему было не знать генерала Кастера?
Та же «цепная реакция» будет иметь место, если любой изложенный им факт подвергнуть сомнению, ибо тогда возникает резонный вопрос: а почему, собственно, следует верить всему остальному?..
Могу засвидетельствовать, что везде, где мистер Крэбб указывает конкретные даты, имена, населенные пункты и географические названия, он поразительно, до неправдоподобия точен — я обратился ко всем доступным источникам, проверил и перепроверил всё, что поддавалось проверке, и многократно убедился в этом. Есть у него, правда, и неточности: согласно самым авторитетным источникам, единственного негра, принимавшего участие в битве при Литтл Бигхорн, звали Исайя Дорман, но, заметьте, он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО раньше жил у Лакотов и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО был убит, выполняя задание в составе отряда, которым командовал майор Рино. Далее, в списках личного состава Седьмого Кавалерийского полка сержант по фамилии Боттс не значится, однако в смертном реестре этой части находим имя сержанта Эдварда Ботцера. Что же касается утверждения, будто Неистовая Лошадь, вождь Лакотов, якобы, не носил убора из перьев — мы убеждены, что оно является ошибочным. Этот боевой убор, как упоминалось в «Предисловии», хранится в настоящее время в моей личной коллекции; лицо же, продавшее мне его, вне каких бы то ни было подозрений. Ну, и так далее… Лишь одного имени не удалось мне обнаружить ни в одном списке, ни в одном реестре, ни в одном архиве… Тщетно перелистывали бы вы все три тысячи томов моей библиотеки, посвящённых освоению Дикого Запада; тщетно перебрали бы сотни газетных вырезок, писем, журналов. Тщетно, как и я, искали бы вы хоть беглого упоминания о нём, хотя речь идёт не о какой-то заурядной личности, а об уникальном человеке, который, согласно его собственным словам, был участником величайших событий и творцом ярчайших страниц истории Американского Запада. Вы, конечно, поняли, кого я имею в виду. Да, Джека Крэбба. Что ж, дорогой читатель, расставаясь с тобой, я предоставлю тебе самому решать, кем же был, в конце концов, этот человек: самым незаслуженно забытым из всех героев этой страны или мистификатором фантастического масштаба.
Как бы то ни было, да ниспошлет Дух Вездесущий милость свою душе его, и твоей душе, и моей…
Ральф Филдинг Спелл
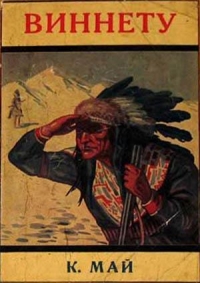
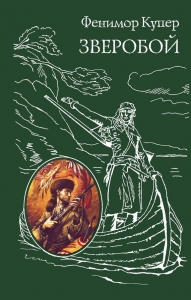
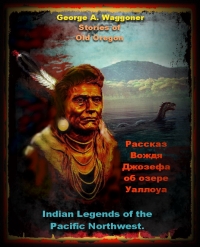






Комментарии к книге «Маленький Большой человек», Томас Бергер
Всего 0 комментариев