Анджей Стасюк На пути в Бабадаг
М.
Ангелы и демоны периферии
Я ждал эту книгу несколько последних лет — целых три или четыре года. С тех пор как мы с ее автором начали вместе путешествовать. Автора звали Анджей Стасюк, а книга, которую я столько ждал, называлась «На пути в Бабадаг» […] В названии чувствуется что-то венгерское, хоть на самом деле Бабадаг — это городок на юге Румынии и в его названии отразилась Османская империя вместе с турецким игом. Говорят, будто в книжных магазинах Польши эту книгу часто спрашивают как «Дорогу на Багдад», ошибочно считая, что Анджей Стасюк написал о войне в Ираке. Упомянутая ошибка тем не менее никоим образом не причастна к факту, что эта в твердом оранжевом переплете вещь уже стала бестселлером года. Анджей Стасюк — мой любимый польский писатель. После того как мы с ним написали и издали «Мою Европу», он все равно продолжал ее писать, то есть продолжал вести свою в ней часть, свой «Судовой журнал». Иными словами, он продолжал ее жизнь. И эта жизнь стала «Бабадагом». Живет он таким образом, что летом преимущественно путешествует, а пишет преимущественно зимой, когда снега белой непроходимостью заметают его дом в горах Малого Бескида и можно неделями не отходить от письменного стола, путая быстротечные полутемные дни с длинными кромешными ночами, — соотношение примерно восемьдесят к двадцати в пользу ночей. Вот тогда он и просматривает свою центрально-европейскую коллекцию: собранные за лето монеты и банкноты в виде румынских леев, хорватских кун, венгерских форинтов или албанских леков, все эти национально весомые имена и лица на аверсах. Или, скажем, наугад тянется рукой к пластмассовой коробке с тысячью фотоснимков. Или просто листает собственный паспорт, количество пограничных штемпелей в котором достигло 167. Это поэзия знаков обреченного на исчезновение мира. И банкноты, и штемпели — это поэзия. Стасюк пишет преимущественно ночью, когда «все уплывает, исчезает, прикрытое черным небом», когда остаешься один. То что он пишет ночью, является экзерсисом весьма обманчивым, ночь иллюзорно приближает к космосу, побуждает к подозрительным разговорам о вечном. Все, что пишется ночью, кажется гениальным — до тех пор, пока его не перечитаешь днем. И только Стасюк может себе позволить эти ночные сеансы. Очевидно, из-за того, что может не отделять вечное от преходящего, тем более не противопоставляя их. Польские СМИ характеризуют «Бабадаг» как «документальную литературу». Что это такое […] — дорожные заметки, очерки, репортажи, наброски, эссе? Думаю, все вместе и в то же время нечто намного более универсальное, новый стасюковский жанр. Ибо это действительно не литература, а мания. Его тянет на восток и немного на юг. Его привлекают страны за Конечной. Конечная — это пропускной пункт на польско-словацкой границе, в нескольких километрах от его дома […]. С нее все начинается, и ею все заканчивается. Стасюк предпочитает страны за перевалами, а все польские перевалы расположены на юге. Поэтому выбор Стасюка — это Венгрия, Румыния, Словакия, Албания, Молдова, запустение, сладковатый привкус августа, грязь, лень, дрема. Все, что рассыпается на глазах, так ничем и не став (поскольку в действительности и не хотело ничем становиться!): «легкий бардак, сонный беспорядок, остатки начатого, воспоминания о неоконченном, склады вещей, медленно превращающиеся в помойки, полиэтилен, компост, падалица, куриные загончики, бурьян, протоптанные тропки, какое-то вечное настоящее, на мгновение присевшее в тени орехов и черешен». И неизменные мужчины, которые средь белого дня стоят на улицах ничего не делая, просто в ожидании неизвестно чего. Стасюка не слишком интересуют реальные политические разделы — то, что одни из этих стран уже как будто «внутри», то есть спасены, а другие уже как будто «вне», то есть пропащие. Его собственный водораздел географическо-лирический, он проходит примерно по двадцать первому градусу восточной долготы […]. Возможно, это пространство объединено цитатами. Возможно, цыганами. Именно они в своих снах первыми увидели «Европу без границ». Возможно, мир Стасюка объединяет аутсайдерство, отстраненность от Большого Мира […]. Эта книга монотонна, как монотонны ландшафты этой части мира, — даже если они гористы, то это особая монотонность гор, что уж тут говорить о равнинах! Эта книга построена исключительно на повторениях видений и прозрений, ее видения рифмуются, а прозрения попадают в такт трансильванской музыки. В отличие от обычных путешественников, Стасюк ищет не отличия, а сходства. Своего рода тончайшая галантность дорожного наблюдателя — радоваться одинаковости. Писатель сам ставит себе диагноз: «склонность к периферии, тяга к провинции, извращенная страсть ко всему исчезающему, рассеивающемуся и разрушающемуся». Например, к островным пристаням в дельте Дуная, куда не чаще двух раз в неделю прибывает паром, к поросшим травой гостиницам с названием «Европолис», к серо-желтым пейзажам с руинами бетонных бункеров. Да, все это исчезает и исчезнет, выцветет и вытрется, словно молдавские дензнаки. Противостоять этому невозможно, но вполне возможно с этим по крайней мере жить. Подобно двум неизвестным игрокам в карты, которые где-то посередине этих периферий мира, наверное, и по сей день сидят под орехом среди настоящего поля: «Серые и мятые, как большинство мужчин в этих краях, но героически сопротивляющиеся натиску пространства и бесконечности часов. Хрупкая абстракция игры защищала их от бренности. Черт его знает, может, в сумерках они зажигали какой-нибудь огарок или карты у них были крапленые, и в темноте они нащупывали черви, пики и трефы». Но пока тьма не наступила, запомним их такими, какие они есть. Они играют в карты, заполняя жизнь ожиданием смерти и бесконечной монотонностью подкидного на двоих — среди жаркой пыли лета, на высохшей траве, под орехом, где-нибудь в пригородах Бабадага, Орхея, Бая-Маре, Матесалки или Коломыи.
Юрий Андрухович
Этот страх
Да, дело только в этом страхе, этих поисках, следах, историях, которыми пытаешься заслонить недосягаемую линию горизонта. Снова ночь, и все уплывает, исчезает, прикрытое черным небом. Я один и вынужден воскрешать в памяти события, чтобы противостоять страху бесконечности. Душа исчезает в пространстве, словно капля в морской пучине, а я чересчур труслив, чтобы в это поверить, чересчур стар, чтобы смириться с утратой, и полагаю, что лишь зримое позволяет познать покой, что лишь тело мира даст прибежище моему телу. Я бы хотел, чтобы меня похоронили во всех тех местах, где я был и где еще побываю. Голова — среди зеленых холмов Земплина, сердце — где-нибудь в Семиградье, правая ладонь — в Черной Горе, левая — в Спишской-Беле, зрение на Буковине, обоняние в Решинари, мысли, пожалуй, где-нибудь здесь… Вот я фантазирую сегодня ночью, а в темноте шумит поток, и оттепель смывает белые пятна снега. Вспоминаю прежние времена, когда столь многие отправлялись в путь, произнося названия далеких городов точно заклинания: Париж, Лондон, Берлин, Нью-Йорк, Сидней… Мне они казались точками на карте, красными или черными кружочками, затерявшимися в зеленой и голубой беспредельности. Звуки как таковые никогда меня не прельщали. Их истории были фикцией. Они заполняли время и убивали скуку. В ту давнюю эпоху любое серьезное путешествие напоминало побег. Попахивало истерией и отчаянием.
Однажды летом восемьдесят третьего или восемьдесят четвертого я добрался автостопом до Слубице и на другом берегу реки увидел Франкфурт.[1] Вечерело. Над водой висел влажный сизый воздух. Гэдээровские высотки и фабричные трубы выглядели мрачными и нереальными. Казалось, лучи бурого солнца вот-вот померкнут. Тот берег был абсолютно мертв и неподвижен, будто догорал после большого пожара. Только река пахла привычно — гнилью, распадом, рыбьей илистостью, — но я был уверен, что там, по ту сторону, сей дивный запах внезапно обрывается. Во всяком случае, я повернул назад и в тот же вечер снова вышел на шоссе, чтобы двинуться на восток. Точно пес — обнюхал чужую территорию и отправился восвояси.
Паспорта, правда, у меня тогда все равно не было, — но я и не собирался его получать. Сочетание слов «свобода» и «паспорт» казалось элегантным, но совершенно неубедительным. Однозначность «паспорта» противоречила «свободе», которая ведь однозначности как раз не предполагает. Возможно, в окрестностях Гожува я пришел к выводу: свобода или есть, или ее нет, вот и все. Мне просто хватало собственной страны, поскольку я не интересовался ее границами. Я жил внутри нее, в ее сердцевине, и сердцевина эта перемещалась вместе со мной. Я ничего не требовал от пространства и ничего от него не ждал. Выходил из дому затемно и садился в желто-синий поезд на Жирардов. Он уходил с Восточного вокзала, проезжал центр, за окнами разматывались золотые и серебряные ленты фонарей. В вагоне делалось все более тесно. Мужчины в потертых пиджаках. Почти все выходили в Урсусе и направлялись к ледяному зареву фабрики. Десятки, сотни темных фигур, едва различимых во мраке и лишь за воротами озаренных ртутным сиянием, словно при входе в гигантский храм. Я оставался почти один. Пассажиры начинали подсаживаться где-нибудь в Миланувеке, в Гродзиско, на этот раз больше женщины, потому что Жирардов — это означало текстильное производство, ткацкие, швейные мастерские и тому подобное. Черный табак, кислый полиэтиленовый запах пакетов с бутербродами смешивались с ароматом дешевых духов и мыла. Ночь отрывалась от земли, и в раздвигающейся расселине дня показывались хибарки путевых обходчиков, встававших по стойке смирно со своими оранжевыми флажками, коровы, по брюхо погруженные в туман, и последние забытые огоньки в окнах. Жирардов был красный и кирпичный. Я выходил вместе со всеми. Бездельник, я совершал эти поездки словно бы в честь тех, кто вынужден вставать затемно, ибо без этих людей мир обратился бы в феерию красок или метеорологический сюжет. Я пил крепкий чай в вокзальном буфете и отправлялся обратно, чтобы через день-другой двинуть на север или восток, на первый взгляд без всякой цели. Однажды летом я проехал без остановок семьдесят два часа. Разговаривал с водителями грузовиков. Их речь в кабинах звучала, словно изливающиеся из бездны грандиозные неспешные монологи, — сказывались усталость и бессонница. Пейзаж за окном то приближался, то удалялся, и в конце концов застыл, замер, точно время наконец перестало сопротивляться. Рассвет на обочине где-то в Пуцке и протянувшиеся над заливом узкие облака, из-под которых выскальзывало светлое острие занимающегося дня, и холодный запах моря, пронизанный скрипучими голосами чаек. Очень может быть, что я добрался тогда до самого берега, очень может быть, что поспал пару часов где-нибудь на обочине, а потом появился фургон, и мужик сказал, что едет на другой конец страны, на юг, и это оказалось в сто раз заманчивее скуки приливов и отливов, а потому я залез в кузов и, завернувшись в одеяло, дремал под хлопающим брезентом, и в полусне пейзажи прежних путешествий перемежались фантасмагориями, словно я смотрел на то, что видит кто-то другой. Варшава промелькнула, будто чужой город, и сердце мое не дрогнуло.[2] С дощатого пола поднималась пыль и скрипела на зубах. Я колесил по стране, словно по неизведанной земле. Terra incognita от Радома до Сандомира. Небо, деревья, дома, земля — все это могло находиться в другой точке планеты. Я перемещался в пространстве, лишенном истории, прошлого, достижений, о которых стоило бы вспомнить. Я был первым человеком где-то у подножия Пепшовых гор, и все свершалось на моих глазах. Время трогалось с места, а вещи и пейзажи начинали стареть не ранее чем их касался мой взгляд. За Тарнобжегом я постучал в железную стенку кабины. Меня потрясли масштабы серного карьера, и я решил выйти. На дне пропасти стояли гигантские экскаваторы. Мне было наплевать, откуда они там взялись. Да хоть с неба упали, чтобы вгрызться в землю, пронзить ее, прокопать насквозь, до антиподов, откуда через гигантскую шахту хлынет масса воды и затопит все, оставив по ту сторону пустыню. Адский смрад висел над окрестностями, а я не мог отвести глаз от чудовищной ямы, мертвенность которой наводила на мысли о могиле, груде тел, холодной преисподней. Никакого движения. Возможно, было воскресенье, если это место вообще подчинялось календарю.
Короче, не Польшей или какой-нибудь другой страной была та цепь картин — она была поводом. Вполне возможно, что человек ощущает свое бытие лишь в те моменты, когда его кожа соприкасается с безымянным пространством, связующим нас с прадавними временами, со всеми умершими, с доисторической эпохой, когда разум еще только отделялся от мира и не успел осознать собственное сиротство. Выстави ладонь в окно грузовика, и меж пальцев потечет древность. Да, это была не Польша, это было первобытное одиночество. Это могли быть Тимбукту или Кейп-Код. Справа Баранов, «жемчужина Ренессанса», я проезжал там, наверное, раз десять, и в голову не приходило задержаться и подойти поближе. Все места были хороши, поскольку я мог покинуть их без сожаления. Они даже не нуждались в названиях. Сплошные траты, неустанные потери, неслыханная расточительность, карнавал, рассып, мотовство и никаких признаков накопления. Утром Балтика, вечером — лесистые берега Сана, мужики за кружкой пива в сельском баре, словно призраки, фантомы, застывшие при виде меня на полужесте. Такими я их запомнил, но с тем же успехом это могло случиться близ Легницы, или в сорока километрах к северо-востоку от Седльце годом раньше, или позже, в какой-нибудь деревне. Мы жгли костер, а из тьмы являлись деревенские парни, которые, вероятно, впервые видели постороннее лицо. Мы были для них чем-то нереальным, и они для нас тоже. Они стояли, смотрели, в темноте поблескивали массивные пряжки поясов в форме бычьей головы или скрещенных кольтов. Потом они присаживались рядом, но разговор напоминал галлюцинацию, и даже принесенное ими вино не вернуло нас на землю. На рассвете они встали и ушли. Возможно, через день или два я десять часов проторчал в Злочове, и никто меня не брал. Помню живую изгородь и каменные перила мостика, хотя за первое не поручусь — возможно, живая изгородь была в другом месте, как и большая часть того, что живет в моей памяти, потому что я его запомнил, вырвал из пейзажа, навсегда сложив собственную карту, собственную фантастическую географию.
А однажды я ехал в Познань в открытом кузове «стара». Шофер крикнул: «Залезай, только поосторожней с рыбой!» Я лежал среди огромных полиэтиленовых пакетов, наполненных водой. Внутри плавали рыбешки размером с ноготь. Сотни, тысячи рыбок. Вода была ледяная, и мне пришлось завернуться в одеяло. Во Вжещно рыбы свернули к Гнезно, и я остался один, на рассвете, на пустом шоссе. Солнце еще не взошло, и было холодно. Не исключено, что я ехал через Познань во Вроцлав. Вероятно, затем, чтобы через день-другой двинуть к берегам Балтики или в Бещады. Если это был второй вариант, то где-то на берегу Ославы я увидел посреди леса голого мужчину. Он стоял в воде и мылся. При моем появлении он просто отвернулся. А если все же Балтика, значит, кажется, Ястшембя Гура и вечер, пустынный пляж, я иду босиком к Карве и на фоне алого неба вижу черные мегалиты Стоунхенджа. Ночевать мне негде, и эти руины появляются словно по мановению волшебной палочки. Из досок, фанеры и толстой ткани. В те времена подобное иногда случалось. Кто-то построил и бросил — вероятно, телевизионщики. Через дыру я заполз в одну из вертикальных скал и уснул.
Словацкая «двухсотка»
Лучшая моя карта — словацкая «двухсотка». Настолько подробная, что однажды помогла мне выбраться из бесконечных кукурузных полей где-то у подножия гор Земплин. На огромном, охватывающем всю страну полотнище обозначены даже полевые тропки. Карта рваная и потрепанная. Кое-где сквозь плоскую картину земли и немногочисленных вод проглядывает небытие. Но я всегда беру ее с собой, хотя она неудобная и занимает много места. Это своего рода магический ритуал, ведь дорогу в Кошице и дальше, на Шаторальяхелей, я, по сути, знаю наизусть. Однако карту с собой беру, потому что меня интересует именно ее распад, старение. Сперва она протерлась на сгибах. Разрывы и заломы образовали новую сетку, гораздо более отчетливую, нежели тонкие голубые линии, нанесенные картографами. Города и деревни постепенно прекращают свое существование, изнашиваются при складывании и раскладывании, при заталкивании в укромные уголки машины или рюкзака. Теряется Михаловце, теряется Стропков, дырявое небытие завладевает пригородами Ужгорода. Вот-вот исчезнет Гуменне, протрется Вранов-над-Топлёу и истлеет Циганд на берегу Тисы.
Собственно, я лишь пару лет назад начал рассматривать карты так внимательно. Раньше я воспринимал их как, скажем, декоративные элементы или анахронические символы, уцелевшие в эпоху конкретики и непосредственности экзотических репортажей без обиняков. Все началось с войны на Балканах. У нас все начинается с войны или же войной заканчивается, так что это в порядке вещей. Я просто хотел знать, во что целит артиллерия и на что смотрят летчики. В газетах, на картах-схемах, все выглядело слишком аккуратно и слишком стерильно: название местности и рядом стилизованная вспышка взрыва. Никаких рек, никакого рельефа, никакой топографии, признаков природы или цивилизации — лишь обнаженный топоним и взрыв. Мне надо было отыскать Воеводину, потом что это ближе всего. Мальчиков война всегда будоражит, даже если и ужасает. Красные огоньки вдоль Дуная — Белград, Батайница, Новый Сад, Вуковар, Сомбор — двадцать километров до венгерской границы и всего четыреста пятьдесят до моего дома. Лишь настоящая карта может заставить нас прислушиваться к далеким звукам. Ни телевидение, ни газета не в состоянии воспроизвести столь конкретную вещь, как расстояние.
Может поэтому ветшание моей словацкой карты сразу навело меня на мысли о ветшании как таковом. Красные огоньки вдоль Дуная начинают пожирать бумагу, огонь распространяется дальше, с Воеводины, из Баната изливается на Большую Венгерскую низменность, охватывает Семиградье, чтобы наконец перевалить через край Карпат.
Все это исчезнет, перегорит, будто лампочка, и останется лишь пустая сфера, которую заполнят новые формы, не представляющие для меня ни малейшего интереса, поскольку это будут все более испаскудившиеся версии повседневности, прикидывающейся праздником, и нищеты, вырядившейся роскошью, карнавальный бардак, помоечная мультипликация, пластик, моментально приходящий в негодность и при этом — подобно отходам и свалкам — практически вечный, разве что его поглотит пламя, ибо прочие стихии над ним не властны. Так я размышлял, пока мы ехали через Леордину, Вишеу-де-Жос, Вишеу-де-Сус по направлению к перевалу Прислоп. Машин на шоссе почти не было, но высыпали сотни людей. Они стояли, сидели, прогуливались, одетые празднично и торжественно. Выходили из своих деревянных домов, покрытых гонтовой чешуей, соединялись, как разрозненные капли соединяются в ручейки, и наконец широкой волной заливали обочины, асфальт, дно долины. Белые рубашки, темные платья и пиджаки, шляпы и платки. Через приоткрытые окна веяло нафталином, праздником и дешевыми духами. В Вишеу-де-Сус народу было столько, что нам пришлось почти остановиться, и люди протискивались справа и слева. Мы стояли на месте, но путешествие продолжалось. Праздничная гурьба все более поглощала нас, и это напоминало путешествие против течения времени. Никто ничего не продавал и не покупал. Во всяком случае, мы не видели. Вдалеке высился бурый массив Петросула. На вершине лежал снег. Был третий день православной Пасхи, и праздник символизировал плавную инерцию материи. Человеческие тела отдавались силе притяжения, словно стремясь вернуться к первоначальному состоянию, когда их дух еще пребывал на свободе, не трепетал, не пытался вылепить мерзостную оболочку по какому-никакому подобию.
За поселком Моисей мы остановились. На пустыре у шоссе сидели четыре деревенских старика. Они указывали куда-то вдаль, что-то демонстрируя нам на далеком лесистом склоне. Мы поняли, что там монастырь. Среди деревьев разглядели макушку колокольни. Старики просто сидели и смотрели в ту сторону, словно это сидение могло заменить праздничную литургию. Они уговаривали нас съездить туда. Но мы спешили. Оставили их, полулежащих, неподвижных, вглядывающихся и прислушивающихся. Возможно, они дожидались, пока заговорит колокол, пока что-то сдвинется с места в застывшем пространстве праздника.
Все это должно было исчезнуть. Ночью на главной улице в Гура Хуморулуй пятнадцатилетние подростки хотели продать нам немецкие номера. Уверяли, что те сняты с БМВ. Всему суждено было сгинуть и уподобиться остальному миру. Да, в мой первый румынский день на меня нахлынула вся печаль континента. Повсюду виделся упадок, и с трудом верилось в возрождение. Заправщик на бензоколонке в Симпулунге был вооружен. Он вынырнул из полумрака и жестами показывал, что ничем не может нам помочь. Но через километр обнаружилась еще одна заправка, сиявшая, словно карнавал посреди архаической ночи. Там могли помочь всем чем угодно, а «пистолеты» были засунуты в горлышки пластиковых бутылок от кока-колы. Подходили мужчины с парой канистр, потом уходили во тьму на поиски своего оцепеневшего транспорта.
За спиной у нас был Марамуреш. А также покрытый снегом и настом перевал и этот загорелый мужчина в старом «ауди» с немецкими номерами. Он открыл багажник и вынул из него детский мотоцикл, уменьшенную копию какого-нибудь «сузуки» или «кавасаки», потом посадил на него маленького мальчика и стал фотографировать. С перевала тянуло ледяным ветром, и кроме нас не было ни души. Одна лишь холодная великолепная пустота, солнце скатывалось в болота между Кареем и Сату-Маре, и я слышал щелканье затвора, у мальчика было серьезное лицо, красные щеки, а потом отец убрал игрушку, и они двинулись вниз, на запад, вероятно, домой. Мы тоже поехали, потому что на этом поднебесном юру деревенели руки и щипало щеки. Мы опускались по серпантинам в долину Быстрицы, в глубь темнеющего воздуха.
Теперь я вижу, как мало сумел запомнить, — в сущности, все события могли произойти где-нибудь в другом месте. Путешествие из страны короля Убю в страну вампира Дракулы не должно состоять из воспоминаний, в которые можно потом уверовать, как верят, скажем, в Париж, Стоунхендж или площадь Сан Марко. В конце концов, Сигетул-Мармацией больше всего походил на сон. Мы промчались через него без остановок, и мне нечего сказать о его форме, разве что он напоминал изысканную фикцию. Во всяком случае, закончился он очень быстро, на горизонте вновь встали зеленые горы, а меня моментально охватили сожаление и тоска. Точь-в-точь как после пробуждения, когда мы испытываем едва ощутимое желание вернуться в онирическую конфабуляцию, лишающую вольной воли и одаривающую взамен абсолютной свободой внезапности. Так случается в тех местах, которых редко касается взгляд чужака, глаз пришельца. Взгляд разглаживает вещи и пейзажи. Изнашивание и распад грозят именно с этой стороны. Мир, подобно старой карте, износится и протрется от избытка взглядов.
Мы въезжали в зону Синистра. Всем здесь заправляли горные стрелки, полковник Пую Боркан, а после его смерти Изольда Мавродин-Махмудиа, также имевшая звание полковника и сокращенно именовавшаяся Кокой. С перевала Баба-Ротунда открывался вид на хребет Поп-Иван, внизу ползла узкоколейка, работавшие на дровяном отоплении локомотивы. На груди жители Синистры носили жестяные медальоны. Каждый приезжий, застревавший здесь надолго, получал новое имя. Время от времени Кока устраивала под горой Поп-Иван засаду на Мустафу Муккермана, что возил на своем грузовике баранину откуда-то с Украины аж в Салоники или даже на Родос, но помимо баранины ему случалось перевозить в рефрижераторе тепло одетых людей. Поляки информировали Коку о планах Муккермана — трехсоткилограммового полутурка-полунемца. Разведенный денатурат здесь использовали для размачивания сушеных грибов, а пили, разбавляя забродившим соком лесных ягод. Матовые окна для синистринской тюрьмы изготовлял Габриель Дунка в своей мастерской: клал стекло в ящик с песком и часами топтал его босыми ногами. Был он тридцатисемилетним карликом. Однажды в дождливый день в его фургон забралась голая Эльвира Спиридон, и Дунка впервые в жизни ощутил запах женского тела, однако лояльность взяла верх над желанием, и он донес на женщину, которая попросту перепутала его машину с грузовиком Муккермана.
Все это якобы происходило за Сигетул-Мармацией и, вероятно, так и было. Но я прочитал об этом два года спустя в «Зоне Синистра» Адама Бодора,[3] и это преследует меня до сих пор. Преследует и заслоняет плоское пространство карты. Вновь зримое блекнет перед лицом рассказанного. Блекнет, но не исчезает окончательно. Лишь теряет четкость, утрачивает невыносимую очевидность. Это характерная черта подсобных стран, второстепенных народов и резервных племен. То мерцание, та удвоенная, утроенная фикция, кривое зеркало, волшебный фонарь, фатаморгана, фантастика и фантасмагория, что милосердно проскальзывает в зазор между тем, что есть, и тем, как быть должно. Та самоирония, что позволяет играть с собственной судьбой, передразнивать ее, обезьянничать, превращать злоключение в героикомическую легенду и перекраивать измышления на спасительный манер.
Там, где мы в конце концов заночевали, не было воды. Освещая дорогу фонарем, хозяин вел нас по холодным коридорам. Объяснял, что насос сломался, а механика — не то из Сучавы, не то из Ясс — ждут уже третью неделю. Объяснял, что живущий в этом доме человек — нездешний, приехал издалека, и от одиночества пьет местную дешевую водку, а потому не следит за домом, но механик, вероятно, скоро приедет.
Было холодно. Мы легли не раздеваясь, погасили свет, и в окно дохнуло румынской ночью. Я пытался уснуть, но вместо того, чтобы двигаться по течению времени и сна, мысленно все плыл вспять этого долгого дня, когда мы пересекали границу в Петя. На знойной равнине торчали черные вышки пограничников. Вскоре мы подъехали к Сату-Маре с его стенами, облупившимися от старости и жары, тенью огромных деревьев, которыми обсажены улицы, и куполами церкви в перспективе длинных зеленых коридоров. Венгрия же осталась позади, позади осталась низинная печаль Эрдёхата, и, хотя по другую сторону границы земля была такой же плоской, я явственно ощущал разницу, ощущал в воздухе иной запах, а небо с каждым километром пылало все беспощаднее. Далекая тень Карпат на горизонте ограничивала это сияние, замыкала его, и мы ехали в густой сверкающей взвеси. По шоссе катили конные повозки. Животные лоснились от пота. На крыше допотопного автомобиля высилась пирамида мешков, набитых овечьей шерстью. Человеческие тела были темные и блестящие. Дул ветер. Возможно, поэтому дома на гигантской равнине казались столь убогими и непрочными.
Я лежал в холодной комнате и припоминал все это, как теперь пытаюсь вспомнить ту холодную комнату и затем утро, когда я встал и вышел во двор, обнаружив, что ночью подморозило и теперь остатки инея исчезали в солнечных пятнах. Люди шли с ведрами к колодцам и разглядывали меня, делая вид, что вовсе не смотрят, что заняты своими делами, ослеплены сиянием занимающегося дня. Теперь я вспоминаю все это и понимаю, что именно там, к примеру, могла начинаться какая-нибудь повесть. Например: «В тот день, когда я видел отца в последний раз, потому что трое мужчин усадили его в машину и куда-то увезли, в тот день я прикоснулся к груди Андреи Нопритц». Или: «В тот день Гизелла Вайс отправилась в путь, все ее нахваливали. Даже великий товарищ Онага заглянул ей глубоко в глаза, произнес: Вот это я понимаю. У вас, товарищ, превосходные намерения и достойные планы». Итак, в тот день, в то утро, мог появиться мужчина, сломавший насос. Мог прийти по узкой сельской улочке, по обе стороны которой тянулись деревянные заборы, и поинтересоваться, что, собственно, я делаю возле дома, где он живет. С опухшей физиономией, воспаленными глазами, в мятой одежде, точно буковинский Джеффри Фирмин,[4] небрежно облокотясь на штакетник, он мог начать выяснять, какого черта меня занесло в эту, скажем, Петрешть-де-Жос или Петрешть-де-Сус, в его дом, и по какому праву я лицезрею его в таком виде в полседьмого утра, а через забор смотрят онемеченные поляки, румынизированные немцы, ополяченные украинцы, все эти пограничные гибриды, идеал поборников мультикульти… Словом, мог родиться циничный монолог или нервозный диалог, родиться из позвякивания ведер у колодцев, из всех этих утренних звуков, характерных для захолустья — кудахтанья кур, ударов топора, ошлепывания, охлопывания коровьих задов, — а в шесть тридцать пять по дну долины прокатился бы ржавый пассажирский поезд на Сучаву. Отличный зачин, завязка повести и судьбы, путешествие против течения времени, когда события становятся ярче по мере того, как отодвигаются от сегодняшнего дня. Но хозяин сломанного насоса не появился, и жизнь его осталась в сфере домыслов, то есть абсолютной свободы.
А я подошел к реальному человеку, который спокойно стоял за своим забором и курил. Мы разговорились. Пассажирский на Сучаву действительно прокатился по дну долины. Мужчине было около шестидесяти — грузный, одетый в застиранный диагоналевый костюм. В жизни я встретил множество похожих на него мужчин. Дым его папиросы голубел, серел, а затем таял. Мужчина оказался словоохотлив. Я слушал и поддакивал. Он говорил, что теперь плохо, а когда правил Чаушеску, было лучше, тогда, мол, была справедливость, потому что были равенство, работа и порядок на улицах. Эти речи я знал наизусть, однако затаив дыхание слушал снова: удивительно — мы так далеко от дома, а все так похоже. Он рассказывал о ночных визитах Секуритате и тут же — о закрывшихся в последнее время фабриках. Я спросил, знал ли он об этом пресловутом переселении, о том, что семь тысяч деревень готовились исчезнуть с лица земли, а их жители — перебраться в бетонные дома. Да, знал и даже видел самолеты, с которых производили фотосъемку, когда планировали всю операцию, но, мол, нет такой цены, которую не стоило бы заплатить за справедливость или равенство. В общем, я промолчал, да и что мне было возражать — появившемуся тут, у забора, как наглядный пример неравенства; я появился и уеду, как только захочу, оставив этого старика в потертом костюме, с догорающей в пальцах дешевой папиросой, на ухабистой дороге меж красивых старых деревянных домов, по прихоти истории уцелевших, хотя их жители вовсе не так уж сильно этого желали. И я промолчал. Слушал про ностальгию по диктатору. Власть имеет обыкновение являться нам в конкретном воплощении, и этот реальный облик стоит за гранью добра и зла. Все мы — осиротевшие дети какого-нибудь императора или диктатора. Я угостил собеседника «Собески супер лайт». Солнце поднималось над зеленой линией холмов, а я чувствовал, что моя свобода передвижения, приезда, и отъезда ни хрена тут не значит и ничего не стоит.
Мы распрощались, и я отправился за ведром — набрать воды из колодца.
Ночь, идет дождь, и я в который раз вспоминаю все это. Адам Бодор и Синистра прозрачной пленкой накладываются на реальные Марамуреш и Буковину, и то, и другое покрывается сквозистой и живой материей моих мыслей, моей любви и моего страха. Просто Синистра не дает мне уснуть. На полке бок о бок стоят «История Украины», «История Болгарии», «История Венгрии», множество более мелких и совсем крохотных историй, а также «История Словакии» и «Румыны» Элиаде, но толку от них никакого. Я читаю все это перед сном и в конце концов засыпаю, но еще ни разу мне не приснился ни Янош Хуньяди,[5] ни император Фердинанд, ни Василе Николае Урсу по прозвищу Хория,[6] ни Влад III Дракула, ни ксендз Глинка,[7] ни Тарас Шевченко. В лучшем случае снится весьма загадочная зона Синистра. Какие-то мундиры несуществующих армий и древние войны, в которых никто не погибает по-настоящему. Снятся белые известковые руины и усатые стражи границ, по пересечении которых меняется все и одновременно не меняется ничего. Мне снятся купюры с портретами героев на одной стороне и пейзажами романтических захолустий — на другой. И монеты мне тоже снятся. И пачки из-под сигарет, каких я никогда не курил. Мне снятся бензоколонки на равнинах — непременно похожие на ту, в пригороде Словенски-Нове-Место, — и снится «Ред Булл» с надписью: «… specialne vyvinuty pre obdobie zvysenej psychickej alebo fyzyckej namahy».[8] Мне снятся полусгнившие вышки пограничников на пустырях и велосипедисты, передвигающиеся на ржавых велосипедах по холмистому пейзажу, от одной местности, название которой можно произнести по меньшей мере на трех языках, к другой, мне снятся конные упряжки и люди, и еда, и гибриды ландшафтов, и все прочее.
Да, дождь поливает все это места, поливает Марамуреш, сны, Синистру, поливает Спишске Подградье в тот день, пятницу 21 июля, когда мы остановились на грязной парковке на берегу Моргечанки. Одноэтажные здания тянулись вдоль одной-единственной улицы. Мы пошли вперед по узкому тротуару. Обнаружили желтую синагогу. Ее фронтон венчали четыре круглых медных купола. Сводчатые окна были черными и мертвыми. Казалось, они позаимствованы у какой-нибудь фабрики девятнадцатого века. В просвете между храмом и домами виднелись холмы и далекие башни Спишской Капитулы. Высоко над городком белели руины замка. Он был таким большим и светлым, что походил на некий метеорологический казус, угловатое нагромождение кучевых облаков или мираж, принесенный из давно канувшей в Лету страны. Проехала машина, потом еще одна. И все стихло. Серый зад «шкоды» исчезал в зеленой тени деревьев, словно во времени. Машина мчалась по туннелю, прорубленному в неподвижности. Шоссе пробивало себе путь сквозь городок, как сквозь гору, через глубинные чужие территории, милостиво давшие разрешение на транзит. Из невысокого углового дома вышла толстая смуглая женщина, выплеснула мыльную воду на асфальт и смыла все следы автомобилей. Сделав еще несколько шагов, я разглядел в низком открытом окне интерьер большой комнаты. Неоконченный ремонт. Через середину помещения тянулась свежая кирпичная кладка. Где-то в глубине дома мурлыкал телевизор. Голубые отсветы загорались и гасли в полумраке. Рядом с недостроенной стеной стоял бильярдный стол. Несколько шаров замерло посреди игры. Было слишком темно, и я не мог разглядеть их цвета. Только ощущал запах мокрой извести и гнили. Где-то за стеной, за темнотой, за бормотанием телевизора слышались возбужденные мужские голоса. Потом я увидел собеседников в узком просвете между домами. Мужчины спорили, стоя над перевернутой коляской. Один вращал обод колеса со спицами, другой качал головой и жестами показывал, что, мол, рухлядь, ничего не выйдет, надо делать заново. Они были смуглые, коренастые и живые, словно их тел не коснулась эта всеобщая неподвижность, словно они пребывали в ином пространстве, невесомом. Вероятно, так оно и было. Эти люди жили в бывшем еврейском квартале, на окраине словацкого городка, у подножия венгерского замка, и, чтобы существовать, чтобы не сгинуть, были вынуждены установить собственные законы, особую теорию относительности, правила гравитации, что удерживали их на поверхности земли и не давали затеряться в пустоте космоса, бездне забвения.
Мы вернулись к машине и двинулись дальше. Толстая женщина снова вышла из своего дома с тазом, наполненным мыльной воды. Моргечанка текла внизу справа. Слева вздымались скалы Древеника. За городом, на вырубленных в склоне террасах, стояли их дома. Уже не чужие. Не старые, кем-то брошенные, а их собственные. Они напоминали детские рисунки — такие же незатейливые, маленькие и хрупкие. Они походили на идеи, едва начавшие воплощаться. Сооруженные из слегка окоренных сосновых кругляшей, по сути жердей, толщиной с мужскую руку, и покрытые двускатными смолистыми крышами. Столь незатейливые, что в них можно было разве что сидеть и пережидать время между двумя событиями. Они прилегали друг к другу, поднимались и громоздились, точно деревянное пуэбло. Из тонких труб тянуло смолистым дымом. Хаос двориков, склад старья, живая, спутанная материя изношенных, мертвых на вид вещей покрывала землю, как постиндустриальная растительность. Невозможно было понять, это первый их день здесь или последний. Внизу, у тенистой дороги, играли дети. Взрослые стояли и обсуждали свои дела, а может, чужаков, наведывающихся сюда время от времени. Здесь все принадлежало им. Я и не предполагал, что пространством можно столь однозначно и бесповоротно завладеть, не нанося ему при этом ущерба. Чуть дальше, совсем одна, стояла девушка в красном платье. Кажется, очень красивая. Она смотрела куда-то вбок, в сторону, где ничего не происходило. Я видел ее мгновение, а потом красный огонек померк в зеркальце заднего вида.
Решинари
«…Грязные и безмятежные, мы должны были бы держаться общества животных, прозябать подле них в течение еще нескольких тысячелетий, вдыхать запах хлева, а не лабораторий, умирать от болезней, а не от лекарств, вращаться вокруг пустоты и тихо в нее погружаться».[9]
Целый день дул южный ветер. Под синей эмалью неба сухой свет очерчивал вокруг предметов черные контуры. В такие дни мир отчетлив, будто вырезанный из бумаги силуэт. Невозможно смотреть в одну точку — слепнешь. Воздух приносит свет, к которому мы здесь не привыкли. Африканское, средиземноморское сияние переливается через карпатский хребет и обрушивается на деревню. Пейзаж гол и прозрачен. Среди безлиственных ветвей видны покинутые птичьи гнезда. Высоко по кромке порыжевших лугов движется стадо коров. Оно вот-вот исчезнет в лесу. Там тихо, темно и стелется зеленая ежевика. Звери отступают на несколько тысяч лет назад, покидают наше общество и вновь становятся собой до тех пор, пока спустя день-другой кто-нибудь их не найдет и не пригонит обратно.
«…Мы должны были бы держаться общества животных, прозябать подле них…». Я прочитал эту фразу в июле. А в августе поехал на поиски родной деревни Эмиля Чорана. Я никогда не признавал, что мысль абстрактна, и мне необходимо было отправиться в Решинари. Через Горганы, через украинскую и румынскую Буковину, через Клуж и Сибиу я добрался до южной оконечности Семиградья. Сразу за околицей вырастали Карпаты. Буквально. Шагаешь по плоской земле — и вдруг начинаешь карабкаться по козьим тропам, каждые несколько десятков шагов останавливаясь и переводя дыхание. На севере в сизой мгле лежала Трансильвания. Нагретые луга на кручах над Решинари пахли коровьим навозом. Дождя не было уже много дней, и земля отдавала накопившиеся запахи.
В один из вечеров мы увидели, как скот возвращается с пастбищ. По шоссе от Палтиниса в красных лучах солнца двигались сотни коров и коз. От стад исходили тепло и смрад. Седые коровы с раскидистыми рогами шли впереди. Хозяева стояли у открытых ворот и ждали. Все происходило в тишине — ни окриков, ни поторапливаний. То одно, то другое животное отделялось от стада и заходило в свой загон. Исчезало в полумраке тенистого дворика, и резные створки закрывались за ним, точь-в-точь как за человеком. Гигантские черные буйволы лоснились металлическим блеском. На один их шаг приходилось полтора коровьих. Было в них что-то жуткое и дьявольское. Влажные щетинистые морды ассоциировались с некоей экзотической и сладострастной мифологией. В самом конце мелкой трусцой семенили козы. Пестрые и подвижные. Козий дух витал над растянувшимся длинной полосой стадом. Асфальт блестел от коровьих брызг.
Это было Решинари, место, где родился и провел первые десять лет жизни Эмиль Чоран. Солнце вертикальными лучами освещало мощеные улочки, пастельные дома, красную чешую черепицы и извлекало на поверхность древнейшие запахи. Сначала я не понимал, что это, что витает в воздухе, чем пропитаны стены, тела прохожих и кузова старых машин. Лишь потом, спустя несколько дней, сообразил: это смесь звериных запахов. Из закрытых дворов тянуло свиным навозом. Земля между булыжниками столетиями хранила конскую мочу, струи запаха конюшен тянулись за бесконечными повозками, с полонии лился душный воздух пастбищ, по водосточным канавам сочилась навозная жижа из хлевов и коровников, а в реке я разглядел однажды разодранные кишки. Течение подхватило переливающееся красное пятно и потащило куда-то в сторону Сибиу. Горный ветер приносил пронзительный, резкий аромат овечьих кошар — смесь растоптанных семян, липкого жирного руна и высохших, словно каменных, зеленоватых горошин. И лишь изредка поднималась струйка елового дыма, нитка аромата луковой поджарки или бензиновое облачко выхлопных газов.
«…Зачем только я покинул эту деревню! В жизни не забуду тот день, даже тот час, когда отец увез меня оттуда. Мы ехали в двуколке, я плакал, всю дорогу плакал, потому что чувствовал: мой рай закончился навсегда».
Теперь из Решинари в Сибиу ходит трамвай. Он разворачивается на околице. Можно посидеть на ступеньках между баром и сапожной мастерской. В баре продают чистую водку, она отдает дрожжами, дешевая, тридцать шесть градусов. В ожидании трамвая кое-кто опрокидывает рюмочку-другую. Как, например, цыган, которого мы то и дело встречали в течение нескольких дней. Он ждал автобуса в Палтинис, шатался в окрестностях вокзала в Сибиу. На голове у него была черная фетровая шляпа, в руке, косовище со сложенной косой, а на плече — старый рюкзак. Был август, пора сенокосов, возможно, он попросту искал работу, но все не находил или не хотел найти, а потому убивал время и дожидался, пока все пройдет, закончится и можно будет куда-нибудь вернуться.
Утром и вечером мы заходили в бар на улице Николае Бальческу. Туда вело несколько ступенек. Внутри летали мухи и сидели мужчины. Мы пили кофе и бренди. С того же крыльца был вход в парикмахерскую со старомодным креслом. Парикмахерская работала допоздна, до десяти-одиннадцати, и кресло никогда не пустовало. Еще мы пили пиво, «Урсус» или «Сильву». На улице то и дело слышался стук конских копыт. В темноте иногда вспыхивали искры от подков. Каждая телега сзади имела номер. Магазины работали до ночи. Мы покупали салями, вино, хлеб, паприку и арбузы. Опускалась темнота, и магазины светились, будто теплые пещеры. Карманы у нас были набиты купюрами по тысяче леев с Михаилом Эминеску и монетами по сто леев с Михаилом Храбрым.
«Сейчас я должен чувствовать себя европейцем, западным человеком. Ничего подобного; на закате жизни, узнав множество стран и прочитав множество книг, я пришел к выводу, что правота — на стороне румынского крестьянина. Того крестьянина, который ни во что не верит, который полагает, что человек всегда проигрывает, что все бесполезно и история его раздавит. Эта идеология жертвы — также и моя концепция, моя философия истории».
Однажды вечером мы спускались с гор в деревню. Решинари лежало внизу, напоенное зноем. Я ощущал его звериное присутствие. Оно лучилось теплом и золотистым мерцанием. В лабиринте улочек света было кот наплакал. Жалюзи, которые днем оберегали от солнца, теперь удерживали в домах хилые лучи. Так было когда-то, пришло мне в голову. Люди не делали лишних движений, не переводили впустую огонь и пищу. Излишества были обязанностью и привилегией королей.
На площади перед церковью Святой Параскевы собирались дети. В темноте поблескивали никелем велосипеды. Восемьдесят лет назад маленький Эмиль проводил в тени этого самого храма последние дни каникул. Тоже стоял август, вечер, и парни заигрывали с девушками. Только велосипедов было поменьше, а в воздухе еще не растаял аромат венгерского правления, и кое-кто по-прежнему называл городок Ресинар или Штедтердорф. Назавтра Эмилю предстояло уехать, чтобы никогда больше не вернуться.
Сегодня напротив моего дома четверо мужчин собирали дрова. Они вытаскивали на опушку еловые стволы, один за другим. Затем, когда набиралось штуки три-четыре, грузили колоды на длинную тележку. Они трудились по-звериному — медленно, монотонно, выполняя те же действия и жесты, что сто и двести лет назад. Спуск был длинный и крутой. Вцепившись в ручицу, они удерживали тележку. Заблокированные колеса скользили по мокрой глине. Закутанные в поношенные фуфайки и балахоны, они, казалось, были вылеплены из земли. Шел дождь. От своих отцов, дедов и прадедов они отличались наличием шведской бензопилы и одноразовых зажигалок. Да еще колеса у тележки были резиновые. Все остальное оставалось неизменным на протяжении двухсот или трехсот лет. Их запах, усилия, кряхтение, их быт облекались в форму, существовавшую с незапамятных времен. Они были такими же древними, как два гнедых коня в упряжке. Вокруг простиралось серое, как мир, настоящее. В сумерках они закончили работу и уехали. От их одежды исходил пар, точь-в-точь как от хребтов животных.
Я вышел на веранду, чтобы еще раз взглянуть на юг. Там, правда, простиралась ноябрьская тьма, но я смотрел назад, смотрел на последний август, и взгляд мой уносился в сторону Бардейова, Сибиу, достигая Решинари в тот самый момент, когда в три часа дня мы спускались с гор, а за спиной у нас собирались темно-сизые тучи. Мы шли все вниз и вниз, до самого немилосердно засранного плоскогорья, где стояли и лежали десятки рыжих, седых и пятнистых коров. Ниже уже начиналась деревня. Первые дома были времянками с худыми крышами, они напоминали скорее стойбище, чем поселение. Над дорогой и рекой высилась скала, поросшая молодым березняком, который чудом удерживался на этой крутизне. В нескольких десятках метров над нашими головами мужчина вырубал топором тонкие деревца. Потом он связывал их цепью и спускал вниз. Вязанки трещали, с грохотом срывались камни. Эхо неслось в глубь долины. Внизу ждали женщины и дети, чтобы переправить все это через реку и погрузить на ручную тележку. Они никуда не спешили. На обочине лежали одеяла, горел костер, рядом валялась Кукла. Дом этих людей находился в нескольких десятках метров отсюда, но они успели устроить здесь временное прибежище. У огня валялись объедки, пластиковые бутылки с питьем, кружка и что-то еще, но нам не хотелось рассматривать их слишком уж бесцеремонно. Вязанка застряла на середине обрыва, и мужчина стал медленно спускаться, чтобы ее высвободить.
Дождь припустил, когда мы вернулись домой. Я сидел на чердаке, у открытого окна. Слышал, как капли барабанят по крыше и листьям винограда, которым был увит двор. Блеклые горы на юге потемнели, будто намокшая ткань. Стадо белых коз искало убежища в зарослях. Я подумал, что Чорану было бы сейчас восемьдесят девять лет и он мог бы сидеть на моем месте. В конце концов, этот дом принадлежал его семье. Нашего хозяина звали Петру Чоран. На полке стояли его книги, хотя не думаю, что он их когда-нибудь открывал. Впрочем, они были на французском и английском языке. Вместе с женой они показывали нам выцветшие фотографии: здесь Эмилю восемь лет, а вот Релу, младший брат. Петру, грузный мужчина, разменявший шестой десяток, гордился предком, а в повседневной жизни держал магазин. Утром он вставал, грузил в фургон ящики и ехал в город за товаром. На завтрак мы выпивали по рюмке сливовицы. Она пахла самогоном, была крепкой, как спирт, и отлично шла под копченое сало, козий сыр и паприку.
Так что он мог бы сидеть на моем месте и смотреть, как дождь поливает мешки с цементом в кузове стоящего на улочке фургона. Мостовая блестит, печной дым тает в сумерках, вода в сточных канавах прибывает и уносит мусор, а он вернулся, будто никуда не уезжал, обычный старик наедине со своими мыслями. Уже нет сил ходить по горам, и не хочется беседовать с пастухами. Он смотрит и прислушивается. Философия медленно обретает материальную форму. Проникает в тело и уничтожает его. Париж и странствия оказались бесполезны. Не будь их, все просто продолжалось бы чуть дольше и скука воплотилась бы в чуть менее изысканные формы. Из кухни на первом этаже доносится запах разогретого жира и слышатся женские голоса. Виноградные листья сверкают и шелестят под дождем. Затем с востока приплывут сумерки и в беседке у магазина станут собираться мужчины. Уставшие за день и грязные. Возьмут дрожжевой водки. Продавщица даст им стакан толстого стекла, и они усидят бутылек за четверть часа. Он будет слышать их разговор, все более громкий и торопливый, и различит сквозь листья запах их тел. От первого будет пахнуть смолой, от второго — дымом, а от третьего — ароматом козьего стойла на пороге осени, когда козлы начинают вонять мочей, мускусом и гоном. Этот третий напьется быстрее всех, и товарищи станут поддерживать его и, не прерывая беседы, прислонять к стене. Пачка сигарет «Карпаты» опустеет за час, в это время они уже переключатся на светло-желтое пиво в зеленых бутылках. Золотисто-серый свет, льющийся из открытой двери магазина, смешивается с горячим дыханием, парной тьмой ночи и сделает их фигуры воздушными, едва различимыми, освободит от грязи и усталости. Тут войдет пара: он, смуглый, усатый, обаятельный, пиджак в мелкую клетку, начищенные ботинки и черные брюки со стрелками, довольный и болтливый, она, чуть расстроенная, взволнованная, словно только что приняла важное решение. Женщина будет робко улыбаться и поправлять обесцвеченные волосы. Он станет развлекать ее, любезничать, токовать и, делая покупки — шоколад, водку, пиво, — загружая их в полиэтиленовый пакет, ни на мгновение не прервет брачный танец. Одну бутылку пива они выпьют прямо здесь, стоя и не сводя друг с друга глаз. Он нальет ей в стакан, а сам допьет остатки из горлышка. Потом, в обнимку, они выйдут в темноту, и на своих высоких каблуках она будет скользить и спотыкаться на мостовой.
Итак, предположим, что он слышал все это и ощущал проникающий через листья аромат духов. Ночь наполняла деревянную комнату на чердаке, и никто не мешал ему вспоминать собственную жизнь, поскольку бессонница, точь-в-точь как несколько десятков лет назад в Сибиу, снова заменяла ему вечность. На улице Бразилор и улице Попа Брату, на улице Эпископей, на улице Андрея Шагуна и улице Иларие Митря повсюду спят животные. Во мраке спертого воздуха хлевов лежат коровы и жуют сквозь сон жвачку. Свесив морды, стоят перед пустыми яслями лошади. Так должно было быть, так оно и есть. Тепло навеки покидает его тело и над Решинари соединяется с теплом скота. А после поднимается к черному карпатскому небу и возносится к холодным звездам, словно образ души, который Чоран терпеть не мог, поскольку тот лишал его сна.
Через три месяца под вечер я проезжал деревню Розпутье у подножья Сольных гор. Возвращавшиеся с пастбищ коровы заполонили всю дорогу. Мне пришлось притормозить, а потом и вовсе остановиться. Коровы расступались перед машиной, точно ленивая рыжая волна. Подмораживало, и из ноздрей у них валил пар. Они были теплые, с раздутыми боками, равнодушные. Смотрели прямо перед собой, вдаль, потому что вещи, предметы и пейзаж не имели для них никакого значения. Они просто смотрели сквозь все это. И в деревне Розпутье я ощутил огромность и целостность окружающего мира. Одновременно озаренный одним и тем же меркнущим сиянием, возвращался домой скот: повсюду — от Киева до, к примеру, Сплита и от моего Розпутья до Скопья и, скажем, Стара-Загоры происходило одно и то же. Пейзаж и архитектура, порода, форма рогов и масть немного разнились, но в остальном картина была идентичной: по дороге между двумя рядами домов двигались сытые стада. Рядом шли женщины в платках, в растоптанной обуви, или дети. Ни редкие промышленные островки, ни разбросанные тут и там бессонные метрополии, ни паутина дорог или железнодорожных веток не могли заслонить старую как мир картину. Людское соединялось с животным, чтобы вместе переждать ночь. Соединялось, хотя никогда не было разделено.
Чуда ожидать не приходится, подумал я, включая первую передачу. В зеркальце заднего обзора полыхались зады. Мухи уже исчезли, и хвосты болтались без действия. Всему этому суждено погибнуть, чтобы сохраниться хотя бы в зародыше. «Худшие и меньшие» народы живут вместе со своими животными и вместе с ними хотят быть спасены. Хотят быть признаны вместе со своим скотом, потому что больше у них, собственно, ничего и нет. Ультрамариновая глубина глаз скотины — точно зеркало, в котором мы видим себя одушевленной плотью, одаренной все же своеобразной благодатью.
Я добрался до шоссе и повернул налево. Мне хотелось выбраться по серпантину на главный хребет Сольных гор, пока не село солнце. Было пусто и холодно. Ни одной машины. В Тыраве туман смешивался с печным дымом. Здесь уже опустился вечер, однако через пять минут небеса вдруг прорвались, и из них потек сверкающий пурпур. Я оставил машину на замызганной стоянке и подошел к краю обрыва. Шоссе на Санок было пепельно-серым. В Залужье загорались первые огни. Слабые, едва различимые, словно иголочные уколы. Мутное дно долины скрывало силуэты домов и хозяйств, будто там никто не жил. Зато Карпаты словно охватило пламя. Рана заката тянулась вдоль горизонта. Весь юг напоминал кусок парного мяса, словно на ослепительной бойне.
Мне вспомнилось путешествие из Клужа в Сигишоару. Мы ехали на поезде. С нами в купе сидели японец — коллекционер народных костюмов и его гид, молодая румынка; где-то за Апахидой началась травяная пустыня. Никогда раньше я не видел столь голой земли. Пологие холмы тянулись до самого горизонта. Порой поезд забирался чуть повыше, и тогда становилось видно, что за этим горизонтом простирается еще один, и еще, и еще. Безлесное и безлюдное пространство имело серо-желтый, иссохший цвет ожидания пожара, готовности вспыхнуть от одной спички. Там не было ничего. Порой мелькали вдалеке какие-то постройки, избушка с прилепившимся к ней хлевом, сеновал, а после — вновь бездна воздуха и волнообразная равнина. Иногда мы видели небольшие овечьи стада. Рядом всегда был человек — размером, казалось, с булавку. Под раскаленным небом, на испепеленной зноем почве они словно затерялись в некоем ослепительном потустороннем мире. Шли ниоткуда в никуда. В ломкой траве обитали только мухи, птицы и ящерицы. От земли поднимались жара и пыль.
Сейчас стоит мокрый бесснежный декабрь, и, судя по метеокартам, он захватил и те края. Небо, словно пропитанное водой полотнище, свисает над Эрдели, холмы покрыты уже не пылью, а грязью и гнилой травой, и мне хочется туда, хочется вновь проделать тот летний путь и на сей раз выйти где-нибудь на станции Бож-Кэтун, имея в голове десяток румынских и пяток венгерских слов. Я ее даже не помню — настолько она была мала и безнадежна. Не исключено, что вся станция представляла собой жестяную табличку у путей и все. Но я бы хотел перенестись туда 14 декабря, без всякого конкретного плана, потому что меня уже давно перестало занимать будущее и гораздо больше привлекают места, напоминающие начало чего-то, во всяком случае, такие, где печаль обладает силой, рока. Словом, мне начхать, куда мы движемся, и интересует лишь то, откуда мы появились. Стало быть, десяток румынских слов, полдесятка венгерских, станция Бож-Кэтун и — к примеру — миллион леев мелкими купюрами, чтобы разглядеть между небом и землей пустоту, в которой бредут черные буйволы. Пятьсот километров до Вены, восемьсот до Мюнхена, тысяча восемьсот до Брюсселя, все примерно, приблизительно и по прямой. Эта прямая, однако, лопается где-то по дороге, расползается, подобно тектоническим плитам, разделяющим континенты. Да, немного денег, хорошие ботинки, накидка от дождя, «палинка де бихор» в пластиковой бутылке — и я бы чувствовал себя отлично, потому что меня преследует образ этих холмов, он просвечивает сквозь все более поздние пейзажи, потому что где-то между Валя Флорилором и Плоскошем я бы заново уверовал, что человек был вылеплен из грязи. Ничто иное не могло произойти в подобном ландшафте, а печаль его — оттого лишь, что это событие никогда уже не повторится.
«Мой край! Любой ценой я хотел быть с ним связан, но было нечем. Ни в его сегодня, ни в его вчера я не находил ничего настоящего. (…) Моя любовная и безумная ненависть не имела, так сказать, объекта; ибо от силы моего взгляда мой край распадался. Я хотел, чтобы он был сильным, безудержным и безумным, будто некая злая сила, сотрясающий миром фатум, а он был невелик, скромен, лишен характерных черт, слагающихся в рок». Так писал Эмиль Чоран в 1949 году, мысленно возвращаясь к своим приключениям с Железной гвардией.
Коровы затерялись где-то в лесу. Подают голос в декабрьском полумраке. Великая Румыния, Великая Сербия, Польша от моря до моря… Чарующе-идиотические фантазии этих краев. Безнадежная печаль тоски по тому, что не слишком-то было, по тому, чего быть не могло, и легкое сожаление по поводу того, что есть. Прошлым летом в Старой Любовни у подножия замка я подслушал кудахтанье польской группы. Руководил ею болван лет сорока, в фирменной спортивной одежде попугайских расцветок. Он колотил по воротам закрытого в эту пору музея. Наконец, хорошенько лягнув их напоследок, он изрек: «Пускай вернут это нам или венграм. Будет хоть какой-то порядок!»
Да. В этой части света везде и всегда хотят навести свои порядки. С географической картой здесь познакомились слишком рано или слишком поздно.
Я пью крепкий кофе и все думаю о растерзанной душе Эмиля Чорана в тридцатые годы. О его безумии, его румынской достоевщине. «Кодряну был, в сущности, славянин, своего рода украинский атаман», — скажет он сорок лет спустя. Ох уж этот беспощадный разум. Сперва, словно пламя или землетрясение, опустошит мир, а когда все сгорит и развеется на фиг, когда вокруг не останется ничего, кроме пустыни, пустоты и бездны, точно накануне сотворения мира, тогда он откажется от только что обретенной свободы и страстно уверует в дела и вещи безнадежные и обреченные. Словно бескорыстной любовью попытается искупить сомнения. Одиночество освобожденного разума велико, точно небо над Семиградьем. Мысль блуждает в нем, точно скот в поисках тени или водопоя.
В конце концов Чоран все же вернулся в Решинари. Перед домом, где он родился, стоит его бюст. Дом имеет оттенок отцветшей розы. В торцевой стене со стороны улицы — два окна со ставнями. Фасад украшен белой лепниной и пилястрами. Бюст стоит на невысоком постаменте. Черты лица Чорана переданы с грубоватым буквализмом. Так изваял бы их художник-самоучка, подражающий салонному искусству. Произведение «невелико, скромно и лишено характерных черт» (кроме сходства с оригиналом), однако на этой деревенской площади смотрится органично. Мимо ежедневно проходят стада коров и овец. Оставляют после себя запах и тепло. Ни далекий мир, ни Париж никак не отразились на этом лице. Оно попросту печальное и усталое. Как у посетителей бара возле парикмахерской и увитого виноградом магазинчика. Такое ощущение, что кто-то здесь исполнил мечту Чорана или его последнюю волю.
«Acel blestemat, acel splendid Răşinari».[10]
Наш батько
Вот так и выходит: то и дело сбиваешься с пути, спотыкаешься, возвращаешься, никакой тебе географии в чистом виде, ни на грош свободного от рефлексии зрения. Все не таково, каким кажется на первый взгляд, повсюду занозы смыслов, за которые мысль цепляется, точно портки за колючую проволоку. Нельзя попросту, бесхитростно написать, что границу в Серете мы пересекли ночью, пешком, а румынские пограничники, терроризировавшие переход и пять автобусов с десятью тоннами контрабанды, взяли и пропустили нас — грубовато и добродушно посмеиваясь. Здесь не было ничего, кроме ночи… Мы ждали, пока подъедет кто-нибудь с украинской стороны и подберет нас, но тщетно. Ни старой «лады», ни «дакии». Чудно оказаться в чужой стране после полуночи, когда пейзаж представляет собой одну сплошную темноту. Поодаль что-то мерцало. За окном двигались тени, и мы отправились туда, потому что в такую пору человек уподобляется мотыльку и тянется к любому свету. В приграничном баре за столиком сидело двое мужиков. Они играли в какую-то странную игру, вроде домино. Нам хотелось кофе. Бармен сварил его в кастрюльке на электроплитке. Кофе был вкусным и крепким. Услыхав польскую речь, парень попытался с нами заговорить, но мы разобрали только «babka»[11] и «Wroclaw».[12] Мы спрашивали насчет автобуса или какого-нибудь другого транспорта, но бармен разводил руками и твердил что-то вроде «dimineata tirg in Suceava».[13] В этом сизом и мокром от человеческого дыхания свете я впервые попробовал «палинку де бихор». Она была хуже любой венгерской, но согревала, и потом, раз уж бабка родом из Вроцлава, мне хотелось купить у парня что-нибудь еще, кроме кофе. Затем мы снова вышли на шоссе, но ничего не изменилось. Над границей стояло электрическое зарево, а на юге темнота сгущалась черной тушью. За час до рассвета к бару начали подъезжать машины. Люди ждали автобусы, запертые между шлагбаумами, ждали товар. Царапая задом асфальт, подъехала «дакия». Внутри сидело четверо мужчин. Водитель вышел и сказал: «Suceava zece dolar».[14] Схватил наши рюкзаки, забросил на багажник и попытался чем-нибудь привязать. Я указал на битком набитый салон и спросил, как, блин, он себе это представляет. Парень улыбнулся и похлопал себя по коленям: мол, друг на друге, как-нибудь да разместимся. Он был в отличном настроении и, судя по запаху, слегка навеселе. М. закричала, что ни за какие коврижки — она не желает разбиться где-нибудь по дороге, не увидев даже кусочка зеленой Буковины. Мы развязали веревки и стащили рюкзаки с багажника. Водитель погрустнел и сказал: «Cinci dolar».[15] «Еu nu merg»,[16] — заявила М., и мы остались одни на холодном ветру, задувавшем со стороны Черновцов.
Когда небо сделалось чернильного цвета, подъехал красный «пассат комби» и мужик сказал — «Cincisprezece dolar»,[17] мы не стали артачиться, поскольку тачка была пустой, просторной и теплой. Что такое «cincisprezece» за пятьдесят километров после бессонной ночи? Мы рванули с места, словно за нами по пятам гнался сам дьявол. Впереди был туман. Мужик не умолкал. Он мешал румынские, русские и немецкие слова. Пытался говорить по-польски. Он изъездил всю Европу и в Варшаве побывал. Сказал, что отвезет нас и вернется, потому что рано или поздно автобусы с товаром пропустят и прямо у шлагбаума начнется така-а-ая торговля! Еще ни разу не случалось, чтобы не пропустили, так что он нагрузит свой «пассат» по самую крышу этими велосипедными колесами, шинами и коробками со стиральным порошком, горами шоколада, шапками-ушанками в разгар лета, потому что сейчас они дешевле всего, и прочими сокровищами украинской земли. Отвезет нас и вернется, а потом обратно в Сучаву, на этот гигантский базар неподалеку от фабрики, воняющей серной кислотой, на эту площадь, до самого горизонта покрытую брезентовыми крышами лотков. Он все болтал, а в свете фар то и дело мелькали блестящие глаза лошадей, тянувших невидимые тележки со спящими возницами. Он болтал, а у меня слипались глаза. Т. обернулся и спросил: «Ты руль видел?» Мы снова объезжали какую-то загадочную тележку, наш шофер вывернул баранку градусов на девяносто, и только тогда машина начала поворачивать. Спидометр был сломан, но я не сомневался, что педаль газа вдавлена до упора. Так что я прикрыл глаза и слушал его европейские байки: Берлин, Франкфурт, Киев, Будапешт, Вена…
Сучава напоминала ультромариновую тень. Мы прошмыгнули через виадук. Главный вокзал ремонтировался, так что мы поехали на вокзал Сучава-Норд, чтобы сразу двинуть дальше на юг, вдоль Серета, и только где-нибудь в Аюде свернуть на запад, покинуть Молдавию и добраться до Семиградья. Такие у нас были планы. Ехать и ехать, спать в поездах, которые должны появляться по первому требованию и везти куда надо.
Вокзал Сучава-Норд был большой, словно склон горы, и темный. Входишь как в пещеру. Желтый свет едва рассеивал мрак. Мы пробирались через толпу. Толпа в четыре утра — чудная вещь. Напоминает скопище лунатиков. Глаза стоявших или двигавшихся людей были открыты, но казалось, что те спят. Живые, но словно заколдованные. Все из-за бессонного света, сочившегося неведомо откуда. Может, с незримого свода, может, из стен, а может, исходившего от человеческих тел. Во всяком случае, его было слишком мало, чтобы поверить в реальность всех этих полумертвых, неспешных, на полужесте оборванных сцен в здании вокзала. Кто-то из нас был призраком — или мы, или они.
В любом случае ни одного поезда на юг в ближайшее время мы не обнаружили, а ждать не было сил. Мы вышли из здания вокзала. Такси стояли рядком. Главным образом «дакии» и парочка допотопных «мерседесов». Водители болтали и курили. Я подумал, что вместо железной дороги мы воспользуемся машиной и через перевал Петру Водэ, ущелье Биказ, перевалы Биказ и Бучин переберемся на ту сторону главного хребта Карпат, чтобы оказаться наконец в самом сердце Трансильвании. Но водилы, услышав «Тыргу Муреш», делали большие глаза, а при словах «Сигишоара» качали головой. Всего триста километров, уговаривали мы, но они разводили руками и извиняюще пинали ногой колеса, потому что не верили, чтобы какая-нибудь из этих тачек была способна вскарабкаться на эти кручи, а после вернуться целой и невредимой. Только один, владелец старого зеленого «мерина»-«коробочки», сунул руки в карманы, сплюнул и предложил: «Doua sute dolar».[18] Тогда мы поняли, что они принимают нас за сумасшедших. Худощавый паренек сказал, что отвезет нас в гостиницу — выспаться. Мы, как дети, покорно сели в красную «дакию». Сил не было. Мы велели ему ехать в отель «Сочим», он возразил, что не советует, но нам, упрямым дуракам, показалось, что он хочет нас обдурить. Парень улыбнулся, словно желая сказать: «Господь отвернулся от вас», но помог погрузить багаж и повез в пробуждающийся город. Денег взял точно по счетчику и обещал приехать по первому звонку.
Ах, что это было за пробуждение на улице Жана Барта, 24… Потолок нависал так низко, что на кровати с трудом удавалось сесть. Поэтому на всякий случай я не вставал, а только слушал, как рядом, за окном, один за другим проносятся огромные грузовики. Как вагоны поезда. Безостановочно. Закрыть окно было нельзя, потому что комната превращалась в печку. Впрочем, открытое окно не слишком помогало. В номере стояли только кровати и шкаф. Я не решался его открыть. Из коридора доносились странные звуки. Я не решался выйти. Наконец все же отправился на поиски ванной. Из окна в коридоре я увидел белье на веревке, дом, сараи, какие-то клетушки и белого коня, который щипал траву. В ванной при виде меня уборщица испуганно вскрикнула и опрокинула ведро с грязной водой. Впрочем, ничего страшного не случилось, поскольку на полу лежали деревянные решетки, как в казарме или тюрьме. Но было холодно и тихо.
Мы проспали всего часа три. На улице было так же жарко, как в доме. В неподвижном воздухе висела пыль. В тени бетонной лестницы сидели маленькие дети. Они проводили нас взглядом. В баре на углу пахло едой. Мы взяли рубец со сметаной и чесноком. К рубцу полагалась булка и острая зеленая паприка, от которой прошибал пот. Мы позвонили, и этот парень действительно приехал. Он по-прежнему был оживлен, бодр и готов помочь. Мы спросили, успел ли он поспать. Парень ответил, что нет. Бросил взгляд на дверь отеля «Сочим», но тактично промолчал. Мы сказали, что нам надо достать билеты на поезд, поменять деньги и к вечеру попасть в Клуж. Он на все отвечал: «No problem».[19] Погрузил наши рюкзаки в багажник, крышка не закрывалась, он чем-то ее подвязал, и мы тронулись, навсегда оставив позади улицу Жана Барта, 24. И в самом деле, «problem» для него не существовало. Он нашел обменник с наиболее выгодным курсом. Прежде чем я отошел от окошка, взял у меня пачку купюр, тщательно пересчитал и лишь тогда позволил выйти. В румынском «Орбисе» стояла очередь часа на два. Она вообще не двигалась. Экран компьютера на столе кассира был темен и нем. Когда кто-нибудь покупал билет, женщина звонила поочередно на все станции и сообщала, что место занято. Мы хотели уйти. До поезда оставалось полчаса, мы были готовы ехать зайцами или в кабине машиниста, лишь бы выбраться из раскаленной Сучавы. Однако наш таксист произнес по-румынски что-то вроде «не дрейфь» и недолго думая встал в голове очереди и произнес перед народом какую-то речь. Через десять минут мы мчались по городу, набив карманы маленькими старомодными билетиками из коричневого и зеленого картона. Все нам сигналили, но мы в долгу не оставались. Красная «дакия» срезала повороты, как пожарная машина. Наш новый спутник рулил одной рукой, а второй искал музыку в радиоприемнике. На Тара де Норд мы влетели за пять минут до отхода поезда. Мы хотели бежать в вагон, однако парень сказал, что ехать далеко и долго, а у нас ни еды, ни питья. Очередь в вокзальный буфет была в половину той, за билетами. Но он просто зашел в стеклянную будочку и через окошко спрашивал у нас, сколько взять пива, минералки и с чем мы хотим бутерброды, одновременно обнимая и целуя молодую продавщицу в белом чепце. Все так и было. Девушка взяла деньги, дала сдачу, и мы оказались на перроне как раз вовремя, чтобы попрощаться и обняться. Парень взял с нас точно по счетчику.
И вот мы ехали на юго-запад: Гура Хуморулуй, Симпулунг Молдвенеск, Ватра Дорней, в глубь зеленой Буковины, меж поросших лесом гор, и я, в сущности, ничего не помню из этого путешествия и вынужден все сочинять заново. Наш толстый попутчик занял полтора места, и мы ему явно не нравились. Лет шестидесяти, упитанный, он, наверное, вспоминал старые добрые времена, когда царил порядок и всякая заграничная шантрапа не слонялась без ведома властей и не распивала в поездах пиво «Урсус». Во всяком случае, выражение лица у него было именно такое. Теперь мне приходится все это вспоминать, сочинять заново его серый костюм и бордовую рубашку, которую он снял перед Ватра Дорней. И голубое полотенце, которое он повесил на шею. В белой футболке, обнажившей его толстые и тяжелые руки, он отправился в туалет. Итак, я вынужден сочинять все это заново — что-то ведь должно было происходить на протяжении того долгого дня до самого вечера в Клуже, где шел такой же дождь, какой идет сегодня. Все приходится выдумывать сызнова, потому что дни не могут исчезать в прошлом, наполненные одним лишь пейзажем, неподвижной, неизменной материей, которая в конце концов стряхнет нас со своего тела, стряхнет, как все мелкие инциденты, эти лица и судьбы длиной в один взгляд. Во всяком случае, этот мужчина вернулся и погрузился в дрему, а мы-то надеялись, что он моется перед уходом, а не перед сном. Быть может, в путешествие отправляются затем, чтобы нести спасение фактам, чтобы поддержать их слабое одноразовое свечение.
В Клуже шел дождь. Перед вокзальной пиццерией парни в кожаных куртках устроили разборку, а девушки выступали в роли болельщиц. Все как везде: в конце концов двое схватили третьего под руки и поволокли куда-то в темноту. Вокзал в Клуже: снова толпа, желтоватый полумрак, благоухание тел и папирос. Нам надо было прокомпостировать завтрашние билеты. В толпе нас углядел парень. Заметил, что мы не местные и стоим, как беспомощные телята. Он взял у нас эти старомодные картонки и через пять минут все было сделано. Сказал: «Drum bun»,[20] и исчез в людском скопище, будто ангел-хранитель в разношенных кроссовках.
Утром улица Хоря сияла на солнце. Синагогу близ моста через Шамос венчали четыре башни с железными куполами. Она была похожа на ту, из цыганского района в Спишском Подгродье. Только побольше. На завтрак мы, как всегда, съели ciorba de burta.[21] С булкой и паприкой. Где-то неподалеку венгерские господа сожгли на костре Дьёрдя Дожу.[22] Затем четвертовали останки и развесили на воротах Буды, Пешта, Альба Юлии и Орадеи. Голова досталась Сегеду. Так обычно кончают «крестьянские короли». Даже если за ними стоит несколько тысяч человек, а папа римский благословляет на последний, несостоявшийся крестовый поход против турок. Я сидел в баре, на улице его имени — пил кофе, часа через два должен был увидеть из окна поезда травянистую пустыню Семиградья, по которой пятьсот лет назад маршировали крестьянские отряды Дожи. Так и случилось. В купе ехал японец с его национальными женскими костюмами, в которые, как утверждал Т., он потом облачается перед зеркалом в своем Токио или Киото.
Сопровождавшая японца девушка-гид рассказывала, что Чаушеску объединил румынский народ, сделав всех равно виновными, и если кто утверждает, будто не принимал в этом участия, то попросту лжет, а я смотрел на выжженные холмы и пытался представить себе отряды легкой конницы, темные, подвижные точки на горизонте, появляющиеся, исчезающие и вновь появляющиеся в такт волнистому пейзажу. Я пытался представить себе этот гибельный карнавал нищих. Они в первый и последний раз шагали по своей земле как свободные люди. В отнятой у господ одежде, с отнятым у господ оружием, на господских конях они движутся к Клужу, к Тимишоаре, чтобы в лучах июльского солнца понести окончательное поражение. Пятьдесят тысяч отрубленных голов, повешенных, оставленных на растерзание птицам и брошенных псам. Вороны слетаются с Карпат, с Большой Венгерской низменности, из Молдавии и Валахии. Зной ускоряет распад и заметает следы. Ничего больше не остается от мятежей нищих. Дожу, кажется, посадили на раскаленный трон и вручили раскаленный скипетр. Во всяком случае, так утверждает Шандор Петёфи.[23]
Так что я ехал, глядел в окно и воображал армию возбужденных оборванцев: погонщиков скота, пастухов и крестьян, что силятся хоть на мгновение примерить к себе господскую судьбу, то есть иметь возможность распоряжаться собственной жизнью, чужим богатством и насилием. Несколько месяцев назад я искал могилу Якуба Шели[24] на Буковине. Я расспрашивал о нем в самых разных местах, потому что мне требовался предлог, чтобы отправиться на край света. Одни говорили, что могила Шели — в Ютите, другие — что у самой украинской границы в деревне Вишань.
Я верил и тем, и другим. Мне даже пришло в голову, что австрийцы обошлись с ним примерно так же, как венгерская власть — с Дожей, то есть расчленили память о нем, память, которая в те времена служила реальной угрозой. В конце концов, как утверждал Людвик Дембицкий, «он, очевидно, был мистиком и сектантом в сермяге». Из всех возможных мест захоронения наиболее подходящим мне казалась деревня Вишань, хотя это было совершенно неправдоподобно: затерянное в полях, отрезанная от мира, богом забытая дыра. Дальше попросту не было ничего — ни с одной стороны. Бесконечность безлесной земли, которая, однако, местами кем-то обрабатывалась, головокружительным образом противоречила этой деревеньке, где я не обнаружил никакого транспорта, кроме одного велосипеда. Наша машина смотрелась здесь чудовищно, вызывающе. Это была часть возвышенности между Радовцами и Сучавой, где по бескрайним волнистым полям двигались маленькие конные упряжки. Свежевспаханная черная земля мгновенно соединялась с небом, и маленькие человечки и худые жилистые лошадки были так ничтожны, что почти невидимы. Казалось, стоит им подняться, стоит замереть, и они утратят всякий смысл. Их существование оправдывало только движение. Все казалось чьим-то капризом. Словно кто-то расставил в гигантском пейзаже фигурки из рождественских яслей, чтобы полюбоваться их беспомощностью.
Деревня пахла навозом и весной. За заборами цвели сады. Кафе располагалось в кирпичном здании. Парень в черном сказал, что у них там есть пиво. Девушку, у которой хранились ключи, мы обнаружили в соседнем дворе. Она нам открыла. Мы расспрашивали о Шеле — мол, он вроде похоронен где-то здесь, но она ничего не знала, кажется, даже фамилию слышала впервые, хотя и полька. Внутри стояло несколько столиков и царил странный хаос, словно это были декорации к фильму. Все серо-зеленое. На полу деревянные ящики, в каких развозили когда-то стеклянные сифоны с содовой водой, — только здесь они были заполнены полуторалитровыми бутылками с вином. Два сорта пива, два сорта папирос и пепельницы, полные окурков, точно после банкета. Еще идеологические плакаты на стенах и окно во двор, где бродили розовые поросята, — и ничего кроме. Немногочисленные вещи, мебель и товары образовали тем не менее чудовищный хаос. Все казалось брошенным на полпути, забытым, точно вот здесь, в этой точке, исчерпалась мировая энергия. Мы выпили по бутылке пива. Девушка больше молчала, но в конце концов отвела нас на старое кладбище за околицей — может, там? Но там только клубились колючие заросли — и никаких следов надгробий, плит, крестов, хоть чего-нибудь, ни единого знака минувшей смерти. Я подумал: все-таки жалко, он должен лежать именно здесь и однажды воскреснуть. Не надо обладать буйным воображением, чтобы представить, как он входит в кафе, не удивляясь интерьеру, поскольку неподвижность, печаль и запустение не меняются ни во времени, ни в пространстве. Корчма еврея Шимека в Седлиска-Богуше 20 февраля 1846 года, видимо, не сильно отличалась от современной забегаловки. На полях лежал снег, было морозно, внутри царил полумрак и витал смрад грязных тел. «Идите, парни, работать, да поспешите, время не ждет». На нем был черный суконный плащ, в руке — захваченная в Богуше сабля, которой он постукивал о землю, точно посохом. Во дворе усадьбы кровь впитывалась в снег. От разбитых бочек несло водкой. Австрийцы объявили его крестьянским королем только на двадцать четыре часа, а день медленно подходил к концу. «Идите, парни, работать, да поспешите, время не ждет». Проклятая господская кровь впитывалась в снег, у парней в карманах звенели дукаты, но ни полумрак, ни смрад не рассеивались ни на мгновение. Окружной исправник Брейнль сказал ему в Тарнове: «Фердинанд — один, а ты второй в Галиции полномочный представитель». Некоторые утверждают, что он собирался взять в жены десятилетнююю Зосю Богуш. Хамская кровь соединилась бы с господской и дала начало новому роду, который завладел бы обновленной землей. Возможно, он не верил в свои силы, возможно, новый мир предполагалось строить, копируя поведение господ в пустой абстрактной реальности, более не оказывающей сопротивления.
Итак, он мог бы восстать из гроба и войти в кафе в деревне Вишань, и все было бы так, словно он никогда не умирал, потому что эта забегаловка, наверное, не многим отличалась от корчмы еврея Шимека. Полтора века спустя он мог бы начать все заново, уже без австрийского благословения. Так думал я, стоя в лучах полуденного солнца. Я проехал несколько сотен километров и имел право на подобные мысли. К тому же я прибыл из его родных мест. Я смотрел в сторону Молдавии и размышлял, чью кровь он захотел бы пролить сегодня, с чьей кровью захотел бы смешать свою. В кафе грузно и медленно кружили мухи. На полке лежали самые дешевые папиросы двух сортов. В округе не было никаких господ, но воздух по-прежнему отдавал духотой нищеты. Я думал: вот ты сидишь тут, Шеля, пьешь «Урсус» или «Сильву», и некому вцепиться в горло. А если даже и решишься, мир расступится перед тобой, будто призрак, оставив с пустыми руками. Да, фиг ты им что сделаешь, потому что некому. Можешь разве что поехать в Сучаву и разгромить синий банкомат, уподобившись постиндустриальному Неду Лудду,[25] который двести лет назад уничтожал первые станки. Сегодня уже не удастся стать другим человеком с помощью простого переноса вещей или предметов. По сути, и убивать в надежде обрести тело и жизнь убитого — некого. Богатство есть неуловимая идея, что кружит в воздухе, время от времени материализуясь то тут, то там. А вот нужда, изгойство и упадок суть конкретика, и, вероятно, это навсегда. Все сокровища мира кажутся сейчас немного ничейными, и никакой грабеж тебя не освятит, и никакое насилие не облагородит. В твоем распоряжении только банкомат в Сучаве как реальная эманация отдаленного всеобъемлющего зла, которое никогда не позволит последним стать первыми.
С такой речью я обращался к духу Якуба Шели на задворках Европы, на околице деревни Вишань. Мною овладевали леваческие мысли, но революционного задора не было ни на грош. В километре от меня, в чистом поле, у дороги, сидел мужчина и читал газету. Насколько хватало взгляда, было пусто, а он едва поднял глаза на нашу машину и тут же снова принялся за чтение. Мы ехали на юг, в деревню Клит, чтобы проверить еще одно предполагаемое место захоронения. В нем был элемент правдоподобия, поскольку Клит находится в нескольких километрах от Сольки, куда Шелю сослали австрийцы, уже потом, когда все закончилось. На перекрестке за Радовцами стоял румынский мент. Просто стоял посреди перекрестка. Увидав нашу машину, он демонстративно отвернулся и уставился куда-то вдаль. Похоже, таким образом он демонстрировал свою доброжелательность. Делал вид, что не видит нас, поскольку мы представляли собой явный вызов. Он просто не хотел нас останавливать, хотя почти наверняка был обязан.
В Клите говорили на странном языке. Он напоминал украинский, но я понимал одно слово из пяти. Я спросил женщину в платке, украинская ли это деревня. «Мы русские», — ответила та. Мы расспрашивали о Шеле — не слыхала ли она здесь или в округе такое имя. Она покачала головой, а потом сказала, что отведет нас к самому старому человеку в деревне. Дорога была сухой и пыльной. Стены и ставни деревянных домов выкрашены белой и зеленой краской. На землю сыпались розовые и белые лепестки цветущих яблонь. Где-то вдалеке поблескивала гладь пруда. Гуси шли туда совершенно одни. Из тени и пыли вышел мужчина в застиранных тиковых штанах. Он вовсе не выглядел таким уж старым. Долго размышлял, велел повторить фамилию, потом сам принялся расспрашивать нас: что за человек был этот Шеля — какой-то наш «батько»? Ну, вроде того, отвечали мы уклончиво. Наконец он сдался и сказал, что есть тут один человек, правда, не очень старый, зато поездил по свету, недавно вернулся из Германии, может, он что посоветует. Старик вызвал его из бара у дороги. Мужчина лет сорока, в комбинезоне с надписью «Esso». П. сказал, что «Esso» — это почти «Shell», так что, возможно, мы близки к цели. Мы объясняли по-русски, по-украински, по-немецки и по-польски, но в результате выяснилось, что они могут разве что показать нам, где находится кладбище. Они отвели нас, пожелали счастья, доброго пути, здоровья и оставили в прохладе кладбищенских деревьев. Старик медленно и осторожно спускался с холма. Младший спутник время от времени поддерживал его под руку. Они могли и не приходить сюда вместе с нами. Могли показать нам холмик издалека, но в этих краях поиски могилы считают занятием куда более серьезным, чем обычный туризм, и люди относятся к этому с уважением. Вероятно, посещая их кладбище, мы становились их гостями.
Да. В Клите он тоже мог бы покоиться. С холма открывался вид на купола белой церкви и неоготический костел. Его родная Смажова тоже лежала в Погорье, только долины там более тесные, а хребты поросли лесом. Тут все было голым, вспаханным или заросшим травой. Синий зной струился над горизонтом. Никаких следов нашего «батьки».
Их и быть не могло, потому что во время путешествий история постоянно обращается в легенду. Чересчур много событий на чересчур большом пространстве. К тому же некому было держать их в памяти, не говоря уж о том, чтобы записывать. Невозможно уделять внимание событиям, которые пришли неведомо откуда, цель и смысл которых не вполне ясны. Никто не соединит их воедино, не сколотит законченную повесть. Инертность — сущность этих краев. История, события, логика, идея и план постоянно размываются в пейзаже, материи куда более древней и обширной, чем все усилия разом взятые. Время берет верх над памятью. Ничего невозможно запомнить наверняка, поскольку поступки не укладываются в цепь причин и следствий. Идея длинного повествования о духе истории выглядят здесь так же жалко и претенциозно, как традиционный роман. Пароксизм и скука сменяют друг друга в этих краях, делая их столь человечными. «Это ваш батько?» Почему бы и нет, подумал я. В определенном смысле и наш, и ваш. В конце концов, он олицетворяет желание резко изменить собственную судьбу, которое столь же неожиданно оборачивается смирением перед своей участью.
Описание путешествия через восточную Венгрию на Украину
Небо, когда в сумерках мы ехали из Надькалло в Матесальку, было совершенно незабываемо. Весь поезд состоял из одного вагончика. Причем поезд был скорый и с нумерованными местами. Чтобы объяснить нам последнее, толстая кассирша, улыбаясь, несколько раз привстала и плюхнулась на стул.
В Венгрии красивые железнодорожные билеты. Похожие на маленькие банкноты. В поезде в Серенч молодые цыгане разворачивали их гармошкой, складывали колодой и веером. В ушах у них болтались золотые серьги, но это было двумя днями раньше.
А теперь на западе раскрылся пурпурный плюмаж. Огненно-красная длань зависла над равниной, а внизу, меж кукурузных полей и садов уже стелился синий сумрак. Мы пили «асу» из горла и сидели против хода поезда, так что этот закат, эта разлитая сверкающая кровь постоянно находились перед глазами, и мы видели, как тьма постепенно вытекает из земли, поднимается выше, выше и выше, воздух делается холоднее и холоднее и наконец все гаснет, а в красном вагончике зажигается свет.
И получаса не прошло, а уже вспоминался Надькалло: горячий послеполуденный свет, когда мы шли в центр мимо желтых домов. Обнаружили огромный собор. На скамейке у входа сидели музыканты. Один из них поднял блестящий тромбон и поприветствовал нас. Я вошел, надеясь наконец увидеть, как выглядит венгерский храм изнутри, но там было полно народу, впереди стояла молодая пара, а у алтаря я увидал пастора. Ни органа, ни риз, лишь Слово в чистом виде, как было в начале и как должно быть в конце вместо всех этих чудес, сотворенных руками человечества человеку в утешение. Потом процессия вышла — неспешно, очень торжественно, и эта троица ожидавших музыкантов в белых рубашках — тромбонист, аккордеонист, гитарист — казалась невесомой, легкой, почти легкомысленной, почти по-католически, однако они заиграли что-то медленное, и толпа, словно крестный ход, двинулась к рынку.
В Надькалло мы поехали потому, что там — как гласил путеводитель — «в конце длинной и чертовски пустой площади» находится психиатрическая больница. Я подумал, что это, возможно, материализация метафоры, метафоры европейского востока. Воображение рисовало большой пыльный майдан, окруженный развалюшками. Площадь периодически пересекают армии, облаченные в самые разные мундиры, насилуют, грабят и никогда не задерживаются дольше. Отбывают, и всадники тут же исчезают в нагретой пыли равнины. Из больничных окон глядят им вслед безумцы и тоскуют, потому что в этих восточных краях власть, насилие и помешательство всегда соединяли узы, сродни сожительству, а порой и законному браку.
Ничего подобного. Площадь не напоминала пустыню. Это был тенистый и холодный сквер. Перед входом в больницу курило несколько психов в халатах. Атмосфера напоминала скорее санаторий, и введенная в искушение фантазия могла передохнуть.
Итак, мы попивали «асу» и двигались на восток. Собственно, мы бежали от запада, от кошмарного Будапешта, где рюмочка грушевой палинки в мерзком, хоть и понтовом притоне на улице Ракоци стоила втрое дороже, чем в Надькалло, а кофе — и того похлеще. Мы бежали от дождя, потому что на Дунай, на холм Геллерт, на мосты, на все прочее хлынул ливень. Но было 20 августа, День святого Иштвана, и, несмотря на дождь, парашютисты выпрыгивали из легендарных АН-24, волоча за собой ленточки дыма национальных цветов: зеленого, красного и белого. Парламент окружала полиция, следившая, чтобы народ держался на должном расстоянии. Потоки дождя обрушивались на просторные лимузины: природа демократична. На улице Золтан, у торговых рядов, нам пришлось обратиться в бегство, потому что тротуар захватили лыжники на роллерах — сотен пять. Они вскидывали руки и что-то скандировали. Словно племя чужеземцев, явившееся завоевывать местных жителей. «Такими станут города, — сказала М. — Выживет только тот, кто сам принадлежит к подобному племени. Как в прежние времена. У одиночки шансов никаких». «Разве что уподобиться Снейку, герою “Бегства из Нью-Йорка”», — парировал я. Все было забито, и транспорт не ходил. На остановке разговаривали по-венгерски двое негров. В наших карманах и башмаках хлюпала вода. Выли сирены, постанывали клаксоны, сияние городских огней двоилось и троилось, и постепенно мы сами, усомнившись в собственном существовании, обращались в призраков. На улице Дохань напротив Большой синагоги я отыскал маленькое кафе, в котором год назад один израильский продюсер рассказывал мне, как лев откусил дрессировщику руку и все съемки пошли насмарку, ведь ни один нормальный человек не станет делать комедию со львом-людоедом в главной роли. Но сейчас тут не оказалось свободных столиков. В кафе, обклеенном газетами эпохи Франца Иосифа, было так тесно, что матерям приходилось держать детей на руках, а те засыпали от дыма и горячего дыхания. Утомленная барменша поняла меня без слов и через головы посетителей подала две рюмки грушевой палинки и две чашки кофе. Мы сели под дырявым зонтом. Капли дождя падали в чашки и стаканы, а потом, добравшись по улице Ракоци уже до самого вокзала, мы увидали на его ступенях огромную толпу. Стояли валютчики и таксисты, стояли барышни и железнодорожники, стояли мошенники и торговцы — одним словом, стояли все, и все смотрели куда-то вдаль, в глубь ночи. Мы тоже обернулись. Над Дунаем, в тяжелом черном небе взрывались тысячи амарантовых искр, сотни пурпурных пауков и мириады золотистых звезд. Приглушенный ливнем и расстоянием, грохот взрывов долетал с опозданием, и от этого шоу делалось вдвойне нереальным. Салатовый и желтый, бирюзовый и фиолетовый, сапфиры и серебро, изумруды и хрусталь — фальшивые и недолговечные драгоценности моментально гасли под дождем и ничуть не рассеивали мрак. Казалось, это старая Австро-Венгрия из последних сил подает с того света какие-то знаки. Мокрая ночь напоминала безумный бальный зал со множеством сверкающих черных зеркал, призрачных люстр, обманчивых канделябров и ламп. Взмахивали длинными ножами турки, стругавшие мясо для кебабов, потерянный немец с чемоданом на колесиках бормотал себе под нос: «Scheisse, scheisse»,[26] в подземном переходе спала закутанная в одеяла цыганская пара. У мужчины в изголовье лежала черная шляпа, у женщины — аккуратно сложенный цветастый платок.
Мы сели на поезд в Ниредьхазу, так как то был самый отдаленный пункт на востоке, и ехать можно было до самого утра. Нам ведь надо было где-то спать. Да. Все время на юг и восток — наши планы не менялись. Где-то в районе Хатвана появился кондуктор. Я пытался объяснить ему, что билетов у нас нет. Двухметрового роста, он все время улыбался и повторял: «Kein problem».[27] Потом при помощи листочка и авторучки объяснил нам, мы можем спокойно ехать, а он придет чуть позже, в Фюзешабоне или Тисафюреде, и там продаст нам билеты, чтобы получилось дешевле. Он исчез и появился через полчаса с виноватым выражением липа — все же придется заплатить сейчас, потому что в поезде едет кто-то вышестоящий и возможна проверка. Великолепными росчерками он выписал нам квитанции. У нас с собой снова имелся «асу», но отсутствовал штопор. При виде длинной шейки кондуктор беспомощно развел руками, но через минуту снова исчез и вернулся с диковинным приспособлением для закрывания купе и продырявливания билетов. Мы попробовали, но оно оказалось слишком коротким и пробка остановилась на полпути. На лице кондуктора отразилось бесконечное разочарование. Он снова исчез, и только в пустом коридоре слышались размашистые шаги. Через пару минут он вернулся, сияющий, и потянул меня за рукав. Я подумал, что ему очень хочется этого «токая», и испытал легкую жадность, потому что бутылка была всего-навсего поллитровая. Оживленно разглагольствуя, кондуктор привел меня в сортир и там торжествующе указал на держатель для туалетной бумаги: тонкий, длинный и крепкий. Мы пропихнули пробку внутрь. Я вздохнул и подал ему бутылку. «Пей, брат», — сказал я по-польски. Он приосанился, серьезно указал на мундир, фуражку и всю официальность своего положения, потом похлопал меня по плечу и произнес что-то — видимо, означающее «на здоровье». На рассвете кондуктор появился вновь. Заспанный, он повторял: «Ниредьхаза, Ниредьхаза». Проверил, не забыли ли мы чего, а потом еще помахал из окна.
Так было повсюду. Так было в Хидашнемети на пограничной станции в получасе езды от Кошице: мы вышли на нагретый перрон, а солнце, оставляя красные полосы, скатывалось на запад, словно отрубленная голова петуха. Вокруг, насколько хватало глаз, было пусто. Черные провода исчезали в беспредельности сухих, выжженных полей, и дул ветер. Вокруг станции крутились пограничники в словацкой и венгерской форме. Так, должно быть, выглядели границы на периферии мира, то есть в Европе, в прежние времена: пустота, ветер и гарнизоны, где ждут чего-то, возможно, врага, и, если тот годами не появляется, со скуки пускают себе пулю в лоб. Приехал мужчина на порыжевшем от старости велосипеде, а поскольку мне на тот момент было известно одно-единственное венгерское слово — название городка Гёнц — то я все повторял его, и в конце концов он присел на корточки и пальцем начертал на песке время отправления, а затем, коснувшись моего рюкзака, объяснил, что поезд будет красного цвета, после чего, подняв палец, дал понять, что состоит он из одного-единственного вагона. От мужчины пахло вином, пивом и папиросами. Он подобрал свое средство передвижения и куда-то исчез, но два часа спустя вернулся — удостовериться, что мы погрузились в поезд: красный вагончик уже прибыл.
Так было и в Гёнце: среди ночи цыган с золотой серьгой вел нас по темным переулкам, через сады и брехание собак, вел несколько километров, потому что не мог понять, о чем мы его спрашиваем, а мы шли следом, чтобы в конце концов оказаться в шумном баре, где за столом сидел мужчина, единственный человек в округе, говоривший по-английски. Только он смог сообщить нам, что пансион не работает, потому что хозяйка умерла три дня назад. Но это ничего, добавил он, посадил нас в свою «ладу», и мы помчались со скоростью сто километров в час по серпантинам в глубь земплинских холмов. Порой далеко внизу мелькали ртутные огни на словацкой стороне и над Велька Ида поднималось мертвенное индустриальное зарево. Но здесь, на пути в Телкибаня, были лишь зеленые стены елового леса. Габор отвез нас в гостиницу, затерянную в горах.
Да. В Телкибаня не было ничего — ничего, кроме деревни, простоявшей на этом месте сотни лет. Широкие приземистые дома скрывались в тени садовых деревьев. Серная желтизна стен, темно-коричневый цвет резьбы, причудливые филенки, ставни и веранды образовали волшебный симбиоз с тяжелой, барочной роскошью садов. Он казался идеальным воплощением метафоры оседлости и укоренения. Ни одного нового дома, однако ни один из старых не нуждается в починке или ремонте. Мы были единственными чужаками, однако не привлекали ничьих взглядов. Автобус ходил четыре раза в день. Время сливалось с солнечным светом и около полудня полностью замирало. В пивной с утра сидели мужчины и неспешно потягивали то «палинку», то пиво. Бармен моментально опознал во мне славянина и, наливая, повторял «добрэ» и «на здровье». В таких местах хочется остаться без особых причин. Просто вещи там стоят на своих местах, а люди без нужды не повышают голоса и не делают резких движений. На склоне над деревней белело кладбище. Из окон тянуло тушеным луком. На прилавках лежали груды арбузов и паприки. Женщина вынесла из подвала стеклянный кувшин с вином. Но в конце концов мы покинули Телкибаня, ибо ничто так не вредит утопии, как упования на ее постоянство.
Обратно в Гёнц надо было ехать через леса и бескрайние подсолнечные поля. Водитель белого фургона не умолкал и не смущался тем, что мы не понимаем. Мы тоже что-то говорили. Он внимательно слушал и отвечал на своем языке. В Гёнце он остановился перед Гуситским домом, но достопримечательности нас не интересовали. Мы хотели разглядывать старух, что сидели перед домами на главной улице. Они напоминали ящериц, греющихся на солнце. Их черные одежды впитывали полуденный зной, а глаза глядели на свет неподвижно и безучастно, потому что видели уже все. Они сидели по трое-четверо и в полной тишине наблюдали течение времени. А потом подъехала сверкающая «шкода октавиа» со словацкими номерами, и из нее вылезло семейство. Оно нерешительно оглядывалось, и отец, словно квочка, то и дело собирал домочадцев в стайку и подозрительно смотрел по сторонам, ведь, как известно, у словаков и венгров имеются друг к другу претензии, однако на этот раз все объяснялось, вероятно, не историей, а интуицией, инстинктом, потому что эти приезжие были белыми и пухлыми, точно буханки хлеба, и выглядели туристами-пижонами — шорты, белые гольфы и шлепки, — а главная улица Гёнца была скорее смугла, темноволоса и поджара, нежели рыхла, хоть и погружена в спокойную сиесту. Мы хотели увидеть именно это, а не Гуситский дом с его «удивительной деревянной кроватью, которая выдвигается из стола на манер ящика», как гласит путеводитель. Происходившее на центральной улице Гёнца было интереснее, чем то, что стало историей. Нам это нравилось, поскольку жизнь состоит в первую очередь из застрявших в памяти фрагментов настоящего, и на самом деле именно из них выстраивается наш мир.
Словаки уехали, а я вошел в магазин, потому что было 18 августа, сто шестьдесят девять лет со дня рождения императора Франца Иосифа, и я решил его отпраздновать. Когда я вернулся на завалинку перед магазином, рядом нарисовался бородатый мужчина в пальто в «елочку» на голое тело. Он молча выудил откуда-то из-за пазухи эмалированную кружку и протянул в мою сторону. Мог ли я ему отказать? В такой день? В день рождения Его Величества? Ведь я путешествовал по его земле, а он во время аудиенций принимал даже простых крестьян и не делал различия между сербом и словаком, поляком и румыном. Итак, я вынул только что купленную бутылку грушевой палинки и поделился с ближним. Он молча выпил и указал на мою пачку «кошутов». Я дал ему папиросу. Подошел какой-то тип и на международном языке жестов объяснил, что я имею дело с сумасшедшим. Я подумал, что в Империи и сумасшедшие находили пристанище, а потому снова наполнил кружку. Мы выпили за здоровье Франца Иосифа. Я сказал своему новому приятелю, что всегда был на стороне королей и императоров, и теперь, в наше бедное время, мне их особенно не хватает, потому что демократия не способна удовлетворить ни эстетические, ни мифологические потребности человека, и он чувствует себя одиноким. Мой знакомец торопливо поддакивал и подставлял сосуд. Я наливал и говорил, что в самой идее демократии заключено принципиальное противоречие, ведь настоящая власть по природе своей не может быть имманентной, поскольку напоминает обычную анархию, лишенную анархических забав и радостей. Власть должна приходить извне, только в этом случае ее можно любить и против нее бунтовать. «Igen»,[28] — кивал мой новый товарищ. Наша дискуссия привлекла внимание окружающих. Люди тоже кивали и повторяли «igen, igen». Потом мой собеседник предложил сразиться на локотки. Два раза выиграл он, два — я. Толпа болела за нас и подначивала. Когда мы закончили, мужчины подходили ко мне, хлопали по плечу и повторяли: «Франц Иосиф, Франц Иосиф».
К югу от Гёнца начиналась равнина. Бесконечные поля, засаженные кукурузой, тянулись до самого голубого горизонта. Зеленовато-золотое море омывало подножье гор Земплин и отступало горячей ветреной волной. На полевых дорогах стояли старые легковые машины с прицепами, груженными первым урожаем. Солнце стояло в зените, и тени бежали рядом, как маленькая собачонка. Дороги сходились, скрещивались и расходились. Сверху это, должно быть, напоминало гигантскую настольную игру. Мы не знали правил и заблудились. То есть мы блуждали с самого начала, потому что таков был принцип нашего путешествия, но тут уж начали откровенно кружить. Везде дул горячий ветер, повсюду нас окружал шелест сохших на жаре листьев. Кукуруза повсюду одинакова и напоминает лабиринт. Через три часа нам удалось выбраться. По прямой мы проехали три километра. В Гёнцруске тротуары были фиолетовыми от слив. Над ними роились осы, вокруг ни души. Мы шли по деревне, а из дворов не доносилось ни единого звука. Ставни закрыты. И только у цыган вместо сиесты была фиеста. Они попивали пиво на солнцепеке, перед баром у дороги. Старая цыганка с лицом Эллы Фитцжеральд уговаривала своего мужчину встать и начать собираться. Она стояла, подбоченясь, и голос ее постепенно поднимался до крика, а мужчина сидел и отвечал ей спокойно и невозмутимо, подкрепляя сказанное едва заметными жестами правой ладони. Эту сцену они явно разыгрывали в неизменной форме уже бог знает сколько лет. Женщина топнула ногой, и с земли поднялась пыль.
Мы вышли за околицу. Столбики на шоссе были голубые, и на каждом нарисована белая восьмерка, символ бесконечности. Они стояли через каждые пятьдесят метров, тянулись от холма к холму через равные промежутки до самого горизонта, и мы думали, что это фата-моргана, галлюцинаторная печать обезумевшего зноя, но, когда нас наконец подобрал словацкий фургон, столбики не исчезли. Они мелькали за окном до Вильмани, где мы вышли, чтобы отыскать среди подсолнечных нив железнодорожную станцию, представлявшую собой кусочек вытоптанной земли у путей, без какой-либо таблички, здания, знака или семафора, и обнаружили мы ее только благодаря тому, что там стояли люди, пара ребят, отрешенно растянувшихся на сухой траве, с почти пустой бутылкой минеральной воды и рюкзачком. Ни крыши, ни тени, ни деревца, но на запад открывался гигантский вид, припорошенный лиловым зноем. Длинные, плоские хребты холмов расплывались от жары, и различить удавалось уже только острые башни храмов в Хернадцеце, в Фае, в Гарадне, в Новайидране, в Вижоли, и кто знает, не доносил ли раскаленный воздух сюда, в долину Хорнада, даже тени Мишкольца и Эгера. Да, в тот день было возможно все. Если бы Будапешт приплыл под парусом и парил над нашими головами, мы бы совсем не удивились.
Но вместо столицы в конце концов появился поезд. В нем сидела Элла Фитцжеральд с тремя детьми. Мужчину, видимо, уговорить не удалось. Мы двигались медленно. Нет лучшего средства передвижения по чужой стране, чем пассажирский поезд. Люди садятся, выходят и разыгрывают жизнь так медленно, что она начинает напоминать нашу собственную. Общая картина кажется знакомой. От мужчин, возвращающихся с работы, пахнет так же, как если бы они садились на Жерани и ехали в Насельск. Мать, провожающая шестнадцатилетнюю дочку, сует ей на прощание полиэтиленовый пакет с лакомствами. Дочка равнодушно ее целует, чуть насупившись, садится в вагон, и, когда поезд трогается, мать машет с беспомощной улыбкой, а дитя мыслями уже далеко отсюда и едва ее замечает. Это было, наверное, в Больдогкёваралье… Даже точно там, потому что слева на холме высился средневековый замок. На девушке были голубые джинсы и черные ботинки с серебряными пряжками. Пришел кондуктор и требовал чего-то от цыганки, но она обрушила на него словесный поток, и он пошел дальше. Можно было открыть окно, можно было курить и лениво-возбужденно думать о том, что будет через час, через полчаса и, например, едет ли эта элегантная блондинка с красным маникюром в Серенч или выйдет в еще большем захолустье. Сорок километров в час, ровным размеренным темпом — и ты достигнешь некоторой гармонии с пространством, управляешь им, не причиняя при этом особого вреда.
На вокзале в Серенче пахло шоколадом, потому что совсем рядом находилась крупнейшая в Венгрии кондитерская фабрика. Попивая пиво, палинку и кофе, мы размышляли, что будет дальше. Расписание заключало в себе слишком много возможностей, а внутренний голос временно умолк. Если можно поехать всюду, то не поедешь никуда. Мы решили ничего не предпринимать и предоставить инициативу жизни. И правильно сделали: через час почти к самому столику летнего кафе подкатил пустой автобус с табличкой «Токай».
Я проснулся рано утром и вышел на балкон. Красные крыши потемнели от ночного дождя. Мощеная улочка поблескивала и парила. Во всем городке царила мертвая тишина. Было слышно, как внизу, в саду, падают с листа на лист капли. Шумели только аисты. Один за другим прилетали с берега Тисы и садились каждый на свою трубу. Я насчитал, кажется, с пяток гнезд. Аисты клекотали, им вторило эхо, потом они поправляли перья и возвращались куда-то на берег, на старые тополя. Токай был недвижен и сверкал, точно рыбья чешуя. Я стоял в этой сверхъестественной тишине, курил и думал, что таким должно быть каждое утро мира: абсолютно безмятежное пробуждение в чужом безлюдном городе, где время остановилось и все вокруг напоминает продолжение сна. Перед воротами домов пастельных оттенков колыхались, колеблемые ветром, кованые вывески «Zimmer frei… szoba kiado… Zimmer frei…».[29] Фиалковое веко туч на востоке с усилием приподнималось, пропускало несколько лучей и сразу опускалось. Было так красиво, что я заподозрил, не умер ли ненароком. Чтобы проверить это, я вернулся в комнату. М. еще спала, и я решил, что все в порядке, потому что мы никогда не мечтали умереть в один день, а только спорили, кто кого переживет.
Не надейтесь, что в восемь утра в Токае вам удастся поесть. В застекленном кафе на площади Кошута можно пить одну чашку кофе за другой и смотреть, как дождь поливает пустую площадь. В голову тогда лезут очень интересные мысли. К примеру, последовать ли примеру этих двоих за соседним столиком, что заказали «асу» — два раза по триста грамм, или же спокойно размышлять над вопросом вроде «а что, собственно, я здесь делаю?», то есть твердить главную мантру — а может, молитву — всякого путешественника? Потому что именно во время путешествия, утром в чужом городе, еще до того, как начнет действовать вторая чашка кофе, сильнее всего ощущаешь диковинность собственного, на вид банального, существования. Путешествие — просто относительно здоровая разновидность наркотиков. В конце концов, оказалось достаточно выпить еще одну чашку кофе, подождать, пока небесный кран на мгновение перекроют, и выйти на берег реки, спуститься к зеленой извилистой Тисе, чтобы воображение заявило о себе почти физическим голодом. Ведь протекающая у наших ног вода всего несколько дней назад была в Черной Горе, а спустя еще несколько вольется в Дунай близ Нового Сада. Таков механизм: география упорядочивает пространство, но в голове оставляет хаос, и человеку вместо того, чтобы психологически раскорячиваться меж югом, севером, востоком и западом, хочется обратиться в рыбу.
Неуклонно и путано мы продвигались на восток. Немного в стиле Швейка, направлявшегося в Ческе-Будейовице. Мы бежали от дождя в Токае, чтобы попасть под ливень в Будапеште. Сбежали от толпы, хаоса и бездомности Будапешта, чтобы в четыре утра, распрощавшись с высоченным кондуктором, оказаться на вокзале неведомого, довольно крупного города Ниредьхаза. Четыре утра — самое время, чтобы сесть и расплакаться или ехать дальше. К перрону как раз подкатил такой старинный вагончик узкоколейки, что мы не колебались ни минуты. Там стояла настоящая угольная печка, а труба выходила прямо через крышу. Мы Дотащились до Шоштофюрдо, потому что там заканчивался маршрут нашего зеленого паровозика. Шоштофюрдо еще спало. В пять утра курорты выглядят еще более чудно, чем обычные города. За деревьями блестела гладь соленого озера. Старинная водонапорная башня, большие зонтики с надписью «John Bull Pub», резной отель в швейцарском стиле, стоящий именно здесь — на восточной оконечности Большой Венгерской низменности, — сверкающие под утренним солнцем зады лимузинов, вилла в духе китайского соцреализма, шестигранники с табличками — уже не «Zimmer frei»,[30] a «Wolne pokoje»,[31] и никакого движения, никаких звуков, кроме утреннего птичьего щебетания. Только какой-то пес возник неведомо откуда, обнюхал нас и пошел восвояси. Да, обезлюдевшие курорты всегда напоминают декорации. На песчаной улице мы обнаружили пансион. Хозяйка в фартучке подметала лестницу. Мы сказали, что хотим просто выспаться, ничего больше. На смеси английского и немецкого она объяснила, что спать мы можем до пяти вечера, потом начнется дискотека.
Нас разбудили звуки родной речи. Перед пансионом трое приятелей в свободных портках до колен уговаривали подружку: «Анжелика, ну снимай уже, блин, на хуй!» «Так вы встаньте», — отвечала Анжелика, пытаясь поймать в объектив раскачивающуюся троицу. «Да снимай наконец! Мы же стоим!» — отвечали парни, поддерживая друг друга.
Наше путешествие как-то все более утрачивало свою заграничность. На прощание со Шоштофюрдо мы скромно пообедали. На пятачке перед кафе неистовствовала реклама «Спрайта». Из репродукторов несся гангста-рэп, а венгерские парни на скейтбордах катались вокруг огромных зеленых бутылок, мысленно перевоплощаясь в своих черных братьев. За соседним столиком отец семейства твердил официанту по-польски: «Свиная отбивная с картофелем фри… Свиная отбивная с картофелем фри… Отбивнааая!», но, хотя он все повышал голос, идиот венгр не понимал ни слова. Пора было уезжать. Ни в киосках, ни в магазинах я не мог найти «кошутов». Я приохотился к этим сплющенным папиросам по двадцать пять штук в пачке. По моим наблюдениям, эти оранжевые пачки разграничивали провинцию и метрополию, а точнее, потуги на метрополию. В обычных деревнях и земплинских городках их можно было обнаружить на каждом углу. Но в Токае, не говоря уже о Будапеште, «кошуты» отсутствовали.
Примерно так мы и путешествовали. Вместо того, чтобы идти следами, скажем, Кошута Лайоша,[32] мы двигались по пути самых дешевых табачных изделий. Просто Кошут Лайош уцелеет — сохранится хотя бы в названиях улиц, площадей и бульваров, всех этих utca, ter, korut,[33] а папиросы в оранжевых пачках исчезнут вместе с миром, который их курил, подобно тому, как исчезнут заброшенные крестьянские хозяйства, где я чувствовал себя как дома, словно никуда не уезжал. Так я размышлял о своей Европе — о пространстве, в котором вопреки пройденным расстояниям и пересеченным границам, вопреки сменяющим друг друга языкам кажется, что ты едешь из Горлице, скажем, в Санок. Так размышлял я о последнем настоящем мифе, а может, иллюзии, бальзаме на раны бездомности в этом все более беспризорном мире. Конечно, это были мысли идеалиста, тем не менее я предавался им с большим удовольствием где-то между Надькалло и Матесалькой под пурпурным закатным небом. Я воображал, что этот пурпур — зарево пылающей Вены, которая наконец одаряет свои периферии и провинции последним зрелищем и в гигантском аутодафе жертвует своими понтовыми магазинами, витринами на Грабен, своими архетипическими мещанами, прогуливающими по утрам собак, своими воспоминаниями и бесконечной печалью, порывами ветра, налетающими на Хофбург и площадь Марии Терезии и щадящими разве что кафе «Гавелка» да ночную будочку с горячими колбасками на площади Святого Стефана. Таким сентиментальным размышлениям я предавался между Надькалло и Матесалькой, пытаясь спланировать эффектный и героический финал для мира, откровенно рассыпавшегося от старости.
«Маршрут этот славится грабежами и кражами. Даже украинские таможенники порой вымогают у путешественников деньги или конфискуют понравившиеся им предметы». Так гласит путеводитель. Разумеется, нас сразу туда потянуло. Тем более что другого перехода, кроме как в Загонах, между Венгрией и Украиной нет.
Ожидая на станции Загоны поезда через границу, мы произвели необходимые приготовления. Сперва спрятали на дно рюкзака «предмет, который может им понравиться», то есть пятнадцатилетний фотоаппарат «Практика». Затем подготовились к «вымогательству», распихав по карманам всевозможные суммы во всех имеющихся валютах. Тут доллар, там два, тут десятка на случай злостной неподкупности. Кроме того, словацкие кроны, форинты и даже румынские леи — кто знает, что придется по вкусу парням. Для храбрости мы потягивали остатки грушевой палинки, стараясь не думать, что, возможно, это последняя палинка в нашей жизни.
Подошел поезд. Собственно, два вагона плюс локомотив. В первый вагон молодежь грузила товар: стиральные машины, холодильники, плиты, шины, половинки и четвертушки автомобилей и прочие предметы повседневного обихода. Во втором вагоне были мы и сотня других пассажиров. Кроме нас, все говорили по-венгерски, по-украински, по-русски, по-цыгански и — если не ошибаюсь — по-румынски. Напротив сидела женщина. У нее были только паспорт и пятилитровая бутылка масла. Венгры нас проверили, и поезд перекатился через граничный мост на Тисе. Тогда в проходе между вагонами начало что-то происходить. Один бритоголовый бил другого. Потом вмешались девушки, и получилась такая куча-мала, что ничего уже было не разобрать. Однако кто-то, должно быть, проиграл сражение, потому что вскоре одна из девушек вошла в купе и попросила бутылку воды, чтобы привести пострадавшего в чувство и перевязать. Похоже, это был сугубо внутренний конфликт, так что мы спокойно ехали, любуясь пейзажами. Появились украинские пограничник и таможенник. Он небрежно просматривал паспорта и невзначай ставил печати. Я судорожно пытался вспомнить, куда какие суммы запихал. От страха я все забыл и в пиковой ситуации мог, как последний идиот, извлечь, например, полсотни баксов. Пограничники все приближались, а я в легкой панике сжимал в руке пятьсот румынских леев, ровно столько, сколько стоят в Бухаресте спички. Наконец пограничник подошел к нам, и я подал ему паспорта. Едва взглянув на наши документы, он сунул их в карман и сказал по-украински: «В Чопе на вокзале зайдете ко мне».
На вокзале в Чопе происходила разгрузка. Люди передавали через головы стиральные машины, холодильники, а также четвертушки и половинки автомобилей. Двое бритоголовых в мире и согласии тащили телевизор. Мы высмотрели в толпе нашего пограничника. Он сонно и устало кивнул. Мы шли за ним, а я припоминал, где спрятал сотню долларов. Он вел нас, точно приговоренных, через зал таможенного контроля. Время от времени кому-нибудь кивал. Мы прошли таможенный контроль, паспортный контроль, протиснулись через толпу и вдруг оказались на другой стороне. Тогда наш проводник вручил нам проштампованные паспорта и сказал: «Я не хотел, чтобы вы стояли в этих очередях. А гривны у вас есть?» «Только доллары», — выпалил я, как дурак. Тогда он оглядел зал и кивком подозвал невысокого мужика с полиэтиленовым пакетом в руке. Мужик подошел. Пограничник сказал: «Поменяй, только по приличному курсу». Пакет был набит пачками гривен, стянутых резинками. Пограничник спросил, не нужно ли нам чего-нибудь еще, пожелал счастливого пути, и мы снова остались одни.
Бая-Маре
И вот я увидел Бая-Баре в лучах солнца, которое уже катилось на запад, к Большой Венгерской низменности. В воздухе еще висели последние капли дождя, и над долиной реки Лэпуш вставала радуга. Влажная золотая пыль поднималась над равниной, над шоссе, над мостом, над пастбищами, над белыми облаками цветущих деревьев, над миром и всей провинцией Марамуреш. Такой свет бывает только после грозы, когда пространство заполнено сверхъестественным электричеством. Не исключено, однако, что сияние исходило откуда-то из недр, из упрятанных в горах залежей руды. Бая-Маре, Надьаня, гигантская шахта, золотоносные копи, трансильванское Эльдорадо в двухстах пятидесяти километрах от моего дома — так я думал, пересекая реку Лэпуш. На севере возвышалась гора Игниш. Там еще лежала тень и вершины были мокрого синего цвета. Гроза нас опередила и теперь неслась по долине Черной Тисы к Черной Горе и Свидовцу.
На Бая-Маре я смотрел издали, потому что не хотел заезжать в центр. У самого города я обнаружил объезд — поворот на Сигет и Клуж. Шоссе петляло по промышленным пригородам. Ни машин, ни людей. Плоское пространство было занято проржавевшим металлом, раскрошенным бетоном и использованным пластиком. Горы мусора тлели сонно и смрадно. Солнце озаряло порыжевшие конструкции, растрескавшееся стекло ангаров, выпотрошенные склады, замершие краны, коррозию стали и эррозию стен. Столбы электропередач, силосные ямы, башенные краны и трубы отбрасывали длинные черные тени. Одна и та же картина, насколько хватало глаз: хаос проводов в небе и паутина железнодорожных рельсов на земле. Холмы черного шлама — каких-то химических отходов — сменялись холмами полимеров, картонных коробок и битого стекла. Железные бочки, резиновые шланги, радиоактивная грязь, цианид с золотых копей, свинец и цинк, тряпки и нейлон, щелочи и кислоты, асфальт, масляные пруды, сажа, дым и окончательный декаданс индустриальности — а поверх всего лучистое небо.
Среди руин, среди отвалов, на зеленых лоскутках чахлой травы паслись коровы. В тени гигантской стальной трубы топталось овечье стадо. В Бая-Маре время описывало круг. Животные бродили среди мертвых машин. Эти хрупкие на вид, мягкие и беспомощные твари существовали испокон века и спокойно одерживали верх. То же я видел в Орадее: стада коров отдыхали на железнодорожных переездах, а стоявшие на запасных путях вагоны были такого же рыжего цвета, как животные, только холодные, мертвые и измученные. То же в пригородах Сату-Маре — там овцы шествовали по шоссе номер 19, - и в Сучаве, где в центре города пасся белый конь, и опять-таки в Орадее — лошади среди хаоса путей, объездов, среди бесконечности жестяных ангаров, среди колышущихся грузовиков гнедые, пегие, сивые и в яблоках без отвращения щипали отравленную траву. Как будто паслись там с сотворения мира.
Через несколько дней в Банате Валиу рассказывал нам о первом румынском локомотиве. Его построили в городе Решита в 1872 году и пожелали продемонстрировать в Вене императору, потому что как раз приближалась Всемирная выставка. Но железных дорог поблизости не было — ни одной ветки. Поэтому запрягли двенадцать пар волов, которые потащили паровоз к Дунаю, к Железным воротам, к порту в Турну-Северин, а может, в Оршова, во всяком случае, предстояло не меньше сотни километров пути по зеленым Банатским горам. Тела животных были, вероятно, горячими и блестящими от пота, точно паровые машины. Ремни, цепи, деревянные ярма на загривках, грязь, скрип, проклятия и аромат золотистой цуйки, смешанный со смрадом звериных и человеческих тел, наполняли долины. Над скотиной в поисках ран, царапин и крови кружили плотоядные мухи. Черная, смазанная маслом машина двигалась медленно, величественно, а ее красное брюхо сияло так ярко, что сербские и румынские крестьяне останавливались, ослепленные, у дороги, крестились и сплевывали на землю с отвращением, страхом и восхищением одновременно. Они в жизни не видели ничего подобного и теперь преисполнились уверенности, что мир катится к закату. Клепаный дьявол двигался по деревням под щелканье бичей, а колеса платформы, на которой везли чудовище, рассекали землю так глубоко, что следам этим уже не суждено было затянуться. На ночных стоянках разводили костры, военные расставляли посты, а погонщики напивались вусмерть, ибо на сердце у них было неспокойно. В синих глазах животных отражалось пламя.
Сколько могло продолжаться это путешествие? Валиу, знавший о Банате все, этой подробности не помнил. Две недели? Три? На берегу реки погонщики волов выпрягли животных, получили деньги и облегченно ушли в глубь лесистых долин.
Да, моя Европа населена животными. Крупные, вымазанные грязью свиньи на обочине где-нибудь между Тисаёршем и Надьиваном, собаки у столиков бухарестского кафе, буйволы в Решинари, предоставленные самим себе лошади в Черной-Горе. Я просыпаюсь в пять утра и слышу бренчание овечьих колокольчиков. Идет дождь и мычание коров звучит приглушенно, плоско, не отзывается эхом. Как-то я спросил одну женщину, зачем ей в хозяйстве столько коров, ведь молоко никто не покупает. «Как это зачем? — ответила она, словно не поняла вопрос. — Кого-то ведь надо держать». Ей и в голову не приходило просто взять и оборвать архаическую связь между миром человеческим и животным. «Что мы за люди, если не имеем животных». Примерно такова была суть ее ответа, воплощавшего страх рода людского перед одиночеством. Скот — недостающее звено, соединяющее нас с прочим миром. Мы разводим и пожираем наших предков. Здесь это видно наглядно. Так же наглядно, как в Бая-Маре, среди развалин индустриального мира, который просуществовал всего сотню лет, и даже восстанови его кто-нибудь, саморазрушение заложено в его природе. Машины сродни зомби. Они питаются нашим вожделением к вещам, жадностью и стремлением к земному бессмертию. Они существуют ровно столько, сколько мы в них нуждаемся. Стоит отвести глаза в сторону — и они моментально начинают разлагаться, дохнуть и рассыпаться, точно обескровленные вампиры. Лишь изредка некоторые из них удостаиваются милости покойной старости. Вроде этого парома в Тисатардошем: скрипучая деревянная платформа, которую приводил в движение маленький мотор, пересекала зеленое русло Тисы медленно и словно бы нехотя. На обоих берегах росли лоза и тополя. Ни одного здания, кроме жестяного барака, где подавали грушевую палинку и крепкий кофе. От зноя из глубины реки поднимался рыбий и илистый запах. Ниже по течению стоял по брюхо в воде черно-белый скот. В медовом сиянии солнца движения и звуки замирали. Серое суденышко в этом свете напоминало высохший листок, принесенный из какой-то далекой осени. Механик был не менее древний. В тысячный раз он всматривался в эти виды, в зеленоватую зеркальную картину реки. Мотор стрекотал, распространяя запах бензина, и сливался с пейзажем. Казалось, он был здесь всегда. Когда наступали осенние холода, старик, наверное, грелся в его тепле. Во время простоев, когда ни на этом, ни на том берегу не находилось желающих переправиться, паромщик, вероятно, ухаживал за ним, следил, протирал бурый корпус, проверял, не подтекает ли топливо и масло. Полагаю, они оба чувствовали себя чуть одиноко в этом бесконечном странствии, которое не отдаляло и не приближало их к чему бы то ни было. Они были подобны маятнику, раскачивающемуся поперек времени.
А назавтра мне следовало быть в Бая-Маре, которое раньше носило имя Надьбанья. Я собирался идти по следу минувшего, искать это неизбывное «некогда», что заменяет в моих краях настоящее, поскольку «завтра», в сущности, никогда не наступает, оно задерживается в дальних странах, прельщенное их обаянием, подкупленное, а может, попросту выбившись из сил. То, чему суждено случиться, никогда сюда не добирается, изнашиваясь где-то по дороге, и замирает, точно свет далекого фонаря. Здесь царит вечный закат и дети рождаются усталыми. В косом свете поздней осени жесты и тела людей тем отчетливее, чем меньше значат. Мужчины стоят на перекрестках, вглядываясь в пустоту дня. Сплевывают на тротуар и курят папиросы. Это настоящее. Таковы город Сабинов, город Горлице, Гёнц, Карансебеш — все знаменитое Междуморье[34] от Черного моря до Балтики. Они стоят и пересчитывают оставшиеся в пачках папиросы и мелочь в карманах. Время приходит издалека и напоминает чужой воздух, которым уже кто-то подышал.
Цара Секуилор, Секейфёльд, Секлерланд
На сей раз мне пришлось подклеить мою старую карту пластырем. Она протерлась и потрескалась от постоянного складывания и раскладывания на ветру, на коленях, на капоте машины. Я купил ее когда-то в Меркуря-Чуке, в ста пятидесяти километрах к востоку отсюда. Здесь никаких карт не купишь, хотя земля между Заксенбахом, Мадярчергедом и Рошия-де-Секашем — словно воплощение архаической географии. Голое, безлесное и волнистое пространство. Холмы оседают под собственной тяжестью. Придавленные огромным небом. Овечьи стада почти сливаются с монотонной беспредельностью пейзажа. Животные имеют цвет выжженных солнцем трав.
Каждый раз, когда я приезжаю, здесь стоит жара. Я рассматриваю свою карту и вижу, как по полевой дороге идут от Чергэу двое мужчин с велосипедами. Лишь добравшись до асфальта, они садятся в седло и едут вдоль опустевшей котловины. Катятся, точно черные камушки по краю неба и выгоревших трав. Вскоре я уже могу различить, как хлопают их развевающиеся пиджаки. Шоссе идет немного под уклон, и педали крутить не приходится. Первый проезжает мимо и спускается по серпантину в сторону Роткирха. Второй тормозит и останавливается рядом со мной. Ободранный, потрепанный и грязный. Одежда вот-вот рассыплется от ветхости, как и допотопный велосипед. Из его слов я понимаю только «foe» и «fuma»,[35] вынимаю зажигалку, а он, обыскав карманы, вытаскивает пачку «Карпат». Я даю ему закурить, он затягивается, благодарит и начинает разгонять свой скрипучий велосипед, в котором ржа давно выела всю смазку. От него остается облако дыма, смешанное со смутным запахом человеческого тела, и тает в воздухе, который, в свою очередь, наполнен вездесущим запахом овечьего навоза и растоптанных копытами трав. Ветер снова поднимает полы черного пиджака, мужчины уже нет и никогда не будет. Я рассматриваю карту и пытаюсь угадать, поехал ли он в Секешверешедьхазе, в Тэу или в Огабе, в одну из деревень, подобных брошенной на дно долины горсти керамических черепков. Так это выглядит сверху: пыльная глиняная желтизна стен, пыль и темно-коричневая чешуя черепицы.
То же в Шпринге. Деревня напоминает одноэтажный город. Дома тянутся стеной по обе стороны дороги. Приземистые и тяжелые. Сводчатые полукруглые ворота ведут в тесные дворы, но обо всем приходилось догадываться, потому что ни один не был открыт, все, казалось, навеки заперты от наползающего с голых холмов страха перед огромностью пространства.
Desertum, пустыня — так называли эти края, когда король Бела III[36] привозил поселенцев из Фландрии, с Надрении и с берегов Мозеля. В те времена полторы тысячи километров по прямой для простого смертного означали, что на обратный путь не хватит сил. Неуклюжие телеги на огромных колесах, волы в ярме, через Брабант, вверх по Рейну. Через Майнц, по тесным долинам Шварцвальда, среди мычания скота, в грязи, близ Фрайбурга надо отыскать тонкую ниточку Дуная, дождь на стоянках между Аугсбургом и Регенсбургом, костры из мокрого хвороста, дым коптит глиняные горшки, континент мягко нисходит к востоку, но то, чего достаточно для течения вод, для человека утешение слабое, он вязнет в грязи и преисполняется страха перед грядущим, которое смешивается и переплетается с пространством.
Как раз в Шпринге я остановился выпить кофе. Хотя с тем же успехом это могло быть в Гергешдорфе. В кафе стояли железные стулья и столы. Было жарко и грязно. В углу сидели двое. От них тянуло овечьим смрадом. Они словно бы явились из неких доисторических времен: черные, коренастые, спутанные волосы переходили в бороды. У входа стоял дохлый разбитый «флиппер». Да, они только что вышли из животного мира. Брюки на коленях блестели от соприкосновения с жирной овечьей шерстью. Несмотря на жару, они были одеты в свитера и куртки. Пили пиво без единого слова, сидя рядом, вглядываясь в пространство забегаловки, вероятно слишком для них тесное, слишком замкнутое, так что они молча, экономя жесты, глоток за глотком вливали в себя пиво «Чук». Чтобы поскорее выйти на воздух.
Лицо у мужчины за стойкой было белое и одутловатое. Я произнес несколько слов по-румынски, но он только взял деньги, дал сдачу и вернулся в свое печальное царство, состоящее из нескольких бутылок «палинки де бихор», папирос «Карпаты» и закупоренных металлическими колпачками пузатых бутылей с вином, которое стоило дешевле «колы» и «фанты». Были там еще эмалированная турка и электроплитка, покрытая коричневой коркой, — память о сотни раз вскипавшем кофе.
Я получил свою чашку и сел у окна — разглядывать трансильванскую жару. Двое мужчин невесть откуда извлекли полуторалитровые пластмассовые бутылки и теперь ждали возле стойки, чтобы их наполнили пивом. Потом я видел, как они шагают по раскаленной улице — фигуры темные, как тени, движения по-звериному стремительные, короткие и точные.
Больше никто не появлялся. Мужик за стойкой убивал время с помощью мелких действий, сливавшихся в неподвижность. Бледный, массивный и грузный, он впитывал время, словно губка. Что-то переставлял, протирал, поправлял, но будущее все не наступало. Его предки прибыли сюда восемьсот лет назад на возах, запряженных волами. Строили города, деревни и соборы-крепости на холмах. Открывали больницы и дома престарелых. Сами выбирали священников и судей. Подчинялись только королю и не платили налогов. Лишь были обязаны ежегодно поставлять в венгерскую королевскую армию пятьсот конников. В своем сердце они принесли образы жилищ и храмов, брошенных где-то на берегах Рейна, чтобы воспроизвести их здесь в тех же формах и пропорциях. Кирпичная и каменная готика материализовалась среди холмов Desertum. Часы на четырехугольных башнях тронулись с места и стали дробить время, прежде текшее непрерывным потоком.
За окном ничего не происходило. С сухих холмов стекал зной, вливался в открытые двери и заполнял все внутри, весь этот бардак и случайность, грязь, щербатые стаканы, захватанные кружки, бутылки мутного стекла, мертвый пластик, горячей волной накрывал раздолбанные механизмы, напирал на стены, на стекла, засранные многими поколениями мух, выметал всю эту помойку обломков, изображающих пользу, этот героический бардак, разыгрывающий комедию бытия. Да, трансильванская пустыня входила в гергешдорфское кафе, как к себе домой.
Я отнес чашку на стойку. Мужик даже не поднял глаз. Лишь когда я сказал: «Danke, aufwiedersehen»,[37] он посмотрел на меня, словно только теперь заметил мое присутствие. Пока он попытался изобразить на своем тяжелом лице какие-то чувства, я уже исчез.
В тот же день я поехал в деревню Рошия, в сорока километрах к юго-востоку. Мне хотелось увидеть место, где живет пастор, который пишет книги и служит тюремным капелланом. Его не было дома. Он поехал в Будапешт. Так, во всяком случае, сказал человек, открывший нам храм. Внутри было тесно и сурово. На лавках лежали подушки. В каменных интерьерах все предметы казались случайными и непрочными — словно кто-то попытался заполнить вещами древнее и совершенное пространство, меблировать пещеру. «…So will dir die Krone de Leben geben».[38] Вот что мне удалось запомнить из надписи на черной хоругви. В шестиконечных подсвечниках стояли красные свечи. На скамейках могло разместиться десятка полтора прихожан, не больше. Где-то я читал, что приход пастора — главным образом цыгане. Пахло архаической святостью. Она, должно быть, впиталась в стены, которые теперь источали ее, но запах сделался слабым и печальным. Холод и влага давно разбавили людской дух, и теперь храм напоминал дом стариков, которых никто не навещает. Или игрушечный домик давно повзрослевшего ребенка. Потом я пошел на околицу — взглянуть на долину Ольты. На северных склонах Негой и Молдовяну лежал снег. Вниз по желтоватой каменистой дороге громыхало на тележке смуглое семейство. Детвора наперебой кричала, приветствуя меня: «Buna ziua! Buna ziua!»[39]
Возвращаясь к машине, я заметил эту лавочку. В нее вело несколько ступенек, а внутри можно было только стоять или поворачиваться на месте. Каморку делил пополам узкий прилавок. За ним на стене висело несколько полок. Ассортимент был такой, как во всех магазинчиках в румынской провинции: всего понемногу, все чуть выгоревшее, выцветшее и неброское. Банки, пакеты и бутылки, казалось, стояли здесь вечно и готовились простоять до самого конца, когда они постепенно дематериализуются. Но эта печаль ничтожности, memento жизненно необходимых товаров — сахара, риса, спичек и папирос «Карпаты» — излучала в темном и тесном пространстве некую героическую ауру. Все было расставлено безупречно строго, безукоризненно аккуратно. Полочки выстелены чистой бумагой, предметы отделены друг от друга точно отмеренными расстояниями. Да, то был мир исчезающий и цепенеющий, но до гробовой доски отстаивающий свою продуманную и сознательную форму.
Из узкой двери в подсобку вышла хрупкая старушка. Мне, собственно, ничего не было нужно, но я попросил чего-нибудь попить. Старушка двигалась подобно седому духу: медленно, беззвучно и осторожно, точно не желая тревожить застывшее пространство лавочки. Она улыбнулась и сказала, что должна спуститься в подвал, который служит холодильником. Вернулась с холодной бутылкой какого-то сока. Выдала мне сдачу, очень неторопливо и тщательно отсчитав деньги.
Я вышел и присел на ступеньку. Послеобеденная пора пахла навозом и отрешенностью. Из-за высоких заборов не доносилось ни звука. Горячая тень вечной сиесты наполняла переулки деревни Рошия и разбавляла время. В домах наверняка имелись какие-нибудь часы, но их механизмы и стрелки вращались впустую.
На следующий день я побывал в Якобени, всего в сорока с лишним километрах на северо-восток. Я застрял в лабиринте Зибенбюргена-Семиградья. Покинув Хортобадьфальву, оказывался на околице Хервесдорфа. Въезжал в Альцину и выезжал из Альцен. Начиналась Агнита, и заканчивалась Сентагота. Все продолжалось гораздо дольше, чем можно было судить по счетчику и часам. Я ехал через помноженные края и ехал вдвое, втрое медленнее.
В Якобени было пусто. Посреди большой площади росло несколько старых деревьев. Зеленый майдан окружала плотная застройка. Большинство домов казались покинутыми. Впрочем, вся деревня производила впечатление обезлюдевшей. Солнце стояло в зените, так что, возможно, была сиеста, но даже если кто-то отдыхал, то вряд ли мог сильно утомиться, ибо и дома, и площадь были предоставлены сами себе. Они зарастали, осыпались, кренились, трескались и врастали в землю. С дерева сходила краска, со стен облупливалась штукатурка. Оставленная без присмотра материя крошилась под бременем собственного веса. Я остановился в тени под деревьями. И тут неведомо откуда появилась пятерка ребятишек. Самому старшему лет десять. Они были необычайно живыми, неимоверно подвижными в этом мертвом южном пейзаже. Точно солнце придавало им сил. Они окружили меня и наперебой пытались завязать разговор. На нескольких языках разом: по-румынски, по-немецки, на каком-то туманно-славянском, может, русском, а может, словацком; вклинивались также отдельные английские слова и, кажется, венгерские. Я попал в эпицентр болтливого водоворота и мог разве что улыбаться. В конце концов я понял, что они желают показать мне, как всякому наивному чужеземцу, деревню, то есть остатки саксонских достопримечательностей в виде руин собора-крепости. Наверняка не в первый и не в последний раз. Я пошел с ними, но величественные достопримечательности меня совершенно не интересовали. Я рассматривал цыганят. Эта деревня, все это пространство принадлежало им. Вероятнее всего, они здесь и родились. Их родители заняли дома, оставленные немцами, которые вернулись на прежнюю родину. Но все вокруг было их собственностью. Деревня, чей возраст насчитывал несколько сотен лет, обращалась в табор. Постоянное с его кажущейся незыблемостью пасовало перед преходящим, изменчивым, просто-таки нереальным. Дети демонстрировали мне построенный чужими руками средневековый костел, угощали сливами с выращенных чужими руками придорожных деревьев, говорили на языках, которые не были им родными. Они прибыли сюда через двести лет после саксонцев и без всякого приглашения. Они не хранили в своем сердце образ отчизны, жилищ и храмов, которые собирались воспроизвести. Их память не знала истории, одни лишь сказки и легенды — формы, которые в нашем понимании характерны для детского сознания и никак не способствуют выживанию. Что касается вещей, их было ровно столько, чтобы в любой момент бесследно исчезнуть вместе со всем скарбом.
Потом они показали мне дом, где жил местный ксендз или пастор. Во всяком случае, они именовали его «патер». Сквозь запертую решетчатую калитку видно было немного: ухоженный двор, виноград, скрывший стены, и что-то вроде небольшого бассейна. На фоне остальной деревни это выглядело слегка абсурдно. Я нажал на кнопку звонка, но никто не вышел. Я спросил, здоров ли ксендз: «Bun pater?»[40] Они качали головами: «Nu bun, nu…»[41]
Я смотрел на разрушающуюся деревню, свалку в центре площади, боязливо запертый на все замки дом приходского священника с бассейном и ощущал, что они взяли верх. С 1322 года, когда Европа впервые заметила их присутствие где-то на Пелопонесском полуострове, они, в сущности, не изменились. Европа рождала народы, королевства, империи и государства, которые существовали и умирали. Увлеченной развитием, экспансией и ростом, ей было невдомек, что можно жить вне времени, вне истории. А они между тем совершили это чудо. С сардонической улыбкой глядели на пароксизмы нашей цивилизации и если брали из нее что-нибудь для себя, то лишь мусор, отходы, полуразрушенные дома и милостыню. Так, словно все прочее не представляло для них ни малейшей ценности.
Теперь их жертвой стало саксонское Якобени. В стенах, простоявших многие сотни лет, пропитанных усилиями, бережливостью, традицией, всеми теми добродетелями, из которых состоит цивилизационная преемственность, попросту разбили табор, как разбивают его в чистом поле, словно были здесь первыми жителями.
Мы отошли от запертого дома священника. Ребята потащили меня в какие-то переулки. Они все время болтали, пытались петь, крутились вокруг меня, и наш брейгелевский хоровод добрался наконец до магазинчика, их конечной цели. Он совсем не напоминал лавочку в Рошии: небольшой темный склад в какой-то кладовке или пристройке. Товары с черного рынка, всего понемножку, все бесформенными кучами, стопками, грудой, брошенное и забытое, покрывшееся пылью и ожидающее милости покупателей. Я взял несколько бутылок какой-то сладкой газировки, кулек конфет, и мы вышли на улицу. Я отдал покупки детям, и они тут же стремительно и мудрено все поделили, исходя из принципа, что львиную долю забирает сильнейший и старший. Увлекшись жеванием и распихиванием по карманам, они перестали обращать на меня внимание. Они вернулись в свой мир, а я остался в своем. Как и положено, как происходило всегда, начиная с 1322 года.
На моей старой подклеенной карте названия местностей даны по-румынски, по-венгерски и по-немецки. Цара Секуилор, Секейфёльд, Секлерланд. Никто не догадался обозначить их также на языке ромов. Думаю, что меньше всего заинтересованы в этом сами цыгане. Их география подвижна и неуловима. Очень может быть, что она переживет нашу.
Страна, с которой началась война
В полшестого было еще совершено темно. Я вышел на набережную Прешерна и пошел направо, на северо-запад. Вода была темно-синей и почти гладкой. Горели фонари. Каменные плиты набережной блестели после вчерашнего дождя. Я приехал сюда, чтобы увидеть западную оконечность славянской Европы.
Из узких просветов между домиками тянуло кошачьей мочой. Маяк на мысе посылал во тьму последние лучи света. Через полчаса он должен был погаснуть. У его подножия стоял одинокий красный «рено». Довольно обшарпанный на вид. Видимо, дела у служителей маяка шли не очень хорошо. Я миновал маяк и вышел на другую сторону полуострова. Море здесь было тяжелее, шумливее и подвижнее. В нескольких десятках метров от берега вода соединялась с темнотой, но где-то бесконечно далеко, в недрах тьмы, я видел белые тучи. Там, должно быть, было светлее.
Набережная закончилась, и мне пришлось прыгать по камням. Справа вертикально поднималась рыхлая сланцевая скала. Кто-то поставил табличку, что гулять здесь можно только под собственную ответственность. Я приехал только на три дня, и целиком и полностью полагался на судьбу. Менее чем в двадцати километрах на северо-восток был Триест, в восьмидесяти на запад — Венеция. Я все думал, что воздух там такой же холодный и влажный. Со стороны порта доносилось стрекотание дизельных моторчиков. Вскоре я увидел первую рыбацкую лодку. Маленькую и расплывчатую на темном фоне водяного зеркала. Мотор смолк. Человек на корме сидел неподвижно, словно ждал, пока рассветет как следует.
Это были не тучи. Час спустя я стоял во дворике собора Святого Георгия и с высоты нескольких десятков метров глядел на залив, на белые вершины Юлийских Альп и, возможно, сам Триглав. Что значит сотня километров в такое утро, когда солнце сияет ослепительно, словно в июльский полдень, а предметы отбрасывают тяжелые смоляные тени, подобные самой черной ночи? Горы пылали красным и оранжевым, угасая, делались фиолетовыми и серо-бурыми, по мере того как свет скользил по перевалам и долинам. Стеклянистый воздух нивелировал расстояния. Казалось, рыбацкие лодки плывут в глубь залива лишь затем, чтобы спустя час или полчаса пристать к подножью гор. Мне пришлось расстаться с этой картиной, уж слишком она была нереальна.
В соборах Святого Стефана, Святого Франциска, Девы Марии в снегах звонили колокола. Красные крыши домов образовали причудливую мозаику. Из труб поднимались вертикальные полоски голубого дыма. Пахло смолой и ладаном. Здесь топили дровами. Наверное, мне показалось, но я мог поклясться, что ощущаю также аромат только что смолотого и сваренного кофе. Среди геометрии черепичных плоскостей зеленели пятна садов. В городе не было кусочка свободного места, не было ничего дикого, ни следа инерции, безхозности, ни крошки пространства как такового. Потому так немного было здесь собак, и именно им предназначались контейнеры с изображением Бобика, делающего кучку. Это был город котов. Глядя сверху на крыши, я видел, как кошки выбираются из укромных уголков на поиски теплых солнечных пятен. Десятки котов и кошек сотен цветов и оттенков. Поодиночке, парами, преследующие, ласкающиеся, ухаживающие, равнодушные, напряженно задрав хвосты, обходящие границы своих территорий, кувыркающиеся, растянувшиеся на утреннем солнышке, маленькие, средние и большие, размером с пса-недомерка, — за полчаса не сходя с места я насчитал их около полусотни. Они терлись о трубы, вылизывали шерстку, перемахивали со своего участка на чужой и обратно. Поистине кошачье государство в городе. И это было единственное движение, какое мне удалось разглядеть с высоких стен собора Святого Георгия. Все под звон колоколов Девы Марии в снегах.
Хорошо приезжать в страну, о которой почти ничего не знаешь. Тогда мысли затихают и становятся бесполезны. Все приходится начинать сызнова. В стране, о которой почти ничего не знаешь, память теряет смысл. Можно сравнивать цвета, запахи или какие-то туманные воспоминания. В жизни появляется что-то инфантильное и животное. Вещи и события о чем-то напоминают, но так и не выходят за границы того, чем являются на самом деле. Они начинаются именно тогда, когда мы обращаем на них внимание, и моментально исчезают, заслоненные следующими. На самом деле они не имеют значения. Сделаны из праматерии, которая, правда, затрагивает наши органы чувств, но слишком воздушна, слишком тонка, чтобы проучить.
Когда я вернулся на набережную, день уже разгорелся вовсю. Двери кафе были открыты, машины маневрировали на тесном бульваре, мужики в комбинезонах втаскивали на «леса» ведра с раствором, мусорщики грузили мебель, выставленную на улицу и с виду еще вполне приличную, женщины на высоких каблуках обходили оставшиеся лужи, пахло тушеным луком. Мужчина в свитере, тапочках и спортивных штанах вышел на край набережной и стал забрасывать спиннинг. На пятый или шестой раз он вытянул рыбу. Оглушил ее, шлепнув о каменные плиты, и скрылся со своей добычей в тесной улочке. Детвора с рюкзаками шла в школу, пожилые дамы парами семенили на прогулку. Рыбаки в шерстяных шапках чистили лодки в портовом бассейне. Один из них бросил на берег остатки рыбы. Тут же появился черный кот. В следующее мгновение прибежал пес, но кот попросту отогнал дворняжку. Под арками у рыночной площади, выходившей прямо в порт, стояли мужчины с усталыми лицами и привычно надеялись, что день подарит шанс или сюрприз.
Все это совершалось в ослепительных лучах солнца на самом краю суши. Нутро города было влажным и темным. Оно напоминало лабиринт. Дома росли один из другого, опирались друг о друга, расступались на ширину плеч, и прогулка по мощенным улочкам попахивала извращением. Чужая жизнь текла вплотную к собственной. Время от времени открывалась входная дверь, и можно было заметить ровный ряд тапочек, одежду на крючках и зеркала, в которые кто-то бросал на пороге последний взгляд. Блуждая внутри города, даже когда тот пустовал, человек был окружен незримой толпой. Голоса за стенами, разговоры, заставленные едой столы под зажженными лампами, запахи пищи, шум воды в ванных, ссоры, жесты — вся интимность жизни находилась в поле зрения, слуха и обоняния. Город напоминал один большой дом, тысячи квартир, соединенных холодными и темными коридорами, или же комфортабельную тюрьму, в которой каждый волен заниматься любимым делом. Пиран был подобен светскому монастырю.
Я подумал, что такие города могут существовать только на море или в пустыне. В замкнутом пейзаже жителям грозило бы безумие. Здесь же достаточно сделать несколько шагов, чтобы выбраться из человеческого термитника, из этого полуархитектонического-полугеологического творения, — и сразу открывается бесконечность моря и воздуха, ограниченная лишь расплывчатой линией горизонта.
В восемь утра я пил кофе и видел, как белый паром плывет из Пулы в Венецию. Официантка стерла с моего столика остатки дождя. В кафе звучали записи «Буэна Виста». Маленький песик забежал внутрь, облил ножку стула и спокойно вышел. Внутри было темно, интерьер стилизован под старый корабль, но я предпочитал сидеть ни улице и смотреть, как светлеет воздух. Вокруг портового бассейна сновали фургоны. Мачты яхт колыхались, точно нерешительные стрелки на часах. Неподалеку разговаривала по-итальянски пожилая пара. То и дело появлялись новые коты. Они грелись на разбросанных вдоль набережной огромных валунах. Это было безмятежное и нереальное место. Ни о чем не напоминало, ни на какие мысли не наводило, кроме довольно абстрактной идеи гармонии. Сочетание утреннего часа, солнца, кофе, белого парома и кубинской музыки казалось воплощением эклектичного сна.
На самом деле я приехал сюда, чтобы увидеть страну, с которой началась последняя балканская война. Она продолжалась десять дней и унесла жизни шестидесяти шести человек. Вполне возможно, что югославянская армия отступила так быстро потому, что сербы почувствовали — они действительно в чужой стране. Не имея здесь ни могил, ни воспоминаний, они, вероятно, переживали своеобразную депривацию. Экспансия маленьких периферийных народов провинциальна по самой своей природе. Они захватывают территории, чем-то напоминающие отчий дом или родную деревню. Отличие и чуждость — слишком большой вызов для завоевателя, ибо угрожают его идентичности. Маленькая Словения оказалась слишком велика для Великой Сербии. Да и что было делать сербам в этом гармоничном упорядоченном крае, напоминающем габсбургский сон о цивилизационной миссии Империи? Война ведь нуждается в общем языке, общих смыслах, и кровавый акт в этом отношении подобен любому другому — он не может осуществляться в вакууме.
«…Балканы! Я не хочу их защищать, но не хочу и умалчивать об их заслугах. Это их пристрастие к опустошениям, к внутренней неразберихе, к их похожему на объятый пламенем бордель миру, их сардонический взгляд на происходящие или неминуемые катаклизмы, эта их язвительность и их праздность, праздность, как у человека, страдающего бессонницей, или у убийцы … Единственные по-настоящему “примитивные” люди в Европе, они, возможно, дадут ей новый импульс, что она непременно сочтет своим последним унижением. Хотя если бы Юго-Восток Европы был одним сплошным ужасом, то почему же, когда мы его покидаем или отправляемся в эту часть света, мы ощущаем нечто вроде падения — правда, восхитительного — в бездну?»[42] В восемь пятнадцать я сидел над пустой кофейной чашкой и пытался припомнить эти слова Эмиля Чорана. Пытался осознать Юго-Восток и Балканы.
У меня сохранился буклет, который я подобрал в каком-то придорожном баре неподалеку от хорватской границы. В цветной брошюре помимо рекламы кафе, отелей и кемпингов имеется также небольшая карта Европы. В Испании есть Мадрид, во Франции — Париж, в Швейцарии — Цюрих, в Австрии — Вена и т. д. К востоку и югу от Праги и Будапешта начинается некая terra incognita: государства лишаются столиц, а иные и вовсе исчезают. Нет Словакии, Молдавия, Украина и Белоруссия растворились в пересохшем море былой империи. А ведь карта совсем новая — на нее тщательно нанесены границы постюгославских государств. Однако единственный город, уцелевший на загадочных юго-восточных территориях, — это Афины, древность которых, очевидно, позволяет им выступить в роли исторической окаменелости. София, Бухарест, Белград, Варшава или Братислава попросту отсутствуют. Поглощенные архаическим бесформенным пространством, которое можно обозначить, но трудно назвать и описать. Не стоит удивляться, ведь чего можно ждать от того мира, кроме хаоса или смены погоды? Названия никоим образом его не упорядочивают, поскольку утратили прежние, неизменные и выверенные смыслы.
Я пересекал границу в Ходоше, вечерело. Холодный свет делал предметы вдвое четче. Таможенник спросил, сколько у меня динаров, хотя уже более десяти лет здесь ходили толары. Потом заглянул в багажник, сказал: «Hvala»,[43] и меня окружили гнило-желтые холмы Прекмурья. Это время года всегда позволяет увидеть больше, потому что обнаженный пейзаж впитывает человеческую инерцию и обнажает хрупкость материи, предоставленной самой себе. А здесь — ничего подобного. Страна выглядела совершенно законченной, тщательно сработанной и хорошо отшлифованной. Я не находил в пейзаже ни одной трещины, в которую удалось бы проскользнуть воображению. Ничто здесь не напоминало краев, из которых я прибыл. Все было в самый раз — не новое, но в приличном виде. Насколько хватало глаз, никаких признаков упадка, роста или иной нарочитости. Мощные серые стены, двускатные крыши, мертвые сады и виноградники, убранные к зиме, — взор поглощал все это, не находя, за что зацепиться. Страна, стилизованная под идеальную. Загнанная в глухую европейскую дыру, между германской Австрией, романской Италией, угро-финской Венгрией и Хорватией, она делала ставку на выживание, мимикрируя под универсальный идеал. Когда я собирался в дорогу, знакомые твердили: поезжай, это одно из красивейших мест на континенте. «The green piece of Europe»[44] просто не мог не понравиться с первого взгляда. В нем не было ничего лишнего. Спокойные деревни лежали на дне долин. Белые соборы на холмах оберегали их благополучие. Габсбургское барокко городов вычерчивало на фоне темного неба изысканные силуэты. Мурска Собота, Лютомер, Птуй, Майшперк, Рогатец, Рогашка Слатина — я не мог остановиться, все ждал, вдруг что-нибудь изменится, вдруг специально для меня страна выкинет какое-нибудь сальто-мортале, а она по-прежнему пребывала в полной гармонии с самой собой. Да, я чувствовал себя варваром из погруженного в вечный бардак, незавершенного востока. Мне не хватало контрастов, хаоса и интеллектуальных подножек. Привыкший к прерывности, к скачкам повествования, сюжетным поворотам на пограничье сна и безвкусия, я не мог смириться с пространством, чья форма была столь совершенна.
Ночевал я в Прелашко. Трактир пустовал. В баре сидела парочка местных. Они не особенно отличались от наших — из какого-нибудь преуспевающего колхоза. Пили пиво «Лашко», чередуя его с какой-то белой водкой. Курили папиросы и вполголоса разговаривали. Одетые грязновато и убого. Небритые и помятые, видимо, не привыкшие делить день на время работы и время отдыха. Казалось, они так и спят не раздеваясь. Они опрокидывали рюмку за рюмкой, но в поведении их ничего не менялось. Они пили спокойно, словно из чувства долга. Ни в словах, ни в жестах я не замечал того нетерпения, которое знал по своим соотечественникам. В том процессе ощущались некое достоинство и торжественность, а отнюдь не пьяный полет, невроз самцов. Покой и меланхолия, которые сопутствовали их беседе, противоречили количеству рюмок, выпитых за час-полтора — четыре или пять по пятьдесят грамм. Плюс пиво, разумеется. Наконец они встали, зашаркали резиновыми сапогами и попрощались с хозяином, который даже не вышел из-за стойки, чтобы проверить, сколько денег они положили на стол. Я остался один со своим вином. Хозяин сел в черный «мерседес» с модернизированным выхлопом и куда-то уехал. Я вышел на крыльцо взглянуть на словенскую ночь. Прошлогодняя трава покрылась инеем. Округлая луна серебрила длинные хребты холмов. Где-то вдали лаял одинокий пес.
«… Он предчувствовал и одновременно знал: здесь подлинная родина меланхоличных, саркастичных демонов. … Здесь, среди альпийских долин, и немного дальше, на равнинах Паннонии. Они обитают в дуновениях ветра и воздуха, и от них не скроешься. Они в озерах и среди холмов, в кронах деревьев и на болотах, в скалистых горах, деревенских корчмах и на опустевших воскресных улицах, в детях, мужах и старцах. … Все тут пропитано смертью. Здешняя смерть подобна прекрасному пейзажу, порой она означает осень и холод, порой — весну и тепло. Осенью — готика, весной — барокко. Словно соборы, рассеянные по всей стране, густо, точно могилы. Местные жители любят могилы, украшают их цветами, свечами и ангелами. … В воскресный полдень, когда по обезлюдевшим городам прохаживаются, дивясь пустым улицам, иностранцы или прижившиеся чужаки, в воскресный полдень не шокирует мысль о том, кто открывает окно на четвертом этаже (все остальные заперты) и с веревкой на шее бросается вниз…»
На следующий день я ехал через Кочевски Рог. Кочевски Рог — горная цепь на юге неподалеку от хорватской границы. На протяжении тридцати пяти километров я не встретил ни одной машины. Гравиевая дорога вела через лес, поднималась на главный хребет, на Високи Рог. Я ехал по заснеженным и оледеневшим серпантинам со скоростью не больше тридцати километров в час. Не было ни души. Светило солнце. Это одна из красивейших дорог, какие я видел в своей жизни. Солнечный свет окутывал ели золотым туманом. Было тепло, снег таял, и когда я останавливался, то в тишине высокоствольного леса слышал шуршание тысяч капель, соединявшихся в ручейки. Свет и тень постоянно смешивались, и, несмотря на белый день, все казалось погруженным в зеленоватую воду. Южная сторона хребта парила. Я видел каких-то незнакомых мне птиц. Все это не было готикой, не было барокко. Кочевски Рог напоминал архитектуру, которой не суждено родиться, ибо простота ее красоты оспаривает смысл фантазии как таковой.
В темных долинах лежало десять тысяч тел. Я проезжал крупнейшее в Словении безымянное кладбище. Летом сорок пятого коммунисты Тито без суда и следствия убили здесь военнопленных, переданных союзными войсками. Партизан, сражавшихся не на той стороне. Воевавших в рядах словенской «Белой гвардии», домобранов… — Тито не признавал конкурентов. Не исключено, что об останках позаботились волки, рыси и медведи, которых в то время наверняка было больше, чем теперь. Потом маршал приезжал сюда охотиться. Кто знает, не приходило ли ему в голову, что он убивает предательский дух, вселившийся в звериные тела.
В девять я простился с голубым берегом и отправился на площадь Тартини посмотреть венецианскую готику пятнадцатого века и памятник Тартини.[45] Он стоял на цоколе, в парике, держа скрипку в опущенной руке, — видимо, кланялся публике. Я хотел почувствовать себя туристом. Но, честно говоря, ощущал себя шпионом, чье зрение неизбежно поверхностно. Я мог прикоснуться к вещам, но понятия не имел, что они означают для тех, кому необходимы. Вспоминал золотое свечение Кочевского Рога и не мог отделаться от мысли, что есть места, целые города, целые страны, содержание и форма которых отрицают фатум. Ибо если в другом месте коммунизм был попросту преступлением, то здесь, в этом пейзаже, он, должно быть, выглядел кошмаром, помноженным на идиотизм. Идея, зародившаяся в пустых умах, убоявшихся пустоты пространства, воплощалась в пейзаже, исключавшем необходимость каких-либо перемен. Маршал Тито в белом мундире среди пальм на набережной в Портороже неподалеку отсюда напоминал, вероятно, африканского царька. Ведь коммунизм был плодом долгих безнадежных зим, когда ум заходит за разум от скуки и страха перед самим собой. Вообразить что-либо подобное можно, только имея опыт бесконечного плоского пространства, в котором ничего не происходит и поэтому все еще может случиться.
Маленькие страны следует освободить от исторического опыта. Их островки должны торчать где-нибудь по краям потока истории. Так думалось мне спустя два дня на люблянской автостраде. Где-то в окрестностях Постойны вдруг сделалось холодно и туманно. Я размышлял над этим сказочным, утопическим вариантом и обгонял хорватские грузовики. Маленькие страны следует оберегать, как оберегают детство. Жителям гипертрофированных творений и империй следует посещать их, чтобы набираться ума-разума. Вероятно, пользы от этого вышло бы немного, но людям надо давать шанс и создавать условия для рефлексии над многообразием смыслов этого лучшего из миров. Существование маленьких стран с умеренным темпераментом — поистине вызов для обывательских суждений об экспансии, силе, величии, значении и прочих непреложных штампов. Что касается меня, я всегда хотел жить в стране чуть помельче и никогда — упаси Боже! — крупнее. В конце концов, малой величине труднее обратиться в собственную карикатуру. В любом случае, она меньше вредит окружающим.
Словенский писатель Эдвард Коцбек[46] в своих парижских заметках писал: «В нашей истории напрочь отсутствуют всякие великие страсти, скудость ее не позволяет говорить о важной миссии. Мы не имеем возможности опереться ни на оригинальное вероисповедание, ни на особый темперамент. Специфика нашей страны скорее выпуклость, нежели вогнутость, она лишена реального центра тяжести, который обозначил бы центр в смысле как географическом, так и этическом. Поэтому мы не имеем мыслителей с центростремительной энергией, у нас отсутствуют умы, убежденные в нашей самобытности, умы с выкристаллизовавшейся судьбой. … Свои национальные границы мы никогда не считали показателем ценностей, достойным местом пересечения, решением и вдохновением, скорее искушением и стыдом, шансом для контрабандистов».
Итак, снова отсутствие, снова нереализованность, снова тоска по иной жизни. Величием тут и не пахло. Наверняка нечто подобное писал какой-нибудь румын из двадцатимиллионной Румынии и небось поляк из сорокамиллионной Польши. Я кружил по тесному центру Любляны и искал, где бы припарковаться. На площади Конгресса с трудом втиснулся между «лендровером» и БМВ. На катке, где горели фонарики и играла музыка, скользили дети и древний седоусый старичок. Немного по-венски, только больше легкости и веселья. На улице я слышал смех, громкие разговоры и видел девушек, одетых с какой-то небрежной и одновременно изысканной элегантностью. Я приехал сюда впервые, но город, казалось, был мне знаком. Живой, подвижный и обаятельный. Казалось, он находится на своем месте и не ломает голову над собственным предназначением, не задает себе вопросов. Очень возможно, что ему просто наплевать на остальной мир, что он по нему не тоскует. Колокольни тонули в тумане. В баре неподалеку от рыбного базара я съел бутерброд и выпил пива.
Ночью, где-то за Марибором, меня остановила полиция. Я превысил скорость в черте города. Полицейские в черной кожаной форме были вежливы. Я поинтересовался, что будет, если я не заплачу. Они объяснили, что отберут у меня паспорт, отпустят и будут дожидаться в участке, пока я принесу деньги. Вдвое большую сумму, чем если заплатить сразу. Вид у них был довольно неподкупный. Они выписали красивую квитанцию с роскошными печатями, забрали почти все, что у меня оставалось из их валюты, и пожелали счастливого пути.
В отместку я решил переночевать на территории Венгрии.
Шкиперия
В полшестого утра в Корче у отеля «Гранд» уже торчало несколько мужчин. Днем их стало больше. Особенно на широкой улице, ведущей к базару. И возле почты, и на тенистой аллейке у газетного киоска. После обеда собралась целая толпа. Только мужчины. По двое, по трое или поодиночке, занятые разговором или глядящие вдаль. Порой они делали несколько шагов туда и обратно, однако движение это было бесцельным — краткая пауза в неподвижности. Кое-кто держал в руках пачки албанских купюр и пытался обменять их на евро и доллары. Но большинство просто стояли, покуривая длинные тонкие сигареты «Карелия», почти три четверти доллара пачка. Казалось, они чего-то ждут, какого-то важного объявления, призыва или события, но никаких новостей не поступало, И каждый день на рассвете они собирались снова, толпа постепенно густела, затем во время сиесты немного редела, а после обеда снова превращалась в толчею, погруженную в застывающий зной, колышущуюся, но по-прежнему неподвижную. Женщины появлялись время от времени, украдкой, бочком, почти незаметно. Они несли сумки и узелки, но по сути оставались невидимками на этом пастбище самцов. Они стояли, высматривая какие-то перемены, вглядываясь в бесконечность пустого времени, обреченные на собственное недвижное присутствие. То же самое я видел в Тиране на площади Скандербега и в Гирокастре на главной улице, ведущей от мечети в нижнюю часть города. В Саранде в отеле «Лили» я спустился на завтрак в половине седьмого и увидел, что бар полон мужчин. Утопая в сигаретном дыму, они пили утренний кофе и ракию, стаканами, — полтора-два десятка мужиков. Они смотрели на улицу и время от времени обменивались репликами, но наступающий день, похоже, не обещал им никаких сюрпризов. Вечным его узникам, им некуда было деваться, потому что, куда бы они ни отправились, были скованы собственным бездействием.
Где-то в районе Патоса страна начала сплющиваться. Горы остались позади. До Адриатики оставалось чуть больше десятка километров, и слева горизонт приобрел серо-сизый оттенок. В автобусе было горячо и душно. Люди швыряли в окна банки из-под кока-колы и пива. В пригородах Фиера по обе стороны дороги тянулись автомобильные кладбища — главным образом «мерседесы» и «ауди» на разных этапах распада. Сотни десяти-, пятнадцати-, двадцатилетних машин — стайками поменьше и побольше. Ближе к Дюрресу сотни превратились в тысячи — в зное, на голой земле, среди выжженной травы, одни уже раздетые, ободранные, голые, во всей порнографии обнаженных лонжеронов, шасси, карданных валов, тормозных колодок, ржавеющих останков, другие еще прикрытые фрагментами тускнеющих от жары кузовов, героически опирающиеся на лысую, рассыхающуюся резину. По этому бескрайнему анатомическому театру сновали перепачканные мужики с дисковыми пилами и отрезали пласты еще сравнительно здорового металла. Белые струи искр были светлее солнца. Это походило на мертвую, механическую бойню. Другие ждали своей очереди, нацелясь на нужные куски. Остальное валялось вокруг и врастало в грунт: треснувшие большие берцовые кости шатунов, изношенные поршни, слепые фары, смятые радиаторы, съеденные крылья, дырявые баки, выпотрошенные масляные фильтры, растерзанные коробки передач с высыпавшимися внутренностями, гангрена тормозных шлангов, рак напольных панелей, сифилис прокладок и бельма потрескавшихся стекол. Да, пригороды Дюрреса являли собой огромный госпиталь половины немецкой моторизации, лазарет, специализирующийся исключительно на ампутации.
Дюррес — порт, так что эти тысячи трупов, должно быть, приплыли сюда на кораблях. Помню фотографию знаменитого албанского исхода 1992 года: отчаянные людские гроздья, свисающие с бортов, с надстроек, с такелажа, обклеенные живым человеческим пластырем катера, паромы, барки — словно вся страна стремилась сбежать подальше от самой себя, за море, по ту сторону Адриатики, в Италию, в мир, который казался спасительным, поскольку виделся невообразимой, сказочной противоположностью проклятого края. Теперь оттуда прибывали флотилии, нагруженные рухлядью, хламом, дизельными и бензиновыми развалюхами.
После поворота на Тирану пошли бункеры. Серые бетонные черепа возвышались на метр над землей и глядели черными горизонтальными щелями. Казалось, это вертикально закопанные трупы. В каждом мог разместиться пулеметный расчет. Разбросанные по длинным плоским холмам, они царили над мертвечиной автомобильных свалок. Уничтожить ни те, ни другие невозможно. Астрит сказал, что во всей стране, кажется, не найти ни одного действующего металлургического завода, чтобы переплавить эти немецкие отходы. Как не найти и достаточного количества динамита, чтобы уничтожить шестьсот тысяч бункеров, предназначенных для того, чтобы пережить всемирное нападение.
От Корфу надо плыть полтора часа. На «ракете» — полчаса. Здание греческого порта длинное и плоское. Итальянские, английские и немецкие туристы сидят на грудах багажа или волокут свои саквояжи на колесиках. Толпы народу перекатываются по набережной, разделяются на ручейки и выстраиваются в очереди к трапам на паромы. Иные из них напоминают восьмиэтажные торговые центры. Автокары развозят и привозят всю Европу. Горы несессеров с кодовыми замками ждут носильщиков. Пятеро мужиков в черной коже присматривают за своими навьюченными «хондами» и «кавасаки». У причальной набережной стоят трехмачтовый «Фон Гумбольдт» темно-зеленого цвета и яхта красного дерева под британским флагом. На палубе крутятся молодые парни в белых брюках. Блестящие змеи машин медленно заползают в глубь трюма. В небе видны белые телеса заходящих на посадку «боингов» и «ди-си». Парочки делают прощальные снимки в лучах греческого солнца.
Нам не пришлось спрашивать, где посадка на Саранду. Толпа ожидающих судна неподвижно и тесно сгрудилась у трапа. Все с картонными коробками, ящиками, кругами зеленых садовых шлангов, известными всей Европе и всему миру сумками в красную и синюю клетку, облепленными скотчем полиэтиленовыми тюками, обычными мешками, пакетами с давно вытершейся рекламой, все усталые, но усталостью не вчерашнего дня и не прошлого месяца. Значительно более давней.
Греческий пограничник в белой рубашке и темных очках брал паспорта из деревянного ящика и вызывал по очереди: Илиет… Френг… Джерджи… Мислим… Хаджи… Бедри… Они хватали свои вещи и вбегали на утлое суденышко. Пограничник передавал их паспорта коренастому человеку в штатском.
На них словно лежала тень, как будто от незримой тучи, тогда как остальной порт, толпу отдыхающих, загорелые женские руки, золотые сережки, сандалии и рюкзаки озаряли вспышки «Кодака».
Маленькая кружка «амстеля» на палубе стоила два евро. Мы плыли по проливу, не теряя из виду берег. Горы справа были голыми и безлесными. Казалось, солнце над выжженными хребтами всегда стоит в зените: вечный юг и древние как мир осыпающиеся от жары камни.
А потом я увидел Саранду. Она началась внезапно, без предупреждения. Просто на голых склонах появились скелеты домов. Издали они выглядели выгоревшими изнутри, но это оказались начатые и брошенные стройки. Темнее гор, но такого же минерального происхождения, словно обожженные в огромной печи и утратившие в пламени все сходство с жилищем. В глубине залива город сгустился, блеснул стеклами, зазеленел, но мы плыли дальше, к причалу. На цементной площади стоял ржавый кран. Над серым бараком развевались двуглавый албанский орел и синий флаг Евросоюза. Внутри стояли стол и два стула. Женщина в форме велела заплатить двадцать пять евро, взяла тридцать, выдала какие-то квитанции и с улыбкой сообщила, что сдачи нет. На холме над портом громоздились дома из голого порыжевшего бетона. Если бы не развешанное белье и тарелки антенн, можно было подумать, что там никто не живет.
Да, там следует побывать каждому. Во всяком случае, тем, кто употребляет слово «Европа». Это сродни обряду инициации, потому что Албания — подсознание нашего континента. Да, Албания — это европейское ид, ночной кошмар спящего Парижа, Лондона и Франкфурта-на-Майне. Это темный колодец, в глубь которого должен заглянуть тот, кто полагает, будто ход вещей определен раз и навсегда.
«Welcome in bloody country»,[47] — сказал Фатос, когда мы встретились в кафе «Опера» на площади Скандербега в Тиране. Я пил пиво и раздумывал, распространяются ли государственные границы на явление столь космополитическое, как благословение. Возможно, ему преграждают путь греческие пограничники на переходе в Какавии, а итальянские — не пускают на паромы в Бари и Бриндизи. В сквере в тени деревьев десятки мужчин торговали валютой. Предлагали сто тридцать шесть леков за доллар. В толпе валютчиков стояло несколько милицейских машин. Менты, так же как валютчики и вся прочая Албания, курили в то лето тонкие сигареты «Карелия», сто леков пачка. В сквере пахло безучастным симбиозом. Всех объединяло время, которое следовало переждать. Секунды и минуты набухали, пухли и лопались, но внутри была пустота.
Я спросил Фатоса, разрешена ли торговля валютой. «Разумеется, нет», — ответил тот. «А что же полиция?» — «Они просто следят за порядком», — сказал Фатос.
В полшестого в Корче было еще темно. В ресторане на автовокзале сидели мужчины. Они пили утренний кофе и ракию из маленьких пузатых стаканчиков. Кофе заваривают кипятильником прямо в чашке. Ракию пьют на рассвете, потому что она прогоняет сон еще лучше, чем кофе. Но только одну рюмку. Ракия — не алкоголь, ракия — это традиция. Потом подъехал старый автобус — «мерседес». Он медленно заполнился людьми. Водитель раздал полиэтиленовые пакеты. На базар начали съезжаться первые фуры с товарами. Когда окончательно рассвело, мы двинулись на юг. У стоящих впереди двух ментов были допотопные советские ТТ с вытертыми звездами на прикладах. До греческой границы десять километров, но названия звучали по-славянски: Каменице, Видице, Селенице, Борове… Когда мы начали подниматься по первому серпантину, до меня дошло, зачем нужны полиэтиленовые пакеты. Толстая, увешанная золотом женщина с карманным вентилятором в руке застонала, а родственники встали и принялись ее утешать. Они забрали у нее вентилятор, и ее стало рвать в прозрачный мешочек. Ее примеру тут же последовала другая женщина, потом еще одна. Потом пришла очередь детей. Это женская и детская болезнь, объяснил нам потом Астрит. И в самом деле, у мужчин путешествие проходило без побочных эффектов. Они только принимали участие в общем переполохе, потому что все пассажиры сопереживали беднягам — утешали, комментировали, передавали из рук в руки и выкидывали в окно использованные пакеты, а водитель тут же раздавал новые.
За Эрсеке горы стали величественнее. Мы вскарабкались на высоту тысяча семьсот метров: первая скорость, вторая и постоянный штопор по краю пропасти без всяких ограждений. Я не заметил ни домов, ни тропок, ни животных. Округлые купола вершин поросли желтой выжженной травой, белели осыпи, и за полтора часа я не обнаружил никаких признаков человеческого присутствия. Я считал бункеры. Дойдя до пятидесяти семи, бросил. Они были повсюду, насколько хватало глаз. Цементные черепа врастали в склоны в таких местах, куда не добраться никакому транспорту. Не знаю, возможно, цемент и сталь перевозили на мулах и ослах, а может, просто перетаскивали все это на плечах. Серые бетонные жабы сидели — то поодиночке, то по три-четыре штуки, карауля мнимые переходы, лазейки, отрезали гипотетические атаки, ждали наступления, нападения, а их пустые черные взгляды охватывали все видимое пространство. Они выглядели вечными и готовились стоять здесь до скончания времен. Они казались более древними, чем горы, равнодушными к геологии, нечувствительными к эррозии. Я все вспоминал их количество — шестьсот тысяч. Предположим, в каждом по двое солдат со станковым или ручным пулеметом, то есть миллион двести тысяч, или почти половина жителей страны. Во время учений, во время артиллерийских учений, в бункеры запирали коз. Я вглядывался в бойницы, похожие на диковинные темные очи. В этом необитаемом пейзаже, где транспорт ходил раз в час, я не мог отделаться от ощущения, что нахожусь под постоянным наблюдением.
Стоянка была в Лесковике, возле маленького бара. Там продавали кофе, ракию и крутые яйца. К нашему столику подошел мужчина. Садиться он не стал. Ему просто требовалась столешница. Он катал по ней яйцо и давил ладонью скорлупу. Это продолжалось очень долго, потому что он забывал о яйце и разглядывал нас — возможно, мы были первыми иностранцами в его жизни. Яйцо хрустело, уже показалась белизна белка, а он все смотрел, не произнося ни слова.
В Лесковике тоже были бункеры, только гораздо внушительнее. Они напоминали бетонные юрты со стальными воротами. Среди них паслись ослики. Животные были того же цвета, что и убежища, такими же были и каменистое пастбище, и крутой склон, замыкавший пейзаж. За городом мы въехали в тень горного массива Немерчке. Я никогда не видел таких гор. Они словно насыпаны из пепла. Линия леса заканчивалась как ножом отрезанная, и дальше вертикально высился бесплодный массив, казавшийся с такого расстояния воздушным, сыпучим и недолговечным. Там не было ничего. Буквально ничего, обнаженность в чистом виде. Отсеченная вершина Папингут напоминала груду мелкого щебня, поднебесный отвал, и этот щебень, эта пыль, должно быть, сыпались откуда-то сверху, из недр Вселенной, из самых дальних ее уголков.
Ибо Албания стара. Ее красота наводит на мысли о давно вымерших видах и эпохах, не оставивших после себя никаких изображений. Пейзаж живет, но при этом постоянно крошится, распадается, словно небо и ветер пытаются растереть его меж пальцев. Это щели, царапины, трещины и постоянное тяготение материи, жаждущей покоя, жаждущей освободиться от формы, познать отдохновение и вернуться в те времена, когда форма еще не существовала.
Гирокастра — город из белого камня. Крыши домов покрыты почерневшим сланцем, когда-то также белым. Окна пансионата «Хаджи Котони» выходят прямо на минарет. Несколько раз в день на высокой башне оживают громкоговорители и металлический голос муэдзина наполняет улицы, переулки и всю долину реки Дринос. Возле мечети расположено греческое консульство. Перед ним с раннего утра стоит толпа. Десятки женщин и мужчин ждут виз. По телевизору показывают километровую очередь албанских машин на переходе в Какавии. Греция уже несколько дней никого не пропускает. Якобы полетела компьютерная система. Албанцы утверждают, что это происки греков, которые, мол, хотят показать албанцам, где их место. Пусть стоят и вымаливают греческую работу и греческие евро, ценят греческую милость. Но, добавляют албанцы, без нас их виноградники одичают, одичают их оливковые рощи, как одичали наши, которые нам пришлось бросить и уехать в Грецию, где есть работа и есть деньги. Греки не умеют работать, говорят албанцы. Они нас презирают, но не будь нас, не пить бы им свое вино, слишком они раздобрели и обленились.
Я потягиваю черный албанский «фернет» и гляжу сверху на родной город Энвера Ходжи.[48] Днем улицы пустеют и толпа перед консульством тает. Солнечные лучи падают вертикально и выметают тень из освещенных переулков. Делается так тихо, словно все и правда уехали, предоставив город самому себе, бросив его на произвол времени и жары. С горы спустятся волки и скрестятся с собаками, виноград взорвет стены из тесаного камня, древние «мерседесы» сдохнут от тоски по своим водителям, турецкая крепость на холме провалится внутрь, ветер занесет песком номера отеля «Сопоти», ржа выест внутренности мусульманских громкоговорителей, ракия прожжет пробки бутылок в кафе «Фестивали», брошенные пачки купюр по сто леков с Фаном Ноли[49] обратятся в тлен, а то, что останется, — накроет серая чешуя гор.
Да, я пил черный «фернет» и пытался вообразить страну, которую однажды покинут все ее жители. Бросят на произвол времени, которое взорвет оболочки часов и месяцев и в своем первозданном виде проникнет в останки предметов и городов, растворит их, превратив в праматерию, воздух и минералы. Ведь именно оно — время — было здесь главной стихией. Неизбывное и грузное, точно гигантская скотина, оно лежало в долинах рек, придавливало хребты гор от Шкодера до Саранды и от Корчи до Дурреса. Это в его недрах обитали мужчины, простаивавшие на перекрестках и площадях. Быть может, они дожидались его гибели и одновременно страшились ее, потому что агония вечного монстра, в утробе которого они утопали, грозила им внезапным одиночеством. Сдохни он, никогда им больше не встретиться. Их подхватят разрозненные ручейки минут и дней, представляющие собой не более чем печальную человеческую имитацию древнего течения, чья мощь ассоциировалась с одной лишь неподвижностью. Им пришлось бы питаться падалью вечности, ведь именно таков вкус свободы.
На пляже в Саранде люди разгребали мусор и расчищали себе место. Они отодвигали пластиковые бутылки, картонные коробки, жестяные банки, опорожненные чудеса цивилизации, полиэтиленовые сумки «Босс», «Мальборо» и «Теско», чтобы обнажить лоскутки песка и улечься на них целыми семьями. Ветер нес вглубь суши прозрачные обрывки и развешивал на деревьях. Он дул с запада. Никогда в жизни я не видел подобной помойки и подобного хладнокровия, с которым люди существовали среди отходов, постоянно пополняя их новыми. Клочки убранного пляжа были размером с одеяло или группу сидящих людей. Было что-то надменное и презрительное в этом отметании использованных вещей, какое-то барство потребления и театр равнодушия по отношению ко всему, что не служит удовлетворению сиюминутного каприза. Ветер дул с запада буквально и метафорически. Однако не принес ничего хоть сколько-нибудь ценного. Быть может, другие вещи, наверняка имевшиеся там, попросту не годились для транспортировки и в пути обесценивались, портились, разлагались. Не исключено однако, что здесь они просто никому не были нужны.
Когда в первый день мы выходили из порта, к нам подошел Генци. Лет тридцати с небольшим, в сандалиях на босу ногу и черных замызганных шортах. На плече у него сидел маленький мальчик. Генци на приличном английском поинтересовался, откуда мы и не требуется ли комната. После бессонной ночи она очень даже требовалась. Генци повел нас к невысоким разрушенным домам: смрад, потоки сточной воды пробивали себе дорогу среди куч щебня и тлеющего мусора, россыпей камней, бессмертного пластика, просто the day after[50] по-балкански. Смуглые дети разглядывали нас с любопытством, а мы слишком устали, чтобы отшить своего благодетеля. Генци покричал, и через минуту появилась старуха, вся в черном. Мы двинулись за ней. Она открыла решетку, закрывавшую балкон на первом этаже одного из домов, а затем входную дверь. Внутри было холодно и абсурдно чисто. Двухкомнатная квартира просто сверкала. Сверкала плитка на полу, сверкал холодильник, сверкала ванная, блестел телевизор, блестел большой вентилятор, даже белье излучало легкое, пахнущее чистотой сияние. Было такое ощущение, что здесь никогда не жили, а только убирали, убирали и убирали.
— Это вдова, — сказал Генци, — так что ей надо платить двадцать пять долларов за ночь.
Потом мы встречали Генци еще несколько раз. Он не закрывал рот и беспрестанно что-то нам сулил. Утверждал, что знает Исмаила Кадаре,[51] что Кадаре сейчас в Албании, и он, Генци, может устроить нам встречу. Предлагал аппартаменты с кондиционером в центре Тираны за десять долларов. Рассказывал о своем приобщении к евангелизму, о своей жене, что работает в фонде Сороса, с гордостью — об отце, который во времена Ходжи служил в органах безопасности. Однажды, когда мы беседовали о Европе в целом, он спросил: а был ли в Польше коммунизм?
С набережной Саранды видны окутанные туманом берега Корфу. Можно сидеть за столиком кафе в колеблющейся тени пальм и смотреть, как огромные пассажирские паромы скользят по гладким водам пролива и скрываются в открытом море. Очень может быть, что туристический интернационал разглядывает албанский берег так, как будто это берега, скажем, Либерии или Гвинеи. Не исключено, что пассажиры даже вооружились биноклями. Восьмиэтажные надводные отели исчезают, сверкая на солнце. Немного напоминает сафари, а еще — фатаморгану.
Я попивал греческую рецину и пытался представить себе это место двадцать лет назад. Пытался представить себе страну, отрезанную от всего мира, будто остров в каком-то океанском захолустье. Страну, имеющую около ста шестидесяти врагов (примерно столько государств было в то время на политической карте). Опасность таят в себе восток и запад. Угрожает капитализм, угрожает коммунизм в дегенеративном советском и китайском вариантах, угрожают африканские монархии и технократические режимы Юго-Восточной Азии, угрожает Гренландия и угрожают Острова Зеленого Мыса, угрожает космос, растленный американцами и русскими. Покидая Тирану, Энвер Ходжа запирает телевизионный передатчик и берет ключ с собой, чтобы кто-нибудь в его отсутствие не пустил греческую, итальянскую или югославскую программу. В Саранде — как сегодня — приближается вечер, нет только всех этих поспешно сляпанных бетонных кафе и отелей. Люди сидят на берегу моря и смотрят на проплывающие мимо вражеские корабли. Большие полупрозрачные дома плывут навстречу собственной гибели, ведь они родом из мира, над которым тяготеет проклятие. Опускается тьма, и мир этот начинает казаться нереальным. Не обладая ни смыслом, ни формой, он представляет собой лишь некий антимир, то есть нереальность, исковерканную фундаментальной ложью.
Триста двадцать километров — в самом длинном месте, и сто сорок — в самом широком. Итого около двадцати восьми тысяч квадратных километров абсолютной истины и одиночества. В сорок восьмом году ренегатом становится Югославия, в шестьдесят первом — Советский Союз, в семьдесят восьмом — Китай. Предатели окружают Албанию со всех сторон. На холмах сельские учителя выкладывают из камней гигантские лозунги. «Бдительность, бдительность, бдительность», «Опаснее всего — тот враг, о существовании которого забыли», «Думать, работать и жить как революционеры». Промах или ошибка грозят обвинением в предательстве. Триста двадцать на сто сорок километров — и никаких шансов сбежать, ведь остальной мир — утопия.
Лучше всего каменные лозунги видны сверху, с неба. Это был вызов миру. Что-то вроде программы-максимум, касающейся не Китая и Советского Союза, но обращения в коммунизм всей Вселенной.
Однажды мы собрались из Корчи в Воскопою. Нам хотелось увидеть этот город, бывший в свое время крупнейшим поселением европейской части Османской империи, — тридцать тысяч домов, стоявших так тесно, что «коза могла пройти по крышам с одного конца города на другой», двадцать два храма, хотелось увидеть место, где пересекались пути караванов из Польши, Венгрии, Саксонии, из Констанцы, Венеции, Константинополя и где двести восемьдесят лет назад появилась первая на Балканах типография.
Чтобы попасть туда, мы наняли пикап. За рулем сидел Яни, а его товарищ все пытался завязать разговор. Он знал несколько общеславянских слов. Его «камерадка» была словачкой. Они познакомились на оливковой плантации в Греции. Мы ехали по разбитой дороге, все время в гору. Тридцать километров без единого перекрестка, только изредка откуда-то с гор спускались козьи тропки. Парни угощали нас папиросами и демонстрировали томпаковые перстни в виде львиных голов.
Воскопоя вся сплошь одноэтажная. Собственно, она казалась не выстроенной, а сложенной из камней. Некоторые дома рассыпались под собственной тяжестью, и не от невостребованности, заброшенности или ветхости, а потому, что таков был строительный материал. Ничего более масштабного или высокого из него не насыпать и не сложить. Все это напоминало скорее геологию, чем архитектуру. Словно однажды земля просто расступилась и породила собственную версию человеческого жилища. И теперь крошащиеся стены, рассыпающаяся, высохшая глина, ручейками вытекающая из швов, потрескавшаяся черепица, расщепленное жарой дерево ворот и калиток, с помощью эрозии и гравитации пытались вернуться в недра земли.
Яни и его приятель ждали нас в кафе. Оно состояло из одной-единственной каменной комнатки, за стойкой сидела гречанка, разменявшая шестой десяток. Женщина перечислила все стоявшие здесь ранее храмы. Угостила сыром, паприкой, хлебом и ракией. Денег не взяла. Ей хотелось разговаривать, хотелось рассказывать. Ничего, что мы могли лишь догадываться, о чем идет речь. Потом пришли еще люди — посмотреть на нас и обменяться рукопожатием. Яни с приятелем безостановочно тянули албанский бренди, запивая его пивом «тирана». Мы бы посидели подольше, но опасались за своих проводников, отмерявших время очередными рюмками. Люди вышли из кафе и смотрели, как мы уезжаем. Парни не умолкали. Они останавливались среди кукурузных полей, срывали охапки золотых початков и набивали наши карманы. Теперь было все время под горку, и мы катились на холостом ходу, экономя бензин. Яни включил монотонную трансовую музыку, какое-то турецкое техно, и они принялись танцевать сидя. Подскакивали и покачивались на сиденьях, словно верхом на верблюдах. Яни отпускал руль и плавно воздевал руки. Время от времени ребята оборачивались — убедиться, что нам тоже весело. А потом в такт этому монотонному ритму они принялись восклицать: «Бен Ладен! Бен Ладен! Бен Ладен!», и так, враскачку, с открытыми окнами, в которые врывались горячий воздух и пыль, мы вкатили в пригороды Корчи. Но это был отнюдь не конец путешествия, ибо нам полагалось еще непременно посетить магазин приятеля Яни и там непременно выпить пива. Мы сидели на ящиках, окруженные зеленью, помидорами и жужжанием мух, а Яни объяснял, что хозяин — офицер полиции, но решил заняться бизнесом. Черноволосый парень робко улыбался, угощал нас папиросами и подсовывал твердые красные яблоки. Жених словачки спал, положив голову на белые круги сыра.
От старой крепости Круя остались только каменная башня, фрагменты стен и очертания фундаментов. Остальное в 1982 году воздвигла Пранвера Ходжа, дочь Энвера. Она была архитектором, обладала властью и именно так представляла себе албанское Средневековье. Здесь в 1443 году Скандербег[52] вывесил знамя с черным двухглавым орлом и провозгласил независимость Албании. Он бросил вызов Турции, перед которой в то время трепетала вся христианская Европа. Папа римский Каликст III называл его «Athleta Christi»,[53] хотя Георг Кастриоти в юности принял ислам, отсюда его имя Скандер. Разумеется, он проиграл, и с независимостью Албании пришлось подождать аж до 1913 года. Со всем этим — многовековой историей с флагами, портретами вождей, государственных деятелей, бумагами, картами и копией шлема Скандербега, можно ознакомиться в построенном дочерью Энвера здании. Перед входом, который охранял солдат с «Калашниковым», стояла очередь.
Мы пошли обратно на эту длинную тесную улочку со старыми домами. Их было десятка полтора, и в каждом продавали старье, тысячи, десятки тысяч вещей. В хаосе и полумраке, сваленное грудами, распиханное стопками, развешанное пучками, здесь было собрано все прошлое Албании. Резные ящики, темные массивные столы, кальяны, кривые ножи, серебряные монисто, женская расшитая одежда, пропитанная старостью и затхлостью, коврики с видами Стамбула и Мекки, фрагменты упряжи, иссохшие керпцы,[54] ориентальная филигрань, сабли, деревянные механизмы, костяные устройства, роговые изделия, ковры, закопченные чугунки, прямо какой-то замшелый супермаркет материальной культуры, причем все истерто пальцами, выглажено поколениями, чуждо какого бы то ни было притворства — только что извлечено из тьмы и начищенное на продажу. Мы заходили в каждый из этих сезамов, однако многообразие и варварское великолепие материи выталкивало нас наружу. В какой-то момент отключилось электричество. Продавцы вели нас в глубь мрачных лабиринтов и, подсвечивая фонариками, демонстрировали ту или иную вещь. Желтый кружок света перескакивал с предмета на предмет, с одной крупицы прошлого на другую, выколупливал из бурого полумрака лоскутки одежды, орнаменты, металлический блеск бижутерии, и казалось, мы пытаемся что-то разузнать о мире, реальность которого сами же подвергаем сомнению. Эти музеи, а может, склады старья или истории с блуждающей внутри беспомощной полоской света образовали своеобразный символ Албании. В одной из лавочек на старинной оттоманке лежал хозяин. Рядом стояли ботинки, а он попросту спал.
Почти в каждом антикварном магазине имелся угол, в котором кучей была навалена новейшая история. Главным образом она состояла из макулатуры и портретов Энвера. Прежде всего, тяжелые книги и гигантские альбомы с фотографиями, на которых вождь был запечатлен на фоне его достижений: Энвер и толпа, Энвер и новостройки, Энвер и поля, Энвер и фабрики. Кроме макулатуры имелись также медали и награды с обязательной красной звездой. Больше ничего не сохранилось и не годилось для продажи. Не знаю, впрочем, покупал ли это кто-нибудь. За альбом с жизнеописанием Ходжи мужик просил тридцать долларов. Он назвал цену и не желал торговаться. Повторял свое «thirty»[55] и в конце концов раздраженно отвернулся. «Албанцы не торгуются, — объяснил мне потом Астрит. — Особенно с иностранцами. Они полагают, что беднее их никого нет, и, если человек пытается сэкономить, это несправедливо».
Еще там были бункеры. Они стояли повсюду, в каждой лавочке — десятки, сотни миниатюрных бункеров из белого камня. В виде пепельниц, пресс-папье и декоративных безделушек. После отъезда они были призваны просто напоминать об Албании.
Албания есть одиночество. Эта мысль приходит мне в голову, когда я вспоминаю ранний вечер в Корче. Старый базар, помнящий еще времена Оттоманской империи, уже опустел. Уехали старинные «мерседесы» и конные двуколки. Женщина подметала площадь. В тот день небо было серым, и теперь, когда толпа разошлась и исчез разноцветный хаос товаров, эта серость стекала сверху, заполняя пустоту рынка. Нежилые двухэтажные дома впитывали ее, как камень впитывает влагу. Все пространство базара было мертво и неподвижно, словно никто никогда сюда не заглядывал. И тогда в дальнем углу площади я увидел троих мужчин. Они сидели на корточках вокруг миниатюрного гриля и пекли початки кукурузы. Их фигуры почти терялись на фоне серых стен. Густеющий мрак стирал силуэты. Собственно, различить можно было только пламя, беспокойный красный огонек, колеблемый ветром.
Однажды мы беседовали с Астритом об эмигрантских путях Европы, об этой бесконечной миграции с востока и юга на запад, о номадах-гастарбайтерах, тянущихся из Польши, Украины, Белоруссии, Болгарии, Румынии ради нищенской конквисты германских, романских, англосаксонских и прочих территорий вплоть до мыса Святого Винсента, мыса Пассеро и исландских рыбоперерабатывающих заводов. Я твердил Астриту о поляках и украинцах на немецких стройках и фольварках, завел старую песню о горькой доле худших людей в лучшем свете. Пытался как-нибудь уравновесить его албанскую повесть. Когда я закончил, Астрит сказал: «Это разные вещи. Ты не знаешь, что такое быть албанцем в Европе». И мы сменили тему.
«Это память о девяносто седьмом годе», — сказал Ригельс. Мы были в Гирокастре, и я расспрашивал его о разрушенных первых этажах некоторых домов. Выбитые двери, окна, витрины, огромные дыры в основании зданий, заваленные мусором, останками каких-то механизмов и щебнем. Весной девяносто седьмого года рухнули финансовые пирамиды. Правительство Сали Бериши[56] до последнего утверждало, что все под контролем и в определенном смысле поддерживало деятельность этих сказочных институтов. Соблазнившись геометрической прогрессией богатства, люди продавали все свое имущество, дома, квартиры, залезали в долги и клали деньги на счета, которые обещали расти, словно температура при горячке. Десятки тысяч албанцев потеряли все. — То, что было в этих домах — магазины, кафе — принадлежало правительству? — спросил я Ригельса. Он только улыбнулся: — Нет. Это было имущество тех, кто сохранил хоть что-то, а люди, которые грабили и уничтожали, не имели уже ничего. Они мстили за то, что у кого-то что-то было.
Я пытался представить себе все это. Мы сидели в симпатичном кафе, укрывшемся в подвале старой крепости, что нависала над городом. Пили белое вино. Ригельс приветствовал знакомых. Рядом подростки пили пиво и болтали о девушках, а я пытался представить себе, как их ровесники пять лет назад разрывают воздух автоматными очередями, на мгновение охваченные восторгом, — справедливость и правда наконец на их стороне. Кто-то целит в окна опостылевших соседей. Я пытаюсь представить себе эту отчаянную революцию ограбленных людей. Восставшие Гирокастра и Влоре расположены на юге, а Бериша был с севера. Этот географический водораздел уходит своими корнями в историю так глубоко, что недалеко до гражданской войны. Во всяком случае, именно на севере президент велит открыть склады с оружием — в надежде, что его сородичи двинутся в крестовый поход подавлять бунтующий юг. «Однако они быстро поняли, что гражданская война севера с югом — блеф или безнадежный план. Вместо гражданской войны получилась анархия. Одни получили приказ, другие просто давно мечтали подержать в руках автомат, третьи боялись будущего или же по примеру прочих бросились к складам оружия и принялись хватать что попало, включая мины и радиоактивные материалы. Потом они начали стрелять в воздух — салютуя, на радостях или от страха, а может, чтобы опробовать оружие, которое им досталось. Вооруженные албанцы ворвались в тюрьмы и освободили тысячу пятьсот узников, семьсот из которых сидели за убийства. В тот день [10 марта 1997 года. — А. С.] погибло, главным образом, от шальных пуль, более двухсот человек, ранены тысячи. Появились шайки грабителей — то ли люди Бериши, то ли просто бандиты. Развинчивали даже железнодорожные пути и кусками, как лом, продавали в Черногорию».
Не могу отделаться от мысли, что каменные лозунги и самоубийственная стрельба в небо — явления одного порядка. И то и другое выглядит абсурдом, но в самом глубинном смысле представляет собой радикальный вызов, брошенный реальности. Одержимый идеей тоталитаризма Ходжа и погруженные в анархию граждане распадающейся страны ведут себя так, словно миру предстоит умереть вместе с ними. При этом и Энвер, и взбунтовавшаяся толпа убеждены в своем бессмертии. Они живут одним настоящим. Ходжа, вероятно, полагал, что его воля решает все, и поэтому не признавал никаких ограничений. Палившие в воздух мужчины подозревали, что они не решают ничего, а следовательно, можно делать все.
«Шкиперия» — это Албания. Даже ее подлинное имя в определенном смысле означает одиночество, ведь за пределами Балкан оно мало кому известно. На протяжении двух недель я прислушивался к албанской речи на улицах, в автобусах, по радио и, кажется, ни разу не услышал слова «Албания». Всегда и везде — Shqiperia, Shqiptak, shqiperise…
Слово «Shqiperia» происходит от глагола «shqiptoj» — «говорить понятно, на нашем языке». Языке, которого никто не понимает.
Молдова
В длину страна не превышает трехсот километров, в ширину — ста тридцати. Выстроенный из серого бетона пограничный переход Леушень пуст. Женщина в форме берет паспорта и исчезает минут на пятнадцать. Здесь проезжают только молдаване и румыны, и, пожалуй, никогда по собственной прихоти. Дальше, по правую руку, на обрыве — деревня. Некоторые дома покосились, от других остались одни развалины. Оползень унес несколько десятков дворов. На уцелевшем клочке почвы стоит церковь, на фоне неба виден ее силуэт. Холмы длинные, плоские и зеленые. Кое-где в долинах видны деревни. Издали они напоминают таборы. Дома одинакового размера, одинаковой формы, одинакового цвета, под одинаковыми этернитовыми крышами. Напоминают палатки из выцветшего полотна. Ничего отдельно стоящего. Одна группа, потом другая. Бесконечность зелени и седое пятно скученных хозяйств, снова зелень, зелень и зелень — и снова горсть цементных угловатых построек, выстроившихся вдоль незримой линии.
Средняя зарплата — двадцать пять долларов. Доллар — это примерно тринадцать молдавских леев. Молдавские купюры маленькие и блеклые. На лицевой стороне всегда изображен Стефан III Великий,[57] на обратной — какая-нибудь достопримечательность. Церковь или монастырь. Достопримечательностей в Молдавии около ста тридцати штук. Их перечень умещается на одной странице формата А4 в атласе Молдавии, который я купил в Кишиневе. Половина датируется XIX–XX столетием.
Купюры обычно ветхие. Довольно долго я гадал, как с ними управляются банкоматы. Они выдавали мне стопки замусоленных, протершихся, надорванных и захватанных бумажек, но ни разу не ошиблись. Раньше я думал, что банкомат умеет пересчитывать только новые или почти новые купюры, во всяком случае, они должны сохранять хоть какую-то жесткость. Есть еще мелочь, хотя она не очень в ходу. Однако пятьдесят бани очень красивы. На аверсе этой небольшой монеты цвета матового золота — две виноградные грозди, беспомощный намек на изобилие. Самые дешевые папиросы «Астра» стоят около двух леев; самые дорогие, «Мальборо», — около шестнадцати.
В Кагул идет автобус с Юго-западного автовокзала. Это уже окраина Кишинева — заканчиваются блочные дома, и начинается монотонность холмов. Под жестяной крышей стоит один автобус. Юг беден, как церковная мышь. Юг — это конец света, уехать отсюда можно разве что в румынский Галац.
Молдавия напоминает континентальный остров. Чтобы иметь хоть какой-то выход к воде, Украина недавно выделила ей пятьсот метров дунайского берега неподалеку от Джурджулештя на самом юге. А пока огромные грузовики, чтобы достичь вожделенного Берлина и Франкфурта, вынуждены тащиться через Украину и Польшу. Пассажиры автобуса в Кагул очень доброжелательны. Угощают фруктами. И сами охотно угощаются украинским пивом под названием «Черниговское» из литровой пластиковой бутылки. Расспрашивают обо всем и рассказывают о себе. Единственное, что недоступно их пониманию, — зачем ехать в Кагул или куда бы то ни было. «Ведь у нас ничего нет», — твердят они.
В тот день, когда Господь раздавал народам землю, молдаванин проспал. Проснулся, когда все уже закончилось. «Как же мне быть, Господи?» — спросил он печально. Господь Бог взглянул сверху на заспанного и расстроенного молдаванина и задумался, однако ничего путного не приходило ему в голову. Земля была уже поделена, и Господь не мог оспаривать собственные решения, а тем более заниматься переселениями. В конце концов он махнул рукой и сказал: «Ладно, ничего не поделаешь. Пойдем, будешь жить со мной в Раю». Так гласит легенда.
Когда едешь в Кагул или какое-нибудь другое место, начинает казаться, что именно так оно и было. Монотонность ассоциируется с вечностью. Повсюду зелено, повсюду плодородно, пейзаж волнится, горизонт поднимается и опадает, открывая глазу только ожидаемое, словно оберегает от разочарований. Виноград, подсолнухи, кукуруза, редкие животные, виноград, подсолнухи, кукуруза, стада коров и овец, порой сады и обязательно — ряды ореховых деревьев по обе стороны дороги. В пейзаже отсутствуют пробелы, внезапно оборванная непрерывность, не встречая подвоха, воображение вскоре погружается в дрему. Вероятно, что-нибудь здесь происходило сто, двести и триста лет назад, но события не оставили никаких следов. Жизнь впитывается в землю, растекается, разбавленная атмосферой, тлеет спокойно и медленно, словно убеждена в собственной бесконечности.
Остановка была в Чимишля. Запомнить это невозможно. Так, какое-то небытие, на мгновение попытавшееся прикинуться автобусным вокзалом. Бетонный майдан, с одной стороны простирается загородный пустырь, с другой — стоит здание. Серость, пыль и жара. Кран для пива в баре — трубка с резиновым шлангом, обвязанным проволокой, а дальше, в глубине, все слеплено по воле случая, прихоти наслаивающихся друг на друга предметов. Не то квартира, не то склад рухляди, темно, тесно и низко, приваренные друг к другу железные прутья, жесть, ламинат, все разом, все изначально порченое, дабы не беспокоиться и жить спокойно. Отчаяние отвергнутой материи. Люди сидели, ели, пили и ждали, но казались обнаженными — того и гляди, поранятся о какой-нибудь острый край.
На перекрестке ждал запряженный в тележку ослик. Вокруг было безлюдно, и только где-то дальше и ниже, там, где заканчивались кукурузные поля, серела бетонная деревня. Из автобуса вышла женщина. Она тащила за собой проволочную конструкцию на двух колесиках. К ней была привязана небольшая сумка. И то и другое, похоже, самодельное. Женщину встречала девушка. Они обнялись, точно после долгой разлуки. Потом уселись в тележку. Они были больше, чем вся упряжка вместе взятая. Коричневый осел направился к деревне. Казалось, они просто играют, потому что повозка была крошечная. Словно украденный где-то фрагмент детской карусели.
Что сказать о Кагуле? От Кагула несколько километров до румынской границы, а после надо ехать берегом Дуная до Галаца. Эта близость границы ощущалась на центральной улице Кагула. Проезжали гудевшие басом машины, за столиками перед кафе грелись печальные короли жизни. Они заказывали молдавский коньяк и пили его стаканами, с безучастным видом. Шевелились только губы. Все прочее оставалось неподвижным раз и навсегда. Они поправляли золотые цепи и оглядывались — все ли смотрят. Даже мотор не глушили, чтобы каждому было ясно — экономить бензин им ни к чему. Так выглядел Кагул. Пограничное захолустье, нервическая ленца различного рода пройдох и нарезание кругов от скуки.
В парке возле белой церкви мужик выдавал напрокат багги.[58] Он сидел за письменным столом в тени дерева и переворачивал стеклянные песочные часы. Дальше город незаметно превращался в деревню. Отличие было только одно — теперь деревья возвышались над домами. Козы щипали траву у памятника героям-партизанам с огромными бетонными лицами. В близлежащем магазинчике горел средь бела дня желтый свет. Вошли трое мужчин, и женщина за стойкой поставила перед ними рюмки с водкой. Тогда я сообразил, что это не магазин, а бар.
На площади перед гостиницей всю ночь грызлись собаки. Грызлись и выли. На рассвете начали подъезжать машины с товаром. Это был базар. Еще там стояли снятые с колес железнодорожные вагоны. Они служили складами и магазинами. С шестого этажа открывалась панорама безудержного изобилия. Все сверкало и переливалось на солнце. Полиэтилен, пластик, целлофан, стекло и металл. Огурцы и помидоры. Арбузы и дыни. Чуть позже я спустился вниз и, подойдя поближе, увидел, что у них есть все жизненно необходимое. Брючные ремни и золотистая кукуруза, банки для маринования и бочки для квашения. Музыка не умолкала. Женщины сидели над товаром неподвижно, сложив руки под передником. Словно у себя дома или на лавочке у калитки. Я заметил, что там вообще было мало жестов и много ожидания.
Хозяин синего «рено» не желал ехать за двадцать евро. Он сказал, что дороги плохие и машины ломаются. Требовал тридцать плюс бензин. Одет он тоже был во все синее, аккуратный.
Следующим стоял старый «жигуленок». Такой старый, что цвет я не запомнил. Водитель был крупный, толстый и о своем внешнем виде не слишком беспокоился. Сказал, что готов ехать и что зовут его Миша. Ему было около пятидесяти. Мы выехали из Кагула. Дорога плавно поднималась на холмы, вокруг лежали виноградники и кукурузные поля. Деревни начинались внезапно и кончались точно ножом отрезанные. Миша говорил, что жизнь стала совсем плохая. Поминал Сталина, хоть и не мог его помнить. Сталин заслуживал доброго слова, потому что расстреливал воров. Так утверждал Миша. Он полагал, что проблема сегодняшней Молдавии — воровство, ибо Молдавия целиком и полностью украдена у простого человека. При советской власти, когда все было общим и ничьим, проблема кражи не стояла. Как и все прочее, она была общим достоянием. Крали все, но никто ничего не терял. Сегодня крадут только самые богатые и очень следят, чтобы этого не делали бедные, потому что изобрели собственность. Ее изобрели во вред обычному человеку, у которого ничего нет. Так считал Миша — он говорил по-русски.
Я хотел поехать в Комрат, столицу Гагаузии. Кто такие гагаузы, не совсем ясно. В Молдавии их двести тысяч. Язык гагаузов относится к тюркской группе, они исповедуют православие, в район Комрат прибыли из Добруджи, когда Россия в 1812-м захватила Молдавию и, заметая следы, переименовала ее в Бессарабию. Возможно, это болгаризованные турки или отуреченные болгары, никто не знает. Как почти никто не знает об их существовании. И вот я отправился в Комрат по шоссе, пустому, как взлетная полоса.
Описать Комрат трудно, поскольку его трудно разглядеть. Едешь через едва различимый город. Есть дома, есть улицы, но все это лишь наметки, кое-как слепленная временность. Печаль материи, что застыла на полпути к цели, ослабла, не успев сформироваться. Памятник Ленину был выкрашен золотой краской. По центральной улице двигалась похоронная процессия. Открытый гроб стоял в кузове фургона. Рядом на стуле сидела старуха в черном. Было жарко. Над лицом покойника роем носились мухи. Женщина отгоняла их зеленой веткой. Движения ее были медленные, монотонные. Смотрелось это странно, потому что они ехали в полной тишине сквозь грохот повседневности, мимо прилавков с хлебом и овощами, среди велосипедов, повозок и машин. Протискивались против течения обыденной жизни.
Перед музеем Гагаузии стоял памятник героям-афганцам. Молодой парень с автоматом, выкрашенным серебрянкой. Я хотел посмотреть, а там, внутри, словно только того и ждали. Заведующая и две женщины. Начальница взяла деревянную указку и принялась рассказывать о великом переселении народов из глубин Азии. Она постукивала палочкой по картам, и получалось, что гагаузы — все-таки турки, которые вместо того, чтобы занять южное побережье Черного моря, забрели на север. Мы переходили из зала в зал, повинуясь течению времени. В какой-то момент из боковой двери вышел старичок и сказал, что он член Союза художников и скульпторов Гагаузии. Он родился в 1935 году в деревне Святкова Белька, километрах в пятнадцати от того места, где я живу. Звали его Анджей Копча.
Миша все время плутал. Отдалившись на пятьдесят километров от родных краев, он заблудился. Я показывал ему карту. Миша боялся дорог, по которым никогда не ездил. Они были обозначены на карте, но он не верил в их существование. «Там живут только турки, не стоит…» «Там одни болгары…» Он не хотел выходить из машины, не хотел кофе, не хотел обедать. Он не мог взять в толк, как можно столь бессмысленно тратить время и деньги, как можно приехать сюда без определенной цели. Разве это цель для здравомыслящего человека — деревня Альбота де Сус? Или деревня Софиевка? Так что Миша из машины не вылезал. Он смотрел на расползшийся по зеленому пейзажу серый постсоветский лишай, я смотрел на него, и мы ничего друг в друге не понимали. Он тосковал по минувшему и ненавидел его останки. «Я советский человек», — заявил он в то утро. А ведь ничто другое не могло остаться, поскольку ничего другого не было и раньше. Убожество и печаль временно слепленной материи просто делали свое дело. Пожирали реальность. Все это пространство казалось бесхозным. По пустой дороге ехал трактор с прицепом, и мужчина сбрасывал вилами только что скошенную зелень. По паре охапок перед каждым двором. Трудно сказать, была ли это своего рода милостыня или законная доля.
В Баурчи мы прибыли в сумерках. Миша взял деньги и уехал. В Баурчи живут одни гагаузы. Нам нужна была Елена. Мы познакомились два дня назад в автобусе в Кагул. У нее рыжие волосы, робкая и красивая улыбка. Елена сказала, что работает в Стамбуле, но сейчас приехала домой, навестить детей. Она пригласила нас в гости, и теперь мы искали ее в огромной десятитысячной деревне, раскинувшейся на пологих холмах в центре безлесной возвышенности. «Это та, у которой было двое мужей, второй турок», — так говорили в деревне, и в конце концов мы отыскали нужный дом. Он стоял в длинном ряду себе подобных. Мы вошли и оказались в тенистом дворике, небольшом, прикрытом вьющейся лозой. Елена снова улыбалась. Вокруг стояли дети. Вышел ее отец. Все смутились. «Вот так мы и живем», — повторяла она. Елена хотела показать все сразу. Мы пошли в сад. Рассматривали овощи, рассматривали виноград… Вот капуста, вот помидоры, вот огурцы, повторяли хозяева. Мы ведь прибыли издалека и могли ничего этого не знать. Мы рассматривали тощего рыжего теленка, стоявшего на короткой цепочке по ляжки в навозе. Свиньи сидели где-то в темноте, так что мы только ощутили запах. Все было скучено, стеснено, плотно лепилось одно к другому. «Земли мало дали», — объяснила Елена.
Постелили нам в самой большой комнате. Она была заставлена всевозможными вещицами. Стеклянные, пластмассовые, фарфоровые, металлические фигурки, статуэтки, украшения, сувениры, коврики, всякая невинная фигня, бледные танцовщицы и дешевые часы, стеклянные шарики, красота без изысков, без претензий, музей безделиц, восточное изобилие, оргия бренности и мечты, материализовавшийся сон. Мне вспомнились дома моих деревенских теток и бабок, но они являли собой лишь бледный отсвет комнаты в Баурчи.
Утром нам показывали деревню. Все вместе. Елена, дети, ее отец, ее сестра, шурин Илья, посмотревший мир, — он служил в ГДР и работал на московской стройке. Фронтон дома культуры украшала мозаика в народно-социалистическом стиле. Бетонный бюст Ленина стоял на двухметровом цоколе. «Самый лучший человек», — сказала Елена и улыбнулась своей улыбкой. Тогда до меня дошло, что больше у них тут ничего нет, что память Баурчи исчисляется несколькими десятилетиями, а раньше просто ничего не было. Осел вез тележку. Погонял ребенок. Внутри, в бездонных пустых недрах дома культуры, грохотала мертвая музыка. Мы нашли источник звука. Бледная восемнадцатилетняя девушка копировала движения и жесты, увиденные на телеэкране. Музыка звучала из магнитофона, а она пела механическим голосом, забывшись в печальном нервозном танце. На завтрак в то утро нам подали местный деликатес — вареную свиную кожу. «Раньше кино привозили», — сказала Елена. Под деревом сидела старуха в черном. Рядом стоял мешок с подсолнечными семечками. На ветке висели ржавые весы. Женщина сидела прямо, неподвижно, сложив руки под передником. На улице на железных воротах мы увидели эмблемы Московской олимпиады: стилизованная высотка, увенчанная красной звездой. Они были сделаны из проволоки, приварены и покрашены. На каждом втором-третьем доме.
Баурчи — вот истинный финал Революции. Так нам казалось. Здесь не осталось ничего полезного, ничего ценного. Семьдесят лет псу под хвост. Карикатурный монумент злодея перед пустым зданием, в котором грохочет отчаянная имитация музыки гнилого Запада. Только ослиная повозка казалась осмысленной и реальной. Честно говоря, я был беспомощен. Люди ведь знают, что для них хорошо, и сердца их не лгут, когда тоскуют. Что-то тут не сходилось, что-то было не так. Я чувствовал себя чужаком и идиотом в мире, понять который не умел.
Новое здание в Баурчи было только одно, зато очень большое. Может, даже больше дома культуры. Кремовые стены, большие окна, красная крыша, простота, функциональность, и вообще он как-то вызывающе светлел на фоне утомленного деревенского пейзажа. Нечто подобное можно увидеть в американских фильмах — герои вступают там в брак. «Это протестанты», — объяснила Елена. Я спросил, велик ли приход, но она не знала. Знала только, что прозелиты «ничего не делают и непонятно, откуда у них столько денег». Внутри светлые сосновые лавки, сосновый алтарь и немного похоже на «ИКЕА». Потом я увидел дом одного из прихожан. Он ничем не отличался от остальных, только во дворе стоял подержанный японский внедорожник. «В Кишинев ездит», — сказала Елена, и в ее словах прозвучал упрек.
В тот вечер мы тоже отправились в столицу. До автобусной остановки было десять километров. Отвез нас Илья на своем «жигуленке». С утра мы пили то пиво, то вино, но Илью все это не смущало. В Кишинев так в Кишинев — пожалуйста! Если автобус не приедет. Так он говорил. Невысокий, жилистый, бесстрашный — еще бы, ведь он повидал на своем веку и Дрезден, и Москву. Но автобус пришел, и мы крепко обнялись на запыленной дороге в Конгаз. Обещали друг другу, что обязательно встретимся вновь. Это были замечательные люди. Они сказали: «Вот так мы и живем», раскрыли перед нами все свое существование с такой непосредственностью, с какой другие показывают квартиру. Сестра Елены встала в четыре утра, зарезала кролика и курицу, чтобы приготовить нам завтрак. Мать двух сестер была парализована. Она сидела в кресле в тени винограда и с улыбкой наблюдала, как мы пьем вино. Отец угощал сливовицей, подкрашенной малиновым соком. На тарелках лежали ломти арбузов и дынь. Теперь мы обнимались с Ильей на запыленной дороге в Конгаз, обещая друг другу, что еще обязательно встретимся, хотя никто из нас в это не верил.
Ах, Кишинев, Кишинев! Белые блочные дома на зеленых холмах. Они видны с севера, с юга, с востока и с запада. Громоздятся скалистыми утесами. Сверкают на солнце. Памятник геометрии посреди волнистого асимметричного пейзажа. Самые большие и высокие здания во всей Молдавии.
Гигантские надгробия, воткнутые в рыхлую плодородную землю. Каменные таблички эгалитаризма. Термитники всемирного прогресса. Новый Иерусалим на стадии технической смерти. На выездах из города стоят грузовики, нагруженные пластиковыми бочками, бутылями для вина, банками для консервирования, тысячами сосудов, в которые Молдавия упаковывает в преддверии зимы свои богатства, чтобы выжить. Она заквасит, замаринует, законсервирует, пастеризует, засолит содержимое своих садов и огородов. В центре на бульваре Стефана Великого и Святого, мимо салонов японской электроники и итальянской обуви, сновали люди, навьюченные стеклянной посудой. Они несли по десять, по двадцать штук хитроумно уложенных новеньких банок для консервирования. Или блестящие оцинкованные ведра. Или сумки, набитые огурцами и помидорами. Катили фургоны, нагруженные арбузами, и тянулись прицепы, полные дынь. Старый Кишинев был, в сущности, деревней, только немного повыше. Отойди чуть в сторону от центральной улицы — начинаются одноэтажные или двухэтажные дома, утопающие в зелени, разгороженные деревянными заборами, прогуливаются кошки, и сидят на ступеньках люди. Таков старый центр, не больше двух десятков улиц и сохранившаяся атмосфера сонной имперской провинции. Убери автомобили — и все станет как когда-то, как сотню лет назад.
Итак, Кишинев. Я провел много часов под зонтиком в «Грин Хиллз Нистру» на бульваре Стефана Великого и Святого, на углу улицы Эминеску. Публика в кафе была довольно интернациональной. Говорили по-английски и по-немецки. На вид — служащие, спускающие здесь европейскую и американскую валюту. Кроме того, нарождающийся молдавский средний класс: золото, темные очки, вульгарность, что-то среднее между валютчиком, альфонсом и итальянским героем-любовником. Женщины, словно сошедшие с телеэкрана. Почти у всех на шее висели на цепочках маленькие серебристые мобильники. Нечто подобное я наблюдал в Румынии. Пиво, кофе и все прочее я пытался заказывать по-румынски, но официанты делали вид, что плохо понимают, и отвечали по-русски. Разумеется, они понимали, но русский был для них признаком изысканности и великосветскости. Возможно, они принимали меня за мужичка из бессарабской глубинки или плохо подготовившегося шпиона.
Странный город. Испуганные восемнадцатилетние менты, вышагивающие по трое, ребята в «лендкрузерах», хозяева улицы, мужики у почты, торгующие импульсами с телефонных карт, люди, навьюченные сосудами, бритоголовые малолетки в широких штанах и с потупленным взором, словно исповедующие робкий францисканский вариант бандитизма, барышни с голыми животами и на высоченных шатких каблучках, прохаживающиеся по главной улице, словно по подиуму, смешанная романско-славянская красота, изуродованная бордельным макияжем, крестьянская робость в эстрадных костюмах и ощущение, что все что-то изображают, имитируют собственные представления об ином каком-то мире. Так что в конце концов мы с Кишиневом расстались.
Коля сказал, что за тридцать евро он готов катать нас целый день. У него был старый «рено-вэн» с «космической» пластиковой отделкой салона. При советской власти он был инструктором по самбо. Грузный, усатый и добродушный мужик. В Старый Орхей? Пожалуйста. Он никогда там не бывал, но это ничего. Мы поехали прямо на север. Где-то на выезде, может, в Чореску, неподалеку от проезжей части стоял под сенью дерева старый письменный стол. За ним сидел жирный мент и наблюдал, как менты помоложе в больших круглых фуражках останавливают очередных жертв и молча взимают по двадцать леев. Но мы ехали в Старый Орхей. Кто-то нам посоветовал. И оказался прав. Река Рэут вгрызалась в землю, словно намеревалась пробить ее насквозь. Узкий язык суши был высотой несколько десятков метров. Город основала здесь в свое время Золотая Орда. У них был хороший вкус. Пейзаж до сотворения человека. Ландшафт начала начал. Всего лишь набросок, первый эскиз того, как должна выглядеть Земля, некая абстракция, синтез простейших форм. Вертикальный обрыв, плоское, как стол, дно долины и медленная река, пробивающая себе русло в тектонике. Так же как сто тысяч лет назад. Вода опускалась все глубже в землю. Она была бурого илистого цвета.
Каприз реки образовал здесь что-то вроде длинного обрывистого полуострова. В скалистых стенах был выдолблен монастырь. Несколько маленьких окошек глядело на этот извечный пейзаж, на прекрасное небытие в поисках формы. В кельи можно было попасть лишь со стороны обрыва, поднимаясь на цепях по отвесной скале. Затем монахи убирали цепь, оставляя одиночество и пустое пространство. Как в египетском Скитисе, где монахи-отшельники вызывали демонов на поединок. Позже я видел еще другие монастыри, но они выглядели каким-то импортным товаром. Впрочем, так оно и было, потому что их выстроили русские в помпезном имперском стиле. Орхей представлял собой просто выдолбленные в скале пещеры, попытку сбросить проклятие времени. Опыт жизни в вечности. На низких сводах келий, в которых можно было только лежать или стоять на коленях, виднелись отпечатки раковин, извилистые орнаменты моллюсков, знаки первых семи дней творения, когда вода еще не до конца отделилась от суши, а тьма — от света. Я пытался себе представить, как они ползают во мраке, ведут звериное существование в пещере, на четвереньках и немыслимым для нас образом преодолевают свою телесность, свою человечность. Покидают смердящие и завшивленные оболочки, потому что зримое и осязаемое существует лишь затем, чтобы истина открывалась не всем.
Но это было давно. Теперь немногочисленные монахи просто жили в деревне у подножья обрыва. В маленькой, выдолбленной в недрах земли часовне мы застали одного. Худой, бородатый любитель поговорить, он, видно, поездил по миру, потому что принял нас за словаков. Монах рассказал нам историю монастыря, показал пустые, дочиста выметенные кельи без окон, где приходилось опускаться на корточки, и тут же переключался на трех офицеров из русской, молдавской и украинской армии. Они чудно выглядели в этом месте, в форме, без оружия и с фотоаппаратами. Русский в большой фуражке был старший по возрасту и, видимо, по рангу. Украинец был самый молодой, красавец, в черных зеркальных очках похожий на голливудского актера, исполняющего роль солдата. Да, они странно выглядели в этом извечном пейзаже с монахом-экскурсоводом. Потом мы видели, как они фотографируются на фоне обрывов и меандров реки Рэут. Они передавали друг другу аппарат и замирали напряженно, словно перед ними был не безлюдный ландшафт, а по меньшей мере батальон. Это миротворцы, миротворческие силы. Они стерегли границы несуществующего государства, стерегли границы Приднестровья. А эти, видимо, получили увольнительную.
Итак, формально Приднестровья не существует. Приднестровье не признано ни одним государством. В длину оно насчитывает около двухсот километров, но узенькое, точно европейское Чили. В самом широком месте — чуть более тридцати километров. Ехать туда было страшновато. Нас предупредили — если что, не очень понятно, к кому обращаться. Призрачное государство, и правила поведения в нем довольно призрачны. Однако мы все же рискнули. Повез нас Валерий на десятилетней «вектре». Валерий не боялся ничего: вчера Киев, завтра Москва, послезавтра Вена, так что можно и в Приднестровье — пожалуйста. При коммунизме, когда он работал инженером-агротехником, жизнь была, правда, получше, но и теперь сносно, просто приходится прилагать больше усилий. Да, Валерий не тужил и ничему не удивлялся. Мы хотели въехать в несуществующее государство через самое захолустье, через Рэскэець, где Днестр разделяется на два рукава, петляет, вьется, — на карте он напоминает небрежно брошенную голубую ленточку. Сначала был длинный и пустой мост через реку. По нему с приднестровской стороны ехали только двое мальчишек на велосипедах. На багажниках они везли вязанки хвороста. Потом начинались кукурузные поля, посреди которых стояла будка с одиноким молдавским таможенником в черной форме. Молдавия, разумеется, не признает сецессию этого «государства», предоставив ему только статус своеобразной автономной области, не признает границ, так что паспорт предъявлять не нужно и все такое. Но на всякий случай молдавские таможенники там дежурят. Все-таки в Приднестровье, в Кобасне, находятся крупнейшие в Европе оружейные склады. Предполагалось, что отсюда, из Тирасполя, Советский Союз может двинуть войска на Балканы, Грецию и так далее.
Но таможенник ничего от нас не потребовал. Даже не соизволив надеть фуражку, он вместе с нами изучал разложенную на капоте карту, все эти разливы, повороты, излучины, болота, эти днестровские воды, порой текущие вспять, просто-напросто против течения, постукивал по ней пальцем и говорил, что в самые интересные места на нашей «вектре», пожалуй, не проберешься. Ни фотоаппарат, ни камера его не заинтересовали. Парню было лет двадцать с небольшим, и шпиономания не успела отравить его мозги. Он помахал нам на прощание, мы тронулись и через мгновение оказались на приднестровском посту. Там ситуация была совсем другая. Тоже обшарпанная будка, но пограничников в ней сидело штуки четыре. Какие-то расхристанные — вроде в форме, но такое ощущение, что мы вытащили их из постели, сонных. Шнурки вполне штатских ботинок волочатся по пыли, постсоветский дизайн мятой формы и какая-то внезапная суровость. Они взяли паспорта, и мы моментально ощутили себя врагами. Они смотрели не в глаза, а куда-то в небо, поверх голов, в беспредельность прежнего всесоюзного небосклона. Черт его знает, может, впервые видели чужака? За эти четверть часа проехала фура с сеном и прошла женщина с мотыгой. Их ни о чем не спросили, и они сразу исчезли в кукурузной пустоте. Наконец пограничники велели нам ехать обратно и отправляться в город Бендеры, к начальству, которое сообразит, как с нами быть.
На пограничном переходе в Бендерах царил бардак. Бараки, фанера, шифер, крошащийся бетон, временность и шлагбаум. Атрофия и печаль, сквозь которую просвечивала смутная угроза. Они сразу углядели камеру, и в них пробудился архаический страх людей, которым есть что скрывать. Они утверждали, что мы снимали пограничный переход. Разумеется, мы его снимали, но все отрицали. Они забрали паспорта и втроем или вчетвером удалились в фанерную будку. Мы остались стоять на солнцепеке. Я видел, как А., покрывшись испариной, присаживается на край открытого багажника и медленно, почти незаметно вынимает из камеры кассету и подменяет ее чистой. Никто не обратил на это внимания. Пограничники выходили по очереди, молча нас рассматривали, делали, словно роботы, несколько шагов и опять исчезали в будке. Да, мы для них были врагами. Вне всякого сомнения. Мы угрожали всему, что они имели. Они держали в руках наши паспорта, в которые даже свои печати шлепнуть не могли, за отсутствием оных.
Никто их не признавал, так что ставить печать они не имели права. В конце концов Валерий зашел в будку. Через минуту он вернулся и сказал: им известно, что мы снимали, а это серьезное нарушение — снимать категорически запрещено, но если мы заплатим сто леев, то можем ехать. Мы заплатили. Они даже кассету не потребовали. Мы были врагами, но при деньгах. Нам выдали клочок бумажки, обрывок какой-то квитанции. На обороте они написали от руки: один автомобиль, четыре человека и камера. Такой была приднестровская виза.
Приднестровье откололось от Молдавии в 1992 году. Вспыхнула настоящая война, которая унесла несколько тысяч жизней. На самом деле исторически Приднестровье никогда не входило в состав молдавского государства. Когда после Второй мировой войны Советский Союз отбирал у Румынии земли между Прутом и Днестром, превращая их в очередную союзную республику, Сталин прилепил к Молдавской ССР эту узкую полоску на левом берегу Днестра. Там были индустриализация, энергетика, оборонка и, разумеется, русские, наложившие на все это лапу. На другом берегу остались сельское хозяйство, кукуруза, виноград, деревня, скот и румыноязычные молдаване. Не исключено, что грузин все предвидел и спланировал. Распад своей злополучной империи он спроектировал так, чтобы тот обернулся возможно большим хаосом. Просто он не знал другого способа остаться в истории. В общем, в Приднестровье было слишком много оружия и слишком много русских, так что независимой, зеленой и нищей Молдавии и мечтать о нем не приходилось.
От пограничного перехода до Тирасполя — километров десять. Есть пейзажи и города, которые невозможно удержать в памяти. Вроде бы что-то видишь, но расплывчатое и мутное, словно подсматриваешь чужой кошмар. То есть просто-таки ничего. Какое-то двухполосное шоссе, серые угловатые дома, убогий кумач советских лозунгов вдоль дороги, ржавый «жигуленок» с новыми номерами, идеально имитирующими немецкие, стопроцентно одноэтажная фантазия. Такими были подступы к столице. Мы остановились у базара. Мне не терпелось узнать, как выглядят их деньги. У ворот стояли будки-обменники. Подходишь и протягиваешь молдавские леи куда-то в темноту. Лапу с золотой цепью я разглядел, а лицо — нет. За один лей давали два приднестровских рубля. Пятирублевая банкнота была размером пять с половиной на тринадцать сантиметров. С одной стороны, разумеется, Суворов, с другой — четырехэтажный панельный монстр в стиле шестидесятых годов: надпись внизу гласила, что это «завод Квинт», то есть местная фабрика коньяков, вполне, впрочем, приличных. Так что, с одной стороны, история, захваты, резня Праги, слава российского оружия — главным образом за границей, — а с другой, как ни кинь, выходит водяра в качестве государственной или национальной святыни.
В общем, Валерий взял сумки и пошел за покупками. В Тирасполе все должно быть значительно дешевле, чем в Кишиневе. Он накупил дынь, арбузов и персиков. Мы стали искать, где бы пообедать. Ничего не нашли. Это больше напоминало окраины, чем собственно город. Такое ощущение, будто что-то пыталось, но не умело начаться. Наконец нам показали, где центр. Широкая улица, обсаженная старыми деревьями. Изредка по ней проезжала машина. Обычно допотопный «москвич», убогий «жигуленок», а рядом время от времени появлялись гигантские джипы с затемненными стеклами, как правило, черные. Тирасполь к себе не располагал. То и дело мелькала военная форма. В нее была одета, наверное, половина жителей города. Мы обнаружили большой книжный магазин, но книг в нем почти не оказалось. Зато имелись портреты Ленина и бланки наградных дипломов, тоже с его изображением. В открытом кафе пили пиво бритоголовые мужики в спортивных костюмах. Порой кто-то выходил, но вскоре возвращался, ведь идти в Тирасполе некуда. Они словно ждали, авось что-нибудь произойдет, кто-нибудь их призовет и они наконец кому-то понадобятся. Этакие хорошо накачанные сиротки.
Да, именно, в Тирасполе казалось, что все тут лишние, все выглядели довеском к чужим, масштабным и загадочным, интересам, выглядели довеском к армии, оружейным складам, стоящей здесь российской XIV дивизии, черным джипам и вездесущей фирме «Шериф», принадлежащей Смирнову — «президенту» этого «государства». Если во всем Приднестровье было хоть что-то новое и неразрушенное, то оно именовалось «Шериф». Так назывались все бензоколонки и супермаркет в Тирасполе. Желтая звезда из вестерна проливала на постсоветский заповедник свет абсурда. Тут все было возможно. Старый аппаратчик переодевался американским шерифом и срывал банк. Край мрачных чудес, да и только.
Мы двинулись вдоль украинской границы на север. Повсюду росла кукуруза, и в этой кукурузе, поперек полевых дорог, стояли красно-белые шлагбаумы и посты. В этом было нечто сюрреалистическое, но, с другой стороны, и своя печальная прелесть. По сути, они стерегли пространство как таковое, надзирали за пустотой, защищали границу, представляющую собой идею геометрии в чистом виде. На карте это выглядело весьма угловато, словно вычерчено по линейке, без прелести, плавности, свойственной территориям, где история смешивается с географией, человеческой натурой, неким древним хаосом. С поправкой на масштабы эти линии напоминали африканские границы в Сахаре. «Это бывшие границы совхозов и колхозов», — объяснил мне потом один знакомый, который немного разбирался в Молдавии. И теперь они перегораживали этими своими шлагбаумами песчаные дороги, по которым двигались скот, лошади, свиньи, парни повидаться с девушками, фуры на резиновых колесах, бабы посплетничать, пьяницы надраться, воры украсть, родственники в гости, да и просто люди — с кем-нибудь встретиться. Мы ехали по совершенно пустому шоссе, и люди в форме среди этой кукурузной беспредельности напоминали чучела. Скорее всего, у них были какое-то оружие и какие-то приказы, но в этой аграрной бесконечности они выглядели абсолютно несерьезно. В самый раз, чтобы пугать подлетающих птиц, обыскивать мальчишек, везущих вязанки хвороста, пропускать возы, нагруженные сеном, и возвращать заблудившихся животных.
Ни одного автомобиля. Не встретив ни души, мы проезжали разрушенные бензоколонки. Местами этот край напоминал декорации к неведомому фильму. Так было где-то между Малештем и Бутором. Кто-то проложил широкое шоссе, по которому никто не ездил, кто-то построил бензоколонки, которые теперь рассыпались на глазах. Все выглядело брошенным, отвергнутым и бесполезным, не имеющим никакой ценности. Люди сидели по домам, каждый сам по себе. За дверью, за калиткой начиналась ничейная территория, пустота. Быть может, поэтому Валерий повез нас к своим родственникам в Григориополь — в нормальный дом с садом. Хотел показать нам обычную жизнь. Мы оказались за высокой стеной, в холодной виноградной тени. Нас встретил Миша. Огромный, пузатый и голый по пояс. Он говорил без умолку, точнее, произносил цветистые куртуазные речи. Сразу повел нас в глубь сада, демонстрируя очередные грядки и воздавая хвалу самодостаточности и урожайности молдавской земли. Действительно, растительность была зеленой и буйной, точно в тропиках. Зелень поднималась, стелилась, сплеталась, ползла, выплескивалась из укромных уголков, в этой гуще просто некуда было поставить ногу, под этой плодовитостью не было видно земли. А Миша ступал легко, точно балерина, меж огурцов, помидоров, фасоли, паприки, дынь, тыкв, шагал, подобно грузной молдавской Помоне. Он объяснял, зачем нужны огурцы и все прочее, и это немного напоминало наш визит к гагаузам: нас снова принимали за дикарей, прибывших из краев, где ничего не растет. Затем нам пришлось спуститься в подпол. Довольно большой, высокий и холодный. Все, что росло в саду, здесь можно было увидеть закрытым в банки, бочки, бутылки и бутыли. Миша то и дело подливал нам красного вина и говорил, говорил, говорил. По-прежнему полуголый, он совершенно не мерз. Среди этой подвальной роскоши он вспоминал, как в мрачную эпоху начала восьмидесятых посетил Варшаву вместе с молдавско-советским ансамблем песни и пляски. У него было полно денег, так что он пил шампанское и коньяк, ездил на такси и в обнищавшем городе чувствовал себя кум королю. Сопровождал его поляк — партсекретарь, бедный, как церковная мышь. В очередной раз наполняя стаканы, Миша просил нас найти его знакомого — кланяться, передать привет. Я послушно выпил и обещал отыскать в двухмиллионном городе бывшего партсекретаря.
Все это было лишь прологом к приему. Мы пошли в дом. Отец Миши праздновал день своего ангела, то есть, по-нашему, именины. На столе стояли вино, коньяк и виноградный самогон. Нас безостановочно кормили и безостановочно поили. Нам не хотелось кого-нибудь обидеть. Таков закон гостеприимства: я напился и обожрался. Миша не умолкал. Хозяева были русифицированными украинцами. На стене висели их портреты в молодости. Именинник с супругой были запечатлены в советской военной форме. То и дело вносили новые блюда. Молдавский эдем: сад, пир, тосты, родственники и друзья. Миша вспоминал времена, когда работал тюремным охранником. Его мать вспоминала времена, когда работала учительницей румынского языка. Валерий твердил, что румынского народа не существует. Все соглашались, что раньше было лучше. Да и я, собственно, начинал потихоньку соглашаться.
Но все же сопротивлялся и с нетерпением ждал мгновения, когда Валерий даст отмашку, что пора.
На мосту через границу в Вадул-луй-Водах стояли бронетранспортеры. Никто к нам не цеплялся, и спустя несколько минут мы увидели блочные дома Кишинева.
В город Сороки мы поехали с В., которому надо было туда по делам. Сороки расположены на севере, на берегу Днестра. Через реку — Украина. Когда едешь на север, из пейзажа постепенно исчезают виноградники, их место занимает кукуруза, которая в конце концов заполоняет все. В Сороки мы поехали посмотреть на цыган. У них там что-то вроде собственного мини-государства.
Его было видно еще издали, с прибрежного бульвара: наверху, над городом, на обрывистом берегу Днестра раскинулся цыганский район. Еще издали становилось очевидно, что это не Молдавия. Жестяные крыши сияли на солнце, точно рыбья чешуя, и отсюда казалось, что это барочно-византийско-татарско-турецкий табор — мягко говоря. Крыши громоздились, топорщились, словно надуваемые ветром паруса, они точно отпочковывались одна от другой, подобно живой материи. Так это выглядело издалека. А вблизи производило впечатление американских горок, которые несут тебя через столетия и континенты. Викторианские дворцы, мавританские резиденции, китайские пагоды, классические греческие фронтоны, румынский ренессанс и слегка уменьшенная копия московского Большого театра с тремя пластмассовыми скакунами наверху, вероятно, прежде трудившимися на какой-нибудь карусели. Перед павильоном с двадцатью окнами по фасаду среди зеленых джунглей громоздился шестиметровый фонтан из белого камня в стиле строгого рококо. У его подножия покоился мраморный же крокодил в натуральную величину. Двое молдаван заканчивали работу над монументом, приглаживая последние острые углы. За ними наблюдали цыганки с папиросами в золотых мундштуках. Я спросил Роберта, кто все это проектировал. У Роберта были черно-золотая визитница, пекарня, недостроенный дворец и БМВ-700 со словацкими номерами во дворе. Кроме того, в Сороках он был чем-то вроде серого кардинала. «Мы сами, — ответил он. — Игра воображения».
Кроме того, Роберт владел еще и кафе. То есть оно было общим, но главным образом Роберта, потому что идея принадлежала ему. Мы сидели на веранде, а внутри кроме столиков и бара стоял десяток компьютеров. Перед ними сидели ребята. В основном, цыганята, но было и несколько молдаван. Папаши могли спокойно поговорить, выпить, приглядывая за шурующей в Интернете детворой. Мы пили коньяк и закусывали арбузом. Роберт говорил, что времена изменились и за детьми нужен присмотр, чтобы их не затянула улица. А в остальном все хорошо, границы, в сущности, открыты, были бы паспорт, идеи да связи. Если у кого есть желание, можно ехать к чукчам и продавать им китайское белье. Никаких ограничений. Раньше тоже было неплохо, но возможностей поменьше. Так говорил Роберт, потягивая коньяк. Появился Артур, и Роберт пригласил его к столу. Артур был королем, то есть бароном. На его визитке стояло: «Gipsy Baron of Moldova».[59] С седой бородой до пояса, длинными седыми волосами, стянутыми в конский «хвост», он немного напоминал святого из далекой Индии. И вполне отдавал себе в этом отчет, потому что рассказывал, что гитлеровцы перед тем, как уничтожить, брали у цыган кровь. Она, должно быть, представляла для них исключительную ценность, поскольку была стопроцентно арийской. Он произносил это с каменным выражением лица, свято веря в то, что и мы тоже в это верим. Чертил на листочке какие-то знаки, показывая, что русский алфавит восходит к санскриту. Вскользь упомянул, что этим летом к нему приезжали польские студентки-этнографы. Да, Артур — это была колоритная фигура. Во дворе своей виллы он держал коллекцию советских «чаек». Два запыленных лимузина стояли на спущенных шинах. У одного в ветровом стекле имелось пулевое отверстие. Закончив лекцию об арийцах и санскрите, Артур попрощался, встал, погрузился в зеленый «БМВ икс пять», за рулем которого сидел его сын, и отправился исполнять свои баронские обязанности. Другие тоже стали потихоньку подниматься. Это вам не молдавское гостеприимство. Вежливость и любезность, не более того. Они выпили с нами две бутылки коньяка, съели три арбуза, посвятили три часа времени, показали из своей жизни столько, сколько сочли нужным, а теперь нам предстояло каждому вернуться в свой мир.
Обратно мы ехали на маршрутке. Я сидел рядом с шофером. Он что-то мухлевал с билетами. Продавал, а при выходе отбирал. Покрикивал на пассажиров, чтобы их не роняли. Я ничего не понимал. Где-то в чистом поле села женщина. Поднимаясь по ступенькам, она поранила ногу об острый край. Потекла кровь, а водитель заорал, что смотреть надо лучше. Он был тощ, хамоват и — псих. Вел машину напряженно и как-то остервенело. Через тридцать километров был пост. Мент махнул полосатым красно-белым жезлом, и мы съехали на обочину. Водитель вынул из бардачка двадцать леев, вышел и подошел к постовому. Без единого слова отдал ему деньги, тот кивнул головой в огромной фуражке — мол, проезжайте. До Кишинева было примерно полторы сотни километров и нас останавливали еще три раза. Все происходило одинаково — молча, открыто и официально. Морды у ментов были застывшие и тупые. Водителя переполняли ненависть и отрешенность. Он трогался с места и шепотом ругался. Я собственными глазами увидел, как выглядит замкнутый круг. Наконец я спросил, всегда ли так на этом маршруте. «Да, — ответил он. — Всегда, с тех пор, как закончился Советский Союз».
Когда я уезжал, пограничный переход в Леушен был так же пуст, как две недели назад. Я ждал приятеля с румынской стороны. Он опаздывал. Никто не ехал ни туда, ни обратно. Вероятно, незачем, некуда. Не было видно даже велосипедов с вязанками хвороста. Ничего, кроме пустоты, оцепенения и жары. Я простоял час или полтора и все смотрел на краешек маленькой и одинокой страны. Она была похожа на остров, окруженный сушей. Даже на границе все было неподвижно. Пограничники сидели в зданиях, кабинетах и будках и маялись от безделья. Такое ощущение, будто они ждали, чтобы что-нибудь произошло и переменилось. Не хватало только ветра, несущего пыль и песок из глубин континента.
Наконец приехал Александру и остановился с румынской стороны. Я помахал ему и двинулся к будке. Увидев меня, пограничники обрадовались, потому что помнили, как я въезжал две недели назад. Я представил себя единственным путешественником, которого они досматривали за последнее время. Бросил рюкзак в багажник, сел, и мы поехали. Через двадцать минут миновали Хуси.
Паром в Галац
Итак, пространство — это вечное настоящее. Морозы тянутся из Украины и России в Румынию. Бухарестская знакомая говорит по телефону: «Very, very cold».[60] Я пытаюсь представить себе голую обледеневшую Дельту и сизый лед, затягивающий каналы, но получается с трудом, потому что сперва приходится мысленно преодолевать пространство, отделяющее меня от Сфинту-Георге и Сулины: Шариш, Земплин, Сабольч-Сатмар, Марамуреш, Трансильванию, Бараганул, Добруджу… Приходится представлять себе, как мороз завладевает местами, которые я помню весенними и летними. Приходится, точно пес воду, стряхивать с себя ту жару, потому что я не в состоянии поверить, будто между Самовой и Никулицелем теперь холодно, будто свиньи не валяются в пыли глинобитных двориков за камышовыми заборами, утоптанных до каменного состояния, и снег лежит на стрехах мазанок, стоящих вдоль извилистого шоссе, с которого уже видны Украина и белые пароходы, плывущие по дунайскому рукаву Киглии. Я с трудом представляю, чтобы с пола автобуса не поднималась горячая пыль, а тополиная роща возле парома в Галац стояла голой, безлистной и пустой и не было там мужиков, которые распивают водку — по пятнадцать тысяч леев бутылка, — купленную в раскаленном, как печь, магазине-вагончике. Кажется почти невероятным, чтобы теперь в Братиану все изменилось, чтобы алкаши, скорее всего, куда-то исчезли, чтобы пропали собаки у переправы, стаи взъерошенных щетинистых дворняг, точно меньшие братья этих люмпенов — такие же печальные и иссохшие на солнце.
Да, мне недостает воображения, и потому я вынужден паковать рюкзак, распихивать по карманам всякую всячину — паспорт, деньги, вынужден собираться в путь, чтобы проверить, как обстоят дела. Всякий раз, когда сменяется время года или погода, я вынужден складывать самое необходимое и отправляться в знакомые уже места, чтобы проверить, существуют ли они по-прежнему.
Как поживает этот паром в Галац, отплывающий от низкого берега, где на порыжевших от жары лугах бродили худые и блестящие кони? На пароме среди нескольких сверкающих автомобилей ехала серая «дакия»-пикап с огромным, вонючим, как сто чертей, кабаном в кузове. Должно быть, они проделали немалый путь, потому что скотина вымазюкалась по самый хребет. Я блаженно вдыхал этот смрад, бедром касался заднего крыла черного «мерса», где сидели бритый мужик в зеркальных очках и блондинка в золотых серьгах, и смотрел на противоположный берег Дуная, на гигантские ржавеющие портовые краны. Это была моя Румыния — недолгое братство «мерседеса», золота, свиного духа и трагической индустриальности, заброшенность которой могла сравниться лишь с ее масштабами. Пять минут спустя пути кабана, лимузина и мой разошлись навсегда.
Это и не дает мне уснуть — стремление узнать наконец, какова судьба всех картин, что прошли через мои зрачки и застряли в памяти, что происходит с ними, когда меня там нет, навсегда ли я забрал их с собой, обездвижив в собственной голове, останутся ли они со мной до конца, вне зависимости от смены времен года и погоды.
Что будет с двумя парнями в темных штанах, белых рубашках, галстуках и блестящих, словно только что начищенных, ботинках? Они извлекли меня из центра Текуча, из этого плоского пыльного города, и подвезли пару километров до магистали, а потом еще написали фломастером на большом листе «Бакау», чтобы мне было чем размахивать перед носом водителей. В молдавских душных сумерках они напоминали ангелов. Я не просил их о помощи. Они появились сами собой, потому лишь, что я был устал и потерян. И это не были православные ангелы. Потом я прочитал текст на обороте импровизированного транспаранта, который они мне вручили. И, в частности, обнаружил там фразу: «Creaza о buna imagino publica Bisericii Adventiste».[61] Ангелы были адвентистами и хорошо меня понимали, потому что в Текуче ощущали не меньшую потерянность.
Теперь все кажется таким простым. События соприкасаются, пронизывают друг друга, освобожденные от причинно-следственной связи, покрывают пространство и время ровным полупрозрачным слоем. Память воспроизводит их в любом направлении — назад, вперед или параллельно, им все нипочем. Это единственный способ не дать логике сбить нас с ног и выхватить едва пойманную добычу из рук. Где закончилась Молдавия, где началось Семиградье? Наверняка где-нибудь на шоссе номер 120 — там, в окрестностях Таски и происходило это неспешное превращение. Меня подобрало столетнее «ауди». Внутри все болталось, отваливалось, отскакивало — провода из приборной доски, обивка с потолка, снизу задувал ветер и летела пыль. Водитель сидел в шортах и майке. На шее болталась золотая цепочка, на ногах желтые шлепанцы. Он был очень загорелым, и только из-под массивного браслета часов виднелась полоска светлой кожи. На холостом ходу мотор начинал глохнуть, так что водитель все время жал на газ и даже не пытался тормозить там, где надо бы. Наш путь лежал через самое глубокое ущелье в Европе. Мы пытались поговорить. Он был из Сату-Маре и не любил венгров. Чтобы продемонстрировать, насколько они ему отвратительны, он обгонял на своем допотопном автомобиле вылизанные «пассаты» и «кордобы» с венгерскими номерами. Дорога для этого совершенно не годилась, поскольку состояла главным образом из поворотов. Он обгонял на спусках, выглядывая в окно, чтобы видеть на метр-два дальше. Мне было страшно, но я захватил с собой фляжку румынского бренди. За Биказ-кей сделалось почти темно. Стены ущелья достигали высоты нескольких сотен метров, и мы ехали точно в гигантской пещере. Мне хотелось отдать должное этому чуду природы, но одновременно не хотелось пропустить момент, когда мы разобьемся. Водитель вполголоса ругался и барабанил кулаком по рулю, если мощности не хватало и на нескольких десятках метров прямого отрезка ему приходилось созерцать серебряный зад «сиата» с будапештскими номерами. На перевале стояли лотки для туристов с произведениями местных мастеров. Мы начали спускаться. За одним из поворотов на асфальте стоял табун лошадей. Некоторые с бубенчиками на шее. Мы съехали влево, прямо под колеса появившегося автобуса. И ему, и нам удалось остановиться поперек шоссе. Это было, кажется, делом вполне обыденным, поскольку мужик перекрестился всего три раза и продолжал двигаться в прежнем темпе. Теперь он крестился перед каждым обгоном. Я вышел на центральной улице Георгени. К машине подошли двое похожих на него типов, только менее загорелых и цепочки у них были потолще. Я видел, как он протягивает им толстые пачки купюр по десять тысяч леев, что всю дорогу валялись на заднем сиденье.
И ничего больше. Продолжение могло бы состояться вечером, где-нибудь, скажем, в Словакии. Например, в придорожном кафе между Шаришем и Земплином, где пара водителей грузовиков поедала картофельные оладьи с тушеной печенкой и луком. Они пили чай и глядели на подтекающий кран с золотым фазаном. Из маленького зала возле стойки бара время от времени выходила темноволосая девушка. Она заказывала четыре рюмки «боровички» и скрывалась с ними за деревянной ширмой, откуда тянуло папиросным дымом и слышался мужской смех. Каждый раз, явившись за новой порцией, она долго шепталась с барменшей, словно хотела оттянуть момент возвращения. Только возгласы из-за тонкой перегородки заставляли ее прервать торопливый, нервный разговор. Я не мог понять, предназначалась ли одна из рюмок на подносе ей самой или она только угощала этих незримых гогочущих мужиков в каких-то лишь ей ведомых целях. Может, она хотела склонить их к преступлению, а может, к доброму поступку. Во всяком случае, платила она сама, вытаскивая из тесного кармана джинсов рулончики красных соток. Однако все это происходило где-то в другом месте и в другое время, чем то, что я пытаюсь вообразить сейчас. Вероятно, это было между Немцовой и Предайной, на шоссе в Баньской, и стояла зима.
Да, стоит событиям миновать — и они уже не доставляют никаких хлопот, при условии, что мы не станем умничать и пытаться использовать их в своих интересах. Если оставить их в покое, они превратятся в волшебный раствор, чудесную тинктуру, растворяющую время и место, разъедающую календари и атласы, обращающую в блаженное небытие координаты поступков. Какой смысл гадать? На что кому хронология — родная сестра смерти?
В полночь в Кисварде оглушительно басили громкоговорители, и машины стартовали с визгом шин, чтобы затормозить через десяток метров. В горячей пограничной ночи бритые черепа парней блестели, словно матовые лампочки. Мы искали ночлег, но этот город страдал бессонницей. Близость границы не давала уснуть. В пригородах тянулись ряды шикарных вилл. Возведенных за неделю или месяц. Жуткий фисташковый цвет соперничал с безумно-розовым и ядовито-желтым. Центр был старый, укрытый деревьями, полный тенистых провалов, в которых исчезали одноэтажные улочки. Однако эта подвижная, точно насекомое, и одновременно ленивая толпа на улице Мартона Кручаи наводила на мысли о штурме, забаве агрессоров, некоей неудачной конквисте. Молодежь напоминала стадо животных, оказавшихся в городе и не умеющих этим воспользоваться. Они двигались взад-вперед, встречались, обнюхивали друг друга, отдалялись и снова сближались, связанные незримыми нитями интересов, страха и желания. Кружили в лучах света, как ночные бабочки. Это был невроз пограничья, стремительной победы и внезапного поражения. В двадцати километрах отсюда располагались Загоны, единственный пограничный переход между Венгрией и Украиной, так что все тут назревало, пухло, разбухало и набиралось сил. В отеле «Бастия» огромная баба с обесцвеченными волосами, из прежних времен, не желала брать ни доллары, ни марки — исключительно форинты, которых у нас не было.
В названии отеля на окраине присутствовало слово «Париж», а может, «Парадиз». Он напоминал декорацию к провинциальному римейку «Калигулы». Гипсовые фонтаны, статуи, плюш и драпировки. На стоянке поблескивали откормленные зады черных «бумеров» и «мерсов». Тип, с полупустыми-полуподозрительными глазами сказал, что для нас комнат нет. Однако вынул из кармана форинты и продал по более-менее приличному курсу. Мы спросили, кто здесь останавливается.
Только венгры или украинцы тоже? Он посмотрел на нас как на несмышленышей. «Ukrainians? They aren’t European people».[62] Мы двинулись по направлению к Варошнаменю и внезапно погрузились в темноту и тишину. Проезжая Илк и Анарч, мы слышали дыхание людей, спавших за деревянными жалюзи в окнах низких домов, ощущали ночную влагу, поднимавшуюся над садами. Добравшись до города, мы долго стучали в дверь гостиницы, прежде чем на пороге появился заспанный портье в тапочках. В холле на стенах висели трофеи: шкура зебры, головы антилоп и рога каких-то экзотических животных. В полумраке бокового коридора мелькнуло нечто пятнистое, возможно, леопард. Кроме женщины, которая как раз зажигала свет на кухне, и этого портье, во всем отеле не было ни души.
Порой я поднимаюсь на рассвете, чтобы увидеть, как рассеивается темнота и медленно проступают вещи, деревья и прочий пейзаж. Снизу доносятся голоса реки и деревенских петухов. Рассветные лучи холодны и сини. Мир медленно наполняется ими, повсюду, где я был, одинаково. Темнота бледнеет в гмине Сенкова, в городе Сулина на краю дунайской Дельты и повсюду, где время состоит из дня и ночи. Я пью кофе и представляю себе самые разные рассветы.
Палатка, разбитая на новом месте
Середина ноября, снег еще не выпал. Я два месяца все собираюсь в Венгрию и никак не могу собраться. Хочу поехать на северо-восток, в Сабольч-Сатмар, и, наверное, в конце концов настанет зима, а я буду размышлять о пограничном переходе в Хидашнемети о том, как почти год назад под дождем мы пересекали границу в канун Нового года. Мокрый декабрь прикрывал Земплин, точно занавеска. Венгрия была голой. Черные деревья ничего не заслоняли. Возможно, поэтому мы все время плутали: Гёнц, Телкибаня, Божва, Палхаза, Холлохаза, Кекед, Фюзер. Пейзаж был полупрозрачен и напоминал лабиринт. Летом мне казалось, что в этих краях всегда полдень. Даже ночью. В деревнях и городках горели фонари, прорезая в горячей тьме длинные туннели. За заборами в душных садах, среди ореховых и абрикосовых листьев мелькали блуждающие огоньки телевизоров. Теперь водянистый свет заливал все те места, в которых летом лежала тень. Токай был пустым и плоским, точно старая декорация. Бодрог и Тиса утратили запах. Погода заправляла этими краями хладнокровно и безжалостно. Собственно, мало что изменилось с той поры, когда здесь не было ни домов, ни городов, ни каких-либо названий. Погода, точно древнейшая религия, равномерно заполняла Бескиды, Земплин, болотистую низину над Тисой, Эрдёхат, Марамуреш, Трансильванское плато и остальные места, где я провел месяц, не теряя надежды увидеть, каковы они на самом деле. Дождь в Матесальке, дождь в Надькалло, дождь в Ньирбаторе. Размокшие дворики с глубокими следами свиных копыт, ободранные сады, огороды, залитые стеклянным свечением, все более низкие домики, словно поглощаемые вязкой землей. В Циганде или Домбраде по обе стороны дороги цепочкой тянулись лужи, походившие на плоские куски серого неба. Но с таким же успехом это могло быть в Гёнце или где-нибудь еще, в Польше, Словакии, Украине. И нигде ни души. Длинные, как во сне, перспективы одноэтажных улочек, и нет ни людей, ни дел, ни транспорта, ни собак. Очень возможно, что лужи были все же на главной улице Абауйсанто, там, где слева голубой дом, справа — собор, а чуть поодаль стоит желтое здание с оконными нишами и зеленой калиткой в низкой стене. Там росло несколько верб. Но это случилось, вероятно, когда мы уже возвращались, в самый Новый год. Именно там, в безлюдном городке, на пустой поперечной улице, выходящей на ветреную долину, которую замыкал массив горы Сокойя, мы зашли в бар — хотели спустить оставшиеся форинты, а там царил сигаретный дым пополам с гамом, и люди совершали недвижное празднество — сидя, с помощью громких голосов, медленных жестов и сверкающих глаз. Эта затянутая клубами дыма картина была такой, словно на улицах действовал приказ соблюдать абсолютную тишину и только на эту темную комнату он не распространялся. Да, мне казалось, что за столами сидят все до единого жители, что они покинули свои дома, чтобы обсудить какие-то важные судьбоносные планы, точно приближался враг или грозила эпидемия и одиночество делалось невыносимо, почему они и собирались здесь, словно цыплята или стая птиц. Но в конце концов сигаретный полумрак немного развеялся, и я увидел нескольких цыган в черных кожаных куртках и двух цыганок, перекрашенных в блондинок.
Но это было на следующий день, когда мы уже возвращались. А сейчас мы блуждали в поисках ночлега в паутине дорог, тормозить не хотелось, так что голубые таблички с названиями мест мы прочитывали мельком и столь блаженно изумляясь венгерскому языку, что путешествие ускользало от географии и следом за сказкой или легендой уходило в детство, где звуки и музыка слов берут верх над их смыслом.
Остановились мы, кажется, в Холлохазе. Посыпанный гравием дворик окружали длинные одноэтажные дома с аркадами. Ни о чем не спрашивая, нам дали комнату. Шли приготовления к завтрашнему дню: запахи из кухни, звяканье посуды, гирлянды, серпантины и воздушные шарики, развешанные в зале, в котором обычно кормили гостей этого то ли кемпинга, то ли отеля. Мы оставили вещи и поехали дальше. На деревенских площадях росли ели. На ветвях покачивались картонные ангелы и звезды. Они размокали и раскисали. Это было год назад и теперь я уже не в состоянии отличить Токай от Хидашнемети, Шарошпатак от Палхаза. Мне запомнились коричневые крыши Мада по правую руку от шоссе. Они выглядели, как глиняные руины на склоне желтого холма. Сверкающие, пропитанные водой и голые, потому что там не было деревьев, только мертвые виноградники с рядами деревянных крестовин, тянувшимися в такт подъемам, бесконечными. Но Мад был уже на следующий день, а тогда мы поехали, кажется, в Микохазе, чтобы обнаружить неподалеку от деревни этот одинокий бар, похожий на табор. В тумане, в опускающихся сумерках тлели угли и пахло дымом. Под навесом мужчины раздували огонь под большими железными решетками. Женщины что-то раскладывали на столах. У всех был такой вид, словно они только что спустились с гор или вышли из болот. Грязные, в охотничьих костюмах, напоминающих армейскую форму. Не хватало только лошадей, тихого ржания в темноте, позвякивания удил да стука подков. Они пили «палинку». Я чувствовал ее аромат, смешивавшийся с запахом древесного угля и печеного мяса. Позади кафе были заболоченный пруд и бардак деревенского хозяйства, клетки для уток, солома, зеленая топь и проволочные заборы, а дальше уже только тьма, но где-то там, в глубине пейзажа, я ощущал присутствие мокрого тела горы.
Мы зашли в деревянную комнату, собираясь поесть гуляша и выпить красного вина. За столами сидели люди в толстых свитерах и тяжелых ботинках. Никто не обращал на нас внимания. Возможно, на этом залитом дождем краю света среди зимы иностранцы были в порядке вещей.
Теперь, год спустя, я смотрю на словацкую карту Земплина и вижу, что был прав насчет этих болот и горы. Сразу за баром, за утиным прудом, протекал ручей Божва, дальше тянулись топи, а еще дальше, уже в полной тьме, громоздился хребет Ритка-хедь. Собственно, эти сведения мне ни к чему, но я накапливаю их, чтобы чем-нибудь заполнить пространство, чтобы каждый раз начинать все сызнова, повторять, сочинять неустанный пролог к тому, что было, ибо это единственный способ хоть на мгновение оживить минувшее и умершее, в тщетной надежде, что память проскользнет в какую-то незримую щель и приоткроет крышку небытия. И я повторяю эту безнадежную мантру названий и пейзажей, потому что пространство умирает медленнее меня и являет собой своего рода бессмертие, я бормочу эту географическую молитву, топографический «Отче наш», твержу картографическую литанию, чтобы эта ярмарка чудес, это чертово колесо, этот калейдоскоп хоть на мгновение замер, остановился — и я внутри него тоже.
А потом были Шаторальяхелей и ночь, напоминавшая блестящую атласную подкладку. На улице Кошута колыхались занавеси дождя. Мы искали банкомат или хоть что-нибудь, что еще не закрылось, но за окнами магазинов видели только кассирш, подсчитывавших выручку, убиравших, мывших полы, и мужчин, которые болтали на пороге, провожая последних клиентов.
Впервые я был здесь четыре года назад, в июле. Я едва успел бросить взгляд на имперско-королевскую охру и желтизну фасадов. Мы промчались по тенистому туннелю главной улицы, и город пропал так же внезапно, как начался. Справа карабкались вверх виноградники, слева время от времени посверкивал Бодрог. Шоссе номер 37 рассекало пейзаж пополам. Восток — болотистая темная зелень Бодрогкез, на западе поднималась цепь холмов, где царил сухой нагорный зной и из-под вулканической почвы повсюду торчали, точно фрагменты древнего позвоночника, хребты известковых скал. Именно тут брала начало Паннонская низменность, протянувшаяся до самого Белграда. Именно тут ее северная оконечность почти касалась Карпат, а западный край нежно терся о Венгерское Среднегорье, как раз о Земплин, потом Буковые горы и массив Матра. Плоское размокшее пространство в развилке Тисы и Бодрога заросло тополиными рощами, и лишь остатки подлинной Пушты к западу от Дебречина могли равняться с меланхолией этих краев. Повсюду ощущается присутствие воды, а губчатая и тяжелая земля прогибается под грузом небес. Деревни напоминают желтые каменные острова. Мир слипается с горизонтом, и издалека все принимает горизонтальную форму. С шоссе, ведущего через Тисачермель и Надьхомок, видны горы за Шарошпатаком. Они вырастают внезапно, без предупреждения, без вступления, точно пирамиды в пустыне, и форма их столь же совершенна и геометрична. Но Шарошпатак был в другой раз. А сейчас мы смотрели на дождь и на пустевшее, закрывавшееся на ночь Шарораляуйхель. Шарораляуйхель означает «палатка, разбитая на новом месте».
Дельта
Когда я вернулся, мне стала сниться вода. Самые разные места, сплошь состоящие из воды. Они вполне конкретны — Лондон, Болгария или ГДР, но всегда погружены в бурные волны. Я с этим примирился, ведь последнее путешествие было, по сути, сном. Семиградье, Валахию, Добруджу, Дельту и Молдавию переполнял зной, и теперь я не поручусь, отражают ли мои воспоминания то, что там осталось и существует уже без моего участия. Я обшариваю карманы и рюкзак в поисках доказательств, но найденные предметы напоминают театральные реквизиты: купюры в тысячу леев с Михаилом Эминеску,[63] который умер совсем как Ницше — от безумия и сифилиса. На них ничего не купишь, они в радость разве что цыганятам. Те собирают портреты национального певца, а потом бегут в лавочку, чтобы обменять их на конфеты и жевательную резинку. Так было в Рикише, в Якобени и в Роандоле. А на пятитысячных купюрах — Лучиан Блага,[64] который написал: «Петухи Апокалипсиса все еще кричат, все еще кричат в румынских селах». Десятитысячные банкноты украшает изображение Николае Йорги,[65] убитого Железной гвардией, хотя он был — по словам Элиаде — «истинным певцом румынского духа». Я повидал их всех в толстых пачках, перевязанных бечевкой. Так было в Клуже, где в восемь утра на улице Дьёрдя Дожи остановился фургон, из которого и вышел мужчина в комбинезоне, увешанный пачками денег, словно Дед Мороз подарками. Так было в банке Сигишоару, где на стойке лежали перевязанные шпагатом стопки мелких купюр и никто ими не интересовался, потому что, как объяснял мне охранник, закон запрещает иностранцам продавать западную валюту. Он извиняюще разводил руками и вполголоса советовал: «Black market… black market…»[66]
Теперь я вынимаю из кармана портреты великих людей разглаживаю и удивляюсь, что они не исчезли, не растворились в воздухе, когда на обратном пути в четыре утра я пересекал границу в Куртичи. Небо синело над пустынным вокзалом. Пограничники и таможенники прочесывали будапештский состав, с которого я только что сошел, чтобы пересесть на поезд до Кошице. В окно я видел, как они потрошат багаж англичан, севших в Сигишоару. Моя совесть была чиста, и я спокойно потягивал «палинкуде бихор». Наконец люди в форме вышли, и поезд должен был вот-вот тронуться, когда из него выскочила девушка с рюкзаком. Глаза у нее были безумные, волосы развевались. От страха ли, от ярости — этого я никогда не узнаю. Во всяком случае, она была из той группы иностранцев. Девушка пробежала перрон наискосок и скрылась в здании вокзала. Никто ее не преследовал. Поезд ушел. Вскоре должен был появиться мой, вместе с серебряным заревом рассвета, занимающимся где-то за Бихорскими горами.
В купе и коридоре было пусто. Я мог спокойно смотреть в любое окно. Вдоль состава каждые несколько десятков шагов стояли солдаты. У них были мальчишеские лица и разномастная полевая форма: штаны чересчур короткие, оттенок гимнастерок немного другой; тот, что стоял ближе, был обут в гражданские черные ботинки с массивными пряжками. Казалось, их внезапно разбудили, взяли. Безоружные, неподпоясанные, они дрожали на утреннем холоде. Смотрели куда-то вдаль, словно стараясь не замечать поезд, не встретиться с кем-нибудь глазами.
Я вынимаю деньги из кармана, и мне не верится, что они не расстаяли, не остались там, на границе, вместе с теми призрачными стражниками. Я разглядываю их и вместо Эминеску, Йорги и Благи вижу лица тех мальчишек.
Но у меня имеется еще несколько доказательств, что это не было сном. Например, билет на «ракету» за сто двадцать тысяч леев. «Rapid, Commode, Efficient».[67] Я купил его в Тульче, собираясь плыть в Сулину. Я хотел увидеть, как континент погружается в море, хотел увидеть, как суша опускается и соскальзывает под воду, как покидает людей, животных и растения, как уклоняется от своих трудов, стряхивает с себя весь сумбур истории, народов, языков, этот допотопный бардак событий, хаос судеб, хотел увидеть, как она ищет отдохновения в вечном полумраке глубин, в равнодушном и однообразном обществе рыб и водорослей. Поэтому я встал пораньше и на бухарестском Гара де Норд собирался сесть в поезд на Констанцию.
Браниште, Драгош Водэ, Штефан чел Маре — дома посреди плоской степи, казалось, пытаются в поисках прохлады зарыться в землю. Низкие, испепеленные солнцем и хрупкие. Они напоминали камни или черепки. Порой вдалеке я различал силуэты лошадей и людей. Черные, словно их собственные тени. Я подумал, что, если постучать по этому небу, раздастся твердый металлический звук. За Фетештем поезд шел по высокой насыпи над болотами, а в районе Чернаводы прогромыхал по стальному мосту, связывающему берега Дуная. Возникла, словно призрак, атомная электростанция — и тут же пропала. Выросли серые кручи, усеянные птичьими гнездами. Мне показалось, что пахнет морем, но на железнодорожном вокзале в Констанции это ощущение исчезло.
Автовокзал на другом конце города немного напоминал деревню. Женщины в платках сидели, сложив руки на животе, а дети порхали вокруг, точно стайки воробьев. Я купил сыра и хлеба и пошел в привокзальную забегаловку выпить пива «чук». Внутрь вползла девочка-подросток. У нее было красивое лицо. Передвигалась она с помощью рук. Мужчины смеялись и швыряли на землю папиросы. Девочка собирала их и тоже улыбалась. Между ними шла какая-то привычная игра. Потом я видел ее на вокзале. Девочка отдавала папиросы старой женщине, сидевшей неподвижно в окружении детей.
Первый свой минарет я видел в Бабадаге. Я отправился в Тульчу, чтобы оттуда плыть в Сулину. Микроавтобус обслуживали двое мужчин. Один сидел за рулем и продавал билеты. Второй, помладше, выскакивал на остановках, чтобы открыть и закрыть дверь. В Михай Витязу кто-то попытался влезть «зайцем», и тот, что отвечал за дверь, пихнул его в грудь так, что человек покатился кубарем. Голые желтые холмы Добруджи походили на вымершие муравейники. Зной достигал недр земли и распирал ее изнутри. Где-то справа лежала Истрия: греки, руины, мраморные колонны, седьмой век до нашей эры, но меня это нисколько не интересовало. Прошлое чем древнее, тем хуже. Оно изнашивается от человеческих мыслей, словно телефонная книжка от прикосновений пальцев. Минарет в Бабадаге был строг и прост. Похож на устремленную в небо авторучку. Стояли мы там пять минут, но в туалет никто не выходил. Все пили воду, которая тут же выступала на коже в виде пота. На спине водителя было темное пятно. Магнитофон не выключали даже во время остановок. Бесконечные народные мелодии в той диковинной стонущей гамме, которая так сочеталась с минаретом, зноем и пылью. Я ощущал, как заканчивается континент, чувствовал учащенное дыхание суши, расстающейся со своими обязанностями. Оставлявшей нас наедине со всем нашим скарбом, нашими проклятиями и истерией — смотреть, как ее голый хребет соскальзывает под гладкую простыню вод.
Тульчу я увидел издали, сверху. Мы плавными зигзагами спускались с холмов. Над городом и рекой висел серо-сизый туман. Дунай разделялся здесь на три рукава, на десятки каналов, озер и пойм. Рукав реки превращался в огромную ладонь. Пальцы рукавов, сухожилия каналов, ногти песчаных пляжей на побережье, бижутерия пойм и лиманов, все обтянуто зеленой кожей болот и бескрайних камышовых лугов. Так я фантазировал, глядя на карту. Тульча была сгибом, запястьем.
В порту паслись лошади. Они что-то щипали на голой площадке среди кранов, железнодорожных рельс и металлолома. Их гнедые хребты почти сливались с ржавыми кораблями и транспортерами. Ни души, только несколько мальчишек прыгали с берега на остов буксира и обратно. Я пытался уловить в воздухе запах моря, но ощущал только реку: илистый, теплый рыбий смрад, смешивающийся с запахом машинного масла.
Сто двадцать тысяч леев. «Rapid, Commode, Efficient». Утром у трапа собралась толпа. «Ракета» была еще советская. Сначала пустили тех, кто — бог весть где — заранее купил билеты. Остальные ждали, останутся ли свободные места. Двое молодых французов медленно, сонно пересчитывали деньги. Они передавали их из рук в руки, словно играли в какую-то игру. Бумажки трепетали на ветру. Ребята выглядели вконец обкурившимися. Остальные пассажиры — крестьяне с мешками, ящиками и узлами, несколько рыбаков с набитыми хлебом рюкзаками. И люди в форме. Формы — военной или паравоенной — я насчитал четыре вида. И обязательно пистолет в кобуре. Я не мог понять, кто нас охраняет, а кто просто путешествует. Лица у всех были одинаково напряженные.
Я, в сущности, совершенно не запомнил эту поездку. Семьдесят километров, три остановки, сидишь, как в автобусе. Только иногда, когда мы пересекали чей-нибудь кильватер, брюхо «ракеты» мягко, по-рыбьему, било по воде. Возле Кришана мы обогнали турецкое судно. Большое и черное, похожее на старую фабрику. На нем плыли овцы. Десятки клеток, друг на друге, в которых стояло и лежало несколько сотен бело-бурых животных. Повсюду торчала солома или сено.
Я вышел на верхнюю палубу. От турецкого судна тянуло ароматом сенокосов и конюшен. Французы, прикрыв глаза, лежали на корме. Двое турецких моряков курили папиросы. Опершись о перила, они вглядывались в зеленую бесконечность Дельты. На мгновение мне показалось, что турецкий корабль называется «Вифлеем», но это просто моя фантазия пыталась поладить с необычностью.
Причал в Сулине выходил на центральную улицу. На набережной стояла толпа встречающих. Улица Дельты была зеленой и тенистой. Я заказал в ближайшем кафе чашку кофе и уселся под зонтиком. Ждал, пока до меня дойдет: это — конец. Река исчезала в море раз и навсегда, суша, вместе со всеми ее событиями, заканчивалась. Выбраться отсюда можно только повернув обратно. Я чувствовал, как время, прежде воплощенное в человеческие формы, расплескивается и возвращается к своему первоначальному облику. Здесь, в Сулине, оно было вездесущим, как влажный воздух. Разъедало дома и корабли, подтачивало лица и пейзаж, стаканы в барах и товары в магазинах. Оно попросту прожгло, проело тонкую оболочку минут, часов и дней и завладело всем пространством, всеми зримыми и незримыми предметами, а также людскими мыслями.
Дорога к морю тянулась через пустынный, голый выгон. Остовы кораблей, буксиров и катеров ржавели в песке. Горячим туманом висел над округой аромат навоза. В нем бесследно растворялись соленые дуновения морского ветра. В болотистых впадинах, в колючих карликовых зарослях поблескивали стайки мусора. Безжизненно, словно брюхо дохлой рыбы, сверкал сизый бутылочный пластик. Среди серо-желтого пейзажа торчали бетонные бункеры. Вдоль всего побережья на раскаленной пустоши стояли угловатые военные развалины. Под их сенью предоставленные самим себе лошади искали отдохновения. Из-за поросших кустарником белых дюн доносился шум моря. Монотонный звук был древним, как мироздание. Он перекатывался через песчаную плотину и надвигался на городок. Не исключено, что именно он разрушал хрупкую оболочку часов и минут. Очень может быть, что это его голос, точно пение сирен, подманивал дни, призывая выйти за пределы часов и календарей и раствориться в нем. Да, это вечность призывала Сулину. Искушение безмятежного финала наполняло переулки, низкие дома, окруженные садами, и особнячки на бульваре. Подъезды к отелю «Сулина» поросли травой. Отель «Европолис» был заперт на замок и безмолвен. Здание, в котором размещалось общество жертв коммунизма, было размером едва ли не с игрушечный домик.
Около пяти вечера на пристань стали съезжаться повозки, ручные тележки и велосипеды. Приходили люди. С запада, из Тульчи, приближался паром «Молдова». Он вез новости, товары и пассажиров, а поджидавшие его люди напоминали островных жителей. Корабль плыл из глубины материка, а они ждали его так, словно он прибыл из далеких морей. Чуть в стороне стоял высокий полицейский и следил за порядком. «Молдова» величественно причалила и бросила швартовы. Сперва вышли те, у кого багаж был скромный, после чего началась выгрузка. Паром доставил все, в чем нуждалась Сулина: кубы бутылок с минеральной водой, палитры банок с пивом, ящики с хлебом, банки с фруктами, неведомые свертки, бесформенные мешки, губковые матрасы, колбасу в запотевших от жары полиэтиленовых мешках, кофе, белое вино в пластиковых сосудах, резиновые сапоги. Стекло и фарфор, ярмарка тысячи чудес, рулоны толя из моего райцентра, вожжи, футболки, сыр кашкавал и сыр «хохланд», контрабанда, всякая всячина, безделицы, тетради и растворимый кофе, стулья, механические часы с кукушкой и связка пляжных зонтиков. Повозки, тележки и белая «дакия-пикап» еле-еле разместили все это на своем горбу, чтобы немедленно развезти по нескольким магазинчикам на улице Дельты.
Я направился к морю, обходя мертвые остовы и бункеры. Вскарабкался на гигантскую бетонную платформу, с которой в свое время, возможно, планировали запускать ракеты «земля-вода». Отсюда я видел, как солнце скатывается за Дунай. Река отсвечивала зеленым и фосфоресцировала. Она напоминала натянутую кожу ящерицы. Со стороны открытого моря приближался корабль. Многопалубный, в свете угасавшего дня он казался смоляно-черным. Проскользнул в горло устья реки и поплыл против красного солнца. На палубе я не заметил никакого движения. Никто не стоял у борта, не курил, не сплевывал и не высматривал порт. Когда стемнело, я пошел следом. Корабль швартовался на самом конце набережной, неподалеку от отеля «Сулина». Судно и отель казались одинаково темными и безмолвными. Флаг был ливанский. Никто не интересовался прибытием судна. Оно пережидало ночь, чтобы на рассвете двинуться вверх по реке.
Я ночевал в частном доме, надо мной висел коврик с видом Мекки.
До Сфинту-Георге плыть меньше трех часов, все время на юг. Лодка была синяя и изящная. С мотором от «хонды». Сперва немного вверх по главному руслу, потом по сети каналов. В ширину лодка была не больше метра двадцати, зато очень длинная. На носу сидел мужчина лет пятидесяти и подавал знаки рулевому. Каналы неглубокие, и в них масса опасных мест. Порой приходилось поднимать и глушить мотор, чтобы проскочить мель или не запутаться винтами в водорослях. Когда русло сужалось, мы плыли по зеленому камышовому туннелю. «Вьетнам», — говорил капитан и закуривал сигарету «Снагов». Порой заросли камышей редели и можно было заметить клочки суши, засаженные кукурузой, капустой и чем-то еще. Грядки подходили к самой воде и поднимались над землей сантиметров на пять-десять. Почти как кладбищенский холмик или цветочная клумба. Некоторые из них охранялись собаками на коротких цепях. Потом нам пришлось вернуться в главное русло, чтобы отыскать очередной канал. Мы нарвались на полицейский катер. Мент стоял на палубе, возвышаясь над нами на метр, и равнодушно, безучастно расспрашивал капитана, «откуда», «куда» и «какой тип мотора». В конце концов махнул рукой, и мы рванули к югу.
До Сфинту-Георге плыть два с половиной часа, может, чуть дольше. Мы обогнали допотопные лодки с дизельным мотором и каютами, напоминавшими будки охранников. Над озером Рошу парили белые пеликаны. Миновали рыбацкий поселок. На берегу я не заметил ни одной женщины. Мужчины возились с лодками и сетями. Канал был прямой, как стрела, и гладкий, как стекло. Геометрия держала в узде камышовые берега, и взгляду не на чем было отдохнуть. Он скользил в поисках чего-то неправильного, нарушающего прямую, но повсюду находил одну лишь монотонность зеленых линий и плоскостей, прикрытую стеклянной безбрежностью неба. Дельта в этих местах напоминала бесконечность, состоящую сплошь из параллелей и перпендикуляров. Кое-где на краю зарослей стояли рыбаки в длинных резиновых сапогах, но даже они не вносили разнообразия: неподвижные, отсутствующие и серые, как цапли.
У мостков в Сфинту-Георге лежала куча гнилой соломы. Я направился к трехэтажному бетонному зданию. Первый этаж был необитаем, завален мусором и засран. Выше кто-то жил, потому что на окнах висели занавески. Над пыльным пустынным майданом висел зной. Небо было песочного цвета. Я хотел найти хоть какую-нибудь тень. Перед кафе росло несколько высоких деревьев. В деревянном бараке подавали семь сортов пива и двенадцать — вина. За деревянными столами сидели мужчины. Было около двух часов дня. Я взял пиво «чук» и тоже сел, потому что мне удалось наконец достичь точки, двигаться из которой можно только назад.
Паромы в Стамбул уходили из Констанции. Поезда в мир — из Тульчи или, может, даже из Галаца. А я сидел на острове, отделенном грязью, болотами и временем, что разлагалось над Дельтой, точно органическая материя, прело и гнило, выделяя древнейший аромат начала начал, когда жизнь еще не проклюнулась из смерти и наоборот. Континент истлевал здесь, словно кромка ткани. Песок, пыль, собаки и вечная сиеста. Мужчины вставали из-за стола, исчезали и появлялись снова. Женщины тоже подходили — присаживались на скамейки чуть сбоку, прислушивались к разговорам. Их тела излучали тяжелый покой. Похоже, они уже выучили наизусть все жесты, которые им суждено было сделать до гробовой доски.
Проехала тележка, которую тащила невероятно худая кобыла. Парень, державший поводья, охаживал ее сломанной палкой. Он вез минералку и желтые ящики пива «Бергенбир». Подвода в абсурдной лихорадочной спешке скрылась за углом.
Подошел мужчина и спросил, не нужна ли мне комната — переночевать; если да, то он знает одну «бабушку», которая охотно меня приютит, но решать надо сейчас, потому что ему пора уходить. Он говорил по-русски, как многие в Сфинту-Георге. Я сказал, что сам еще не знаю, как все сложится, что мне надо подумать и вообще. Мне не хотелось поспешно допивать пиво, неохота было покидать тенистое кафе. Мужчина отошел, но не исчез. Он поспешно пересекал террасу кафе, бросал пару реплик и, не дожидаясь ответа, несся дальше. Порой на мгновение пропадал из виду, но тут же появлялся вновь: юркий, озабоченный, точно гонец в оцепеневшей деревне. На нем была серая рубашка, серые костюмные брюки, резиновые шлепки на босу ногу. Он отнюдь не надеялся на мне заработать. В один из своих стремительных пробегов сообщил, что девушка за стойкой тоже говорит по-русски и может помочь мне с ночлегом. Не успел я открыть рот, как он уже испарился.
Спустя пару часов я все же отправился к «бабушке». Она жила неподалеку, в маленьком белом домике. Крышу крыльца подпирали зеленые столбики. Перед домом буйствовали цветы. Сзади лежала густая тень ореховых деревьев, слив и яблоней. Бабка была крошечная, под стать своему жилищу, и болтливая. Она задавала вопрос и, не дожидаясь ответа, продолжала свой монолог или же принимала мои ответы как должное: из Польши, на пару дней, приплыл на лодке, что делаю, где живу, в деревне, в городе — смесь безвредного любопытства и равнодушной доброжелательности.
Старушка отперла комнату. Она была маленькая, и пахло в ней так же, как в комнате моей родной бабки. Неподвижный воздух хранил аромат старого дерева, постели и влаги. Сюда давно уже никто не заходил, во всяком случае, никто посторонний. Стол, стулья и кровать полностью исчерпывали пространство. Каждая вещь стояла или лежала на своем месте с незапамятных времен. Передвигая стул, чтобы положить на него рюкзак, я чувствовал себя вором. Казалось, можно нечаянно сломать темно-коричневую мебель, и тогда ее поглотит небытие текущего мгновения, она умрет, словно житель морских глубин, внезапно извлеченный на поверхность.
«А Бог у вас есть?» — спросила она и показала икону, висевшую в углу комнаты под самым потолком. «Ну да», — ответил я. Она покивала, дала мне ключ и вышла. На той же высоте, что икона, рядом, на краю шкафа, стояли коробки из-под западных духов, дезодорантов и кофе. Вероятно, сын привозил из Бухареста или дочь из Констанции, подумал я, ибо за пятнадцать минут успел узнать, как живут старушкины дети. Икона и эта западная помойка были единственным украшением сурового интерьера. Мне не хотелось размышлять о символике и семантике сего сочетания. Я чувствовал себя стариком, и у меня уже не было сил на то, что лежало на поверхности. Я оставил вещи и пошел на море.
С вала, протянувшегося вдоль рукава Дуная, открывался вид на обе стороны. Справа катила зеленоватые илистые воды река. На мелях стояли на якоре черные лодки. Их носы и кормы чуть загибались кверху. Изящно и старомодно. В изменчивом водном пейзаже, среди текучих плоскостей света и тени, среди блестящих зеркал течения, среди матовых от ветра пойм черные силуэты суденышек казались призрачными. Особенно в сумерках, когда их тени делались неотличимы от них самих. Они стояли в мерцающем, дьявольском пространстве, точно вырезанные из черного-пречерного картона или выточенные из угля. Напоминали остатки древнейшей ночи, а во сне, должно быть, перевозили души умерших. Во всяком случае, я не видел в Дельте ничего более красивого и бесхитростного.
Слева тянулась камышовая деревня. Заборы, крыши, стены, загоны для скота и птицы — все из сухих полых стеблей. Камыш лежал грудами, стоял связанный в снопы, ждал, сложенный в кучи и брошенный как попало. Поэтому человеческий пейзаж и был тут такой плоский. Из такого материала ведь ничего высокого не построишь. От некоторых зданий отваливался глиняный обрызг и открывал конструкции из жердей, заполненные камышовой плетенкой. Деревня раскинулась подобно огромному табору. Казалось, все имущество постоянно подвергается угрозе уничтожения. Едва возвышающееся над землей, едва слепленное, кое-как соединенное и отгороженное от соседних заборчиками, жердочками и оградами из связанных крест-накрест палок. Да, в деревне Сфинту-Георге ощущалось что-то отрешенно героическое. Предоставленная воле стихий, напоенная преходящестью, обреченная на забвение, она лепилась к суше, точно ласточкино гнездо.
А дальше, как и в Сулине, начиналась пустынная равнина и тянулась до самого пляжа. На его краю, сразу за деревней, торчали устремленные в небо радары. За оградой я разглядел несколько пятнистых грузовиков. Туда я отнюдь не стремился. В мирное время армия в моих краях всегда выглядит одинаково: печально и подозрительно. Я предпочитал наблюдать издали. Черные решетки антенн поднимались над камышовыми мазанками. Я пытался представить себе уныние этого поста, монотонность пустого неба и зеленоватых мониторов. Карты, контрабандный алкоголь, разговоры о женщинах, радиостанции, где можно поймать заграничный рок-н-ролл или народные мелодии, сонливость, кофе и ни одного варвара на горизонте.
Не исключено однако, что отсюда попросту наблюдали за остальным миром — бесформенным беспредельным монстром, который всегда окружал народы, чересчур поглощенные собственным существованием. Передо мной лежали подсыхавшие на солнце коровьи лепешки, и я старался не думать об истории, но ни фига не выходило. Который уже раз география бросала меня на произвол всех этих туманных событий, мутных псевдофактов, подозрительных истин и неоспоримой лжи, из которых формируется и лепится подобие фатума. Да, за горизонтом испокон века таился ужас. Все, к чему мы стремимся, уносит время, а пространство преподносит нежелательные сюрпризы. На горизонте возникают армии или идеи, и нет от них спасения. Давно миновала эпоха переносных подвижных государств, чья история состояла сплошь из настоящего. Сегодня уже некуда податься, чтобы все начать сызнова, вот мы и живем, погрузившись в прошлое, которым пропитаны наши территории, как пропитываются запахом животных их лежбища. Во всяком случае, радары были, очевидно, нацелены на Турцию.
На пляже лежали люди. На песке стояло несколько зонтиков. По размеру они едва ли превосходили зонтики от дождя. Больше, насколько хватало глаз, я не обнаружил никакой тени. Колючие заросли, которыми поросли дюны, доходили в лучшем случае до плеча. Я пошел вдоль берега на юг и через мгновение оказался в полном одиночестве. Я видел, как течение речки соединяется с соленой водой. Дунай был темнее и терялся в прозрачном серебре морских волн. Словно тень огромной тучи падала на водное зеркало. Подплыла черная блестящая змея, выползла на берег и двинулась через голый пляж к зарослям. Ее проворное и незначительное присутствие в пустом по самый горизонт пейзаже было призрачным, и я пошел следом. Змея почувствовала на себе мою тень, свернулась и замерла. Я оставил ее в покое. Она подождала мгновение и отправилась дальше в глубь суши.
Вечером Сфинту-Георге ожило. Все будто ждали, пока зажжется электрический свет. Прохладнее не стало ничуть, разве что темнее, но, видимо, тьма заменяла здесь тень. Из домов, с пляжа, с лодок, с рыбной ловли шли люди. Кафе под деревьями не могло вместить всех и напоминало табор: десятки или сотни фигур в постоянном движении, в пятнах полумрака и слабого света, жесты, начатые на свету и оборванные в темноте, все умноженное тенями, доносящимися из глубин ночи звуками, словно к деревне примыкала другая деревня, а к той — еще одна, словно где-то в черных недрах у деревни Сфинту-Георге имелись близнецы или словно это была маленькая матовая планета, делающая неловкую попытку отражать значительно более масштабные звук и свет. Небо то и дело озарялось мертвенными вспышками. Кто-то сказал мне, что это маяк. Из-за величественной безжизненности и монотонности света все происходящее на земле казалось хаосом, случайным стечением обстоятельств. Люди тратили энергию поспешно и нервно, точно ящерицы. Я брал в кафе пиво «Чук» и отходил в темноту, чтобы наблюдать фиесту на расстоянии. У меня было ощущение, что веселье это царит внутри пещеры. Ночь напирала со всех сторон, и приходилось постоянно двигаться, разговаривать, перекрикивать механическую музыку, чокаться и жестикулировать, чтобы кромки горячей темноты не сомкнулись, не срослись, словно края раны. Да, это был карнавал, европейские тропики, страх перед ослепительным сиянием дня, забвение, и все пронизывал вибрирующий, стонущий звук кларнета чужих тональностей, распространенных к югу от Карпат.
Чтобы прийти в себя, я шел на берег, к помосту, где швартовался паром. Здесь не было видно ничего. Я слышал только плеск, шлепанье рыб по воде и ощущал теплое, илистое дыхание реки, чувствовал мощное пульсирование и равнодушное присутствие. Я представлял себе, как из тела континента вытекает зеленоватая кровь, но жизнь не замирает, и длится это уже многие тысячелетия.
Я начинал понимать смысл буйства в кафе. Они просто обозначали свое присутствие. Люди встречались в этом тусклом свете, тянулись к нему, как ночные бабочки, чтобы проверить, живы ли они. Им приходилось рассматривать друг друга и шуметь. Между бесконечностью неба и исчезающей сушей для человеческого бытия не было места. Да, им приходилось встречаться на краю суши, по сути, на краю болотистого острова, приходилось отыскивать собственные отражения в чужих глазах, ибо нет ничего хуже небытия, принявшего облик географии.
Ночью меня покусали клопы, и я встал на рассвете. Вышел из старушкиного домика. Воздух был голубовато-серым и чуть более прохладным, чем вечером, но жара по-прежнему переполняла песчаные улочки. Она на мгновение потухла, но не выветрилась. Сочилась из стен домов, из земли, из заборов и садов, вытекала из мира, как густой сок из фрукта, или ток из липких внутренностей алкалоидной батарейки. Я миновал белый остов фургона, опиравшийся на четыре дряблые шины. Это была единственная машина в Сфинту-Георге. Я пошел туда, где кончалась деревня. Сразу за последними домами начинались помойки: мертвый, серый, одноразовый пластик, консервные банки, стекло, тряпки, тысячи упаковок, полиэтилен, несколько картонных коробок, старые кастрюли, ведро без дна, замкнутые формы, в которых скапливалось влажное илистое пространство, до самых дальних уголков «тетрапаков» и смятых пластиковых бутылок. Язык мусорной кучи свешивался в мертвый канал и на поверхности воды несколько утрачивал свою массивность, растекался, разливался стайкой торчащих горлышек, вздутых пакетов, размокшего картона пополам с алюминиевой фольгой, и только металл и битое стекло покоились где-то на дне.
Тогда-то я и увидел этот крест. Он стоял посреди помойки. Небольшой — метр-полтора, — сбитый из двух толстых досок и выкрашенный в коричневый цвет. Концы тщательно закруглены, чтобы сырое дерево обрело видимость некоей формы. Ни надписи, ни постамента — крест торчал прямо из земли. Рядом с дырявыми ведрами, камышовой метлой, банками из-под краски, расклеившимся сапогом и упаковкой от мыла «Люкс» с портретом брюнетки. Я пытался угадать, стоял ли он тут до того, как сюда начали сбрасывать мусор, или же кто-то специально воздвиг его на этом кладбище вещей. Вторая версия была красивая и возвышенная, но менее правдоподобная. Вряд ли кто-нибудь в Сфинту-Георге стал бы стремиться к спасению предметов, вряд ли кто-нибудь отважился бы думать о воскресении, бессмертии вещей. Вероятно, мало кто верил в собственное воскресение — отсюда этот симбиоз креста и неорганического морга.
Я пошел обратно. Было явно между шестью и семью часами утра. В кафе сидело несколько мужчин. С ведром, мастерками и ватерпасом. Они напоминали вольных каменщиков-пролетариев. Пили чистую водку и споласкивали пивом. От вечернего празднества не осталось и следа. На столах стояли чистые пепельницы, а мужчины почти не переговаривались. На востоке занималась жара. Тени людей таяли, как влажные пятна. Каменщики выпили и ушли. Появился вчерашний человек, предлагавший ночлег у «бабушки». При нем была швабра с тряпкой. Он протирал ею все, что попадалось на пути: бордюр у кафе, бетонное ограждение, несколько плиток тротуара. Причем делал это быстро, на ходу, почти не сбавляя темп. Тряпка была сухой. Она не оставляла никаких следов. Человек исчез за углом, а потом появился вдалеке, на другой стороне песчаного майдана, у магазина, и там тоже произвел поспешную уборку. Еще час он мелькал в разных местах, неизменно торопливый, в сползающих штанах, сражающийся с пылью и мелким мусором, словно Бастер Китон Дельты, пытающийся подчинить себе хаос летучих минералов, спасти Сфинту-Георге от космической пыли.
Потом вернулись каменщики, но уже без инструментов. Снова взяли по стаканчику водки и по кружке пива. Видимо, приступили к работе и теперь уже с чистой совестью, не спеша, могли помериться силами с занимающимся днем. Народу за столиками все прибывало. Пробило семь часов, лица у мужчин были тяжелые и неподвижные. Небо приобретало матовый молочный цвет и пухло от зноя. Я пил пиво «Чук», перемежая его «Урсусом», потому что хотел немного затеряться в этой утренней компании, хотел, чтобы на меня нахлынула усталость, подобная той, какая исходила от их лиц и тел. Видимо, сон требовал здесь таких же усилий, как жизнь наяву. Хотелось остаться за деревянным столом и ждать, пока душа погрузится в сомнения, а тело нырнет в странную смесь утра и сумерек. Не исключено, что Сфинту-Георге удовлетворил бы мою склонность к периферии, тягу к провинции, извращенную страсть ко всему исчезающему, рассеивающемуся и разрушающемуся. Я подумал, что мог бы сидеть здесь годами и осваиваться с мыслями о смерти. Каждый день я бы выходил на пристань и дожидался парома. Истертые, разбавленные меры времени то приближали бы его появление, то отдаляли, и, возможно, в конце концов я обрел бы своего рода условное бессмертие. Ведь если с такой легкостью замирала здесь жизнь, то и смерть должна была обрести какой-то неясный призрачный облик. В повседневном перемещении между тенью тополей у кафе и пристанью я тратил бы лишнюю энергию, оставляя себе ровно столько, чтобы не угасли чувства и воображение, с помощью которого я без устали воссоздавал бы остальной мир, чтобы каждую минуту быть уверенным, что ничего не утратил. В самый полдень, охваченный унынием, я шел бы на этот плоский песчаный выгон, протянувшийся вдоль побережья. Из глубины суши являлись бы призраки далеких городов и мест. Меж водяного зеркала и туч двигался бы Бухарест, стелился Берлин, плыли Прага, Лондон, Стамбул и все прочее, а при удачном раскладе световых и термических течений, вероятно, также Нью-Йорк вперемешку с Монтевидео, Токио и Монреалем. Не исключено, что причуды атмосферы позволили бы мне увидеть и собственное прошлое, жесты и поступки, сохранившиеся среди воздушных плоскостей, замерзшие в стратосферных камерах хранения и теперь ожившие ради утешения, развлечения или в качестве дидактического пособия для счетов с совестью. В Сфинту-Георге могло случиться все что угодно — я верил в это в полвосьмого утра, а людей за столиками все прибывало. Есть на свете места, заключающие в себе одну лишь потенциальность. А здесь и в самом деле единственным выходом могло быть чудо, знак, внезапное явление. Пустота, неподвижность, ужас атрофии, печаль стихий, сформированных в геометрию плоскостей, небо и земля, перетирающие удрученное и сонное человечество, — все это само по себе было чудом и знаком, потому что осаживало воображение, подменяя его неумолимой реальностью.
Я допил свой «Чук» или «Урсус» и встал. Планы мои были столь соблазнительны, что любой ценой следовало заняться чем-то конкретным. В портовой гавани величиной с небольшой пруд, причаливало несколько лодок. На прибитой к столбу доске кто-то вывел мелом: «Сrар 35000, som 38000». Это были закупочные цены на карпа и сома. Возле деревянного сарая сидели двое мужчин. Я подошел и спросил, как, собственно, отсюда выбраться, может ли кто-нибудь отвезти меня на лодке в Сулину. Они долго думали, и в конце концов один сказал: нет, такой лодки нет ни у кого в деревне, никто не поплывет, а паром будет только завтра. Это подтвердили и другие мужчины, которые смолили вытащенное из воды черное суденышко. Все, кого я спрашивал, повторяли одно и то же. «Никто не поплывет». Я вовсе не хотел уезжать. Я хотел только узнать. Все говорили о пароме и еще иногда упоминали какой-то трактор, что в пять утра двинулся через болота в направлении Сулины. Этот завтрашний паром меня даже расстроил. Я на него рассчитывал, но не так скоро. В сущности, с момента приезда я воображал, как сюда вернусь. Мысль была настолько отчетливой, что отчасти заслоняла настоящее. В магазине я купил хлеб, кашкавал, минералку и белое вино в пластиковой бутылке. Пошел на берег. В восемь утра уже стояла полуденная жара. Земля пахла навозом и пылью. Я нашел пустынное место. Вошел в море, оно оказалось таким же теплым, как воздух. Дно уходило вниз почти незаметно. Я отошел так далеко, что суша превратилась в узкую полоску. А вода все еще едва доходила мне до груди. Порой я чувствовал затерянные холодные течения, которые моментально исчезали, и снова становилось так же тепло, будто я погружался в огромную подвижную утробу.
~ ~ ~
Не исключено, писать я начал из-за этой фотографии. 1921 год в небольшом венгерском городке Абонь, семь километров к западу от Сольнока. По улице, наискосок, идет и играет слепой скрипач. Его ведет босой подросток в картузе. На ногах у музыканта разношенные ботинки. Правой ногой он перешагивает через узкий след, оставленный железными ободами тележки. Улица немощеная. Сухо. Ноги у мальчика чистые, а следы узких колес неглубоки, едва заметны. Они плавно поворачивают направо и исчезают в чуть расплывчатой глубине снимка. Вдоль улицы тянется деревянный забор и виден фрагмент дома: в окне отражается небо. Чуть поодаль стоит белая часовенка. За оградой растут деревья. Веки музыканта опушены. Он идет и играет себе и слепому пространству, которое его окружает. Кроме двух путников на улице только маленький ребенок. Лицо его обращено к ним, но смотрит он куда-то дальше, за пределы кадра, словно за спиной музыканта и подростка происходит нечто более интересное, чем на фотографии. День пасмурный — ни предметы, ни фигуры не отбрасывают тени. У скрипача на правом плече (да, он левша) висит посох, а у проводника — подобие небольшой попоны. От края кадра их отделяет несколько шагов. Они вот-вот исчезнут, и музыка стихнет. На фотографии останутся только мальчуган, дорога и след колес.
Уже четыре года преследует меня эта фотография. Повсюду я ищу ее трехмерную и цветную версию, и часто мне кажется, что наконец нашел. В Гёнце, где я бродил в поисках вокзала, оказавшегося пустым разрушенным зданием, и где до самого вечера не появилось ни одного поезда. И в Вильмани, на заброшенном перроне среди окутанных зноем бескрайних полей, и на торговой площади в Делатыни, где старухи продавали табак, то же в Квасах, когда поезд уже отошел и оказалось, что вокруг ни души, несмотря на ряды домов. И в Солотвине, среди недвижных, покрытых соленой пылью стволов шахты, и в Дукле, где с перевала дует тяжелый монотонный ветер. Повсюду на прозрачный экран пространства накладывался Андре Кертес[68] 1921 года, словно именно тогда время остановилось и настоящее оборачивалось ошибкой, насмешкой или предательством, словно мое присутствие в этих местах было анахронизмом и хулиганством, ведь я прибыл из будущего, отнюдь не сделавшего меня мудрее, а только окончательно ужаснувшего. Пространство этой фотографии гипнотизирует меня и цель всех моих путешествий — отыскать наконец скрытый вход в него.
На пути в Бабадаг
Я сосчитал штемпели в загранпаспорте. Сто шестьдесят семь штук за какие-нибудь семь лет — на самом деле должно быть больше, просто некоторым пограничникам пальцем пошевелить лень. Вот, например, однажды в Орадее… Через несколько дней я возвращался через Сату-Маре, на пограничном переходе не было ни души, а они мне: съехать на обочину, оставить машину, и жестами показывают, чтобы я шел за ними в эти стеклянные ангары, в эти теплицы — там внутри пятьдесят градусов, тропики, одна дверь, другая, а в конце командный центр, десять мертвых компьютеров, тип, водрузивший ноги на стол, и гора семечек. Он все время грыз их, безостановочно. Только ноги спустил при нашем появлении. Мы остались одни. Те куда-то ушли. Наверное, в будку, следить, чтобы не проскользнула какая-нибудь подозрительная личность. Я немного понимал: «cind?», «unde?», «irttrare», «ştampila»[69] — но притворялся, что ни бэ ни мэ, сама невинность. Он рассматривал паспорт со всех сторон, сзади, спереди, переворачивал вверх тормашками, и водительские права тоже, и технический паспорт, и страховку и наконец велел мне выйти в коридор. Я видел его через стеклянную дверь. Он снова закинул ноги на стол и занялся семечками. Рассчитывал, что в этом террариуме я расклеюсь, признаюсь в шпионаже, контрабанде и попытке воспользоваться фальшивыми документами, а потом соглашусь искупить все эти преступления несколькими баксами. Я прислонился к стене, закрыл глаза и притворился, что сплю стоя. Через полчаса он меня вызвал и снова что-то говорил, а я отвечал по-польски, что если его коллеги в Орадее отлынивают от служебных обязанностей, то меня это на фиг не интересует. Так мы и толковали. В конце концов он взглянул на меня с укоризной, отдал документы и махнул рукой.
Так что печать шлепают не всегда, но не всегда и цепляются потом, если прошляпили. Никакой закономерности. Венгры, бывает, не ставят и не придираются, а только делают мой любимый неторопливый, тяжелый жест, означающий: а идите вы все… Я вообще люблю венгерских пограничников. Особенно на переходе в Шаторальяхелей летом. Обленившиеся, чуть расхристанные, кобура небрежно болтается, каждое движение исполнено сознания собственного достоинства, словно они желают сказать: когда-то все это принадлежало нам, но вам нужен был Трианон, вот и стойте теперь в этих сраных очередях. Я говорю им «Jo napot»[70] и меня пропускают. Это «jo napot» осталось у меня на память об одном пограничнике на железнодорожном переходе в Лёкёшхазе. Я тогда возвращался из Сибиу, и было утро, часов пять. Он появился в конце коридора, и у меня упало сердце. Два с лишним метра росту, наголо бритая голова, полевая форма едва сходится на груди, а на боку гигантская пушка. Просто пес войны, наемник-мутант. Я сел в купе, сложил руки на коленях и затаил дыхание. Дверь открылась, я увидел огромную улыбающуюся рожу и услышал: «День добрый, целую ручки… Так у вас говорят? Наркотики, оружие, материалы, семтекс?[71] Нет? Спасибо. До свидания, целую ручки… Так у вас говорят?» С этими словами он исчез.
Впрочем, румынские пограничники ничуть не хуже. И украинские, и словацкие. Даже австрийским, случается, на все начхать. Иные бывают рассеянны, как тот словенец на пограничном переходе в Ходоше, который упорно допытывался, сколько динаров мы ввозим, запамятовав, что его страна уже десять лет как не является Югославией. Или удивлены, как тот грек на Корфу, который не мог поверить, что мы провели в Албании две недели ради собственного удовольствия, и чуть не на просвет рассматривал наше грязное белье в поисках разгадки сей тайны.
Да, сто шестьдесят семь штемпелей, а если считать и те, которые забыли поставить, пожалуй, наберется и две сотни. Красные, фиолетовые, зеленые, черные, размазанные, с какими-то приписками от руки, изображениями старых паровозов, автомобилей, чуть по-детски нарисованными самолетиками и пароходиками, ведь во всем этом есть какое-то ребячество, словно это игра в пятнашки, жмурки, в прятки, пустая забава, праздник, который, однажды затеянный, никак не может завершиться. Попадаются штемпели нечеткие, словно оттиски картофельных печатей, любительство самодельной типографии, будто я сам их себе нарисовал карандашом или фломастером, серьезности ни на грош.
Интересно, как выглядит штемпель Молдавии? Я имею в виду Республику Молдову, ту, что к востоку от Прута, со столицей в Кишиневе. Надо рассмотреть. Хорошо бы он был зеленый. Такой я представляю эту страну: зеленая холмистая земля с перелесками. Сады и огороды, освещенные солнцем. Зреют арбузы, перец и виноград. Переулки старого Кишинева накрыты тенью каштанов. Кухня, говорят, жирная, тяжелая, но вкусная. Единственный недостаток — отсутствие в меню водки, которую заменяет тяжелый сладковатый бренди. Одна немецкая газета сообщила, будто молдавская экономика зиждется на торговле человеческими органами. Продают в основном собственные, но, случается, и чужие. Я, наверное, съезжу туда летом. Я люблю ездить в страны, о которых знаю так мало. Потом возвращаюсь и отыскиваю какие-нибудь книги, расспрашиваю людей, сгребаю в кучу крохи информации и проверяю, где же я был на самом деле. Фиг чего из этого получается, так как все становится еще более чуждым и напоминает сон, снящийся внутри сна. Приходится открывать собственный паспорт, чтобы убедиться, что чужие страны в принципе существуют. Ведь в сущности — что это за страны? Воспоминания о былом, остатки минувшего и проекты будущего, нечто потенциальное, некие смутные обещания да «мы вам еще покажем». Надо наконец отправиться за какую-нибудь настоящую границу, где женщины носят туфли из змеиной кожи и ничто не напоминает что-нибудь знакомое, где жизнь вдруг обрывается и происходит карнавал или своего рода травма, а может, и трансгрессия. Сто шестьдесят штемпелей псу под хвост. Возвращаюсь я всегда тем же идиотом, каким невеждой уезжал. Повсюду на углах стоят мужчины и ждут каких-то событий, повсюду сиденья в поездах прожжены папиросами, и люди просто убивают время и невозмутимо взирают, как история жмет на газ. Я зря трачу время и деньги. С таким же успехом можно было сидеть дома, ведь все это есть у меня и здесь. Куда бы я ни ехал, повсюду высматриваю цыган. В Прекмурье, пытаясь отыскать их, я проездил целый бак бензина, потому что меня достала эта вылизанная страна и словенцы, предатели славянского бардака, но не нашел ни одного, хотя они там точно есть, я читал. Очень возможно, что они попрятались, почуяв меня за сотню километров с этой моей любовью к распаду, жалкой тягой ко всему, что выглядит не так, как должно. Они почуяли меня, когда я еще стоял на пороге своего дома, еще в Словакии, когда я проезжал их обветшавшие трущобы за Зборовом, в этом месте у шоссе на холме, этой временности и насмешке над всеми соблазнами гармонии и достатка. Там сердце всегда сжимается от восторга, что можно начхать на этот мир и посреди постмодернистского постиндустриального пейзажа заниматься древним собирательством: женщины несут вязанки хвороста, мужики волокут нагруженные металлоломом тележки, ребята выкапывают на помойках пластмассу, перед фанерными будками стоят остовы машин без колес и сушатся ковры, повсюду порхают полиэтиленовые пакеты. В сущности, занимаются они тем же, чем и все остальные, — пытаются выжить, но не кичатся этим, поскольку не записывали свою историю, предпочитая сказки и легенды, свои небылицы из поколения в поколение, свои «однажды» вместо, скажем, «тринадцатого декабря достопамятного года, к примеру, в Копенгагене». Поэтому, куда бы я ни отправился, сразу начинаю высматривать их — этот живой упрек средиземноморской и христианской цивилизации, народ, не владеющий землей, который даже если что-нибудь и строит, то так, словно готов в любую минуту бросить, поджечь от скуки или отчаяния и перенести свое подвижное государство куда-нибудь подальше, где белая европейская шпана не так пышет ненавистью. Так что я высматриваю их — как в словенском Прекмурье — и бываю разочарован, если не встречаю, — чувствую, что забрался слишком далеко и пора возвращаться. Наверное, нас объединяет какое-то дегенеративное родство: я вроде обучен грамоте, кое-как складываю слова, которые потом где-то оседают, но не умею с помощью этих рассказов создать осмысленную, правдоподобную историю. Все эти существительные, глаголы и прочее отклеиваются от мира, отваливаются, подобно старой штукатурке, и в конце концов я возвращаюсь к легендам, байкам и балладам, к тем событиям, которые хоть и произошли, но являются стопроцентной ложью, клюквой и метафорической ересью. Просто они были слишком краткосрочны, чтобы иметь хоть какое-то значение. Или же случились только в моем сознании.
Однажды на Окенче[72] пограничник в будке рассматривал мой паспорт со всех сторон, листал его, поглядывал на меня исподлобья, снова листал потрепанные странички и я уже решил, что моя песенка спета — придется сидеть дома, но в конце концов он наклонился к стеклянной форточке и спросил: «Скажите, а где это — Конечная?» Я пятьдесят раз ездил в те края, на юг, с замиранием и сладкой дрожью перед грядущим, а парень даже не подозревал, что они существуют, хотя там сидят его коллеги и ставят штемпели точно такими же машинками с пружиной. Там все это начинается: парни удовлетворенно волокут со словацкой стороны пятилитровые банки с соком — красные, желтые, оранжевые и зеленые — просвеченные солнцем, они сияют, как сокровища Али-Бабы, волокут водку, пиво целыми ящиками, кто посмелее берет даже красное модранское, потому что оно хоть и чертовски сухое, но зато стоит всего пять злотых, женщины волокут мешки с сахаром, мукой и рисом, а три магазина на той стороне в чистом поле и глухом лесу колышутся, словно корабли, словно пароходы с эмигрантами сто лет назад, плывущие за океан и груженные таким же сбродом, такими же физиономиями, и даже куртки и картузы не сильно изменились. Дешевая роскошь колышется среди плавных зеленых волн Бескидов, а надежда быстренько сбыть товар за полцены оживляет мою Конечную, точно посулы Земли Обетованной. Бывает, стоишь в очереди, якобы за темным пивом «Смадни мних» или горькой «демановкой», а на самом деле воображаешь, что где-то здесь, в магазине «Na colnicy»,[73] берет начало тот меридиан, который теряется затем в Ионическом море у берегов полуострова Пелопоннес, а вдоль него, точно птицы на проводах, сидят мужчины, похожие на этих как две капли воды. Со своими набитыми сумками и идеями, как надо жить, своими рыжими зловредными очкастыми пограничницами и вечной нехваткой денег, так что приходится вертеться, уворачиваться, чтобы перехитрить реальность и к вечеру не остаться внакладе. Кошице, Токай, Арад, Тимишоара и Скопле — точно бусинки на этой мерцающей нитке меридиана. От магазина «У Пуфи» открывается вид на всю долину Каменца. Парни пьют пиво и смотрят на юг. Та сторона сияет ярче, так что они смотрят более жадно, чем из дома. Кошице, Токай, Арад, Тимишоара, Скопле… Да. Можно взять этих, из Маластува, из Здыни, из Горлице, и усадить перед магазином в Хидашнемети, там, где иностранцы обычно спускают последние форинты, или на ярмарке в Сучаве, или в Сфинту-Георге, где окруженный маревом болот, впадает в Черное море Дунай, или даже в Тиране, где над площадью Скандербега опускаются душные от выхлопов сумерки — гармония мира, по сути, не нарушилась бы. Никто не распознает в них чужеземцев. Во всяком случае, пока они не откроют рот. Недавно ночью я заблудился в Груеце, искал съезд на Коньское, и мне казалось, что нахожусь в городе Абруд, в Трансильвании. Та же тьма и двусмысленные светофоры, та же неочевидность человеческого присутствия и тени, напоминающие фигуры, и пространство, едва протертое, освобожденное от вечного мрака. Так и эти мужчины — кажутся начатыми, но не вполне законченными. Словно они замерли и ждут продолжения эволюции или сотворения мира, словно ждут развития событий и живут в бесконечном настоящем, которое постоянно обращается в прошлое. Будущее — фикция. Конечно, оно должно наступить, об этом твердят все кому не лень, но старая истина гласит, что есть только то, что есть и было. Прочее не существует, потому что никто его не касался и не видел. Поэтому, стоя возле магазина «У Пуфи», я тоже глазею на юг и задумываю путешествия в настоящем пополам с минувшим. У меня не получается думать о том, что будет, не припоминая того, что было. Порой мне кажется, что только границы не дают всему этому рассыпаться, что истинный облик этих краев и народов — формы их территорий в атласе. Это глупая мысль, но я не могу от нее отделаться. «В заключение добавим, что румынская народная культура — одна из самых сложных и содержательных в Европе». Когда-то в Милане я спросил Франческо: «Кем являются романские братья-румыны для итальянского обывателя?» — «Для итальянского обывателя все румыны — цыгане», — ответил Франческо. Однажды в Сибиу я зашел в музыкальный магазин за дисками, где-то на улице Николае Бальческу. Продавщица спросила, откуда я. Узнав, что из Польши, принялась декламировать: «У лукоморья дуб зеленый; златая цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом». «Что за бардак у вас в голове», — сказал я отрешенно. Как-то в краковском ресторанчике Яблоньский, пытаясь охмурить двух словачек, три часа беседовал с ними по-чешски, но интерес в их глазах постепенно угасал. Наконец пришел Камиль, их приятель, и сказал Яблоньскому: «Это словенки, и они не понимают, чего тебе надо». Англичане знают Чеслава Милоша, но думают, что это тот чех, который снял «Волосы.[74] Так все и вертится, и я вовсе не жажду перемен, и мне начхать на качество картинки или звука. Хорошо жить в краях неочевидных, потому что их границы вмещают больше пространства, чем утверждают географы. Это бездны неведомого, бесконечные дали домыслов, ускользающий горизонт фантазий и мираж блаженных суеверий, которые никогда не скорректирует реальность.
Как-то летом я целую неделю слонялся вдоль румынской границы и фантазировал, что там, по другую сторону. Я шатался по восточной Венгрии, по Сабольч-Сатмару, по песчаным захолустьям и деревням, задыхаясь от аромата свиного навоза, где-то между Матесалькой, Ньирбатором и Надькалло, и представлял себе Румынию, о которой почти ничего не знал, но мое воображение не имело границ, так что я видел сны наяву, сны, лишенные содержания, очищенные от формы, и это напоминало соприкосновение с нереальным, в существовании которого ты уверен гораздо больше, чем в самой реальности. Потом через Загоны я перебрался на Украину и тащился на поезде вдоль Тисы на восток, и снова справа на расстоянии вытянутой руки была Румыния, и только где-то в районе Сигетул-Мармацией меня отнесло на север и я избавился от этого наваждения. Спустя год я и вправду отправился в Румынию, но это «и вправду» оказалось воспроизведением старого сна, пограничной галлюцинации, и на самом деле это продолжается и по сей день и очередные печати в паспорте ничего не меняют, потому что невозможно поставить печать на видения, которые больше и прочнее всех границ вместе взятых.
Я кое-что в этом смыслю: сто шестьдесят с лишним печатей за семь лет, причем большинство из них — на «территориях со смешанным населением», в краях, где одно связано с другим без причины и с несущественными для целого следствиями, в пространстве, где вампирши по-прежнему венчаются с оборотнями и воображение не знает покоя, ибо только оно в состоянии одолеть хаос того, что якобы зримо, якобы осязаемо и в лучшем случае констатировано. Юг, юго-восток… Все напоминает здесь свободу и детство. Я словно пятился в прошлое, имея перед собой бесконечное количество тропок. Да, в воздухе Конечной растворено своего рода небытие, а в районе Зборова человеку уже плевать на собственную идентичность. С каждым километром она все умаляется, и, как в младенчестве, наше бытие в конце концов отделяется от нас, как нечто отличное от окружающего мира. Если ехать в Венгрию через Словенски-Нове-Место, то там, где наше шоссе пересекает автострада номер 552, начинается десятикилометровый отрезок, на котором можно разогнаться на полную катушку. Весной земплинские холмы желтит цветущий рапс. Вокруг царит такая пустота, что трудно понять, пейзаж это еще или его синтез. Шоссе то и дело карабкается на гребни, и спускается, и бежит так ровно, словно кто-то разматывает серую ленточку. На этих десяти километрах возникает ощущение, что в бытии наконец обнаружилась некая трещина, словно мы наблюдаем мир с изнанки: все по-прежнему, но не так, как было прежде. Перед Черговом на железнодорожном переезде приходится тормозить, и предметы медленно возвращаются на свои места, вероятно, затем, чтобы можно было почувствовать себя так, будто ты уцелел в катастрофе, вероятно затем, чтобы рассказывать всю эту фигню, стряпать легенды, позволяющие передохнуть от реальности, понять которую я не в состоянии, да и не пытаюсь. Я знаю, что за бензоколонкой «Словнафт» хоть раз в жизни должен поехать прямо, а не сворачивать, как обычно, направо, и увидеть наконец деревню Борши — место рождения Ференца II Ракоци[75] — героя одной из серий французского сериала под названием «Знаменитые побеги» и предводителя венгерского национального антигабсбургского восстания 1703 года. Да, знаю, я должен это сделать, должен поехать прямо, чтобы раз в жизни встретиться с реальностью, но все равно, словно Иванушка-дурачок, предпочитаю прятаться в блаженном мираже и, если на пограничном пункте нет очереди, через десять минут оказываюсь в тени старых деревьев на центральной улице города Шаторальяхелей. Эта тень не дает мне покоя. Не исключено, что это просто контраст с зеленой полупустыней последних словацких километров, контраст между идеалом пейзажа и совершенством города, где вековые деревья заслоняют причудливые фасады домов столь изысканно, что подвижные пятна света не отличить от лишаев на штукатурке. То же на центральной площади Сату-Маре, где деревья заслоняют голубые таблички указателей и человек без конца плутает, не находя выезд ни на Клуж, ни на Сигет, ни на Орадею, ни тем более на Бая-Маре, и в конце концов останавливается где попало, усаживается в зеленой тени и, проклиная румынскую флору, дожидается осени, когда листья опадут и раскроют стороны света.
То же самое в Черновцах, то же свечение древности и извечная тень силятся раскрошить стены, лепнину, силятся разгладить причудливые поверхности, сбить все эти карнизы, пилястры, балконы, эркеры, но Черновцы я как раз помню словно в тумане, ибо Сашко в своем неописуемом гостеприимстве навязал мне такой темп, что следующий день напоминал нутро раскаленной печи, из которой мы пытались убежать. На автобусном вокзале к нам подходили толстые таксисты и заявляли, что в Сучаву никто сегодня не поедет. Подходили и поигрывали связками ключей — от машины, от квартиры, от подвала, от висячего замка, от калитки, от почтового ящика и черт знает от чего еще. Они бренчали этим металлоломом и злились, что никто им не верит, никто не желает за несчастные пятьдесят баксов ехать с ними в Серет, и стояли, а вернее, нервно семенили взад-вперед и вытягивали шею поверх чужих голов, потому что таксист в этих краях, будь он даже сморчок, всегда видит больше других. Да, мужик, у которого есть большая тачка и нет возможности куда-нибудь поехать, — это тяжелый случай. Всюду одно и то же: в Горлице, в Коломыи, в Делатыни, в албанской Гирокастре, где за километр пути просили столько же, сколько в Берлине, при валовом продукте брутто тысячу пятьсот долларов на человека. Они сидели друг за другом в своих двадцатилетних «меринах»-«коробочках», но тарифы у них были немецкие, ни больше ни меньше. И не вздумай торговаться. С неба изливался жар, ни единого деревца, лошади разгребали копытами валяющийся вдоль помойки мусор, а они ковыряли в носу, скатывали шарики и щелчком отправляли в пыль дороги, точь-в-точь как наши на этих вечных стоянках. Ну а я уперся, что хочу в Эринд, потому что увидел на карте, что там тупик, а дальше — только массив Лунксгеризе, казавшийся безлюдным, словно продолговатый кусок луны, зарытый в дикое и прекрасное тело Албании. Должно быть, все это они вычитали в моих глазах, ощутили своей таксистской интуицией. Сдавшись, я сел в зеленый «двухсотый», едва не царапавший задом асфальт, и мы тронулись. Ах, следует отправиться в Эринд, чтобы хоть что-нибудь понять. Мы тащились в гору — вторая скорость, опять вторая, изредка третья и скрежет выхлопной трубы о торчащие камни. «На дороге не было тени. Путники брели по пыли, словно по грязи, и глядели на пожелтевшие обочины, с которых наводнения, ветры и солнце сметали все, за что мог ухватиться голодный и несчастный человек». Такая была картина. И потом руины Эринда. Дома, похожие на пещеры, зелень, не боящаяся жары, и несколько детишек среди белых домов, остальные жители, видимо, уехали на греческие плантации, потому что я не заметил ни собак, ни кур, и только в самом конце, на маленькой раскаленной площади, стоял памятник погибшим партизанам, с фарфоровыми надгробными фотографиями. Одного звали Мисто Маме, второго Михал Дури, двадцать один и двадцать четыре года. Там таксист остановился — ждал, пока я посмотрю. Он полагал, что ради этого я и приехал, ведь ничего больше там не было. «Ах, плевать на немецкие тарифы», — вздохнул я и отдал честь. В конце концов мужчина показал мне самое ценное, что у них имелось, и мало кто этим интересовался. В следующий раз я бы попал сюда года через два, так что деньги, если поделить их на время, на самом деле были ерундовые.
Порой я воображаю, что именно так и происходит: все деньги мира, лавэ франкфуртских банков, недра Bank of England,[76] виртуальные запасы корпораций, вращающиеся в электронном пространстве, содержимое многоэтажных подвалов на Банхоф-штрассе в Цюрихе,[77] вся эта бумага, ценные металлы и ряды цифр, обращающихся в студеной кровеносной системе световодов, все это должно идти прахом, терять ценность, размениваться на иллюзии в таких местах, как Эринд, как Вишань, Сфинту-Георге, Розпутье, Тисасалька, Палота, Байрам Курри, Подолинец, площадь перед костелом в Яблонной Лацке, железнодорожный вокзал в Вильмани, железнодорожный вокзал в Делатыни на рассвете, лавочка в Ливезиле, лавочка в Спишской-Беле, ресторан в Бьертане, дождь в Медиаше и тысяча других, ибо когда я смотрю на карту, то вижу решето, ночное звездное небо, старую футболку и протершуюся простынь — сквозь места, где я побывал, просвечивает свет, более яркий, чем древнее сияние собственно географии, чем зловещее марево географии политической и мертвое свечение географии экономической. И дыры эти никак не заштопать. Все, чему суждено наступить, проскользнет в них, как корм сквозь утку, протечет, как песок сквозь пальцы. Ни идеи, ни деньги, ни испаскудившееся время никогда не коснутся этих мест, этих прорех в основе и утке, этих следов моего присутствия. Да, мысли мои черны и реакционны. 11 января, четверть третьего ночи, и я отдаю себе отчет, что проектирую некий заповедник, и узнай об этом жители перечисленных городов и весей, мне попросту набили бы морду. Однако скорее всего никто этого не прочтет, особенно в Эринде. Да, озаренные светом вечности заповедник и скансен — так я себе это представляю и хочу, чтобы так было, ибо сердце мое замирает, стоит чему-либо пропасть из поля моего зрения, скрыться за поворотом или в темноте, и меня всегда терзает мысль: вдруг оно исчезло навсегда и никто больше этого не видел, и теперь мне остается только без конца рассказывать об этом, если только найдутся слушатели. К тому же все эти места и предметы есть распад, бардак, камень, едва держащийся на камне или остатки прежней роскоши, так что мой страх — не фантазия, ведь вернувшись туда, где я уже был, я, возможно, ничего не обнаружу. Эта специфика моих краев, постоянный упадок, замешанный на расцвете, лукавая недоразвитость, которая заставляет все пережидать, нелюбовь к экспериментам на собственной шкуре, вечные вполсилы, что позволяют выпрыгнуть на берег потока времени и подменить действие наблюдением. Все новое здесь — подделка, и, лишь состарившись, разрушившись, истлев и раскрошившись, оно приобретает какой-то смысл. Парни из Кишварда, из Горлице, из Прешова и из Орадеи надевают бейсболки козырьком назад и изображают черных братьев из заокеанских трущоб, поскольку тут им изображать нечего. Все новое напоминает кинофильм и не имеет ничего общего с прошлым. Поэтому я предпочитаю минувшее и выбираю распад, непрерывность которого не подлежит сомнению. В Эльбасане на центральной улице я видел огромные кучи тряпья. Это был базар, но походил он на помойку. Женщины рылись в многометровых грудах, наваленных прямо на бетоне. Казалось, они разыскивают тела близких после катастрофы. Они перебирали, отбрасывали, пытались раскопать что-нибудь получше. Добра было примерно два грузовика, и черт его знает, откуда оно приехало. Может, из Греции, может, из Италии, во всяком случае, из того места, где его сочли ненужным. Идеи и мысли доходят сюда также бывшими в употреблении, тем более что они и задумывались как одноразовые. Это края ресайклинга и сами рано или поздно будут сданы в утиль.
Такие подозрения охватывают меня поздно вечером. Ветер северо-западный, и белые полумесяцы заносов ложатся поперек шоссе на Конечную. Надо бы мне выдумать какую-нибудь складную историю, которая начинается и заканчивается там, какую-нибудь хитроумную байку, удовлетворяющую воображение, сглаживающую страх и обманывающую чувство голода. Во мраке жизни мне нужно высмотреть какой-то отдельный след, чудесным образом обращающийся в судьбу, в нечто, достойное подражения, способное утешить. Ничего не выходит. Мир есть настоящее, и плевать он хотел на повествование. Пытаешься что-нибудь вспомнить — и вспоминается совершенно иное. Из-под детства вылезает Румыния, из-под каникул у дедушки с бабушкой показывается Албания, а теперь, когда я уже более-менее вырос, оказывается, что я поселился в месте, которое напоминает мне самые ранние, оставшиеся в памяти образы. Мне уже за сорок — и вновь та же неизбывная случайность, курятники, угольные сараи, коморки для всякой всячины — словно слайды той поры, когда мы играли в казаки-разбойники, в индейцев. Снег засыпает Конечную, и засыпает Здыню, и всю гмину Устье Горлицкое, некогда звавшееся Устьем Русским. На монохроматический пейзаж накладываются разноцветные фильтры: красный, зеленый, синий и желтый. Люди пробираются в свои кладовки, сараи, будки и пристройки, где ждут животные и старые автомобили. На границе вырастают сугробы, и никто не едет в Словакию. Тут тоже появилась новая будка величиной с газетный киоск: магазин, бар и обменный пункт в одном флаконе — если верить надписи на стекле. Но сегодня ни души, только худой лейтенант в вязаном шлеме, который утешает меня: мол, у словаков лучше, снегоочистители ездят каждые два часа. Наверное, он разочарован, когда выясняется, что мне туда не надо, что я приехал просто так, посмотреть, как снег пытается стереть границы, прикрыть карту и сровнять карпатский водораздел. Неведомо откуда является человек с синей лопатой на плече и говорит безучастно: «Пойду, пожалуй, за снегоочистителем». Я разворачиваюсь на заснеженной стоянке и думаю, что через год всего этого уже не будет, исчезнут бело-красные шлагбаумы и световая сигнализация, и печати, и робость, и вопросы: «Что-нибудь везете?», «Куда едете?», исчезнет пес, натасканный на амфетамин и семпекс, исчезнут болтовня и легкие сомнения, пропадут весь азарт и привычные слова: «Ну что ж, вперед к Конечной…», и меня это ничуть не радует. Я уже заранее нахожу и откладываю в сторону черные с золотом сто крон с Мадонной работы мастера Павла с одной стороны и Левочей — с другой, зеленые двадцатки с Прибиной на аверсе и Нитрой на обратной стороне и фиолетовые тысячи с Андреем Глинкой и Девой Марией на реверсе. Отбираю также чешские пятьдесят крон, сотню и две сотни со святой Агнешкой, Карлом IV и Яном Амосом Коменским,[78] — все пастельных тонов, словно чуть выцветшие, будто фантики от старинных конфет. Зато в венгерских форинтах ощущается некая едва сдерживаемая дикость. Особенно бледно-синяя тысяча с королем Матьяшем Хуньяди,[79] который хоть и слыл в эпоху Ренессанса знатоком искусств и наук, но здесь похож на человека, не брезгующего сырым мясом. Ференц II Ракоци, на двести с лишним лет моложе, взирает с пятисотки чуть более кротко, но на губах его все же блуждает гримаса спесивого варварского презрения к цивилизованному Западу во главе с Габсбургами. Ракоци, правда, ввел в Версале моду на трансильванский менуэт, но его пятисотфоринтовый образ напоминает скорее Хмельницкого с двадцати гривен или нашего Собеского,[80] нежели одного из Людовиков. Да, я люблю венгерские деньги, поскольку они выражаются без обиняков, плевать хотели на весь этот Трианон и оплакивают времена, когда кони гуннов плескались в Адриатике. Но самая моя любимая банкнота — пятьдесят словенских толаров, На аверсе изображен Юрий Вега,[81] о котором, к сожалению, умалчивает польская энциклопедия. Однако, судя по рисунку на купюре, он был астрономом. Его физиономия напоминает молодого Бетховена или германизированного предводителя Костюшко. Но больше всего я люблю реверс: три четверти банкноты выкрашены в ярко-голубой цвет, напоминающий ясное январское небо над городком Пиран. Эта детская голубизна бескомпромиссна, словно рисунок дошкольника, и сравниться с ней могут разве что две тысячи румынских леев, полностью сделанные из пластика, цветов национального флага, со вставками из прозрачного полиэтилена. Это произведение выпущено по случаю полного затмения солнца в 1999 году: «Duoa mii lei, eclipsa totala de soare».[82] Да, все это когда-нибудь исчезнет, так что я уже сейчас создаю частный музей, чтобы в старости было что вспомнить.
На полке у меня стоит черная коробка из-под литровой бутылки «Абсолюта», а в ней килограмм десять монет, и когда на меня нападает хандра, я высыпаю их на стол и вспоминаю все рестораны, магазины, вокзалы, бензозаправки, все такси и автобусы, в которых мне давали сдачу этой мелочью. Вспоминаю вещи и места: уличные лотки в Саранде, пункты оплаты на словенской автостраде А1, паромы на Тисе, паркометры на площади Сентхаромшаг в Бая, большие желтые бочки с пивом на улицах Станиславова, сигареты, рюмки, стаканы, музыкальные автоматы, аудиогида с байками для туристов в костеле Святого Иакова в Левоче… Я всегда возвращаюсь с полными карманами монет, никогда не спускаю мелочь полностью, потому что верю в такого рода бытовую магию, которая снова приведет меня в те края хотя бы затем, чтобы еще что-нибудь купить на оставшиеся деньги. Хотя что купишь за сто леев с Михаилом Храбрым?[83] Ничего. Можно просверлить в этих основательных, тяжелых кругляшах дырочки и носить на шее, как медаль за отвагу. Во всяком случае, мои сокровища поднимают мне настроение в паршивые дни. Я могу воображать все те ладони, через которые прошли монеты, и придумывать дороги, по которым они скитались из города в город, от деревни к деревне. Я вижу всех этих мужчин, выпивающих в трактирах, женщин на базарах и детвору возле лавочек со сладостями. Кто знает, сколько раз мои сто леев с дырочкой из конца в конец пересекали Семиградье, Молдавию и Валахию, Мунтению, Ольтению, Добруджу и Дельту, прежде чем полностью обесценились. В этом увесистом кружочке, словно на жестком диске компьютера, записана история богатства, нищеты, страсти, прибыли, убытков, а также хоссы, бессы и рецессии, но я не в силах ее считать, могу лишь хранить. Я набираю целую пригоршню монет, пересыпаю сквозь пальцы и чувствую, как от меня ускользают пространства, время, общественная и экономическая история вместе с человеческими судьбами, чувствую, как Карпаты, Чешско-Моравская возвышенность, Большая Венгерская низменность, Румынская низменность, Трансильвания и кусок Балкан обращаются в тихий звон. Однажды на автостраде номер 19, в нескольких километрах от Сату-Маре, мы увидели цыганский табор, озаренный пурпурным сиянием заходящего солнца. Три-четыре телеги на обочине, бедность пополам с нищетой, тощие кони и драные полиэтиленовые кибитки, раскинутые над движимым имуществом. Внутри постели, одеяла, матрасы, женщины, детвора, кастрюли, бардак людской жизни, но в солнечных лучах это буквально полыхало, словно готовилось исчезнуть, вознестись к небу, будто гигантский Илья-пророк, а мужчины, чинившие жалкие упряжки, были смуглее собственных длинных теней. «То, что нужно», — воскликнул Пётрек и чуть ли не на полном ходу остановил машину. Схватив фотоаппарат, он бросился к цыганам. Начал переговоры, но световая феерия грозила вот-вот закончиться, так что он замахал мне, чтобы я подошел и взял на себя финансовую сторону предприятия. Я вынимал из кармана горсти крон, форинтов и леев — согласно очередности наших странствий — и знаками объяснял, что, мол, очень даже и исключительно охотно, сколько пожелаете, в границах разумного. Их главный, худой, жилистый, в белой футболке, смотрел на мелочь, где одних форинтов было минимум на два доллара (до венгерской границы три шага), наконец скривился, презрительно махнул рукой и сказал: «Nu, tigari».[84] Я отдал ему все, что у меня было: пачку «Снагов», остатки «Мальборо» и «Карпат». Он взял, пошел к своим — поделиться. Через пару минут солнце зашло, а они двинулись по направлению к Сату-Маре. Три-четыре разбитые телеги обращались во мрак и небытие, поскольку вовсе не были частью нашего мира. Ни семьсот лет назад, когда на Пелопоннесском полуострове европейское сознание впервые отметило присутствие цыган, ни 4 мая 2000 года, когда мужчина, напоминающий собственную тень, бросил мне: «No, tigari», потому что полагал, что хлопоты, связанные с деньгами, превышают их ценность. Год спустя я стоял на светофоре где-то за Сибиу — может, это было в Кристиане, а может, в Меркуря-Сибиулуй. Шоссе ремонтировалось, и зеленый свет давали поочередно то одной полосе, то другой. На этой вынужденной стоянке путешественников подстерегали два щенка. Они подбегали к машине и устраивали маленький спектакль хорошего настроения и нахального попрошайничества. Я дал одному денег, но второй выхватил у счастливчика деньги, а тот принялся рыдать и причитать. Я вынул еще одну пятерку, чтобы утешить плаксу. Потом в зеркало заднего вида увидал, как они в мире и согласии радуются добыче и удачно разыгранной психодраме. Я пересыпаю мелочь и тасую банкноты, словно прикасаясь к некоей ультрабрайлевской фотографии: пальцы ощущают фрагменты событий, а нос — запахи. Маленькая тяжелая монета в сто форинтов навсегда останется образом и гербом зеленых холмов Земплина. Ровно столько стоила в то лето рюмка грушевой палинки в деревенских трактирах. В Гёнце, в Телкибаня, в Вильмани. Сквозь замусоленную тысячу леев с Эминеску всегда будут просвечивать Семиградье и маленькие темные лавочки в Бьертане, в Роандоле, в Копса-Маре или Флореште, что напоминали холодные пещеры, выдолбленные в трансильванском зное, и каждый раз когда я покупал бутылку вина, сдачу мне давали целыми свитками и пачками этих отяжелевших от пота и грязи лоскутков. Ведь, в конце концов, что такое память, если не вечный обмен номиналов, неустанный дележи убытки и новые расчеты в надежде, что баланс сойдется, былое вернется без недостачи, полностью, непочатым, а может, и с процентами любви и ностальгии. Ведь, в конце концов, что такое путешествие, если не расходы, а затем подсчеты оставшегося, перетряхивание карманов. Цыгане, деньги, штемпели в паспорте, билеты, камень с реки Мат, коровий рог, отшлифованный волнами Дуная в Дельте, blok nа pokutu — словацкая штрафная квитанция, racun parkinrina — квиток с парковки в Пиране, nota de plata — счет из ресторанчика в Сулине: две порции жареного сома, две порции картошки и два салата, графин вина, одно пиво «Сильва» — всего восемьдесят пять тысяч семьсот…
Это было на задах улицы Дельты. Вход прямо с улицы, четыре столика, на втором этаже маленькая гостиница. За стойкой стояла высокая худая девушка с короткой стрижкой. У нее было нежное меланхоличное лицо. Она сама готовила, сама протирала стаканы и подавала на стол. Девушка напоминала светлую тень. Приходили мужчины, от которых воняло рыбой и дизельным топливом. Стулья под ними скрипели, они пили пиво, курили, бормотали и шли обратно на берег, к ржавеющим барками и буксирам, к пропитанному илистой водой железу, к печали реки, чьи артерии открыты небытию. Девушка убирала пепельницы и бутылки и возвращалась за стойку, чтобы перевернуть кассету с попурри из английских песен: Элтон Джон, Джилберт О’Салливан, «The Carpenters», семидесятые- восьмидесятые. За окном стоял исхудавший вороной конь, запряженный в тележку на резиновых колесах. Он прятался в тени почерневшего деревянного дома, а долговязый полицейский в седьмой или двенадцатый раз за день мерил шагами занесенный песком тротуар. Чуть дальше у забора из проволоки стоял мужчина в полосатой пижаме и смотрел вдаль. Здание казалось заброшенным, но, судя по надписи, это была больница. Перед входом в отель «Сулина» росла высокая трава. Континент заканчивался, и события тоже подходили к концу, но девушка казалась воплощением спокойного ожидания того, что должно случиться вопреки всему. С едва заметной улыбкой она принесла счет и тут же вернулась в свой мир.
Или parkovaci preukaz[85] из маленького отеля в Ружомбе-роке… Мы приехали туда поздно вечером после целого дня пути. Город пропах целлюлозной фабрикой. На фоне неба темнела черная аппликация гор. Интерьер был дешевый и одноразовый. Предметы, которые обычно делают из чего-нибудь основательного, были тут из пластика. Стены, дверь, мебель изображали что-то более приличное. В ресторанчике веселилось семейство хозяина. Двое музыкантов в белых рубашках и вишневых жилетах стояли перед клавиатурой «Ямаха» и микрофоном. У того, что пел, была толстая тетрадка с текстами. Второй наяривал так. Человек семь-восемь танцевали. В центре внимания, похоже, были две крошечные девочки — внучки шефа. У мужика лет пятидесяти было неподвижное лицо, золотые часы, золотая цепочка, и, танцуя, он силился сохранить чувство собственного достоинства. Двигались все экономно и скованно, словно старались ничего не коснуться, ничего не задеть, хотя места хватало. В этом была какая-то искусственность, как будто они в играли в незнакомую игру или впервые репетировали. Печальные слабые лампочки освещали интерьер, такой же робкий, как и гости. У женщин были высокие прически, и на каблуках они чувствовали себя неуверенно. Шеф снял пиджак и остался в сером жилете и белой рубашке. Он передвигал свое массивное тело столь бережно, словно слышал музыку впервые в жизни. Потом появилось несколько человек. Первым шел огромный мужик в черном костюме, бритый наголо и в темных очках. Похоже, это у него был такой имидж. Кто-то сзади держал букет. Они стояли и ждали, пока их поприветствуют, но никто не спешил навстречу, и они медленно продвигались в глубь безжизненного празднества, и только верзила, чей затылок был шире бритого черепа, вызывающе стоял на пороге и по-хозяйски оглядывал зал. Должно быть, они посмотрели все три серии «Крестного отца». Особенно им полюбились кадры с торжественными приемами, и теперь они пытались разыграть их в этих декорациях — позолоченный пластик люстр, искусственные цветы и обивка из свекольного дерматина, в такт вечному хиту «Соmme çi, comme çа»,[86] но будущее явно было за ними.
Все эти события я храню в картонной коробке из-под обуви. Порой вытащу что-нибудь, как попугай гадалки вытягивает бумажку с предсказанием: Valabil-2 Calatorii[87] — узкая бумажная полоска, зеленая, красная и оранжевая — двусторонний трамвайный билет из Сибиу в Решинари. Трамвай связывает город и деревню. Эта трамвайная линия не обозначена даже на самых моих подробных картах, но я ездил по ней минимум дважды, а вдоль нее — раза четыре. Этот клочок бумаги может послужить завязкой для пары недурных повестей: о бессоннице Эмиля Чорана в Сибиу, о безумии Константина Нойку[88] в Палтинисе, который собирался организовать торговлю румынскими гениями, или о Лучиане Благе, в летние месяцы в Гура Риулюй пытавшемся выстроить миоритическую онтологию… Все трое, должно быть, пользовались этим трамваем, который еще помнит времена Австро-Венгрии. Именно таков механизм действия моей обувной коробки, и разум, точно попугай, вытягивает бумажку с гороскопом. Таков механизм действия моей жестяной коробки из-под водки «Абсолют», laterna magica совпадений, случайностей и приключений, слагающихся в повесть, что катится во все стороны и не может иначе, потому что связана с памятью и пространством, а те ведь начинаются произвольно и не имеют конца. Чтобы в этом убедиться, достаточно поехать в Конечную. Уехать и, вернувшись через пару недель, обнаружить: время слегка омертвело и дожидалось нашего возвращения, мы, оказывается, не брали его с собой, и все случившееся в путешествии происходило одновременно, без последовательности, без очередности, и мы ничуть не постарели. Этакая иллюзия бессмертия в момент, когда поднимаются бело-красные шлагбаумы, хитроумный вариант тай-цзи,[89] подвижная медитация и, чего уж скрывать, попросту бегство.
Хорошо воскликнуть в разгар зимы: а плевать я хотел на все это, еду в Абонь, в это захолустье в центре Большой Венгерской низменности близ Шольнока, из одной дыры в другую. Потому лишь, что шесть лет назад я увидел фотографию, которую Андре Кертес сделал там 19 июня 1921 года и которая никак не дает мне покоя: слепой музыкант, играя на скрипке, переходит песчаную деревенскую дорогу. Его ведет подросток. Дождя давно не было, дорога сухая, и ступни у мальчика чистые. След телеги — ее узких железных колес — едва отпечатался. Он сворачивает влево и, утратив четкость, исчезает за кадром. На дальнем размытом плане видны фигуры двух человек, они сидят на обочине. Два белых пятна рядом — вероятно, гуси. Еще маленький ребенок, остановившийся на полпути между четкостью и исчезающим контуром. Он смотрит в сторону, словно не слышит музыки, или словно появление двух странников — обычное дело. Вот все это и заставило меня в разгар зимы махнуть в Абонь. Ничего я там не нашел. Заправился у будапештской автострады, а потом за четыре минуты пересек городок. Женщина развешивала белье — и тут дома кончились. Впрочем, я ничего не искал, ведь ничего и не могло сохраниться, все осталось на фотографии. Я свернул к Тисе. Над Пуштой загорались красные сумерки. Отдельно стоящие дома, тополиные рощи, двое детей, уходящие по голой земле к горизонту, пустые черные аистиные гнезда, и над всем этим — безбрежное пылающее небо. Тьма опустилась где-то за Тисаальпаром. На следующий день в музее фотографии в Кечкемете я купил альбом Андре Кертеса и узнал, что слепой музыкант вовсе не левша, а просто моя фотография зеркально перевернута. Надо было в январе отправиться в Абонь, проехать его, не остановившись, чтобы на следующий день, в нескольких десятках километров оттуда, узнать, что мальчик-проводник — сын музыканта. Эти сведения мне ни к чему. Я могу лишь воображать их жизнь, растягивать тот день за края кадра, наполнять прежнее пространство их непрочным присутствием. Ботинки у отца истрепаны, разношены. На нем темный пиджак, через правое плечо переброшена накидка, напоминающая рваную попону. Сын тоже несет какой-то плед или платок. Они готовы к непогоде и холодам. У мальчика в руке маленький сверток. У музыканта под полями шляпы белеет заткнутая за ухо папироса. Во всяком случае, так мне кажется, ведь надо наскрести побольше фактов, чтобы заполнить тот день. 19 июня солнце встает в 3.14, и через час-два над Пуштой повисает зной. Тени нет. Все далеко. Редкие дома прячутся за горизонтом. К ним ведут прямые дороги, похожие на шрамы. До Уйсаса четырнадцать километров, и четырнадцать до Уйсильваш, десять до Тортель и Кёрёштететлен и семнадцать до Тосег. Недвижный воздух пахнет навозом. Поднимающийся время от времени восточный ветер доносит болотный аромат Тисы. Над топями слышны птичьи голоса. Опытное ухо различит даже сухой свист крыльев. Порой путников обгоняет тяжелая упряжка седых большерогих волов или бренчащая бричка. Тогда до них доносится запах табака, сырой кожи и конского пота. Шум повозок затихает, словно они скрылись за горизонтом. Остается поднятая ими пыль. Такова моя Венгрия, и ничего тут не попишешь. Я знаю, что это было давно и на самом деле могло не случиться вовсе. Знаю, что через восемьдесят пять километров и восемьдесят два года — Будапешт, затем Эстергом и прочее, и хвала, и слава, и все накопленное на протяжении столетий умами, силящимися продлить дарованное им существование. Но моя Венгрия — в Абоне, где я даже не остановился. Наверное, потому, что слепой музыкант мог проходить по всем этим местам, где не встретишь живой души, по всем местам, про которые никто ничего не знает и из которых, по сути, состоит мир. Жизнь музыканта и его сына спасло от забвения лишь чудо. «Фотографию я сделал в воскресенье. Меня разбудила музыка. Этот слепой музыкант играл так чудесно, что я слышу его и по сей день» (Андре Кертес).
Да, такова моя Венгрия. Я могу взять ее с собой, перенести в любое место, и она нисколько не утратит четкости. Словно негатив или слайд, на который я направляю свет памяти. В Торньошнемети ко мне подошли двое мужчин. Вынырнули из мрака и начали играть. Один — на губной гармошке, второй — на полудохлой гитаре. Было морозно и туманно. Черной стеной стояли тела дожидавшихся отправления грузовиков. У гитариста деревенели пальцы, и я видел, что ему больно играть. Музыка затвердела от мороза и с трудом вытекала из инструментов. Узнать мелодию было невозможно, так, поспешный нервозный ритм. Потом одна струна лопнула, но они продолжали играть с печальными глазами и упорством, присущим безнадежным делам. Потом мы попытались поговорить на пограничной смеси венгерского и словацкого. На самом деле они хотели не получить деньги, а обменять их. У них была горсть мелочи — монетки по десять, двадцать и пятьдесят польских грошей, собранных, вероятно, у наших дальнобойщиков. Они продали мне эту мелочь за форинты. Попрощались и исчезли во мраке. Возможно, они были из Гёнца. Так я придумал, потому что при каждом удобном случае думаю о Гёнце. Младший, тот, что с гармошкой, мог быть одним из тех двух парней, которых три года назад не пожелали обслужить в баре возле Гуситского дома. В этой повести все возможно. Будь у меня такая возможность, я бы спросил, как поживает худой мужик в домотканом пальто, надетом на голое тело, — в то лето мы сражались с ними на локотки и пили за здоровье Франца Иосифа. Если они из Гёнца, то наверняка его знают. И еще того, шоколадно-темного, круглого, как шарик, с обнаженным торсом, что ежедневно катил по центральной улице в маленькой конной двуколке. Я до сих пор слышу, как глухо стучат подковы по вязкому от зноя асфальту.
Сейчас зима, и такие звуки мне необходимы. В окно я вижу двуконную упряжку — телегу с четырьмя закутанными мужиками. Несмотря на зимние подковы, кони ступают по льду неуверенно. Они вынырнули из тумана и спустя мгновение исчезли снова. Ах, будь сейчас лето, они могли бы не возвращаться в свою Путную или Маластов, а двинуться в сторону Конечной и там, обойдя каким-нибудь макаром пограничников и закон, проскользнуть к словакам. Только бы добраться до Зборова, а там они затерялись бы среди местных, ничуть не выделяясь ни стилем, ни одеждой, ни физиономией, ни обликом. Это могло бы произойти в мае, когда уже достаточно травы для лошадей и только порой на рассвете прихватывают заморозки. Да я бы и сам отправился с ними, понаблюдать за медленно перемещающимся миром и их лицами, на которых, словно добрые знакомые, отражаются различия. Словно дух, я присел бы сбоку и слушал их беседы. Вероятно, они говорили бы о том, что все меняется, но не настолько, чтобы городить границы. Словацкие названия незаметно сменились бы венгерскими, затем румынскими, сербскими, македонскими и наконец, наверное, албанскими — если представить себе, что они двигались бы по тропкам вдоль изгородей, примерно по двадцать первому градусу восточной долготы. Да, я бы сидел в сторонке, словно призрак, и мысленно пробовал напитки, сменяющиеся вместе с пейзажем: боровичку, грушевую палинку, цуйку, ракию и наконец, где-нибудь на берегу Охридского озера, албанское раки. Никто бы нас не остановил, и ни одна собака не взглянула бы косо, надо только держаться подальше от автострад. В тех краях множество заброшенных путей. Чуть свернешь в сторону — и время замедляет ход, словно ускользнув от чьего-то пристального взгляда. Оно расходуется так же медленно, как изнашивается одежда мужиков, путешествующих на возах. То, что уже можно вроде выбросить, держится, тлеет и сереет до самой своей спокойной кончины, до того мгновения, когда существование незаметно обратится в небытие. Так я фантазировал, а они меж тем уже исчезли в тумане. Я вижу, как они шагом пересекают Венгерскую низменность, Семиградье и Банат, словно родом оттуда и просто возвращаются домой с ярмарки, из гостей, с работы в поле или в лесу. Время расступается перед ними, точно воздух, и, пропустив, смыкается вновь. Именно животные позволяют времени обрести прежнюю форму. Живые, они не разрушают его деликатную материю.
Каждый раз когда я возвращаюсь летом из Румынии, шасси машины покрыто засохшей коркой коровьего дерьма. Как-то вечером я спускался по серпантину со стороны Палтиниса и, доехав до первых домов Решинари, услышал под колесами очередь оглушительных всплесков. Все шоссе было заляпано зеленоватыми брызгами. Несколько минут назад стада покидали пастбища. Я еще видел последних животных, отыскивающих свои дворы. Они стояли у ворот, задрав хвосты, и срали. Притормозишь — и как в зимний гололед. Коровы и буйволы превратили транзитную магистраль в каток. Загадили автостраду, по которой высший свет Сибиу мчится на отдых в горные коттеджи. От обочины до обочины все сплошь в дерьме. Оно подсыхало в последних лучах заходящего солнца. Хуже всего приходилось мотоциклистам. Животное оказалось в самом центре, и имело на это право. Теперь каждый раз, проезжая в сумерки через деревни Трансильвании, Пушты или своего Погорья, я прислушиваюсь к этому резкому шлепающему звуку и, уловив его, думаю, что все не так уж плохо и одиночество еще не захлестнуло нас окончательно.
В другой раз перед Орадеей я свернул с автострады номер 76 и запутался в сети деревенских дорог. Может, это было Тэшад, может, Дрэгешть, не помню. Во всяком случае, вдали на востоке виднелись пологие пирамидки гор, которые по-венгерски называются Кирали, по-румынски, Пэдуря-Краюулуй, а по-нашему, видимо, Королевский лес. Дело было к вечеру, и косые лучи солнца золотили окрестности и удлиняли тени. Через час я собирался покинуть Семиградье и выехать на Венгерскую низменность, а пока хотел просто еще немного посмотреть. Так я оказался в той деревне. Дома стояли друг подле дружки, образовав нечто вроде гигантского кольца. В центре большая площадь, заросшая молодыми березками. Словом, деревня, но похожая на рощу, березняк. Центральный майдан напоминал молодой парк и в этот предвечерний час десятки стройных деревьев излучали густое медовое сияние. Такое бывает только во сне. Кое-где просвечивала белизна стен, но людей я не увидел. Только грузные розовые свиньи протрусили в этом пейзаже. Штук десять. Свиньи принюхивались, уткнув морды в землю, искали жратву или следы, словно распоряжались тут вместо людей, выслеживали врагов. В золотом воздухе их стокилограммовые телеса наводили на мысль о каком-то изысканном кощунстве. Они были чистые, как будто жили не в хлеву. Из-под матовой щетинистой кожи парило кровянистое мясо. Да, вот это было зрелище: сверхъестественное свечение и темная, горячая материя. Я постоянно об этом думаю и когда-нибудь непременно туда вернусь, чтобы узнать, как называлась та деревня. Без названия она слишком напоминает призрак, а мне нужны подлинные события, в которые можно верить так, как верили раньше в божественные явления. Прошлым летом я ехал на автобусе в Саранду. Это была развалина, допотопный «мерседес», с трудом карабкавшийся на перевал. Внизу, на дне пропасти, я видел рыжие брюха остовов. Фургонеткам и автомобилям предстояло лежать там до судного дня. В автобусе сидело несколько человек. По другую сторону гор Гере, где-то возле Дельвины, мы попали под проливной дождь и вместе с ливнем вкатили в Саранду. Двое мужчин — на вид отец и сын — под струями дождя выгружали из багажника автобуса вещи: мешки и мешочки, узлы и узелки, какие-то свертки, добро, возможно, нажитое за всю жизнь, и это напоминало печальный, насквозь промокший переезд. Наконец они извлекли из недр автобуса маленького песика, щетинистую дворняжку. Зверюшка тут же примкнула к груде скарба, став частью багажа, словно именно там и было ее место. Затем автобус тронулся, а путешественников скрыла пелена дождя.
Я вспоминаю всех этих животных и вижу их так же явственно, как людей. Пасущиеся в одиночестве лошади в Черной-Горе, большерогий скот Пушты, коровы, по брюхо погруженные в илистые воды Дельты, бухарестские собаки — все самостоятельные, свободные, бредущие в поисках еды по свету, в котором нет четкого разделения на человеческое и животное. В Сфинту-Георге на рассвете я вышел в деревянный сортир, стоявший во дворе. Будка была такой низкой, что штаны приходилось спускать снаружи — внутри можно было стоять, только согнувшись пополам. Чтобы затем привести одежду в порядок, опять надо было выйти. Тут-то и напал на меня красный петух, метя клювом в то, что я пытался сокрыть. Куры на мгновение перестали разгребать мусор и восторженно взирали на него, а я, перемахнув через изгородь, понесся к спасительной двери дома. Петух уже не преследовал меня, но я испугался, потому что оболочка мира, которую в повседневной жизни мы полагаем раз и навсегда сложившейся реальностью, на мгновение дала трещину. Где-то за Перметом, возможно, в Кошине, с боковой дороги выехала на шоссе женщина на осле. Она была такой старой, сожженной солнцем, сморщенной и вечной, что, если бы не одежда, если бы не рукотворная материя, ее можно было принять за часть животного. В пыли и зное женщина и осел в сотый или тысячный раз преодолевали привычный путь. Их тени на белой каменистой тропке сливались воедино, как и их судьба.
Эта моя четверка на возу проезжает уже который день. Всегда в одно и то же время, торопясь успеть до темноты, всегда усталые после целого дня в лесу, по размякшему снегу и грязи, у лошадей силы тоже на исходе, когда они, свесив морды, еле-еле шлепают по воде и в их движениях ощущается та же тяжеловесность, что и в фигурах сидящих на возу мужчин, их опущенных руках и головах, покачивающихся, словно те вот-вот заснут. Когда они начинают исчезать в тумане, животное от человеческого уже не отличить. Я гляжу им вслед и воображаю запах, который остается после них в холодном воздухе: стынущего конского пота, мокрой бурой одежды, липнущих к спинам влажных рубашек, выработанной кожи упряжи и навеки заключенное в материи благоухание монотонных усилий. Так пахло от пары пастухов в немецком ресторанчике в Шпринге, так пахнет плетень Надькалло и так пахнет поезд «Червона Рута», уходящий на рассвете из Делатыни в Квасы, и старые дома в Сулине пахнут так же. Я жил в одном из них к югу от реки. Дело было днем, я вошел и через приоткрытую дверь увидел темную комнату. На большом диване лежали люди. Трое-четверо, а может, и больше. В сплетении полуобнаженных тел я различал только худые детские руки, выступающие из-под легкого покрывала ступни, остальное тонуло в полумраке. Возможно, там были и взрослые, женщины, мужчины, все семейство. Я чувствовал запах тени и тяжелого сна. Они схоронились от безжалостного белого неба, но зной явился следом, словно они сами его излучали. Кто-то, кажется, со мной поздоровался, но никто не пошевелился. На фоне светлых простыней их кожа казалась почти черной. Я переступил порог чужого дома и видел чужих людей в тот момент, когда они были наиболее беззащитны. Жизнь покидала их, они погружались в летаргию и вовсе не пытались укрыться, как не скрывают свой сон прирученные животные. Я пошел в свою комнату и никогда больше их не видел. Запомнил только темные тела, насыщенные материальностью и тяжелые, словно им уже не суждено было подняться.
Да, не стану скрывать, меня интересует финал, распад и все, что оказывается не таким, каким быть могло бы или быть должно. Все, что замерло на полпути, не имея сил, охоты и идей, все, чему не суждено выжить, не суждено оставить след, все, что воплотилось ради самого себя и не пробудит жалости, не будет оплакано, не запомнится. Настоящее совершенное время. Истории, что длятся ровно столько, сколько их рассказывают, и вещи, что существуют лишь, пока кто-нибудь на них глядит. Да, я не могу от этого отделаться, от всех этих осколков, необязательного бытия, излишков, избытка, который не представляет собой ценности, сокровенного, которым никто не интересуется, тайн, которые канут в Лету, и памяти, которая поглотит самое себя.
Заканчивается март, и я слышу, как во мраке стекает с гор снег. Словно мир по-змеиному меняет кожу. Каждый год у меня возникает одно и то же ощущение, и с каждым годом оно становится все более отчетливым: это и есть подлинное лицо моих краев, моей части континента — вот эта изменчивость, которая ничего не меняет, это движение, которое исчерпывает само себя. Однажды в канун весны стечет не только снег, но и все прочее. Бурая вода унесет города и веси, животных и людей, выполощет все, обнажив земной скелет. Метеорология рука об руку с геологией призовут к порядку сомнительный союз истории и географии. Вечное возьмет в оборот преходящее. Элементы займут свои места в нетленной таблице Менделеева, и, чтобы объяснить бытие, станут не нужны ни фабулы, ни истории.
Где-то на берегу залива Лалези, в окрестностях Юбе я видел военную базу. За редкими ограждениями из колючей проволоки стояли палатки. Вылинявшее полотно обтрепалось и обвисло. Из-под полотнищ торчали босые ноги спавших на раскладушках солдат. Было воскресенье. В нескольких шагах от них на пляже разлеглись отдыхающие из Тираны. По сути, колючей проволоке нечего разделять. Ни у тех, ни у других ничего не было. Они могли встать и уйти вместе со всем своим скарбом. Если убрать палатки и пляжные зонтики, берег будет выглядеть так, как когда-то. Останутся только никому не нужные бункеры, память о предыдущей эпохе, теперь постепенно превращавшиеся в часть ландшафта.
Все здесь существует только ради себя самого. Люди впитывают время, словно губки. Проникаются им, накапливают, будто собирают про запас, опасаясь, что оно может закончиться. Порой я сажусь в машину и несколько часов езжу по окрестностям. В тридцати-сорока километрах от дома. Зарываюсь в клубок шоссе, проселочных дорог, путей напрямки через луга или рощи, поскольку нашел на карте хутор Нижняя Галлия или Вифлеем, или три жалкие халупы, именуемые Украиной или Сибирью. Я не сочиняю. Можете проверить: «Бескиды Низкие и Погорье» (Государственное предприятие картографических издательств им. Эугениуша Ромера, Варшава-Вроцлав, издание пятое), левый верхний угол. Но по дороге я забываю, куда ехал. Стоит свернуть с главной дороги, как меня охватывает ощущение, что мировое пространство густеет, становится неподатливым, что на самом деле оно делает одолжение всем этим домам, хозяйствам, этой убогой усадьбе за оградой, всему тому, что едва проклюнулось, едва показалось на поверхности земли и теперь пыталось выжить. Но все выглядит и течет повседневно, словно бы безнадежно, не рассыпаясь лишь по причине чистого фатализма. Бетон, кирпичи, сталь и дерево смешиваются в случайных пропорциях, словно рост и упадок не смогли сговориться раз и навсегда. Прежнее имеет вид испорченный, покинутый, отрешенный и бессильный, а новое выглядит дерзко и вызывающе, поскольку демонстративно пытается заглушить стыд прошлого и страх перед грядущим. Все сплошь — временность, преходящесть, настоящее, без устали совершающееся время, все могло бы исчезнуть в один момент, и пространство не пострадало бы, немедленно срослось и разгладилось, словно ничего не произошло. Ведь это напоминает пролог к тому, что никогда не начнется, периферию без центра, пригороды, лишенные кульминации города и простирающиеся по самый горизонт. Да, пейзаж это поглотит, на прорехе пространства появится небрежный шов, ибо существование этих мест, этих захолустий, которые я проезжаю и которые люблю безнадежной любовью, исчерпывается в процессе самого своего существования, поскольку смысл их исчерпывается в попытке выжить. С этой точки зрения они настолько близки природе, что в туманные предвесенние дни почти не отличимы от фона. Еще мгновение — и низкое небо затворится, захлопнется, и все исчезнет. Вот почему я так тороплюсь с этими своими поездками, с этой тягой к конкретике, которая моментально обращается в прах и приходится воссоздавать ее из слов. Не знаю, по какой причине все это существует, и давно потерял надежду отыскать ответ, так что на всякий случай записываю все по ходу дела, чтобы равенством подменить справедливость и смысл.
Пару дней назад я проезжал Дулёмбку. Тень Теклиньской горы накрывала долину. Лошадь тащила вверх по глинистому склону плуг, над которым склонился мужчина. Следом, согнувшись пополам, шла женщина и отбрасывала в сторону выкопанные камни. Это была величественная, исполненная библейского пафоса сцена. Дул ветер, и меж туч порой пробивались косые предвечерние лучи. Тогда три фигуры на холме делались удивительно четкими, словно бы потусторонними. Ну да, Дулембка пару дней назад, пару дней назад Тужа, через неделю еще какая-нибудь дыра в Молдавии или, к примеру, Македонии. А вот попробуй напиши: «Ехал я по Златой Праге» или «Как-то раз в Будапеште», «однажды в Кракове» или на худой конец «в Сосновце»? Ни фига, не получится, ничего там нет, отсутствует ключ для описания, как отсутствуют инструменты, метафоры и язык, хоть на что-то способный за городской заставой. Да и что это за фраза — «Однажды в Варшаве»? Город в этой части континента — несчастный случай при исполнении служебных обязанностей, плод случайности и добрых намерений. Если рассуждать здраво, городам тут не место. Попробуйте в час пик пересечь, например, Будапешт. К тому же его не объедешь. Засел, точно паук, в паутине дорог. Попробуйте пробраться сквозь Варшаву или Бухарест. Город во время путешествия — это катастрофа. Особенно в странах, напоминающих огромные деревни. Сельчане не умеют строить города. У них получаются тотемы каких-то чужих божеств. В центре еще на что-то похоже, но предместья всегда имеют вид жалкого хутора. Гипертрофия складской поверхности и печаль утраченных иллюзий. Всякий раз едешь себе спокойно, и вдруг посреди захолустья вырастает агломерат, и это сбивает меня с толку, ибо ничто не предвещало сей мираж и ничто его не оправдывает. Поэтому, если только удается, я объезжаю эти фантасмагории, ищу обходных путей, едва различимые на карте нитки, делаю крюк, только бы ускользнуть от длинной тени центральных небоскребов и периферийных блочных домов. Все, что крупнее ста тысяч, я сразу перечеркиваю — сами развлекайтесь и стройте, в надежде когда-нибудь заслонить картину тех мест, откуда вы родом.
Так я твержу себе, заплутав в сети призрачных окружных дорог, эстакад и сквозных магистралей, ослепнув от высматривания указателей и номеров автострад, когда карта лежит на руле и в затылок трубят клаксоны, окосев от поглядывания в зеркало заднего вида, в вонючей тени грузовиков, утром Дулёмбка, вечером Братислава и дальше по паутине венских артерий, переползать на другой бок огромного тела имперской столицы, и дальше на юг, чтобы среди ночи добраться до уснувших деревень на берегу реки Зала, в Баяншенье у самой словенской границы, где пятидесятилетний господин Геза держит пансион на старой водяной мельнице и в два ночи за красным вином и яичницей с салом повторяет: «Будапешт теперь не тот, что прежде. Люди перестали друг с другом разговаривать». Если на дворе бесснежный январь, то ивовые рощи и камышовые заросли в лучах утреннего солнца имеют цвет старой выцветшей упаковочной бумаги. Окрестности, видимо, болотистые. Так мне теперь кажется. Возможно, потому, что небо там висит удивительно низко — даже для Венгрии, — и, возможно, это под его бременем выступает на земле влага.
В двадцати с лишним километрах отсюда жил во время Второй мировой войны Данило Киш. Его отец приезжал сюда во время своих безумных странствий и пил в корчмах «поддельный токай из Лендавы», которая оказалась теперь пограничным городом на словенской стороне. Сюда ездил на велосипеде дядя Оттон. Левая нога у него не сгибалась, висела неподвижно, а правую он привязывал ремешком к педали и ездил по пыльным глинистым дорогам в Залаэгерсег, приглядывать за своими мудреными делами. И если отец был родом из Шульца, то дядя-из Бекетта — так мне кажется, когда я читаю «Сад, пепел» в черно-зеленой обложке, на которой по странному велению судьбы или стечению обстоятельств помещена фотография коричневой глиняной птички. Два года назад, зимой, в тех краях, в Мадярсомбатфе, я купил двух ангелов из глины того же оттенка. Это края гончаров, но в издательстве «Марабут» могут об этом и не знать. Это случайность или предначертание судьбы, или знак, что мне следует снова туда поехать, отыскать Графский лес и прочие рассыпанные по тексту топографические тропы, поскольку повесть должна продолжиться наперекор времени и логике, отделяющим вымысел от факта, она должна иметь продолжение, которое вовсе не обязательно напоминает начало, — главное, чтобы оно питалось той же субстанцией, тем же, хотя и несколько постаревшим воздухом. Я твержу себе: мол, не беда, если ничего не обнаружится. Я вижу на карте голубую жилку реки. Она называется Керка. В прибрежных зарослях маленький мальчик, живущий в памяти или воображении взрослого Данило Киша, ползет на четвереньках, жует листья дикого щавеля и вдруг замечает в небе Его. «Он стоял на краю облака, опасно накренившись, сохраняя некое нечеловеческое, сверхчеловеческое равновесие, с раскаленным нимбом над головой. Он появился неожиданно и столь же стремительно, внезапно исчез, подобно падающей звезде». И даже если там уже ничего не осталось от минувших времен, по-прежнему существуют река, и прибрежные заросли, и облака на небе. Теофания ничего больше и не требует, подобно вечности, которая обходит стороной наши города, опасаясь сравнять их с землей… Ну да, рано или поздно должен появиться Данило Киш. «Путешествовать — значит жить», — написал он в 1958 году, повторив слова Андерсена, но в его устах они получили совершенно новый смысл. «Расписание автобусных, пароходных, железнодорожных маршрутов и авиалиний» в том завершенном и совершенном виде, каким задумал его отец Киша, должно было описать — да что там, скопировать в форме единиц времени и расстояния весь мир. Пробелы между временем отправления и расстояниями заполнялись всей накопленной на тот момент, почерпнутой из всех возможных областей науки, от алхимии до зоологии, информацией о суше и воде, культуре и цивилизации, истории и географии. Появилась такая книга, отпала бы необходимость в путешествиях. Их заменило бы чтение. Не пришлось бы мне тащиться из Дулёмбки в Баяншенье, а потом еще двадцать с лишним километров вниз по течению Керки. Я бы сидел дома, зная, что увижу лишь копию, скудное отражение одного из разделов или абзацев всемирного расписания. Я бы не прикоснулся к перу, потому что путь из Дулёмбки и все прочие пути существовали бы в изначальной и идеальной версии, которой не коснулась нога человека и колеса экипажей. Автобус в Ясло навсегда остался бы в автопарке, как и краковский, и международный на Будапешт в 22.40, и так далее, вплоть до самых дальних уголков планеты, и, куда бы мы ни направили свои стопы, повсюду обнаруживали бы следы безумного гения расписаний. Увы, произведение так и не было завершено, а первые наброски, эскизы и диаграммы в виде испещренной пометками машинописи затерялись в сороковые годы где-то на берегах реки Зала.
Вероятно, отчасти поэтому мой паспорт имеет такой вид. Без расписания и описания, без плана, обреченный на волю случая, я пытаюсь справиться самостоятельно и постоянно вынужден начинать с нуля. Вынужден приехать, скажем, в Бая-Маре так, словно до меня никто туда не приезжал. Или в Дуклю в самый полдень, в разгар лета, когда тень у ног превращается в крохотное пятнышко и над рыночной площадью сгущается одиночество, словно вот-вот свершится Последний суд. Или в январе проехать Пустарадвань и подняться на высокогорные пустоши у словацкой границы, чтобы увидеть мертвенность пограничья и горные цепи, которые выглядят так, словно их не касался человеческий взгляд, а красно-белый шлагбаум и будка пограничника в Бузице напоминают безумный пропускной пункт, через который проходят кающиеся души контрабандистов. Именно здесь я хотел однажды обогнуть Будапешт, когда ехал по северным склонам Буковых гор и массива Матра в надежде, что через несколько часов чудом окажусь в излучине Дуная, где-нибудь в Эстергоме, где как-то в августе в маленьком переулке неподалеку от перекрестка улиц Пазманя и Батьяни обнаружил кафе, похожее на деревенскую хату перед свадьбой: несколько простых столов, накрытых клетчатыми скатертями, несколько стульев, и все. Появился толстый мужик в подтяжках и принес листок с написанными от руки названиями нескольких блюд. Буквы были выведены старомодно-каллиграфически. Холод, тишина и пустота. У меня было ощущение, будто я слишком рано явился на празднество. В конце концов я получил свой gombaleves.[90] Мужчина в подтяжках принес его и поставил передо мной так, как ставят еду перед человеком, который только вернулся с работы, — я мог положить локти на стол и даже чавкать, никто бы и внимания не обратил, хотя более тысячи лет назад неподалеку отсюда святой Иштван принял крещение и заодно, одним махом, крестил всю Венгрию. Стоял август, и холм Адальберта был окутан зноем, словно мираж. Я уже не помню, откуда возвращался, но сразу за зеленым дунайским мостом началась Словакия с ее сонливостью, по-деревенски спокойным ожиданием грядущего, которое может и не наступить. Серая штукатурка и деревни, заканчивающиеся словно ножом отрезал, пузатые мужики в белых футболках, сидящие перед трактирами на пластиковых стульях и пьющие пиво, в тапочках, в ботинках на босу ногу, словно они у себя дома, во дворе, словно их дом — вся деревня, все окрестности и остальной мир — в радиусе двух-трех автобусных остановок. Порой рядом стоят женщины в домашних платьях, халатах, разношенных туфлях. Они не садятся, просто останавливаются — обменяться парой слов.
Да, словацкая сонливость, сгущающийся вечер — одни только цыгане сохраняют подвижность, они вездесущи и перекатываются в этом пекле, словно темные бусины рассыпанных четок. Пять-шесть часов вечера, и на кошицких и прешовских окружных дорогах пусто, будто в воскресенье на рассвете. В Меджилаборце тоже ни души, но в темно-сером кафе при выезде на Зборов, там, где стоит единственный в городе банкомат, чья-то рука поставила рюмку. Но это уже было в другой раз. Я тогда ехал в Ублю, на восток, к украинской границе, поскольку некто Поток пережил там множество приключений, несколько раз едва не лишился жизни и на пыльном пограничном рынке неделями пил самую дешевую отраву этой части Европы, всякий раз теряя краденый пистолете последним патроном, припасенным на самый черный из всех черных дней.
Итак, я ехал, чтобы разыскать все это, в особенности законченный бардак интернационального базара, где молдаване прямо на земле раскладывают все сокровища Транснистрии и пытаются обменять их на дары Закарпатья, драгоценности Сабольч-Сатмар и несметные богатства провинции Марамуреш. Мне хочется увидеть все это, услышать вавилонский гомон славянских, угро-финских и романских языков, эту восточную пестроту палаток, брезентовых и фанерных забегаловок и старых автобусов, превращенных в бордели на колесах, хочется почувствовать запах цыганских таборов, груженных роскошью, перед которой не устоит ни одна женщина, ни один мужчина, ведь она прибыла из краев, куда никто еще не добирался, а уж тем более не возвращался оттуда. За тем я и ехал в Ублю, к востоку от вулканического массива Вигорлат, куда никто в здравом уме не пойдет, поскольку там блуждают кающиеся души штабных и строевых офицеров армии Варшавского договора, а бледные тени дезертиров торгуют призрачными остатками вооружения и обмундирования. Я проезжал город Снину, в котором стояли окруженные плакучими ивами невысокие гарнизонные домики под красной черепицей, и все казалось выстроенным сегодня утром и столь же стремительно старейшим, ветшавшим и рассыпавшимся. На лавочках под деревьями сидели женщины с детьми. Может, это были солдатские жены, покинутые жены офицерских призраков? Во всяком случае, Снина напоминала сон, который снится сам себе на краю государства, утратившего всех врагов. Однако я ехал в Ублю. Через Стакчин, через Колоницу и Ладомирову, в тени бещадского водораздела через Закарпатскую Русь ехал в Ублю, потому что пару лет назад в этих краях некоему Потоку якобы явился дух этой земли и времен, гений сей части континента, и заговорил на смеси языков, словно в некое раннекапиталистическое пальмовое воскресенье, где-то там, может, немного дальше на юг, находилась эта площадь, этот майдан, торжище, на котором собрались проклятые народы земли сразу после того, как открылись бело-красные шлагбаумы. Да, чудо свободы и свободного товарообмена в пыли, грязи и чистом поле, словно из праха должен был подняться невиданный город. И все снова станет прежним: караваны, переходы и транспорт, сверхъестественная реальность дифференцированных цен и курсов валют, что выманивает из дому целые семьи и племена и велит отправляться в сомнительное путешествие, как некогда гнала авантюристов и открывателей прошлого в путь — за семь морей, за убегающий горизонт. Так вот, я ехал в Ублю, дальше лежали Вышне-Немецке и Черна-над-Тисой, и я ехал, словно в бассейн Тигра и Евфрата, словно в какую-нибудь очередную Ниниву. Не случайно вместо двух рек сходились тут три границы, словно три течения, несущие плодородный ил контрабандных сокровищ, ловкости, алчности, поддельной водки, папирос без акцизных марок, сибирских кож, экзотических попугаев и черепах, боеприпасов к «Макарову» и венгерской порнографии. Три границы, словно три реки, выносили из недр своих краев все лучшее. Я воображал, что где-нибудь между Черной, Чопом и Загонами вырастет прямо из голой земли город, точно галлюцинация проклятых народов, с круглосуточной торговлей, неограниченным оборотом и спросом, где потребление навеки сольется в мистический союз с инвестицией. Такие мысли преследовали меня всю дорогу.
Но в Убле ничего не было. Только по обе стороны дороги тянулись два ряда аккуратных домиков. Словацкий полицейский остановил старый украинский «мерс» с лысым челом внутри. Больше ничего не происходило. Едешь-едешь, и вдруг страна кончается, но такое ощущение, что без всякой причины, — просто она сама себе наскучила. Человек в форме махнул рукой, и украинец медленно двинулся к переходу. Две девушки вышли из проулочка между домами и в следующее мгновение куда-то исчезли, словно поглощенные этим межгосударственным вакуумом. В пустоте пограничья приходят на ум удивительнейшие мысли. Мы представляем себе, что по ту сторону превратимся в кого-нибудь другого. А между тем сегодня 26 мая, ночь, и на юге, над Словацкой Республикой, небо то и дело озаряют беззвучные молнии. Я вернулся из Убли, и ничего не изменилось. Надо начинать с нуля. В этом-то все дело. Воображение не делает никаких выводов. Память, метеорология и иллюзии.
Если завтра пойдет дождь, я попытаюсь воспроизвести тот день, когда где-то в глухомани мы поднимались на паром, чтобы переправиться через озеро. Серые волны дождя перекатывались по водной глади. Безлюдная пристань. Бурые камыши, одинокий продавец в киоске с сувенирами и выцветшая реклама доисторического мороженого. С трудом верилось, что здесь вообще бывает тепло. Потрепанные комбинезоны паромщиков постепенно пропитывались дождем. Они в тысячный раз отдавали швартовы, поднимали борт, запускали тарахтящий дизель — деваться отсюда некуда, вытекающие из озера ручейки выдержат разве что детскую лодочку из коры или игрушечный плот. Дабы развеять меланхолию речного судоходства, я принялся фантазировать: вот заканчивается долгий трансатлантический рейс, и мы подплываем к берегам, известным лишь по туманным рассказам. Где-то тут, вероятно, проходит граница реальности. Дальше все выглядит как будто знакомым и правдоподобным, но лишь коренные жители в состоянии поверить, что все это существует на самом деле, что это не отражение, тень, фата-моргана или пародия на реальную землю. Капли падали на палубу, на лицах команды скука боролась с равнодушием, а я фантазировал: вот мы входим в пролив, где пространство утрачивает непрерывность и прежний смысл, подобно тому, как материя меняет степень плотности. Короче говоря, я стоял, опершись о перила, курил и пытался почувствовать себя пришельцем, забредшим в неспокойную страну без гида, без предубежденности, но и не запасшись поверхностными знаниями. Несмотря на конец апреля, воздух, пейзаж и вообще весь этот день переполняла осень. Сырость стелилась серой дымкой. С парома были видны заколоченные дома. Мы вышли на берег, перед глазами еще стояло бурое зеркало воды, а вокруг простиралась страна, естественное состояние которой — сонное или летаргическое ожидание. Окрестности казались богом забытыми. Они преобразятся через месяц, возможно, даже через неделю, в ближайшие выходные, как только выглянет солнце, ведь это, в конце концов, курортное место, которое сейчас замерло в ожидании — в полусне, замедлив дыхание, экономя силы, едва живое. Тянулось, чтобы кое-как дотянуть — только приезжие придадут ему смысл, который заключается в кратком всплеске, безудержном растрачивании сил, карнавальной расточительности, а после все вновь замрет, и жизнь вернется к прежним испытанным формам, ведущим к более-менее безболезненному угасанию. Покинув озеро, мы обнаружили другое, поменьше, славившееся тем, что оно не замерзает даже в самую суровую зиму, а воняет так, словно питают его подземные воды самой преисподней. Дождь лил не переставая. Деревянные павильоны и деревянные настилы, окружавшие мутную вязкую бездну, подгнивали в тепле и влаге. В воде плавали белые старческие тела в детских спасательных кругах. На них можно было любоваться сверху, прогуливаясь по настилам. В основном немецкие или австрийские пенсионеры, но слышалась также и словацкая, и венгерская речь. В будочках на сваях парило. Тела теснились в купальнях, а от белизны кожи слепило глаза, как от яркого света. Скучившиеся голые люди всегда выглядят неживыми. Даже если двигаются. Было в этой картине что-то мрачное. Вонь болота, гнили и серы смешивалась с запахом распаренных тел. Я ушел через несколько минут. Теперь кажется, будто все это мне привиделось или я об этом где-то прочитал. Совершенно очевидно, что ничего нельзя уберечь, что Убля, Хевиз, Лендава, Бабадаг, Лесковик и как их там не оставляют следов, достаточно отчетливых, чтобы поверить, что количество рано или поздно перейдет в качество, одно зацепится за другое и, подобно волшебному механизму, начнет производить нечто осмысленное.
Два дня назад я опять посетил Гёнц. Лилово-розовое кафе, похоже, было давно закрыто. На дверях висел замок, а сквозь пыльные окна я разглядел черные, пустые, бесполезные противни. Такое ощущение, что с каждым моим сюда приездом все вокруг становится меньше и меньше. Однажды я вообще не обнаружу Гёнца. Городок исчезнет с карты, и только я буду знать, как он выглядел, и только я сохраню в памяти мужчину в клетчатой шляпе, с удочкой, дожидавшегося желтого автобуса, чтобы перебраться через зеленые холмы Земплина. Это касается и любого другого места. Все они изнашиваются от человеческого присутствия. Словно память уносит их очертания, оставляя блекнущие цвета и тлеющие по краям контуры. Я пил кофе, глядел на улицу и чувствовал, как отовсюду — из воздуха, стен, с брусчатки, из бездны минувшего, из будущего — сочится серое небытие. Мимо столика прошел мужчина в зеленой рубашке. Я видел его со спины. Ткань расползалась от старости, и чья-то заботливая рука пыталась с помощью белой нитки спасти протершиеся места.
Стояло воскресенье, и до самого Торньошнемети я не встретил ни одной машины. Как, впрочем, и после: тридцать километров полного одиночества, и лишь в предместьях Кошице редкие автомобили катили по абсурдно пустой автостраде. Я выбрал шоссе номер 547 и по кромке Рудогорья двинулся на северо-запад. Как обычно, высматривая цыган. Я надеялся обнаружить в монотонном и сонном пейзаже словацких городков и деревень их отчаянно живое присутствие. Казалось, все что-то пережидают, утомленные повседневностью, предаются некоей смутной сиесте умеренного климата, укрывшись за занавесками, за вьющимися розами в садиках, за стеклами проскальзывающих украдкой машин, в духоте старых домов, и только они, темнокожие и проклятые, отдаются жизни как таковой, принимая сей мир и даруемые им мгновения как счастливый приз. В общем, мой взгляд всегда ищет рыжие, тронутые ржавчиной крыши и синие полоски соснового дыма. И островки голой утоптанной глины, на которой так и не успевает ничего вырасти, ибо стихия цыган — постоянное движение, суета, бесконечные гостины, вечный праздник под открытым небом, рассказы, передаваемые из уст в уста, и заглядывание в каждую щель, ведь земля и мир ничьи и никто не имеет на них исключительных прав. В Кромпахах их поселение поднималось к самому небу. По левую руку от шоссе на почти отвесной круче дом рос на доме, и самые верхние витали уже в безбрежной лазури, словно безумные воздушные конструкции, что зиждятся на пространстве как таковом. Потрепанные, отданные на откуп ветрам и дождям, подвешенные в пустоте, подвергающие сомнению закон всемирного тяготения, они напоминали колонию прилепившихся к скале птичьих гнезд. Все торчало, не стыкуясь друг с другом, проваливалось, словно готовое сползти, рухнуть на шоссе: жерди, куски жести, палки, принесенные откуда-то фрагменты брошенных развалюх, грязь и мох в щелях между балками, придавленные камнями остатки черного толя, все где-то откопанное и прилаженное с фантазией параноика. Из бренности попранной материи рождалось чудо Дома. Мне казалось, что все это шелестит на ветру, готовое взлететь, — и тогда в мгновение ока воздушный город растворится без следа. Да, я представлял себе, как они поплывут по голубому небу, словно косматое облако, словно огромный захламленный плот, за которым тянется стая движимого имущества, весь этот лом и свалка никому не нужных вещей, из которых никто, кроме цыган, не способен извлечь пользу. Я видел, как они плывут над Рудогорьем, над Шаришем и Спишем, и над всем миром, в дымке своего убогого скарба, обрывков, лоскутков и крох, из которых дерзко и вызывающе конструируют нормальную жизнь. Такая картина возникла передо мной в Кромпахах. И тут же после начался городок и раздолбанная индустриальность в долине Хорнада по правую руку. Ржа, нищета мертвого металла и обветшавшей технологии. Резервуары, трубы, трубопроводы, транспортеры, запасные пути, ангары с выбитыми стеклами и лишай оборудования на зеленом фоне пейзажа. Стояло воскресенье, но ничего не свидетельствовало о том, что в понедельник весь этот механизм чудесным образом оживет. Ничто не предвещало, что он вознесется на небо и исчезнет без следа. Скорее ему суждено было стоять здесь вечно или до той поры, пока цыгане, сжалившись, не разберут его на куски и не обменяют на папиросы, алкоголь, украшения для своих женщин и сладости для детей или не сварганят какие-то неземные экипажи, на которых отправятся в странствия по Европе, как в старые времена, пробуждая в оседлом населении смешанные чувства — суеверный страх, зависть и восхищение. Однажды старого цыгана спросили, почему у цыган нет своего государства. «Если бы государство того стоило, оно наверняка имелось бы и у цыган». Так он ответил. А следовательно, объединенная Европа для них — в самый раз, ведь она задумана как образование более совершенное, чем государство, и значительно более приспособленное для перемещения и существования, чем отдельные страны.
Я закрываю глаза и вижу, как те, из Гирокастры, покидают свои сквозистые шалаши, воздвигнутые на крышах бетонных коммунальных домов, где им было слишком душно и жарко. Те, что из-под Круи, оставляют печи для гашения извести, те, которых я видел в Якобени, оставляют просторные саксонские хозяйства, те, что из Порумбаку и Самбата де Сус, — глиняные мазанки, те, что из Влахов, — сараи из неободранных кругляшей, те, что из Подгродья, — одноэтажные дома бывшего еврейского района, те, что из Мишкольца, — едва приподнимающиеся над землей трущобы у выездной автострады на Энч, те, что из Зборова, — втиснутый в склон горы белый барак, и все прочие из тысячи других мест, перечень и описание которых я — непременно — когда-нибудь составлю. Да, Европа без границ — заветная цыганская мечта, в этом и сомневаться нечего. Неповоротливый, оседлый и пугливый белый люд будет сидеть по домам, как в это словацкое воскресенье. На виду только они — по двое-трое кочуют от деревни к деревне, держась обочины, а зеленый пейзаж смыкается за ними плавно, словно зеркало воды. Точно они не могут жить без пространства. Освобожденные от воздействия времени, они плевать хотели на бренность, уничтожающую Гёнц и все прочие места, которым мы дали имена, ибо это единственный способ постичь мир, одновременно обрекая его на гибель.
Где-то перед Брезовичкой в чистом поле смуглый парень лет десяти отжимался посреди асфальтовой дороги. Совершенно голый. Завидев машину, он в панике вскочил и, заслоняя причинное место, кинулся в придорожные кусты. Оттуда с гоготом выскочила троица его одетых приятелей, и все вместе они исчезли в зарослях.
Старухи, несущие на спине вязанки хвороста, мужчины, обступившие открытые капоты допотопных автомобилей, мальчик в Подгродье, прижимающий к себе щенка, запряженная двумя лошадками телега где-то в Семиградье, а на ней перепуганный растопыривший ножки жеребенок нескольких недель от роду и ребенок, который нежно обнимал его за холку, уткнувшись в блестящую коричневую шерсть, словно обнаружив существо меньше и беспомощнее, чем он сам, красные кальдерашские[91] юбки на пыльной дороге у подножия Молдовяну и вымазанные желтой пылью босые ступни, тлеющая помойка где-то в Эрдёхат и худосочные фигурки, извлекающие из горящих куч металл, пластик и стекло, и свалка в Тисачече у дороги к реке, где старый мужчина, зажав в зубах трубку, вытаскивал из куч щебня длинные куски дерева, связывал и укладывал рядом со старым велосипедом… Я должен составить каталог, энциклопедию всех этих событий и мест, написать историю, в которой время не играет никакой роли, должен написать историю цыганской вечности, ибо мне кажется, что в определенном смысле она прочнее и мудрее наших государств и городов, да и всего нашего мира, цепенеющего от ужаса перед уничтожением.
Да, моя страсть — цыгане, пустынность пограничья и речные паромы восточной Венгрии. Об этом я мог бы говорить и размышлять бесконечно. Особенно о втором. Паром на Тисе, в десяти километрах от Шарошпатака, напоминал Ноев ковчег. Фуры с сеном, тракторы, скот и овцы на веревках, мужики в резиновых сапогах и бейсболках, грабли, вилы, бутылки пива, словно они покидали свою землю, наскучившую или обесплодевшую, и теперь отправлялись на поиски новой, и лишь домов не хватало на изъеденной влагой и солнцем, засранной коровами деревянной палубе. Судно принадлежало господину Ференцу Ленарту из Гававенчеллё. Это я прочитал на голубом билете за двести девяносто форинтов. Ибо жить на берегу Тисы — все равно что жить на острове. Постоянные переезды с берега на берег. Река вьется, сворачивает, колышется, просачивается куда-то в сторону, болотом пробивается из-под земли, и Сабольч-Сатмар, Эрдёхат походят на обманчивую плавучую сушу, отделенную от земли полужидким болотистым слоем: топи, трясины, камыши, сладкий аромат гнили и нагретой солнцем стоячей воды, дома на сваях и насыпи в километре от основного русла, чтобы осталось место для вешних вод Горган, Черной Горы и Марамуреша. Двести девяносто форинтов — пустяк за сонное путешествие поперек зеленого течения на спине этого великолепного и диковинного приспособления, которое, словно ткацкий челнок, связывает оборванную основу дорог. Его след мгновенно затягивается и все принимает прежний вид. Так что двести девяносто форинтов — ерунда, а в Самошшайи — и того меньше, всего двадцатка с человека, то есть тридцать с чем-то грошей. Рядом с крутым спуском был загон, полный коз и овец, а по другую сторону дороги — маленький домик и таблица с этими смешными расценками. Черная крыша и желтые стены. Паром пытался оторваться от противоположного берега. Он работал без мотора, за счет течения реки. Закрепленный на натянутом поперек течения длинном стальном канате с двумя лебедками, он дожидался, пока вода сдвинет его с места, а потом, поочередно наматывая канат на два кабестана, двигался взад и вперед, точно древний примитивный механизм, едва ли имеющий понятие о законе всемирного тяготения. Единственным пассажиром была женщина с велосипедом. Машинист крутил рукоятки, отталкивался жердью от берега, но все словно бы нехотя и неспешно, полагаясь на реку, ее каприз. Иногда он оставлял свое занятие и беседовал с женщиной, присевшей на скамеечку. Я наблюдал за ними сверху: две крошечные фигуры на прямоугольной палубе из толстых балок, сливающихся по цвету с песчаным берегом, — казалось, они ждут, пока кусочек суши оторвется от Паннонской низменности и тяжелым ковром-самолетом перенесет их на другую сторону Самоша. До румынской границы было километров пятнадцать, и я вновь почувствовал, как время притаилось, исчезло, замерло и затихло, уступая место пространству в чистом виде, — ведь так было в Убле, в Хидашнемети, где обездвиженные поезда греются под высоким небом, словно ужи, в шальной Бузице, и то же самое в моей Конечной. Однако в конце концов они тронулись, переплыли и пристали, и теперь я мог въехать на платформу. Я смотрел вверх по течению и пытался вспомнить, когда и где в последний раз видел эту реку.
Наверняка год назад, мимоходом, в Сату-Маре, когда ехал в Палтинис, но это было всего мгновение, мост где-то в центре города, а я, как обычно, искал выездную автостраду, высматривал синие ржавые указатели, так что тот раз не считается. Двумя годами ранее я целый день блуждал по ее бассейну. Я тащился от Карея и сам не мог решить, хочу ли я в Клуж или же в Орадею, на юго-восток или на запад, а может, и вовсе никуда. На шоссе 1F в Боботе я попал в ад грузовиков: все эти цистерны, самосвалы, полные щебня и земли, гудки, вроде бы еще Семиградье, но, судя по повадкам автомобилистов, уже Балканы, а я неважно себя чувствовал после долгой венгерской ночи с грушевой палинкой и «кадаркой», прослоенной «сексардом». Я углядел на карте Кришень и помчался туда, на север, чтобы в Жибоу съехать в долину Шамоса. Только я ничего не запомнил из этого маршрута, кроме чашки кофе в каком-то месте без свойств да грозы с градом среди зеленых холмов. Лишь Бая-Маре помню отчетливо, хотя оно походило на галлюцинацию. Черные виадуки транспортеров, и подвешенные над землей мертвые вагонетки для золотоносной руды, и отчаяние пригородов, где люди толпились перед корпусами рабочего поселка, напоминавшими выгоревшие руины. Город вгрызался в горы в поисках руды, но нищета разъедала это Эльдорадо, словно ржа. Подобным образом подыхало Бая-Сприе, пав жертвой собственной жадности.
До перевала Гути было десять километров, и там, на девятистах восьмидесяти семи метрах мир попросту переламывался пополам. Чуть меньше километра над уровнем моря — и обрыв преемственности, буйство небытия. Саркастическое memento Бая оставалось позади, а по другую сторону, на северных склонах, удивительным образом жило минувшее. Десешть, Харничешть, Джулешть напоминали деревянные сны. Резьба домов, ворот и заборов заключала в себе неохватность времени, его бесконечную щедрость. Чтобы все это вырезать, выточить и освободить от первоначальных форм, требовалась вечность. Это чудо терпения, должно быть, совершилось в некоем другом времени, ибо то нормальное время, которое стало нашим уделом, просто не вместило бы все движения, необходимые для создания деревянной аркадии. Ни часы, ни минуты не способны охватить рождение этого невозмутимого безумства форм. Казалось, все выросло само собой, продолжая медленный прирост слоев и ветвей, казалось, природа предпочла прежним своим формам те, что напоминают человеческие жилища. Да, это было безумие, марамурешская сказка тысячи и одной ночи, дендрологическая Саграда Фамилия, и так до самого Сигета, где уже опускались сумерки, отделенные хребтом Петрии от остального мира.
Утром я отправился на берег Тисы. На украинской стороне лежала Солотвина, где два года назад я вышел из поезда, собираясь ловить попутку в Станиславов.
* * *
И вновь Бабадаг, как и два года назад: автобус стоит десять минут, водитель куда-то исчезает, полуденный зной, дети попрошайничают, ни на что особо не рассчитывая, все по-прежнему. Исчезли только бумажки в тысячу леев с Эминеску, им на смену пришли алюминиевые кружочки с Константином Бранковяну.[92] Их проще нащупать в кармане, вынуть и сунуть в протянутую ладонь. Тридцать семь алюминиевых монет — один евро. Уезжая в город, я видел трех женщин в ниспадающих красных платьях до земли. Вероятно, добруджанские турчанки. Они выглядели красиво и диковинно среди рассыпающихся стен, домов, которые разрушаются, не успев состариться. Бабадаг являл собой усталость и одиночество. Люди вышли из автобуса и стояли поодиночке, у ног их лежали маленькие пятна тени. И еще белый минарет, точно перст, указующий в пустое и синее небо. Я раздал горсть легких монет. Маленькие попрошайки брали их равнодушно, молча, не поднимая глаз. Я ехал из Тульчи в Констанцию. В противоположном направлении, чем два года назад. Ничего не изменилось. Только все бумажные купюры стали пластиковыми.
Бабадаг: два раза в жизни, два раза по десять минут. Из таких фрагментов состоит мир, из осколков горячего сна, из миражей, из автобусной горячки. Остаются билеты. Из Тульчи в Констанцию — сто двадцать тысяч леев. Pastrati biletul pentru control.[93] Окрестности Южного вокзала в Констанции — это балканская печаль, черная паутина проводов над улицами, хаос и бардак, автомобильные гудки, собаки, мухи, горы снеди на прилавках, все вперемешку, сверкание фольги, спичек, целлофана, мусора, водоворот одноразовой материи, чад пригоревшего жира, дым, полицейские, мошенники, прохлаждающиеся, но при этом постоянно пребывающие в движении, золотые цепочки, пластиковые шлепанцы на босу ногу, едва прикрытая рубашкой кобура с пистолетом на цивильной заднице, арбузные корки, разноцветие, десятисантиметровые каблуки, черный макияж, муравейник, рынок и лагерь — остается только перечислять, ибо описывать бесполезно, ведь здесь нет ничего постоянного, лишь усталость и распад, и истощение сил, и неистовый труд под выгоревшим от зноя небом.
Из Констанции дорога ведет через Валя-луй-Траян (то есть деревню под названием Траянов Вал) с погруженными в жару одноэтажными халупками, с отощавшими ослами, с вечным взглядом одетых в черное старух, всматривающихся в пыльную пустоту. Остановишься — и уже не найдешь в себе сил вернуться обратно. Тут испокон веков присутствует одно только настоящее. Отсюда все эти названия с именами героев, бунтарей, предводителей, воевод и политиков: Николае Бальческу,[94] Михаил Когальничану,[95] Куза Водэ,[96] Влад Цепеш,[97] Мирча Водэ,[98] Штефан чел Маре,[99] Драгош Водэ,[100] Штефан Водэ,[101] Александр Одобеску,[102] и еще Индепенденца и Униря, то есть Независимость и Объединение, и Валя-Дачилор, то есть Долина Даков. Ничего там нет. Это просто деревни, разбросанные по степи вдоль шоссе номер 31 или чуть в стороне. На фоне плоского пейзажа они едва возвышаются над линией горизонта. Козы, кукуруза, повозки, сгорбленные фигуры на полях, движения, повторяемые на протяжении одного, двух, трех столетий, целую вечность, неизменные, как движения животных. И только эти названия, что пытаются стронуть с места оцепеневшее время, придать ему смысл и направление.
Несколько дней спустя я ехал на северо-восток. Пересек долину Серета, в Текуче узнал перекресток и забор, у которого два года назад несколько часов ловил попутку на другую сторону Карпат. Теперь горы остались слева, пейзаж сплющился, телеги и фургоны везли арбузы и дыни. Они были грудами навалены вдоль шоссе. На полях стояли шалаши из высохших кукурузных листьев. За неимением деревьев крестьяне пережидали южную жару в этих шелестящих будках. За Красной снова начались холмы — долгие сонные хребты Молдавской возвышенности. Древнее и хрупкое плоскогорье, изрезанное реками и истлевшее от солнца. Травянистые склоны, белые оползни, убогие гребешки рощ напоминали некую геологическую метафору смирения с судьбой, с эрозией и упадком. Земля обнажала здесь свои кости.
Сразу после этого шли Хуси. В Хуси в 1899 году родился Корнелиу Зеля Кодряну.[103] Мне бы следовало туда заглянуть, но я не стал. Городок возник на мгновение и тут же исчез, подобно сотне других румынских городов, через которые я проезжал. Он ничем не выделялся. Низкорослый и меланхоличный. Сады укрывали распад. Мне бы следовало там побывать. Кодряну был наполовину поляк, наполовину немец, но считал себя самым румынским румыном из всех румын. Я читал кое-что им написанное. Патетическая графомания. Этакий румынский мессия. В своих проектах он постоянно апеллировал к Богу Отцу, Христу и Михаилу Архангелу. На некоторых фотографиях Кодряну запечатлен в народном костюме: белая льняная рубашка до колен и белые портки. Из-под коротких штанин видны элегантные городские ботинки. Он приветствует толпы жестом наподобие гитлеровского «хайль!», но наверняка заимствованным от самих римлян, не оскверненным варварским посредничеством немцев. Кодряну ездил по молдавским и бессарабским деревням на белом коне. Крестьяне охотно ему внимали, ведь он утверждал, что источник зла всегда находится вовне.
Я проехал Хуси за несколько минут. До Прута и границы было двадцать километров. На холмах паслись овцы. В сумерки скот возвращался на пустошь, во дворы, огражденные заборами, сварганенными из пары жердей. Рядом стояли камышовые шалаши пастухов. Все это можно было построить чуть ли не голыми руками. Постройки были неотличимы от пейзажа. В любой момент они могли исчезнуть бесследно, не оставив развалин и воспоминаний. Внутри этих шалашей, вероятно, лежали какие-то вещи — ведро, нож, топор, — но снаружи все казалось частью флоры и не имело возраста. Состояло из простейших форм: дерево, трава, камыш, немногочисленные животные, овечий помет.
Перед разъезжавшим на сивке Кодряну якобы носили икону Михаила Архангела. Легко можно вообразить эту процессию именно здесь, среди плоских холмов и шалашей, или чуть дальше, в деревне Валя Грекулуй, где есть одна церковь, коровий выгон и белые пятна гусиных стай на зеленой плоскости. Именно там я глубоко уверовал в то, что вижу застывшее идеальное «некогда» или «испокон века», во всяком случае, минувшее, которому не суждено обратиться в будущее, потому что оно изначально задумывалось лишь как текущее.
Кодряну в рубахе до колен, кочующий со своей свитой по захолустным городкам и весям, нес добрую весть о том, что ничего не изменится, что прошлое вечно, поскольку давным-давно в некоей отдаленной точке уже обрело совершенную форму. Мол, достаточно освободить ее от ила, нанесенного потоком современности, от тины демократии, от грязи либерализма, от жидовской заразы. Нищее и бессильное сегодня должно было возвыситься благодаря своему героическому происхождению. Соратники Кодряну носили амулеты с землей, собранной с полей битв, на которых предки сражались с римлянами, готами, гуннами, славянами, татарами, венграми, турками и русскими. Из магии, культа предков и христианства, трактуемого как племенная религия, была создана своеобразная — туманная и загадочная — наука о путях спасения нации. Тексты Кодряну, десяток страниц, которые я прочитал, представляют собой, в сущности, заговоры: «Войны выигрывали те, кто умел призвать незримые потусторонние силы и заручиться их поддержкой. Эти таинственные силы — души умерших, души наших предков, которые были привязаны к этой земле, к нашим полям и лесам, которые погибли, защищая эту землю, а сегодня их призываем своими воспоминаниями мы — внуки и правнуки. Над душами умерших возносится Христос».
У того, кто родился в Хуси и провел там молодость, есть все основания не верить в будущее. Готов биться об заклад, что Кодряну посещал также Валя Грекулуй. Мальчишки-непоседы. В будущее верили коммунисты, которых Кодряну ненавидел не меньше, чем евреев. Его мутный провинциальный разум, похоже, с трудом отличал одних от других. В сущности он так и остался захолустным мечтателем. Мир делился на Румынию и все прочее, и прочее не представляло никакой ценности по той простой причине, что не являлось Румынией, а уж тем более Хуси.
Во время учебы в Берлине Кодряну носит румынский национальный костюм. Нищета вынуждает заняться торговлей. В деревнях он покупает сало и масло, чтобы сбыть в столице подороже. Берлинское существование Кодряну оказывается пародией на быт молдавских крестьян. Причем он занимается тем же, чем — по его представлениям — евреи. В Гренобле, чтобы заработать себе на хлеб, шьет на пару с женой румынские национальные костюмы, пытаясь их продавать. Кроме Румынии, национальной одежды и торговли идей у него не густо. В зале суда (Кодряну пробовал свои силы как адвокат) он вынимает пистолет и убивает префекта полиции. Его соратники убивают «предателей» и ненавистных политиков, а затем сдаются в руки полиции, пародируя христианское самопожертвование. «Любовь — ключ к комнате, дарованной народам мира нашим Спасителем… Но любовь не освобождает от необходимости соблюдать дисциплину, как не освобождает и от необходимости подчиняться приказам», — несет он свою ахинею в 1936 году.
Итак, бред и пародия. Нужно родиться в Хуси, чтобы ощутить ядовитый аромат разъедающей разум и душу печали. Нужно родиться в Хуси, откуда улетают даже вороны, чтобы понять мечту о величии своей страны, этот кошмар. И тогда останется одно лишь безумие, сумасшествие, ибо только так можно на мгновение оспорить мировой порядок, которому наплевать на Хуси, наплевать на деревню Валя-Дачилор и даже на деревню Дечебал, с безнадежностью цыганского табора на околице, ему тоже начхать. Хуси презренные, Хуси отвергнутые, Хуси снулые и едва волочащие ноги, Хуси, в которых копаются куры и которые на веки веков воткнуты, подобно сломанному прутику, в щель времен. Появиться на свет в Хуси — все равно что жить в материализовавшейся вечности. Тупик железной дороги. Жизнь в Хуси есть бессмертие.
Так, во всяком случае, полагал Корнелиу Кодряну. Прошлое священно и потому должно было продолжаться вечно, постоянно воскресая и отгоняя тень будущего. Будущее всегда приходило в Хуси извне, оказалось чужим и напоминало вторжение. Будущее было насилием над совершенством бытия, являвшим смысл, суть и глубочайшую тайну Хуси и окрестностей.
Эх, остаться бы мне в Хуси. Теперь приходится фантазировать, как я туда вернусь. Лучше всего осенью, когда опадут листья, чтобы искать подтверждение всем этим домыслам, искать шорох, гниль, расползающуюся плесень, которая тихо и незаметно проникает в камень, стену и дерево, в припрятанные в шкаф воскресные костюмы. Микроорганизмы, гравитация и влага — составные элементы моей части континента. Их следует перечислять на этикетке: ingredients,[104] изобразить на гербе. Тот, кто полагает иначе, рано или поздно горько разочаруется. Пароксизм Кодряну объясняется тем, что — вопреки его мыслям и призывам — он совершенно не понимал дух места, которое так жаждал изменить. Стремясь к величию собственного народа, он впадал в комизм подражания чужой судьбе. Все, что от него осталось, — фальсификация предназначения.
Эта моя любовь к балканскому хаосу сильнее меня. Он начинается еще до Сату-Маре. Бардак, кустарщина, один черт разберет, где кончается шоссе, где обочина, фурманки, тележки, в воздухе сразу становится больше пыли, чем в постгабсбургской Венгрии, на каждом шагу что-нибудь валяется и заставляет себя объезжать, словно эти «дакии» и «аро» плохо свинчены и теряют детали, а может, освобождаются от лишних. Толстые богатые цыгане стоят возле новеньких «меринов» с открытыми капотами — якобы радиатор у них закипел или привод полетел, и отчаянно машут рукой, а когда ты останавливаешься, втюхивают тебе по дешевке золото или драгоценные камни. Ребятишки шныряют по шоссе туда-сюда, словно их с младенчества обучают пресловутому румынскому пренебрежению к смерти, гетто-дакскому фатализму. Поворотники никто не включает, жизнь достаточно трудна, надо экономить. Зато сигналят без конца, клаксоны ведь не снашиваются. Так было в мае 2000 года — и так будет всегда. Я могу вспоминать это бесконечно, как вспоминают детство. И в конце концов окажется, что человек ищет только то, что видел раньше. Оказывается, что сатмарский бардак, пустынные плетни Сулины, Джурджу на Дунае напоминают Соколов Поддяский и Калушин. Та же материя, та же временность, что героически притворяется вечностью, тот же запах мыла и молока в автобусе, когда крестьяне трогаются в путь, та же медитация в тени заборов на трухлявых лавочках, та же беззаботность и расточительность минут, часы в качестве украшения, бижутерии — ведь время есть не более чем осязаемая форма вечности, из которой можно выкраивать порции по собственному усмотрению.
Где-то между Бозиенами и Валя Пыржей я видел у дороги, посреди зеленой пустоши двух мужчин. На протяжении десяти километров в одну сторону и пятнадцати в другую не было ни души, ни машины. Они сидели в тени грецкого ореха и играли в карты. Даже не подняли глаз, чтобы взглянуть на автобус. Через пару дней я возвращался и снова увидел их. Они сдвинулись где-то на километр, но картина оставалась прежней: шпалеры ореховых деревьев вдоль дороги, кукурузные поля и мужчины, погруженные в ленивую монотонную игру, словно в колоде был миллион карт. Может, ночь заставала их в разгар игры, и они спали в чистом поле, чтобы продолжить на рассвете, может, кто-то привозил их сюда на какие-то работы, но стоило хозяину исчезнуть за вершиной холма, как игроки немедленно принимались за свою вечную забаву. С собой у них ничего не было, никаких вещей, разве что в карманах. Они сидели на пустоши, словно у себя дома, за столом. Серые и мятые, как большинство мужчин в этих краях, но героически сопротивляющиеся натиску пространства и бесконечности часов. Хрупкая абстракция игры защищала их от бренности. Черт его знает, может, в сумерках они зажигали какой-нибудь огарок или карты у них были крапленые, и в темноте они нащупывали черви, пики и трефы. Так я фантазировал по дороге в Кагул и обратно.
Так что я люблю этот балканский хаос, венгерский, словацкий и польский, это волшебное тяготение материи, чудесную сонливость, пренебрежение к фактам, спокойное, последовательное пьянство средь бела дня и эти туманные взгляды, которые с легкостью пронизывают реальность и безмятежно открываются небытию. Ничего с этим не поделаешь. Сердце моей Европы бьется в Соколове Подляском и в Хуси. Какая там на хрен Вена. Так может думать только идиот. И вовсе не в Будапеште. И уж точно не в Кракове. Все это бесплодные попытки трансплантации. Лифтинг и отражение того, что находится в другом месте. Соколов и Хуси ничему не подражают. Они воплощают собственную судьбу. Мое сердце — в Соколове, хоть я и провел там всего часов десять. Как правило, пересаживаясь из автобуса в автобус в начале семидесятых, когда в каникулы навещал тетку с дядей. Моя личная память не хуже памяти поколения, народа или части континента. Одноэтажные деревянные дома в центре города, сирень, заросли, ставни, спящие на асфальте собаки, покосившиеся столбики с желтыми круглыми табличками на остановках, коричневый и зеленый цвет оконных рам, мостков и дверных проемов, песок меж тротуарных плиток, кафе-мороженое, в котором пахнет деревенской хатой, сахарные шарики в стеклянных трубочках, все едва проклюнувшееся, едва начатое, именно что гниль, шорох и дрема, жизнь без претензий, чтобы хватило на дольше, скрипучие полы из стоптанных досок, забавный героизм повседневности, хрупкой, словно вафельный рожок мороженого. Я помню все и могу перечислять бесконечно. Это ведь сидит в крови. Именно поэтому мое сердце бьется в Хуси, которые я пересек за пять минут, потому что останавливаться там незачем.
В общем, мне бы собственное государство, чтобы вечно колесить по нему. Государство без четких границ, государство, которое само не подозревает о своем существовании, и государство, которому наплевать, что кто-то его придумывает и кто-то в него проникает. Сонное государство, чья политика туманна, история напоминает зыбучие пески, настоящее — хрупкий лед, а культура — цыганские дворцы в городе Сороки. Ничто иное здесь не выживет — обратится в пародию на самое себя. Впрочем, что там государство. Тогда уж сразу империю, число провинций в которой известно лишь приблизительно, империю в движении, в походе, охваченную идеей экспансии и маразмом, который не позволяет ей удерживать в памяти земли, народы и столицы, и поэтому каждое утро приходится начинать все сызнова. Вот это по мне, я и сам такой. Помню только вещи и события, но не знаю, что их разделяет или объединяет, кроме моего случайного присутствия.
Три дня назад я был в Бардейове. В храме Святого Идзи начиналась вечерняя служба. Опоздавшие прихожане тонкой струйкой просачивались в приоткрытые двери. Внутри, видимо, было уже полно народу, потому что оттуда доносился многократно умноженный, рокочущий гул, но люди все подходили. Они скатывались вниз по покатой рыночной площади, праздничные и порозовевшие от спешки, и лишь в тени храма сдерживали шаг, чтобы придать движениям немного достоинства. Эта сцена повторялась на протяжении пяти столетий. Я подумал, что на бардейовском рынке булыжник, должно быть, вытерся от соприкосновения с телами, что, возможно, пространство как таковое в этом месте уже не существует, поскольку оно устало без конца срастаться. Я пошел вверх, в противоположную сторону. Все пустело. Людовик Великий даровал городам право проводить восемь ярмарок в год и отрубать головы. В те времена все это, вероятно, требовало простора, а теперь — без торговли и правосудия — рыночная площадь казалась заброшенной. Я свернул на улицу Ветерну, затем на Штоклову, потом направо и оказался в узком проходе между крепостной стеной и городом. Нашел лестницу и вскарабкался наверх, хотя, скорее всего, это было запрещено. Стена была построена лет шестьсот назад, не меньше, во многих местах она осыпалась, ветшала и выглядела на свой возраст. Сверху я видел дворики, садики, черные ходы, клетки, курятники, собачьи будки, все то, что маленькие города скрывают от чужого взгляда, свой деревенский дух, который они пытаются сохранить в миниатюре. Легкий бардак, сонный беспорядок, остатки начатого, воспоминания о неоконченном, склады вещей, медленно превращающиеся в помойки, полиэтилен, компост, падалица, куриные загончики, бурьян, протоптанные тропки, какое-то вечное настоящее, на мгновение присевшее в тени орехов и черешен. Здесь неторопливо рушилась готика, в трех шагах тот же распад касался предметов, лишенных истории, одаренных недолговечной судьбой и ничтожным предназначением. Новое дряхлело так же, как старина, и была в том некая справедливость — liberté, egalité, fraternité[105] материи.
Я вынюхиваю это повсюду. Не стоит обманываться. Ко всему прочему я слеп и глух. Как правило, никакого прочего и не существует. Так было полтора месяца назад в Узлине. В Муригиол мы приплыли на моторной лодке. Вокруг простирались четыре тысячи квадратных километров каналов, озер, мертвых рукавов, болот, топей и земли, плоской, словно водяное зеркало. Можно плыть много часов, и ничего не изменится. Один и тот же горячий, неподвижный сон. Пространство впитывает все без остатка. Движение не оставляет никаких следов. Большая река приносит с континента ил и лепит из него новую обманчивую сушу. Все это сродни началу творения, когда пейзаж еще только собирается с силами, чтобы восстать над поверхностью вод. Это гипноз, путешествие против течения времени и экспедиция в прадетство.
Так вот, сперва была Узлина. Гостиница, три этажа которой возносились над этой болотистостью, плоскостью и архаичностью. Казалось, ее случайно обронили при переезде. В радиусе нескольких десятков километров это было самое высокое здание. У мостков ждала девушка в мини, на высоких каблуках. Она держала поднос с рюмками сливовицы, простой деревенской цуйки. В каждой рюмке плавала оливка. Перед гостиницей — бассейн, зонтики и лежаки. Ничего не попишешь. Но номер во флигеле был что надо. За окном простирался бардак средней руки, какие-то котлы для воды, кучи щебня, огороды, самодельные заборы, и лаяли цепные псы, охранявшие грядки с капустой. В первую ночь меня покусали клопы, к тому же стояла жуткая духота. В соседнем основательном отеле гудел кондиционер. Вечером у костра развлекались служащие фирмы «Коти» и разносился какой-то идиотический глобальный хит-парад.
Назавтра появился Митка. Он присел к нам за столик в баре под зонтиками. Лет шестидесяти, допотопные штаны от костюмной пары, резиновые шлепанцы на босу ногу, какая-то рубашенция. Он словно явился сюда прямо с болот, из камышовых зарослей. Пил одно пиво за другим и жаловался, что с тех пор, как врачи что-то ему вырезали, он больше не может пить водку. Митка говорил по-русски, но официанток подзывал по-румынски. Его каждый вечер поили в гостинице, бесплатно. Иногда он приносил на гостиничную кухню барана или поросенка. Хозяин шел на все это, потому что хотел купить у Митки землю, чтобы расширить бизнес. Дело в том, что Митка был его соседом. Вокруг шатались коровы и свиньи. Этого добра у Митки было великое множество. В поисках жратвы скотина бродила где попало — среди болот и песков, протянувшихся вдоль рукава Святого Георгия.
В сумерках мы пошли взглянуть на хозяйство Митки. Оно оказалось большим и плоским. Напоминало лабиринт, составленный из оград, проходов, заборов, полуоткрытых коровников и хлевов под камышовой крышей. Нигде ни огонька, никакого освещения, ни лампочки, ничего. Сверху простиралось лучистое, фосфоресцирующее небо, но здесь темнота уже сгустилась, пропитанная запахом животных и продуктов жизнедеятельности. Свиньи обступили Митку, словно домашние собаки. В закоулках что-то похрюкивало, постанывало, переваривало пищу и урчало, из углов тянуло звериным теплом, словно в недрах хозяйства устраивалось на ночлег какое-то огромное вечное существо.
Только в избе Митки было светлее. Под низким потолком горела слабая лампочка. В длинном и узком помещении стояло самое необходимое: постель, шкафчик с посудой, стол и больше ничего. Митка исчез за маленькой дверью и через мгновение появился с двустволкой. Ружье было старое, из-под воронения просвечивал металл. Он сказал, что разрешает нам пострелять, надо только заплатить за патроны. Была уже ночь и я решил, что это дурацкая затея. Сказал, что, может, в другой раз. Митка немного погрустнел и положил оружие на постель. На стене висела маленькая размытая черно-белая фотография. Изображенный на ней мужчина кого-то напоминал, но я засомневался, потому что снимок был старый. Я спросил у Митки. «Да, это Чаушеску», — ответил тот с улыбкой. Он был доволен, что я узнал вождя. И, словно в продолжение фотографической темы и всей мизансцены, достал из ящика фото покойной жены.
Такой вот Митка. Обожает диктатора, вспоминает жену и не прочь пострелять в потемках. Он улегся спать рядом со своим ружьем. Позади его хозяйства не было ничего, ни дворов, ни людей. Я даже не знаю, все ли его животные возвращались на ночь в загоны. Да и знал ли он, сколько их, пересчитывал ли когда-нибудь? В полукилометре отсюда резвилась фирма «Коти», женщины в бикини сновали вокруг бассйна, а мужики напоминали итальянских любовников в белых штанах. Небольшой жилистый старик спал как младенец. Я фантазировал, что он видит во сне своих коров, свиней, кур и собак, что они окружают его плотным теплым кругом и оберегают от козней и предательства мира. Шумный отель рядом с погруженным во мрак, душным хозяйством казался бумажным, готовым сгинуть в собственном бессмысленном пламени.
Да, вторая половина октября, погода меняется, наступили холода, и даже сыпет первый снег. Зима придет недели через две-три. Я снова смогу воображать все места, в которых побывал весной и летом. Это делает мир значительно просторнее. Можно сказать, что континент разрастается, расширяется. Ведь каждый стремится к величию. Розпутье, Баурчи, Убля, Мариапоч, Эринд, Хуси, Соколов Подляский, Ходош, Зборов, Караорман, Делатынь и Дулёмбка — не исключение. Видеть Ливов весной и представлять себе Ливов зимний — все равно как если бы Ливов увеличился вдвое и вдвое похорошел, хотя он и так хорош. Именно там начинается та разбитая дорога, которая пролегает через самое сердце массива Чергов. Кажется, движение по ней закрыто, и, когда едешь, душа немного уходит в пятки, потому что у словацких полицейских, кажется, напрочь отсутствует чувство юмора. В любом случае, это красивая трасса по абсолютной глухомани до самого Майдана. Но я ведь не о том собирался написать… Я хотел сказать о величии и славе памяти, точно огонек спички прожигающей карты насквозь и переносящей места и предметы в область вечности, которой угрожает лишь риск космической деменции, бесконечно увеличивающей континент и извлекающей из небытия на свет. Кто побывал в Розпутье, в Баурчи и Караормане, тот меня поймет. Там тлеет темная душа полуострова и дремлет материя, которая, подобно костному мозгу, вырабатывает густую черную кровь едва осознаваемых стремлений. Побывать в Розпутье, в Баурчи и Караормане — значит увидеть минувшее, еще не усомнившееся в целесообразности будущего, ведь по сути еще ничего толком и не началось. И, возможно, никогда не начнется и не разделит судьбу прочего, уделом которого станет оплакивание собственного конца. Ни Розпутье, ни Караорман не рухнут в изнеможении. Они стары, но умрут молодыми, они утомлены, но умрут полными сил, на полувздохе, в пути, смысла и цели которого даже не успеют постичь. Октябрь, идет холодный ночной дождь, и я могу представить себе, как мокрая темнота заливает деревни и города. Они лежат на дне вод и еще не названы. Как большие спящие рыбы, в брюхе которых живут дома, люди и дороги. Люди шепчут во мраке, сосредоточенные, прильнув друг к дружке, пережидают потоп и пытаются угадать свой жребий. Время еще, в сущности, не началось, темно, и нужно ждать рассвета. Вести подобны обещаниям и легендам. Мир так далек, что, возможно, прекратит свое существование прежде, чем мы о нем услышим.
В такие ночи я достаю пластиковую коробку с фотографиями. Их там около тысячи. Словно обезьянка шарманщика, вытаскиваю наугад первую попавшуюся карточку и смотрю. Обычно я понятия не имею, когда сделан снимок, но всегда знаю где. Выходит, я помню тысячу фрагментов мира. К тому же на фотках практически ничего нет: пасущиеся на помойке лошади, кусок забора и ободранная стена, зеленый холм, деревенская хата, фрагмент горного пейзажа, черный кот и канализационный люк, туман, дерево и разъезженный снег, фасад дома, пустая улица и так далее, полное отсутствие смысла, непрерывности, чистая случайность ничтожных предметов, лишенных значения минут, детская игра и наивная попытка проверить, реально ли «щелчком» затвора обездвижить реальность. Но я все помню и могу, не прибегая к помощи коробки, перечислять географические названия, страны, города и деревни. Кот был во Львове, лошади — в пригороде Гирокастры, треугольный угловой фасад — в Черновцах, забор — в Токае, а горы — это Кочевски Рог. Правда, где был разъезженный снег, я помню смутно. Наверняка в окрестностях Кечкемета, где-нибудь к западу от города, в котором я заблудился и потом, перепуганный, искал выездную автостраду, потому что, судя по всему, меня несло на будапештское шоссе, которого я боялся как огня. Впрочем, кончилось все хорошо, и я увидел над собой черные пролеты виадука и ползущие на север длинные тела грузовиков. Я запутался в сети скверных желтых дорог. Туман висел низко над землей. В этих горизонтальных прозрачных щелях я видел остатки венгерских госхозов, во всяком случае, так они выглядели: ржавеющие тракторы, догорающий коллективизм, какие-то огромные хлевы и коровники, и тут картинка заканчивалась, серый туман скрывал остальной мир, и можно было воображать бог знает что, всю Большую низменность, Альфёльд, плоскую, напоенную влагой землю, соединенную с небом при помощи густого мокрого воздуха, болотистую безбрежность, лишенную горизонта, что-то вроде слегка материализованного небытия. Итак, где-то они были, этот разъезженный снег и желтая трава, где-то там, за Кечкеметом, в Кишкуне.
Затем я и держу весь этот хлам, ворох фоток 9x13, чтобы представлять, что происходит за их пределами, представлять то, что они скрывают от взгляда и памяти. Колода из тысячи карт, напускной глянец «Фуджи» или «Кодака», мертвый свет буквализма, вот такой я фотограф. К тому же на этих фото почти нет людей. Словно упала нейтронная бомба и уничтожила все, что движется, кроме Львовского кота и албанских коней. Но это просто страх туземца — как бы не выкрасть чужую жизнь и чужую душу. Так мне кажется. Не исключено однако, что причина кроется в безлюдности пейзажа, в моем собственном одиночестве. Хорошо ведь явиться в готовую страну и никого там не застать. Можно все начинать сызнова. Тогда история превращается в легенду, а реальность — в приватные фантазии. Ведь невозможно понять, скажем, Воскопою — Воскопою можно в лучшем случае вообразить. На фотографиях Воскопои — ни души, только пара ослов, пасущихся среди чертополоха и камней. Я знаю, что здесь должны быть водитель Яни, прикладывающийся то к бренди, то к пиву, и гречанка, хозяйка бара, и ее молчаливый муж, и упившийся вусмерть приятель Яни со славянскими чертами лица, и дефективный мальчик, которого мы подобрали по дороге, но ведь тогда повесть застопорилась бы на веки вечные и мне бы нипочем не выпутаться из клубка их судеб. Итак, лишь пара ослов, камни да серо-голубое небо над разрушенным монастырем. Ах да, знаю, я ехал тогда в деревню Бобоштица — всего тридцать с небольшим километров на юго-восток, — основали ее якобы польские рыцари, во время очередного крестового похода. Жители, кажется, даже еще помнили отдельные польские слова, хотя уже понятия не имели, что они означают. Так вот, я собирался туда поехать вместо того, чтобы смотреть на ослов, камни и чертополох, но, честно говоря, мне было до лампочки, хотя это безусловно интересно. Я просто вернулся в Корчу и часами смотрел из окна гостиницы на площадь, как глазел бы предоставленный сам себе фотоаппарат. На небытие, пустоту, одинаковую на всем белом свете. То же в Гирокастре. Противомоскитная сетка размывала контуры минарета. То же в Шерегейше. Дождь, опустевший двор, мокрые ветви каштанов и жестяной грохот воды в водостоках. В Прелашко иней на траве, стоянка с одиноким автомобилем и развалюха по другую сторону шоссе. Везде одно и то же. Наводишь на резкость так, чтобы пробить оболочку воздуха, прорезать кожу пространства. Достаточно окна в новом месте. В Кагуле были опустевший ночной рынок и тени собак, во много раз крупнее их самих. В Кишиневе тоже шел дождь и улица Василе Александри превратилась в серую реку. Это были тропические ливни, и мне приходилось закрывать окно. Ежедневно в девять утра в одноэтажном доме на другой стороне улицы мужчина открывал контору. Я запомнил верхушку ворот, изогнутую улиткой, морской волной или бараньим рогом, — вот, пожалуй, и все. Я смотрел на это часами и представлял себе остальное. То же самое я делаю теперь. Высыпаю из пластиковой коробки фотографии, из металлической банки из-под водки «Абсолют» — монеты, из картонной коробки — билеты, квитанции о штрафе и гостиничные счета, из выдвижного ящика банкноты — и неизменно получаю тысячекратно умноженную повседневность и ничего больше. Как в Мариапоче в сентябре. На большом плоском пустыре за городом прямо на земле, на кусках полиэтилена, были разложены товары. Никаких чудес, китайский ширпотреб, джинсы, фальшивый «адидас» и «найк». Все аккуратно расставлено, уложено рядами, и все ослепительно новое. Продавцы неподвижно стояли над своим товаром и ждали. Все предлагали примерно одно и то же. Сухая, вытоптанная трава, застывшие фигуры торговцев, и никто ничего не покупает, даже не приценивается. Они напоминали персонажей старинной повести, кочевое племя, что раскладывает свои товары перед городскими воротами, а на рассвете следующего дня бесследно исчезает. Чуть дальше стояли карусели и тиры, а потом еще лотки со сладостями и вином, ярмарочные лавки с сувенирами, пряничные сердечки, кустарный промысел, дудочки и петушки на палочке, а также палатки с религиозной литературой. Под деревьями был разбит табор, разложена еда, вареные яйца, бутылки с пивом, бутерброды, кое-кто, разувшись, дремал. Стояло несколько румынских машин с номерами SM, то есть из окрестностей Сату-Маре, и несколько словацких. Из незримых громкоговорителей неслась музыка, но под огромным небом Венгерской низменности все казалось тихим и мелким. Перед барочным собором устанавливали камеры будапештские телевизионщики. Толпа терялась в этом огромном плоском песчаном пространстве. Впитывалась в него, точно влага. Я надеялся встретить знакомых цыган из Молдавии, барона Артура Церари или Роберта, — в конце концов, праздник был цыганский, — но нигде не обнаружил ни семисотого БМВ, ни «икс пять». На пустынной стоянке ждали печальные «дакии», усталые «лады», героические «трабанты» и заезженные дизели из Рейха. В единственном банкомате закончились форинты. Да, Мариапоч напоминал последнее поселение, за которым начинаются необитаемые территории. Я мог без труда представить, как поднимается ветер и все вокруг заносит песком. Во дворике храма шла униатская литургия. Цыгане из Марамуреша были одеты изысканно и величественно. Черные шляпы, наборные пояса, золотые цепи и ковбойские сапоги. Я заметил несколько красивых лиц. Древнюю тревожную красоту, какой уже не встретишь. Высокие каблуки женщин вязли в песке. Я проехал триста километров, чтобы увидеть все это. Ничего не происходило. Бог знает, чего я ожидал: кибиток, ржания коней, глотателей огня? Я неизменно остаюсь в дураках, реальность всегда меня обыгрывает. К тому же я был без гроша. Оставалось только ехать обратно. Мариапоч в тот вечер являл собой край света, пыль и ожидание вечерней службы. До румынской границы — тридцать километров, городок Ньирбатор и две деревеньки. Люди прохаживались и великодушно убивали время. На каруселях почти никто не катался. Все слонялись, точно был какой-то сонный карнавал, и эта имитация супербыстрой спортивной обуви, неподвижно лежащая в пыли, казалась насмешкой, пародией на собственное предназначение. Нетрудно было представить себе, как из центра Большой Венгерской низменности надвигается скот, огромные черные свиньи, и в поисках настоящей пищи роются в этой дешевке, расталкивают влажными мордами горы одежды, пробуют на вкус и выплевывают крашеный пластик, повизгивают и срут на лейблы знаменитых фирм, обращают в хлев всю эту фальшивую ярмарку, тяжелый дух возносится к небу и плывет над Мариапочем и Сабольч-Сатмаром, смешиваясь с колокольным звоном, древесным дымом, мычанием коров и сухим ветром, и так должно быть всегда, на веки веков аминь.
Два дня назад был День поминовения усопших. Я, как обычно, купил несколько лампадок и поехал на кладбища. Дул южный ветер, и зажечь огонь было трудно. Но потом, прикрытые жестяными крышечками, лампадки горели хорошо. Иногда я обнаруживал уже зажженные. Меня всегда занимало, кто в этой пустыне ставит лампадки боснийцам? Или хорватам? Или венграм? Konigliche Ungarische Landsturm Huzarem Regiment,[106] по-венгерски — гонведы. Или вот тирольцы. Tiroler Kaiser Jager Regiment.[107] Там ничего нет. Туда можно поехать только специально, не по пути в другое место. В Радоцине, например, страна попросту заканчивается: дорога, по которой может проехать телега или джип, исчезает в лугах, пропадает в порыжевшей траве, размывается в илистых лужах, через два километра Словакия, но лампадки там все же горели. Четверо австрийцев из 27-го полка инфантерии и семьдесят девять русских, тоже из пехоты. Вот ведь были раньше названия — инфантерия… То есть соплячество, ребячество, щенки со штыками, резня младенцев, большинство из них понятия не имели, где и зачем оказались. Приходилось довольствоваться образами императора — одного или другого. Они, вероятно, и довольствовались. За неимением другого выхода. Четверо австрийцев. То есть они могли быть словенцами или словаками, или венграми, или румынами, украинцами, поляками. Весьма космополитическое место. Они лежат, глядя на долину Вислока, на Дубовый Верх и пограничный перевал. Так что я зажигаю им лампадку и ставлю рядом с той, что уже горит. Деревья голые, но светит солнце, и так пусто и безлюдно, словно здесь никогда ничего не происходило. Все лежит в земле. Металлические пуговицы, пряжки и кости. То же на Долгом. Только там они покоятся на совершенно голом месте. Ни деревца, ни кустика, и огонек приходится заслонять полой куртки, пока не разгорится как следует. Снова инфантерия и фельдегери. Сорок пять императорских подданных и двести семь русских. А вот в Чарном тихо. Сначала положили их, затем посадили деревья, теперь тут тень и покой. Летом царит полумрак. Буки соприкасаются кронами, образуя что-то вроде залы или, кто знает, даже часовни или храма. А они лежат себе внутри. Двести семь австрийцев и триста семьдесят два русских. С русскими — та же история, что и с австрийцами. Половина из них — украинцы, поляки, киргизы, финны и кто еще там — достаточно взглянуть на карту. Тут почти не дует, так что лампадки я зажигаю без труда и ставлю на каменный постаменте немецкой надписью. Под землей лежат останки жителей доброй половины Европы и частично Азии. Удивительно представлять себе, скажем, Адриатику, пальмы, кампанилы в Пиране, гуцульские шалаши в Черной Горе, финскую тундру, степи, Запорожье, крымских татар, виноградники Токая, венский и прешовский декаданс, азиатские пески, донских казаков, готику Семиградья, юрты, верблюдов и все прочее — как оно лежит здесь, на глубине полутора метров, вплотную друг к другу, вперемешку, просачивается вглубь, соединяется с песком, камнями, глиной, корнями деревьев, что уже более семидесяти лет питаются телами эстонцев и хорватов здесь, на краю света, куда практически никто не заглядывает. Так что я зажигаю лампадки, стою и смотрю, и отправляю культ мертвых, потому что все важное совершается лишь в прошлом. Так уж повелось в этих краях. Будущее не существует, пока не минует. Холодный ноябрьский свет ложится на лес, дорогу и луга, и все такое яркое и твердое, словно бы вечное. Они пришли сюда, чтобы умереть вдали от дома. В пятистах, семистах, тысяче километров от него. Европейский навоз. Ни имени, ни возраста. Абсолютное небытие и общность. Я люблю приходить сюда и ступать по ним. Ощущаю все это под ногами, эти сочащиеся сквозь грунт подземные ручейки. Дожди вымывают минералы из костей, и вода несет их в глубь долин, в бассейны потоков и поймы, и еще дальше, и наконец они возвращаются туда, откуда прибыли, ведь смерть их была безгрешна и они не обречены блуждать, точно проклятые. Они входят в свои дома, часы начинают отмерять минуты, и все остается по-прежнему. Время просто затаило дыхание, и снова на дворе 1914 год. Поскольку один раз они уже умерли, не будет войны, развития событий, сжатая пружина истории проржавеет и лопнет. Так я фантазирую в ноябре, прогуливаясь в полутора метрах над их телами. Представляю места, из которых они родом, — кое-где я наверняка побывал. Получается замкнутый круг и что-то вроде обряда. Иные из них, вот как в Бескидах, в сильный дождь могут сразу стечь на другую сторону Карпат, а потом по речкам Каменец, Топла, Латорица, Ондава — в Бодрог, по Бодрогу в Тису и по Тисе — в Дунай. Для многих этот путь ближе, чем для тех, кому приходится плыть по Висле и морям. Бескидек — карпатский водораздел и, когда случится хороший ливень, воды справедливо разделяются пополам, текут на север и на юг, забирая солдат с собой. Сто шестьдесят восемь австрийцев и сто тридцать пять русских, все пехотинцы. Сколько плыть, скажем, до Тисалёка, если ты — атом, крошка извести или фосфора?
Навестив военные кладбища, я возвращаюсь и рассматриваю старые венгерские фотографии, чтобы ощутить своего рода траур и связь с умершими. Не знаю, почему, но венгерские фото лучше всего отражают жизнь покойных. В 1919 году Рудольф Балог[108] сделал пять снимков. На них только фрагмент стены, виселица и пять фигур. У четырех солдат, приводящих приговор в исполнение, начищенные до блеска сапоги. Солнечный свет отражается в них, точно в зеркале. Приговоренный очень спокоен. На юном лице не заметно ни отчаяния, ни страха. Оно скорее печально и серьезно. Рукава формы велики. Столб виселицы сделан из старой разбитой балки. На ней видны следы топора. Похоже на конек крыши, кусок ветхого дома. Наверное, казнь продолжалась невыносимо долго, потому что на первой фотографии, рядом с парнем, одиноко стоящим у столба и подобия деревянной лесенки в три ступеньки, — тень стены. На следующем снимке, где приговоренному накидывают на шею петлю, он стоит уже в лучах яркого солнца. Однако по-прежнему не кажется ни отчаявшимся, ни испуганным. Парень поднялся на три ступеньки вверх, но поза его, в сущности, не изменилась: руки спокойно свисают вдоль туловища, и голова чуть наклонена. Таким он остается до самого конца. Лишь в тот момент, когда двое солдат вышибут у него из-под ног подставку, правая рука взметнется вверх. Затем тело приговоренного снова примет прежнее спокойное положение и снова будет заметно, что рукава формы ему велики. А те, что приводят приговор в исполнение, постоянно движутся. Словно надеются выскользнуть из этого места, окруженного стеной, удрать в своих сверкающих сапогах. Прохаживаются строевым шагом, останавливаются, широко расставив ноги, топорщат усы, а когда все кончено, опускают глаза. Их тени на голой вытоптанной земле вокруг виселицы образуют сложный хаотический рисунок. В подписи к фотографии нет точной даты и места. Просто 1919 год и в просвете над стеной ветка дерева с листьями — значит, это промежуток с апреля по октябрь, то есть Венгерская Советская республика и Бела Кун[109] с воззванием «Ко всем!»: «…Рабочие не желают больше стонать под гнетом крупных капиталистов и помещиков. Лишь социализм и коммунизм способны спасти страну от анархии». В апреле с востока входят румыны, а с севера — чехи. Румыны берут Сольнок, а затем вынуждены взять Абонь, потому что другой дороги на Будапешт нет. Слепой скрипач Кертеса, двумя годами моложе, наверняка их слышит. По вечерам они, должно быть, остановились на постой в какой-нибудь деревне и жгут костры под открытым небом. Наверняка пьют и поют, ведь забавы у солдат испокон века одни и те же. Они печальны и шумливы. Два года назад они шли туда в венгерских мундирах, чтобы умереть в Оженной, теперь идут в румынских, чтобы 3 августа взять Будапешт. Во всяком случае, те, из Семиградья. Они явно воюют с собственной страной, а потому и пьют больше, и поют громче, чтобы заглушить шум и хаос времен и собственных сердец, ведь трудно в одно мгновение превратиться из венгерского румына в румына румынского и возненавидеть то, за что проливал кровь пару лет назад. Во всяком случае, скрипач наверняка их слышит и его ухо невольно впитывает и запоминает мелодии, и кто знает, что за музыка раздавалась тем воскресным утром под окном Кертеса. Быть может, карпатская мелодия, может, дойна, румынский блюз неграмотных пастухов, а может, вербункош, знакомый всем венгерским рекрутам, стало быть, и этому приговоренному тоже.
Такого рода мысли одолевали меня в день поминовения усопших. Снега все нет. На голых деревьях обнажились покинутые птичьи гнезда. Кривые черные шары из веток. Лучи света не знают жалости. Тонкие тени вещей напоминают скелеты. День угасает в четыре. Солнце прячется за горой. Оставшийся путь оно совершает, скрывшись от людских глаз. Странное дело: оно исчезает там, где, по моим понятиям, находятся юг, Конечная и все, что расположено дальше, по ту сторону Карпат. Здесь уже вечер, а там мир еще только догорает в золотисто-красном сиянии. Обугливается Бардейов, догорают Спиш, Рудогорье и Матра, и Большая Венгерская низменность, и городок Мезёкёвешд, где находится музей сельскохозяйственных машин и где я останавливался дважды: раз в поисках банкомата и еще один — купить еду и выпивку. Небось салями и вино и еще что-нибудь, и в тот вечер я спал где-то в Баконском лесу, а на следующий день, вернее, ночь, меня занесло аж в Анкаран в кемпинг на берегу Адриатики, и сильно за полночь мне пришлось забивать колышки в каменистую землю, и дело никак не ладилось, так что я улегся в осевшей палатке. А утром увидел, что среди высоких сосен отдыхающие, из тех, кто приехал всерьез и надолго, устроили деревню. Большие многоместные палатки, кемпинговые прицепы, зонты, полотняные беседки, кухни и столовые под открытым небом образовали что-то вроде деревенских хозяйств. Кое-где имелись даже заборы из веревок и полотнищ полиэтилена. Из пластика, ламината, жести, болоньи лепились беспорядочные дворы, хуторы, плетни, и не хватало только праздно шатающегося скота, каких-нибудь временных, каникулярных свиней, отпускных коров, рекреационных баранов и коз. Да, город приехал поиграть в деревню, заняться психоанализом и вернуться к истокам. Курортная мишура, золотые сандалии, просторные портки с пальмами и попугаями, затейливые очки, ароматы кремов и масел, загорелые сиськи и полуголые задницы — все это составляло кособокую деревушку, с ее семейственностью, заглядыванием друг другу в кастрюльки, болтовней через забор, вынужденной близостью, старательно разделенной на свое и чужое. Бадминтон, футбол, загорание, кремы от солнца, гриль, прогулки, занятия, убивающие время и скуку, напоминали в сущности сельские, хозяйственные заботы. Любляна и Марибор отдыхали, воспроизводя жизнь предков в версии софт.
Стоит ноябрь, и я припоминаю мысли и места полуторагодичной давности. Описываю прошлое и пространство за неимением другого. Вечный день поминовения. Надгробия фактов. Наша жизнь длится дольше, чем жизнь событий. Это все, что у нас есть. Оттуда, из этого кемпинга, я поехал в Триест, но это было уже не столь важно. Триест — совсем другое. Мне следовало отправиться тогда на юго-восток. Через все Балканы, вдоль побережья, затем через Цетине и Подгорицу добраться до Албании, въехать через пограничный пункт в деревне Хани-и-Хоти, миновать Шкодер и остановиться только в Милоте, потому что в свое время я провел там всего час и почти ничего не запомнил: невысокие дома, запруженная народом дорога, конные упряжки — кажется, был базарный день — старухи в белых шароварах сидели на лавках перед каменными хатами, вот и все. Разве что еще дворик перед одноэтажным домом, несколько столиков под деревьями и вытоптанная земля, где можно выпить раки и кофе и куда зашла тридцатилетняя большегрудая женщина в ярко-красном костюме, стянутая в талии широким черным поясом, увешанная позолоченной бижутерией, в ультрамариновом облаке крашеных волос, на высоких каблуках, в облегающих красных брюках, с блестящей сумкой на плече. Это было в Милоте, среди телег и женщин в белых шароварах, там, где начинается албанский север и еще живы старые времена с их «прежде, чем входить в чужой дом, надо покричать из-за забора» и одновременно «хлеб, соль и сердце, огонь в очаге и постель ждут гостя в любую пору дня и ночи». Женщина в красном очень громко с кем-то разговаривала и махала руками. В посеревшем от жары и пыли переулке она напоминала пламя, от которого все займется, сгорит и никогда уже не будет прежним.
А потом была деревня Рет-Баз, и в доме Кемаля Цакони я впервые в жизни запивал раков простоквашей. Мы сидели за низким столиком, босиком. На стене висел коврик с видом Мекки. Мы ели виноград. Женщины подавали еду и возвращались на кухню или стояли на пороге. Мы поднимали тосты за удачу, счастье и здоровье. Кемаль с гордостью представил нам сына. Парень был худосочный и робкий. Работал в Германии. Он сразу ушел. Кемаль разговаривал с Илиетом, и они вспоминали прежние времена, когда Илиет учительствовал в этих краях. Он жил в одиноком доме у самого кладбища и боялся привидений. Я пытался вообразить судьбу призраков в государстве Энвера Ходжи, который 29 апреля 1967 года провозгласил Албанию первым в мире атеистическим государством. Идея почти столь же диковинная, как вид могилы Чаушеску, которую я посетил год спустя на кладбище Генча в Бухаресте. Высота надгробия, увенчанного белым крестом, едва превышала метр. Там, где человек ожидал увидеть голову Христа в терновом венце, сияла красная пятиконечная звезда. От потрясения мне захотелось курить. Вокруг была ограда из железных прутьев. Даже после смерти параноик-сапожник погряз в безумии. Крест и коммунистическая звезда должны были светить ему за могильной чертой. Он и при жизни трясся от страха, и теперь обливался холодным потом. Поэтому на всякий случай ему выдали на дорожку и то, и другое. Что-нибудь да пригодится. Похоже, он не знал наверняка, кто заправляет на том свете. Хотя, скорее всего, он разлагался за этой железной оградой, целиком и полностью, разлагался вместе со своей душой. Там виднелись капли стеарина, остатки догоревших свечек. Кто-то приходил сюда, чтобы отправить убогий культ. Как знать, возможно, тайные посланники английской королевы? В конце концов, это она возила его по Лондону в собственной тачке и пригласила в Букингемский дворец. Загадочны западные люди, загадочны их чувства. Во всяком случае, я думал, что это отличное наказание — лежать вот так, на обычном кладбище, лишь слегка присыпанным землей, без всякого мрамора, в каких-нибудь двух километрах от «Дома народа», этой пирамиды, выстроенной в угоду вкусам сапожника, махины двести метров с гаком на двести. Чтобы подойти к ней, даже по прямой, надо четверть километра топать по выжженному голому пустырю. Мне было неохота, и я удовлетворился видом издали. Предпочел взглянуть на его могилу, это интереснее. У входа на кладбище нас остановил охранник. Двухметровый, похожий на смуглого Рембо, в военной форме с десятками карманов, с рацией, он спросил, покоится ли тут кто-то из наших близких. Ролан ответил ему по-румынски, что да, разумеется, родственники. Выходит, они все-таки боялись и следили. Чтобы однажды лунной ночью он не вылез, не пересек аллейку и не откопал Елену. Потому что они лежали отдельно. Их разделяли какие-нибудь двадцать метров. Ей повезло значительно меньше. Только железная ограда да железный крест, покрытый черной антикоррозийной краской. Внутри голая сухая земля. Кто-то повтыкал какие-то растения, но они не принялись. Вообще-то кладбище было зеленое, только у этих двоих ничего не росло. Словно они выделяли какой-то яд, отравляющий корни. Повсюду вокруг что-то лезло из земли — сорняки, кусты, папоротник, молодые деревца, а тут пусто. Вторая половина августа, а у них пяток чахлых побегов, как в начале апреля, словно ритмы вегетации на них не распространялись, словно могилы чем-то поливали — дефолиантами, кислотой, «рендапом». Мне кажется, это их тела источали некую субстанцию, лишенные голоса, взгляда и движения, они пытались вступить в контакт с помощью тления, своих трупных соков. А потом я увидел еще одно его надгробие. Из коричневого мрамора, оно стояло спиной к тому, с красной звездой. Гораздо выше его, увенчанное крестом, с кладбищенской фаянсовой фотографией, на которой сапожник был запечатлен в костюме, белой рубашке и при галстуке. На цоколе была надпись: «Olacrima ре mormitul tau din partea poporlui rоmаn», то есть примерно следующее: «Слеза румынского народа на этой могиле». Ни больше ни меньше. А раньше, видимо, румынский народ развлекался напропалую и животики надрывал со смеху. И словно этого было мало, там стоял еще один крест. Такой же, как у супруги. Черный, железный. Его просто вкопали в землю рядом с мраморным надгробием. Вышла какая-то мрачная пародия на Голгофу. В каменном горшке, притворившемся урной, торчал засохший стебель. Закопченное основание надгробия было испачкано желтым стеарином, валялись выгоревшие лампадки, печаль временности и дешевая имитация вечного покоя. Неподалеку на плите белокаменного склепа стоял и смотрел черный пес. Наверное, тоже следил, чтобы тот не вылез. На выходе к нам подошел охранник и сказал: «Я так и знал, что вы к нему».
Сегодня снова приезжали возчики. Как вчера и позавчера. Монотонно, неспешно, в тумане. На белой дороге остается конский навоз. Теперь их только двое. Грузные, массивные, сильно за сорок. И два бурых коня. В пол-третьего они начинают подниматься по долине. В пол-четвертого темнеет, к этому времени они уже дома. Распрягают лошадей, ставят их, поют и кормят. Слышно, как бренчит привязь, ударяясь о жестяное ведро. Кони переступают с ноги на ногу, грохочет настил в конюшне. Темно и тепло. Пахнет навозом и сеном. На ржавых гвоздях висят сбруи.
Несколько дней назад я был в Мезёкёвешде. Дождь начинался и тут же замирал. Все блестело, как стекло. Воскресным утром в брезентовых будках на площади шла торговля. Скользили люди с хозяйственными сумками. Печальные праздничные декорации оледенели. Банкомат находился на улице короля Матиаша, того, с бледно-голубой тысячи форинтов. Я выехал на автостраду. Три одинокие машины казались автомобильными духами в этом тумане и густеющей мороси. Я ехал к Мишкольцу. Да, все сверкало. Голубые тополя, желтая трава, синие таблички указателей. Боже, до чего же пуст и прост был этот пейзаж. Ничего, кроме плоскости и редких гребешков голых деревьев на горизонте. И мне казалось, что от этой морозной глазури звенит весь воздух. Где-то возле Эмёда были повороты на Дебречин и Ниредьхаза. Серые блестящие ленты Мебиуса исчезали в небытии Большой Венгерской низменности и с трудом верилось, что там стоят все эти города, городишки и деревни с их домами, печным дымом, жизнью и всем прочим. Кажется, в окрестностях Эмёда в начале декабря я пережил очередное явление бесконечности. Но продолжалось это недолго, потому что мне сразу вспомнился Эстерхази с его «Возчиками». «Приехали! Возчики приехали! Их вопли разрывают рассвет — рваный, серый, невзрачный, — тишина хрупка и пуста. … Вожжи болтались свободно, ледяная крошка звенела под коваными колесами».
Ах, я всегда хотел написать что-нибудь о «Возчиках», только искал повода. Двадцать пять страниц текста. Расступается мокрый, глухой воздух, и они словно появляются из сна, который снится кому-то, кто сильнее нас — явившиеся на землю посланцы-искусители. Неотличимые от своих грузных животных, горячие и неповоротливые туши.
«Широколицые, почти все бородатые, но не сказать чтобы неприветливые, отнюдь нет! Издали слышно, как они пересмеиваются на телегах, — коротко и беззвучно. Они понимают друг друга, я это вижу. У них исполинские ляжки, и брюки любой ширины им тесны».[110] Да, я видел их где-то под Эмёдом, на голой равнине воскресным утром, в декабре, когда погода уклонялась от времени. Мир был таким скользким, что даже воздуху не удавалось к нему прильнуть. Они проезжали здесь, скажем, сто лет назад, в то же время года, когда болотистые грунтовые дороги наконец промерзают и заканчивается осень. Одно и то же на протяжении столетий. Скажем, соль из далеких стран и вино из Эгера, что перевозят на юг, на другой берег Тисы, например в Темешвар, и все точно в каком-то историческом авантюрном романе или фильме, когда из-за плоского горизонта выныривают упряжки, потом крупный план, музыка затихает, и слышны только громыхание, дребезжание кованых колес, скрип и всхрапывание коней. Те, что шагают по земле, всегда нарушают ее покой и склоняют к злу, ибо возбуждают страх и тоску. Они пройдут — и ничто больше не будет прежним. Горизонт лопается раз и навсегда и никогда не сомкнется вновь.
К счастью, автострада заканчивалась, на шоссе стало тесно, и размышления пришлось отложить на потом. Безумный венгр в пригородах Мишкольца обгонял на «зафире» по три машины за раз. Немного потеплело. С деревьев осыпался лед. На другом конце города, на выездном шоссе, я видел большие стада машин у супермаркетов. Их крыши напоминали хребты холодной скотины на бетонных пастбищах. После Энча снова сделалось пусто. За границу никто не стремился. Я немного спешил, но меня, как всегда, манил Гёнц, и я сделал крюк в несколько километров. В кондитерской заправлял пожилой мужчина. Женщина с маленьким мальчиком купила капуччино на вынос в пенополистироловых стаканчиках. Они пересекли улицу Кошут и подошли к автобусной остановке. Там ждал мужчина с маленькой серебристой магнитолой и двумя набитыми полиэтиленовыми пакетами. Он был невысок, курил и прятал сигарету в ладони от больших хлопьев мокрого снега. Куда они ехали с этим музыкальным агрегатом и ребенком? С этими потертыми, не раз использованными пакетами? Вид у них был бедный и печальный. Маленькая семья в пути за две недели до Рождества. Мать и сын пили молча, мелкими быстрыми глотками, словно торопились успеть до прихода автобуса, но тот все не появлялся. Автобус в Телкибаня, Палхазу, в Шаторальяхелей, на другую сторону Земплина. Снег валил все гуще. Друг с другом они не разговаривали. Напоминали безработных. Об этом говорили их лица, жесты, знакомые мне по родным краям. Время, его центральное русло, попросту их обходило. Они были словно бы выброшены на берег, отданы на откуп собственной судьбе, переставшей сплетаться с другими. Проснешься однажды, а мир совсем иной, хоть ничуть не изменился. Так я размышлял в Гёнце. Может, они вовсе не были безработными, может, мне пришлось это выдумать как предлог, чтобы не уезжать порожняком. Безработные, как и возчики, нужны, чтобы придать смысл возвращению домой.
На этот раз я возвращался с острова Ирес, шестьдесят восемь километров в длину и три тысячи жителей. Плыть туда двадцать минут на пароме от Брестовы. Кроме нас были только два грузовика и старый «мерседес». До того как мы пристали в Порожине, водитель «мерседеса» успел опрокинуть в баре две рюмки бренди. С палубы остров Црес казался опустевшим. Паром шумел и вонял нефтью. Бармен, видимо, тоже прикладывался. Пятнадцать рейсов за день — не шутки. В тот день небо было слегка облачным, и пейзаж сделался тяжелым. Все было гармонично, один к одному. И этот разбитый паром, и бармен, и выпивающий водитель, и выразительные воды темного залива, и пустота пристани, и низкое небо, и медленные сонные движения матросов, и декабрьский свет, и все прочее. Все просто жило собственной жизнью. Остров в центре действительно был пустым. Шоссе растянулось из конца в конец, точно позвоночник. Белые безлесья, карликовые заросли и ветер. Такая картина. Где-то по дороге я видел стадо овец. Они стояли так неподвижно, что были едва различимы на фоне скал. По цвету сливались с камнями. Никто их не пас. На карте остров Црес напоминает старую изгрызенную кость. Зима срывает с него все, и порывы морского ветра заполняют мельчайшие щели. Так было в деревне Любенице на верхушке трехсотметровой кручи. Я никогда не видел более голого человеческого селения. Десяток домов серого камня и редкие фиговые деревья, ничем не защищенные. Ветер обдувал их со всех сторон, со всех сторон открывалась беспредельность воздуха. Есть такие места, где возникает ощущение, что это конец, что отсюда можно только возвращаться, потому что реальность сказала свое последнее слово. Мне пришло в голову, что эти дома такие серые именно от ветра, что ветер стирает со стен краску, что цвета могут удержаться, лишь укрывшись внутри. Если Црес — остров, то Любенице — остров в квадрате, потому что деревня отделена от земли и водой, и воздухом. Сразу за стеной спальни начинается пропасть. За кухонным окном морские птицы взмывали на воздушных потоках. Такая здесь жизнь. На кладбище половина покойников носила фамилию Мускардин. Кладбище находилось на краю скальной полки. Гробовщикам, должно быть, приходилось нелегко. Могилу приходилось выдалбливать. Все вместе напоминало чистилище. Чтобы сюда вскарабкаться, требовался какой-то важный повод. Быть может, проклятие, а может, страх. Во всяком случае, когда появилась возможность вернуться, у них, вероятно, не хватило сил.
Чтобы попасть сюда, я съехал с шоссе в чистое поле. На карте была помечена дорога, но в реальности она напоминала пересохшее русло или разбитую лестницу в бесконечность. Десять с небольшим километров на первой скорости. Вокруг только белые осыпи. Они тянулись до самого неба, переламывались и обрушивались где-то по ту сторону. Наверху кружили большие птицы, высматривая какую-нибудь живность. Но для нас, людей, все там было мертво, холодно и дочиста выметено ветром. Кто-то перегородил это место, стоявшее на юру, каменными стенами. Они поднимались до горизонта и выкраивали из пустоши прямоугольные лоскутки. Я думал, что причина в параноически скрупулезном разделе имущества, но позже мне объяснили, что этот лабиринт каменных ограждений удерживает размываемую дождем почву. Порой дорога сужалась настолько, что мне приходилось складывать боковые зеркала. На этих заботливо огражденных полосках лежали только камни. Там не было никакой земли. Из скал торчали какие-то прутики. Я миновал дом с провалившейся крышей, потом еще один, такой же разрушенный, и снова пусто. Я представлял себе лето, раскаленную белизну и греющихся ящериц. Насколько хватало глаз, не было ничего, что давало бы тень. А потом высоко в скалах показались Любенице. К ним можно было подобраться по узкой асфальтовой ленточке с другой стороны, с моря, от местности Валун, но это было бы слишком просто и не открыло всю правду об острове Црес, о его пустеющей утробе, над которой кружат в поисках корма птицы.
Порой я воображаю карту, на которой обозначены только те места, куда мне хотелось бы вернуться. Такая несерьезная карта. На ней, по сути, ничего и нет: мокрый снег в Гёнце, Зборов с разрушенным храмом, Караорман с его пустынным песком и ржавеющими машинами, которыми собирались добывать золото из дунайских вод, жара в Эринде, Спишска-Бела и тонущий в полумраке продмаг, рассвет и вонь кошачьей мочи в Пиране, вечернее Решинари с запахом пряничной мануфактуры, кабаны близ Орадеи, свиньи в Матесальке, Делатынь с ее железнодорожным вокзалом, погруженным в утреннюю серость, Дулембка, Розпутье и Яблонна Лацка, Хуси и Соколов, и вот теперь еще эти Любенице. Я закрываю глаза и проектирую дороги, железнодорожные ветки, расстояния и пейзажи между пустошами, между одной бренностью и другой, и пытаюсь выстроить какую-нибудь географию, которая вынесет все это на своем плоском хребте, чтобы оно стало хоть немного прочнее, хоть немного более бессмертным.
Пару дней назад я ехал в Краков из Стружи скорым кошицким поездом 10:11. На полях еще виднелся снег. Отовсюду проступала серость, вылезала чернота. Боже мой, печаль привокзальных складов, проволочные заборы, гирлянды позабытых праздничных фонариков, горящих в сизом январском свете, голые деревья в садиках, кучи рухляди, металлолом, куски балок, битый кирпич, и все подчинено угловатой геометрии, какой-то сверхъестественной точности, внезапно обнажившей скелет мира. Бобово, Ченжковице, Тухов, Плесьна — словно язык мороза до костей вылизал человеческий пейзаж, оставив лишь самое важное, то, что убрать уже невозможно, ибо тогда наступит небытие. Дело близилось к полудню, но в окнах некоторых домиков у самых путей я видел желтоватый свет лампочек. Дворики были болезненно аккуратными. Все сложено, упорядочено и убрано, словно для какого-то парада мертвечины. Из-за этого снега, тонким слоем очерчивающего четкий контур каждой вещи, нищета повседневности, вся эта героика выживания, отчаяние распада обретали форму почти идеальную. Дело близилось к полудню, но людей не видно. Им незачем было выходить. Пейзаж стремился к абстракции, так что они предпочитали сидеть по домам. Я открывал окно, чтобы ощутить, как воздух пахнет угольным дымом, и тогда представлял раскаленные кухонные плиты, звяканье конфорок, ловкие движения кочерги, те мгновения, когда пламя выбивается из-под чугунных кружков, воздух наполняется черным ароматом, а кухня — красными отсветами. Сколько было этих домов вдоль путей? Сотни, тысячи, и повсюду одно и то же, серая четкость, печальный порядок, обреченный на борьбу с хаосом мира.
Вагон был словацкий. С диванами из красного кожзама. Прежде чем я в него сел, он проехал Прешов, Сабинов и Липаны. Там было то же самое. Дома стояли чуть теснее и были больше похожи друг на друга, но остальное совпадало, совпадала эта на мгновение остановившаяся временность, эта нечеткость судьбы, эта жизнь-импровизация. Что же было в Сабинове два или три года назад ранней весной? Четырехскатный готический шлем и часы на колокольне и рядом желтое здание в ренессансном стиле, спереди закопченное и с решетками на окнах, потом остатки крепостных стен, лужи с осколком серого неба и несколько кур, ищущих сухой клочок земли, чтобы покопаться. Сабинов. Наверное, я попал туда случайно. Вероятно, прокладывал новый путь к пограничью Спиша и Шариша. Может, срезал путь с шоссе номер 18, в очередной раз надеясь, что рано или поздно мне удастся выбраться на другую сторону пейзажа, что, видя все то, что вижу, я замечу нечто во стократ большее, некий сверхпейзаж, который чудесным образом объединит крохи и обрывки, все Липаны и Сабиновы, а они раз и навсегда обретут в нем свое место, вместе со своими курами, грязью, угольными печками, дымом, аккуратным отчаянием двориков, ожиданием, и станут в два, в тысячу раз больше, и уже никогда-никогда не придется им ломать голову над своим случайным, временным бытием. В который раз обдумывая все это, я буду ездить до своей гребаной гробовой доски. Все к тому идет.
В Петркове параллельно выездной автостраде в Кельце и Радом проходят пути узкоколейки. По ней уже давно ничего не ездит. Две ржавые нитки то уходят в песок, то снова показываются справа от шоссе. Мой «Национальный атлас Польши» гласит, что линия была проложена в 1904 году, а в 1971-м еще действовала. Стояла суббота, февраль, светило солнце, и я глаз не мог отвести от всех этих карликовых железнодорожных останков. В Ущине даже вокзальчик сохранился. Красное кирпичное здание строилось с мыслью о готике, но напоминало постройку из старых детских кубиков. В наивной декоративности вокзала было что-то мультипликационное. Впрочем, все тут казалось каким-то по-детски маленьким. Дома по обе стороны шоссе состояли главным образом из фасадов. Именно в Ущине, в Пржиглове и в пригородах Сулева. И на этих фасадах без возраста и стиля порой обнаруживалась какая-нибудь лепнина, круглое окошечко, пилястр, что-то выходящее за рамки простой функциональности, попросту желание сделать не так, как обычно, и чуть лучше, чем в повседневной жизни. И казалось, за этими стенами ничего нет, это конец, там гуляет ветер, живет домашняя птица и у собак есть свои будки, потому что все силы были потрачены на убогонькие фронтоны, на последнюю защиту от света и форму, едва отличимую от бесформенной материи. И вместо того, чтобы смотреть на аббатство цистерсов двенадцатого века, меня понесло к сулевским плетням, под которыми стояли огромные голубые лужи, на какие-то почти отмершие площади, дворики и балконы, где слоями нарастало старье, съеденные погодой буфеты и прочие бренные останки людского времени. На тонкой колонне сидел, словно Симеон Столпник, местный ангел. Он походил на дома, которые стерег. Сделанному из того же материала, ему суждено было остаться с ними до конца. Богоматерь рядом с храмом на холме защищал хотя бы навес из металлических рам и плексигласа. У ангела не было ничего, кроме открытого неба. Чуть дальше стоял мусорный контейнер. В тридцати километрах на юг расположена деревня, название которой означает «На отшибе». Мне следовало поехать туда и там остаться. В тот день небо над равниной было холодное и ясное. По дороге мне встретились бы три-четыре убогих автомобиля.
Да, мне следует отправиться в эту деревню на отшибе и там остаться. Есть такое место в нашей стране, но мне пришлось ехать дальше, чтобы до темноты поспеть в Солец. Так я планировал. Я ни разу там не был. Видел однажды фотографию. На ней был изображен кинотеатр. Вход зарастал травой. В витрине висели какие-то лохмотья. Небо было в тучах. На заднем плане стояла деревянная деревенская халупа. Кинотеатр назывался просто «Кинотеатр». Так гласила надпись на фронтоне. Рядом росла верба. Кино давно не крутили, и не было ни души. Внутри в темноте гнили кресла. Я пытался представить пейзаж вокруг кинотеатра. Бывают фотографии и места, которые не дают покоя, хотя на них ничего нет. Этот кинотеатр на снимке был словно воспоминание о временах, когда вещам хватало простейших названий. Фронтон поднимался плавной дугой, в самый раз, чтобы на нем уместились простые буквы. Одиночество и заброшенность носились в кадре, точно холодный ветер. Поэтому именно туда я ехал в середине февраля — остатки снега на Полях и это пронзительное чувство, что где-то между Сулевом, Солецом и деревней «на отшибе» время словно бы замерло или вовсе испарилось, как воздух или сон, и перестало отделять нас от самого далекого детства. Может, даже от того, что было еще раньше. Потому я и отправился туда, в эту бренность материи, в преходящесть вещей. С шоссе номер 777 я свернул направо, и началось пустое пространство, и земля слегка приподнялась, вроде равнина, но едешь в гору, все ближе к небу, но словно во влажном сне, когда никак не удается достичь цели или сбежать. Таков был мой путь к этому Солецу: через пейзаж, желающий оставить тебя в дураках, и в результате созерцания черно-белой фотографии.
Солец напоминал Соколов Подляский тридцатилетней давности и Хуси восемь месяцев назад. Солец напоминал очередного кандидата в столицы моей части континента. Я не хотел останавливаться, не хотел выходить, потому что боялся, как бы все это не исчезло — таким оно было непрочным, таким хрупким и, по сути, невзаправдашним. За храмом на холме все уже заканчивалось, и я тоже повернул. Лошади ходили без привязи посреди этой деревни. У них была длинная спутанная зимняя шерсть. Я подумал, что приеду сюда перед смертью, приеду, когда мне уже расхочется жить. Тут никто не заметит, что я обессилел.
Ночами стану просиживать в кинотеатре и смотреть призраки фильмов всех минувших лет. Хорошая смерть должна немного напоминать жизнь. Быть как сон или фильм. Так обстоят дела в этой части континента, где реальность похожа на загробный мир. Наверное, затем, чтобы люди меньше боялись смерти и умирали с меньшими сожалениями.
Я остановился лишь у кинотеатра. Выглядел он так же, как на фотографии. Существуя и не существуя одновременно. Не до конца умерший и уже не совсем живой. Словно материя подражала миру духов. Возможно, он был даже более мертв, чем на фотографии. Опускался вечер, и в воздухе пахло заморозками. Я мог представить, как в его темном нутре мороз сковывает прозрачные картины из старых фильмов. Да, есть такие места, где тебя охватывает уверенность, будто за ними стоит нечто, будто они что-то заслоняют, что-то скрывают, но мы беспомощны, слишком глупы, слишком трусливы, а может, недостаточно стары, чтобы знать, как перебраться на ту сторону. Я стоял там, как идиот, мерз и воображал, как открываются покосившиеся двустворчатые двери, я вхожу, а дальше — искомый тоннель, в конце которого свет, а там просто-напросто начинается деревня, название которой переводится как «на отшибе», Солец, Сулев, Хуси, Любенице, и проходит железная дорога от Стружи до Тарнова, и едут красные вагоны из Кошице, и там есть все, что уже было, но более прочно, несокрушимо и бесконечно, и есть там даже та суббота пару дней назад, когда мы ехали по долине Хорнада, вновь мимо подножья воздушной цыганской деревни, но на этот раз чудеса совершались внизу, на плоском выгоне, между шоссе на высоком берегу и рекой. Была оттепель, и, наверное, вся сельская детвора высыпала на это поле. Огромная снежная крепость уступала под безжалостным натиском. Поваленные башни, искрошенные стены, защитникам уже негде было прятаться. Но кроме этой угасавшей баталии я увидел еще кое-что. По всему лугу размером с несколько футбольных полей были разбросаны огромные снежные шары. Дети катали их, пока им хватало сил, а потом бросали, чтобы приняться за новые. Некоторые достигали метра в диаметре. Их лежало там больше десятка. Казалось, они упали с неба. Это было красиво и нереально. Между ними сновали разноцветные детские фигурки в круговом неисчерпаемом движении. Не было ничего более живого во всей округе, на которую отбрасывал тень огромный металлургический завод. Я поехал туда. Из ворот выходили мужчины, человек десять. Они шли тяжелым утомленным шагом, серые, как дым, печальные, как все Кромпахи разом взятые, и трагические, как закат пролетариата. А цыганские дети преобразовывали энергию в снежные шары, которые через день-другой растопит солнце и превратит в воду, а потом в реку Хорнад, стекающую по сложной сети рукавов и бассейнов в Черное море, к которому у словацкого государства и доступа-то нет.
А потом, где-то дальше, в деревне близ Сабинова, в одном хозяйстве забивали свиней. На заборе из черной металлической сетки висели куски мяса. В этом серо-белом пейзаже оттепели мясо пламенело, словно костер. И дом, и дорога, и небо, и снующие люди, и остальная деревня с бдительно семенящими дворняжками, все, насколько глаз хватало, тонуло в буром тумане и было бесцветно, и только эти куски мяса излучали сияние жестокости. Сквозь стекло машины я чувствовал тепло красных шматов. В этой словацкой сонливости, в этой неподвижности, в этой покойной печали моих краев совершалась резня. Никто не пытался скрыть непристойность смерти. Псы и детвора глядели на взмахи ножей, на внутренности в тазах и ведрах, на кровь. Все происходило, как тысячу лет назад. Ничего не изменилось. Опускались сумерки.
На пограничном переходе в Конечной горел красный свет. Пришлось подождать несколько минут. В полумраке кто-то шевельнулся, подошел к стойке, где ставили штемпели, что-то нажал, зажегся зеленый свет, и шлагбаум поднялся. Внутри сидел только поляк. Словакам было все равно, кто покидает их страну. «Откуда возвращаетесь?» «Когда выехали?» «Через какой пункт?» Я смотрел, как паспорт проезжает через щель датчика. «Здесь и сегодня», — ответил я. У таможенников открылось окошко. «Что-то везете?» — «Все в порядке». Лица я не видел, только жест — проезжайте. У меня не было ощущения, что я откуда-то возвращаюсь. Сразу за поворотом, в деревне, опустился туман.
Примечания
1
Франкфурт-на-Одере.
(обратно)2
А. Стасюк родился в Варшаве.
(обратно)3
Адам Бодор (р. 1936) — венгерский писатель. Широкую известность принесла ему повесть «Зона Синистра» (1992).
(обратно)4
Главный герой романа «У подножия вулкана» (1947) английского писателя Малколма Лаури (1909–1957), алкоголик.
(обратно)5
Янош Хуньяди (около 1407–1456) — военный и государственный деятель Венгерского королевства.
(обратно)6
Николае Урсу (1735–1785) — один из руководителей Трансильванского крестьянского восстания 1784–1785 гг.
(обратно)7
Андрей Глимнка (1864–1938) — словацкий католический священник и политик.
(обратно)8
«Разработан специально для употребления в периоды психического или физического напряжения» (словацк.).
(обратно)9
Цит. по: Э. Сиоран. Искушение существованием. Пер. с фр. B.A. Никитина. М., 2003.
(обратно)10
Этот проклятый, этот прекрасный Решинари (румынск.).
(обратно)11
Бабушка (польск.).
(обратно)12
Вроцлав (польск.).
(обратно)13
Утром базар в Сучаве (румынск.).
(обратно)14
Сучава — десять долларов (румынск.).
(обратно)15
Пять долларов (румынск.).
(обратно)16
Я не еду (румынск.).
(обратно)17
Пятнадцать долларов (румынск.).
(обратно)18
Двести долларов (румынск.).
(обратно)19
Никаких проблем (англ.).
(обратно)20
Счастливого пути! (румынcк.).
(обратно)21
Суп из говяжьих потрохов (румынcк.).
(обратно)22
Дьёрдь Дожа (1475–1514) — вождь антифеодального восстания крестьян Венгерского королевства в 1514 г.
(обратно)23
Шандор Петёфи (1823–1849) — венгерский поэт.
(обратно)24
Якуб Шеля (1787–1862 или 1866) — мазовецкий крестьянин, русин, долго служил в австрийской армии, вел от имени своей деревни, в которой был старостой, длительный процесс с помещиком, возглавил восстание галицийских крестьян в 1846 году.
(обратно)25
Луддиты — участники первых стихийных выступлений рабочих (конец XVIII — начало XIX в.) против внедрения машин и капиталистической эксплуатации в Великобритании, вызванных разорением ремесленников и рабочих мануфактур в ходе промышленного переворота. Нед Лудц — легендарный подмастерье, разрушивший свой вязальный станок.
(обратно)26
Дерьмо, дерьмо (нем.).
(обратно)27
Никаких проблем (нем.).
(обратно)28
Да (венг.).
(обратно)29
Сдаются комнаты (нем., венг.).
(обратно)30
Сдаются комнаты (нем.).
(обратно)31
Сдаются комнаты (польск).
(обратно)32
Лайош Кошут(1802–1894) — юрист, политический и государственный деятель Венгрии, премьер-министр и правитель-президент Венгрии в период Венгерской революции 1848–1849 гг.
(обратно)33
Улица, площадь, кольцо (венг.).
(обратно)34
Междуморье — проект простирающегося от Черного до Балтийского моря конфедеративного государства, выдвинутый Юзефом Пилсудским после Первой мировой войны.
(обратно)35
Огонь, курить (румынск.).
(обратно)36
Бела III (1174–1196) — венгерский король из династии Арпадов. Воспитывался в Константинополе, ввел в стране и при дворе византийские нравы и обычаи.
(обратно)37
Спасибо, до свидания (нем.).
(обратно)38
«…И дам тебе венец жизни». (Откр. 2:10)
(обратно)39
Добрый день, добрый день! (румынск.).
(обратно)40
Патер хорошо? (румынск.).
(обратно)41
Не хорошо, нет (румынск.).
(обратно)42
Цит. по: Э. Сиоран. Искушение существованием. Пер. с фр. B.A. Никитина. М., 2003. С. 290.
(обратно)43
Спасибо (словенск.).
(обратно)44
Зеленый лоскуток Европы (англ.).
(обратно)45
Джузеппе Тартини (1692–1770) — итальянский скрипач, композитор, дирижер, педагог.
(обратно)46
Эдвард Коцбек (1904–1981) — словенский писатель.
(обратно)47
Приветствую в кровавой стране (англ.).
(обратно)48
Энвер Ходжа (1908–1985) — государственный и политический деятель Албании. Первый секретарь Албанской партии труда в 1941–1985 гг., председатель Совета министров Албании в 1944–1954 гг., министр иностранных дел в 1946–1953 гг.
(обратно)49
Теофан Стилиан Ноли (1882–1965) — албанский религиозный и политический деятель, епископ, основатель Албанской православной церкви, краткое время занимавший должность премьер-министра Албании в 1924 г.
(обратно)50
На следующий день [после катастрофы] (англ.).
(обратно)51
Исмаил Кадаре (р. 1936) — крупнейший албанский прозаик и поэт, получивший все мирную известность и переведённый на основные мировые языки.
(обратно)52
Скандербег, или Георг Кастриоти (1405–1468) — руководитель освободительной борьбы албанского народа против османских завоевателей, национальный герой Албании.
(обратно)53
Борец за Христа.
(обратно)54
Кожаная пастушья обувь.
(обратно)55
Тридцать (англ.).
(обратно)56
Сали Рам Бериша (р. 1944) — политический и государственный деятель Албании, президент Албании в 1992–1997 гг., премьер-министр Албании с 2005-го по настоящее время.
(обратно)57
Стефан III Великий (Штефан чел Маре, 1457–1504) — господарь, один из самых видных правителей Молдавского княжества. Правил страной в течение 47 лет.
(обратно)58
Багги (buggi, dune buggi, go-kart) — легкие кроссовые машины.
(обратно)59
Цыганский барон Молдовы (англ.).
(обратно)60
Очень-очень холодно (англ.).
(обратно)61
Создает у публики положительный образ Адвентистской церкви.
(обратно)62
Украинцы? Они не европейцы (англ.).
(обратно)63
Михай Эминеску (1850–1889) — румынский поэт, классик румынской литературы.
(обратно)64
Лучиан Блага (1895–1961) — румынский поэт и философ.
(обратно)65
Николае Йорга (1871–1940) — румынский политический деятель, историк, литературовед.
(обратно)66
Черный рынок… черный рынок (англ.).
(обратно)67
Удобно, комфортабельно, эффективно (англ.).
(обратно)68
Андре Кертес (1894–1985) — венгерский и американский фотограф. Во время Первой мировой войны служил в австро-венгерской армии, в 1925–1935 гг. жил и работал в Париже, в 1936-м переехал в Америку. Известен как основоположник сюрреализма в фотографии.
(обратно)69
Когда? Куда? Въезд, отметка (о пересечении границы) (румынск.).
(обратно)70
Здравствуйте (венг.).
(обратно)71
Семтекс — вид пластиковой взрывчатки.
(обратно)72
Варшавский аэропорт.
(обратно)73
«На таможне» (словацк.).
(обратно)74
То есть Милош Форман.
(обратно)75
Ференц II Ракоци (1676–1735) — князь Трансильвании с 1704-м и верховный князь конфедерации с 1705 г.', вождь антигабсбургской национально-освободительной войны венгров 1703–1711 гг.
(обратно)76
Английского банка (англ.).
(обратно)77
Улица, где находятся крупнейшие банки Швейцарии.
(обратно)78
Ян Амос Коменский (1592–1670) — чешский педагог-гуманист, общественный деятель, основоположник педагогики.
(обратно)79
Матьяш Хуньяди (1443–1490) — венгерский король в 1458–1490 гг., проводивший политику централизации страны, создавший постоянную армию, с помощью которой успешно боролся против Османской империи, угрожавшей независимости Венгрии. В 1468 г. начал войну против Чехии и добился передачи ему Моравии и Силезии (1478). В 1485 г. овладел Веной.
(обратно)80
Ян III Собеский (1624–1696) — польский король (с 1674 г., избран после блестящих побед над турками). В 1674–1676 гг. нанес еще ряд поражений туркам, заключил мир, оставив за Турцией часть Подолья. Мечтал об общеевропейской коалиции против Турции, вступил в союз с Австрией, в сентябре 1683 г. прославился разгромом турок, осаждавших Вену.
(обратно)81
Юрий Вега (1754–1802) — словенский математик, физик и артиллерийский офицер.
(обратно)82
Две тысячи лей, полное затмение солнца (румынск.).
(обратно)83
Михай Храбрый (1558–1601) — господарь Валахии (1593–1601). В 1595 г. разгромил турецкие войска, опустошавшие Валахию. Объединил с Валахией под своей властью Трансильванию (1599) и Молдову (1600).
(обратно)84
Нет, сигареты (румынск.).
(обратно)85
Парковочный билет (словацк.).
(обратно)86
Так себе (фр.).
(обратно)87
Действителен на две поездки (румынск.).
(обратно)88
Константин Нойку (1907–1987) — румынский философ.
(обратно)89
«Тай-цзи»(«великий предел») — категория китайской философии, выражающая идею предельного состояния бытия, антонимичная категории «у цзи» («беспредельное»).
(обратно)90
Грибной суп (венг.).
(обратно)91
Кальдераш — одна из этнических групп цыган.
(обратно)92
Константин Бранковяну (1654–1714) — господарь Валахии с 1688 г.
(обратно)93
Сохраните билеты для контроля (румынск.).
(обратно)94
Николае Бальческу (1819–1852) — румынский писатель.
(обратно)95
Михаил Когальничану (1818–1891) — румынский политический деятель и историк.
(обратно)96
Куза Водэ (1820–1873) — князь Румынского княжества в 1862–1866 гг., с 1859 г. господарь княжеств Молдова и Валахия.
(обратно)97
Влад III, также известный как Влад Цепеш и Влад Дракула (1431–1476) — господарь Валахии в 1448,1456–1462 и 1476 гг. Прозвище «Цемпеш» (румынск. «колосажатель») получил за жестокость в расправе с врагами и подданными, которых сажал на кол. Прозвище Дракула (сын дракона) получил по причине членства его отца в рыцарском ордене Дракона, созданном императором Сигизмундом в 1408 году.
(обратно)98
Мирча Старый (год рождения неизвестен — умер в 1418 г.) — господарь Валахии в 1386–1418, полководец. Участвовал в битве на Косовом Поле.
(обратно)99
Штефан чел Маре — Стефан III Великий. См. примеч. 57 на с. 128.
(обратно)100
Драгош Водэ (годы рождения и смерти неизвестны) — воевода, ставший с помощью Венгрии наместником в Молдове (около 1351–1353). В исторической литературе с именем Д. традиционно связывается основание Молдавского государства в 1359 г. при господаре Богдане I.
(обратно)101
Штефан Водэ, Штефан Великий (1457–1504) — государственный деятель и полководец, одержавший ряд блестящих побед над войсками турок и татар, «отец Молдовы».
(обратно)102
Александр Одобеску (1834–1896) — румынский писатель и фольклорист.
(обратно)103
Корнелиу Зеля Кодрямну (1899–1938) — крайне правый румынский политический деятель, создатель националистической организации «Легион Михаила Архангела», известного также как «Железная гвардия».
(обратно)104
Ингредиенты (англ.).
(обратно)105
Свобода, равенство, братство (фр.).
(обратно)106
Королевский Венгерский гонведский гусарский полк (нем.).
(обратно)107
Тирольский императорский егерский полк (нем.).
(обратно)108
Рудольф Балог (1879–1944) — знаменитый венгерский фотограф.
(обратно)109
Бела Кун (1886–1939) — деятель венгерского и международного рабочего движения.
(обратно)110
Пер. В. Середы.
(обратно)
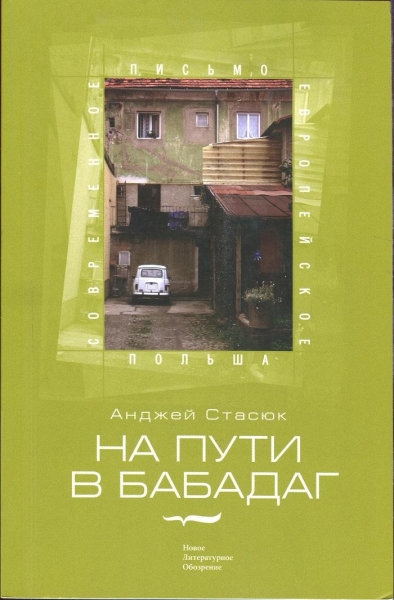

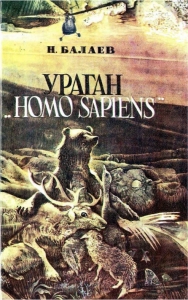
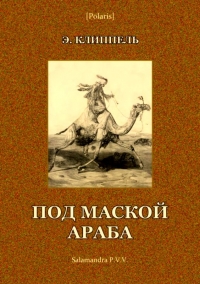

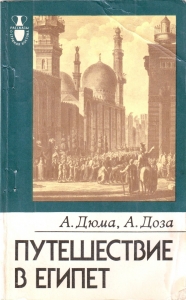
Комментарии к книге «На пути в Бабадаг», Анджей Стасюк
Всего 0 комментариев