Владимир Афанасьевич Обручев В дебрях Центральной Азии
МОЕ ЗНАКОМСТВО С КЛАДОИСКАТЕЛЕМ
В мае 1905 г. я приехал в Чугучак, небольшой китайский городок, расположенный недалеко от границы Семиреченской области. Я собирался начать изучение соседней части Джунгарии, почти неизвестной в то время в геологическом и даже в географическом отношении обширной области Китая, несмотря на ее близость к нашей границе и легкую доступность.
Через Джунгарию проходили экспедиции Пржевальского, Потанина, Певцова, Роборовского и Козлова, направлявшиеся в глубь Центральной Азии или в Тибет или возвращавшиеся оттуда на Родину. Но отважные путешественники или торопились в эти далекие края, или возвращались оттуда усталые. В том и другом случае они уделяли мало внимания этому преддверию главной области своих работ, и оно оставалось слабо изученным.
Для моей экспедиции нужно было купить верховых и вьючных лошадей, нанять переводчика и проводника, заготовить седла, сухари и другую провизию и получить от китайских властей паспорт на свободный проезд по области. Поэтому я прежде всего отправился к русскому консулу Бокову, с которым познакомился еще 10 лет назад, возвращаясь из китайской экспедиции. Он был тогда секретарем консульства в Кульдже, а теперь сделался консулом в Чугучаке, и я предварительно списался с ним об условиях работы в Джунгарии.
Боков уже ждал меня и даже нанял для экспедиции квартиру в торговом предместье Чугучака, недалеко от консульского дома. Когда я пришел к нему, он вызвал местного жителя русской колонии, татарина Мусина, для помощи в закупках и снаряжении, а относительно паспорта уже начал переговоры с китайским даотаем — начальником уезда.
— А в качестве проводника и переводчика я могу рекомендовать вам здешнего старожила Кукушкина. Он совершил уже целый ряд экспедиций по Джунгарии, побывал в Урумчи, в Турфане, в пустыне Такла-макан и на Лоб-норе. Он говорит по-монгольски и по-киргизски, немного даже по-китайски
— Это было бы великолепно! — воскликнул я. — Но такой опытный проводник, пожалуй, запросит очень дорого, а у меня средств на экспедицию не так много.
— О, нет! Он очень скромный человек и большой любитель путешествий и приключений. Мы называем его кладоискателем.
— Какие же клады он искал в пустынях и горах Азии?
— Искал и находил золото в старых рудниках, древние монеты, утварь, драгоценности в развалинах древних городов. Живет безбедно в собственном домике. Боюсь только, что он не поедет. Ему далеко за семьдесят и он уже лет семь никуда не ездил. Но попытаемся. Во всяком случае, он даст вам хорошие сведения о дорогах, интересных местностях, поможет найти проводника.
Я, конечно, согласился и спросил, где живет кладоискатель.
— Сперва я узнаю, в городе ли он, — сказал консул. — За городом он арендует заимку с садом и огородом и летом большею частью живет там.
Весь день я был занят с Мусиным закупкой лошадей, а вечером опять посетил консула.
— Завтра Кукушкин будет дома. Я предупредил его, что мы придем, — сказал мне Боков.
На следующий день мы пошли к кладоискателю. Он жил недалеко. Через калитку в довольно высокой глинобитной стене мы попали в обширный двор, затененный несколькими старыми деревьями карагача [1]. В глубине двора стоял одноэтажный домик из желтого кирпича с плоской крышей, покрытой не глиной, как у большинства домов в предместье, а листовым железом. По обе стороны входной двери было по два небольших окна с цветными наличниками и ставнями с букетами яркокрасных роз, придававшими домику нарядный вид. Справа вдоль стены двора стоял солидный амбар, а дальше вглубь — навес, под которым виднелись телега, небольшой тарантас и большая поленница дров, — свидетельство запасливости хозяина.
Слева в глинобитном скромном домике, очевидно, помешалась кухня и жилье прислуги, а из будки возле него выскочила и залаяла большая собака, гремя короткой цепью. Подальше у той же стены виден был навес с яслями и конюшня.
Лай собаки вызвал хозяина, появившегося в дверях домика.
— Здравствуйте, Фома Капитонович! — приветствовал его Боков, протягивая руку.
Кукушкин был среднего роста, худощавый и немного сутулый. Лицо бронзового цвета имело монгольский облик: узкие и чуть косые глаза, плоский нос, выдающиеся скулы, тонкие седые усы и жиденькая бородка. На голове китайская черная шапочка с красной шишкой, на плечах — поношенный халат китайского фасона из синей дабы [2] и на ногах войлочные туфли на толстой подошве. Встретив Кукушкина на улице, я бы, несомненно, принял его за старого китайца.
Консул представил меня, и мы вошли в комнату, расположенную справа от небольшой полутемной прихожей. Это был кабинет хозяина. Простой письменный стол, покрытый зеленой клеенкой, пузырек с чернилами, несколько листов бумаги. Справа — кучка книг квадратного формата в странных переплетах из дощечек, скрепленных желтыми лентами — тибетских рукописных, как я узнал позже. Слева большая бронзовая статуэтка какого-то буддийского божка с круглым улыбающимся лицом и цветком в поднятой руке. Несколько тяжелых китайских кресел возле стола, на которые мы уселись. У задней стены небольшой кан, т. е. китайская теплая лежанка, но из цветных кафельных плиток и неширокая, на двух человек, покрытая хотанским ковриком с геометрическим узором. На кане — китайский ватный валик вместо подушки. На стене над каном висели две длинные китайские картины из сильно потемневшей шелковой материи с вышитыми на ней пейзажами, домами и людьми. Справа от кана — большая этажерка с книгами в переплетах и без них. На окнах белые кисейные занавески и горшки с какими-то странными, незнакомыми мне цветами.
Я успел рассмотреть всю обстановку комнаты, пока Боков рассказывал Кукушкину, кто я такой и с какой целью приехал в Чугучак.
— Вот бы вам, Фома Капитонович, вспомнить старые годы и проводить русскую экспедицию по Джунгарии. Наконец-то обратили внимание на то, что мы совсем не знаем эту пограничную область, — сказал Боков. — Вы ведь изъездили ее вдоль и поперек и могли бы оказать большую помощь.
Кукушкин вздохнул и покачал головой. — Поздно, Николай Иванович! Лет пять назад я бы поехал с большим удовольствием. Но одолел ревматизм. Сказались старые похождения. Вспомните, как долго я хворал зимой, не мог даже поздравить вас с светлым праздником.
— Знаю, знаю, — ответил консул. — Но я думал, что вы поправились к лету и сможете поехать. Не так ведь далеко, — в соседние горы.
— Я на коня-то уже не взберусь, Николай Иванович! Даже на заимку, совсем близко от города, в тарантасике езжу. В горы в нем не поедешь. И спать могу только на тёплом кане, в палатке не усну, всю ночь буду охать и стонать! Где уж мне ездить, наездился!
— Очень жаль, Фома Капитонович! Теперь бы ваши знания здешних гор очень пригодились. А ваш компаньон Лобсын не вернулся ли из Урги? Он ведь тоже знаток нашего края.
— Нет, еще не вернулся. Зимой с паломниками прислал мне письмо. Еще на год решил остаться в Урге, — он для нашего консула тибетские книги переводит.
— А кого вы могли бы указать профессору из здешних бывалых людей в качестве проводника и переводчика?
Кукушкин задумался. — А вот, татарин Мусин подойдет. Он по нашим горам много ездил, подряды у русско-китайской компании брал, уголь, лес, муку возил на их рудники.
— А как он насчет языков?
— По-киргизски хорошо объясняется, монгольского, правда, не знает. Но в наших горах больше киргизы живут.
— Я уже послал его к профессору помочь в покупке лошадей. А вы не сможете ли профессору указать, что знаете про здешние богатства, про золото, уголь, асфальт, про древний город. Он этим очень интересуется.
— С удовольствием, все, что смогу. Вечерком зайдите ко мне, господин ученый, я приготовлю записку и покажу вам свою рукописную карту. А Мусин знает дороги ко всем этим местам.
Боков поговорил еще с Кукушкиным насчет его заимки и сада, затем мы простились и вернулись в консульство. Вечером я посетил еще раз кладоискателя, получил список известных ему месторождений золота, угля и асфальта и даже с их оценкой, довольно фантастической, как мне показалось. Он показал мне и свою карту. Горы были нанесены на ней по китайскому методу в виде маленьких конусов друг возле друга по направлению их длины. Были показаны и дороги, и месторождения, но масштаба не было, и расстояния указаны приблизительно вдоль дорог в верстах. Эту карту он согласился дать мне до следующего утра, и я успел ее скопировать. В дополнение к списку она была полезна для ориентировки.
Консул во время наших свиданий по делам и за обедами сообщил мне следующие сведения о Кукушкине.
Фома Капитонович был родом с Алтая, куда его отец был сослан по делу декабристов, менее видных и потому не удостоенных ссылки на каторжные работы в Нерчинский край. Поселившись в живописной долине реки Бухтармы, он женился на торгоутке монгольского племени, от которой его сын унаследовал монгольский облик и знание языка. Отец завел там пчельник и маральник [3], оставлявшие ему много свободного времени для чтения и размышлений. Он дал своему единственному сыну хорошее образование, приучил его к чтению книг по естествознанию и о путешествиях, которые получал с родины. Мальчик помогал ему в работах, в уходе за пчелами и маралами, осенью сопровождал его в Семипалатинск, куда они сплавляли по Иртышу партию меда и маральих рогов, привык к передвижению, к наблюдению явлений природы. Когда отец умер, Фоме было лет около 20; его мать с двумя дочерьми продала пчельник и маральник и уехала на родину, к озеру Марка-куль, вернулась к кочевой жизни, по которой тосковала в деревне.
Фома нашел место приказчика в Устькаменогорске у купца, торговавшего красным товаром в Монголии, сделался у него подручным и привык к путешествиям. Но сидение в лавке в течение весны и лета оставляло много свободного времени, и он продолжал заниматься чтением книг, которые брал в библиотеке, а у купца вел всю переписку и отчетность. Несколько лет спустя он перебрался в Чугучак, где служил также переводчиком в консульстве при разборе торговых дел между монголами и китайцами.
— Поэтому я его хорошо знаю, — заметил консул Боков. — Он образованный человек, берет у меня газеты и журналы, которые я получаю, а сам покупает книги, когда ездит в Семипалатинск за товарами, даже выписывает их из Москвы. На старом руднике в горах он откопал золото, забытое во время дунганского восстания, построил себе домик, который вы видели, сам развозил товары по монгольским улусам и монастырям с помощью молодого монгола [4], сбежавшего в детстве из буддийского монастыря, куда отец отдал его в науку к ламам. Фома его воспитал и обучил даже русскому языку, вдвоем они совершили уже много путешествий, во время которых занялись также поисками разных кладов в развалинах древних городов. При моей помощи Фома отправлял свои находки в музеи Петербурга и Москвы и сделался знатоком этих древностей буддийского культа и китайской старины вообще.
Через несколько дней я снарядил свой караван и уехал в горы на юг от Чугучака, вернулся оттуда в июле и направился через северные горы в Зайсан, где и закончил в этот раз экспедицию, не побывав еще раз в Чугучаке. Список и карта Кукушкина почти не касались той части Джунгарии, которую я изучил в этом году.
В начале лета 1906 г. я снова приехал в Чугучак, чтобы продолжать исследования и в этот раз в той части гор, которые были на карте Кукушкина. У консула я спросил, как он поживает.
— Кукушкин умер нынче весной, — сообщил Боков. — Перед смертью он вызвал меня и передал толстую тетрадь с описанием своих путешествий. Последние годы он все время писал их, вспоминая старое.
«Возьмите это сочинение, — сказал мне старик, — жена моя по-русски неграмотна и у нее тетрадь пропадет. А вы, может быть, найдете в ней интересные вещи, поправите и напечатаете рассказы о том, как Фома Кукушкин в пустынях Азии искал и находил клады. Ведь я больше искрестил глубину Азии, чем генерал Пржевальский, хотя не побывал в Лхасе, столице Тибета, куда и Пржевальского не пустили. А разных кладов я вывез немало, как вы хорошо знаете».
Записки Кукушкина заинтересовали меня, я взял их у консула, просмотрел и нашел, что после литературной обработки они могут быть опубликованы. Они содержали много сведений о природе, людях и приключениях кладоискателя в разных частях обширной Внутренней Азии.
Возможно, что он кое-что присочинил, кое-что приукрасил, восстанавливая по памяти встречи и события за двадцать лет своих путешествий.
Я сообщил Бокову свое мнение о записках Кукушкина.
— Возьмите их с собой, — сказал он. — Вы опытный путешественник и умеете описывать свои наблюдения, как показывают ваши труды А я, кроме консульских донесений в министерство и протоколов по разбору торговых тяжб и мелких преступлений, ничего никогда не писал и писать не умею. Вы обработаете эти записки и какое-нибудь ученое общество напечатает их.
Таким образом записки Кукушкина попали в мои руки. Я начал обрабатывать их в свободное время. Но такого времени у меня было очень мало, и обработка затянулась на много лет. Наконец, она завершена, и я передаю это произведение молодым советским читателям в надежде, что оно заинтересует тех, кому нравятся описания путешествий и приключений в малоизвестных странах в глубине Азии.
ЗОЛОТО НА СТАРОМ РУДНИКЕ
Это было мое первое путешествие не по торговым делам и недалеко, верст 150 от Чугучака в Джаирские горы.
Я незадолго перед тем рассорился с московскими купцами, у которых служил приказчиком по торговым делам с Монголией. Они были недовольны тем, что я слишком мало продавал их красного товара и написали мне выговор с предупреждением. А я сгоряча отписал им, что их товар плоховат и дорог, что в Монголию стал поступать товар из Индии, цветистее и дешевле московского. Советовал улучшить качество и снизить цену, иначе конкуренции не выдержать и сбыт из года в год пойдет на убыль. Ну, толстосумы обиделись: привыкли сбывать монголам всю свою заваль. Прислали мне отставку и приказ сдать остаток товара и лавку приказчику, которого назначат вместо меня.
Ну вот, сижу я в своей лавке в ожидании приезда преемника, которому должен сдать дело. Все привел в ясность, подсчитал наличность, подвел баланс, и больше делать нечего. Сижу и думаю, как быть дальше, чем заняться? Самому начать торговлю в Монголии не под силу. Накопил я за семь лет торговой службы тысчонки две. Этого мало, чтобы снарядить караван хоть из пяти верблюдов. А взять в кредит московскую заваль — новый приказчик, пожалуй, откажет и будет обидно вдвойне. Лицо потеряешь, — как китайцы говорят. Самому наняться к нему в подручные и вести его караван — еще обиднее.
Сижу и ломаю голову. Другого дела не знаю, с молодых лет по торговому делу работал на Алтае в Усть-Каменогорске и в Чугучаке десять лет.
И вот пришел ко мне монгол Лобсын, который не раз водил наши московские караваны по Монголии и заслужил полное доверие. Он, так сказать, мой воспитанник. С юных лет он отцом был отдан в монгольский монастырь в ученики к ламам. Но так ему тибетское богословие опротивело, что он накануне посвящения в ламы сбежал из монастыря и в Чугучаке нищенствовал.
Я его приютил, взял подручным в лавку, приучил к работе; оказался понятливым и прилежным. Потом стал брать его рабочим при торговом караване. Он скоро запомнил все дороги и начал заменять проводника. Помирился с отцом, вернулся в свой улус, женился, но службу у меня при караване не оставил. Полюбилась ему кочевая жизнь: полгода дома, полгода в дороге.
Так вот, Лобсын, узнав, что я получил расчет и больше не буду снаряжать караваны, очень огорчился:
— Пришел конец моим странствиям! — говорит он со вздохом.
— Вот приедет новый приказчик, — говорю ему, — поступишь к нему, я тебя хорошо аттестую.
— Какой будет человек еще? С тобой у нас никогда ссоры не было. Всегда все в порядке, и я, что полагалось, получал без спора. А другой обсчитает и еще обругает или побьет.
Я его уговариваю, обнадеживаю.
— А сам ты что будешь делать? — спросил он. — Уедешь к себе на Алтай, что ли? И мне грустно будет. Сдружились мы с тобой, Фома, ты меня человеком сделал.
И предложил он мне работать сообща так: я должен достать товар, а он в улусе наймет верблюдов.
— Денег у меня мало! — говорю.
Он ушел огорченный. Дней пять спустя пришел опять и показывает мне старую китайскую книжку.
— Вот, — говорит, — здесь написано, где найти деньги, чтобы купить товар и снарядить караван.
Я повертел книжку.
— Ничего не понимаю, по-китайски читать не умею. Объясни толком.
Лобсын показал мне последнюю страницу. На ней что-то нарисовано и сбоку написано на тибетском языке. И написано, говорит, вот что:
«Горы Джаир, старый рудник, здесь закопано золото».
— Я знаю, что в горах Джаир были золотые рудники. Сам могу написать такое, — говорю ему.
— Нет, — отвечает, — тут и место указано точно. Вот, смотри. Нарисована китайская фанза [5]; от одной стены ее идет стрелка к надписи насчет золота, а от крыши в две стороны идут стрелки к горным вершинам. По этому рисунку можно найти фанзу, в которой золото спрятано.
— Откуда достал ты эту книжку?
— У отца взял. Вспомнил, что у него во время дунганского восстания спасался китайский чиновник, бежавший от дунган из Джаирских гор. Жил он у отца лет пять, все ждал, когда восстание кончится, да так и умер, не дождавшись. Он говорил, что на руднике у него осталось золото. Это его книжка. Я тогда учился у лам, и отец велел мне написать по-тибетски об этом золоте. «Покажи, научился ли тибетской грамоте?» Вот я и вспомнил об этой книжке и нашел ее. Не поможет ли она приятелю Фоме, думаю.
— И ты уверен, что там в горах у какой-то фанзы золото закопано?
— Наверно так. Для чего китаец берег эту книжку и отцу велел хранить ее? — «Пригодится тебе когда-нибудь, как настанет мирное время», — сказал он как-то.
— Золото, пожалуй, было закопано, но давно уже взято, дунгане искали, горнорабочие вернулись за ним. А фанза-то, наверно, сгорела или развалилась.
— Чего ты боишься? — рассердился Лобсын. — Судьба тебе клад посылает в самое нужное время, а ты сомневаешься. Поедем, поищем. Работа твоя кончена, делать тебе нечего. Я приведу коня, возьмем припасу на неделю. Я дорогу знаю, старый рудник недалеко от нашей джайляу (так летняя кочевка называется).
— Ну, ладно, убедил! — говорю ему. — Приедет новый приказчик, сдам ему лавку и товар, тогда буду свободен и поедем твое золото искать. Наведайся через две недели.
Недели не прошло, — прибыл новый приказчик и привез пять телег с московским товаром из Зайсана — города, откуда хозяева перевели его мне на смену. Ну и склоку он завернул мне. Весь товар, оставшийся у меня в лавке, он собственноручно перемерил, моим записям не поверил. Даже штуки с московским ярлыком, нетронутые, на выбор проверял. Аршин тридцать недостачи у меня обнаружил, и пришлось мне полностью заплатить за них. Квартиру, которую я занимал при лавке, велел освободить, хотя другая рядом, где жил подручный, которого я уже уволил, была свободна.
— Не полагается, чтобы при лавке жил посторонний человек, — объяснил он. — Или нанимайтесь ко мне в подручные сопровождать караван, или выселяйтесь.
Пришлось мне перебраться по знакомству в плохонькую фанзу во дворе одного китайского купца.
Едва мы покончили все дела по сдаче остатков, приехал Лобсын и насилу разыскал меня на новой квартире. Зашел ко мне в фанзу и говорит:
— Вот ты где приютился, Фома! Грязно, темно, очага нет, окна нет, кровать на кан поставил от тесноты. Видишь, так жить нельзя, нужно поехать и счастье свое искать. Запас готов ли?
Я за это время уже заготовил сухарей и баурсаков [6] на 10 дней, кирпич чаю, топленого масла, сахару. Наскоро собрал одежду. Лобсын привел мне хорошего коня. Привязали за седлами весь припас. Я взял двустволку с патронами и револьвер на всякий случай. Котелок, чашки, конечно, и каелку, чтобы землю ковырять.
Выехали из города на восток по дороге в Дурбульджин степью по долине реки Эмель. Местность здесь такая: на севере слева по дороге темнеет хребет Тарбагатай, гребень у него ровный, склон на юг крутой, весь зеленый от кустов; снегов на вершинах нет. На юге подальше хребет Барлык ступенями поднимается, на них леса темнеют, а вдали на главной цепи Кертау белеют снега по морщинам. Долина Эмеля между тем и другим хребтом широкая, зеленеет еще, лето в начале, трава не выгорела. Впереди долину замыкают горы Уркашара, тоже зеленые, крутые. Простор, солнце печет, небо чистое, жаворонки взлетают, заливаются.
Ехали мы то шагом, то хлынью [7] до заката. Ночевали на речке Марал-су; она из гор Уркашар бежит, в Эмель впадает. Вдоль нее лужайки, хорошая трава. Стреножили коней, отпустили на корм, собрали аргалу [8], развели огонек, сварили чай, закусили. Стемнело. Мы коней привели, возле себя к колышкам привязали, травы на ночь нарвали им немного и легли спать. Я, конечно, городской житель, сильно устал, целый день в седле, ноги ломит, уснуть не могу. Лежу с открытыми глазами и любуюсь; небо чистое, звезды мерцают, друг с другом перемигиваются. И все это, как ученые люди полагают, солнца, подобные нашему, а вокруг них незаметные глазу планеты кружатся, и какие-то живые существа на них обитают. Но я издавна при виде звездного неба о великой загадке мироздания подумывал. И начинаешь соображать, где же тот рай, о котором попы рассказывают, где он приютился — на звезде или на планете? Звезды — это солнца, на них должно быть страшно жарко, там уж скорее мог бы быть ад для грешников, где их поджаривают. А рай, может быть, на какой-нибудь планете? Но все они страшно далеко. Ведь до нашего солнца считают сотни миллионов верст. Сколько же времени души умерших должны лететь до рая или ада — целые столетия? И начинаешь сомневаться в достоверности библейского сказания о сотворении мира, о всемогущем и вездесущем творце. И вспомнил я своего отца, который был неверующим, и попа, который изредка приезжал в нашу глухую деревню из далекой станицы для похорон, крестин и бракосочетаний, но к нам не заходил и называл отца безбожником. Отец говорил, что, если бы на небе был всеведущий и вездесущий творец, он не потерпел бы, чтобы на сотворенной им грешной земле происходило столько преступлений и господствовало неравенство людей.
Наша Русь, рассуждал отец, все еще стоит на трех китах — самодержавии, православии и народности. Мы, декабристы, задумали было низвергнуть самодержавие, но это не удалось нам, потому что было преждевременно. Православие само захиреет и упразднится, когда народ сделается образованным, а народность останется как единственный наш кит, когда народ проснется и сделается хозяином своего государства и своей судьбы, самодержавным и всемогущим. Я, конечно, не доживу до этого времени, размышлял он, а ты, может быть, доживешь.
Долго лежал я, размышляя об этих трех китах. Слышал, как кони траву жуют, как на недалекой китайской заимке собаки лают, а еще дальше в степи волки воют. Подумал даже, не подберутся ли они к нам. Но собака Лобсына лежала спокойно возле нас. Наконец, сон пришел.
Проснулись, конечно, на заре, потому что под халатами продрогли. Вскочили, развели огонь, коней отпустили на росистую траву. Сидим у огня в ожидании чая, греемся.
И вздумалось мне спросить Лобсына.
— Что тебе говорили ламы в монастыре о душе человека и будущей жизни?
— По нашей вере, — ответил он, — душа человека после его смерти переселяется в другое существо — в новорожденного младенца, если покойник был хороший, или в животное — быка, барана, собаку, змею, червяка, если он был плохой. И сам Будда, творец мира, перевоплощается во многих людей одновременно. Ты ведь знаешь, Фома, что почти в каждом монастыре есть гэген [9], почитаемый как новое воплощение Будды, как духовный глава монастыря. А хамбо-лама в Лхасе — самый главный из этих воплощенцев. И когда какой-нибудь гэген умирает, ламы [10] его монастыря по тибетским книгам и разным приметам узнают, в какого младенца душа гэгена переселилась, отыскивают его и привозят в монастырь.
— Знаю я это! Привозят младенца, а пока он вырастет, старшие ламы сами управляют монастырем, как вздумается. И после взрослый гэген у них больше как кукла, для показа народу, а управляют ламы.
— Правду говоришь! Вот потому я и убежал из монастыря. Видел, как старшие ламы обижают учеников, заставляют работать на себя, а гэген ни во что не входит, ест, спит, молится и народ благословляет.
Позавтракали, оседлали коней и поехали дальше голой степью на юг, повернули между горами Уркашара и окончанием Барлыка хребта. По этому проходу невысокие горки разбросаны, Джельды-кара называются, это значит «черные, ветреные».
— Почему их так окрестили? — спрашиваю.
— Потому что зимой здесь по временам страшный ветер дует, Ибэ-ветер, холодный. От него весь снег на этих горках тает, и стоят они голые, черные. А рядом на Уркашаре и Барлыке снег лежит себе, белеет. Про Ибэ-ветер ты; наверно, слышал.
— Слышал рассказы. Говорят, что он дует не только здесь, но еще сильнее за горами Барлык, в проходе, где озера Ала-куль и Эби-нур лежат. Там, говорят, ни киргизы, ни калмыки не живут потому, что летом очень жарко, травы плохие, корма мало, а зимой Ибэ часто дует, такой сильный, что устоять нельзя, завьюченных верблюдов уносит словно сухие кусты перекати-поле, а люди замерзают.
— И еще говорят, — сказал Лобсын, — что на озере Ала-куль есть остров с каменной горой, а в горе большая пещера. Из этой пещеры Ибэ-ветер с страшной силой вылетает. Однажды киргизы целым аулом собрались в тихий день, вход в эту пещеру заложили бычачьими шкурами и завалили камнями, чтобы Ибэ больше не вылетал оттуда. Очень надоел им этот Ибэ. Но пришло время и Ибэ рассвирепел, вырвался, камни отбросил, шкуры разметал и дует попрежнему.
— Ну, это уже басни! — говорю ему. — Мне консул как-то рассказал, что лет сорок назад какой-то ученый из России приехал, чтобы осмотреть эту пещеру на острове, про которую такие слухи ходят. И никакой пещеры в горе не оказалось, гора каменная сплошная. А Ибэ вовсе не с острова начинается, а дует по всей широкой долине от озера Эби-нура. Это холодный воздух из Джунгарской пустыни по долине между горами Майли и Барлык с одной стороны и Ала-тау с другой на север стекает в виде Ибэ.
— Здешний ветер называют Кулусутайский Ибэ, — пояснил Лобсын. — Из-за него в горах Джельды кочевники также не живут. Только у самого подножия Уркашара прячутся китайские заимки. Там и идет зимняя дорога из Чугучака, чтобы путник, застигнутый Ибэ, мог укрыться от него. Только непонятно мне, почему люди от Ибэ замерзают, а снег тает.
— Потому что ветер хотя не морозный, но холодный и при своей силе пронизывает человека до костей; человек не замерзает, а коченеет, — пояснил я в свою очередь Лобсыну.
Часа два мы ехали по этому проходу черных ветреных горок, а затем выбрались в широкую долину, где трава стала выше и гуще.
— Это место называют Долон-турген, — сказал Лоб сын.
— Здесь зимние пастбища хорошие. Как только кончится Ибэ и сгонит снег со степи, — сюда со всех окрестных улусов пригоняют скот кормиться.
— А я думал, что Ибэ дует всю зиму.
— Нет, он дует в холодные месяцы день, два, три, редко неделю, а потом несколько дней погода тихая.
Впереди уже выступал хребет Джаир в виде длинной почти ровной стены, далеко протянувшейся с востока на запад. Справа от нашей дороги вскоре показался длинный красный яр; вдоль его подножия серебрилась речка.
— Это Май-кабак, — пояснил Лобсын.
«Сальный откос», мысленно перевел я и спросил, почему его назвали так.
— Не так давно здесь погибло целое стадо баранов. Они паслись в степи над этим яром. Налетел сильный буран, стадо бросилось по ветру вниз по откосу, завязло в глубоком снегу и замерзло. Весной снег стаял, солнце пригрело трупы, из курдюков стало вытапливаться сало и пропитало всю землю. С тех пор и зовут это злополучное место Май-кабак.
— Что же, многие калмыки потеряли всех своих баранов и обнищали? — спросил я.
— Нет, стадо принадлежало богатому баю. Разве у рядового кочевника может быть столько баранов! А бай заставил своих пастухов, когда снег стаял на откосе, снять с дохлых баранов шкуры с шерстью и подобрать протухшее мясо, чтобы кормить своих собак.
По мере того как мы приближались к Джаиру по степи Долон-турген, его ровная стена начала распадаться на отроги, разделенные глубокими долинами. Мы спустились в одну из них. По дну струился чистый ручей; вдоль него росли кусты тала, черемухи, боярки, кое-где тополя. Одна лужайка манила к себе для отдыха. Развели огонек, повесили чайник; коней, немного выдержав, пустили пастись, а сами прилегли в тени переждать жаркие часы.
Потом поехали дальше вверх по этой долине. Местами она представляла ущелье между красно-лиловыми скалами. Одна скала походила на огромную голову с пустыми глазницами, из которых вылетела пара диких голубей. Дальше на склонах появился молодой лес, подъем стал круче, и долина превратилась в широкий плоский луг с хорошей травой и журчащим ручейком. Пологие склоны представляли хорошие пастбища. Это были джайляу — летовки.
Впереди несколько киргизов развьючивали верблюда. Женщины в белых колпаках ставили решетчатые основы кибитки (юрты). По склону уже рассыпалось стадо овец, несколько коров и лошадей. Кричали и бегали дети, лаяли собаки.
Когда мы подъехали к киргизам, прибывшим на летовку, пришлось начать обычный разговор, обмен новостями, спросить о здоровье скота, сообщить, откуда и куда едем. Я, конечно, не сказал, что мы едем искать золото, а сказал, что едем на охоту за архарами в горы Кату.
Из верховьев этой долины мы выехали на поверхность Джаира. Я был удивлен, что этот хребет имел совершенно ровный, широкий гребень, сплошь покрытый мелкой, но довольно густой травой. Нигде не видно было скал, и по этому гребню можно было ехать не только верхом, но даже в телеге в любом направлении. Лобсын повернул на восток, и мы ехали около часа по гребню, местами представлявшему плоские холмы и ложбины. Потом гребень свернул на юг, и мы спустились в плоскую широкую долину, подобную той, на которой застали прибывших на летовку, но только расположенную на южном склоне Джаира.
В этой долине стояли три юрты, и Лобсын направился к ним.
— Вот и мои перекочевали на джайляу, — сказал он. — Мы у них переночуем, а завтра поедем на ближний рудник. Но, Фома, не говори, зачем поехали!
— Само собой, болтать нечего! — согласился я.
Одна из юрт принадлежала семье Лобсына, другая — его родителям. Нас встретили приветливо, окружили, засыпали вопросами.
— Вот, я привез вам показать своего хозяина Фому, — сказал Лобсын родителям, — мы завтра поедем дальше на охоту, а сегодня погостим у вас.
Юрта Лобсына была чистая и хорошо обставлена благодаря его заработкам у меня. Войлоки были белые, толстые. Вдоль стен стояли сундучки, а в одном месте полочка с бурханами [11] и медными перед ними стаканчиками для курительных палочек. На стенках висела одежда, бурдюки с маслом, тарасуном, чюрой (сухим творогом).
Посреди юрты — очаг с чугунной треногой, на которой в большом котле варился чай, заправленный молоком, солью и маслом в виде супа. Мы достали сухари, сахар и баурсаки, чайные чашки. Нам предложили вареную баранину на деревянном блюде, сушеные пенки на другом.
Население всех трех юрт собралось в юрту Лобсына, и разговоры за чаепитием были очень оживленные. Потом курили маленькие монгольские трубки, а меня угощали нюхательным табаком, который из маленького пузатого флакона высыпают на ноготь большого пальца, чтобы поднести к носу.
Ночевали в этой юрте на войлоках, разостланных вокруг очага. Но ночь не была такой спокойной, как накануне в степи. Рядом храпели люди, снаружи доносилось блеяние овец, лай собак, фырканье лошадей, рев верблюда. Проснулись рано, но нас не отпустили без чая, который варили целый час.
Долина, в которой стояли юрты, составляла верховье одного из истоков реки Дарбуты. Мы поехали вниз по этой долине, она мало-помалу врезалась в горы глубже и, наконец, соединившись с другой, подобной же, вышла к старому золотому руднику Ан-чжу-ван-цзе.
— Это был самый западный из рудников Джаира, — сказал Лобсын. — Попробуем проверить приметы; которые в книжке написаны.
Правый склон долины был крутой и скалистый, а левый — более пологий и поросший травой. В нескольких местах на нем серели стены брошенных фанз рудокопов, все без крыш, оконных и дверных колод, давно уже взятых кочевниками на топливо. На дне долины извивалось русло порядочной речки Дарбуты среди галечных площадок и зарослей кустов; там же белели кучи песка. Это были отвалы размолотого кварца золотоносных жил. Рудокопы добывали его в шахтах на склоне и носили вниз к реке, где его дробили и промывали в воде речки.
У самой нижней из фанз мы сложили свои вещи, расседлали лошадей и пустили их пастись по склону. Я достал книжку с планом, встал внутри фанзы и, поворачивая план, смотрел, не попадут ли нарисованные на нем две стрелки на горные вершины, похожие на те, которые были нарисованы. По направлению одной стрелки видна была плоская вершина на гребне склона, но форма ее была не такая, как на плане; по направлению второй стрелки никаких вершин не было видно.
Лобсын стоял возле меня и с большим вниманием следил за моими действиями. Он быстро сообразил, в чем дело, и мы согласились, что в фанзе, в которой мы стояли, золото не зарыто. Затем мы обошли развалины десятка фанз на склоне, в каждой прикидывали план, но ни одна не оправдала ожиданий; по направлению то одной, то другой стрелки, а иногда и обеих, не было вершин, похожих на нарисованные.
— Лобсын, — заявил я на самой верхней фанзе, — этот рудник, очевидно, не тот, который нам нужен. Где находятся другие рудники?
— Три ближайшие — это Чий-чу. Они недалеко отсюда, за речкой Ангырты под горами Кату. Потом в горах Кату были рудники Бель-агач. Эти я тоже знаю. А на самых дальних я не бывал: там ни воды, ни корма нет.
— Поедем на рудники Чий-чу.
— Сперва надо пообедать. На Чий-чу речки нет, пришлось бы брать гнилую воду в старой шахте. И корм там плохой для коней. Пусть они попасутся здесь.
Совет был правильный. Мы спустились к нижней фанзе. Лобсын побежал к речке за водой, я набрал аргалу и хвороста. Пока грелся чайник, мы осмотрели разработки возле этой фанзы.
По жиле белого кварца, которая тянулась наискось по склону, чернели друг возле друга глубокие ямы. Это и были китайские шахты. Они уходили вглубь круто и далеко, а отделялись друг от друга стенками кварца, т. е. участками жилы, оставленными для того, чтобы поддерживать висячий бок жилы от обрушения. Никакого крепления не было, как не было и чего-либо похожего на лестницу. Только в лежачем боку, т. е. в породе под кварцем жилы, были выбиты выемки или площадки; ставя на них ноги, рудокопы спускались в глубь шахты и так же поднимались наверх с грузом выломанного кварца в мешке или корзине на спине
Ямы-шахты были так глубоки, что дно их скрывалось в темноте. Камень, брошенный туда, катился несколько секунд прежде, чем мы слышали плеск от его падения в воду. Судя по этому, шахты имели не менее 10 сажен глубины.
Я внимательно осмотрел кварц жилы в стенке, оставленный между двумя соседними ямами, но не нашел в нем видимого золота. Очевидно, рудокопы углубляли свои ямы по тем участкам жилы, где в кварце было видимое золото, оставляя участки, где его не было видно, хотя и в них, наверно, тоже было золото, только невидимое неопытному глазу
Напившись чаю и отдохнувши, мы поехали дальше. Тропа поднялась по левому склону мимо шахт и перевалила в сухой лог, который открывался в долину Дарбуты ниже рудника. Мы проехали вверх по этому логу, еще два раза переваливали в другие лога, кое-где видели неглубокие старые ямы. Но фанз при них не было. Часа полтора спустя мы выехали в довольно широкую долину с лужайками, рощами, зарослями по берегам чистой речки Ангырты.
— Здесь надо напоить коней, — заявил Лобсын. — На руднике Чий-чу речки нет. Мы там до ночи, может, и не справимся и придется ночевать без воды.
Мы напоили коней, напились сами и наполнили еще большую бутылку, которую Лобсын захватил из своей юрты. За речкой пошли плоские, почти голые холмы. Слева от них поднимались крутые склоны гор Кату; видны были ущелья, скалистые вершины. Горы тянулись вдоль дороги на восток.
— Вот первый рудник Чий-чу! — сказал Лобсын, указывая на развалины фанз, белевшие на плоских холмах, когда мы проехали версты 4 от речки.
Местность здесь была мало привлекательная. На холмах росла аолько полынь и другой бурьян мелкими кустами, травы почти не было. Вдоль и поперек тянулись китайские шахты, т. е. те же ямы по жилам, а возле них то тут, то там стены фанз, опять без крыш и с пустыми оконными и дверными отверстиями.
Мы остановились у первой попавшейся фанзы и спешились. Коней нельзя было отпустить — в поисках корма они могли уйти далеко. Лобсын держал их, а я, вынув книжку, начал прикидывать план с рисунком фанзы и стрелками. На плане не было стрелки, указывающей полуденную линию. Я, конечно, держал его перед собой так, чтобы фанза стояла крышей вверх и при этом сам смотрел на север.
При таком положении плана в моих руках стрелки от фанзы шли на юго-запад и юго-восток. Но в этих направлениях никаких заметных горных вершин не было. Местность к югу от рудника Чий-чу представляла однообразные плоские холмы.
— Ничего не выходит! — сказал я Лобсыну, стоявшему рядом. — Видишь, никаких гор в той стороне, куда идут стрелки, нет. И в других фанзах будет то же самое. Видно, золото не на руднике Чий-чу.
— А горы Кату ты не видишь? — воскликнул Лобсын, указывая на цепь скалистых гор, которая закрывала весь северный горизонт и тянулась недалеко от рудника. — Поверни план и стрелки укажут тебе горы Кату.
Я повернул план, оставаясь в том же положении. Стрелки теперь, действительно шли к горам Кату на северо-запад и северо-восток. Но фанза была на плане передо мной крышей вниз, т. е. вверх ногами. Странно!
И тут я вспомнил, что китайцы всегда ориентируют свои планы и карту так, что север обращен к наблюдателю, а юг от него — в противоположность тому, что делаем мы, европейцы. Мы кладем карту перед собой так, что север находится вверху, а юг внизу. И если повернуть планы в книжке по-китайски, т. е. югом от себя и смотреть на юг, то фанза на нем будет стоять как следует, крышей вверх, а стрелки будут направлены на горы Кату.
По направлению одной стрелки теперь в Кату хорошо была видна двуглавая вершина, показанная и на плане, но по направлению второй стрелки в Кату виден был склон какой-то горы, а на плане — острая вершина и рядом ущелье.
— Это фанза не та, которую мы ищем, — сказал я, и Лобсын согласился, взглянув на план и на Кату.
Мы пошли дальше по руднику на восток, переходя от фанзы к фанзе, причем приходилось обходить зиявшие устья шахт. У каждой фанзы останавливались и прикидывали план. Двуглавая вершина все время видна была в Кату по направлению одной стрелки, но острая вершина и ущелье не появлялись. Так мы дошли до последней фанзы, у которой и двуглавая вершина почти спряталась за другой более близкой горой.
— Первый рудник Чий-чу обманул нас! Попытаемся на втором, он тут недалеко, — сказал Лобсын.
Мы сели на коней и поехали дальше на восток по таким же пустынным холмам с жалкой растительностью. Солнце уже опускалось к гребню гор Кату. Я подумал, что мы не успеем кончить осмотр и сказал это Лобсыну. Но тот был охвачен азартом и заявил: — Второй Чий-чу близко! — и поскакал вперед.
Действительно, через несколько минут мы подъехали к этому руднику, совершенно похожему на первый. Такие же холмы, линии ям-шахт и остатки фанз вдоль них. У первой фанзы мы спешились и прикинули план. Одна стрелка тянулась на северо-запад опять к двуглавой вершине, но не той, которую мы видели с первого рудника, а какой-то другой. Вторая стрелка на северо-восток показала острую вершину, но без ущелья рядом.
— Опять что-то не так! — сказал я.
— Нет, по-моему, близко! — заявил Лобсын. — Скоро найдем.
Мы опять стали переходить от фанзы к фанзе. У шестой, стоявшей не у самой линии шахт, а немного в стороне и возле небольшого холмика, обе стрелки точно показали то, что было нарисовано на плане: одна — двуглавую вершину, другая — острую и рядом с ней, на южном склоне Кату, глубокое ущелье, которое раньше закрывалось от нас каким-либо отрогом гор.
— Ну, вот, видишь, Фома! План правильный. В этой фанзе закопано золото! — воскликнул Лобсын.
— Пожалуй, было закопано! — сказал я. — А лежит ли еще? Ведь уже минуло тридцать лет с тех пор. Многие могли за это время шарить тут по фанзам, искать, не осталось ли что от рудокопов. Смотри — двери, окна и крыши растащили дочиста.
— Крыши, двери, окна могли сгореть. А рыть землю в фанзах искателям золота было некогда и не к чему. Рудокопы прятали золото в своих шахтах, а не в фанзах. Да и много ли золота могло быть у каждого рудокопа?
— А в этой фанзе, — продолжал Лобсын, — жил не рудокоп, а чиновник китайский, мандарин, который принимал золото от рудокопов для сдачи в казну. Вот у него и могло быть золота побольше. Китаец, который жил у моего отца, был не простой рудокоп.
Фанза, действительно, отличалась от остальных, в которых жили рудокопы. Последние были меньше, все в одну комнату, половину которой занимал кан, с одним окном и дверью. А в этой были две комнаты и кан только в задней, которая имела два окна и дверь в первую. Мандарин, принимавший золото, спал в задней комнате, а в передней принимал рудокопов.
— Где же начнем рыть? — спросил я.
— В задней комнате, — сказал Лобсын. — Там чиновник спал, там и прятал золото.
Кан в этой комнате уже осел и превратился в кучи глины с щебнем. Но где было зарыто золото? В топке кана или в полу комнаты возле него? Я предложил прорыть канавку поперек всей задней комнаты вдоль кана. Нужно было торопиться, солнце уже скрылось за горами Кату.
Мы привязали лошадей в первой комнате и принялись за работу. Я дробил кайлой затвердевшую почву, а Лобсын выгребал ее маленькой саперной лопаточкой, которую я взял у консула. Эту канавку, глубиной и шириной в четверть [12], мы провели от двери из первой комнаты вдоль кана до окошка во второй. Вырытую почву выбрасывали через стену фанзы. Почва была очень твердая, глина со щебнем, и работа подвигалась медленно.
В канавке, кроме глины с мелким щебнем, ничего не вскрыли, пока не подошли к самому окошку в боковой стене задней комнаты. Здесь я откопал несколько кусков белого кварца, хотел их выбросить, но вспомнил, что золото в жилах рудника сидит в кварце. Поднял один кусок, обтер его от глины и увидел, что весь кварц был пронизан жилочками и крапинами яркожелтого цвета. Это было золото. Я показал этот кусок Лобсыну.
— Вот тебе и клад мандарина! Он, видно, отбирал у рудокопов куски кварца с богатым золотом, — сказал я.
Из этой части канавки мы выбрали восемь кусков такого же богатого кварца, но в общем по оценке на глаз в них могло быть фунта два золота, не больше.
— Неужели это весь зарытый клад? — подумал я. — Но где же искать дальше? Взрывать ли весь пол перед каном?
Между тем солнце уже село и стало ясно, что до ночи мы не успеем кончить эту работу. Я сказал это Лобсыну.
— Останемся здесь ночевать, — ответил он, очевидно увлеченный добычей. — Воды для чая мы привезли. Завтра чуть свет кончим и поедем на Ангырты отдыхать.
— А что же кони? Они всю ночь простоят голодные. Отпустим их, что ли?
— Никак нельзя. Корм плохой, они уйдут далеко. А волков здесь много, они в старых шахтах живут, норы готовые для них. Коней нельзя отпустить, волки загонят их. Постоят до утра в фанзе подле нас. И вот что. Пока еще видно — наберем побольше хворосту, чтобы всю ночь огонек держать, а то волки и до коней, и до нас доберутся.
Ночевка не обещала ничего приятного. Но и мне не хотелось уезжать. Между тем никто, конечно, не мог заехать сюда ночью и закончить раскопки. За целый день мы не встретили ни одного человека во всей этой местности и могли бы спокойно уехать ночевать на речку Ангырты и утром вернуться.
Мы поспешно начали собирать топливо, вырывая кусты караганы [13], полыни, эфедры [14]; попадался кое-где и аргал. Наворотили возле фанзы целую кучу, нашли в соседней фанзе несколько полусгоревших жердей от крыши.
Кони стояли у нас в первой комнате фанзы, а мы расположились в ее дверях, развели огонь, поставили котелок. Ночь уже наступила, на небе засверкали звезды между легкими облачками, надвигавшимися из-за гор Кату.
Чай поспел, достали чашки, баурсаки, сухари. Сидим у маленького огонька, пьем чай, закусываем. И вдруг недалеко от нас раздался протяжный и низкий вой, на который кони ответили храпом.
— Волк, — сказал Лобсын. — Подает сигнал другим, что нашел добычу, с которой в одиночку не может справиться.
— Созывает их на помощь, — подтвердил я. — Сколько их набежит? Нужно приготовить ружья, у меня десять патронов с картечью и пять с крупной дробью.
— А ливорвер не забыл? — спросил Лобсын, который никак не мог запомнить слово револьвер.
— С собой, шесть пуль и столько же в запасе.
— Хватит, пожалуй! Не сотня же соберется.
Двустволку и при ней патронташ я оставил в углу фанзы, а револьвер в седельной сумке. Принес и то, и другое, зарядил двустволку картечью и поставил под рукой, револьвер положил возле себя.
— Придется нам, видно, не спать всю ночь! — заявил Лобсын. — Коням дадим по две горсти сухарей и несколько баурсаков. Кормушки у меня с собой.
Вой повторился, но в отдалении и с перерывами, в трех-четырех местах.
— Отзываются на призыв. Но пока горит огонь — близко не подойдут.
При свете огонька мы насобирали еще вокруг фанзы все, что могло гореть, вплоть до самых мелких кустарников. При этих сборах Лобсын отошел немного дальше и возле ямы-шахты увидел волка, который быстро скрылся в шахту.
— Я бросил вслед ему большой камень и, должно быть, попал, он завизжал там в шахте, — сообщил калмык, сбрасывая охапку хвороста.
Мне очень хотелось спать и я сказал: — Нам обоим караулить не нужно. Будем по очереди, один у огонька, другой вздремнет.
— Ладно. Я еще не хочу спать. Покараулю.
Я прислонился к стенке фанзы и сразу заснул. Приснилось мне, что мы опять роем землю в фанзе при каком-то странном красном свете и нагребли уже целые кучи кварца. Повернуться некуда в фанзе, а все еще попадаются целые глыбы и я ворочаю их легко, словно куски хлеба. А Лобсын роет рядом и что-то приговаривает, — и вдруг вместо него, вижу, роет волк, лапами землю разгребает, а зубами хватает кварц и рычит. Повернулся ко мне, широко раскрыл пасть, высунул язык — и зубы у него все блестят, золотые. И внезапно бросился на меня, сильно толкнул в грудь лапами, а золотыми зубами щелкнул перед самым носом.
Тут я проснулся, потому что Лобсын теребил меня за плечо.
— Погляди-ка, Фома! караульщики клада собрались, хотят помешать нам взять золото.
Я протер глаза. Наш маленький огонек освещал только несколько сажен впереди фанзы, а дальше, шагах в двадцати, в темноте светилось несколько пар волчьих глаз. Когда пламя вспыхивало, охватывая новый кустик, положенный на огонек, я различал морды, настороженные уши и контуры тел. Я насчитал девять пар этих глаз в охватившем нас полукруге.
Вдруг наши кони захрапели, затопали, и Лобсын, вскочивший на ноги, едва успел схватить уздечку и остановить своего коня, который напирал на меня, стараясь выскочить из фанзы. Очевидно, какой-нибудь волк подобрался к задней стене фанзы, остававшейся в темноте, и напугал коней, может быть, старался перелезть через стену. Я схватил горящий куст и перебросил его через фанзу.
Расчет волков был ясен. Если бы им удалось выгнать коней из фанзы, животные в панике бросились бы скакать куда попало. В холмах, пересеченных в разных направлениях линиями глубоких ям-шахт, кони легко могли споткнуться, попасть при бешеной скачке передними ногами в яму и немедленно сделаться добычей хищников, преследующих их целой стаей.
Я зажег другой кустик, обошел с ним фанзу и заметил еще пару волков, которые скрылись в темноте.
Нужно было разогнать осаду, которая становилась угрожающей. Я велел Лобсыну подкинуть топлива и, когда можно было различить, кроме глаз, и контуры тел, приложился и выстрелил картечью в волка, стоявшего боком шагах в тридцати.
Он подскочил и упал, светящиеся глаза исчезли, стая отбежала. Но немного позже волки вернулись и стали оттаскивать убитого подальше, чтобы его растерзать. Это дало мне возможность выстрелить еще раз в кучу тащивших свою жертву, и они разбежались. Некоторое время было тихо, но потом с той стороны, куда утащили труп, послышалось чавканье, ворчанье и хруст костей.
Затишье позволило нам беречь топливо. Но через полчаса в темноте опять в нескольких местах полукруга засветились глаза. Первая жертва только раздразнила аппетит. Я вынул часы: было четверть первого и до рассвета оставалось часа три. Куча топлива у нас сильно сократилась, хотя куски жердей еще остались.
— Подкинь кустик, Лобсын! — сказал я, приготовляя ружье.
Огонь вспыхнул и озарил волков. Я целился в двух, сидевших друг возле друга на задних лапах. Один, очевидно, раненый, отскочил с визгом, второй, убитый наповал, покатился по склону холмика и свалился в устье шахты у подножия.
Остальные сначала скрылись, но потом один за другим пробрались в шахту, чтобы разделаться с убитым. Это опять позволило нам сберечь топливо.
Но тут кони снова захрапели, и мы оба вынуждены были вскочить и загородить собою дверь фанзы, чтобы напуганные животные не выскочили из нее. Они, храпя, напирали на нас. За ними над задней стенкой фанзы я различил глаза волка, очевидно, стоявшего на задних лапах. Момент был критический. Хотя револьвер был у меня в кармане, но рвавшиеся кони не давали возможности высвободить руку и даже, если бы это удалось, я не мог бы прицелиться и выстрелить возле самой морды лошади. От этого она бы совершенно обезумела.
К счастью, конь Лобсына вскинул задом и обеими ногами ударил по задней стенке. Глаза волка исчезли. Мы с трудом успокоили коней, и, пока Лобсын держал их, я подкинул топлива, взял в левую руку горящий куст, в правую револьвер с взведенным курком, обогнул фанзу и выстрелил в убегавшего волка, когда он был еще шагах в семи от меня. Он упал, но тотчас же вскочил и на трех ногах ускакал. Я, видимо, перешиб ему заднюю ногу.
Во избежание новых попыток волков пробраться в фанзу с задней стороны мы развели там второй маленький огонек и поддерживали его все время. Но из-за этого уже не было возможности подбрасывать по временам больше топлива в костер спереди, чтобы видеть силуэты волков и вернее целиться в них. Пришлось изредка стрелять в темноту, целясь ниже светящихся глаз, крупной дробью, сберегая патроны с картечью.
Наконец, уже в половине третьего, когда рассвет был близок, мы разожгли костер остатками топлива, и я сделал два выстрела один за другим по волкам, собравшимся кучкой вокруг одного, вероятно, издыхавшего. Всем, очевидно, хорошо попало, так как они отбежали и больше не появлялись.
Но вот стало светать. Из темноты мало-помалу выступали холмики, ближайшие фанзы, отвал белого кварца у одной из шахт, а звезды меркли и исчезали. Кони успокоились. Мы насыпали им в кормушки по хорошей порции сухарей и повесили кормушки на морды. У нас осталось еще немного холодного чая, который поставили на догоравший огонь. После такой тревожной ночи подкрепиться чашкой горячего чая было очень приятно.
Как только совсем рассвело, мы возобновили раскопку. Канавку, доведенную накануне до боковой стенки фанзы под окошком, мы повернули вдоль нее, к передней стенке, и сразу же откопали еще десяток кусков кварца с золотом и, наконец, в самом углу у передней стенки нашли глиняный горшочек с узким горлышком. Он лежал на боку, а горлышко было закрыто кожаной пробкой, залитой воском. Горшочек был очень тяжелый.
— Вот это самый настоящий клад! — воскликнул я, когда Лобсын отгреб разрыхленную землю и вынул горшочек.
Я поднял его: на воске пробки видна была печать с китайским иероглифом. Горшочек весил около десяти фунтов.
— Не будем открывать его здесь, — предложил Лобсын. — В нем, конечно, чистое золото, которое чиновник получил от рудокопов и не мог увезти в город, опасаясь, что по дороге туда дунгане [15] остановят его и золото отберут.
— Нужно еще покопать, — предложил я, — чтобы потом не каяться.
Мы продолжили канавку вдоль передней стенки, но ничего не обнаружили. Точно так же раскопка в другом углу комнаты и в двух местах среди нее не дала ничего, кроме мелкого щебня, такого же, как и вообще в почве холмов.
— Ну, каково, Фома? — спросил Лобсын, закончив последнюю ямку и бросив лопатку. — Видишь, я тебя не обманул. Старый китаец оставил здесь золото, а в книжке правильно записал, где оно закопано. Теперь у тебя будут деньги, чтобы купить хорошего товара и отправить меня с караваном.
— А у тебя будут деньги, чтобы купить хороших верблюдов и нанять себе в помощь погонщика, — сказал я.
— Мне не нужно это золото! — возразил Лобсын. — У меня хорошая юрта, немного скота, жена. Я буду водить твой караван, ты будешь платить мне больше за работу, и я буду жить еще лучше, чем до сих пор. Ведь ты меня из нищего и бродяги человеком сделал и всем, что у меня есть, я тебе обязан.
Очень удивил меня Лобсын своим бескорыстием и обрадовал своей преданностью. Но я не мог согласиться взять себе все золото и заявил ему решительно:
— Половина этого клада принадлежит тебе. Ты купишь хороших верблюдов, коней, быков, баранов и сделаешься большим баем. У тебя будет несколько хороших юрт…
— И как только наш князь Кобук-бейсе, — прервал меня Лобсын, — узнает об этом богатстве, он все отнимет, а меня посадит в тюрьму при монастыре. Ты не знаешь этого человека. Я не могу сразу разбогатеть, а богатым бездельником быть не хочу.
— Чего же ты хочешь, Лобсын?
— Я люблю водить караваны по нашим степям и горам, люблю быть хозяином каравана, смотреть новые места, новые города, людей.
— Понимаю! Ты хочешь, чтобы твое богатство объявилось не сразу, а получалось мало-помалу при торговле. Хорошо. Твое золото я буду хранить у себя и отдавать тебе понемногу, когда захочешь. Ты согласен?
— Если ты так хочешь, Фома, чтобы половина клада была за мной — считай меня своим компаньоном по караванной торговле и распоряжайся золотом, как торговым капиталом. Будем вдвоем работать, как раньше. Никогда у нас ссоры не было, жили мы с тобой дружно, друг другу помогали, так и будем дальше, чтобы это золото нас не разделило. Не то я буду жалеть, что нашел книжку и затеял это дело.
Рассуждения Лобсына были разумны. Я уже знал условия жизни в провинции Синь-цзянь, слышал о произволе китайских амбаней [16] и монгольских князей. Я, как русский подданный, имел защиту в лице консула, а Лобсын был вполне во власти своего князя. Если бы Лобсын покупкой скота и вещей обнаружил, что у него завелись деньги, князь начал бы вымогать их под разными предлогами и разными мерами. Сообщить китайской или монгольской власти о нашей находке мы не намеревались, так как это вызвало бы просто конфискацию золота. Ведь мы не знали, являлся ли китаец, зарывший золото, чиновником, собиравшим его у рудокопов для сдачи в казну, или же арендатором рудника, получавшим золото от своих рабочих. В первом случае золото принадлежало китайскому государству, а во втором — китайцу, жившему и умершему у отца Лобсына. Не мог бы выяснить это и амбань Чугучака, и в лучшем случае, при вмешательстве консула, он завел бы переписку с Пекином для решения этого вопроса, что затянулось бы на несколько лет.
Поэтому наиболее благоразумным было не говорить никому о находке и использовать ее мало-помалу и осмотрительно.
Закончив раскопки, мы заровняли канавки, вырытые в фанзе, оседлали лошадей, куски кварца и горшочек разложили по нашим заседельным сумам и уехали назад. Через час мы остановились на реке Ангырты, отпустили голодных коней на корм, развели огонь, сварили чай, плотно позавтракали, а затем по очереди поспали часа по два.
Хорошо отдохнувши, около полудня мы поехали дальше. Лобсын направился не по прежней дороге, а вверх по Ангырты.
— Мы разве не заедем ночевать на твою летовку? — спросил я.
— Нет, едем прямо в Чугучак. В юрте мы бы сняли сумы, ребятишки любопытные, увидели бы кварц с золотом, пошли бы спросы, где были, откуда накопали. А степное ухо, Фома, сам знаешь, длинное. Сегодня сказал в одной юрте или одному встречному человеку, а завтра будут знать на сто верст кругом, что Лобсын и Фома нашли золото в Джаире. Меня потребует князь к себе, а тебя — амбань через консула, чтобы выяснить, где и что нашел. Ведь копать золото без разрешения нельзя.
Пришлось признать, что Лобсын поступил правильно, не заезжая к своим. В Чугучаке мы могли лучше сохранить тайну о находке.
Речка Ангырты, вверх по которой мы поехали через северную цепь Джаира, сначала извивалась по ущелью между рощами тополей, тальника и разных кустов, окаймленными зарослями чия [17]. Мы миновали уединенную зимовку киргизов в виде глинобитной фанзы среди огороженной лужайки. Возле фанзы высилась пирамида из черных кусков, вылепленных из овечьего и козьего навоза; это был запас топлива на зиму, заготовленный заботливым хозяином.
Теперь здесь было пусто, хозяева ушли на летовку выше в горы, фанза проветривалась, дверь ее была открыта.
Дальше кусты и рощи по речке поредели, ущелье перешло в долину. На одном из ее склонов я заметил странные углубления вроде небольших пещерок и ниш, которые тянулись друг над другом в несколько ярусов на протяжении сотни шагов.
— Что это, тоже зимовки? — удивился я; Лобсын засмеялся.
— Таких нор в Джаире много найдешь, но никто в них не живет.
— Кто же вырыл их? Люди или звери?
— Кто их знает. Камень какой-то гнилой, должно быть. В норах он рассыпается, если потрогать его, а ветер выметает мелочь. В таких норах бараны и козы зимой от пурги укрываются.
Я рассматривал с удивлением эти странные впадины в желто-розовом камне склона. Они походили на ячеи, которые жуки выгрызают в старом дереве, но были гораздо больше. В одних человек мог свободно сидеть, в других даже стоять сгорбившись. Иногда две или три ниши находились рядом, разделенные только каменным столбиком, а в глубине соединялись, и человек мог бы расположиться на ночлег, вытянувшись во всю длину. И всего удивительнее было то, что на самом склоне в трещинах камня укрепились мелкие кустики, пучки травы, какие-то цветочки, а в нишах их совершенно не было. Нельзя было поверить, что ни люди не вырубили, ни животные не вырыли эти норы в сплошном твердом камне [18].
Часа два мы ехали по долине Ангырты, поднялись в ее верховьях на ровную поверхность Джаира, описанную выше, спустились с нее в долину северного склона и выехали по ней опять на степь Долон-турген между Джаиром и Уркашаром. Заночевали на речке Ушеты в черных ветреных холмах и на следующий день к вечеру прибыли в Чугучак.
Всю дорогу меня мучил вопрос, где спрятать наш клад в Чугучаке. Нанятая мною фанза во дворе лавочника плохо запиралась, не имела окна, и днем пришлось бы держать дверь открытой. Во дворе бегали дети, ходили разные люди. Кварц с золотом нужно было истолочь и промыть, делать это на людном дворе, добывая воду для промывки из колодца, было невозможно. Нужно было спешно искать себе более уединенную и удобную квартиру. Выручил случай. Едва мы въехали во двор, расседлали лошадей и зашли в фанзу, пришел хозяин дома и сказал:
— Тебя три раза спрашивал новый приказчик, ему по спешному делу нужно видеть тебя.
Я, конечно, сейчас же пошел на свою старую квартиру, оставив Лобсына караулить фанзу. Во дворе старой квартиры застал суету. Тюковали товар, чинили верблюжьи седла. Под навесом стояло десятка два верблюдов. Приказчик при виде меня обрадовался.
— Слава богу, что вы объявились, Фома Капитонович! — воскликнул он. — Не хотите ли вернуться на свою квартиру? Я не нашел надежного помощника и сам поведу караван, месяца два буду в отсутствии, а при складе некого оставить. Вы поживете тут, пока я не вернусь назад, и склад будет под надзором. На вас я могу положиться!
Забыл, негодяй, как он спешно выселил меня 10 дней тому назад из квартиры, хотя мог дать мне время для приискания новой. Но я не хотел припомнить обиду, потому что предложение меня очень устраивало. Поэтому я сказал ему:
— Ладно, могу вернуться на старое пепелище. Только склад ваш принимать не стану. Вы его заприте и запечатайте, я буду жить как караульный.
Он поморщился.
— Я рассчитывал, что вы могли бы пока и продавать товар посетителям. Два месяца лавка будет на запоре. Хозяевам убыток!
— Нет уж, увольте! Принимать от вас наличность, потом сдавать вам. Опять будете перемеривать весь товар. Слуга покорный!
Он начал уговаривать меня, но я не уступил и ему пришлось согласиться.
— Если так, приходите завтра с утра, я в обед хочу уехать, — закончил он разговор.
На следующий день я вернулся утром на свою старую квартиру. Караван уже начали вьючить. Приказчик при мне запер склад и, кроме замков, привесил на скобах еще веревочки и припечатал их на бумажках своей печатью. Распрощались дружески, караван ушел, а через четверть часа Лобсын привел наших коней, навьючив на них мое скудное имущество.
Мы заперли ворота и расположились во дворе. Двор имел ту особенность, что через него протекал маленький арык, т. е. ручей, отведенный из русла одной из горных речек, которые стекают с гор Тарбагатая и орошают весь оазис Чугучака — его улицы, окружающие сады и огороды, а также пашни окрестностей города. Таким образом, вода для промывки золота была под рукой и мы могли, не торопясь и без свидетелей выполнить эту работу. Но нужно было раздобыть еще большую ступку, чтобы размельчить куски золотоносного кварца. Я нашел ее у хозяина постоялого двора по соседству, который употреблял ее, чтобы дробить горох. В Китае лошадей и мулов кормят не овсом, а полевым горохом, который дробят и распаривают горячей водой.
Мы спокойно устроились в моей бывшей квартире при складе. Сначала вскрыли горшочек, привезенный с золотого рудника. В нем оказалось мелкое золото, добытое китайскими рудокопами из кварцевых жил Чий-чу. Они размалывали кварц в больших чашах, составленных из нескольких обделанных глыб твердого гранита. Я забыл упомянуть раньше, что на первом руднике мы видели такую чашу. Она имела около двух аршин в диаметре и по окружности борт высотой в четверть. Размол мелких кусков кварца выполнял каменный вал диаметром в пол-аршина и длиной в аршин, который катался в чаше вокруг вертикальной оси. Он был прикреплен к этой оси одним концом, а к другому концу его, в который была вставлена деревянная жердь, припрягали лошадь или осла. Бегая по кругу вокруг чаши, животное приводило в движение вал, который катился вокруг оси и давил кварц. В чашу по жолобу поступала вода и затем вместе с кварцевым песком и золотом выливалась через отверстие в борту на наклонную плоскость, представлявшую то, что называется вашгердом золотоискателей, на котором под постоянно текущей водой более тяжелые частицы золота остаются у верхнего края, а более легкий кварцевый песок сносится дальше.
На руднике Чий-чу мы видели такую же каменную чашу, состоящую из четырех больших камней; возле нее лежал и вал с остатком деревянной оси, а в стороне возвышался порядочный холм из желтоватого кварцевого песка, перемытого на этой примитивной золотоизвлекательной фабрике.
Нам, конечно, не нужна была такая фабрика, чтобы перемолоть 18 кусков кварца, которые мы откопали в фанзе. Раздробить их в песок мы могли в большой чугунной ступке, а промыть возле арыка в простом медном тазу, приводя таз с водой и кварцевым песком во вращательное движение и сливая осторожно воду с кварцем и оставляя золото на дне.
Этим мы и занимались несколько дней. Лобсын толок кварц в ступке, а я промывал его у арыка, так как еще в детстве в Южном Алтае видел, как промывают в тазу золотоносный песок вольные старатели, и сам принимал в этом участие.
В квартире приказчик оставил большой безмен, так что мы могли свесить свое богатство. В горшочке оказалось тринадцать с четвертью фунтов золота, а из кварца мы добыли еще семь фунтов с лишком, так что в общем клад составил почти двадцать один фунт с половиной золота довольно высокой пробы, судя по его цвету. За него можно было выручить почти 10 тысяч рублей. Половины этой суммы было достаточно, чтобы купить или выстроить себе домик и склад в пригороде Чугучака и иметь оборотный капитал для закупки товаров, а на вторую половину, причитавшуюся Лобсыну, купить десяток хороших верблюдов, две-три лошади и начать вдвоем караванную торговлю в Монголии.
За время отсутствия приказчика нужно было организовать все это. В Чугучаке я знал китайского купца, который тайком покупал золото от золотоискателей, работавших в Тарбагатае. Я посетил его и условился, что буду приносить золото небольшими порциями, чтобы получать деньги на расходы.
Вблизи двора, в котором мы жили, был пустырь достаточной площади с несколькими большими деревьями и полуразвалившейся фанзой. Его владелец, проживавший в городе, согласился продать его недорого, а консул провел эту покупку. Я нанял нескольких рабочих и построил домик, службы и склад, все это, конечно, без затей, из сырцового кирпича с простой крышей, так что к половине лета все было готово. Лобсын уехал на свою летовку и, не торопясь, при случае покупал хороших верблюдов; изредка приезжал ко мне за деньгами.
Когда вернулся приказчик с своим караваном, я переселился в свой дом, а затем съездил в Семипалатинск, где продал в отделении Сибирского банка часть оставшегося золота, закупил разных товаров за наличные, поэтому с большой скидкой, и обозом увез их в Чугучак. К этому времени в половине августа летние жары спали. Верблюды, которые в начале лета линяют и слабеют, почему хорошие хозяева берегут их, так как в это время у них спины легко портятся при перевозке тяжестей, в половине августа уже покрыты новой шерстью.
Верблюды, закупленные Лобсыном, отдохнули, подкормились. Мы снарядили караван из семи хороших верблюдов и в конце августа, наняв еще погонщика монгола, отправились втроем в глубь Монголии. Мы не стали сбывать товар русским и китайским фирмам в городах и крупных монастырях, а повели торговлю непосредственно с монголами на их кочевьях и в небольших монастырях.
Через два с половиной месяца мы вернулись в Чугучак, распродав весь товар и закупив вместо него на местах частью за деньги, частью в обмен шерсть, кожи, цыновки. Сырье я отправил обозом в Семипалатинск, где нашел посредника, скупавшего это сырье для отправки в Россию.
Вот я и описал свое первое путешествие не по торговым делам. И невольно поставил себе вопрос: для чего и для кого я сделал это описание? Должен признаться, что мысль об этом подал мне Николай Иванович, консул Боков. Давно уже, после первой нашей с Лобсыном поездки на Алтай к запрещенному руднику, о которой я ему рассказал подробно за стаканом чая, он сказал мне: «А почему бы вам, Фома Капитонович, не записывать свои дорожные впечатления? Вы так хорошо умеете рассказывать о них, что слушателю хочется послушать еще и еще и задать вам вопросы о том или другом из ваших приключений. Попробуйте записывать на стоянках по вечерам при свете костра или днем во время дневки все, что видели по дороге в новых местах, что наблюдали, какая местность, каких людей встречали, что испытывали по поводу той или другой встречи или события в пути. А вернувшись домой и перечитывая эти беглые записи в карманной книжке, вспоминать все день за днем, что видели и слышали, о чем думали при разных приключениях, и записать подробнее. И на старости лет вам самим будет интересно перечитывать свои описания и вспоминать о былом или даже обработать эти записи, как следует, и напечатать описание своих путешествий. Ведь этот край, где мы живем — мало известный, никем как следует не описанный, а вы изъездили его уже вдоль и поперек и знаете его хорошо».
Уговорил он-таки меня, и я начал вести записи во время переездов с места на место, а зимой и весной, сидя в лавке, куда за целый день зайдет только десяток покупателей, я эти записи пополнял и переписывал в тетрадку. Так и накопились с годами десятка три тетрадок, и на старости лет, когда я перестал искать приключений и клады древностей, я их решил обработать, переписать и пополнить.
ВОСКРЕСШИЕ РУДОКОПЫ СТАРОГО РУДНИКА
Зимой я съездил опять в Семипалатинск и отвез туда скупленное в Монголии сырье, получил за него деньги, продал часть еще оставшегося золота, закупил разных товаров и привез их в Чугучак. Теперь амбар на моем дворе был наполнен, и я мог торговать понемногу в нашем пригороде. Лобсын был у меня агентом, объезжал зимовки киргизов и калмыков в Джаире, Барлыке и Уркашаре, показывал образцы товаров и сообщал, что все это можно купить у меня в амбаре.
Но пора, наконец, сообщить, какой облик имеет этот мой приятель и компаньон, выращенный мною из беглого ламского воспитанника, нищенствовавшего в Чугучаке.
Ему было лет 13, когда я взял его к себе, весной 1875 г. Он был одет в лохмотья, сам грязный, исхудалый донельзя. Он сидел вместе с стариком китайцем у ворог консульской усадьбы, читал молитвы и протягивал руку прохожим. В сильные морозы приходил иногда в мой амбар погреться. Я стал его расспрашивать, узнал, почему и как он сбежал из монастыря в долине Кобу, обнаружил, что он еще не испорчен нищенством, сметлив, услужлив, и решил приютить его. Вымыл, одел, приучил к работе в амбаре, доставать тюки, разворачивать их, отмерять аршином. Покупателей было немного, и я стал учить его русскому языку, а сам практиковался с ним по-монгольски. Он откормился у меня, подрос, и в конце лета я взял его с собой подручным в торговом караване. Эта работа ему понравилась, и он оказался прекрасным помощником, привязался ко мне, как к родному отцу, а я его также полюбил.
Через несколько лет он сам начал водить караван, выучился русской грамоте и счету, отлично вел торговлю с монголами, часто заменял мне проводника. Я узнал, где живет его отец, съездил к нему, помирил его с сыном. С тех пор Лобсын стал самостоятельным, вернулся в улус [19], женился, но каждый год осенью обязательно работал в моем торговом караване вместе со мной или же вел часть его по моему поручению в другие места. В остальное время года также нередко посещал меня.
Ростом он был повыше меня, плечистый, сильный, а лицом даже менее монголистый, чем я, унаследовал от бабушки тангутскую кровь и потому имел мало выдающиеся скулы, почти прямой нос и довольно густые волосы, небольшие усы и бородку.
Так вот, в половине весны следующего года после описанной находки золота Лобсын приехал ко мне и говорит:
— Знаешь, Фома, я узнал еще одно место, где можно накопать много золота.
— Ишь ты, жадный какой стал! — смеюсь. — У меня еще много твоей доли осталось. Что тебе еще нужно?
— Если хочешь знать, не в золоте самом дело, а в поисках его. Опять поедем с тобой налегке, новые места увидим, людей посмотрим и поищем.
— Шатун ты этакий! Не сидится тебе в юрте. Жену, ребят имеешь, юрту хорошую, скотину всякую. Жил бы себе припеваючи.
— Скучно жить так, без дела. Видно, душа у меня бродяги. Потому и по зимовкам езжу без особой надобности.
— Ну, подожди, осенью опять с караваном поедем.
— С караваном это не то, работа все одна и та же, а дороги и места уже знакомые. А вот налегке с тобой, как прошлый раз, куда-нибудь по новым местам и подальше.
— А новый клад этот далеко зарыт?
— Далеко, в Алтайских горах.
— Опять план с описанием раздобыл?
— Нет, не план, а в разговоре узнал. К отцу приехал за подаяньем старый лама и разговорился. Отец ему сказал про золотые рудники в Джаире, и он тут вспомнил; вот, говорит, недалеко от моего монастыря на речке Алтын-гол в Алтае богатый золотой рудник имеется. Прежде в нем золото добывали, но богдыхан запрет положил, и наш князь рудокопов прогнал, строгий караул поставил, чтобы никто не мог брать это богдыханское золото.
— Как же мы туда полезем, если рудник караулят?
— Ловкий человек обойдет караул. Вот мы с тобой не испугались волков, которые караулили золото в Чий-чу, а добыли его. Поедем, Фома, попытаемся.
Сколько же времени нам понадобится?
— В месяц, пожалуй, не обернемся. Клади шесть недель. Станет тепло, съездим, новые места увидим. Ты в Алтайских горах не бывал, а я их мало-мало знаю.
— Если так далеко — нужно взять палатку, запас всякий, значит, целый вьюк и верблюда.
— Нет, верблюда не нужно, время будет теплое, спину ему испортим. И в случае погони с завьюченным верблюдом далеко не уйдешь. Возьмем пару вьючных коней и поедем налегке.
Уговорил-таки Лобсын меня. Вспомнил я, как скучно в Чугучаке летом — духота, пыль, работы почти нет, торговля плохая, а у кочевников на летовках ни денег, ни сырья еще нет на обмен. Порешили — в половине мая поедем.
— Заготовь чаю, сахару, сухарей себе на два месяца, — наказал Лобсын. — Я привезу баурсаки, масло, пенки сушеные(чура), мясо вяленое. И вот еще — сшей два черных халата себе и мне.
— На меху или на вате? — рассмеялся я. — На что они, время будет теплое!
— Нет, халаты самые легкие из миткаля, что ли, но с колпаком для головы. И разрисуй их красками, как полагается для представлений на празднике Цам.
Я вспомнил, что во время этого праздника ламы маскируются, изображают фантастических животных, свирепых божеств и дают большие представления для развлечения богомольцев, стекающихся на праздник и жертвующих монастырям продукты и деньги.
Лобсын рассказал, как нужно разрисовать халаты, но на мой вопрос, для чего они понадобятся нам, ответил с усмешкой:
— Там узнаешь! Может, и не понадобятся. А на всякий случай нужно иметь их.
В половине мая у меня было все готово. Я нашел надежного старика, который должен был поселиться в моем домике и караулить двор и склад. Товар в складе и дом были застрахованы, а оставшееся золото зарыто в укромном месте на дворе, так что в случае пожара в мое отсутствие я не рисковал потерять свои богатства. В назначенный день приехал Лобсын и привел двух верховых и двух вьючных коней и собачку-караульщика.
Мы выехали ранним утром по большой дороге на восток вверх по долине реки Эмель. Как и в первую поездку, слева от нас тянулся крутой южный склон Тарбагатая, а справа подальше цепь Барлыка. Но мы ехали в этот раз ближе к подножию Тарбагатая по дороге на перевал через этот хребет. Степь уже зеленела молодой скудной травкой и полынью, среди которых алели, словно пятна крови, чашечки мелкого степного мака. Хохлатые жаворонки то и дело взлетали впереди нас и заливались в синеве неба под лучами солнца, поднявшегося из-за темных мрачных отрогов Уркашара, разрезанных крутыми ущельями.
В одном из логов, которые тянулись с Тарбагатая и которые пересекала дорога, я увидел небольшое глинобитное здание и возле него лужу воды, окруженную грязью, истоптанной копытами многих животных. Людей и домашних животных не было видно.
— Что это за дом? — спросил я.
— Это аршан [20], целебный источник, — сказал Лобсын. — Сюда из Чугучака приезжают больные лечиться в жаркие дни.
— Что, в этой грязной луже купаются или воду из нее пьют! — воскликнул я с ужасом.
— Нет, там в домике яма есть вроде колодца. Зайдем, погляди.
Мы подъехали к зданию; оно не имело окон, а только узкую дверь, загороженную толстой жердью. Я заглянул внутрь и увидел возле боковой стены квадратную яму с грубым срубом из толстых досок, доверху наполненную водой. Ничего больше на земляном полу не было, здание не имело и крыши.
Этот примитивный курорт заинтересовал меня, я спешился и вошел в здание. Вода в яме, глубиной около аршина, была почти чистая, на вкус чуть-чуть кисловатая, довольно холодная. Минеральная вода, очевидно, выбивалась со дна этого колодца и, проникая под стену здания, образовала лужу возле него, из которой пили животные.
— Вот из этого колодца больные воду пьют, — пояснил Лобсын, — а иные окунаются в нем, потому что вода очень холодная, купаться нельзя.
— А от каких болезней лечатся?
— Которые желудком страдают, рвотой, печень если болит — тоже помогает, говорят. Поставят по соседству палатку на степи и живут недели две-три. А иной приедет с бочкой, наберет воды и увезет к себе в город и там пьет, стаканов десять в день. Помогает вода также у кого глаза болят, слезятся; водой этой глаза каждый час моют и тоже пьют.
Позже консул объяснил мне, что при надлежащем благоустройстве вода этого источника — углекислого — сделалась бы более крепкой.
В китайский город Дурбульджин мы приехали уже вечером и завернули на постоялый двор, сберегая свои запасы.
— Далеко ли поехали, хозяева? — спросил китаец, подавший нам блюдо с горячими пельменями и чайник.
— В Зайсан по торговым делам, — сказал Лобсын.
— За перевалом на русской границе ваши вещи будут осматривать в таможенном карауле. Теперь за китайский шелковый товар большую пошлину берут.
— Ну, у нас, кроме припаса, ничего нет. Мы в Зайсан за товаром поехали, — сказал я.
Китайца, очевидно, смутили наши объемистые, хотя не тяжелые вьюки. До Зайсана только три дня езды с двумя ночевками, так что много припасов не нужно возить с собой.
За Дурбульджином мы вскоре свернули с дороги в Зайсан и поехали дальше вверх по долине реки Сары-эмель, которая составляет правую вершину реки Эмель и течет между Тарбагатаем и Уркашаром. Дорога пересекала отроги Тарбагатая, а справа за речкой Сары-эмель тянулся длинный и узкий гребень со странным названием Джилантель, т. е. «змеиное жало». Его, действительно, можно было сравнить с жалом змеи, вытянутым вдоль огромной пасти, челюсти которой составляли с одной стороны Тарбагатай, с другой — Уркашар, поднимавшиеся выше. Этот гребень Джилантель поднимался на восток зелеными уступами, на которых паслись кое-где бараны и коровы, обнаруживая присутствие зимовок, разбросанных по долинам как реки Сары-эмель, так и реки Кара-эмель, которая течет между Джилантелем и Уркашаром, составляя левую вершину реки Эмель.
Часа два мы ехали в виду этого «змеиного жала», которое затем, круто поднимаясь вверх, превратилось в высокий хребет Коджур, примыкающий с севера к Уркашару К долине Сары-эмель Коджур спускался крутым склоном, прорезанным узкими логами с круглыми купами казацкого можжевельника, похожими на большие зеленые клумбы; по дну логов белели еще остатки зимнего снега. Этот выпуклый склон совершенно скрывал от нас скалистые вершины Коджура, которые, по словам Лобсына, были еще покрыты снегом. Тарбагатай по-прежнему тянулся слева от нашей дороги, но был уже невысок. Долина Сары-эмель сузилась, речка превратилась в ручеек, извивавшийся по болотистым лужайкам, пестревшим желтыми цветами.
Мы миновали ворота Бай-мурза, где Тарбагатай круто обрывается утесами к широкой долине, которая отделяет его от Саура. В этой долине невдалеке белели домики русского таможенного поста Чаган-обо, а за ним вдали поднимался Саур, похожий на огромную ровную ступень, над которой ползли темные тучи, алевшие в лучах заходившего солнца.
Мы были у самой русской границы, но сейчас же повернули вправо и вверх по долине небольшого ручья стали подниматься на горы Тепке, которые соединяют Коджур с Сауром. Здесь на лужайке остановились ночевать. Разбили палатку, развели огонь. Лобсын выбрал это место потому, что увидел рядом оставленную зимовку, вокруг которой была огорожена площадка с хорошей травой. Там можно было оставить на ночь лошадей, не опасаясь, что они уйдут. Палатка была поставлена возле изгороди, и собачка Лобсына могла сторожить и нас, и лошадей.
На следующий день мы поднялись на горы Тепке, которые отделяют впадину реки Чаган-обо от обширной долины реки Кобук. С перевала мы увидели на западе вершины Коджура, покрытые снегом, через которые проглядывали крупные глыбы. Судя по этому, Коджур поднимался выше Уркашара и Тарбагатая, на которых снег уже исчез.
С перевала мы спустились в широкую долину Кобу, которая отделяет высокий Саур от хребта Семистай, составляющего продолжение Уркашара.
Слева, подобно темной ровной стене, тянулся Саур; его склон кое-где рассекали глубокие ущелья, а выше среди пелены облаков белели острые вершины, сплошь покрытые снегом. Я долго любовался ими, вспоминая Алтай и его вечноснеговые вершины, и спросил Лобсына, остается ли снег на них все лето.
— Круглый год лежит! Потому и горы называются Мус-тау, т. е. снеговые. Это семь вершин, которые поднимаются высоко над Сауром.
Из первого ущелья в стене Саура выходила и тянулась далеко в долину Кобу узкая лента леса, которая кончалась у какого-то белого здания.
— Это что за дом здесь? — спросил я.
— Кумирня Матени называется. Но при ней монастыря нет. В начале весны сюда приезжают ламы из нашего монастыря и служат молебствие о хороших кормах и благополучии скота по всей долине. Долина Кобу — моя родина, здесь киргизов нет, живут только калмыки. Там дальше под Сауром монастырь, в котором я учился, и ставка нашего князя Кобук-бейсе.
Меня удивила лента леса, которая из ущелья Саура тянулась до кумирни Матени в долине Кобу, где леса больше нигде не было видно. Я спросил Лобсына, какой это лес.
— Лиственица, она по всему Сауру растет.
— Как на Алтае! — вспомнил я.
— А здесь это последние деревья лиственицы. В Тарбагатае, который подходит близко к Сауру, лиственицы нет, растет только казачий можжевельник; то же в Коджуре и Уркашаре, а в Барлыке лес хороший, но только еловый.
Позже консул подтвердил, что лиственица перебрасывается из Алтая на юг через широкую долину Черного Иртыша и образует леса в Сауре, оканчиваясь у кумирни Матени в долине Кобу, а тянышанская голубая ель распространяется из Тянь-шаня на север в Джунгарский Ала-тау и Барлык, но не дальше. В промежутке между Сауром и Барлыком в горах нет ни лиственницы, ни ели, а встречаются казачий можжевельник и немного березы, осины и вербы.
Вид из долины Кобу на юг был интереснее. Хребет Семистай тянулся здесь, как высокая зубчатая полуразрушенная стена. Острые вершины гор обрывались к северу высокими скалами красного цвета; к ним примыкали более низкие скалистые горы, как будто состоявшие из обрушившихся сверху громадных глыб. В разных местах высились отдельные крутобокие скалы, похожие на развалины башен и замков. Узкие ущелья круто поднимались вверх, а внизу открывались на покатую равнину, как бы составлявшую подножие этой стены. Она представляла сухую полынную степь и резко отделялась от зеленых лужаек дна долины Кобу.
Мы долго ехали по окраине этого подножия, любуясь скалами Семистая справа и зеленой долиной слева, замкнутой на севере темной стеной Саура, над которой сверкали под лучами солнца снеговые поля на пиках Мус-тау.
— Красивое место твой родной край, Лобсын! — сказал я.
— И богатое, — прибавил он. — Здесь хорошие луга для зимних пастбищ, в Сауре много леса для дров и хорошие летовки.
— А в Семистае летовки есть?
— Нет. Это совсем дикие горы: везде камень, скалы, ущелья, травы мало, и места для скота неудобные. Но у нас холоднее, чем в Чугучаке, хороший хлеб сеять нельзя, ячмень — и тот иногда замерзает, не дозрев.
— А Ибэ-ветер зимой тоже дует?
— Нет, такого ветра здесь нет. Видишь, кругом горы: Саур с одной стороны, Семистай — с другой, а Коджур — с третьей. Долина Кобу — тупик, ветру выхода нет, и зимой у нас тихо.
По мере того, как мы ехали на восток по долине Кобу, она становилась менее ровной. Плоские холмы среди нее стали выше и потом слились в длинную цепь скалистых горок Кара-адрык, которая закрыла от нас северную часть долины вдоль подножия Саура, где, по словам Лобсына, была расположена ставка князя Кобук-бейсе и монастырь, в который отец сдал его ламам в науку.
Цепь Мус-тау кончилась, но стена Саура тянулась по прежнему, закрывая вид на север. С другой стороны Семистай стал значительно ниже, оставаясь скалистым и диким.
— Здесь тоже летовок нет, — заявил Лобсын на мой вопрос. Но здесь легко перевалить на ту сторону, дороги есть. А там через высокий Семистай только горные козлы и архары [21] могут перебраться.
— И много их там водится?
— Много. Семистай — самое лучшее место для охоты на этих животных. И наши калмыки добывают их понемногу.
Вечером мы остановились на большой лужайке вблизи того места, где река Кобук поворачивает на юг, врезается в дно долины и прорывается через Семистай. Меня поразило, что в течение целого дня, пока мы ехали по долине Кобу, нам не встретилось ни одного человека. Я спросил Лобсына, где же его соплеменники калмыки, почему их не видно.
— Все наши зимовки стоят под Сауром и их с этой дороги не видно. Нашим калмыкам здесь делать нечего. Видишь, какая сухая степь под Семистаем. А под Сауром много ключей, ручьев, трава жирная и летовки в горах тоже недалеко. Встретиться нам мог бы здесь только охотник на козлов по дороге в Семистай.
На следующий день мы продолжали ехать на восток по долине Кобу и видели зимовки калмыков под Сауром потому, что цепь Кара-адрык кончилась и вся долина открылась перед нами. К закату горы с обеих сторон распались на холмы, а долина уперлась в обширную впадину большого озеда Улюнгур. Мы остановились на его западном берегу. Корма здесь было достаточно в виде камышей в воде и травы на берегу. Но вода озера нам не понравилась для чая; она была чуть солоноватая. Нам и нашим лошадям сильно досаждали комары, которые кружились огромными роями.
Улюнгур — озеро очень большое, длиной около 40 верст в стороне треугольника, форму которого оно в общем имеет; берега окаймлены во многих местах большими зарослями камышей, в которых ютятся кабаны и утки. Еще поздно вечером оттуда доносилось кряканье, хлопанье крыльев, а издалека визг свиньи, на которую, очевидно, напал какой-нибудь хищник. Но наша собака лежала спокойно вблизи огня и только по временам поднимала уши, прислушиваясь. Лошади на ночь были привязаны близ палатки, мы нарезали им по снопу молодого камыша.
На следующий день мы обогнули южный конец озера по окаймляющей его равнине с солончаками и болотцами с кустами тамариска [22] и пришли в китайский городок Булун-Тохой в низовьях реки Урунгу, впадающей в озеро. Это было последнее поселение на нашем пути, и мы пополнили свой запас муки, купили китайских булочек и баранины на два дня.
Город еще не оправился после дунганского восстания, внутри его стен видно было много пустырей и мало людей, кроме главной улицы, вдоль которой тянулись жалкие лавки и мастерские, чередуясь с развалинами фанз. Жидели жаловались, что и летом им не дают покоя тучи комаров, налетающих с озера и болот. Возле города виднелись небольшие китайские огороды и пашни, на которых трудились земледельцы. День был жаркий, и они работали, обнаженные до пояса, с большими соломенными шляпами на головах.
Миновав город, мы повернули вверх по долине Урунгу. Это большая река, шириной в 35-40 сажен, с быстрым течением в извилистом русле с песчаным дном.
В нижнем течении дня на два пути долина ее очень широка, верст 5-10. Вдали в обе стороны видны обрывы, разрезанные оврагами. По дну долины рассеяны большие рощи карагача, тальника, тополя, джигды [23] и заросли тростника.
Корма и топлива везде достаточно, но населения мы не встречали: как только начинается жаркая погода, монголы откочевывают за Иртыш в предгорья Алтая, так как на Урунгу летом много комаров и оводов, кбторые мучат животных и людей. Поэтому мы видели только места зимовок в виде голых площадок круглой формы, на которых зимой стояли юрты, и изгородей из жердей и хвороста для скота. Они всегда были на южной окраине рощ; монгол любит солнечный свет и тепло.
Этот и следующий день мы ехали по широкой долине нижнего течения реки, а затем началось среднее течение, на протяжении еще пяти дней пути.
Местность в обе стороны от реки представляла резкую противоположность дну долины. Это была почти пустыня, то ровная, усыпанная щебнем, то в виде глинистых бугров и каменистых холмов с небольшими пучками травы, кустиками саксаула [24], бударганы [25], рассеянными кое-где, часто далеко друг от друга.
Но на полуденную остановку и на ночлег мы всегда спускались в долину, где можно было найти не только воду, но и корм и топливо, а также попадалась дичь; в часы дневного отдыха или вечером мне почти всегда удавалось подстрелить какую-нибудь птицу или зайца, так что мы не оставались без свежего мяса.
Во время одной ночевки на среднем течении реки Урунгу случилась неприятность, которая чуть было не заставила нас вернуться назад ни с чем. Мы уже поужинали, собрали коней и привязали их к дереву недалеко от палатки, нарвав им достаточно травы на ночь. Легли спать, оставив как всегда собаку возле палатки. На рассвете разразился короткий, но сильный ливень с крупным градом. Я проснулся и увидел, что собака забралась в палатку, спасаясь от ударов крупных градин. Когда дождь прекратился, я выгнал ее наружу; она стала визжать и царапать полу палатки. Это меня обеспокоило, и я выглянул. Коней не было! Отвязаться они не могли, а от града их защищала листва большого дерева, под которым они стояли.
— Лобсын! — крикнул я, — кони удрали или их увели.
Лобсын выскочил и побежал к дереву.
— Увели какие-то жулики! — донесся его голос. — Поводки остались на дереве, перерезаны. И свежие следы на земле видны, два человека были здесь!
Очевидно, конокрады следили за нами еще с вечера и ночевали по соседству, но присутствие собаки мешало им совершить кражу ночью. Я вспомнил, что собака ночью раза два ворчала: видимо, чуяла подбиравшихся к нам воров. Ливень с градом, загнавший собаку в палатку, сопровождавшийся сильным шумом и раскатами грома, позволили похитителям быстро выполнить свое намерение. Второпях они перерезали поводки и умчались на лошадях.
Мы оба стояли в унынии возле дерева. Выследить воров было не трудно. Собака Лобсына была приучена к этому, а следы на намокшей земле оставались ясные. Но что же мы могли сделать, оставшись без коней? Тащить на себе четыре седла и два вьюка, выслеживая воров пешком, конечно, не имело смысла — и никаких шансов на успех. Я мог бы остаться в палатке, а Лобсын с собакой преследовать воров налегке. Но и это было безнадежно, хотя они не могли еще уехать далеко. Пеший конному не товарищ, как говорится.
— Видно, придется тебе, Фома, караулить наш стан, — сказал Лобсын. — А я пойду искать где-либо поблизости монгольские зимовки, чтобы нанять там коней и погнаться за ворами.
— А если не догонишь их? Пока что они уедут далеко, перемахнут за Иртыш и через Алтай на летние кочевья, продадут коней кому-нибудь, ищи ветра в поле!
— Ну, найду зимовки, купим коней, чтобы ехать дальше. Денег у тебя хватит?
— Смотря по тому, сколько запросят монголы. Может быть, придется только нанимать коней от улуса до улуса и ехать обратно в Чугучак не солоно хлебавши.
Вдруг собака залаяла и бросилась в сторону реки, откуда раздался топот копыт по гальке. Из густых зарослей тальника вырвалась лошадь и прибежала к нам, сопровождаемая нашей собакой, которая с визгом и ворчанием подскакивала на бегу, стараясь схватить коня за гриву.
— Это мой конь! — воскликнул Лобсын. — Он меня любит и всегда подбегает, возвращаясь с пастбища ко мне, лишь только увидит. От воров вырвался и прибежал назад. Ну, теперь дело иное! Я сейчас в погоню за ними с собакой, а ты останься при палатке.
Лобсын побежал к палатке, вынес потник, седло, уздечку. Я оседлал подбежавшего коня, пока калмык одевался и наскоро собирал кое-что в суму, очевидно, немного провизии и чашку.
— Возьми мое ружье! — предложил я.
— Не нужно, лучше дай ливольвер, он неприметный в кармане, а вытащишь — страху нагонит больше.
Я достал револьвер, который Лобсын засунул за пазуху. Стрелять я выучил его давно, и, сопровождая караваны, он всегда имел револьвер с собой на всякий случай.
— Ну, будь здоров, Фома! Если не к вечеру сегодня, то утром завтра вернусь беспременно. Воры еще недалеко, и я скоро догоню их.
Он привел собаку к дереву и показал ей следы конокрадов, очевидно монголов, судя по острому углублению от каблука и отсутствию следа от задранного вверх носка монгольских сапог. Собака взвизгнула и побежала по следу. Лобсын вскочил на коня и умчался за ней. Я смотрел, как он ворвался в чащу тальника по узкой тропе и исчез. Было уже совсем светло, грозовая туча ушла на юг, вершину дерева осветило восходившее солнце. Легкий порыв ветра встряхнул листву и обдал меня обильными каплями воды, что было неприятно, так как я стоял в одной рубашке и кальсонах, как выскочил из палатки.
— «Вот неожиданная дневка! — подумал я. Спать уже не хочется, оденусь, разведу огонь и буду чаевать не торопясь». Набрал хворосту, который намок и не скоро загорелся. Позавтракал, потом от нечего делать пересмотрел наш запас провизии, седла и сбрую, кое-что починил; разложил потники проветрить на траве, немного подмокшие сухари рассыпал на мешке для просушки; отвязал обрезанные поводки от дерева, из четырех сделал два и достал еще два бывших в запасе. Палатку пригрело и высушило поднявшееся уже высоко солнце. Так прошло несколько часов. Захотелось есть, опять развел огонь, повесил котелок, чтобы разварить вяленое мясо. Сижу возле него и вижу, — с востока едут два монгола, очевидно заметили дымок и палатку.
Обменялись приветствиями. Они спросили, куда и по каким делам еду. Я сказал, что еду в Кобдо по торговому делу
— Ты что же, один и пеший? — удивились.
— Двое моих спутников поехали купить барана. Далеко ли отсюда до каких-нибудь юрт? — спрашиваю.
— Полчаса хорошей езды будет, — ответили, — ближе зимовок нет. Не угостишь ли чаем, мы с утра из дому.
Вижу, хотят погостить, и пригласил их.
Они спешились, привязали коней. Котелок у меня кипел, но вместо мяса я настрогал кирпичного чая, заварил, принес и развернул мешочек с сухарями. Они присели у костра, вынули из-за пазухи деревянные плоские чашки, без которых монгол даже к близкому соседу не поедет. Закурили свои маленькие медные трубки, предложили мне затянуться. Я сказал, что не курю. Огонек у меня был вблизи палатки, а полы последней раскинуты, так что хорошо видно, какие вещи в палатке лежат. Замечаю, что гости очень внимательно поглядывают туда. «Не захотят ли они меня ограбить, — думаю, я один, их двое, у каждого у пояса острый нож в ножнах подвешен, как всегда у монголов в дороге, а у меня ружье в палатке и не заряжено».
Но опасения были напрасны. Я им сказал ведь, что мы едем по торговым делам, и вот они разглядывали, нет ли у меня товара, и, наконец, спросили, не могу ли продать им дабы или ситцу. Пришлось объяснить, что мы едем в Кобдо налегке принимать караван и что никаких товаров не везем.
Они вместе со мной выпили весь котелок, распростились и уехали. В разговоре с ними я, между прочим, спросил, пошаливают ли в этой местности конокрады, и узнал, что да, что из-за Алтая нередко приезжают и угоняют коней. В районе Кобдо прошлым летом была сибирская язва и много коней пропало, вот теперь тамошние монголы и делают набеги за конями в чужой аймак.
Гости рассказали мне также о нашествии в 1878 г. киргизов [26], бежавших в пределы Китая из Устькаменогорского уезда в числе нескольких тысяч. Часть их провела зиму на реке Урунгу и испытала страшные бедствия из-за бескормицы для скота, которого у них было много. Скот съел дочиста всю траву, тростник зарослей и молодой тальник, после чего киргизы обрубили сучья всех деревьев в рощах, а потом стали даже рубить деревья; кора их шла на корм баранам, а щепками древесины кормили лошадей и коров. От такой пищи скот издыхал во множестве, особенно бараны, и даже волки не успевали поедать многочисленные трупы.
Этот рассказ объяснил мне то, что мы заметили по пути по среднему течению: обезображенные стволы деревьев, которые успели частью уже выпустить молодые короткие сучья на месте отрубленных, множество гнилого хвороста в рощах и скелеты или кости животных, разбросанные повсюду. Мы думали, что здесь был сильный падеж от какой-нибудь болезни, но вида деревьев объяснить не могли.
Проводив гостей, я опять повесил котелок, чтобы как следует пообедать. Это заняло часа полтора. Время перевалило за полдень, делать нечего, клонит ко сну, а уснуть боюсь из-за конокрадов, которые могут и на наши вещи позариться. Сижу возле палатки и клюю носом, а ружье на всякий случай зарядил картечью и возле себя положил. И вдруг слышу, где-то поблизости хрюканье раздалось и визг поросячий. Я встрепенулся, поглядываю. Недалеко от палатки ложбина, камышом заросшая, должно быть, старая протока реки Урунгу. Там и визжат, очевидно, кабаны, а камыши колышутся. Схватил ружье, подполз осторожно между кустами чия поближе и залег. Немного погодя, из камышей вышел кабанок годовалый, поднял морду и нюхает: должно быть, запах дыма почуял. Я приложился и выстрелил, он подскочил и с визгом назад, очевидно подбит. Я побежал к камышам и нашел его в нескольких шагах, прикончил прикладом, взял за задние ноги и притащил к палатке. Вот и дело нашлось — опалить, выпотрошить, разрезать и побольше сварить, а окорока присолить. Так до вечера и провозился. Хороший ужин Лобсыну приготовил и сам наелся. Потом набрал хворосту и валежника в роще побольше, чтобы ночью хороший огонь поддерживать — и от волков защита и Лобсыну маяк в темноте.
Стемнело. Сижу возле огня, ружье под рукой, прислушиваюсь и сон разгоняю. Недалеко на дереве маленькая сова заунывно кричит: «сплю, сплю», ее потому сплюшкой называют. Где-то далеко волк воет, а еще дальше чуть слышен собачий лай, — очевидно, юрты, и, конечно, ближе, чем сказали монголы. Полчаса хорошей езды — это верст восемь, а так далеко собак, пожалуй, не услышишь. По временам порыв ветра налетает, и листва рощи вдоль реки шумит. В первый раз пришлось одному проводить ночь в пустыне, и немного жутко. Звезд не видно, небо обложило, порой накрапывает. «Вот, — думаю, — пойдет дождь, огонь погасит, придется в палатку спрятаться. Лобсына собака приведет по следам, а как насчет волков? Неужели они осмелятся залезть в палатку, свежую свинину почуяв?»
Наконец, часов в одиннадцать слышу топот вдали. Но не с востока, куда уехал Лобсын, а с севера. Не конокрады ли опять? Топот все ближе, едут рысью и несколько коней. Я зашел в палатку на всякий случай, чтобы не быть на виду. Слышу: Фома-а-а! Лобсын весть подает, чтобы я с перепугу не выстрелил. Я выбежал и вижу — из зарослей тальника выскочила собака наша, а через полминуты Лобсын верхом и трех коней за собой на аркане ведет. Очевидно, отбил их, молодчина!
Подъехал, соскочил с коня, поздоровался, я его поздравил с успехом. А собака повертелась вокруг меня, землю кругом нюхает, нашла поблизости внутренности кабана и давай их пожирать. Намаялась, бедная.
— Придется коней арканом привязать! — говорит Лобсын. — А корму им на ночь хватит ли?
— Я наготовил, — говорю, — а поводки уже починил.
Привязали коней, чтобы выстоялись пока. Котелок с супом и свининой стоял у меня возле огня горячий. Уселись. Лобсын уплетает суп прямо из котелка, заметил свежее мясо вместо вяленого и спросил: откуда? Я ему объяснил. Поспел и чайник. За чаем он и рассказал о своих похождениях.
— Собачка хорошо по следам повела. Заминка вышла только за рекой Урунгу: перебродив ее, они сразу повернули на запад еще по воде, поэтому собака долго искала их след за рекой, но все-таки нашла. Догнал я их только около полудня, верстах в тридцати отсюда. Они остановились чаевать: ведь всю ночь не спали и проголодались. Расположились в чаще тальника возле реки. Я издали заметил дым от их костра, отозвал собаку, привязал ее в укромном месте в чаще и дал ей сухарей, чтобы не визжала. Сам объехал чащу, где они засели, большим кругом и подъехал к ним с запада. Они, видно, не ждали погони, не знали, что моя собака — следопыт. Видят, приехал к ним человек безоружный, не встревожились. Поздоровались. Я сказал, что везу почту из Зайсана в Кобдо русским торговцам нарочным. Расспросил про дорогу, про перевал через Алтай. Они пригласили чай пить, я достал свои сухари, сахар, чтобы они видели, что я из русского места еду. Их было двое, монголы из-за Алтая. Я спросил, не по пути ли им со мной ехать дальше вместе. Нет, говорят, они едут в монастырь Тулта на праздник. Собираются еще часа четыре побыть, пока жар не спадет, едут с раннего утра, кони устали. Я сказал, что тоже подожду, лошадь отдохнет. Расседлал коня, пустил пастись к ихним коням, которые по соседству кормились; при этом рассмотрел, что наши угнанные тут же, но один из них, вьючный вороной, который вчера чуть прихрамывал, совсем плох, на трех ногах передвигается, четвертая опухла. Они его, видно, не щадя, гнали. И думаю: «как же мне с ним быть?»
Вернувшись к конокрадам, спросил:
— Что же у вас один конь совсем хромой. Как же дальше поедете?
— Тут недалеко улус есть, там его оставим, — ответили.
Я надеялся, что они всю ночь не спали и теперь на стоянке вздремнут и я успею увести коней. Но они, видно, мне не доверяли, и один прилег, а другой сидит и разговаривает и за конями присматривает, а спать ему, видно, сильно хочется. Так прошло часа четыре. Я вижу, время к вечеру, говорю, что пора бы ехать, а перед тем еще чаю попить. Тот согласился, котелок согрел, второго разбудил. Я, пока что, своего коня заседлал. Выпили чаю, они стали собираться. Я достал из своей сумы бутылочку и как будто приложился к ней, глотнул. Они спрашивают: — ты что это пьешь? Это, говорю, русская водка, бальзам называется, она шибко сон разгоняет, человека бодрит. Мне сегодня до полуночи ехать нужно. Они и обрадовались: — Угости ты нас, нам тоже долго ехать придется. Особенно просит тот, который не выспался, настаивает. Ну, я ему налил полчашки, он выпил, говорит: «вкусная какая, сладкая!» Второй также просит, я и ему даю, но как бы нехотя.
Тут я не выдержал, прервал Лобсына.
— Чем же ты их угощал и для какой надобности?
— А это у меня было хорошее тибетское лекарство, крепкий сон дает, быстро человека с ног валит.
— Вот оно что! Теперь я понимаю. А то все невдомек, как ты надеялся коней выручить.
— Ну вот, — продолжает Лобсын. — Они выпили и присели еще у огонька последнюю трубку перед дорогой выкурить и тут один за другим и свалились, заснули. Я немного выждал, не проснутся ли, а потом побежал с своей сумой к коням, взяв у конокрадов аркан, чтобы трех наших вести, собрал их, а вместо нашего хромого взял одного из ихних, такого же вороного. Сел на своего, а трех на аркане за собой веду, освободил собачку и рысью назад; но только сразу повернул к реке и перебрел ее на нашу сторону, чтобы след не скоро нашли, если проснутся раньше времени.
— Ну и молодчина, — сказал я, выслушав рассказ Лобсына. Но откуда это у тебя тибетское сонное лекарство было и зачем ты его с собой взял?
— Это для караула при золотом руднике было приготовлено на всякий случай. А получил я его у знакомого ламы. Только теперь из-за этих конокрадов мало у меня осталось, нехватит, пожалуй, на всех караульных.
— А я думал, что ты пристрелишь конокрадов из револьвера!
— Ну зачем напрасно кровь проливать! Вот коня хорошего я у них увел взамен хромого, это им поделом.
— Представляю себе их злобу, когда они проснутся! — воскликнул я. — Краденых коней у них увели и оставили хромого, так что и в погоню только один из них может поехать. А скоро ли они могут проснуться?
— После этого лекарства часов восемь крепко спят. Они только теперь проснулись, ночь глубокая, следа не видно, будут сидеть до утра и ругать друг друга за свою оплошность. Но давай спать ложиться, время позднее.
Эта ночь прошла у нас спокойно, утром поехали дальше и конокрадов больше не видели.
В верхнем течении река Урунгу образуется из трех рек — Чингила, Цаган-гола и Булаган-гола; первые две текут с южного склона Алтая, а третья с востока уже среди предгорий, и в нее справа впадает речка Алтын-гол — цель нашей поездки. Поэтому мы направились вверх по долине Булагана. По сравнению с Урунгу, приходилось думать, что мы поднялись уже довольно высоко; там было полное лето, а здесь еще конец весны и ночи прохладные. Рощ больших деревьев не было, берега реки были окаймлены только высоким тальником, заросли тростника и чия попадались не везде. Горы, окаймляющие долину, были уже высоки и бедны растительностью. Встречались и юрты монголов, которые еще не откочевали на летовки, так как было не жарко и комары не беспокоили. На Булагане их вообще мало.
Мы ночевали вблизи одних юрт и узнали, что до Алтын-гола еще половина перехода и что рудник находится вверх по его долине, недалеко от впадения ручья в Булаган, что возле рудника живут караульные, которые никого в рудник не пускают.
На следующий день под вечер мы дошли до устья Алтын-гола. Вверх по его долине шла тропа, и мы легко нашли рудник. Долина ручья была не широкая, склоны же очень крутые и безлесные, даже кустов нет. Караульные, очевидно, постепенно извели все на топливо. По долине бежал порядочный ручей, вдоль него лужайки, но сильно потравлены скотом караульных, так что ночевать в соседстве с ними нам не хотелось. На лужайке у подножия горы стояли три юрты, довольно худые, в них с семьями жили караульщики. Позади юрт на нижней части склона был виден вход в рудник. Жердями, прислоненными к скале, он загорожен, жерди арканом перехвачены, друг с другом связаны, так что пробраться внутрь незаметно и быстро днем невозможно, а ночью собаки голос подадут. Три большие собаки лежали возле юрт и встретили нас свирепым лаем, когда мы подъехали.
Монголы, конечно, были рады гостям. Живут они в стороне от караванных дорог, скучно, не с кем словом перемолвиться, степные новости узнать. Других юрт по соседству нет. Мы спешились, зашли в юрту спросить, где поблизости можно переночевать, чтобы был подножный корм. Говорят — поедете немного дальше по Булагану, там другая долина справа будет, вода есть, и трава порядочная. Засветло успеете доехать. Нас, конечно, спросили, откуда, куда и зачем едем. Говорим, из Зайсана по торговым делам в Улясутай. Думали на Алтын-голе ночевать, а оказалось, что здесь вся трава потравлена.
— Из Зайсана едете! — воскликнул монгол, хозяин юрты. Русского приказчика Первухина не знаете ли?
— Знаю! — отвечаю ему, потому что этот Первухин, который меня в Чугучаке сменил, раньше в Зайсане проживал.
— Так вот Первухин, — говорит хозяин, — мне два года назад в Улясутае очень плохой товар продал в русской лавке. Я для своих женщин целую штуку цветного ситца у него купил, хорошие деньги отдал. А ситец вот какой оказался.
Монгол вскочил, порылся в сундучке, стоявшем у стенки юрты, и поднес мне сверток желтого ситца с крупными цветами.
— Вот, попробуй сам, весь гнилой!
Я развернул сверток, взял в обе руки за край и растянул, как полагается пробовать прочность материи. Ситец и разорвался, гниль настоящая.
— Чего же ты, — говорю, — смотрел, покупая, не пробовал сам, что ли?
— Пробовал, как же! Приказчик развернул мне несколько локтей, они были хорошие. Я и поверил, что весь такой же. А перемерил он всю штуку сам на моих глазах.
Эти фокусы мне были знакомы. И мне из Москвы иной раз присылали гнилой товар. Пришлют аршин 10-15 хорошего ситца для видимости снаружи, а остальной в штуке или брак с пятнами и полосами, или прямо гнилой. И приходилось гнилой обменивать покупателям, а брак продавать подешевке и в Москву отписывать жалобы.
— Ты едешь в Улясутай, — монгол говорит, — увидишь там Первухина, обменяй мне эту дрянь на хороший. А, может быть, у тебя с собой есть товар, так обменяй здесь.
— Нет, мы с собой никакого товара не везем, только почту, — объясняю ему.
— А скоро ли обратно поедете?
— Через месяц или два. Но, может быть, поедем не этой дорогой, а через Кобдо. Как же быть тогда с обменом?
— Ну, все равно, бери с собой, мне он ни к чему.
Пришлось взять ситец с тем, чтобы в Чугучаке Первухину нос утереть им, а монголу вернуть при первой возможности, хороший, хотя бы из своего склада.
Расспросили мы караульных и насчет рудника, узнали, что он уже лет 10-12 не работается, но раньше работался довольно долго. А жила идет далеко в глубь горы и высоко вверх по склону. Там местами также копано, но золота мало, а вглубь, говорят, богатое было. Караульные сами не работали, они ежегодно меняются: монгольский князь наряжает их по очереди на год. Прежде бывали попытки хищничества: забирались в рудник добывать потихоньку золото. Двух хищников караульные в первый же год закрытия рудника, когда эти попытки были, даже застрелили и оставили в глубине нижней штольни. С тех пор попытки прекратились.
Выпили мы за разговорами чаю, вышли садиться на коней. Я присмотрелся, вижу вверх по склону наискось от заслона из жердей беловатая жила тянется, то шире, то уже и местами ямы в ней видны, а в одном месте довольно высоко даже отверстие чернеет и через него, может быть, можно в глубь рудника пролезть.
Мы сели и поехали; скоро встретили скот караульных, который с пастбища пастушонок гнал, — три коровы, десятка три овец и коз, сам на старом коняге едет. Ясно, что бедняки в карауле служат. Выехали из долины Алтын-гола в долину Булагана и повернули вверх, на восток; проехали немного и увидели другую долину, из которой ручеек выбегает. Очевидно, в этой долине удобное место для ночевки, которое караульные указали. Свернули в нее, вдоль ручейка появилась трава, но мало, пробираемся дальше и видим, что долина в горах круто на запад повернула. «Вот это хорошо, — думаю, — она нас назад поближе к руднику подведет». Проехали по ней с полуверсты, пока она опять в глубь гор не отвернула. Тут нашлось место для ночевки хорошее, травы достаточно, кустики для огонька есть и аргал попадается. Раскинули палатку, набрали топлива, пустили коней пастись. Солнце уже заходит. Сидим у огонька и видим, — по долине сверху мальчишка бредет к нам. Подошел. Весь оборванный, босой, худой, лет десяти или двенадцати. Протянул руку и шепчет: — дайте поесть, я три дня не ел.
— Садись, — сказал Лобсын. — Покормим, скоро чай будет.
Он сел у огня. Ноги у него в ссадинах и царапинах, грязные. Голова гладко остриженная, смотрит пугливо.
— Ты чей мальчик? — спрашиваю. — Откуда и куда идешь один?
Он молчит: видно, боится сказать, нас опасается.
— Ты не бойся. Мы тебя не обидим, накормим, отдохнешь и завтра пойдешь, куда тебе нужно.
Чай поспел. Мы у караульных немного молока купили и сварили настоящий монгольский — с солью и молоком. Налили ему чашку — у нас запасная была — дали баурсаков. Он ел жадно, чаем запивал. Вторую чашку попросил, выпил, потом держит ее в руке пустую и, видно, боится попросить еще.
Лобсын налил ее и говорит: — Больше не дам, после голодовки нельзя сразу много есть, заболеешь.
Он кивнул головой и спрашивает:
— Вы не в наш ли монастырь едете?
А как называется твой монастырь, где стоит?
— Залхачин-сумэ зовут, стоит на большой речке Дзабхын-гол. Пятьсот лам живут там. И гэген есть, старый, чуть живой.
— Знаю я этот монастырь, — сказал Лобсын. — Мы туда не едем, и нам он не по пути. Он за Алтаем находится. Так ты возле этого монастыря у родителей жил?
На этот вопрос мальчик не ответил, а спросил: — Далеко ли до речки Шара-гол?
Лобсын рассмеялся: — Шара-гол речек в Монголии сотни две будет, если не больше. Которую из них ты ищешь? Нет ли возле нее какой-нибудь горы с именем?
— Горы Баин-ниру близко стоят. На них большое обо есть, а на речке пять деревьев.
— Ну, гор Баин-ниру и обо больших в Монголии также много, а деревья тоже на разных речках встречаются, — говорит Лобсын.
Мальчик, видимо, смутился и всхлипнул.
Мало-помалу мы из него вытянули, что отец привез его прошлой осенью в монастырь и отдал в обучение ламам, чтобы он сам, подросши, ламой сделался. Ехали они туда три дня через горы. У лам ему не понравилось, плохо кормят, заставляют полдня аргал собирать, а полдня учить непонятные молитвы, писать и заучивать какие-то знаки. Пришла весна, стало тепло; он убежал от лам и пошел через горы домой. Шел уже четыре дня, на первый день имел еще с собой кусок мяса и немного дзамбы (поджаренной ячменной муки, заменяющей хлеб у монголов), а потом голодал, только воду пил, когда попадалась речка или ключ, и ел зеленую траву. Юрты кое-где видел, но обходил стороной, боялся, что задержат и отведут назад в монастырь.
— Ведь он такой же, как я, беглец! — сказал Лобсын. — И очень мне его жаль.
— Что же мы будем с ним делать? — спрашиваю. — Как найти его родителей, если Шара-голов и Баин-ниру много, а имена родителей, которые он назвал, тоже часто одни и те же у монголов?
Мальчик в это время уже крепко заснул, забравшись в палатку. Я постлал ему потник и укрыл ситцем, который дал караульный для обмена.
— Завтрашний день он побудет у нас, — говорю. — Пока мы сделаем попытку пробраться в рудник, он вместе с собакой будет наш стан и лошадей караулить, а там посмотрим, поедем назад и как-нибудь разузнаем про родителей.
Ночь прошла спокойно. Утром мальчик с нами позавтракал, стал доверчивее, рассказал, что родители у него бедные, юрта плохая, скота мало, детей несколько, старший сын пасет их скот, а отец служит пастухом у богатого соседа, получает молоко, иногда барана, живут скудно, а все-таки лучше, чем в монастыре у лам. Зовут его Очир.
Оставив его у палатки с поручением караулить ее и лошадей, мы полезли вверх по правому склону долины, довольно крутому и высокому. Поднявшись на гребень отрога Алтая, который отделял эту долину от долины Алтын-гола, мы увидели внизу под собой немного ниже по течению ручья юрты караульных у рудника, а пройдя по гребню шагов сто на юг, наткнулись на выход самой жилы в виде глыб желтоватого кварца. Мы прилегли, чтобы караульные не заметили нас на гребне, высмотрели, что немного ниже по склону виден небольшой отвал породы, уже заросший бурьяном, и чернеет отверстие старой выработки. Через него, очевидно, можно пробраться в выработки рудника, когда стемнеет и караульные не смогут увидеть нас.
Вернулись к палатке и провели почти целый день, варили обед, пасли коней выше по долине, чтобы к ночи оставить им траву ближе к стану; собирали аргал и кусты. Под вечер приготовили все, что нужно было взять с собой в рудник: каелку, зубило, молоток, пару свечей, мешок, веревку, черные халаты, разрисованные по указанию Лобсына. При разборе вещей в сумах я нашел сверток хорошего ситца, аршин 12, который взял с собой на всякий случай для подарка или обмена на барана, если понадобится. «Вот, кстати, — думаю, — можно будет потом оставить караульному, который дал гнилой для обмена»; решил захватить его с собой в рудник. Перед закатом напились чаю, потом пригнали коней к палатке, привязали, посадили мальчика возле палатки у огонька, велели ему поддерживать огонь и смотреть за конями; привязали собаку, чтобы она не увязалась за нами. Мальчик с ней уже познакомился, обещал приготовить чай часа через три.
Чуть солнце закатилось, мы полезли опять на гору и на гребне отдохнули, дожидаясь, чтобы стемнело и караульные не смогли разглядеть, как мы спустимся к верхней выработке. Спустились и пролезли в нее, отошли осторожно несколько шагов вглубь и зажгли свечи. Верхняя штольня по жиле оказалась неглубокой, всего шагов десять. Но к самому забою, в котором белела жила кварца в пол-аршина толщины, нельзя было подойти — перед ним шла прямо вниз шахточка во всю ширину штольни. На веревке опустили свечу до дна, оказалось сажен пять глубины. Зацепив веревку за выступ камня, мы спустились вниз, осматривая жилу по пути. Кое-где в кварце блестело золото крупными зернами, но добывать их на весу было слишком трудно.
Со дна этой шахточки шел штрек по жиле в глубь горы без выхода на поверхность, длиной шагов в тридцать. Прошли по нему к забою. Жила была здесь уже почти в аршин. Кое-где в ней желтело золото, полосками в палец шириной и гнездами в ноготь. Зубилом и каелкой наломали кварца с золотом в разных местах по жиле, стараясь стучать меньше. Набрали несколько горстей, сколько могли отбить с поверхности; золото уходило в глубь забоя, но там оно уже было нам недоступно. Поэтому решили спускаться дальше. В начале этого штрека шла наклонная шахточка вниз круто, но по ней были вырублены ступеньки; мы спустились осторожно и попали в следующий глухой штрек сажен 10 ниже первого. Он также шел по жиле в глубь горы шагов 30-35. В его забое мы снова наломали несколько горстей кварца с золотом. Здесь жила была в пять четвертей аршина и также богатая. И снова в начале штрека шла наклонная шахточка вниз сажен на 10 ниже, а из нее в глубь горы штрек, где в забое мы еще наломали кварца. То же повторилось еще два раза, пока мы не спустились в самый нижний штрек, который имел уже выход, загороженный жердями и виденный нами от юрт караульных. Этот штрек уже представлял штольню. Он шел в глубь горы шагов на сто, а в забое жила была в два аршина и очень богатая. Набрали в ней немного больше горстей, сколько можно было зубилом, по которому стучали, завернув его головку в тряпку, чтобы караульные не услыхали. У этого забоя уселись отдохнуть.
Я стал соображать, почему это все штреки выше нижней штольни — глухие, а из самого верхнего к верхней штольне ведет отвесная шахточка. Очевидно, это было сделано для полного надзора за рудокопами, добывавшими золото. Они могли выходить из рудника только по нижней штольне, у устья которой их и осматривали и обыскивали, чтобы не выносили золота. Из верхнего штрека нельзя было вылезть по отвесной шахточке без лестниц. Эта шахточка и верхняя штольня нужны были для проветривания рудника естественной тягой согретого воздуха вверх по наклонным и по отвесной шахточке, тогда как свежий поступал по нижней штольне. Отвесная шахточка у самого забоя верхней штольни мешала подойти к нему, чтобы тайком ковырять золото.
Но и нам вылезть обратно через отвесную шахточку было невозможно: веревку, которая помогла нам спуститься, мы наверху не оставили, не думая, что она понадобится на обратный путь. И теперь приходилось выйти по нижней штольне прямо к караулу. Жерди, которыми был закрыт выход, не представляли препятствия; они были только прислонены и перевязаны веревкой, которую легко было разрезать и проделать себе проход, отодвинув несколько жердей. Но дальше? Собаки у юрт обязательно почуют нас и поднимут тревогу.
Я изложил эти соображения Лобсыну и говорю: — Как нам быть? Неужели лезть назад наверх?
Он рассмеялся
— А черные разрисованные халаты у нас для чего взяты с собой? Чтобы испугать караульных. Наденем их, возьмем в руки свечи, только обернем их бумагой, чтобы не ярко светили и выйдем, опрокинув все жерди сразу, чтобы был большой шум. Караульные перепугаются и спрячутся в юрты, когда увидят, что из рудника два мертвеца выходят.
Я не сказал еще, как были разрисованы черные халаты. На них белой краской были нарисованы полные скелеты человека и при слабом свете свечей ночью люди, одетые в эти халаты, действительно могли показаться идущими скелетами. Лобсын заказал мне эти халаты будто бы для маскировки на празднике Цам, а в действительности мой сообразительный друг тогда уже придумал такой способ напугать суеверных монголов, чтобы пробраться в запрещенный рудник.
И вот мы, разложив добытый золотоносный кварц в два мешка, в каждом фунтов по двадцать, прикрепили их себе на спину, надели халаты и капюшоны (на которых были намазаны черепа), прошли по штольне к выходу и здесь обернули свечи зеленой прозрачной бумагой, которой, как оказалось, запасся Лобсын. Он теперь сказал мне:
— Выйдем из штольни немного погодя после того, как опрокинем жерди, чтобы караульные на лай собак и шум выскочили из юрт. А выйдя, запоем буддийскую молитву «ом-мани-пад-ме-хум» [27] и пойдем прямо на юрты, в одной руке свеча, в другой у тебя каелка, у меня молот, как будто мы восставшие рудокопы.
И так, сговорившись, мы подошли к жердевому щиту и, налегши вдвоем, легко опрокинули его наружу. Собаки уже ворчали, чуя нас, а тут бешено залаяли. В юртах раздались окрики — люди еще не спали, потом караульные выбежали. И тут мы рядом, как условились, выступили из глубины штольни в виде скелетов, слабо озаренных зеленым светом, протяжно завывая: «ом-мани-под-ме-хум».
Что тут за суматоха поднялась у юрт, трудно себе представить. Возгласы ужаса, визг детей, крики мужчин и женщин: «Мертвые рудокопы из горы выходят, убегайте скорее!» И все бросились бежать, не только взрослые и дети, но вслед за ними и собаки, коровы, бараны и козы, которые ночевали вблизи юрт. Все понеслись вниз по долине с визгом и криками, толкая и опрокидывая друг друга.
А мы, дойдя до первой юрты, в которой были накануне, положили там на видном месте ситец, который я принес с собой, в обмен на взятый у караульного гнилой. Потом мы полезли вверх по склону вдоль жилы, причем свечи помогли нам ориентироваться. Немного поднявшись, мы их потушили, халаты скинули и полезли уже в темноте, чтобы караульные, если остановились не так далеко для наблюдения, не могли проследить, куда исчезли мертвецы.
Взобрались мы, не торопясь, на гребень отрога и остановились передохнуть. С высоты видны были обе долины; в долине Алтын-гола, где стояли юрты, было темно и тихо, беглецы, очевидно, еще не вернулись. В долине, где была наша палатка, виднелся огонек, и при свете его можно было различить палатку, коней и мальчика у костра. Там все было благополучно.
— Ну и напугал ты бедных караульных своей выдумкой, Лобсын, — сказал я. — Мне просто совестно, люди досмерти перепуганы, будут ночевать где-то под открытым небом, и скот у них разбежится. Нехорошо вышло!
— Я не думал, что они такую суматоху устроят и убегут, — оправдывался мой калмык. — Я полагал, что выглянут только караульные, увидят мертвецов и спрячутся в юрты, начнут там молитвы читать. А мы бы повернули от рудника вверх по долине и, отойдя немного, потушили свечи, чтобы в темноте лезть на гору. И караульные, выглянувши из юрт, могли бы заметить, что мертвецы пошли вверх по речке и скрылись. Я же не виноват, что они так струсили! Ну, переночуют немного ниже, скот свой соберут и завтра вернутся.
— И пойдет теперь по всей Монголии рассказ, что в золотом руднике на Алтын-голе мертвые рудокопы воскресли и по ночам бродят, караул пугают! А князь вызовет к себе караульных и начнет допрашивать с пристрастием, в тюрьму посадит или сменит.
— Смене они будут только рады. Кому охота целый год в этом глухом месте сидеть на карауле. Ведь жалованья от князя они не получают, сидят по наряду и бездельничают.
— А что подумают они о ситце, который я положил в юрте?
— Пожалуй, напрасно оставил его. Они подумают, что положили его мертвецы и отдадут в монастырь ламам, побоятся оставить себе.
— Ну, попадет ситец бездельникам ламам, а не бедным аратам [28]! — сказал я.
— Неужели ты, Фома, считаешь всех лам бездельниками? — удивился Лобсын, очевидно обиженный моим восклицанием.
— А какую пользу монгольскому народу приносят ламы? Бормочут целые дни свои молитвы, зажигают лампады и курительные свечи перед статуями Будды и других богов. И так изо дня в день всю свою жизнь, прославляя Будду и перебирая свои четки вместо того, чтобы выполнять какую-нибудь работу, ну хотя бы разводить огороды при кумирнях, учить аратов косить траву на удобных сырых местах, в долинах вдоль речек и ключей! Ведь сколько у вас каждый год гибнет скота от бескормицы зимой, от джута [29].
— Конечно, не мало, а в иные годы очень много и всегда у самых бедных, у которых скот захудалый, — подтвердил Лобсын.
— И ламы могли бы учить аратов сенокошению, устраивать орошение, где возможно, чтобы трава росла пышнее, а для скота строить из хвороста, из земли загоны, укрытия от зимних холодов и пурги вместо того, чтобы распевать молитвы с утра до вечера, бормотать ом-мани-пад-ме-хум, в кумирнях и в своих фанзах.
— Ну, иные из них занимаются врачеванием, лечат бедных аратов, другие переписывают богослужебные книги для новых кумирен.
— От врачевания лам, я полагаю, больше вреда народу, чем пользы, даже если учесть только прокорм и деньги, которые они от больных получают. И врачуют только немногие, которые этому где-то подучились, а большинство занято только богослужением. Ты сообрази, ведь третья часть мужского населения у монголов в ламском сословии состоит и живет полностью за счет труда остальных двух третей! Зачем настроили столько монастырей и кумирен с десятками и сотнями лам? Какая польза народу от них?
— Развлечения, праздники народу с песнопениями и представлениями устраивают! — защищался Лобсын.
— Вот именно, праздники и представления всякие, чтобы привлечь аратов и выманить у них подаяния и пожертвования на обстановку кумирен, на украшение богов, на богослужебные книги и, главное, на себя, на свое пропитание. Ведь ламам тоже каждый день есть-пить нужно, а сами они ничего не вырабатывают.
Этот разговор как-то неожиданно возник у нас, когда мы поднялись по крутому склону долины и уселись передохнуть на гребне, с которого чуть видны были в сумраке ночи юрты караульных на дне одной долины и огонек у нашей палатки на дне другой поближе. Раньше мне как-то не приходилось поговорить с Лобсыном так откровенно и резко насчет буддизма [30] и ламского сословия, его существования за счет бедных монголов: я обыкновенно щадил его религиозные убеждения.
Отдохнув наверху, спустились потихоньку к своей палатке. У Очира чай был готов, мы поели и улеглись спать, усталые после работы в руднике и подъема в темноте на гору. Ночь прошла спокойно. Утром направились в обратный путь той же дорогой. Мальчика посадили на одну из вьючных лошадей поверх вьюка. Он начал привыкать к нам и помогал при сборе топлива. За 15 дней по той же дороге без особых происшествий мы вернулись в Чугучак.
По пути спрашивали во всех улусах относительно родителей мальчика, но ничего не узнали. Я решил оставить его у себя, как когда-то приютил Лобсына.
В августе мы опять снарядили большой караван и отправились с Лобсыном вести его. Очира взяли с собой на случай, если найдем его родителей. И в этот раз хорошо торговали и вернулись с прибылью.
Кварц с золотом, добытый в старом руднике, мы истолкли, промыли и извлекли из него фунта 4 золота. Зимой я опять съездил в Семипалатинск с сырьем и продал это золото в банке, закупил новый товар и вернулся в Чугучак. С приказчиком московских купцов Первухиным у меня было резкое объяснение. Я предъявил ему гнилой ситец, полученный от караульного, и потребовал обменять на хороший. Он, конечно отказался, божился, что это не он продал гниль, что такого товара у него не было и нет. Я сдал ситец консулу и заявил ему о жалобах на приказчиков московских купцов. Он обещал написать в Москву и пригрозил довести до сведения министерств торговли и промышленности и иностранных дел об этих проделках.
КЛАДЫ В РАЗВАЛИНАХ ДРЕВНЕГО ГОРОДА КАРА-ХОДЖА
Весной следующего года консул пригласил меня по спешному делу и сказал:
— Фома Капитонович, Вы ведь теперь как будто полюбили путешествия с приключениями.
— Пожалуй, что так, Николай Иванович. Но откуда вы знаете о приключениях?
— Как не знать, слухом земля полнится, говорят. О ваших путешествиях с особыми задачами в Чугучаке поговаривают, вероятно, очень преувеличивают. Вот даже китайский амбань спрашивал меня, правда ли, что вы в Алтайских горах запрещенный золотой рудник посетили.
— Но, Николай Иванович, я же по торговым делам путешествую, узнаю, где лучше сбывать красный товар.
— Я так и сказал амбаню. Но на золотом руднике вы тоже по торговым делам были?
— А как же! Караульные рудника мне жаловались, что приказчик Первухин, который у московских купцов меня сменил, продал им гнилой товар. Помните, я вам об этом докладывал и даже гнилой ситец показывал, который караульные отдали мне, чтобы я обменял его на хороший.
— Как же, помню. Я в Москву и в министерство об этом писал.
— Ну, вот! И приключения разные в путешествиях, конечно, случаются. То волки нападут, то конокрады накажут, то верблюд заболеет, — без этого не обойдешься.
— Так-так. Вы любите путешествовать и даже с приключениями. И вот сейчас хороший случай представляется. Сюда приехал один немецкий ученый, который раскопками разных древностей занимается. Он хочет проехать в Турфан, раскопать развалины какого-то древнего города. Ему нужен хороший переводчик и проводник для помощи в этой работе.
— Как же я с ним объясняться буду? Я по-немецки не понимаю.
— Он русскую речь понимает и сам кое-как говорит по-русски.
— А надолго ли ехать с ним? К половине августа я должен вернуться сюда, чтобы снаряжать свой караван
— Ну, значит, три месяца времени у вас есть. Он едет на 2-3 месяца.
— Он по своей воле приехал или по чьему-либо поручению?
— Послан какой-то немецкой академией. Имеет рекомендацию от нашего министра иностранных дел с просьбой оказать ему всяческое содействие. Поэтому он и явился ко мне.
— Он один или с прислугой? Старик или молодой?
— Средних лет. С ним молодой человек, секретарь, что ли. Этот по-русски — ни слова, но по-китайски говорит.
— Ну, что же, я поеду, если сойдемся в условиях. Я в Турфане не бывал, интересно поглядеть, что он будет раскапывать! — сказал я и спохватился, что намекнул на свои приключения с раскопками.
Консул рассмеялся. Он, очевидно, знал больше о моих предприятиях, чем сказал мне.
— Где же мне искать его? Как его зовут? — спрашиваю.
— Зовут его профессор Шпанферкель. Странная фамилия, только у немцев такие бывают. По-русски это значит — поросенок-сосунок. Приходите ко мне после обеда, и мы пойдем к нему. Он по соседству на постоялом дворе остановился, а сейчас к амбаню пошел представиться, получить паспорт и распоряжение на отпуск лошадей по почтовому тракту в Урумчи.
После обеда пошли мы с консулом к профессору-сосунку. Нашли его на постоялом дворе в номере, т. е. просто в одной из комнат в глинобитной фанзе, занимающей одну сторону большого двора. Как во всех постоялых дворах Китая, пол в номере земляной, заднюю половину занимает лежанка — кан. Дверь прямо со двора, рядом с ней окно, белой бумагой заклеено вместо стекол. Мебели — только простой стол и два табурета. Стены небеленые, потолок из хвороста, сверху покрытого глиной. На кане у немца был разложен багаж — чемоданов несколько, саквояж, кровать складная расставлена, пуховым одеялом покрыта. Сам он сидел у стола, бумаги просматривал.
Консул меня представил. Немец говорит:
— Прошу извинайт, каспадин консуль, принимает вас такой перлоге, где я только два табуретка имею. Прошу сесть!
Консул занял второй табурет, я присел на край кана.
— Ошень примитив китайски отель! Я думаль, такой стари культур отеля лучше. Зачем эта гора, — он указал на кан, половина комната занимайт!
— Это кан, лежанка. Зимой ее топят и она теплая, на ней китайцы спят как на кровати, — сказал консул.
— На этой пыль! Ушасно!
— Дальше хуже будет. Здесь есть окно, а на станциях тракта в Урумчи комнаты без окон.
— О, мейн гот! Нужно сидеть в темноте.
— Или держать дверь открытой!
— Ешше лючше! И китайсы стоять у дверь и смотреть, что ми делайт целый день.
— Они смотрят и через бумажное окно. Высунет язык, намочит бумагу, сделает дырочку и смотрит одним глазом в комнату. Потом другой, третий, так всю бумагу продырявят. Все хотят посмотреть ян-гуйцзе, заморских чертей, как называют иностранцев. Поэтому даже лучше без окна. Заперли свою дверь, и сидите спокойно.
— Но китайсы начинайт дверь открывайт. Вот мой дверь, ключ или забор совсем нет!
— Ваш помощник выйдет и попросит любопытных не мешать. Скажет им, что вы работаете или спите. Китайцы вежливый народ. А где же ваш секретарь?
— Другая комнат возле. Спит. Ошень уставал, раскаваривайт амбань. Моя помощник знайт китайси нанкин диалект, южный, амбань знайт пекин диалект. Друг другу плёхо понимайт, долго каварили.
— Вам нужен второй переводчик, знающий пекинское наречие, на котором говорят маньчжуры. Наш амбань маньчжур и в Урумчи генерал-губернатор тоже маньчжур. Вот я привел вам переводчика, господина Кукушкина. Он знает и тюркский язык. В Турфане народ таранчи [31], тюрки [32] и вам придется иметь дело с ними.
— Ошен карашо! Ешше нужно кароший шеловек нам помогайт, обед готовляйт, чай варит, лавка провизион покупайт, вещи караулит. Ошен прошу находит такой шеловек.
— Фома Капитонович! — обратился консул ко мне, — не согласится ли ваш подручный и компаньон Лобсын также поехать? Он человек надежный и вам с ним легче будет, чем одному, с иностранцами.
— Со мной он поедет куда угодно! Он тоже любит путешествия с приключениями, как вы изволили назвать их.
— А как его вызвать из гор сюда? Нужно скоро, профессор через два-три дня хотел бы выехать.
— Он каждый месяц в это время приезжает ко мне за товаром. Я жду его сегодня или завтра.
— Ну и отлично. Теперь будем говорить насчет жалованья и других условий. Профессор хочет нанять две китайские телеги до Турфана и поедет на сменных лошадях по станциям, так что вам своих верховых брать не нужно.
Мы столковались с профессором. Жалованье я себе и Лобсыну спросил небольшое, но на харчах нанимателя. Это немцу сначала не понравилось: он хотел, чтобы мы кормились на свой счет. Но консул разъяснил ему, что мы же будем покупать провизию и для профессора с секретарем и готовить для них еду, так что проще и выгоднее иметь общий стол. Наконец, немец согласился, но с условием, что чай и сахар у нас будет свой. Он, очевидно, боялся, что мы будем пить много сладкого чая в ущерб его запасам. Я уступил, мы с Лобсыном привыкли к кирпичному чаю по-монгольски с солью и без сахара при наличии молока.
Условие было заключено на три месяца со дня выезда, чтобы мы могли вернуться в Чугучак к началу августа для организации своего каравана.
Вечером ко мне приехал Лобсын и охотно согласился принять участие в экспедиции. Но он должен был сначала увезти товар в свой улус, и я отправил с ним своего приемыша Очира, чтобы он жил в семье Лобсына во время моего отсутствия, а не оставался один в городе без надзора. Через четыре дня Лобсын должен был выехать на станцию тракта, ближайшую к его улусу, и ожидать там проезда экспедиции, чтобы присоединиться к нам.
Я сопровождал профессора при его прощальном визите к амбаню и показал, что умею говорить на пекинском наречии и знаком с китайским этикетом. Амбань и профессор были довольны мной. Для экспедиции я нанял две телеги, одну легковую для профессора и секретаря, вторую большую для багажа и нас двоих. В назначенный для выезда день телеги были рано поданы на постоялый двор, я уложил багаж. Консул пришел провожать немцев; они очень благодарили его за помощь и высказали надежду, что будут довольны мною.
Часов в десять утра мы выехали и на ночлег остановились на станции Сары-хулсын в черных ветреных холмах, знакомых мне по первому путешествию за золотом. Эта станция стоит у самого восточного конца хребта Барлык, где этот кряж, сильно понизившись, обрывается утесами к долине реки Куп, отделяющей его от черных холмов.
Лобсын уже ждал нас на станции, привез целый мешочек баурсаков. Немцам отвели комнату на станции, без окна, как предсказал консул. Мне пришлось в первый раз показать свое поварское искусство, сварить суп из мяса, взятого в Чугучаке, поджарить картофель на сковороде. У немцев была дорожная посуда — тарелки, ложки, ножи и вилки. Они ужинали в комнате на маленьком столе, а мы — на дворе.
К чаю я подал профессору на тарелке кучку свежих баурсаков.
— Это што за маленьки колбас? — спросил он.
Я объяснил, что они делаются из крутого теста и жарятся в бараньем сале и что это лучший сорт хлеба для дороги. Но им баурсаки не понравились.
— Опьять баран! — возмущался профессор. — Суп из баран, жаркой баран и хлеб бурсак тоже баран. Ви би ешше компот из баран подавайт!
— В Китае и Монголии почти единственное мясо это баранина, — объясняю ему — Говядину очень редко можно найти, и всегда будет подозрение, что это мясо больного или даже издохшего животного.
— А свиной мясо покупайт мошно? Свин, каварят, у китайса много!
— В южном Китае свинины, как я слышал, — много, а здесь нет. Монголы свиней не разводят, у них нет корма для свиней, степной корм свиньи не едят, а помоев в монгольском хозяйстве не бывает. Здесь главный скот это бараны, и вам, профессор, придется привыкать к баранине. А свежие баурсаки к чаю — хороший хлеб, и мы будем иметь их не часто.
— Забирайт ваш бурсак, — рассердился немец. — Ми ешше имеем хороший немецкий печенье, домашни гебек!
Я думал угостить профессора нашим чайным печеньем, а получил выговор. Ну, что же, нам с Лобсыном больше останется. А немца угощу при случае ослятиной или верблюжатиной под видом говядины.
После чая была еще стычка из-за постели. Немцы не захотели раскладывать свои дорожные матрацы прямо на кане и потребовали, чтобы мы достали из багажа их складные кровати. Нам пришлось рыться в темноте в багажной телеге, вытаскивать кровати, нести их в фанзу и разбирать при тусклом свете свечи на кане. Мы оба никогда не видели таких кроватей и не сразу сообразили, как их раскладывать. Они были стальные и обе различной конструкции. Профессор сердился, когда мы втыкали ножки не туда, куда надо, а его указания по-немецки, когда он не находил русского термина для ремня, пряжки или гайки, мало помогали. Секретарь, который мог бы помочь нам показом, дремал у стола.
Наконец, мы расставили кровати, положили матрацы и подушки, пожелали покойной ночи и сами отправились ночевать в багажную телегу.
Утром я разбудил ученых еще на заре. Пока они одевались, мы уже напились чаю, а пока они пили свой кофе с сгущенным молоком и домашним гебек, мы разобрали кровати и уложили в телегах весь багаж. Часов в шесть утра выехали.
Нужно заметить, что хотя мы меняли лошадей на каждой станции, но ехали не быстро, только 7-8 верст в час. На ровных участках ехали мелкой рысью, но на всех подъемах, даже небольших, шагом. В легкую телегу были впряжены две лошади, в багажную три. Ямщики сидели на оглобле позади крупа коренника, так как козел у китайских телег нет. На подъемах они соскакивали и шли пешком.
Тракт из Чугучака в Шихо поворачивает от станции Сары-хулсын вверх по широкой долине реки Куп, которая отделяет Барлык, остающийся вправо, от хребта Джаир, знакомого нам по первому путешествию. Это долина степная, местами занята холмами. Кое-где видны были юрты киргизов и их зимовки в устьях боковых долин. В степи паслось довольно много скота, поправлявшегося на молодой весенней траве от зимнего поста.
На следующей станции Толу переменили лошадей и поехали дальше по той же долине. Барлык тянулся по-прежнему справа, но поднялся выше, представляя цепь плоских вершин и высылая в долину короткие отроги. В боковых долинах его южного склона, укрытых от холодных ветров, по словам Лобсына, растут дикие яблони с небольшими, но вкусными плодами. Слева к дороге обрывались крутые склоны Джаира, а в боковых долинах кое-где видны были рощи тяньшанской голубой ели. Семена ее вероятно были занесены северными ветрами из Барлыка, где эта ель образует целые леса. Далее же на восток в Джаире, а также в Майли, составляющем продолжение Джаира на запад от тракта, ели уже нет, так объяснил мне Лобсын.
Вскоре долина Куп сделалась неровной, холмистой, и дорога повернула к станции Ямату, расположенной среди холмов Джаира.
На станции Ямату решили обедать. Варка супа заняла бы слишком много времени, и я предложил им удовольствоваться бараниной, поджаренной мелкими кусочками на сковороде, и чаем.
— Опьять баран! — проворчал профессор. — Лючше открывайт банка консерв.
— Нужно употреблять мясо, взятое в Чугучаке, — говорю ему, — к вечеру оно может испортиться и пропадет.
Это подействовало. Я сдобрил баранину головкой лука и залил парой яиц, которые нашлись у смотрителя станции. Немцы покушали с аппетитом, мы не отставали от них.
От Ямату тракт поворачивает на юг и пересекает горы, которые в этом месте значительно ниже.
Тракт идет сначала по довольно узкой долине ручья Ямату. Слева обрываются красные скалы Джаира, на которых высоко вверху видны ели, рощицами и порознь; справа зеленеют травой склоны хребта Майли.
За низким перевалом тракт подходит к станции Куль-денен, а затем идет небольшими подъемами и спусками среди невысоких и плоских гор до станции Оту, расположенной в обширной котловине, окруженной подобными же горами. За этой станцией дорога выходит из котловины и между низкими горами и холмами спускается к станции Сарджак, расположенной уже у южной окраины гор. Солнце уже садилось, и профессор решил ночевать здесь. За день мы проехали пять станций по довольно неровной долине Куп и через широкий хребет.
Комнаты для проезжающих на станции, конечно, были без окон. Шаткий стол взяли у смотрителя, а стулья заменили своими чемоданами. На кане расставили кровати, с которыми мы справились уже быстрее. На ужин удалось купить у смотрителя мясо кулана [33], т. е. дикого осла. В обширных степях и солончаках широкой впадины, которая отделяет Джаир — Майли от Восточного Тянь-шаня, водятся стада не только антилоп дзеренов [34], которые попадаются и в Джаире, но и куланов. В громадных зарослях камышей и рощах вдоль реки Куйтун, которая течет С Тянь-шаня и, повернув на запад, орошает часть этой впадины и впадает в озеро Эби-нур, водится много кабанов и встречается даже тигр.
Поэтому смотритель и ямщики станции Сарджак, расположенной на окраине этой впадины, имели ружья и в свободное время занимались охотой на антилоп и куланов. Но профессору я, конечно, не сказал, что суп и жаркое их ужина изготовлены из мяса кулана. Подавая котелок с супом, я заявил, что удалось купить говядину. Профессор внимательно рассмотрел ребра с мясом, бывшие в супе, попробовал мясо и сказал:
— Ошшень карашо, что вы варили не баран. Это видно молодой коров, кости не толстые.
Покушали и хвалили, а мы с Лобсыном, ужиная на дворе, с трудом удерживались от смеха. Но только мы, напившись чаю, собирались устроиться на ночлег в нашей телеге, как открылась дверь и раздался голос секретаря:
— Огэ, Кукушка, Фома, шнелль, шнелль!
Я прибежал в комнату и застал такую сцену. Профессор стоял возле своей кровати с свечей в левой руке, а дрожащей правой указывал на стену, которую пересекала широкая трещина. Вдоль трещины спускались вниз одна за другой две крупные фаланги.
— Фома, этто какой гадкий насекомый? Я читаль, Туркестан живет каракурт, смертельни кусак!
— Нет, профессор, это фаланга, паук.
— Он тоже кусайт? восемь ног, как у паук! Противный.
— Кусает и больно, если его придавить или тронуть Рука пухнет, сильный жар будет.
— Донерветтер! Ешше один бегайт, вскричал профессор, указывая на другую стену, по которой из-под камышового потолка выскочила и быстро побежала фаланга средней величины.
— Этто ушасно! Сдесь спайт нельзя. Ночью этти паук искусайт нас. Вынимайт наша палатка, разбивайт на дворе, пожалста!
В багаже на нашей телеге, действительно, был большой тюк с палаткой, которую экспедиция взяла с собой. Пришлось нам перевернуть весь багаж, вытащить и развязать тюк и ставить палатку незнакомого нам фасона. Профессор держал свечу, к счастью было тихо и огонь не задувало. Секретарь показывал нам, как ставить стойки, натягивать полотнища, покрывать брезентом пол, где забивать колышки. Палатка имела форму домика с низкими отвесными боковыми стенками и высокой крышей; к передней стойке прикреплялся маленький столик. Внутри поместились обе кровати вдоль боковых стен и между ними остался еще проход в аршин шириной.
В общем провозились мы с полчаса, пока не устроили ученым палатку и не уложили в телеге остальной багаж, на котором спали сами. Немцы вероятно спали плохо, во-первых, с непривычки в палатке и, во-вторых, потому, что на дворе станции ночью не было тихо. По соседству под навесом жевали солому и фыркали лошади, в поселке лаяли собаки, иногда слышались голоса. И когда мы по привычке проснулись на заре, в палатке уже разговаривали.
Выглянув из телеги, я увидел на юге великолепную картину. На горизонте тянулся Восточный Тянь-шань в виде длинной темной стены, разрезанной глубокими ущельями и увенчанной рядом крупных зубцов, словно гигантская пила. Эти зубцы сверху донизу были покрыты снегом, который алел в лучах восходившего солнца. Я впервые видел такой высокий снеговой хребет на всем его протяжении и с такого расстояния и любовался им вместе с Лобсыном, который, впрочем, видывал и другие снеговые хребты, но не такие высокие и длинные.
Немцы, выйдя из своей палатки, заметили нас стоящими на телеге и смотрящими на юг и обратили на это внимание.
— Этта какой большой гор? — спросил профессор.
— Это северная цепь Восточного Тянь-шаня. Она называется Ирен-хабирга, также Боро-хоро, — ответил я.
— Турфан город там, за этим гор?
— Нет, мы поедем вдоль этих гор, пока они не кончатся.
Секретарь принес из палатки карту и большой бинокль, затем вытащил из фанзы стол, они разложили карту и поочередно смотрели в бинокль и на карту, оживленно разговаривая. От консула я также получил карту, на которой был виден весь наш путь и названия всех станций, чтобы я мог называть их профессору.
Я перечислил ему по порядку названия вчерашних станций, а он следил по своей карте и кивал головой со словами: ист, ист, рихтих.
В этот день мы проехали шесть станций благодаря ровной дороге, пересекающей эту широкую впадину Джунгарии. Местность была однообразная, часто по солончакам, местами не совсем просохшим после зимы и довольно грязным. По серой и голой поверхности их были рассеяны плоские бугорки, поросшие зеленеющими кустиками различных солелюбивых растений. Солончаки сменялись плоскими повышениями сухой степи с полынью или пучками чия.
Хотя мы все время приближались к Тянь-шаню, но он уже с восьми часов утра был виден хуже, чем рано утром; вокруг белых зубцов начали сгущаться тучи, которые после полудня совершенно закрыли их, повиснув курчавой пеленой над темной стеной хребта. На последней можно было уже различить хвойные леса, прерываемые светлыми и темными гребнями скал.
К закату солнца мы поднялись уже на подножие Тянь-шаня, и на ночлег остановились в пригороде города Ши-хо или Кур-кара-усу на большом постоялом дворе. Здесь тракт из Чугучака сомкнулся с большим трактом Бей-лу, который идет вдоль подножия Тянь-шаня из Урумчи в Кульджу и потому гораздо более оживлен, чем первый, на котором мы редко встречали легковые и грузовые телеги с товарами и людьми.
Постоялый двор был просторнее и лучше, чем на том тракте. В комнате, отведенной господам, было окно, стол и кресла; в стенах не видно было трещин, в которых могли бы прятаться фаланги, и ученые решились спать в комнате. На дворе им было бы беспокойно, кроме нас были и другие проезжие; разговоры, разные возгласы нарушали тишину до полуночи.
Ужин пришлось готовить опять из баранины, но к чаю я достал свежие китайские паровые булочки. На вид они не очень аппетитны — в тонкой корочке цвета теста, так как они не пекутся в горячей печке, а варятся паром; тесто их крутое.
— Этто какой хлеб, опять бурсак? — спросил профессор, разрезав и обнюхав булочку.
— Это китайский хлеб, — объяснил я, — мо-мо называется, он бараном не пахнет, потому что варится на пару, а не жарится в сале, как баурсак. Я думаю, что он понравится вам. У вас есть масло или мед, чтобы помазать это мо-мо?
Мед у немцев был еще в запасе, они попробовали и остались довольны.
— Этто мо-мо покупайт каждый день! — последовало решение.
Утром оказалось, что у секретаря под подушкой переночевал большой желтый скорпион.
— Ешше один гадкий насекомый! — воскликнул профессор при виде его. — Этто тоже ядовита кусак?
— Вроде фаланги! — утешил я его
— Ужжасны этта сторона! Не понимай, как китайсы живут. Может и ядовита змей в их домах ведутся?
— Нет, змеи в домах не живут, а фаланги и скорпионы водятся, — пояснил я и хотел было прибавить, что бывают еще ядовитые многоножки, но раздумал заранее огорчать профессора. При изучении развалин в Турфане он сам с ними познакомится.
Впрочем, секретарь показал себя менее пугливым. Он достал в багаже стеклянную баночку и при моей помощи посадил в нее скорпиона к негодованию профессора, который что-то спросил у него по-немецки, а затем выпалил:
— Молодой шеловек желайт увозит домой этта насекомый, жена показайт, какой бывайт опасный экспедицией!
В этот день мы ехали по тракту Бей-лу на восток. Чередовались китайские селения, поля с зелеными всходами хлебов и другие, на которых копали или пахали крестьяне в широких соломенных шляпах, но обнаженные до пояса и босые.
Дорога пересекала арыки, по которым струилась вода, выведенная из горных речек для орошения полей. Но больше места занимали пустыри со степью, небольшими рощами деревьев, зарослями чия или кустов. Справа тянулись гряды предгорий, а за ними стена Тянь-шаня. Рано утром над ней ненадолго показались снеговые пики, позже скрывшиеся в облаках.
Встречались часто легкие телеги с пассажирами, грузовые с товарами, небольшие караваны верблюдов, ишаки, навьюченные вязанками хвороста, мешками, корзинами с углем, всадники на лошадях и ишаках.
В селениях мы видели китаянок, ковылявших осторожно на своих изуродованных ножках, полуголых и голых детей, игравших в пыли, стариков, гревшихся на солнце.
Вечером нам пришлось остановиться в небольшом поселке на берегу большой реки Манас вместо того, чтобы попасть в город на другом берегу этой реки Большая и быстрая река эта течет с высот Тянь-шаня, и брод через нее весной и летом возможен только рано утром. Днем вода сильно прибывает от таяния ледников и снегов, а за ночь таяние очень сокращается и можно проехать, но не всегда, только в сухую погоду. Постоялый двор был забит приезжими, ожидавшими утра, и профессору с трудом удалось выхлопотать грязную и темную комнату. На дворе не было места для палатки из-за многих телег, да и было бы слишком беспокойно.
Я пошел на поиски провианта для ужина и возле единственной лавки увидел толпу покупателей; продавали мясо верблюда, который будто бы сломал себе ногу на броду через реку, почему и пришлось его заколоть. Мясо было свежее, но не жирное — весной верблюды тощие после зимней работы. Но другого не было, я купил, сварил суп и поджарил мясо ломтями, подал его под названием баранины, так как запах не позволял выдать его за говядину. Костей я, конечно, не подал — они могли выдать мой обман.
Профессор был уже недоволен плохой комнатой и, попробовав мясо, проворчал.
— Опьять баран, ошшен старый, сухой как щепка!
Все-таки они поели его; но когда я потом принес чайник, профессор сказал сердито:
— Моя секретар каварил соседни китайса, которая ушинал и сказайт — этта мьясо не баран, а камель, русски язык верблюм называйт. Купец вас обманывайт, или ви меня обманывайт. Другой раз секретар ходить с вами покупайт мьясо.
— Никакого другого мяса не было, — возразил я, — и если бы я не купил его, вы бы остались без ужина.
— Почему ми не ехать дальше, за река большая город, каварят, баран покупайт мошно было!
Пришлось вторично объяснить, что река вечером не позволила доехать до города.
Опасаясь фаланг и скорпионов, появлением которых угрожали трещины в стенах комнаты, ученые легли спать, не раздеваясь, на руки надели перчатки, а головы укутали полотенцами. Спали очевидно плохо, так как чуть рассвело, они уже встали и потребовали чаю.
Еще до восхода солнца мы выехали дальше. Все проезжие, ночевавшие на этом дворе, также торопились и несколько телег поехали одна за другой. Река текла здесь несколькими широкими рукавами, разделенными голыми галечными островами. Это позволяло перебродить ее, так как даже в рукавах течение было быстрое и вода доходила почти до кузова телег.
Мы проехали благополучно, если не считать, что брызгами воды, вздымавшейся у колес, подмочило матрасы и ботинки профессора и секретаря. На броду мы встретили целый ряд телег и караван верблюдов, ночевавших в городе. Гортанные крики возчиков, понукавших своих животных, стоя на оглоблях, шум воды, скрежет колес по гальке, рев верблюдов, которые не любят глубокий брод и иногда даже ложатся на дно, если вода омывает их брюхо, — все это очень оживляло переправу в течение получаса, понадобившегося для переезда через все рукава реки.
В городе телега профессора, ехавшая впереди, остановилась у мясной лавки, и секретарь подозвал меня. Вывешенные у лавки бараньи туши очевидно понравились профессору; он велел купить мяса, чтобы гарантировать себе обед и ужин хотя бы из ненавистной баранины.
В этот день мы продолжали ехать по Бей-лу. Тракт шел теперь на юго-восток, а под вечер повернул даже на юг — в разрыв гор. Слева вблизи осталась одинокая горка с прилепившимися на ее склонах красивыми зданиями буддийского монастыря.
Уже в сумерки мы приехали в Урумчи и остановились в северном предместье. Постоялый двор был хороший. Отвели чистую комнату с окном, столом и креслами; кан был покрыт цыновками, стены выбелены и без трещин, и наши немцы остались довольны. В мясной лавке нашлась даже говядина, хотя и тощая на вид; секретарь велел купить ее на два дня для них (в Урумчи предполагалась остановка), а баранину, купленную в Манасе, отдал нам. Купили мы также паровые булочки мо-мо и коробку с китайским печеньем, которое на вид понравилось секретарю, но потом было забраковано профессором. За чаем он обнюхал его, попробовал несколько штук разного фасона, поморщился и сказал:
— Этто гебек имейт запах баран и противни гешмак (вкус)!
Секретарь тоже попробовал и что-то сказал по-немецки, по-видимому не соглашаясь с оценкой профессора. Но последний отдал коробку мне со словами:
— Убирайт этта гадки гебек и больше не покупайт нам!
Мы с Лобсыном не были в претензии и с удовольствием съели печенье вместо своих уже довольно черствых баурсаков. Нужно заметить, что в китайское печенье входит сахар из сахарного тростника, плохо очищенный, который дает всем сортам один и тот же своеобразный вкус; к нему присоединяется еще запах кунжутного масла, на котором пекут печенье.
В Урумчи профессор должен был посетить генерал-губернатора этой большой провинции на западе Китая, чтобы получить разрешение на раскопки в Турфане. Русского консула в городе временно не было, и свидание пришлось нам организовать самим. Утром Лобсын, облачившись в новый халат и взяв у хозяина постоялого двора китайскую черную шляпу и верховую лошадь, повез в ямынь визитные карточки профессора и секретаря, заготовленные в Чугучаке. Это были полоски красной бумаги, длиной в четверть и шириной в полчетверти, на которых черной тушью были написаны иероглифами фамилии в китайском произношении. Фамилия Шпанферкель была изображена пятью иероглифами, которые читались Ши-пан-фа-эль-кей. Секретарь Венцель превратился в Ве-ни-са-эль, а я в Гу-ги-ши-ки. Вместе с карточками были посланы и паспорта, полученные в Чугучаке.
Лобсын вернулся часа через два вместе с приехавшим на ишаке китайским чиновником невысокого ранга, который привез назад паспорта и пригласил нас прибыть в три часа дня. Он объяснил, что амбань встает рано и обычно принимает представляющихся в восемь часов утра, но для ян-жень (заморских людей) приезжих делает исключение и примет после обеда. Он обедает в полдень и потом отдыхает два часа.
Чиновник конфиденциально сообщил, что за любезный прием нужно отплатить подношением и сказал, что амбаня интересуют часы бу-бу-бу (будильники), револьверы (карманное ружье, шесть раз стреляй) и бинокли (черная труба далеко смотреть). Он осведомился, есть ли у нас такие предметы. Таким образом условия аудиенции были заранее оговорены.
Профессор имел с собой два бинокля и один мог отдать, как равно и довольно старый револьвер Лефошэ. Но с небольшим будильником ему жаль было расстаться. Я убедил его обещанием, что мы всегда просыпаемся рано и будем будить их, когда назначат, а подарить часы необходимо ради успеха просьбы о разрешении раскопок.
Из чемоданов извлекли парадный мундир профессора с орденом; секретарь облачился во фрак, а я в качестве переводчика надел новый халат и парадную шляпу, взятую у хозяина. Лобсын остался в своей монгольской одежде, так как должен был сопровождать нас только до двора ямыня и обратно.
Для поездки взяли легкую телегу профессора, а мы поехали верхом. Лобсын впереди, а я позади телеги. Подарки были уложены в красивую коробку из-под немецкого печенья с большой картинкой на крышке, изображавшей дородную немку в бальном декольте с букетом в руках. Профессор полагал, что эта картинка очень понравится амбаню.
В воротах городской стены проверили наши паспорта и взяли небольшой сбор «на мощение улиц», установленный амбанем для всех проезжих. Главная улица, действительно, очень нуждалась в этом. Ямы, заполненные грязью или грязной водой, чередовались с буграми. Мы ехали очень медленно, пробираясь через толпу, сновавшую взад и вперед или стоявшую у лавок и у лотков уличных торговцев. Из одних лавок доносился стук молотков, визг напильников, из других — скрежет жерновов, моловших зерно, из третьих пахло чесноком, кунжутным маслом, пригоревшим салом. Крики разносчиков, торговцев, покупателей, встречных ямщиков и всадников не прекращались. К счастью, наш проезд не возбуждал любопытства — иностранцы в глубине телеги не были видны толпе, а мы двое походили на монголов и не привлекали к себе внимания.
Из главной улицы свернули в боковую, которая вела в ямынь, стоявший у городской стены, подальше от уличного шума. Ямынь был огорожен низкой стеной с широкими воротами, вернее разрывом, впереди которого на небольшом расстоянии тянулась стенка с изображенным на ней в красках фантастическим драконом, как это принято у въезда в китайский ямынь. Объехав эту стенку, мы попали в первый двор, где спешились по приглашению солдат, вышедших из своих фанз, расположенных по обоим бокам. Лобсын остался здесь при телеге и лошадях, а мы трое пошли пешком дальше. Во втором дворе нас встретил чиновник, который утром приезжал к нам, и повел в третий двор, в глубине которого стоял дом амбаня. Дом был в обычном китайском стиле одноэтажный, с черепичной крышей, края которой были слегка загнуты вверх. Большие квадратные окна были заклеены бумагой. К входным дверям вели несколько ступеней, на которых нас встретили еще два чиновника повыше рангом, судя по цвету и сорту шариков на их шляпах. Они провели нас в большой приемный зал, почти пустой, видно было несколько кресел и маленьких квадратных столиков возле них.
Мы остановились недалеко от дверей и вступили в разговор с одним из чиновников, пока другой пошел доложить амбаню о нашем приезде. Немного погодя, из двери в глубине зала вышел амбань, человек средних лет, довольно тучный, в халате фиолетового шелка и черной куртке, на груди желтым шелком был вышит фантастический тигр. Красный шарик на его шляпе свидетельствовал о высоком чине. Его сопровождало несколько мандаринов разного ранга и с десяток слуг.
Мы подошли ближе и поклонились, амбань ответил легким наклонением головы и рукой указал нам на кресла, а сам сел в парадное кресло в некотором отдалении. Два кресла по обе стороны его заняли чиновники с синими шариками. Слуги тотчас же подали всем чай в небольших фарфоровых чашках без ручек, покрытых блюдцем с вырезом, через который можно было пить, не приподнимая блюдца. Чашки поставили каждому на столик возле его кресла и тут же для нас на маленьких блюдечках сахар крошечными кусочками. Китайцы пили чай без сахара.
После двух-трех глотков, сделанных для приличия по китайскому этикету, начался разговор. Амбань спросил, откуда мы приехали и с какой целью. Он говорил на пекинском наречии, но вопрос сейчас же повторял один из чиновников на нанкинском, так что секретарь профессора понимал все и отвечал; поэтому в моем участии надобности не было.
В дальнейшем я понимал вопросы амбаня, но плохо разбирал ответы секретаря, так как на нанкинском наречии часть звуков произносится иначе.
Амбань спрашивал о задачах экспедиции и раскопок, говорил, что в развалинах городов у Турфана на стенах нарисовано много буддийских божеств, попадаются также черепки посуды и вещицы более древние. Он сказал, что разрешает срисовывать картины, но копать можно не глубже одной четверти. За исполнением этого будет следить уездный начальник Турфана.
Затем следовали вопросы о способе путешествия через Россию, о Германии, ее императоре и дворе (довольно наивные), о Чугучаке и дороге в Урумчи. Время от времени амбань прихлебывал чай и мы следовали его примеру; пользуясь этими перерывами, профессор что-то говорил секретарю вполголоса.
Потом слуги подали всем кальяны — небольшие металлические коробки с длинной трубкой, которую брали в рот, а табак слуга зажигал в устье другой короткой трубки, погруженной нижним концом в воду, заполнявшую коробку. Таким образом табачный дым проходил через воду. Профессор курил сигары, но для приличия ему также пришлось сделать три затяжки, пока не сгорела маленькая порция табаку, положенная в трубку. Секретарь был некурящий и после первой затяжки так закашлялся, что вызвал улыбку амбаня, который покачал головой.
Я привык к кальяну и курил с удовольствием. Амбань заявил, что табак самый лучший, привезен из Ланьчжоу в Ганьсу.
Коробку с подарками чиновник, встретивший нас во втором дворе, взял там же и отнес к амбаню.
После курения амбань встал и в заключение, выражая благодарность за подношения, спросил с улыбкой, все ли женщины в Германии такие толстые, как нарисовано на коробке, и всегда ли ходят полураздетые. Что ответил секретарь, я не понял, но амбань рассмеялся и, сложив кулаки, поднял вверх большие пальцы, что у китайцев выражает большое одобрение. Затем он поклоном отпустил нас и направился со свитой в глубь зала. Мы раскланялись и вышли, сопровождаемые одним из чиновников до третьего двора, где тот, прощаясь, пожелал нам счастливого пути.
На следующее утро тот же чиновник привез нам ответные подарки — тушу баранины, при виде которой профессор поморщился, несколько коробок китайского печенья и маленькую головку сахара — все это в качестве провизии на дорогу. Он спросил, нет ли у нас туалетного мыла и стеариновых свечей — для жены амбаня. Профессору пришлось выдать из дорожного запаса пачку свечей и кусок мыла. Получив это, чиновник пригласил секретаря поехать с ним в ямынь, получить приготовленное разрешение на раскопки в Турфане. Секретарь и Лобсын поехали с чиновником и через час Лобсын вернулся с паспортами и разрешением.
Профессор отдал переднюю часть барана хозяину постоялого двора, а заднюю оставил в запас на дорогу вместе с печеньем и сахаром. Немецкий гебек у них кончился, и он примирился с мыслью, что придется кушать китайское печенье.
Этот день ушел на переговоры с китайскими возчиками относительно переезда в Турфан, куда можно было проехать в три дня на долгих, т. е. без перемены лошадей на станциях. Мы наняли двух крепких лошадей для легкой телеги и трех мулов для грузовой. Секретарь с моей помощью купил четыре китайские лопаты, две кайлы, оберточной бумаги и ваты для завертывания мелких вещей, добытых при раскопках, кроме того провизии на дорогу. Профессор велел также купить бутылку китайской водки, очень крепкой, но плохо очищенной, с запахом сивушного масла.
Дорога в Турфан идет на юго-запад по глубокому понижению в Восточном Тянь-шане, в северной части которого расположен Урумчи. Миновав оживленные улицы города и его южного предместья, пригородные сады и огороды, мы выехали в степь и вскоре поднялись на плоский перевал через низкие гряды Дун-шань. Справа от нашей дороги уходили вдаль на запад цепи Тянь-шаня, поднимаясь чем дальше — тем выше. Там были расположены долины рек Каш, Текес и Хайду-гол и плато Юлдус, населенные кочевниками. Слева высились скалистые отроги горной группы Богдо-ула, самой высокой в этой части Тянь-шаня к востоку от Урумчи. Две вечноснеговые вершины этой группы временами показывались из-за отрогов и облаков.
С перевала дорога спустилась в длинную и широкую впадину с озерами Сайопу и Айдын-куль, окаймленными зарослями камышей.
По этой впадине мы ехали до заката солнца. Богдо-ула все время видна была слева, и ее снеговые вершины манили к себе путников, томимых жаром. Вне зарослей дно впадины представляло пустыню, усыпанную щебнем и галькой.
Ночевали на станции Ту-дун, где воду дают хорошие ключи. Но комната была грязная и темная, так что профессор предпочел спать в своей телеге. Его сну очень мешали комары, пробиравшиеся через щели, тогда как секретарь в фанзе выспался хорошо.
На второй день дорога шла вблизи озера Айдын-куль по солончакам и зарослям, приближаясь к хребту Джергес, который круто обрывается к впадине озер, окаймляя ее с юга. Вскоре показалась зелень обширного оазиса Даванчин у подножия хребта, и я думал, что его орошают речки, стекающие с гор. Но оказалось, что вода выходит обильными ключами из дна впадины, образуя несколько речек, которые к подножию хребта Джергес сливаются в целый поток, прорывающийся через этот хребет по дикому непроходимому ущелью.
От станции Даванчин дорога поднялась на перевал через хребет, а затем долго шла по живописным ущельям его южного склона до станции Хукулу. От последней мы ехали то между разноцветными желтыми и красными голыми холмами, то по участкам черной щебневой пустыни и поздно вечером добрались до станции Куурга.
Последний день был удручающий. Долго ехали по голой пустыне без всякой растительности, спускаясь все ниже и приближаясь к обширной впадине южного подножия Тянь-шаня, расположенной ниже уровня океана. Солнце пекло невыносимо. Только после полудня начались цветные холмы, овраги и, наконец, цепь невысоких гор Ямшин-таг, через которую мы ехали по долине с садами и огородами таранчей. Появились деревья, которые были незнакомы нам — тутовые, ореховые, пирамидальные тополя, туйя и виноградники; все доказывало очень теплый климат. Остановились на постоялом дворе в предместье китайского Турфана.
Нужно сказать, что Турфан состоит из двух городов: китайского, в котором живут амбань, маньчжурские солдаты и китайские торговцы и ремесленники, и мусульманского, в котором живут таранчи, т. е. тюрки, составляющие коренное население Восточного Туркестана, и их князь. Оба города отдалены друг от друга на 2-3 версты и окружены садами, виноградниками, огородами и полями, которые орошаются арыками из речек, образующихся из обильных ключей в долинах, прорывающих Ямшин-таг.
По поручению профессора я расспрашивал хозяина постоялого двора и других китайцев относительно развалин древних городов. Мы узнали, что к западу от мусульманского Турфана находятся верстах в 15 развалины большого, города Яр-хото, что к югу от китайского Турфана в 5 верстах — старый Турфан, также в развалинах, а на востоке у подножия той же цепи гор Ямшин-таг в нескольких местах развалины Кара-ходжа, Идыгож-шари, Астана, Муртук и др. Мы узнали также, что эти развалины сильно пострадали во время последнего мусульманского восстания, так как таранчи уничтожали изображения буддийских божеств — статуи и фрески, а штукатурку храмов они издавна употребляют для удобрения своих полей, в почве которых мало извести.
Эти сведения очень огорчили профессора, который из старых книг знал об обилии древних городов в этой местности, еще никем не изученных, и надеялся поэтому на богатую добычу древностей. Но осмотреть развалины все-таки было необходимо, а раскопки могли обнаружить многое, уцелевшее от расхищения. Поэтому нужно было получить разрешение местного китайского амбаня, которого нельзя было обойти, хотя разрешение генерал-губернатора уже имелось.
Визит состоялся в том же порядке, как и в Урумчи, но обстановка была проще. Амбань был старый маньчжур и нанкинским наречием не владел. Поэтому роль переводчика пришлось выполнять мне. Амбань заявил, что ближайшие к городу развалины в старом Турфане и Яр-хото совершенно уничтожены мусульманами, и советовал осмотреть развалины Кара-ходжа и соседние, которые лучше сохранились.
Впрочем позже мы узнали, что все развалины были примерно в одном и том же состоянии и что амбань просто хотел сплавить нашу экспедицию подальше от себя. Он боялся, что иностранцы и их работы привлекут к себе внимание китайцев Турфана, которые будут собираться толпами и возле жилья янгуй-цзе, и на месте раскопок; придется посылать солдат для охрану от слишком любопытных зрителей, могут возникнуть конфликты и т. п. А в Кара-ходже, куда он сплавлял нас, население исключительно таранчи, которые буддийскими древностями не интересуются и тревожить иностранцев не будут.
Амбань очень настаивал на нашем переезде в Кара-ходжа и дал разрешение на раскопки только в этой местности. Профессору пришлось уступить, и мы на следующий день отправились в Кара-ходжа.
Дорога шла сначала по Турфанскому оазису, а затем по каменистой равнине с очень скудной и мелкой растительностью вдоль подножия гряды Булуек-таг, которая тянулась сплошной стеной, круто оборванной на юг и словно гофрированной мелкими рытвинами. У южного подножия Булуек-тага начиналась голая пустыня, и только там, где эта гряда была разорвана поперечными ущельями, из последних вытекали ручьи, вдоль которых тянулись дома и сады небольших поселков.
Из одного из ущелий этой гряды вытекала речка Кара-ходжа, которую мы искали.
В селе Кара-ходжа мы остановились у мусульманина на постоялом дворе, который отличался от обычного китайского типа рядом тополей, затенявших фанзы и навесы от жгучих лучей солнца. Так как экспедиция собиралась прожить здесь месяц или два, нужно было найти для нее квартиру более спокойную, чем постоялый двор. Мы с Лобсыном отправились на поиски, но в целом селе не нашли ничего подходящего. Ни один из поселян не имел двух приличных комнат, которые мог бы освободить для приезжих. Нам пришлось пойти в соседнее село Астана на другом берегу реки Кара-ходжа. Там местный старшина, имевший большую усадьбу, согласился отвести отдельную фанзу с двумя комнатами для экспедиции.
Здесь устройство фанз отличалось от китайских отсутствием кана, который заменялся небольшим возвышением глинобитного пола. На нем таранчи раскладывают на ночь ковры или тонкие ватные матрасики своих постелей. Окна были заклеены бумагой. Для профессора раздобыли стол и два табурета, а для разбора добываемых древностей несколько досок и жердей, из которых Лобсын смастерил полки. Складные кровати немцы поставили на возвышении, и в комнате осталось так мало места, что чемоданы и ящики экспедиции пришлось поставить в первой комнате, где мы с Лобсыном разложили свои постели на возвышении; никакой мебели здесь не было.
Устроившись, мы отправились осматривать развалины Идыкут-шари в 2 верстах к югу от селения Астана. Этот древний город был окружен стеной в 7-8 сажен высоты и занимал площадь длиной около версты и шириной в три четверти. На высоте 5 сажен на внутренней стороне стены видны были гнезда, в которых когда-то были вставлены балки висячей галлереи. На наружной стороне кое-где имелись камеры в сажень глубины и полсажени ширины, вероятно для помещения наружной стражи. Здания города внутри стен были сильно разрушены и большие площади заняты были возделанными полями, с проведенными к ним арыками. Кое-где попадались кучи обломков и стены отдельных домов, в том числе и двухэтажных, содержавших ряд комнат с сводчатыми потолками, судя по их остаткам На стенах кое-где еще осталась штукатурка и следы фресок.
К северной стене города изнутри был прислонен целый ряд фанз, а в юго-западной части города мы увидели массивное двухэтажное квадратное здание, высотой более 6 сажен, которое как будто лучше сохранилось, но конечно без крыши. Когда мы подошли ближе, оказалось, что второй этаж по площади меньше нижнего, отступает уступом назад. Отверстия, которые издали казались окнами, представляли просто глубокие ниши, в которых уцелела часть штукатурки и остатки статуй буддийских божеств. Но ни с одной стороны не было входа внутрь здания и приходилось думать, что это здание — сплошная масса сырого кирпича, воздвигнутая ради этих ниш для статуй богов.
Профессор объяснил нам, что в Индии, где много буддийских храмов, такие сооружения называются «ступа», хотя некоторые из них внутри стен содержат большую статую Будды.
Вне городских стен, с восточной стороны, мы увидели несколько лучше сохранившиеся сооружения, при виде которых Лобсын воскликнул: «Это субурганы, такие же, как в наших монастырях!»
Я перевел профессору эти слова, и тот сказал, что индийская ступа представляет то же, что субурган [35] у монголов, и является или надмогильным памятником или сооружением для установки статуй божеств и каких-нибудь реликвий.
Эти субурганы состояли из квадратного основания в 6 футов высоты, увенчанного плоским куполом такой же высоты. Мы насчитали их более двадцати. Некоторые были разрушены, и оказалось, что внутри они представляли круглую камеру со сводом и остатками штукатурки, прежде, вероятно, покрытой фресками.
Осмотр развалин показал профессору, что предстоит большая работа по раскопкам и гораздо меньшая по срисовке и фотографированию остатков статуй и фресок на стенах и в нишах.
Я забыл упомянуть, что экспедиция привезла с собой большую фотографическую камеру и сухие фотопластинки, уже изобретенные к тому времени. Перед тем в Семипалатинске я уже слышал о фотографии и даже снимался у приезжего фотографа. Но последний сам готовил себе фотопластинки в темной комнате перед съемкой, поливая стеклянную пластинку желатином с светочувствительными солями. В путешествии такой способ, конечно, невозможно было применять.
Со следующего дня началась наша работа по изучению развалин Идыкут-шари. Хотя мы не нанимались раскапывать землю, но профессор упросил нас делать это, ссылаясь на то, что таранчи, нанятые для раскопок, будут утаивать монеты и все ценные находки, так что доверять им нельзя. Нам он предложил отдельную плату за эту работу для начала, чтобы увидеть, что попадается в развалинах и затем уже нанимать таранчей для раскопок, но под нашим постоянным надзором Мы согласились, так как и нам было интересно узнать, какие клады имеются в древних городах.
Итак мы, вооруженные кайлами и лопатами, пошли в развалины вместе с профессором и в одном из зданий, от которого сохранились только стены, начали копать почву в комнатах. Сначала убрали обломки свода, обвалившегося на пол в виде больших куч глины, осколков кирпича, всякого мусора. Затем повели раскопки пола тонкими в полчетверти слоями по всей площади комнаты. Этот пол был земляной, но очень твердый и пришлось работать кайлой. Нашли несколько осколков фарфоровой посуды в самом верхнем слое, а глубже — ничего. Но в мусоре, выброшенном из комнаты, попалось несколько медных монет, сильно позеленевших, осколки глиняной и фарфоровой посуды, статуэтка Будды из обожженной глины и обрывки бумаги с китайскими иероглифами.
Эта работа показала, что нужно тщательно раскапывать мусор, покрывающий пол комнат, который и даст разные находки, тогда как пол нужно проверять, не является ли он насыпным, позднейшим, и только в последнем случае копать его.
Первым днем работ профессор остался доволен и поручил нам раскапывать комнаты всех зданий одну за другой, а сам с секретарем начал подробный осмотр и опись развалин. Они наняли еще таранчу, который носил тяжелый фотоаппарат и мольберт для срисовки фресок красками. Последнее делал сам профессор, а секретарь был занят фотографированием, обмером зданий и комнат и составлением плана города. Он заходил раза два в день к нам, забирал то, что мы откопали, и записывал, в какой комнате что было найдено.
Несмотря на то, что шел еще только конец мая, жара была очень сильная. Обширная впадина у южного подножия Тянь-шаня, в которой стоят города Турфан и Люк-чун — настоящее пекло в течение теплого полугодия. Тянь-шань защищает ее от северных холодных ветров, а низкие цепи гор Ямшин-таг, Булуек-таг и Туек-таг, окаймляющие впадину с севера, сами накаляются словно печи и ночью от них веет жаром. На юге поднимается хребет Чол-таг, совершенно голый, по словам таранчей, а с востока впадину замыкают песчаные горы Кум-таг, состоящие целиком из сыпучего песка, который еще больше накаляется солнцем и ночью отдает этот жар впадине Последняя представляет почти пустыню за исключением оазисов, которые тянутся ленточками вдоль речек, питаемых подземными водами Тянь-шаня. Среди впадины прямо на юг от нашего местопребывания синело большое озеро с горько-соленой водой, окруженное широкой белой каймой соли, издали казавшейся пеленой снега, который манил к себе путника, изнывавшего от жары [36].
Поэтому после первого дня работы в развалинах, когда мы все изнемогли, было решено установить такой порядок: вставать с зарей и с восходом солнца итти на работу, выполнять ее до десяти часов утра, когда солнце начинает уже сильно припекать, возвращаться домой, обедать, отдыхать часов до четырех и потом работать до заката. В сумерки ужинать и спать до рассвета.
Воскресные дни были днями отдыха для меня и Лобсына, но профессор и секретарь работали дома, пересматривали, этикетировали и укладывали вещи, добытые при раскопках; секретарь вычерчивал планы города и зданий, снятые за неделю, а профессор подправлял красками свои зарисовки фресок и переписывал начисто свои наблюдения.
Нужно заметить, что работы у них было не так много. Статуи божеств были большею частью разбиты, без голов и часто без всей верхней половины туловища, а иногда и без ног. Штукатурка, на которой когда-то были нарисованы фрески, во многих комнатах и нишах отсутствовала, отвалилась или искрошилась от времени или была отбита таранчами в качестве удобрения для полей. Таранчи растащили также много кирпича из развалин в качестве готового материала для своих домиков. Поэтому уцелевшие фрески представляли только обрывки; полные встречались очень редко.
В одном из наиболее сохранившихся зданий профессор обнаружил на уцелевшей части свода изображение птицы Гарудэ [37] в виде человека с крыльями, с птичьими ногами с когтями и со стрелами в руках, а под ней фигуру женщины, падающей вниз головой. В другом здании часть фрески изображала свирепого злого гения Махакала индийского культа с четырьмя руками и свиной мордой, восседающего на трупах своих поверженных врагов. Части фресок представляли цветы, разные узоры, головы птиц, фрагменты людей в одеянии, вероятно украшенном драгоценными камнями, также Бодисатву [38], сидящего в цветке лотоса. Профессор сказал нам, что все эти изображения имеют много общего с искусством индийского буддизма и очевидно выполнены мастерами индусами.
Наши раскопки дали монеты медные, серебряные, редко золотые, обломки глиняной и фарфоровой посуды, пуговицы, маленькие глиняные, изредка бронзовые статуэтки божеств и обрывки исписанной бумаги с китайскими, уйгурскими и санскритскими [39] письменами. Надписи кое-где сохранились и в нишах на штукатурке и на подножиях статуй, и секретарь аккуратно копировал их буква за буквой.
Мусор в зданиях нам приходилось, выбросив кирпичи и их обломки, перебирать руками, а мелкий просеивать через сито, чтобы не потерять какую-нибудь маленькую вещь. Поэтому раскопки шли медленно, и каждая комната в зависимости от площади и количества навала требовала от двух до четырех или даже пяти дней работы.
Один раз с нами приключилась довольно неприятная история. Мы работали в здании, возле которого протекал небольшой арык для орошения поля, занимавшего часть площади города. На поле уже созревала пшеница. Выкидывая мусор через стену, мы неосторожно запрудили арык и не заметили этого. Вдруг нас окружили пять таранчей с серпами в руках и обвинили нас в затоплении поля, которое они пришли жать. Они назвали нас ворами, которые ищут клады, зарытые в городе. Мы оправдывались, говорили, что мы рабочие экспедиции, которая имеет разрешение турфанского амбаня на раскопки. Но таранчи не поверили нам, заставили сначала убрать мусор, запрудивший арык, а потом повели нас к старшине, но не селения Астана, где была наша квартира, а села Кара-ходжа. Здесь во двор старшины собралась толпа таранчей, которые, услышав о поимке воров, требовали, чтобы нас отправили под конвоем к люкчунскому вану [40], как начальнику всего округа. Перспектива прогуляться в Люкчун, отстоявший в 40 верстах, в самое пекло по пустынной дороге, была довольно-таки неприятна, тем более, что время было позднее, и мы собирались итти домой отдыхать.
К счастью старшина оказался сговорчивым. Узнав, что мы живем в селе Астана, он отправил нас к старшине этого села, который знал о работах и видел уже всех нас, посещая нашу квартиру. У него дело быстро уладилось. Оказалось, что поля в развалинах Идыкут-шари принадлежат частью жителям селения Кара-ходжа, которые еще ничего не знали об экспедиции — случилось это в начале наших раскопок. Старшина, конечно, отпустил нас домой.
Во время пребывания в селении Астана я узнал из разговоров с таранчами, что они применяют очень оригинальный способ получения воды, необходимой для орошения полей в сухом и жарком климате впадины, где дожди очень редки и без полива ни хлеба, ни овощи, ни сады расти не могут. Таранчи проводят длинные галлереи, которые начинаются в виде канавы в том месте, где хотят разделать поля и сады, затем, постепенно углубляясь, становятся подземными, т. е. штольнями, и, подвигаясь все дальше на север и соблюдая только небольшой уклон, необходимый для тока воды, наконец достигают в толще рыхлых наносов, составляющих почву впадины, водоносного слоя; из него вода по штольне и канаве вытекает и орошает поля. Эти штольни называют кярыз [41], длина их достигает 2-3 верст и больше. Проведение их представляет большой труд, так что его предпринимают силами целого селения. Работу ведут посредством простейших шахт, углубляемых на известном расстоянии друг от друга до уровня будущей штольни, а затем из каждой шахты проводят участки штольни в обе стороны, вверх и вниз, навстречу с такими же штольнями из соседних шахт. Ввиду дороговизны леса, необходимого для крепления шахт и штолен, обходятся минимальным количеством его, и кяризы почти на всем протяжении ничем не креплены. Поэтому в них нередко случаются обвалы, кярызы требуют надзора и частого ремонта, но зато дают возможность увеличивать посевную площадь за счет пустыни.
По словам таранчей, в этой впадине дожди так редки, что они привыкли говорить: «у нас дождь бывает один раз в десять лет». Они считают даже, что дождь приносит вред, так как после дождя на винограде и хлебах появляется плесень, что уменьшает урожай. Но еще вреднее горячие ветры, которые в июле и августе дуют с юга из пустынных гор Чол-таг и Курук-таг. А весной и осенью неприятны ураганы, которые приносят много песка. Судя по этим рассказам, можно думать, что песчаные горы Кум-таг, замыкающие впадину с востока, созданы этими ветрами.
Мы сами наблюдали еще одно явление, которое характеризует эту впадину. Это пыльные туманы, которые случились несколько раз в июне и июле. При полном затишье воздух наполнялся мельчайшей пылью, настолько густой, что даже близкие горы Булуек-таг, верстах в двух-трех от нас, не были видны, а солнце светило так тускло, что можно было смотреть на него, не щуря глаз. Эта пыль поглощала столь много солнечного тепла, что в пыльные дни вместо обычной жары чувствовалась прохлада.
В общем же климат этой впадины нам всем не понравился: ночью мы плохо спали из-за духоты, а дневному отдыху мешали бесчисленные мухи. У секретаря все тело покрылось сыпью и сильно чесалось. Профессор уверял, что даже в Африке, где он вел раскопки в долине реки Нила у пирамид Египта, не было так жарко. Он называл впадину: ушасно адски яма.
Но у него и секретаря была интересная и спокойная работа, а мы с Лобсыном занимались раскапыванием мусора и в особенности просеиванием его, отчего поднималась едкая известковая пыль. Это нам скоро надоело, тем более, что попадались все те же предметы, потерявшие интерес новизны.
Поэтому, когда в конце июля приблизился срок окончания нашего договора, я заявил профессору, что нам пора кончать работу, чтобы вернуться в Чугучак для снаряжения каравана. Он ответил, что раскопки для него так интересны, что он хочет пробыть здесь до сентября или даже октября. Он уговаривал нас остаться, обещая увеличить нам вознаграждение. Но нам было бы слишком невыгодно отказаться от торгового каравана из-за тяжелой работы по раскопкам, и мы не согласились. Профессор настаивал, даже грозил, что пожалуется люкчунскому князю и турфанскому амбаню на то, что мы оставляем его до окончания работ без переводчика, несмотря на договор. Мне пришлось напомнить ему, что договор мы заключили только на определенный срок, который на днях кончается, что мы выполнили больше, чем было обусловлено, так как все время занимались раскопками, заменяя рабочих, что вовсе не входило в наши обязанности. В заключение я заявил, что в день окончания договора мы прямо поедем домой отсюда и этим делаем большую уступку ему, так как в этот день мы по договору должны были быть довезены экспедицией обратно в Чугучак. Тогда он уступил, но попросил найти ему двух рабочих и показать им, как мы ведем раскопки.
Это было не трудно. Таранчи были свободны от полевых работ. Первый урожай на полях (пшеница) был уже убран, а второй (кунжут, гаолян) еще не поспел. Я нашел двух таранчей, и мы за два дня обучили их ведению раскопок. Но так как профессор не был уверен, что они будут сдавать ему все найденное, особенно монеты и металлические вещицы, ему пришлось прикомандировать к ним для надзора секретаря. Он отомстил нам тем, что при расчете уплатил только жалованье за все время, согласно договору, и прибавку за раскопки, но не оплатил нам обратный проезд в Чугучак, ссылаясь на то, что в договоре об этом ничего не было сказано отдельно. Но мы были рады расстаться с немцами, с тяжелой работой и с жарким климатом впадины. На полученные деньги мы купили пару хороших лошадей с седлами и поехали налегке, делая по 50 верст в день в среднем, ночуя на постоялых дворах, чтобы получать хороший корм для лошадей и не заботиться ночью об их пастьбе и о своей пище. Поэтому мы ехали несколько дольше, чем с немцами на сменных лошадях, но 20 августа были уже дома, а в начале сентября отправились со своим караваном по Монголии.
Вернулись мы только во второй половине ноября и узнали, что профессор прибыл в конце октября в Чугучак и привез пять телег с сокровищами, добытыми в развалинах. С таким грузом он ехал, конечно, на долгих, а не на сменных лошадях и довольно медленно. Консулу он нажаловался на нас и заявил, что мы его бросили и вообще плохо обслуживали. Впрочем я побывал у консула тотчас по приезде в Чугучак и рассказал ему обо всем, так что тот был осведомлен и заставил профессора заплатить деньги за обратный проезд в Чугучак, выполненный нами на свой счет.
Это наше третье путешествие дало нам обоим мало заработка, но зато мы имели возможность видеть новые интересные места, познакомиться с таранчами и их жизнью и узнать, что можно найти в развалинах древних городов. Это пригодилось нам в дальнейшем: я научился снимать планы зданий снаружи и внутри и вести раскопки почвы их тонкими слоями с тщательным просмотром всего извлеченного из каждого слоя, его упаковке и регистрации.
КЛАДЫ В ГОРОДЕ НЕЧИСТЫХ ДУХОВ
Зимой пришлось опять побывать в Семипалатинске с сырьем и за товаром, а также по особому делу. Приказчик московских купцов Первухин был очень недоволен моей конкуренцией, так как я предлагал лучшие товары, которые сам выбирал, и продавал их дешевле, чем он. Ему приходилось торговать тем товаром, который ему присылали из Москвы и продавать по ценам, которые ему назначали, да еще с надбавкой в свою пользу. Поэтому он сообщил своим хозяевам в Москву, что вот в Чугучаке некий Кукушкин, не имея звания и прав купца, торгует с монголами, сбивает московские цены и вредит русской торговле.
Московские купцы на основании его письма просили консула обратить внимание на эту «недозволенную конкуренцию» и запретить Кукушкину самостоятельную торговлю в Монголии.
Консул пригласил меня, показал мне это заявление и посоветовал получить в Семипалатинске временное свидетельство и права купца хотя бы второй гильдии. Тогда он сможет ответить в Москву, что Кукушкин — купец, а не самозванец и имеет право вести торговлю с монголами. Он же выдал мне отзыв о пользе моей торговли и моей добропорядочности, что должно было помочь мне получить права временного купца.
В Семипалатинске я все выполнил и вернулся с правами купца, а Лобсына, который, для защиты от начавшихся посягательств монгольского князя на его имущество, уже принял русское подданство, я заявил своим компаньоном.
Весной этого года Лобсын приехал как-то ко мне и говорит:
— Прошлым летом мы с немцами ездили в Турфан, работали как землекопы в развалинах, а много ли получили? Ведь все, что мы выкопали из земли, немцы увезли.
— Это потому, что они знали про эти развалины, знали, что возле Турфана имеются древние города, в которых разные клады сохранились. Это было их открытие, а нас они наняли для этой работы, — ответил я.
— А ты знаешь ли, Фома, что развалины очень старого города совсем недалеко от Чугучака стоят. Там, наверно, тоже разные сокровища остались.
— Неужели? Откуда ты узнал?
— Я зимой разных калмыков и киргизов при случае расспрашивал, нет ли в наших горах каких-нибудь развалин. И мне не один человек, а несколько и каждый в отдельности, рассказывали, что они такие развалины знают.
— Где же они, далеко, близко ли?
— Немного дальше старых рудников Чий-чу, где мы три года назад золото выкопали. Уркашар-хребет помнишь?
— Как же, помню хорошо.
— Из Уркашара большая речка Дям в полуденную сторону течет и в озере Айрик-нур кончается. Так вот, не доезжая этого озера на восток от реки, развалины большого города стоят. По низовью речки большие рощи и пастбища хорошие имеются. С калмыцких зимовок развалины видны — разные башни, стены, улицы, гораздо больше, чем в Турфане.
— И никто в этом городе не живет?
— Нет, в самом городе ни воды, ни подножного корма, никакой зелени нет. Место совсем голое, песок сыпучий, солончак. Волки и дзерены водятся, а калмыкам там делать нечего.
— Давно ли этот город разорен?
— С незапамятных времен, говорят. Никто не знает, когда там люди жили и какие люди. А город большой, версты три поперек, пожалуй пять верст вдоль реки Дям и развалины до черных гор Хара-арат доходят. Эти горы — тоже пустое место: ни воды, ни травы нет и никто в них не живет. А за черными горами настоящая пустыня Гоби, Сырхын-гоби называется. Она почти до Семистая протянулась, до того хребта, который мы из долины Кобу видели, когда на Алтын-гол на запрещенный рудник ездили.
— Это ты все расспросил, а сам по соседству не бывал?
— В Сырхын-гоби бывал и Хара-арат издалека видел. Только город не мог видеть, его Хара-арат заслонил.
— Что же, я вижу ты подбиваешь меня ехать туда, сокровища раскапывать?
— Почему бы нет? Мы каждый год в это время куда-нибудь ездим, новые места смотрим, отчего не поехать в этот город. Не так далеко, отсюда езды пять-шесть дней только. Долину Мукуртай между Джаиром и Уркашаром помнишь? По ней мы проедем до реки Дям, а потом вниз по этой реке. Приедем, попробуем покопать в развалинах. Если найдем что-нибудь хорошее — останемся, а не найдем — вернемся скоро назад.
— Так! Что же, если мы что-нибудь найдем — можно будет каждый год туда ездить и понемногу добывать. Только вот что! Ты говоришь, что на реке Дям недалеко от развалин живут калмыки. Они увидят, что мы копаем развалины, арестуют нас и потащут на расправу к своему князю. Помнишь, как нас таранчи повели из турфанских развалин?
— На Дяме стоят только калмыцкие зимовки и в конце весны калмыки откочевывают в горы, потому что на реке летом жарко, да и траву нужно беречь на зиму, не травить её летом.
— Ну, хорошо! Поедем, когда станет теплее, заготовим сухарей и баурсаков на целый месяц.
— Повезем лучше муку и сало, баурсаки сами будем жарить, всегда будут свежие. Палатку возьмем с собой и твоего парнишку приемыша.
— А его зачем?
— Палатку поставим в роще на окраине развалин, в тени. Коням корм нужен, в городе ни травы, ни воды нет. Парнишка будет стеречь коней и палатку, пока мы работаем в городе.
— Ты, вижу, все уже обмозговал!
— Само собой, дело не мудреное.
— Парнишке скучно будет одному сидеть по целым дням и даже жутко.
— Собачку, конечно, возьмем. А если хочешь, я и своего парнишку возьму. Он чуть моложе твоего. Пусть оба приучаются к работе. Ты своего уже обучил русской грамоте, он поучит моего. Оба будут нам чай и ужин варить.
— Значит, поедем вчетвером и на четверых нужно провиант заготовить. Пожалуй два вьючных коня не поднимут всего.
— Двух коней мало. Парнишки ведь поверх вьюков сядут. Возьмем трех вьючных коней, у меня их достаточно, золото мы не зря добывали.
Итак, мы сговорились окончательно, что в конце мая Лобсын с сыном, пятью лошадьми, запасом масла, вяленого мяса и сухих пенок приедет в Чугучак. Я к тому времени заготовлю сухари, муку, чай, сахар, соль, посуду.
Когда я рассказал консулу, что мы опять собрались путешествовать, он спросил:
— Новую авантюру задумали? В каком роде и далеко ли поедете, неусидчивый человек?
— Если такие раскопки, которые мы с немцами вели в развалинах возле Турфана, можно назвать авантюрой, Николай Иванович, вы угадали.
— Неужели вы в Турфан собрались? Немец, поди, там все дочиста обобрал!
— Нет. Лобсын узнал про развалины древнего города в наших горах гораздо ближе, на реке Дям. Вот мы и хотим попробовать, нет ли там чего интересного.
— Что же, это хорошо. Только условие — все, что найдете, покажете мне. Такие древности нельзя разбазаривать по мелочам. Наша Академия наук и музей Эрмитажа все купят с удовольствием. Я им напишу, приложу список находок, и они пришлют знатока, который все оценит, заплатит вам и вещи отправит в Петербург. Сосунок ведь для германской академии раскапывал, а вы будете для нашей искать.
— Правильно, Николай Иванович! И нам тоже приятнее будет поработать для отечественной науки и отсылать добытые древности нашим ученым людям для изучения и выставки в русских музеях.
— У немца вы научились раскапывать. А он, наверно, записывал, где, что и на какой глубине найдено. Не так ли?
— Да, все записывали и профессор, и его секретарь, но что писали — не знаю, они вещи по-немецки называли. Секретарь еще план каждого здания снимал и где что найдено отмечал.
— Вот и вы делайте так же. Я дам вам клетчатую бумагу, линеечку с масштабом, циркуль и покажу, как нужно план здания снимать. А если на стенах найдутся какие-нибудь раскрашенные картины, которые фресками называются, — вы их не пытайтесь сбивать, — испортите. Попробуйте срисовать, хотя бы грубо, примерно. Я дам вам цветные карандаши. Всякие статуи, лепные фигуры большие, карнизы, украшения на стенах, — не трогайте, только отмечайте на плане. Все такие вещи требуют знатока, чтобы их снять без порчи и уложить для увоза.
— Ну, такие вещи мы на вьючных конях и увезти не могли бы.
— То-то же. За такими вещами, если окажутся, потом пришлют особую экспедицию.
— Понимаю! Мы будем только раскапывать землю внутри зданий и возле них. Все, что выкопаем, — привезем вам, а также планы и все записи и рисунки, если выйдут.
— А вдруг откопаете какую-нибудь большую статую, тяжелую вазу или большой сундук?
— Увезти такие вещи мы не сможем.
— Конечно. Оставляйте на месте, только засыпав опять землей и отметив на плане и в описи.
Консул назначил мне день, когда я должен был притти к нему, чтобы поучиться снимать план и взять обещанные инструменты.
Собственно я посетил его приличия ради, чтобы сообщить о своей отлучке, а вышло очень хорошо. Он научил, что делать, а я нашел в нем советчика и даже посредника по сбыту древностей. Без его советов мы могли бы много напортить, а теперь сделались с его ведома и благословения разведчиками по древностям для родины.
Два раза я побывал у консула, научился снимать план здания консульства снаружи и внутри. Для измерения длины он велел мне взять с собой тонкую веревку, отметив на ней узлами сажени, а краской аршины и вершки. Для обмера глубины при раскопках он велел взять из лавки складной аршин, выдал бумагу, циркуль, мерную линеечку и цветные карандаши [42].
В конце мая Лобсын приехал на пяти лошадях с своим сыном, собакой и заготовленной провизией. Мои сборы также были закончены; я взял пару лопат и пару кайл, а для перевозки мелких, но хрупких вещей, которые могли попасться в развалинах, заказал столяру пару небольших вьючных сундучков, которые послужили для размещения запасов муки, сахара, крупы, чая и пр.
Консул пришел проводить нас и принес паспорт, выданный амбанем, и разрешение раскапывать развалины старых городов, подобное тому, которое амбань в Урумчи выдал немцам. Таким образом мы ехали уже в качестве разведочной русской экспедиции.
За первые два дня мы прошли по знакомой уже дороге по долине реки Эмель и черным ветреным холмам до степи Долон-тургень между Уркашаром и Джаиром, а на третий день повернули на восток по широкой долине Мукуртай. Она представляет сначала неровную степь, а далее появляются рощи тополей, гала, тамариска и разных кустов с лужайками, занятыми зимовками киргизов и калмыков. Слева долину окаймляли крутые склоны Уркашара то черного, то красного цвета, разрезанные короткими ущельями. В одном месте бросалась в глаза отвесная стена огромной высоты. У подножия ее лежала кучка громадных глыб, а на вершине видно было маленькое здание вроде буддийской часовни. На дне долины против этого места был небольшой калмыкский монастырь.
— Это скала Кызыл-гэген-тас (камень красного гэгена), — пояснил Лобсын. — С ее вершины когда-то гэген монастыря бросился вниз. Он уверил лам, что Будда поддержит его в воздухе за его подвижническую жизнь и он встанет внизу на ноги живой и невредимый. Все ламы поднялись вместе с ним в большой процессии по длинной окольной дороге на вершину скалы и совершили там богослужение. Внизу к подножию скалы съехалось много калмыков и киргизов из окрестностей, чтобы видеть чудесный прыжок гэгена. После богослужения гэген в своем красном халате, расправив его широкие рукава, подобно крыльям, прыгнул вниз и, конечно, разбился насмерть. С тех пор эту скалу и называют Кызыл-гэген-тас, а в память события на ее вершине построили часовню.
Я с интересом смерил на глаз высоту скалы и определил, что она не менее полуверсты,
— А другие говорят, — продолжал Лобсын, — совсем не то. В этом монастыре жил одно время молодой гэген, который влюбился в красавицу калмычку. Жениться ламы и тем более гэгены не могут, а взять себе любовницу, как теперь нередко делают ламы и даже гэгены, в те времена еще нельзя было. И вот гэген долго тосковал, наконец, ушел из монастыря тайком, поднялся на скалу и спрыгнул вниз.
— И еще рассказывают, — закончил Лобсын, — что сами ламы сбросили гэгена вниз потому, что он был очень строптивый, не желал им подчиняться, а хотел управлять монастырем по-своему. Как-то случился сильный падеж скота у калмыков и ламы уговорили гэгена совершить богослужение на вершине скалы, откуда молитва скорее доходит до Будды. После службы ламы и сбросили гэгена вниз, а людям рассказали, что он прыгнул сам, похваляясь поддержкой Будды.
— Какому же рассказу верить? — спросил я. Ты ведь жил в этом монастыре и знаешь, что делают ламы и как они управляют.
— Жил я не в этом монастыре, Фома, а в том, который стоит в долине Кобу, — вспомни, мы ехали мимо него на запрещенный рудник. Но в этом я бывал позже и тут слышал первый рассказ о прыжке гэгена. А думаю, что последний рассказ о том, что его сбросили, будет самый правильный.
Высокий склон Уркашара особенно привлекал внимание, хотя и Джаир, ограничивавший долину Мукуртай с юга, имел живописный вид. Сначала там тянулась зубчатая цепь Кату, которая напомнила нам о золотом руднике и фанзе, которую мы искали, руководствуясь засечками на вершины этих гор, и о жуткой ночи с нападением волков, хранителей клада.
— Знаешь, Фома, — сказал Лобсын, указывая на восточный конец этой цепи, — в Кату есть еще одно место, где добывали много золота; оно называется Бель-агач. Нам нужно как-нибудь посмотреть его.
— Какой ты жадный стал! — воскликнул я. — Мало у нас золота, что ли? Вот найдем древний город и выкопаем в нем клады. Это интереснее, чем ковырять золото в старой шахте, в темноте и сырости.
Горы Кату кончились, их сменили более низкие и плоские, конец Джаира превращался в холмы. А впереди, ближе к рощам Мукуртай, поднимались широкие и плоские увалы.
— Это место Темиртам называется, — пояснил Лобсын. — Тут китайцы копают земляной уголь для амбаня, в Чугучак возят, чтобы его кан зимой топить. А прежде на этом угле железо плавили, в старину мечи и копья ковали, как люди рассказывают. Отсюда и название этого места Темиртам, это значит — железный завод.
Холмы, поднимавшиеся в этом месте над долиной Мукуртай, показались мне очень интересными. На их склонах ясно выступали разноцветные слои горных пород — желтые, красноватые, серые, местами черные — и можно было видеть, как один и тот же слой поднимается по склону холма вверх, потом изгибается дугой и опускается вниз. А все другие слои выше и ниже его повторяют тот же самый изгиб. И глядя на этот склон, я понял, что такое складки горных пород, о которых читал в книжке. До этого дня мне не приходилось видеть в горах подобные складки. На Алтае и здесь при наших путешествиях случалось видеть, что в одном месте слои горных пород лежат плашмя друг на друге с наклоном в одну сторону, в другом месте наклонены в другую сторону, в третьем даже поставлены на голову.
Я показал Лобсыну этот изгиб слоев и объяснил ему, как мог, что такое складки и как они образуют целые горные хребты. Лобсын внимательно слушал меня и говорил: — Так, так, понимаю, теперь, как из-под земли поднимаются маленькие и большие горы, словно земля морщится, как одеяло на постели, когда его толкаешь ногами в одну сторону.
— А вот, — вскрикнул он, указывая пальцем на черный слой, делавший такой же изгиб, — это, должно быть, земляной уголь, который в этой же горе, но в другом месте, добывают для нашего амбаня.
Вместе с холмами, на которых видны были изгибы слоев, кончились рощи Мукуртая, и мы выехали на открытое место. Слева до подножия Уркашара расстилалась равнина, почти совершенно голая, густо усыпанная мелкими черными камешками. К Уркашару она поднималась полого, а на восток уходила до горизонта, где чернели низкие горы. Я впервые видел такую полную пустыню. Лучи солнца, близкого к закату, отражались яркими огоньками на черных камешках, блестящих, словно маленькие зеркальца, и вся пустыня впереди нас сверкала. Я был поражен этим зрелищем и спросил Лобсына, что это за странное место.
— Это Сырхын-гоби начало! Эта гоби уходит на восток почти до речки Кобук. А там вдали слева — горы Хара-сырхэ и справа горы Хара-арат.
— И гоби эту следовало бы называть Кара-гоби, потому что она такая же черная, как и эти горы, — заявил я.
— Сырхын-гоби ее называют потому, что среди нее стоят горы Хара-сырхэ, а она их окружает, — пояснил Лобсын.
Справа от дороги видны были еще холмы, которыми кончался Джаир. Они также были черные, сплошь усыпанные черными камешками, совершенно голые и округленные, похожие друг на друга, как близнецы. Но вдоль их подножия виднелись рощицы тополей и заросли чия на песчаных бугорках.
Мы выбрали лужайку с травой и остановились на ночлег. Парнишки с визгом соскочили с коней и побежали собирать аргал, радуясь возможности размять ноги после долгой езды на вьюке. Мы раскинули палатку, развели огонь, сварили ужин. Ночь прошла спокойно, даже волков не было слышно. Черная гоби и черные холмы Джаира очевидно не представляли удобств для волчьих нор.
Вода ручья своим однообразным тихим журчаньем убаюкивала нас. Почти полная луна ярко освещала черную гоби, расстилавшуюся от самой палатки на север. Бесчисленные гладкие камешки, усеивавшие ее поверхность, отражая лучи ночного светила, блестели синеватыми огоньками. Я долго любовался этой слабо светящейся пустыней, за которой на севере невысокой стеной поднималась цепь гор Салькен-тай, составляющая пониженное продолжение Уркашара. Слабый и теплый порыв ветра доносил по временам оттуда какой-то глухой ровный шум.
— Это шумит Дям, который вырывается ущельем из Салькен-тая и течет поперек Сырхын-гоби, — пояснил Лобсын, сидевший рядом со мной у входа в палатку возле потухшего огонька.
— И разве ночью здесь не лучше, чем в юрте, где возле тебя сопят и храпят женщины, поблизости чешутся бараны, ворчат и перекликаются собаки, топчутся и вздыхают коровы, — прибавил он, помолчав. Я не мог не согласиться с ним. Обаяние пустыни, освещенной луной и погрузившейся в ночную тишину, очаровало и меня. Наши ребята, уставшие за день, давно уже спали, обнявшись, в глубине палатки.
На следующий день мы пошли дальше по черной гоби вдоль ручья, окаймленного зарослями чия, кустов и отдельными деревьями. Последние холмы Джаира, видневшиеся за кустами, вскоре кончились и там началась та же черная гоби, убегавшая на юг до горизонта. Теперь, когда солнце было еще не высоко на востоке и светило нам в глаза, гоби при взгляде вперед казалась совсем черной и мрачной. Но, оглянувшись назад, я опять увидел, как ее поверхность сверкала синими огоньками, отраженными зеркальцами камешков. Я обратил внимание ребят на это зрелище, и они долго оглядывались и восхищались видом пустыни.
Часа через два ручей начал врезаться в почву гоби, и мы по зарослям кустов незаметно спустились к реке Дям. Ее широкое русло, усыпанное галькой и валунами, было окаймлено рощами тополей, джигды, тальника и разных кустов, зарослями чия, лужайками. Местами густые заросли камышей окружали какую-нибудь старицу в виде озерка или полностью занимали ее место.
Эта широкая лента зелени вдоль реки не была видна издали и не нарушала мрачного величия черной пустыни, так как она была врезана на несколько сажен в поверхность гоби и окаймлена крутыми обрывами. Река проложила свою долину и питала своей водой ее растительность, создав этот оазис среди пустыни и поддерживая его существование.
Мы ехали теперь на юго-восток вниз по этой долине Дяма. Тропа шла то по рощам, то по голым площадкам, усыпанным галькой, изредка пересекала русло реки, переходя в ее извилинах с одного берега на другой. В кустах и на деревьях пели и щебетали мелкие птички; несколько раз мы вспугивали фазанов, которые ютились в зарослях; красиво оперенные самцы с длинными хвостами взлетали с своим характерным криком. Ребята, никогда не видевшие этих птиц, очень интересовались ими, но еще больше изумились, когда мы, огибая заросли камыша, наткнулись на нескольких диких свиней с поросятами, которые разлеглись на песчаном откосе у воды и, при виде нас, с визгом вскочили и скрылись в зарослях так проворно, что я не успел снять с плеча свой дробовик.
Долина Дяма мало-помалу расширялась и достигала уже почти ста сажен в ширину. Ограничивавшие ее обрывы стали выше, сажен до семи-восьми, и в них видны были слои светлорозовых, желтых и зеленоватых пород. Обрывы изредка разрывались узкими и крутыми промоинами, по которым можно было пешком, а иногда и верхом, выбраться на поверхность пустыни.
Через несколько часов езды слева над обрывами показались черные и голые холмы цепи Хара-арат, а немного далее долина быстро сузилась. С обеих сторон вместо пестрых обрывов подступили темные скалы, и Дям, собрав свои воды в узкое глубокое русло, скрылся в маленьком ущелье, заваленном крупными глыбами, среди которых пробивалась вода. Ущелье было непроходимо, и тропа поднялась на левый берег и обогнула ущелье по холмам Хара-арата. Дям здесь прорывался через одну из гряд этого кряжа, выдвинутую дальше всего на запад.
Спустившись опять в долину, мы в тени рощицы остановились на обед. Пока Лобсын разводил огонь и варил чай, я пошел с ребятами назад к ущелью, в конце которого между глыбами камней русло реки представляло достаточно глубокие места для купанья. Хотя монголы вообще никогда не купаются, но ребята последовали моему примеру и с удовольствием полезли в теплую чистую воду.
Отдохнув часа три, мы поехали дальше. Долина реки с рощами и зарослями была опять ограничена справа полосатым розово-желто-зеленоватым обрывом, а слева холмами Хара-арата. Долина имела здесь уже больше полуверсты в ширину, русло и рощи тянулись вдоль обрыва, а остальная площадь была занята зарослями чия и голыми галечными или глинистыми площадками. Слева же долину ограничивали черные холмы Хара-арата, по которым шла тропа.
Через некоторое время с высоты этих холмов мы увидели впереди довольно большое озеро, по берегам которого кое-где зеленели заросли камыша.
— Это озеро Улусту-нур, — сказал Лобсын, — в него впадает один рукав Дяма, а другой идет дальше в озеро Айрик-нур.
— И вот уже видны развалины древнего города, — прибавил он, указывая на восток.
В эту сторону озеро уходило довольно далеко и вдали за ним видны были желтоватые массивные здания, плоские башни и между ними улицы. Я думал, что мы повернем на восток вдоль берега озера, но Лобсын, огибая озеро с запада, повел нас дальше на юг.
— В озере вода соленая, — пояснил он, — а подножный корм на берегах плохой. Мы едем к зимовкам калмыков, где корм хороший и вода имеется в колодцах.
Мы поехали вдоль западного берега мимо песчаных холмов, поросших кустами тамариска. На озере не видно было никаких плавающих птиц, а вдоль берега тянулась белая лента густых выцветов соли. Хотя в озеро впадала часть воды Дяма, но стока оно не имело, и, вода, испаряясь в нем, мало-помалу осолонялась. Верблюды, вероятно, стали бы пить эту воду, но наши лошади попробовали ее и отвернулись.
Немного дальше озеро кончилось: оно имело около версты в ширину и вдвое больше в длину. Мы перебрались через песчаные холмы, окаймлявшие озеро с юга, и пошли дальше по долине реки Дям, которая была здесь еще шире и представляла сплошные луга с рассеянными среди них рощами и зарослями. Справа долину ограничивал все тот же высокий обрыв с слоями розоватых и желтоватых пород, а слева вдали видны были стены древнего города, над которыми кое-где поднимались башни, острые шпицы. А вдали эти развалины как будто взбегали на плоскую гору, сливаясь в целое кружево карнизов, башен, лестниц, похожее на старинную крепость, стены которой уже сильно рассечены и изъедены промоинами, щелями и другими углублениями.
Лобсын повел нас наискось по лугам к восточному краю долины, где в одном месте видна была порядочная роща. На ее окраине мы увидели голые круглые площадки, вокруг которых трава была почти выбита. Обилие мелкого помета баранов и коз на этих площадках показывало, что здесь зимой стояли юрты калмыков, а следовательно, поблизости должна быть вода. Река Дям попрежнему держалась правого берега долины и до нее отсюда было далеко.
Действительно недалеко от этого места на окраине рощи мы нашли колодец — просто яму, глубиной сажени две с отвесными стенками, вверху закрепленными плетнем.
У нас, конечно, была с собой веревка и порядочное ведро, служившее для варки чая. Мы зачерпнули воды — она оказалась пресной, но немного затхлой и мутной, неприятной на вкус.
— Это ничего, — заявил Лобсын. — Калмыки укочевали отсюда уже недели две-три, воду из колодца никто не брал, и она застоялась. Мы вычерпаем всю воду сегодня и за ночь набежит свежая.
Роща была на окраине долины, совсем близко от развалин; корм в изобилии, топлива в виде аргала и сухого хвороста достаточно, вода тут же, — следовательно, место для нашего лагеря прекрасное. Мы раскинули в роще палатку. Солнце уже садилось. Среди кустов недалеко от юрт наши парнишки при сборе топлива обнаружили выдолбленную из тополевого ствола колоду, из которой обычно поят скот, спрятанную калмыками в тени. Мы притащили ее к колодцу, так как без нее пришлось бы поить лошадей из нашего ведра для варки чая и супа.
Настроение за ужином у всех было радостное. Нашли прекрасное место у самых развалин, где парнишки и собака будут пасти и стеречь лошадей, пока мы ведем раскопки. Но с наступлением темноты в развалинах в разных местах начали завывать волки и пришлось привязать лошадей вблизи палатки и поочередно поддерживать огонь и караулить.
Утром, оставив ребят, трех лошадей и собаку у палатки, мы вдвоем с Лобсыном верхом направились в древний город для его общего осмотра. Миновав неширокую впадину с редкими зарослями тростника, в которой оканчивалось сухое русло, тянувшееся в глубь города, мы поехали вверх по нему. Вскоре с обеих сторон потянулись стены массивных зданий, частью уже прорезанные промоинами или даже превращенные в холмы. То тут, то там между ними в обе стороны уходили улицы или узкие переулки, прямые и извилистые. В одном месте мы увидели на высоком фундаменте высеченную из камня статую какой-то странной птицы с длинной шеей и головой, сильно обветренную. В другом месте возвышалась острая игла, вероятно остаток сторожевой башни. Еще дальше высоко поднимались две башни, внизу соединенные друг с другом, напоминая большое седло. Затем выехали на площадь, среди которой стояли три башни разной высоты и формы, обмытые дождями, поднимаясь среди груд обломков, а по соседству с удивлением заметили башню, которая накренившись угрожала падением. За площадью опять пошли стены, улицы, переулки и мы выехали на северную окраину города. Здесь нас поразила огромная квадратная башня, а возле нее большое изваяние какого-то лежащего зверя. Упомяну, что зимой, заинтересовавшись после раскопок в Турфане древними городами, я выпросил у консула описание древностей Египта и видел там снимки пирамид, сфинксов, обелисков и огромных статуй фараонов. Изваяние возле башни было похоже на огромного сфинкса; хотя оно очень обветрилось, но еще различимы были лапы, туловище и голова.
С этой окраины мы опять повернули в глубь города и по одной из улиц выехали на обширную площадь; ее песчаная почва была усыпана разноцветными полированными камешками, а с одной стороны тянулось огромное высокое здание с башенками, выступами, карнизами, размытыми дождями, но совсем без оконных отверстий. Мы остановились и долго смотрели на это здание.
— Думаю, что это был главный дворец начальника города или даже владетельного хана всей этой земли, — сказал Лобсын.
— Почему не видно оконных отверстий, — заметил я. — Это, пожалуй, главная крепость среди города, в которой мог проживать и какой-нибудь царь.
У подножия этого здания, вдоль которого мы ехали довольно долго, стояла огромная квадратная башня. Хотя она имела сажен 20 высоты, но казалась маленькой по сравнению с зданием, которое было раз в пять выше.
Потом мы стали огибать конец этого сооружения, сильно разрушенный и занесенный, как будто, песком, и здесь увидели огромное изваяние сидящего человека, также очень пострадавшее, а далее — длинную низкую стену, оканчивавшуюся сторожевой будкой.
Повернули в другую сторону за площадью перед дворцом. Опять пошли улицы и переулки, стены с выступающими башнями. В одном месте отдельная башня поразила нас своей формой, — она походила на женщину на коленях, закутанную в широкий халат и с чепцом на голове. Но может быть это было огромное изваяние.
Потом мы выехали на другую окраину города, и я не мог не воскликнуть:
— Вот здесь городское кладбище!
Среди обширного пустыря с редкими кустами возвышались в разных местах надмогильные камни — саркофаги разных форм, то в виде больших лежащих животных, то в виде массивных плит. А по соседству возвышалась низкая башня, напоминавшая часовню.
Прошло уже несколько часов, солнце пекло, мы устали и повернули назад к своей стоянке. Нужно заметить, что все улицы и переулки были покрыты толстым слоем пыли, в которую ноги лошадей погружались выше копыта. На этой пыли, очевидно снесенной дождями и ветрами со зданий, ничего не росло — поверхность была совершенно голая. После нашего проезда оставались глубокие следы коней. Местами мы заметили следы дзеренов и волков. Но некоторые улицы вблизи залива озера Улусту-нур представляли солончаки с бугорками вокруг кустиков хармыка и солянок
Мы заметили также, что в стенах зданий кое-где торчали круглые каменные ядра разной величины, очевидно город когда-то подвергался обстрелу из пушек. А у подножия стен иногда попадались осколки довольно толстого белого стекла, очевидно из прежних окон, хотя оконных отверстий в зданиях мы нигде не видели. Может быть, они были маленькие и заплыли, засыпались? Эти ядра в стенах указывали, что город не очень древний. Ведь порох изобретен только в XV веке, а пушки, стрелявшие каменными ядрами, позже. Впрочем, я вспомнил, что китайцы знали порох гораздо раньше, чем в Европе, а греки и римляне бросали каменные ядра из особых машин — катапульт — при осаде городов.
Выехав к палатке, мы долго за обедом обменивались впечатлениями о виденном и рассказывали ребятам об этом городе, лишь часть которого мы успели объехать за несколько часов. Потом стали обсуждать вопрос, в каком месте начинать раскопки.
— Видели мы много зданий, стен, башен, проехали много улиц и переулков, а нигде не заметили отверстий прежних окон и дверей, — отметил я.
— Оконное стекло мы кое-где видели, — сказал Лобсын. — Может быть, в то время окна делали очень маленькие и они заплыли.
— Положим, что так. Но двери-то не могли же быть такие же маленькие, — возразил я. — Неужели жители этого города лазили в свои дома и башни сверху, через крыши по приставным лестницам?
— Боялись постоянных нападений врагов, потому не делали дверей, сидели смирно в своих домах, убрав лестницы!
— А враги стреляли из пушек каменными ядрами, чтобы развалить дома и выгнать жителей? — предположил я.
— Так ли было дело здесь? Ничего больше не придумаешь!
— Я читал в какай-то книжке, что в старинных замках рыцарей окон было очень немного и все маленькие, но двери все-таки были, хотя бы одна на весь замок. А иногда бывали только потайные подземные выходы из замка в какой-нибудь овраг, в лес или в кусты.
— Ну, вот так, очевидно, было в этом городе, — воскликнул Лобсын, ухватившись за этот пример.
— Только тут место ровное, оврагов нет, — продолжал я рассуждать. — Впрочем и потайные ходы могли завалиться, видел ты, сколько песку на улицах?
— Как же быть? Лестницы у нас нет, чтобы приставить к какой-нибудь стене дома или к башне и посмотреть, что внутри, есть ли пустота или же все завалилось.
— Не попробовать ли пробить стену в какой-нибудь башне, чтобы забраться внутрь? Я подметил, что дома построены не из тесаного камня или обожженного кирпича, а из мягкого материала слоями — желтого, зеленого, розового, который, вероятно, тут же по соседству копали. Пробить ход через мягкий грунт кайлой и лопатой, может быть, не трудно будет.
— А сначала не попробовать ли нам покопать прямо на улице возле какого-нибудь дома. Должны найтись какие-нибудь вещи, осколки посуды, монеты, кости. В Турфане такое место на улице мы раскопали, немец нам указал его. Это будет легче, чем стены пробивать.
— Пожалуй, попытаемся, — согласился я, — с этого и начнем.
Отдохнувши часа три после обеда и дождавшись, что сильный жар этого дня немного спал, мы вдвоем опять поехали в город, захватив кайлы и лопаты. Хотели выбрать место недалеко от стоянки, но увлеклись и браковали одно место за другим. Возле степы поверхность улицы очень поднималась, очевидно от осыпи материала сверху, так что пришлось бы глубоко копать. Наконец, отъехав примерно с версту в глубь города, наткнулись на узкий тупик между двумя зданиями, как будто более ровный.
— В таком тупике, пожалуй, скорее откопаем что-нибудь, — сказал я. — Сюда наверно выбрасывали какой-нибудь мусор.
— И не так жарко копать, весь тупик в тени, — отметил Лобсын.
Спешились, поставили коней друг возле друга в тени в глубине тупика и принялись за работу. Пошли канавкой вдоль стены, глубиной в лопату, друг другу навстречу. Грунт оказался рыхлый, кайла не понадобилась. Прошли каждый по две сажени, встретились; ничего не попалось, сплошь мелкий пыльный песок, совсем сухой. Вернулись назад и пошли вторично еще на лопату глубже; опять ничего, только копать было труднее, песок тверже, видно очень слежался. Повторили то же еще раз и пришлось взять кайлы, лопата врезалась на 1-2 пальца с трудом. Все-таки провели канавку во всю длину и опять на глубину лопаты, в общем, значит на ѕ аршина и ровно ничего не нашли.
— Ну, знаешь ли, — заявил Лобсын, утирая пот, — это грунт не насыпной сверху, а коренной и глубже копать незачем.
— Попробуем у противоположной стены, — предложил я.
Перешли на другую сторону, но стали копать канавку покороче, чередуясь друг с другом, так как изрядно устали. И снова на глубине третьей лопаты грунт пошел твердый коренной. Ничего, кроме мелкого песка, не обнаружили. Смотрим друг на друга, отдуваясь и разочарованно.
Увлекшись работой, мы не заметили, что тучи заволокли небо. А теперь услышали свист ветра и на нас с высоты зданий посыпался песок и мелкие камешки.
— Смотри, что там делается! — воскликнул Лобсын, который стоял лицом к улице; тупик был длинный — шагов 30. Я повернулся. По улице неслась сплошная туча песка и пыли, поднятых бурей с рыхлой почвы. В тупике воздух также заполнялся пылью. Лошади храпели и начали пятиться. Пришлось их взять за поводки, чтобы они не удрали.
Продолжать работу было невозможно — нечем было дышать. А ехать домой против пыльной бури, налетевшей с запада, также немыслимо. Пришлось стоять, зажмурив глаза и закрывая рукой рот и нос, чтобы не дышать пылью, а другой рукой держать лошадь, которая старалась засунуть морду между моими ногами.
Так продолжалось минут двадцать, а потом сразу хлынул ливень. Во время работы мы сбросили верхнее платье и стояли в рубашках, которые промокли в несколько секунд. Зато воздух очистился, дышать стало легче. Со стен тупика полились мутные ручейки, срывавшиеся водопадами с карнизов и обдававшие нас грязью. В обеих вырытых нами канавках быстро накопилась грязная вода.
— Вот, смотри, Лобсын, — сказал я. — Канавки мы дорыли до твердого грунта. В рыхлом навале вода бы ушла.
Ливень минут через десять сменился мелким дождиком, а еще немного и небо очистилось. Мокрые до нитки, мы вскочили на коней и поехали к стоянке. Сухая пыль улиц превратилась в липкую грязь, которая налипала на копыта и комьями разлеталась по сторонам; но под ней на глубине копыта почва оставалась сухой. По главной улице, полого спускавшейся к нашей стоянке и представлявшей перед тем сухое русло с мелкой галькой, тек грязный ручей, впадавший в ложбину, превратившуюся в целое озерко желтой воды, которое пришлось объехать. Солнце уже ярко освещало рощу, и мы заметили, что нашей палатки нет и не видно ни ребят, ни лошадей. Это заставило нас погнать коней, объезжая озеро.
В роще мы увидели, что палатку порывом ветра сорвало с колышков и снесло в сторону. Ребята не догадались укрепить ее, когда начался ветер. Все наши пожитки были основательно промочены и испачканы, так как перед ливнем их засыпало пылью.
— Где же ребята и кони? — вскрикнул я. — Неужели они перепугались бури и ускакали в город к нам?
— Вот они, едут сюда, — ответил Лобсын, указывая на соседнюю рощу.
Оттуда действительно ехали оба верхом, без седел, и вели третью лошадь. Подъехав, скатились с коней и начали, перебивая друг друга, рассказывать. Когда налетела пыльная буря, они спрятались в палатку. Сильный порыв снес ее через их головы, и они увидели, что лошади, которые паслись недалеко, ускакали, хотя и с путами на ногах, по ветру, под защиту соседней рощи. Они побежали за ними, а в это время разразился ливень, который они вместе с лошадьми пережидали под деревьями. А потом долго возились, снимая намокшие путы с лошадиных ног, чтобы вести их назад. Промокли они, конечно, с головы до ног, но были в восторге от этого приключения и от того, что вернули лошадей.
Бранить их за то, что они оставили все пожитки под дождем вместо того, чтобы покрыть их палаткой, конечно, не пришлось. Но Лобсын объяснил им, что в другой раз, видя приближение пыльной бури, нужно укрепить палатку, забив глубже колышки и придавив полы седлами со стороны ветра. А лошадей нужно было тогда же пригнать к стану и привязать к деревьям в роще.
Вечер этого неудачного дня ушел на просушку вещей. Баурсаки, пропитанные салом, не пострадали от ливня, но сухари в мешке намокли и превратились в кашу, которую пришлось разложить тонким слоем для просушки, иначе они бы заплесневели через 2-3 дня. Кошмы, на которых мы спали, и халаты, которыми укрывались, досушивали у большого костра.
Неудача раскопок в тупике заставила нас на следующий день попытаться пробить отверстие в стене одной из башен города, чтобы пробраться внутрь ее и покопать там. Мы выбрали одну из трех башен, стоявших вблизи друг друга среди площади, именно квадратную, которая имела сажени три в стороне квадрата и казалась менее разрушенной, чем две другие круглые. Одну из стен расчистили от поверхностного выветрелого слоя и начали пробивать отверстие в пол-аршина в квадрате, через которое можно было пролезть внутрь. Пришлось работать кайлой обоим поочередно. До глубины в ладонь материал поддавался довольно хорошо, кайла крошила его на крупные куски, но затем он стал твердым, кайла погружалась в него с трудом на глубину пальца и отрывала маленькие кусочки. Проработав без отдыха часа два, мы углубили отверстие только на четверть и сели в тени отдыхать.
— Ну, и прочный же камень строители этого города клали, — сказал Лобсын. — Стена наверно в аршин толщины, и мы до вечера не пробьем ее. Чем дальше, тем труднее бить кайлой.
— Придется увеличить высоту отверстия или укоротить ручку у кайлы, — заметил я. — Но ты посмотри, как они делали кладку. Швов между камнями нигде нет, а все идет слоями, то желтыми, то розоватыми кругом всей башни. Они как будто делали из этой глины с песком густое тесто и клали его по всем четырем стенам слой за слоем.
— Ну, китайцы строят свои фанзы так же, если не из сырого кирпича, то слоями из глины с песком и мелким камнем, — ответил Лобсын. — Но только их стены проламывать кайлой гораздо легче, чем эти.
Отдохнув, мы укоротили ручку кайлы до пол-аршина и до полудня в поте лица углубились еще на четверть дальше. Но кайла уже изрядно иступилась.
Поехали на стоянку обедать усталые и недовольные. Отдыхали часа три и вернулись к башне на других конях, чтобы первых пустить на корм; привезли новую кайлу. До заката солнца пробили еще пол-аршина.
— Скоро должен быть конец! — сказал Лобсын. — Не может быть, чтобы стены были толще аршина.
— Если бы конец был близко — было бы слышно но стуку кайлы, — заметил я. — Но на сегодня хватит. Завтра со свежими силами попробуем еще.
Мы вернулись на стан усталые. Вечером я осмотрел обе кайлы и сказал:
— Завтра кайл нам хватит не надолго и если стена толстая, мы не пробьем ее.
— А я надумал вот что, — заявил Лобсын. — Попробуем покопать на кладбище, которое мы видели. Там легче будет подрыться под какой-нибудь могильный камень. Увидим, кого там хоронили и найдем какие-нибудь вещи.
— Отлично! — воскликнул я. — Как это раньше не пришло нам в голову. Мы бы за день успели две-три могилы раскопать вместо того, чтобы ковырять толстую стену и притупить свои кайлы.
На следующее утро мы поехали прямо на окраину города, где находилось кладбище с различными изваяниями на могилах и маленьким зданием вроде часовни. Осмотрели все изваяния. Они стояли на подножиях аршина в 2-3 высоты из такого же слоистого камня, из которого были сложены здания города, и представляли крупные фигуры, похожие на сфинксов, на странных птиц без крыльев, на лежащих людей, но все сильно обветрились, облупились. Некоторые представляли массивные гробницы, т. е. обтесанные камни формы большого гроба или прямоугольного ящика. А в промежутках между этими большими надмогильными изваяниями, очевидно поставленными на могилах знатных людей и начальников города, были разбросаны маленькие холмики в 2-3 четверти высоты, большею частью поросшие кустами хармыка [43], тонкие и колючие ветви которого, уже одевшиеся мелкими свежими листочками, не скрывали могильную насыпь. Попадались также могилы, на которых лежала нетолстая плита камня, целая или распавшаяся на куски. Это, очевидно, были могилы простых граждан.
Чего-нибудь, напоминающего кресты христианских кладбищ или отвесные плиты еврейских и мусульманских кладбищ, мы не нашли. Не было также никаких надписей, букв, чисел, вообще знаков на саркофагах и постаментах изваяний. Можно было думать, что жители города сплошь были неграмотные, не имели никакой письменности.
Для раскопки мы выбрали могилу с нетолстой плитой, так как могилы с простыми холмами внушали некоторое подозрение. Дело в том, что в Монголии в обширных впадинах нередко встречаются такие холмики, поросшие хармыком, занимающие в общем целые десятины и очень похожие на могильные насыпи, но представляющие просто скопления сыпучего песка под защитой этого куста. Следовательно и здесь, наряду с могильными насыпями, могли быть и такие холмики, которые раскапывать, конечно, не имело смысла. Могильная же плита из камня гарантировала, что работа наша не будет бесполезна.
Мы сдвинули плиту в сторону и, взявшись за лопаты, начали раскапывать могилу. Но лопаты не уходили в грунт глубже чем на 2-3 пальца и, выбросив этот верхний слой, пришлось взяться за кайлы и разбивать грунт, очевидно сильно слежавшийся за несколько сот или тысяч лет со дня похорон. Еще на четверть удалось углубиться довольно быстро, но следующая четверть досталась уже с трудом. Грунт, заполнивший могилу, оказался таким же твердым, как и образовавший стену башни; только работать кайлой в яме было удобнее, чем в отверстии стены. Прошли еще четверть и присели на краю могилы передохнуть.
— Здорово отвердела земля с тех пор как могилу засыпали, — сказал я, отдуваясь.
— А ты взгляни-ка, Фома, — заявил Лобсын. — В стенках могилы такие же слои, как в стене башни — желтые, розовые, зелененькие, одни в два, другие в три, иные в четыре пальца толщиной. Неужели они и могилы такими слоями закладывали? Чудно что-то! Понять не могу, как и зачем они это делали!
— Да, совсем непонятно, — согласился я. — Может быть это только сверху так делали, чтобы волки не могли свежую могилу раскопать и покойника сожрать. Попробуем пройти глубже!
Отдохнув, углубились еще на две четверти с таким же трудом. Выемка имела уже почти полтора аршина глубины, а слои разных цветов продолжались.
— Знаешь ли, Лобсын, — сказал я, утирая обильный пот с лица. — Попробуем раскопать самую простую могилу. Может быть знатных людей так прочно закапывали, а бедняков засыпали рыхлой землей.
— И то правда! — согласился калмык.
По соседству был холмик с хармыком; лопатами мы живо разбросали песчаный грунт холмика, и только корни куста немного затрудняли работу. Но под холмиком грунт оказался такого же качества, как под плитой, и опять пришлось взяться за кайлы. Углубились на четверть и убедились, что те же цветные породы идут слоями. Лобсын бросил кайлу и воскликнул:
— Везде тот же грунт! Я думаю, что это шайтан нас морочит. Где бы мы ни начали копать, — он превращает мягкий грунт в камень. Может быть весь этот город заколдован нечистой силой. Больше не стану копать! Смотри, опять пыльная буря надвигается с заката.
Я взглянул на запад. Там горизонт, действительно, потемнел, серая мгла затянула его.
— Да, пожалуй, что так!
— Вчера шайтан мешал нам работать, засыпал нас пылью, полил ливнем, и сегодня то же будет. Этот город заколдованный!
— Ну, поедем скорее назад!
Мы подошли к коням, которые стояли поблизости, спрятав головы от солнца и мух в куст тамариска, возле гробницы. Поехали назад. Проезжая мимо часовни, Лобсын остановил коня и сказал:
— А эта башня низкая! Встав на седло, я взберусь на крышу и посмотрю, есть ли внутри пустое место.
— Молодчина! Это выяснит нам что-нибудь.
Мы подъехали к самой часовне. Я спешился и взял коня Лобсына под уздцы, а калмык взобрался стоймя на седло и, пользуясь выбоинами в стене, взобрался наверх. Часовня была круглая, в поперечнике сажени две. Первоначально она должна была иметь хотя бы плоскую крышу, которая, конечно, давно разрушилась.
Лобсын прошелся взад и вперед, вернулся к краю и крикнул:
— Никакой пустоты нет, сплошной камень неровный, буграми. Ни одной щели или провалины нет.
Он слез с часовни, и мы поехали рысью, чтобы до бури выбраться из города. Буро-серая туча заняла уже половину неба, но солнце еще ярко светило. Было часов одиннадцать. Через четверть часа мы достигли уже окраины, объехав ложбину с тростником и подскакали к палатке. Ребята уже развели огонь, повесили котел и были заняты укреплением палатки. Лошади стояли в роще, привязанные к дереву.
Пыльная туча скоро закрыла солнце, которое чуть виднелось в виде красного круга. Но было так же тихо, как и раньше.
Обедать мы уселись в палатке, потому что ветер уже налетал порывами. С лужаек и рощ долины Дяма он поднимал немного пыли, но над городом пыль уже вилась столбами, там ведь не было растительности, а рыхлая почва улиц, обветренные стены зданий из песчаного камня давали много материала для ветра. Но в этот раз ветер был менее сильный и дело обошлось без дождя, только покрапало минут пять.
— Ну, как думаешь, Лобсын, — начал я после обеда, — что нам делать дальше? В башне стену не пробили, две могилы до дна не раскопали, а часовня оказалась не часовней, а простым столбом без сердцевины. Выходит, что наша поездка ни к чему! Что же, завтра уедем, домой, что ли?
— Не торопись, Фома, очень ты прыткий, — ответил Лобсын. — Обсудим дело не спеша. Мы осмотрели уже весь город или еще нет?
— Большую часть осмотрели как будто.
— И осмотрели очень наскоро. А ту часть, что за кладбищем лежит, совсем не видели. Там, может быть, в домах окна и двери найдутся и мы, покопавши, найдем что-нибудь.
— Правильно! Нужно съездить и туда, посмотреть весь город и только тогда решать, что делать дальше.
— И еще вот что. Часовня оказалась не часовней, а столбом. Часовней мы сами назвали ее, по ее форме. А она может быть такой же памятник над могилой, как другие там звери разные, или без могилы, для украшения просто.
— Нам нужно еще проверить в самом городе, не башню, а два-три дома, пустые ли они внутри или нет. Башни в городе могли ведь быть строены не пустые, а как столбы, для караула что ли с высоты.
— Правильно, Лобсын, — сказал я, и стало мне немного стыдно, что я так скоро отказался от раскопок, а мой калмык обдумал дело со всех сторон. — Что же, попробуем пробить отверстие в какой-нибудь стене? Во дворце, например, очень он мне нравится по наружности.
— Нет, сначала попытаемся залезть наверх, на стену какого-нибудь здания. И если увидим, что внутри пусто — тогда спустимся внутрь или пробьем вход.
— Но лестницы у нас нет, а здания высокие, как же мы влезем на стену?
— Я приметил, что есть дома сажени в две-три высоты. Такую лестницу не трудно смастерить. Я съезжу к Дяму, там найдутся тонкие тополя, срублю и приволоку сюда. А завтра увезем в город и поглядим.
После отдыха Лобсын, захватив сына, поехал на конях к реке, а я взял двустволку и пошел по рощам на охоту. Вяленое мясо, взятое с собой, очень приелось, да и немного осталось его у нас. Мой парнишка остался при палатке, а собаку я взял с собой.
Я направился из нашей рощи к следующей, дальше на юг, по лужайкам и зарослям кустов. В зарослях вдруг закричал и выпорхнул фазан. Я рассчитывал на зайца и не успел вскинуть ружье. Но фазан, пролетев немного, опять сел в кусты. Теперь я шел наготове и действительно, как только фазан взлетел, я выстрелил: собака нашла птицу в чаще.
В следующей роще я к удивлению увидел, что среди деревьев возвышается целое подворье в китайском стиле — довольно высокая, сажени в три стена квадратом, с башенками по углам, но без зубцов. Китайские города всегда окружены такой стеной, но более высокой, с зубцами, по углам массивные башни. Ворота в стенах также защищены башнями, так что въезды в город идут через башни, а ворота у них двойные, снаружи и внутри. Иные селения также окружены стенами, но попроще, по углам башни не толстые и ворота без башни. Вокруг Чугучака отдельные фермы я также видел окруженными стеной, внутри которой — фанзы, амбары, навесы для скота. И вот то, что я встретил в роще, напоминало такую защищенную ферму окрестностей Чугучака. Я обошел ее кругом, но ни в одной из 4-х стен не нашел ни ворот, ни даже чего-нибудь похожего на двери; окон, конечно, не было, но их нет и в городских стенах. Таким образом это сооружение было в том же роде, как и остальные в этом странном городе. Единственная разница, которую я заметил, состояла в том, что одна из стен вверху была украшена большим обо из хвороста. Его, конечно, нагромоздили там калмыки, обитавшие зимой в этой долине. Но как они попадали туда без лестницы?
В этой роще мне удалось подстрелить зайца, а на обратном пути другого, так что, считая фазана, мы были обеспечены свежим мясом дня на два. Собачка очень помогла при охоте на зайцев — она шныряла по кустам и выгоняла их на лужайку.
Вернувшись к палатке, я освежевал дичь и поставил в одном котелке суп из фазана, а в другом тушить зайцев. Парнишки утром, бегая по лужайкам, набрали дикого лука, что было очень кстати. Скоро вернулся и Лобсын с сыном; они ехали рядом, а в промежутке между конями волокли два тонких тополя, сажени три длиной, привязанные комлями к жерди, которую они положили на свои седла. У обоих тополей ветки были обрублены так, что оставались их основания длиной в четверть, и по ним, приставив оба ствола круто наклонно к стене, не трудно было взобраться наверх.
— Хорошую добычу привез, Лобсын, молодчина, — сказал я. — Но и я пришел не с пустыми руками, видишь, в двух котлах ужин готовится вкусный.
На следующий день мы поехали в город втроем, с сыном Лобсына, которому очень хотелось увидеть улицы и здания, а нам он, легкий и проворный, мог служить помощником. Вблизи тупика, где мы провели раскопки, нашлось здание, высотой в 2 Ѕ сажени. Мы приставили к стене оба ствола, соединив их вверху и внизу веревкой, чтобы они не могли разойтись при лазании. Мальчик легко вскарабкался наверх и побежал куда-то по крыше. Немного спустя он вернулся и сообщил:
— Никакой пустоты нет. Крыша идет ступенями еще вверх.
Это было не совсем понятно, и я решился слазить сам, что было не очень легко. Я давно забыл искусство лазить по деревьям, которым так хорошо владеют мальчишки, но все-таки добрался до верхнего края стены. Наверху я увидел, что поверхность здания действительно поднимается плоскими ступенями еще выше; никакой впадины, которая должна была бы быть, если это была постройка человека, не оказалось. А под ногами чувствовалось, что я стою не над пустотой внутри здания, а над сплошным каменным массивом. Мы захотели проверить это на других зданиях, поехали дальше и повторили то же еще раза три на зданиях, доступных по высоте стен. Результат был такой же; поверхность была или ровная или с плоскими возвышениями в виде бугров. Один раз и Лобсын лазил наверх.
Теперь оставалось осмотреть южную часть города за кладбищем, куда мы и направились, захватив на всякий случай свою импровизированную лестницу. В этой части встретили сначала плоские бугры, кое-где сильно разрушенные башни, но также без пустоты внутри, а затем очутились среди более высоких холмов странного вида. Их желтые песчаные склоны местами были усыпаны совершенно черным щебнем, а на гребнях среди скал песчаной породы тянулась лентой то узкой в четверть, то широкой в 3-4 четверти, черная блестящая порода, похожая на каменный уголь. Местами было видно, что пласт этой породы или жила уходила круто в глубь холма. Мы спешились и стали осматривать эти холмы. Черные ленты по гребням можно было проследить в обе стороны на десятки шагов. Мы насчитали более десяти таких пластов или жил и заметили еще, что песчаная порода по обе стороны каждой ленты была очень прочная и выступала гребнями, а местами выдвигалась на седловины между холмами, подобно длинным плитам или балкам на несколько аршин. В одну из гряд холмов врезалась вершина глубокой промоины, упираясь в целую стену этой твердой породы с выступами в виде плит из зубцов. Ученый человек сумел бы разъяснить эту странную картину, но мы остались в полном недоумении, решили только на обратном пути набрать побольше этого черного камня из пластов, чтобы испробовать на костре, горит ли он.
Впереди, за этими холмами, поднимались высоко длинной чередой массивы зданий, похожих на то, которое в другой части города мы назвали дворцом хана. Но здесь они были более неуклюжие, с меньшим числом карнизов, башенок, промоин. По пути к ним мы попали в ложбину, занятую буграми сыпучего песка, по которым и поднялись к подножию ряда зданий. Они были слишком высоки для нашей лестницы; оконных или дверных отверстий также нигде не было видно. Приходилось думать, что они также не пустые внутри, а сплошные, как в ранее осмотренной части города, и что нигде нет надежды на успех раскопок.
На обратном пути мы набрали целый мешок черного камня из разных жил, увезли его в стан, а стволы тополей за ненадобностью оставили у этих холмов.
У палатки мы застали нежданных гостей — двух калмыков, сидевших у огонька, на котором варился наш обед, и беседовавших с моим приемышем; последний сказал мне по-русски (я уже выучил его родному языку):
— Они меня очень испугали! Прискакали к палатке и кричат: как ты смел остановиться на нашей зимовке и травить наш корм! Складывай свои пожитки и уезжай, откуда приехал. Грозили забрать лошадей. Насилу я уговорил их подождать, пока вы вернетесь к обеду. Я сказал им, что мы только вчера прибыли сюда и что русский купец поехал осматривать развалины города.
Мы спешились, поздоровались с гостями и ответили на обычные вопросы, откуда, куда и зачем. Я успокоил хозяев этой зимовки — следы их юрт мы и видели возле рощи — заявлением, что мы сегодня уезжаем.
— Вот мы захотели увидеть развалины этого большого старого города, — закончил я, указывая на его окраину.
Калмыки рассмеялись. — Никакого города здесь нет и никогда не было. Если бы когда-то здесь был город, мы бы это знали от наших предков и от лам нашего монастыря. Кто рассказал вам, что здесь был город, тот обманул вас.
— Но как же, — возразил я. — Ведь здесь много домов, башни, целый дворец, большое кладбище с памятниками.
— И оконные стекла валяются везде, а в стенах сидят ядра, которыми стреляли неприятели, которые завоевывали город и вероятно убили всех жителей, — прибавил Лобсын.
— Нет, люди здесь никогда не жили, — ответил один из калмыков. — Эти здания, башни, улицы, дворцы — все это творения нечистых духов подземного мира. Мы живем близко и слышим, как эти духи воют и плачут, когда бушует ветер в зимнюю ночь.
— Ну, вот видишь, Фома, — заявил Лобсын. — Я вчера уже сказал тебе, что это нечистые духи сделали подобие людского города.
Неудача наших раскопок согласовывалась с объяснением калмыков.
Мы, конечно, угостили приезжих чаем и баурсаками, не поскупились даже на несколько кусочков сахара.
После угощения я вспомнил, что мы привезли с собой мешок черных камней из города, чтобы попробовать, не уголь ли это. Я принес из палатки несколько кусков, показал их калмыкам и спросил, что это такое, знают ли они, что этих камней много в городе?
— Это мы знаем, — ответили они, — это горючий камень, такой же, как тот, который китайцы копают в Темиртаме. Но мы его не употребляем, он очень сильно дымит и воняет, когда горит в юрте; видно, что это тоже творение нечистых духов.
Я положил куски на костер. Они очень скоро вспыхнули, загорелись длинным пламенем с густым черным дымом и при этом сами стали плавиться и растекаться. Запах дыма действительно был неприятный, но как топливо в печах этот уголь, конечно, годился. Я сказал это калмыкам.
— В нечистом городе этого камня немного, — ответил один из них, — а до Чугучака отсюда далеко. Если тебе нужен такой камень — копай его в Темиртаме, там его много, а возить в город гораздо ближе.
— А вот у южного подножия Джаира, недалеко от брода Тасуткель на реке Манас такого земляного угля целые горы, — сказал другой.
— Верно, верно, — подтвердил первый, — и там из этих холмов течет что-то жидкое черное вроде масла. Его наши ламы собирают для лекарства. Оно так же горит и воняет, как этот камень.
Лобсына это сообщение очень заинтересовало и он расспросил гостей, как туда проехать. Оказалось, что до этой местности хороший день пути, а оттуда до Чугучака через Джаир всего 5-6 дней, т. е. даже ближе, чем от нашей стоянки на реке Дям.
— Ну, вот, Фома, — сказал Лобсын, когда гости уехали, получив обещание, что мы сегодня же оставим их зимовку — поедем теперь туда. Здесь в этом нечистом городе мы никаких кладов не нашли, только зря копали и бремя потеряли. Посмотрим там горы черного камня и черное масло — ведь это тоже клады. Горючий камень будем возить в Чугучак продавать и масло тоже.
Я, конечно, согласился. Времени у нас было еще много, а неудачу раскопок возместить находкой чего-нибудь интересного, конечно, было заманчиво. Переждав жаркие часы, мы свернули свой стан и поехали. Лобсын повел нас через луга и рощи долины Дяма прямо к ее правому берегу, где по указанию калмыков, в крутом обрыве был удобный подъем по глубокому оврагу. Поднявшись, мы очутились опять на черной щебневой Гоби; но здесь она была не так широка, как севернее, и через полчаса езды мы миновали ее; начались заросли чия, кусты, кое-где рощицы, перемежаясь с сухими руслами.
— Это — низовье реки Дарбуты, — сказал Лобсын, — той самой речки, в верховьях которой стоят мои юрты и первый золотой рудник, где мы с тобой были. Эта речка течет по всему Джаиру, сначала поперек, а потом вдоль, и тут, выйдя из гор в Гоби, разливается по рукавам и пропадает. Вода здесь бывает только весной, когда снег тает, но ключи попадаются, и колодцы есть.
По такой местности мы к вечеру прошли до озера Айран-куль у восточного конца Джаира и остановились на его берегу, выбрав чистую площадку возле залива, окаймленного большими зарослями тростника.
Вода в озере была пресная; в него впадала река Манас, знакомая нам по поездке в Урумчи; там это был могучий поток, через который брод был возможен только рано утром. Но на длинном пути поперек широкой Джунгарской впадины он потерял много воды и впадал в озеро в виде небольшой реки. Но при этом небольшом притоке вода в озере должна была непременно стать хотя бы солоноватой, если бы не было стока в виде речки, текущей из этого озера дальше и впадающей в то же озеро Айрик-нур, в котором кончается река Дям. Это Лобсын узнал от калмыков, расспрашивая их о дороге к горам угля и масла.
На воде не видно было плавающих птиц, хотя из зарослей по временам доносилось кряканье уток. Очевидно, они уже сидели в гнездах и выплывали на открытое место только рано утром. Зато в воде мальчики обнаружили много мелкой рыбы, и им удалось поймать с помощью мешка несколько штук. Я предложил было сварить уху, но Лобсын запротестовал — монголы не ловят и не едят рыбу. Мне пришлось поджарить рыбок, наткнув их на палочки, как шашлык; они оказались вкусными, но очень костлявыми.
После душных вечеров в роще у развалин, которые до полуночи дышали жаром, ночлег на берегу озера был очень приятен. Выплыла луна в начале ущерба и вдоль всего залива потянулась серебристая лента вдаль. Легкий ветерок шелестел в камышах, окаймлявших темными стенками водную гладь, поднимая на ней мелкую рябь, и вся лента дрожала и переливалась. В зарослях порой крякали утки, а с холмов подножия Джаира, позади палатки, иногда доносилось заунывное завывание волка, на которое наши лошади, привязанные вблизи и жевавшие с аппетитом зеленый тростник, отвечали всхрапываньем. Где-то далеко чуть слышно кричала сплюшка, а ближе на озере ухала выпь. По небу в стороне от луны медленно плыла широкая пелена мелкокурчавых облаков, похожая на распластанную шкуру белой мерлушки. Мальчики после ужина скоро улеглись в палатке и что-то шопотом рассказывали друг другу, пока не уснули, а я и Лобсын долго еще сидели у потухшего огонька и любовались красотой тихой ночи на берегу озера. Собака, лежавшая вблизи лошадей, растянувшись и положив голову на передние лапы, избавляла нас от караула. При малейшей тревоге она подала бы сигнал, и Лобсын, по привычке спавший очень чутко, проснулся бы сразу.
Утром мы с сожалением расстались с этой стоянкой и поехали по торной тропе, вдоль подножия Джаира, на запад. Слева все время, то отступая, то приближаясь к самой тропе, тянулись высокие заросли тростника, скрывавшие от взора русло реки Манас; кое-где среди них выдвигались отдельные деревья. Справа поднимались откосы невысокой террасы, представлявшей черную Гоби, усыпанную щебнем и галькой; она уходила до высот Джаира, ограничивавших горизонт своими скалистыми голыми грядами.
Часа через два русло реки и заросли отступили подальше от тропы и теперь слева от нее расстилались то голые площади такыров [44] с серой почвой из глины, разбитой тонкими трещинами, гладкой и твердой, как паркет, то песчаные холмы, поросшие кустами тамариска; на некоторых тамариск уже засох, а самые холмы разрушались.
— Видишь, Фома, — сказал Лобсын. — Река от холмов отошла, зелень сохнет, а ветер раздувает песок.
Местами чий образовал густые заросли, в которых то и дело впереди нас выскакивали и быстро скрывались зайцы; местами попадались хаки [45] — плоские впадины, в которых ранней весной стояла вода, а теперь красноватое глинистое дно их высохло, разбилось глубокими трещинами на пяти- и шестиугольники, по окраинам которых верхний слой глины загнулся вверх или даже завернулся трубками. Но вот показались большие кусты тальника, деревья, и тропа неожиданно приблизилась к самому берегу реки Манас; река текла здесь очень тихо и имела всего шагов 50-60 в ширину. Тропа уходила в воду и на противоположном берегу видно было ее продолжение.
— Это должен быть брод Тас-уткель, как описали калмыки, — воскликнул Лобсын, — единственное место, где можно перебрести на тот берег. А везде в других местах чаща камышей на болоте, нельзя проехать к реке, а вода в ней глубокая, выше седла.
— В камышах кабаны наверно живут? — спросил я.
— Много кабанов, и тигры, говорят, попадаются.
— Что же ты мне не сказал вчера у озера, что тут тигры есть? А мы так спокойно ночевали там возле камышей!
— Мало ли что говорят люди! Может быть кто-то пять — десять лет тому назад видел этого зверя. А я вот сколько мест объездил и нигде не видел его. Только шкуру видел один раз у монгольского князя, красивый зверь, желтый с черными полосами поперек.
— От этого брода, сказывали, нужно повернуть вправо в холмы и там скоро увидим горы с углем. Только здесь нужно напоить лошадей, там воды мало будет, — прибавил он.
Мы заехали в реку, и лошади напились. Затем нашли тропу, которая от брода потянулась в глубь холмов подножия Джаира. Скоро на их склонах появились светло- и тёмнокрасные слои глин, чередовавшиеся с желтыми и зелеными, и около полудня мы увидели довольно высокий плоский холм серого цвета с неровными склонами, на которых в разных местах зеленели кустики, указывавшие на присутствие воды.
— Вот это должен быть холм из черного угля, — заявил Лобсын. — Таких, говорят, тут семь или восемь — один за другим недалеко. А вода, говорят, тут не в ключе или колодце на дне долины, а на самой вершине холма вытекает.
— Надо посмотреть! Если вода есть, мы тут же возле холма палатку поставим. Но только это чудно что-то, — вода на вершине холма, а не у подножия!
Мы спешились и полезли на холм. Он весь состоял из пластин почти черного камня, наложенных ступенями друг на друга, частью засыпанных песком, в котором укрепились зеленевшие кусты. На плоской вершине оказалась яма в 1 Ѕ — 2 аршина в поперечнике и в две четверти глубины, заполненная чистой водой, местами покрытой черной пленкой. Мы, конечно, сейчас же зачерпнули горстью воду и попробовали. Она оказалась пресной, но только с заметным привкусом чего-то смолистого, с запахом сургуча.
— Сойдет, — сказал Лобсын. — С кирпичным чаем пить можно. И лошади будут пить.
— А это что такое? — спросил я, указывая на поднимавшиеся в одном месте со дна ямы темные пузыри, которые на поверхности воды расплывались в густую черную пленку. Я обмочил палец в эту пленку и понюхал — она имела ясный запах керосина.
— Вот это, видно, тот жидкий уголь, который ламы на лекарство собирают, как монголы сказали, — заявил Лобсын.
— Какой же уголь керосином пахнет? И не слыхивал я про жидкий уголь. Уж не нефть ли это сырая, из которой керосин гонят? Вот так клад мы нашли! В Чугучак привозят керосин издалека, из Баку на Кавказе, а его можно получить поблизости. Это будет повыгоднее золота!
— Верно, Фома! Ты мне как-то рассказывал, как на Кавказе добывают эту самую нефтю, как из нее на заводах керосин выгоняют, и я тогда понял, почему это самое горючее масло в Чугучаке так дорого продают.
Обойдя яму с водой, мы увидели, что в одном месте ее край был немного ниже; сюда собиралась черная пленка и медленно стекала ручейком в палец ширины на склон холма, который в этом месте был не темносерый, а черный и блестящий. Ручеек тек еле-еле, расплывался и немного ниже застывал. Я ступил на это место и подошва сапога прилипла точно к густому вару или дегтю.
— А знаешь ли, Лобсын, я думаю, что весь этот холм не из угля сложен, как монголы говорят, а из этой застывшей нефти. Вот посмотри, по всей стороне, куда стекает эта нефть, камень не серый, а черный и гладкий, но идет такими же ступеньками, как в других местах, и кусты на нем не растут. Это все свежая недавно застывшая, затвердевшая нефть.
— А почему в прочих местах камень не черный, а серый и не гладкий, точно песком посыпан? — спросил Лобсын.
— Потому, я думаю, что там он очень старый, выветрел, а песком его ветры заносят. Вот мы попробуем на огне, как будет гореть свежий черный и серый старый. Если серый не уголь, а та же загустевшая нефть, — он будет гореть и пахнуть как черный.
— Попробуем, Фома! Это интересно.
Спустившись с холма, мы выбрали поблизости ровное место на дне долины, поставили палатку и расседлали коней. Мальчики живо набрали сухих веток, чтобы развести огонь, а мы с Лобсыном, захватив кайлу и лопату, взобрались на холм и лопатой набрали черной густой нефти в том месте, где сочился ручеек, а кайлой выломали в другом месте несколько пластин серого камня. Положили на огонь сначала черную густую массу, похожую на полузасохший деготь; она быстро загорелась большим пламенем с густым черным дымом и запахом керосина, растопляясь и растекаясь по хворосту. Когда все прогорело, положили куски серого камня. Они загорелись не сразу, но горели так же и плавились медленнее.
— Ну, вот видишь, Лобсын, это — не уголь, а та же нефть, затвердевшая с песком. И я вспоминаю, что такую затвердевшую нефть называют асфальт, или кир. Ее растопляют в котлах, прибавляют песку и делают из нее полы в домах, даже заливают улицы в городах вместо мостовой.
— Вот хорошо бы, Фома, в Чугучаке все улицы так замостить! И тогда бы на них ни пыли в сухое время, ни грязи в мокрое не было.
— Понимаешь, какой клад мы нашли! И нефть для керосина и асфальт для полов и улиц. Даже ты в своей юрте можешь себе сделать асфальтовый пол вместо земляного. Будет всегда чисто, и блохи не будут водиться, а то у вас в юртах эти кровопийцы часто спать мешают.
— Но как же тогда огонь в юрте разводить? Ведь асфальт загорится под очагом!
— Под очагом и не делай асфальта, а только кругом, вот и все!
На огонь мальчики захотели повесить котелок для чая; они уже сбегали на холм и набрали чистой воды в яме. Но Лобсын не позволил вешать котел.
— Его кругом закоптят, и мы все перепачкаемся, как трубочисты, — поддержал я.
— Хворосту наберите, ребята, здесь кустов сухих много. А асфальт будем жечь ночью, в этих логах наверно волки водятся.
Коней мы пустили пастись, но корм в долине был плохой, кое-где мелкая трава небольшими щетками, кое-где пучки чия. Долго стоять на этом месте не приходилось.
После обеда мы пошли пешком дальше по долине, чтобы осмотреть другие холмы. Они тянулись в ряд на некотором расстоянии один от другого, одни были немного больше и выше, чем первый, другие меньше и ниже, но все того же в общем вида. На вершине двух или трех мы также видели яму с водой и пленкой густой нефти, стекавшей ручейком, а на других такой ямы не было, хотя они состояли из того же темносерого асфальта. На них выделение воды с нефтью давно прекратилось, канал из глубины, по которому поднималась вверх вода с газом и нефтью, очевидно закупорился, — они были мертвые. На них не было и таких свежих зеленых кустов, как на тех, где выделение еще шло, а только кусты обычного вида, как на дне и склонах долины.
Последний холм этой цепи, поднимавшийся там, где долина сильно расширилась и почти исчезла на пологом подножии Джаира, оказался очень плоским, но высоким, не менее 35-40 сажен высоты, тогда как остальные поднимались только на 5-7 сажен над дном долины. Он также был мертвый, без выделений воды, но зато представлял огромный запас асфальта в сотни тысяч пудов.
Обойдя холмы, мы пошли назад к палатке. По дороге я заметил несколько дзеренов, которые паслись в боковом логу и при виде нас отбежали в сторону. Двустволка у меня была на спине, и я решил добыть свежего мяса. Место было удобное, чтобы подкрасться поближе. Я пошел быстро по следующему логу и взобрался на гребень, отделявший его oт лога, в котором были антилопы, а Лобсын остался на прежнем месте, чтобы отвлекать на себя внимание животных. Их было пять. Они подвигались медленно, то пощипывая траву, то останавливаясь, чтобы посмотреть, не преследует ли их Лобсын. Я лежал на гребне за кустом и выжидал, когда они подойдут на верный выстрел. Ружье было заряжено крупной картечью. Когда передовой дзерен остановился против моей засады, я выстрелил; он подскочил, сделал несколько прыжков и упал. Остальные понеслись огромными скачками на противоположный склон лога и исчезли. Я подошел к упавшему: это был старый самец с большими рожками. Скоро подбежал Лобсын, и мы потащили добычу к палатке. Ужин вышел на славу — густой суп и шашлык.
— Сегодня счастливый день для нас, Фома, — сказал Лобсын, — и клад нашли и мяса добыли на весь обратный путь до города.
Когда стемнело, мы развели большой костер из кусков серого асфальта. Костер пылал так жарко, что нам пришлось сидеть подальше от него, а весь холм, долина и ее склоны были ярко освещены. Мальчики приняли большое участие в питании костра, выламывая и притаскивая новые куски асфальта. Было тихо и столб черного дыма поднимался высоко вверх.
— А знаешь ли, Лобсын, — сказал я, — я полагаю, что черный камень, который мы взяли из жил в городе Нечистых духов, тоже асфальт. Он горит и дымит, как этот, и воняет точно так же. Это не уголь, как думают калмыки.
— Они ведь и этот называли земляным углем. И если этот будет асфальт, так и тот, конечно, также. Только там его немного и возить в Чугучак дальше, а здесь много и возить ближе, — заявил Лобсын.
— И там его нужно добывать из глубины горными работами, а здесь бери его прямо из холмов и наваливай в телеги или на верблюдов, — прибавил я.
— Пожалуй, караулить не нужно сегодня, Фома. Огонь такой, что волки близко не посмеют подойти. Только время от времени нужно подбрасывать камень в огонь.
Я согласился с этим, и мы легли спать, мальчики в палатке, а мы вблизи костра, чтобы, просыпаясь, поддерживать огонь. И хорошо, что сделали так. После полуночи начался ветер; горевший спокойно костер стало раздувать, и хотя он был шагах в пяти от палатки, но пламя, извиваясь, начало угрожать ей. И если бы Лобсын не проснулся от хлопанья палатки и не отбросил горящие плиты в сторону, — мы могли лишиться и палатки и всех наших вещей, а мальчики — обгореть.
Утром мы наломали еще несколько плит, чтобы загрузить одну вьючную лошадь полностью асфальтом, и поехали вдоль цепи холмов на запад. Когда серые холмы кончились, местность стала более живописной; миновав еще холмы с слоями яркокрасных, желтых и шоколадно-бурых цветов, мы выехали в широкое сухое русло, которое тянулось из Джаира, и повернули вверх по нему. Его окаймляли сначала длинные яры с теми же цветными слоями, а дальше бросились в глаза две отдельные скалы, похожие на башни, поднимавшиеся среди русла; на каждой из них виднелся ясный, довольно толстый черный слой, словно пояс.
— Смотри, Фома, еще асфальт! — крикнул Лобсын, ехавший впереди каравана, тогда как я замыкал его.
Мы подъехали к башням, спешились и осмотрели черный слой.
— Это, пожалуй, настоящий земляной уголь, — сказал я, осмотрев кусок, выломанный из слоя. — Он не похож на тот, который мы взяли в городе; он не такой блестящий и легко щепится, как гнилое дерево.
Мы взяли несколько кусков этого угля на пробу.
— Только немного его! — заметил Лобсын. — Слой не толстый, всего две-три четверти, и много ли в этих башнях — десятка два-три пудов, не больше.
Дальше вверх по руслу пошли в берегах менее яркоцветные слои, которые, размытые водой и обвеваемые ветрами, образовали разные интересные формы — в одном месте косую башню желтого цвета, разные карнизы, фигурки, кочки. Мальчики восхищались разнообразием форм, но по сравнению с тем, что мы видели в городе Нечистых духов, здесь все было живописно, интересно, но мелко.
А затем эти пестрые яры сменились холмами самого Джаира, и в русле появился ручеек, который привел нас к небольшому оазису — роще тополей и кустов с зарослями тростника вокруг нескольких ключей, вытекавших из ямок среди зелени.
— Это — ключ Турангы-бастау (т. е. топольный ключ), — сказал Лобсын. — Здесь я один раз был. Нужно остановиться — пообедать и подкормить коней, которые вчера у асфальта остались почти голодными. Дальше до позднего вечера ни воды, ни корма не будет.
Мы, конечно, остановились и развели огонь, развьючили коней, пустили их пастись. После сытного обеда мы развесили оставшееся мясо дзерена вялиться на солнце. Мальчики побежали по роще и по окружающим холмам в надежде увидеть зайцев или дзеренов. Когда они вернулись, мой приемыш Очир сообщил:
— Видели только двух зайцев и еще одно огромное обо. Его, вероятно, великаны или нечистые духи сложили из огромных камней. Пойди, посмотри, это недалеко.
Мы отправились втроем, сын Лобсына остался при палатке и лошадях. Среди холмов вблизи русла, ниже рощи, у ключей один холм действительно имел странный вид. На его склонах были рассеяны валуны, большей частью круглые, как шары, и в поперечнике около аршина, совершенно черные и слегка блестящие, а вершина холма представляла кучу из нескольких таких же валунов, похожую в общем на обо, которые монголы сооружают на перевалах и на вершинах некоторых гор и холмов. Каждый монгол, поднявшись на перевал или такую вершину, считает долгом увеличить кучу еще одним камнем, поднятым поблизости, или воткнуть в кучу палку и навязать на нее или на торчащие уже палки тряпочку, оторванную от одежды, или пучок волос из хвоста своей лошади. Все это — жертва горным духам за благополучный подъем на перевал или вершину. Но это обо, конечно, не могли соорудить люди: каждый валун, из которых оно состояло, даже несколько человек не могли бы поднять, не то что унести на холм. И Лобсын подтвердил слова мальчиков, что это обо сложено нечистыми духами.
— Недаром же мы видели по дороге башни, карнизы, кочки странной формы, похожие на то, что было, в том городе нечистой силы. И здесь нечистые духи шалили, чтобы смутить проезжего человека, — сказал он. А я не мог объяснить ему толком, как образовались это обо и эти формы камней [46].
После отдыха мы поехали дальше вверх по тому же сухому руслу.
— Это русло, — объяснил Лобсын, — режет всю южную цепь Джаира, которую к востоку от него называют горы Чингиз, а к западу — горы Кыр. Последние тянутся до станции Сарджак на тракте из Чугучака в Шихо, по которому мы ехали с немцами.
Русло представляло ленту, усыпанную песком и галькой, шириной от 20 до 50 шагов, врезанную в горы Джаира, образовавшие его берега. По бортам русла местами росли мелкие и крупные кусты, но воды нигде не было. И казалось странным, как это длинное русло могло образоваться без помощи текучей воды.
— Неужели здесь никогда не течет вода? — спросил я.
— Ранней весной, когда тают снега, здесь воды довольно много бывает, — ответил Лобсын. — И летом, если разразится очень сильный ливень, вода бежит бурным потоком, но недолго, сбежит вся и опять сухо.
Действительно, на пути по руслу я заметил, что некоторые кусты в его бортах повалены и частью засыпаны песком и галькой; это было доказательством того, что по руслу протекает вода с значительной силой.
Мы ехали часа три или четыре по этому руслу; наконец оно кончилось вместе с южной цепью Джаира. Солнце уже садилось, когда мы добрались до небольшого ключа Ащилы-бастау в верховьях русла между холмами, принадлежавшими уже второй средней цепи. Здесь был кое-какой корм для лошадей и топливо в виде кустиков по склонам гор.
— Ребята, нужно набрать побольше хвороста и аргала, — сказал Лобсын. — В этой местности могут быть волки. Сюда, говорят, иногда забегают куланы из равнины к югу от Джаира, а за ними может притти к нам в гости и тигр.
— Зачем ты нас пугаешь! — заметил я. — У озера Айран-куль, где были большие камыши и где тигр действительно мог бы жить, ты ничего не сказал о нем. А здесь в эти голые холмы зачем он придет?
— За куланами, он их очень любит, — оправдывался Лобсын.
— Ну, надеюсь, что ни куланов, ни тигра мы не увидим, — возразил я. — А костер, конечно, ночью будем поддерживать по очереди. Волки могут напугать наших коней.
Мы так и поступили. До полуночи по очереди по одному часу караулили мальчики, а потом до рассвета по полтора часа один из нас. Огонь поддерживали небольшой, но когда вой волка раздавался ближе, лошади начинали похрапывать, а собака — лаять, подбрасывали топлива. Но в начале лета ночи короткие, и в три часа уже светает. Мне пришлось караулить с двух часов и через час я уже отпустил лошадей пастись, а сам оставался вместе с собакой вблизи них, имея наготове ружье. Это оказалось не лишним, так как на вершине соседнего холма показался волк, подбиравшийся к лошадям. На посветлевшем уже фоне востока я различил его силуэт, собака залаяла. Я вскинул ружье и выстрелил, но было далеко, и картечь, вероятно, только шлепнула по шкуре на исходе полета и волк скрылся.
На следующий день к вечеру прибыли к юртам Лобсына в верховьях этой реки Дарбуты. Лобсын оставил там сына и одну лошадь. Вся его семья и соседи целый вечер слушали его рассказ о наших приключениях, о городе и обо нечистых духов, возбудившем большой интерес и разнообразные объяснения, о холмах и жилах асфальта и жидкой нефти. Я забыл упомянуть, что пока мы ходили осматривать холмы, мальчики набрали бутылку этой нефти, терпеливо собирая ложкой черную пленку, когда сна всплывала на поверхность воды в яме на вершине первого холма. Эта бутылка теперь переходила из рук в руки, нефть нюхали и пробовали пальцем на вкус. Асфальт из города и из холмов также был осмотрен и опробован как топливо.
Два дня спустя по знакомой дороге мы прибыли в Чугучак и явились к консулу, чтобы рассказать о полной неудаче раскопок в городе и показать образчики асфальта и нефти. Описание города показалось ему сначала выдумкой, и он несколько раз переспрашивал и заставлял повторять некоторые подробности для проверки, пытаясь поймать нас на противоречиях. Но мы описывали так подробно и согласно, что ему пришлось поверить. Объяснение форм города силой нечистых духов он поднял на смех, чем очень смутил Лобсына, который, несмотря на многолетнее общение со мной и другими русскими, в глубине души все еще сохранял веру в добрых и злых духов и в их власть над человеком. Консул высказал предположение, что этот город — редкое по своеобразию создание сил природы, а не человека, чем вполне объясняется неудача наших раскопок.
Открытие асфальта и нефти его очень обрадовало, и он сказал, что в будущем оно получит большое значение. Он посоветовал мне испробовать, годится ли привезенный асфальт для заливки пола в моем доме. А в случае удачи обещал дать нам заказ на доставку партии асфальта, чтобы залить весь двор консульства и пол казармы его казаков.
Поэтому я раздобыл старый котел вместимостью в два ведра и растопил часть асфальта из холмов, прибавив по совету консула еще песка, покрыл расплавленной массой пол в моей кухне, предварительно выровняв его. Пол вышел не совсем ровный, так как мы не сумели выгладить массу как следует, пока она не затвердела. Но консул после осмотра остался доволен и заказал Лобсыну доставку асфальта. Так как лето было еще в разгаре и времени до снаряжения нашего торгового каравана было достаточно, Лобсын нанял в Чугучаке несколько телег и проехал по китайскому тракту в Шихо до станции Сарджак, откуда вдоль подножия Джаира можно было пробраться к асфальтовым холмам. Это было дальше, чем наш обратный путь через Джаир, но зато по колесной дороге. Проезд туда и обратно, включая добычу и нагрузку асфальта, занял две недели, и доставленного материала хватило на выполнение заказа консула. Когда у последнего вся работа была выполнена удовлетворительно, консульство посетил и амбань Чугучака, прослышавший о новом способе; он остался доволен и заказал Лобсыну доставку асфальта для двора и служб своего ямыня. Лобсын выполнил и это до отправки торгового каравана. Таким образом, наша «авантюра с раскопками», как ее назвал консул, послужила на пользу Чугучака и Лобсыну дала хороший заработок.
Мы открыли довольно большое месторождение не совсем чистого (с примесью песка, нанесенного ветрами) кира, или асфальта, на южной окраине горной цепи Джаир и там же выходы густой жидкой нефти в нескольких местах на вершинах холмов, сложенных из этого кира, и второе месторождение жильного асфальта в городе Нечистых духов на берегу реки Дям. В обоих местах, как объяснил мне консул Боков, можно было предполагать присутствие нефти на глубине [47].
Эти наши открытия асфальта, которые были сразу использованы для благоустройства города, а также нефти, которая могла обеспечить ему в будущем лучшее освещение, чем сальные китайские свечи, заставили меня задуматься над вопросом: а что же ты, Фома, до сих пор сделал для других за многие годы своей жизни? Много лет занимался ты развозом красного товара по улусам и монастырям Монголии и Синь-цзяна, снабжал им бездельников лам и тружеников аратов и зарабатывал деньги московским толстосумам и, конечно, себе и семье своего компаньона Лобсына. Вот и вся твоя работа на пользу общую! Ну, еще помогли мы немцам раскопать древности в развалинах близ Турфана и этим доставили какую-то пользу науке, хотя только немецкой. А вот для своей родной России, за лучшие условия жизни народа которой пострадал твой отец, сделал ты что-нибудь, Фома? Как будто ничего. Поселился на китайской земле и, кроме доставки красного товара и всяких житейских мелочей монголам, ничего еще полезного не сделал. Только эту находку асфальта и нефти, которую консул так расхвалил! И впредь нужно будет не только древности раскапывать в развалинах древних городов и отправлять их в Академию на пользу отечественной науки, но и присматривать, не попадутся ли опять какие-нибудь клады разных ископаемых, асфальт, уголь земляной, руда железная или медная на благо людям.
Эта мысль меня успокоила, и я решил заняться при развозе красного товара собиранием сведений не только о древностях в развалинах, интересных для русской науки, но и об ископаемых всякого рода, которые пригодятся народу. А на старости лет — вернуться на родину и там устроить что-нибудь полезное, построить школу, что ли, или больницу на окраине Алтая, где их почти нет.
КЛАДЫ В МЁРТВОМ ГОРОДЕ ХАРА-ХОТО
До этого времени мы в компании с Лобсыном водили свой торговый караван не дальше городов Кобдо и Уля-сутай и продавали товар главным образом у монгольских монастырей, к которым постоянно приезжают монголы-богомольцы. Торговали также непосредственно в улусах, где и скупали сырье для доставки на обратном пути в Чугучак.
Мы ездили обыкновенно вверх по долине реки Эмель, переваливали в долину Кобу, по которой шли до озера Улюнгур и затем вдоль реки Урунгу, за которой переваливали через Монгольский Алтай по большой караванной дороге в Кобдо. В рассказе о нашей поездке к закрытому золотому руднику я описал значительную часть этого пути, так как впервые увидел его днем. Это может показаться удивительным, но дело в том, что торговый караван совершает свои переходы главным образом ночью, так как короткие осенние и зимние дни почти полностью заняты пастьбой верблюдов. Выступает караван вскоре после заката и идет всю ночь почти до рассвета; днем каравановожатые спят, готовят себе пищу, а верблюды после отдыха пасутся. Ночью в поисках корма они бы разбрелись далеко по степи, могли бы подвергнуться нападению волков или конокрадов, тогда как днем они всегда на виду и их можно быстро собрать для вьючки.
После доставки груза асфальта из открытых нами холмов в Джаире по заказу амбаня Чугучака Лобсын зашел ко мне и сказал между прочим:
— Знаешь, Фома, надоело водить караван все по тем же местам. Поведем его в этот раз еще куда-нибудь.
— Ну, брат, водить караван с товаром по незнакомым местам и дорогам рискованно. Это не то, что наши поездки налегке, где мы рискуем только нашими конями.
— Ишь ты, какой боязливый! Мало мы с тобой объездили мест, всякие приключения испытали! — возразил Лобсын.
— Куда же ты надумал ехать?
— Поведем караван так: с большой дороги вдоль Алтая повернем через Гоби на юг в город Баркуль, а оттуда пойдем прямо на восход к реке Эдзин-гол в кочевья торгоутского вана. Увидим много новых мест, заведем знакомства.
— На реке Эдзине, слышал я, живут очень бедные монголы, у них скота мало, а их ван захудалый. Мы наш товар не продадим там полностью.
— Видишь ты, это — монголы моего племени. Наши прадеды с Эдзина пришли сюда с. Чингиз-ханом; поэтому нас и называют калмыками. Мне охота свою настоящую родину посмотреть.
— Вот оно что! А я и не знал, что ты не из здешних монголов.
— Здешние все оттуда пришли. Но еще я узнал, что вблизи Эдзина в пустыне, среди песков, развалины большого города Хара-хото находятся.
— Полюбились тебе раскопки, что ли? Ведь на реке Дям в развалинах, куда ты меня водил, мы ничего не нашли. Может быть, и на Эдзине такой же обман окажется.
— Нет! Хара-хото настоящим городом был. Это мне объяснил секретарь амбаня. В китайских книгах этот город описан, люди жили там лет шестьсот тому назад и из города шла большая дорога на восход к реке Хуан-хэ и в Пекин. В книгах написано, почему город запустел. Он стоял на одном из рукавов реки Эдзин и во время какой-то войны неприятели запрудили реку и отвели воду в другой рукав. Город остался без воды, а население разбежалось или вымерло. Там, наверно, много хороших вещей осталось, которые люди не смогли унести с собой.
— Ну, что же, если так, рискнем. Часть товара продадим по дороге туда, остальное на Эдзине. Обратно повезем, что накопаем. А сколько времени пробудем в пути?
— Как всегда, месяца два с половиной, три, не больше. Возьмем с собой обоих парнишек, пусть приучаются к работе, а нам веселее будет.
Уговорил меня компаньон, любитель новых мест и приключений. Время было уже в конце июля и можно было начинать сборы. Лобсын уехал домой с тем, чтобы недели через две прибыть с десятью верблюдами, провиантом и сыном.
Я побывал у консула и сообщил ему о нашем плане. Он напомнил о планомерности раскопок, отдал мне инструменты, которые я вернул ему после неудачи в городе на Дяме, посоветовал заказать пару бочонков для воды, чтобы иметь запас ее для людей и коней.
— На вашем пути теперь безводные места будут, — сказал он, — придется несколько раз ночевать без воды.
Десятого августа вернулся Лобсын, а пятнадцатого мы выступили. Но так как дни были еще жаркие и длинные, мы решили переходить к ночному передвижению постепенно: выступать с ночлегов около полуночи и итти часов до 11 утра; таким образом, мы были в пути только в утренние, более прохладные, часы, чтобы не утомлять верблюдов, у которых в конце лета новая шерсть еще короткая и при движении в жаркие часы с тяжелыми вьюками на спинах легко образуются ссадины и затем раны.
Наш караван имел такой вид: впереди на лошади ехал Лобсын и вел цепочку из одиннадцати хороших верблюдов. Девять из них были навьючены товарными тюками, десятый — головной — нес бочонки для воды, палатку и одежду; на нем ехал сын Лобсына Омолон; последний верблюд вез запас провианта и наши вещи в вьючных сундучках; на нем восседал мой приемыш Очир. Я ехал на лошади то сзади всего каравана, то сбоку, то подъезжал к Лобсыну для беседы, — это днем, а ночью всегда ехал позади. На шее последнего верблюда висел большой колокольчик, так называемое ботало [48], издававший при движении верблюда равномерный нечастый глухой звон. Поэтому Лобсын всегда слышал, идет ли за ним весь караван или же часть почему-либо остановилась, и тонкая шерстяная веревочка, которая одним концом привязана к палочке, продетой через ноздри верблюда, а другим — к седлу идущего впереди него, оборвалась. Как только прекращается звон, вожак останавливается и ждет, чтобы его спутник, едущий сзади или сбоку, восстановил связь. Время от времени вожак сам останавливается на несколько минут, чтобы дать верблюдам отдохнуть, чтобы перекинуться словами со спутником насчет времени, дороги, погоды, близости остановки, выкурить трубку.
В таком порядке без особых приключений и затруднений мы шли день за днем по 40-50 верст в зависимости от характера дороги, прошли долины Эмеля и Кобу, обогнули озеро Улюнгур и вдоль подножия Алтая по долине реки Урунгу до речки Алтын-гол, где остановились раньше обычного. Лобсын уговорил меня съездить вверх по этой речке к запрещенному руднику. Ему хотелось узнать, как вспоминают караульные ночное происшествие, которое мы устроили им три года тому назад, и какую легенду они сочинили.
Оставив мальчиков в стане у палатки, мы съездили к руднику. Караульные были уже новые, а вход в рудник закрыт не жердями, как раньше, а прочно и сплошь бревнами. Угощая нас чаем, караульные рассказали, что те, которых они сменили год назад, с ужасом описали им воскресение двух хищников, убитых когда-то в руднике и вышедших к ним ночью. Они были так напуганы, что два дня не возвращались к своим юртам, а ночевали со скотом у караванной дороги. Один из них ездил к монгольскому князю сообщить о происшествии и вернулся с приказом прочно заделать вход в штольню рудника. Поэтому им пришлось добывать бревна, вырубая их в лесу в глубине Алтая на расстоянии целого дня пути, и вывозить их волоком по одной штуке к руднику. Эта работа заняла у них целый месяц.
— Теперь мертвецы уже не выйдут из рудника, чтобы пугать нас! — закончил рассказчик.
— А через верхний вход они разве не могут выбраться? — спросил я нарочно.
— Откуда ты знаешь, что в рудник можно попасть и с гребня горы? — с тревогой спросил караульный.
— Лет пятнадцать назад, когда караула еще не было, я бывал здесь и лазил по всему руднику, сверху донизу. Видел много золота. Жаль, что оно лежит здесь без пользы для людей.
— Это золото принадлежит богдыхану, и он бережет его на случай большой войны с иностранными чертями, — заявил монгол наставительно.
Он, конечно, прежде всего спросил нас, кто мы, откуда, куда и зачем едем и при прощании сказал:
— Вы едете по дороге в Гучен? А знаете ли вы, что недалеко от нее, а отсюда в одном переходе, лежит священный камень, упавший с неба. Многие люди, едущие по этой дороге, свертывают с нее, чтобы поклониться этому камню.
Эти слова, конечно, очень заинтересовали нас, и мы расспросили подробно, как найти этот камень. Узнали, что камень огромный, величиной немного меньше юрты, что над ним выстроена крыша и стены, так что его снаружи не видно. Лежит он среди равнины недалеко от горы Ошке, мимо которой проходит дорога в Гучен, и называется он Кумыс-тюя (т. е. серебряный верблюд).
Мы поблагодарили караульных за эти сведения и вернулись в свой стан.
На караванную дорогу из Кобдо в Гучен мы вышли немного выше впадения речки Алтын-гол в Булаган и повернули по ней на юг. Дорога из долины Балагана поднималась постепенно все выше по северному склону цепи Кутус-алтая и после плоского перевала спустилась полого к источнику Кайче. Со спуска можно было уже увидеть на южном горизонте снеговую цепь Тянь-шаня, еле видную невооруженным глазом. Нужно заметить, что этот первый переход по незнакомой дороге мы делали днем. Освещенная лучами заходящего солнца на цепи Тянь-шаня резко выделялась высокая конусообразная вершина Богдо-улы.
Следующий переход мы сделали днем, чтобы не пропустить сворот к камню Кумыс-тюя. Дорога шла по щебнистой пустынной равнине, шириной в 6-8 верст, ограниченной с запада кряжем Аржанты, а с востока — грядой Джаманты. Почва была покрыта мелкой травой, плоские впадины представляли солончаки с мелкими кустиками солянок и хармыка; кое-где видны были и крупные кусты тамариска; некоторые впадины белели от соли, покрывавшей почти все дно их. Очевидно, сюда еще попадала весенняя вода при таянии снегов на Алтае и пропитывала почву. Кое-где поднимались небольшие холмы, и возле них я, к удивлению, различил стены небольших фанз и загородки из хвороста для скота. Но не видно и не слышно было ни людей, ни животных.
— Это — зимовки наших монголов-торгоутов, — пояснил мне Лобсын. — Здесь зимой можно жить, кормов довольно и есть соль, которую скот любит.
— А где же вода? где колодцы? — спросил я,
— Зимой воды не нужно. Снег под Алтаем выпадает часто, во впадинах долго держится. Вот тебе вода для людей и для скота. Люди живут здесь полгода, с ноября до апреля. Когда снега сойдут, монголы перекочевывают на Булаган.
Я вспомнил, что уже слыхал о том, как кочевники зимой живут в безводных местах с хорошим подножным кормом, используя вместо воды выпадающий снег, если он выпадает не слишком редко и в достаточном количестве. Такие места чаще всего бывают у южного подножия какого-нибудь горного кряжа или в долине среди его гряд.
Дальше на той же равнине зоркий глаз Лобсына усмотрел какое-то небольшое строение, и вскоре мы увидели тропу к нему, отделившуюся от большой дороги. Она представляла несколько параллельных дорожек, вытоптанных верблюдами и ясно выделявшихся более светлым цветом и значительно меньшим количеством щебня на темном фоне равнины.
Часовня или постройка над священным камнем представляла деревянный сруб с конической крышей, в которой было вырезано отверстие более квадратного аршина. Оно и позволило рассмотреть камень, лежавший прямо на земле. Он имел больше сажени в длину и немного меньше в ширину, крутые и неровные бока и поднимался над землей на 8-9 четвертей. В нескольких местах у него были оббиты, вероятно, более острые края или уголки и можно было видеть, что он состоит из блестящего серебристо-белого металла, тогда как вне этих мест он имел темнобурый цвет и мелкошероховатую поверхность. Таким образом, было ясно, что этот будто бы упавший с неба камень состоит из какого-то металла, но только не серебра, так как цвет на оббитых частях был не серебряный, а скорее стальной. Я кое-что читал о падающих с неба камнях, называемых метеоритами, и потому вынул свой карманный компас, который консул дал мне для ориентировки при съемке плана зданий на раскопках, отпустил стрелку и увидел, что камень сильно притягивает ее к себе. Куда я ни поворачивал компас, стрелка сейчас же одним концом показывала на камень. Следовательно, камень был сильно магнитный и, очевидно, представлял железный метеорит, состоящий, как установлено наукой, из никелистого железа.
Когда я по возвращении рассказал об этом камне консулу, он справился в книгах и сообщил, что метеорит такой огромной величины (я его приблизительно обмерил) ни в одном музее Европы и Америки не имеется и вообще неизвестен в науке. Отбить от него хотя бы небольшой кусочек не удалось; у нас с собой была только кайла, а никаких выступов или углов, по которым можно было ударить, на камне не было, — все, что возможно, было уже сбито. Я, конечно, объяснил Лобсыну, что это за камень, и потом, когда мы ехали дальше, еще с полчаса мы рассуждали о падающих с неба камнях.
Возвращаясь к дороге, мы ехали теперь мимо горы Ошке, которая стояла одиноко среди равнины и была похожа на фигуру лежащего животного вроде большой собаки, но с головой, более похожей на человеческую.
За незаметным перевалом через плоскую гряду Тотур-кара у южного подножия этих черных гор мы нашли несколько колодцев с пресной водой, глубиной только в полтора аршина и, к удивлению с деревянным прочным срубом. Здесь мы остановились.
Следующий небольшой переход в 8 верст проходил сначала через пустыню Ламын-крюм-гоби, усыпанную черным щебнем, а затем по ущелью в низких горах Намейчю; среди него были колодцы, скорее ямы в полтора аршина глубиной, некоторые с деревянным срубом, с горьковатой водой, пахнувшей тухлыми яйцами. Здесь пришлось заночевать, так как дальше был большой безводный переход верст в шестьдесят.
Чтобы дать верблюдам хорошо отдохнуть, мы простояли в этом месте, несмотря на скверную воду, следующий день до трех часов пополудни и вышли с запасом воды в бочонках и напоив досыта всех животных. Часа через полтора горы Намейчю кончились, и дорога пошла по черной пустыне, густо усыпанной мелким щебнем и почти без всякой растительности. Кое-где в плоских впадинках желтел небольшой кустик. Местами равнина горбилась маленькими гривками или поднималась низкими ступеньками. В одном месте, уже в сумерки, мы заметили вблизи дороги какие-то бревна длиной в 5-6 сажен и толщиной больше аршина. Они были разбросаны по поверхности пустыни.
— Сделаем здесь привал часа на два, — предложил Лобсын. — Мы уже прошли третью часть перехода, сварим чай, дрова есть.
Мы уложили верблюдов возле одного из этих бревен, к другому привязали лошадей и, пока еще можно было рассмотреть, обошли это интересное место. Бревна оказались окаменевшими, мы надеялись развести огонек из этих неожиданно найденных в пустыне дров и сварить себе чай. Но они совершенно не горели, а под ударом кайлы рассыпались на крупные осколки, а не на щепу. Пришлось запивать сухари горьковатой водой из бочонка, высказывая догадки об этих странных огромных деревьях, которые когда-то выросли среди пустыни и потом почему-то погибли и окаменели.
Верблюдам и лошадям мы дали по пучку зеленого тростника, которым запаслись еще на Булгуне на всякий случай, лошадям по ведерку воды и перед полуночью пошли дальше. Убывающая луна светила довольно ярко, и можно было видеть, что часами двумя позже дорога спустилась в широкую котловину Бортень-гоби, усыпанную тем же черным щебнем, который местами был наметен бурями в маленькие грядки. Тремя часами позже слева от дороги остались плоские горы Пата-шань. Они оканчивались обрывчиками из розовых, зеленых и малиновых глин, очень красиво переслаивавшихся друг с другом. Мы могли разглядеть их потому, что уже светало. Мимо них мы шли уже часа четыре и заметили в одном месте толстый пласт черного земляного угля.
— Это уже не обман, как те дрова! — сказал Лобсын. — Наберем его немного, чтобы чай сварить!
Мы набрали несколько крупных кусков угля, так как боялись, что на следующей стоянке в пустыне топлива опять не будет.
Дорога скоро поднялась на невысокий яр и иступила в большие пески Гурбан-тунгут, которые тянутся широкой полосой с востока на запад. Мы шли по пескам еще часа полтора и, наконец, остановились у колодца Хан-са-ху с солоноватой водой. Было уже часов десять утра, и солнце начало припекать.
После этого трудного безводного перехода нужно было дать хороший отдых нашим животным, и мы решили простоять здесь до следующего вечера, несмотря на плоховатую воду.
Уголь не понадобился, потому что на песчаных холмах рос мелкий саксаул, кусты байкалыча [49] и трава абэлза, как назвал Лобсын эту растительность, которая дала нам достаточно топлива и нашим животным хороший корм. Но нам пришлось присматривать за ними, так как пески представляли длинные неровные гряды, между которыми тянулись ложбины, и пасущиеся животные могли незаметно уйти далеко от палатки. Очередной караульный взбирался на гребень гряды, достигавшей от 3 до 5 сажен высоты, и отсюда наблюдал за животными, пригоняя их назад, когда они уходили слишком далеко. Вечером мы, конечно, пригнали их к палатке, верблюдов уложили, лошадей привязали к кустам.
На рассвете я проснулся и вышел из палатки, чтобы пустить животных на пастбище. Недалеко от стоянки в ложбине я заметил трех пасущихся лошадей и удивился. Подумал, что ночью пришли какие-то путники, не заметили нашей палатки, прилегли где-нибудь среди кустов чия, а лошадей выпустили. Но почему наша собака не лаяла ночью? Неужели не почуяла чужих? Вернувшись в палатку, я сообщил Лобсыну, который уже проснулся и обувался, что по соседству, очевидно, ночуют какие-то люди и что я поэтому не отпустил лошадей, так как недалеко пасутся чужие.
— Лошади! — воскликнул Лобсын, — а людей не видно. Если бы чужие люди были так близко, моя собака лаяла бы все время или хотя бы ворчала. Ты видел, наверно, диких лошадей. В этих песках они водятся, как мне сказывали. Бери ружье, может быть, удастся подойти на выстрел.
Мы вышли из палатки, но лошади за это время отошли дальше, вероятно, услышали наши голоса, Лобсын, разглядев их, сказал:
— Наверно, дикие. Все три той же самой масти, небольшие, гривы короткие, хвост жидкий.
— А не куланы ли? — заметил я.
— Издали их не трудно спутать, — подтвердил Лобсын. — Попробуем подкрасться ближе.
Говорили мы, конечно, шопотом и теперь стали пробираться почти ползком между кустами саксаула и пучками чия и, наконец, остановились шагах в сорока под защитой большого куста. Дальше прятаться было негде — местность открытая, кустики мелкие.
— Это не куланы, — прошептал Лобсын. — У кулана уши длинные, хвост совсем жидкий, как у осла, а вдоль спины по хребту идет черная полоса. А у этих полосы нет, хвост больше похож на конский. Должно быть, дикие лошади! Стреляй скорее!
— Но не домашние ли это, в самом деле? — сказал я, прицеливаясь, — не наделать бы неприятности кому-нибудь.
Лошади уже почуяли близость врага, подняли головы, навострили уши и упорно смотрели в нашу сторону. Одна даже похрапывала, раздувая ноздри. Другая стояла почти боком, и я выстрелил в нее. Она сделал большой скачок и помчалась галопом, за ней обе другие.
— Промазал! — сказал с сожалением Лобсын.
— Нет, попал, но только второпях, наверно, по ошибке сунул в ружье патрон не с пулей, а с дробью. Пойдем, посмотрим.
От круглой пули должна была быть большая рана и на песке остаться много крови.
Мы тщательно осмотрели место, где лошади паслись, нашли свежий помет и только несколько капель крови. Очевидно, я выстрелил дробью и только немного поранил бок или ногу.
Так из-за торопливости нам не удалось добыть это редкое дикое животное Джунгарской пустыни [50].
Перед закатом мы пошли дальше и шли всю ночь по этим пескам, а утром вышли к небольшому китайскому селению Бай-да-цао, расположенному на окраине песков, уже на ровной степи. Это был маленький оазис с сухими руслами, деревьями, зарослями чия и камышей. Сюда весной доходит снеговая вода из Тянь-шаня, который теперь был уже хорошо виден на юге в виде высокой зубчатой стены. Над ней западнее поднималась двуглавая вершина Богдо-улы, увенчанная полями снегов. Но и весь гребень стены был посыпан свежим снегом.
В селении удалось купить свинину, свежие булочки момо и даже молоко. Китайцы подтвердили, что в песках Гурбан-тунгут водятся дикие лошади. Они показали нам шкуру одной из них. На ней черной полосы вдоль хребта не было, как правильно сказал Лобсын.
От этого села оставалось еще верст двадцать до города Гучена. Но мы решили туда не заходить, а повернуть на восток и выйти там на большую дорогу в Баркуль. Ехали мы теперь без дороги по той же равнине с щебнем, на которой потом стали попадаться пригорки и грядки холмов, среди них ложки и котловины, кое-где небольшие ущелья. Попадались ключи с небольшими зарослями тростника, чия, шиповника, таволги, а в ущельях под защитой от ветров росла даже дикая яблоня с мелкими, но вкусными плодами. По этой местности без дороги пришлось итти только днем. На ключах мы два раза ночевали, а на третий день среди таких же горок начали попадаться люди. Возле каждого ключа можно было увидеть одну или две китайские фанзы, жители которых занимались земледелием — возделывали поля по дну долин и орошали их водой из ключа. Но чаще, чем обитаемые фанзы, встречались развалины, так как дунганское восстание не пощадило и этих колонистов на окраине пустыни.
В этот день мы вышли на большую дорогу из города Гучен в Баркуль, которая тянется вдоль подножия Тянь-шаня по его мелким предгориям, и повернули по ней на восток. Высокий хребет теперь был виден уже гораздо ближе, верстах в тридцати от дороги, и снега его манили к себе путника, которого донимала еще дневная жара, тем более что эти предгория оказались более бесплодными, чем пройденная местность с ключами, — здесь и вода попадалась гораздо реже. Но снега на хребте были не вечные, видно было, что они выпали недавно. Летом весь этот конец Тянь-шаня лишен снегов. Дорога постепенно приближалась к нему, и на пятый день пути от первого китайского селения Бай-да-цао, которое мы встретили на всем пути от Булун-Тохоя на озере Улюнгур, она резко повернула на юг к хребту, у подножия которого стоит Баркуль. Но проживать с караваном верблюдов в китайском городе невыгодно — нужно платить за корм всех животных. Поэтому мы остановились, в трех верстах не доезжая Баркуля, на постоялом дворе небольшого селения, где была возможность выгонять верблюдов каждый день на пастбище в степь и покупать только корм для лошадей.
Скажу несколько слов о Баркуле; он состоит из двух частей — восточной Чин-син-фу, населенной маньчжурским войском, и западной китайской, или торговой, ее китайцы называют Паликон (переиначивая по-своему слово Баркуль). Каждая часть обнесена глинобитными стенами в виде четырехугольников с воротами, зубцами и башнями на углах и над воротами. Снаружи торговый город кажется больше, но внутри не все застроено, много пустырей. В центре — высокая башня с воротами, из которой идут три главные улицы на запад, север и восток. Восточная улица — самая длинная и представляет сплошной ряд лавок; бойко идет торговля и со столов на улице. В лавках много разных товаров, есть богатые лавки, каких я не видел ни в Кобдо, ни в Улясутае. Но на улицах и в переулках кучи мусора, лужи грязи или воды. Во всем городе нет ни одного дерева, но вокруг него рассеяны фанзы с садами среди обширных огородов. К югу и востоку от военного города громадное кладбище и посреди него кумирня.
На постоялом дворе я расспросил хозяина, свободен ли въезд в город с караваном верблюдов для торговли. Я знал, что при въезде в китайские города с купцов взимают пошлины, размер которых определяется местным амбанем по его усмотрению.
— Я очень советую тебе не везти товар в город, — сказал хозяин. — Наш амбань очень алчный человек. С тебя возьмут большую пошлину, и, кроме того, когда ты там займешь лавку и разложишь товар, амбань приедет к тебе, выберет все, что ему понравится, и заплатит за него сколько захочет или даже ничего не заплатит.
Это было досадно. Я знал, что в Баркуле русского консула нет, что это — большой, но захолустный город на окраине огромной Гоби, и полагал, что именно поэтому амбань должен был поощрять торговлю. Но так как консула не было, я не мог найти никакой защиты от произвола амбаня.
— Вот что ты можешь сделать, — продолжал хозяин. — Поезжай в город налегке, я укажу тебе одну китайскую лавку хорошего человека. Ты расскажи ему, какой товар ты хочешь продать, и он приедет сюда, отберет его и увезет в город как свой товар небольшими партиями. Но он много не купит, в городе товаров достаточно.
Слова хозяина очень нарушали мои планы, но предложение казалось мне приемлемым, и на следующий день я поехал с Лобсыном в город, отстоявший в нескольких верстах. Нужно заметить, что я во всех путешествиях носил монгольскую одежду и только сапоги русские, и так как лицо мое мало отличается от монгольского типа и я говорил по-монгольски свободно, то меня всегда принимали за природного монгола. Поэтому в воротах города, где останавливают приезжих и берут пошлину, нас свободно пропустили, убедившись только, что мы ничего не везем; очевидно, приняли за местных монголов, приехавших по делам. Указанную мне лавку на грязной и многолюдной улице города мы скоро нашли и сговорились с купцом, купили свежего мяса, китайских булок, печенья, винограда, яблок и слив и к обеду вернулись на постоялый Двор.
Тюки с товарами занимали отдельную фанзу. Они были у меня так подобраны, что в каждом тюке были все сорта мануфактуры — ситец, сатин, миткаль, фланель, даба, сукна разных сортов по 1-2 штуки, чтобы не нужно было распаковывать сразу все тюки. Поэтому мы перенесли в фанзу, где жили сами, только два тюка, т. е, один верблюжий вьюк, и развернули их.
Вскоре после обеда приехал купец, пересмотрел разложенный товар, отобрал все, что ему было нужно, сторговался за чаепитием и угощеньем и поехал в город за деньгами, обещая вернуться вечером с несколькими ишаками, на которых он хотел привезти товар в город.
Но часа через два к нам в фанзу вбежал перепуганный хозяин и сообщил:
— Сюда едет сам амбань. Он, видно, как-то узнал про приезд русских купцов с товаром и хочет посмотреть его. Вот беда!
— Ты не говори про товар в другой фанзе, — попросил я. — Пусть он увидит только тот, что разложен здесь.
Наши верблюды, к счастью, были не на постоялом дворе, а паслись в степи под надзором мальчиков. По числу их амбань мог бы, конечно, заключить о крупной партии, потребовать показать весь товар, и сколько бы он ни захотел взять себе по дешевке или бесплатно, я бы ничего не мог сделать.
Немного погодя в ворота постоялого двора въехали два верховых солдата, за ними парадные носилки в виде будки на длинных палках, которую несли четыре человека, и еще два верховых, вслед за которыми нахлынуло все население поселка — мужчины, женщины и дети. Из будки вылез амбань — дородный китаец средних лет в парадном халате и курме с вышитым на ней фантастическим тигром, в черной шляпе с синим шариком, соответствовавшим его рангу начальника уездного города. Хозяин встретил его глубокими поклонами. Мы стояли у дверей фанзы и также поклонились.
Амбань вошел в фанзу, где уже было приготовлено кресло, в которое он и уселся; его сопровождал один из всадников, повидимому, являвшийся секретарем, так как он принес сверток бумаги, кисть и бутылочку с тушью. В фанзу вошел также хозяин и остановился у дверей, которые снаружи заслонили собой солдаты, носильщики и любопытные, так что стало почти темно — в фанзе окна не было. Начался допрос.
— Кто вы такие и зачем приехали сюда?
Я подал наши китайские паспорта и заявил:
— Мы торговали в Урумчи и Гучене и продали там почти весь товар. Остатки привезли сюда, чтобы сбыть их и ехать по монгольским кочевьям закупать сырье.
— На чем вы приехали? Где ваши животные?
— Мы привезли товар на китайской телеге из Гучена, а наши две лошади здесь на дворе.
— Это правда? — обратился амбань к хозяину.
— Совершенная правда, далое (большой господин), они приехали вчера вечером, а телега сегодня утром уехала назад.
— Почему вы не приехали в город, а расположились с товаром здесь, в поселке?
— Мы думали, что продадим часть здесь, а остальное привезем в город.
— Кто купит здесь дорогой русский товар? Может быть, 10-20 локтей купят, а в городе вы можете продать все. Ну-ка, покажите, что у вас есть!
Мы начали подносить амбаню по одной штуке всех сортов тканей. Он щупал и осматривал каждую, спрашивая, сколько аршин в штуке и какая цена, находил, что мы слишком дорого хотим, что товар неважный.
— Так и быть, я помогу вам расторговаться здесь, — заявил амбань наконец. — Отложите мне по две штуки каждого сорта. За привоз товара в город нужно уплатить 10% его стоимости и еще 10% вы должны уступить мне.
— Подсчитай, сколько следует уплатить со скидкой 20 %, — сказал он секретарю.
Последний начал записывать. Я приносил по две штуки каждого сорта и говорил, сколько в каждой аршин и какая цена. В общем он выбрал 12 сортов тканей, что составило 24 штуки — половину вьюка верблюда, причем более дешевые сорта браковал. Со скидкой в 20% секретарь насчитал 400 китайских лан (т. е. унций серебра), или на наши деньги 800 рублей с небольшим.
— Деньги я пришлю вам завтра утром, а товар возьму с собой, — заявил амбань, поднялся с кресла и величественно медленным шагом вышел из фанзы. Секретарь сказал солдатам: — Собирайте товар, выбранный амбанем.
У солдат нашлись мешки и веревки, и они быстро составили три легких вьюка по два мешка с товаром в каждом и перекинули их через седла лошадей. Амбань, стоя возле носилок, проследил за этим, разговаривая с хозяином, затем уселся в будку. Носильщики подняли ее на свои плечи, и процессия в прежнем порядке выехала со двора. Любопытные еще остались и оживленно обсуждали происшествие, расспрашивая хозяина о нас.
Лобсын в фанзе вполголоса выражал свое возмущение произволом амбаня, а я утешал его тем, что мы еще дешево отделались.
— А если этот плут не пришлет деньги? — заявил Лобсын.
— Я думаю, что пришлет, побоится обидеть русских купцов, которые через консула могут пожаловаться генерал-губернатору в Урумчи.
Под вечер приехал с четырьмя ишаками китаец, с которым мы сторговались. Он уже узнал о посещении амбаня и, думается мне, сам сообщил ему по секрету о приезде русских купцов с товарами, чтобы быть у него на хорошем счету, т. е. не страдать от разных придирок этого вымогателя. Часть отобранного им ранее товара была забрана амбанем, но он согласился купить все, что осталось, с небольшой скидкой. Подсчитали и получили от него серебром еще 400 лан с небольшим. В сумерки он уехал, нагрузив своих ишаков, и сообщил мне на ухо, что, когда стемнеет, провезет товар в город, дав взятку караульным в воротах, которая, конечно, меньше пошлины, взимаемой днем, когда у ворот дежурит китайский чиновник.
К ночи вернулись с пастбища наши мальчики с верблюдами, и после тревожного дня мы спокойно поужинали пельменями с подливкой китайского черного острого соуса, изготовляемого из соевых бобов.
Утром амбань прислал со своим секретарем деньги, но не серебро, а бумажки. В то время в Китае государственных бумажных денег не было, но во многих городах крупные торговые фирмы и банки выпускали сами бумажные деньги, которые были в ходу только в данном городе и ближайших окрестностях; нередко среди них попадались фальшивые. Лобсын был возмущен, но я отнесся спокойно к этому поступку вымогателя, так как был почти уверен, что он не пришлет ничего.
Бумажные деньги нужно было израсходовать в городе. У нас освободился от вьюка один верблюд, и я решил закупить зерно для подкармливания лошадей и верблюдов, имея в виду плохой подножный корм в пустыне Гоби, которую нам предстояло пересечь на пути к Эдзин-голу. Кроме того, не мешало купить китайских булочек, сухих фруктов, печенья, китайского сахара и зеленого чая для себя. В расчете на лавки Баркуля мы везли мало всего этого из Чугучака.
Поэтому я отправил Лобсына с одним из мальчиков в город за покупками, а зерно сторговал у хозяина постоялого двора в виде четырех мешков полевого гороха. В Китае не кормят лошадей и мулов овсом или ячменем; овса там вообще не сеют, а ячмень идет на изготовление дзамбы — поджаренной муки, которая у монголов заменяет хлеб. Это зерно животным заменяют горохом, который дают распаренным в горячей воде и часто пересыпают им мелко нарубленную солому, так как сено в Китае не известно из-за отсутствия лугов.
К обеду вернулся Лобсын с покупками. Паровые булочки мы немедленно разрезали на небольшие кубики, которые хозяин превратил в сухари на своей плите. На все покупки и зерно мы израсходовали меньше половины бумажных денег. Остальные приходилось сберечь в расчете, что мы обратно поедем опять через Баркуль и тогда израсходуем их или, если в этот город не попадем, спишем в убыток.
Теперь нам предстояло резко повернуть на восток и итти несколько дней еще вдоль подножия Тянь-шаня, а затем пересечь горный узел кряжа Мэчин-ула, который тянется на северо-запад, все более отдаляясь от Тянь-шаня. Мы выступили утром, не заходя в Баркуль.
Дорога была ровная, твердая, справа виден был Тянь-шань; покрытый свежим снегом его гребень резко выделялся над темными лесами северного склона. Слева тянулась равнина вплоть до гор Мэчин-ула, замыкавших горизонт. По дороге часто попадались обработанные поля, на которых кончали уборку второй жатвы, отдельные фанзы и селения, но последние большей частью представляли развалины после дунганского восстания. Дунгане не смогли взять Баркуль, но разорили окружающую страну.
Ночевали у развалин селения Хой-су на одноименной речушке, текущей из Тянь-шаня и кончающейся болотцами и солончаками, недалеко от дороги. Такая же местность продолжалась и на следующий день, но вскоре от нашей дороги отделилась большая главная в город Хами, которая пошла правее и ближе к Тянь-шаню и вела к перевалу через хребет. К востоку от перевала хребет немного возвышается, несет небольшие вечные снега и называется Карлык-таг. Мы продолжали итти вдоль подножия; фанзы, поля и селения попадались реже, а Мэчин-ула уже значительно приблизился. Ночлег был близ деревушки Почжан на небольшой речке.
От нее дорога начала постепенно подниматься на плоский перевал; с юга тянулись горы Джанджан, передовая гряда Карлык-тага, покрытые хвойным лесом, а с севера — скалистые безлесные горы совсем близкой цепи Мэчин-ула, и на перевале между теми и другими осталось только 5 верст промежутка. Но это не был перевал через какую-нибудь горную цепь; здесь только соединились «бэли» обоих хребтов. Бэлем монголы называют пологий длинный откос, точнее подножие, над которым поднимаются скалистые склоны каждого хребта пустыни. Эти подножия часто гораздо шире хребта, достигают 5-10 и больше верст в поперечнике и в разрезе похожи на плоскую крышу, над которой резко поднимается ее зубчатый конек.
Бэль состоит из продуктов разрушения хребта, вынесенных из него временными потоками, и представляет ровную степь с плоскими руслами этих потоков.
На перевале сомкнулись бэли Мэчин-ула и передовой цепи Карлык-тага, а за перевалом они начали расходиться, и дорога пошла вниз по бесплодной степи к обширной впадине озера Тур-куль, где мы разбили палатку. Озеро соленое, без стока, по берегам даже садится соль, которую собирают монголы и таранчи Баркуля и Хами. Вдоль берегов — заросли чия, а там, где из-под откосов берега вытекают пресные ключи, образуются лужайки, густые чащи тальника. Мы остановились у ключей северного берега. На южном берегу за озером видны были юрты и пасшийся скот, а на восточном — фанзы селения таранчей.
По мелким горам хребта Мэчин-ула и передовой цепи Карлык-тага мы шли еще два дня через селение Тугурюк в селение Бай, где те и другие горы еще понизились и распались на группу холмов. Бай — последнее к востоку селение Баркульского округа на маленькой речушке, текущей с конца Карлык-тага. Дальше до самого Эдзип-гола совершенно безлюдная Гоби, бедная водой и растительностью. По ней кое-где разбросаны низкие гряды и группы холмов, а на продолжении Карлык-тага, т. е. Тянь-шаня, тянутся скалистые кряжи гор с запада на восток, но не сплошной цепью, а разорванной, с более или менее широкими промежутками. В них или вблизи них попадаются небольшие оазисы.
От селения Бай мы уже намерены были перейти к ночным переходам и потому провели в нем целые сутки.
Лобсын в этом селе расспросил людей о предстоящем длинном пути через Гоби, о названиях гор, колодцев, характере дороги. Но на первый переход мы наняли в поселке проводника, чтобы в темноте не сбиться, так как от нашего пути ответвлялись еще дороги к Алтаю на север и в Сачжеу на юг. Проводник ехал вместе с Лобсыном во главе каравана и по временам затягивал длинную заунывную песню, в которой он описывал все, что видно по сторонам, конечно, по памяти, так как в темноте решительно ничего нельзя было различить, кроме нескольких параллельных тропинок, вытоптанных караванами в почве степи и чуть выделявшихся при свете звезд на более темном фоне. Ночью проводник ориентируется по звездам, помня их расположение в небе в разное время года.
Ночь была тихая и довольно холодная. Мальчики спали спокойно, укачиваемые равномерным шагом верблюдов и приникнув к мягкому вьюку. Я тоже привык дремать, сидя в седле в хвосте каравана, просыпаясь при каждой остановке, когда ботало последнего верблюда замолкало. Так проходили часы в равномерном движении. Наконец, на востоке небо просветлело, и на его фоне стали ясно выделяться фигуры верблюдов. Утренний холод разогнал дремоту, я соскочил с седла и пошел пешком. Вскоре справа вдали вырисовалась низкая скалистая гряда гор; ровная степь с мелкими кустиками тянулась к их подножию, а слева она же расстилалась до горизонта. Звезды начали уже меркнуть. Мало-помалу становилось светлее, восток порозовел; на гряде справа уже выяснились темные ущелья, седловины, обрывы скал. Взошло солнце прямо впереди каравана среди полосчатых тонких облаков, золотистых и розовых с зубчатыми краями. Тропинки нашей дороги тянулись до горизонта прямо к солнцу и упирались в его красный диск словно в светлые ворота. Восходы и закаты в пустыне всегда чаровали меня своей красотой и сочетанием разных форм и красок облаков.
Становилось теплее по мере того как солнце поднималось выше. Проводник опять запел и, вслушиваясь в слова песни, я понял, что он просто фантазирует. По сторонам дороги, кроме почти ровной пустыни и скалистой гряды на юге, не было ничего того, что он описывал в своей песне. Так мы прошагали еще часа три, пока слева не появилась группа холмов, у подножия которых зеленая полоска выдавала наличие воды и корма. Проводник свернул к ней, и мы подошли к лужайке, на краю которой у склона холмов вытекал из трещины в камне большой ключ, заполняя впадину аршина два в диаметре и в две четверти глубины, и извивался затем еще несколько шагов среди травы. Большое старое дерево поднималось по соседству, и вокруг него почва была опалена, усеяна пометом верблюдов и, очевидно, служила местом стоянок караванов. Мы расположились тут же на отдых на весь день, раскинули палатку, развели огонь, сварили чай, хорошо позавтракали. Потом отпустили животных на пастбище под присмотром мальчиков, которые выспались за ночь, а сами легли спать до послеполудня. Мальчики сварили обед и разбудили нас. Проводник после обеда уехал назад; едучи рысью, он мог поздно вечером вернуться домой.
После обеда мальчики в свою очередь прикорнули, а мы сидели возле палатки, греясь на солнце теплого сентябрьского дня,
— Проводник рассказал, — сообщил Лобсын, — что на этой дороге небезопасно. В одном месте в горах живет шайка разбойников, которая грабит китайских купцов. Ее начальник, как тебе покажется, Фома, лама, беглый, конечно; Чёрным ламой его называют. Монголов он не обижает, а у китайцев отнимает часть товаров, которые ему понравятся, и все деньги, сколько есть. Людей не убивает, если они не сопротивляются. Китайцы теперь боятся ездить по этой дороге, делают большой крюк в обход его логовища, но он их иногда настигает и там. Ездят эти разбойники на хороших скакунах — одногорбых верблюдах, от которых и добрый конь не убежит.
— Разбойник лама — это интересно, — сказал я. — Но если он монголов не трогает, то нам бояться нечего. Мы ведь оба все равно, что монголы, а на китайских купцов совсем не похожи.
— Кто знает, Фома? Увидит добрый караван, много товара, хороших верблюдов- пожалуй, захочет поживиться.
— Ну, бог не выдаст, свинья не съест, как говорится. Ехать нам нужно, объезда мы не знаем. Авось поладим с ламой, откупимся деньгами, которые получили в Баркуле.
В сумерки мы пошли дальше. Лобсын вел караван уверенно; дорога шла на восток прямо, как стрела; справа все время тянулись с перерывами скалистые низкие гряды.
На ночлег остановились раньше, часов в восемь утра, у колодца, вырытого в сухом русле: корм был плохой, только для верблюдов, а лошадям пришлось дать хорошую порцию гороха, подмешав к нему мелкой сухой травы и стеблей чия, которые мальчики с трудом насобирали вокруг стоянки.
Предстоял первый большой безводный переход в 50 верст, который трудно было сделать без остановки для отдыха. Поэтому мы снялись в 4 часа, наполнив бочонки водой и напоив досыта животных. Шли до 11 часов, затем остановились в пустыне, уложили верблюдов, не развьючивая их, сварили чай на привезенном аргале, дали верблюдам и лошадям порцию гороха, а последним также по ведру воды, и немного поспали, не разбивая палатки, растянувшись на земле. Ночь была тихая и холодная. Я долго лежал с открытыми глазами, любуясь звездным небом. Не слышно было никаких звуков, кроме тихого хруста гороха, который жевали животные, и изредка их фырканья. В этой пустыне, очевидно, не было ни волков; ни ночных птиц.
В 2 часа ночи поехали дальше. Несколько тропинок дороги хорошо выделялись даже ночью светлыми ленточками на черном фоне Гоби, которую мы увидели в ее мрачном величии, когда рассвело. Это была равнина, усыпанная густо мелким черным щебнем; она расстилалась впереди и позади нас до горизонта. На юге она была ограничена вдали плоскими черными же холмами, а на севере уходила как будто до самого Алтая, который чуть виднелся на горизонте, выделяясь на темном еще фоне неба полоской снега на гребне. Нигде не видно было ни малейшего кустика. Это была такая же черная пустыня, как та, которую мы пересекли на пути от Алтая в Баркуль, но еще более обширная, так как там мы видели все время позади себя высоты Алтая, а впереди — снеговой гребень Тянь-шаня.
Взошло солнце, но пустыня впереди не осветилась синими огоньками, так как мы шли против солнца, и она казалась еще мрачнее. Только оглянувшись назад, можно было видеть, как сверкали солнечные лучи, отраженные гладкими зеркальцами черного щебня. Наконец, часов в семь утра, впереди показались пригорки, появились небольшие сухие русла и по их бортам отдельные кустики. К восьми часам дорога втянулась в плоские холмы и вышла в небольшую долину с лужайкой и кустами вокруг маленького источника. Трудный переход был окончен.
На этой стоянке мы несколько раз видели прилет больдуруков [51] на водопой. Эта птичка, называемая также пустынник, живет в пустынях Азии большими стаями в десятки и сотни штук. Она величиной с голубя, оперение буро-желтое с черными крапинами, брюшко белое. Особенно замечательны ноги, которые кончаются тремя короткими пальцами с мелкой чешуей и короткими когтями, похожими на копытца. Стая летит очень быстро, подобно урагану, резко приземляется, и птицы бегают, собирая семена пустынных растений, которыми кормятся. За день несколько стай прилетали, быстро пили воду из ручейка и разбегались по холмам и лужайке. На желтом с черным щебнем фоне пустыни их трудно заметить, если они прижмутся к земле. Все-таки мне удалось застрелить несколько штук, пока стая приземлялась. Это дало нам вкусный обед.
На следующем переходе дорога за холмами повернула на юго-восток и пересекла продолжение Тянь-шаня по широкому промежутку между двумя грядами.
Около полуночи мы встретились с шайкой Черного ламы. Она внезапно вынырнула из темноты и состояла из 5 человек на сухопарых верблюдах. Они окружили Лобсына и повернули весь караван вверх по долине, взяв у Лобсына, несмотря на его слова, что караван монгольский, поводок первого верблюда. Двое подъехали ко мне и конвоировали справа и слева. Я завел с ними беседу, рассказал, кто мы, куда едем, какой товар везем. Один ответил: «Темно, не видно ни вас, ни товара. Поедем в наш стан, там лама, наш начальник, посмотрит вас».
Мы ехали с полчаса вверх по долине. Горы по склонам ее становились выше, долина суживалась и превратилась в ущелье, по дну которого струилась вода небольшого ручья. Потом мы въехали в довольно широкую котловину среди гор, повернули на запад (судя по звездам) и вскоре оказались у какой-то стены и через узкие ворота, едва пропустившие завьюченных верблюдов, попали в небольшой двор. Мне и Лобсыну предложили спешиться, верблюдов и лошадей увели в глубину двора, а нас повели внутрь здания.
Мы попали в комнату, тускло освещенную сальной свечой, стоявшей на низеньком столе, поставленном на широком кане, покрытом прекрасным хотанским ковром. Заднюю часть кана занимала постель Черного ламы, который уже проснулся и сидел возле столика. Высокий лоб, мало выдающиеся скулы, почти прямой разрез глаз и прямой нос с горбинкой выдавали, что это не монгол, а тюрк или тангут [52]. Это подтверждала и довольно большая и густая черная борода, окаймлявшая смуглое лицо.
Войдя в фанзу, мы молча поклонились; мальчики, испуганные ночным нападением, держались за нами, выглядывая сбоку. Лама кивнул головой и сказал:
— Садитесь, почтенные купцы!
Впереди кана на двух глыбах камня лежала кривая доска, на которую мы с Лобсыном уселись; мальчики стояли за нами.
— Кто вы такие, откуда и куда едете, какой товар везете? — спросил лама.
Я сказал, что мы русские купцы из Чугучака, едем на Эдзин-гол, везем мануфактуру для обмена на сырье,
— Какие вы русские! Вы — монголы по лицу, по одежде! Почему вы выдаете себя за русских? Думаете, что Черный лама русских не обидит?
Я расстегнул свой теплый халат и достал наши паспорта, выданные консулом и написанные по-китайски и по-монгольски с печатями чугучакского амбаня.
Лама внимательно просмотрел их и сказал:
— Вижу, вы русские купцы. А зачем вы едете на Эдзин-гол? Там монголы бедные, а товаром снабжают их китайцы из Сачжеу. Вы там мало что продадите! Вы бывали уже там когда-нибудь?
— Нет, мы едем в первый раз. Мы уже десять лет ездим с товарами по монгольским монастырям и кочевьям, захотели посмотреть и Эдзин-гол.
— Оттуда можно попасть и в Куку-хото и в Дын-юань в Алашани, если не расторгуетесь у монголов. Только туда далеко и дорога трудная.
Отворилась дверь, и два человека втащили в фанзу один тюк с нашим товаром, быстро вспороли холст, в котором мануфактура была зашита, и подали ламе несколько штук ситцев, дабы, далембы [53].
— Есть ли у вас красное и желтое сукно для одежды лам, хорошая бумазея и китайские шелковые ткани? — спросил лама.
— Сукно такое и бумазею имеем, но шелковых тканей не возим, ими снабжают монголов китайские купцы, — сказал я.
— Несколько штук сукна и бумазеи я у вас возьму, достаньте их.
— Они в другом вьюке, который назначен для монастырей, а в этом их нет. Ночью трудно будет найти тот тюк.
— Ну, так вы, русские купцы, переночуйте у меня. Фанза у меня есть, кан чистый. Утром достанете, что нужно.
— Отведите гостей в другую фанзу и дайте им чаю, — приказал лама своим помощникам. — Вы не опасайтесь ничего, русские купцы! Черный лама не разбойник, — прибавил он. — Можете спать спокойно. Только у нас нет корма для лошадей. До утра они постоят, вы бы все равно до рассвета ехали, не так ли? Идите!
Мы поклонились и вышли вместе с обоими помощниками. Они провели нас по двору, открыли дверь и впустили в небольшую фанзу. Один из них начал высекать огонь, раздул фитиль и зажег огарок сальной китайской свечи, которую вынул из кармана. Фанза была чистая, кан также был покрыт ковром.
— Нам надо бы достать наши вещи с вьюка, — сказал я провожатому.
— Пойдем, достанем все, что вам нужно.
При свете свечи мы увидели, что один из разбойников типичный, монгол, а другой — тангут или тибетец.
— Фома, останься здесь с мальчиками, а я пойду с ними за вещами, — заявил Лобсын.
Он ушел с тангутом, а я остался с монголом и спросил:
— Нам говорили, что вы монголов не обижаете, правда ли это?
— Наш начальник монголов не трогает, а китайским купцам спуску не дает. Он мстит им за старые обиды. А вот русских купцов мы в первый раз видим.
Я рассказал ему, кто мы, зачем и куда едем. Спросил, давно ли они живут в этой пустыне.
— Четвертый год живем здесь.
— Китайские начальники в Хами и Баркуле, конечно, знают о вас. Они не посылали ли отряд солдат, чтобы поймать вас?
— Найти нас трудно. Мы останавливаем караваны ночью в разных местах дороги, сразу берем, что нужно — верблюда с вьюком, деньги и исчезаем в темноте. А проводники у китайцев — монголы, и они не станут рассказывать, где нас искать. Место пустынное, людей на двести ли [54] близко никого нет.
— А почему вы нас привели в свой дом? Мы вот узнали теперь дорогу к вам.
— Черный лама знал, что вы пойдете по этой дороге и велел вас привести к себе в гости. А гости никому не выдадут тот дом, в котором их хорошо принимали. Это — старый закон гостеприимства.
— Откуда лама знал о нас?
— У него в Хами и Баркуле и во всех селениях и кочевьях друзья есть и о ходе торговых караванов мы вперед знаем.
Вернулся Лобсын с нашими вещами, а монгол ушел, заявив: «сейчас принесу вам ужин».
Мы разложили вещи на кане. Мальчики сейчас же улеглись спать. Сначала они были очень встревожены ночным приключением и испуганно смотрели на чужих людей, которые остановили караван и про которых они слышали, что это — разбойники. Теперь, видя, что никто нас не обижает, они успокоились.
— Наши верблюды развьючены и уложены во дворе, лошади стоят под навесом, товар тоже сложен под навесом, — сказал Лобсын. — Эти люди, которых называют разбойниками, помогли мне найти вещи среди тюков и говорят, что мы — гости Черного ламы, а не пленники.
— И мне это сказал один, который остался со мной, — подтвердил я. — Нам бояться нечего, а Черный лама, наверно, даже заплатит за товар, который выберет.
Отворилась дверь, и монгол принес блюдо с горячим пилавом, а тангут — большой чайник с чаем, заправленным по-монгольски молоком и солью.
— Кушайте на здоровье, — сказал он, уходя. — Ложитесь спать, пока горит свеча. У нас другой нет, запас кончился.
Мы плотно поужинали и даже мальчиков разбудили ради пилава и чая с молоком.
— Даже молоко есть у них, — удивлялся Лобсын. — Неужели они корову держат здесь в пустыне и сами доят ее?
— Может быть, и женщины живут с ними и ведут хозяйство? — предположил я.
Остаток ночи мы спокойно проспали и, вероятно, спали бы долго, потому что в фанзе не было окна. Но нас разбудил вошедший монгол.
— Солнце уже поднялось, — сказал он. — Лама ждет вас у себя. У нас на дворе есть вода, кому нужно помыться.
Уходя, он оставил дверь открытой. Мы быстро вылезли из-под халатов и вышли во двор.
Он был окружен со всех сторон стеной, аршин десять вышины, словно крепость. Одну сторону внутри занимали четыре фанзы, судя по числу дверей; вдоль другой шел навес, под которым лежали наши тюки, но верблюдов и лошадей не было видно. У третьей стены стояла отдельная фанза, очевидно, кухня, судя по дыму, поднимавшемуся из трубы. Возле нее протекал ручеек чистой воды, выходившей из ямки в углу двора. Это показывало, что в случае осады крепости кем-либо население было обеспечено водой. В четвертой стене находились небольшие ворота с прочными створами, которые были открыты. Вдоль стены в нескольких кучах были сложены стволы саксаула, снопы чия, полыни и колючки — запасы топлива и корма для верблюдов.
— Хорошие хозяева здесь, — заметил Лобсын. — Все у них запасено в крепости, даже вода есть.
— А это что? — сказал я, указывая на кучу черного камня возле кухни. — Неужели земляной уголь?
Мы помылись у ручья и пошли к дверям одной из фанз, возле которой стоял монгол, очевидно, ожидавший нас.
— Ваши лошади и верблюды пасутся тут за стеной, — сказал он. — Только корм для лошадей у нас плохой, они не наедятся.
— У нас с собой есть горох, мы их подкормим, — пояснил я.
Мы вошли в фанзу ламы; она имела окно, заклеенное китайской бумагой, так что было светло. Лама сидел на кане возле столика, на котором дымилось блюдо с пилавом, стоял большой медный кувшин, очевидно, с чаем, и несколько чашек.
Войдя, мы поклонились и остановились у дверей.
— Доброе утро! — сказал лама. — Садитесь на скамью поближе ко мне, нужно позавтракать. Вы спали хорошо, надеюсь?
Я поблагодарил за ужин и за уход за нашими животными. Во время еды лама расспрашивал нас о Чугучаке, о наших торговых путешествиях, о России и русских обычаях и порядках. Я рассказал ему о раскопках в Турфане с немцами и о неудаче раскопок на реке Дям, о вещах, которые можно добыть в развалинах старых городов. Это его заинтересовало и он сказал:
— Возле Эдзин-гола в пустыне также есть развалины большого города, только до них трудно добраться, кругом сыпучие пески; воды возле города нет. Просите монгольского вана, чтобы он дал вам проводника, иначе вы города не найдете. Если вы побываете в нем, будете копать и найдете тибетские или китайские книги, привезите мне несколько, я люблю читать старые сочинения. В Баркуле и Хами книг достать почти нельзя.
После завтрака мы разыскали среди наших товаров тюк с красным и желтым сукном и бумазеей и притащили его в фанзу, развязали и показали ламе. Он остался доволен товаром, отобрал несколько штук и сказал:
— Тут в пустыне не так далеко есть небольшой монастырь. Гэгена в нем нет, богомольцев приходит мало, ламы совсем обнищали, ходят в лохмотьях. Я хочу послать им эти материи, чтобы они к зиме оделись потеплее.
Потом он спросил цену, быстро подсчитал итог на китайских маленьких счетах и сказал: — Если я заплачу вам сразу все серебром, вы сделаете уступку, как полагается при наличном расчете?
Лама, очевидно, хорошо знал условия торговли русских купцов с монголами. При отдаче товара в кредит до будущего посещения через год цена, конечно, другая, чем при уплате сразу. Я сказал, что при наличном расчете уступаю 30% монголам и 20% китайцам.
— Почему ты уступаешь китайцам меньше?
— Потому что они покупают для перепродажи, а монголы для себя. А тебе, так как ты покупаешь ткани для подарка бедным ламам, я уступлю еще 20% и отдам по той цене, по которой покупаю его сам в России.
— Что же, я принимаю эту уступку и передам ламам, что ты пожертвовал им часть материала для одежды, — сказал Черный лама с улыбкой. — Но лучше будет, если ты возьмешь с меня, сколько следует, а прибавишь товара на эти 20%'.
Я удивился деликатности этого человека. Мы были в его полной власти, он мог взять все, что ему понравится, и ничего не заплатить. Поэтому я, конечно, согласился и отобрал еще несколько штук того сорта, который указал лама.
Подсчитав все, что следовало, лама достал из ящика, стоявшею на кане, мешок со слитками серебра и китайские весы и аккуратно отвесил мне стоимость купленного.
— Вам нечего торопиться с отъездом, — заявил он. — Проведете день у меня, а под вечер поедете, я дам вам проводника до хорошей воды и корма в 20 ли отсюда, в месте, которое мы одни знаем. Там вам нужно будет переночевать и пробыть завтра до послеполудня, потому что дальше опять большой переход через Гоби и нужно подкормить животных.
— А можно ли посмотреть окрестности вашей крепости, чтобы найти ее на обратном пути? — спросил я.
— Конечно, можно, если вы ручаетесь за вашего монгола, что он не сообщит никому о нашем доме.
— Это — мой компаньон по торговле, — сказал я. — Я знаю его с детства, он убежал из монастыря и был нищим, я его приютил и приучил к работе; он — прекрасный проводник. Вот мы шли по этой дороге, по которой он раньше не ходил, а он ведет нас уверенно, только в Баркуле и Бае расспросил насчет воды и корма и характера местности.
Лобсын во время моего расчета с ламой вышел, почему я мог говорить о нем свободно. Лама заинтересовался его биографией.
— Я расспрошу его о монастыре, в котором он учился, — сказал он. — А теперь пойдем, посмотрим наши горы.
Мы вышли из фанзы. Лобсын разговаривал на дворе с двумя из людей Черного ламы. Мальчиков он уже после завтрака послал присматривать за животными на пастбище, а теперь присоединился к нам. Выйдя из ворот, мы очутились в неширокой, но довольно длинной долине между голыми скалистыми грядами. По дну долины росли кустики полыни, колючки, кое-где пучки чия, так что верблюды находили себе пищу, и только лошади с унылым видом переходили от пучка к пучку и обрывали более тонкие верхушки уже совершенно пожелтевшего чия, стебли которого очень жестки, как твердая солома. На самой высокой вершине южной гряды, недалеко от крепости, я заметил черную кучу и спросил ламу, что это за обо.
— Это — наш караул, — сказал он. — С этой вершины далеко видно в обе стороны и можно заметить издалека караван. Китайские купцы стали теперь проходить эту местность днем во избежание наших нападений ночью. Поэтому их надо высмотреть своевременно.
Пройдя немного дальше вверх по долине, я заметил на склоне отверстие, похожее на устье штольни, и спросил о нем.
— В этих горах есть земляной уголь, — сказал лама, — и мы добываем его понемногу для отопления наших фанз. Аргала у нас мало, саксаул, который ты видел во дворе, приходится привозить издалека, и мы бережем его на всякий случай.
— Лошадей у вас, вероятно, нет? — спросил я. — В этой долине корму мало.
— Очень мало; у нас только одногорбые верблюды-бегуны. И чтобы сберечь для них корм в долине на зиму, мы летом, когда караваны почти не ходят, пасем их за горами на степи. У вас, конечно, есть зерно для лошадей?
— Конечно, есть, горох. Только его нужно распарить в горячей воде.
— Скажите моим людям, они сделают.
Погуляв по долине, мы вернулись к крепости, и я заметил, что она была выстроена в таком месте, что ее трудно было бы обстрелять из пушек. Она занимала весь восточный конец долины, почти замыкая выход из ущелья в южной гряде. Из этого выхода завьюченный верблюд еле-еле проходил к воротам крепости, расположенным немного левее, а за воротами скалы подступали так близко к стене, что оставался только проход для человека или верблюда без вьюка, который вел в остальную часть долины. Таким образом, даже легкую пушку нельзя было бы протащить через этот проход в долину, чтобы обстрелять крепость с этой западной стороны издалека. Ворота были совершенно защищены от обстрела, а крутые склоны и зубчатые гребни обеих гряд, окаймлявших долину, делали очень трудным, если не невозможным, втаскивание пушек даже на седловины, чтобы обстрелять крепость сверху. Следовательно, оставалось только обстреливать крепость навесным огнем издалека, с окружающих равнин, не видя ее, что было весьма сомнительно по состоянию китайского войска в это время. От обстрела из ружей с вершин обеих гряд крепость, конечно, не была гарантирована, но пули гладкоствольных ружей не могли бы пробить даже глинобитные стены фанз, не говоря уже о толстых стенах самой крепости, на гребне которых были бойницы для стрелков.
Около полудня нас пригласили на обед к ламе. Подали опять блюдо пилава и чай с молоком и солью. Во время прогулки по долине я заметил нескольких пасущихся бараНов и коз, вместе с верблюдами, и теперь спросил хозяина, как он достает мясо и молоко.
— Иногда отнимаем у китайцев, когда они гонят с Эдзин-гола в Баркуль и Хами гурты баранов и коз, иногда доставляет нам баранов один хороший монгол, — сказал лама. — Но молоко это — верблюжье, у нас есть хорошая верблюдица.
К чаю мы захватили с собой своих сухарей и китайских печений, так как заметили, что у хозяев имеется только дзамба.
— У нас бывает иногда даже свежий хлеб, — заметил лама по поводу нашего угощения, но сейчас запас муки кончился. — Нет ли у вас лишней, я вижу, вы люди запасливые?
Я сказал, что мы везем муку для баурсаков и лапши и что фунтов 15 я смогу уступить в расчете, что у монголов на Эдзин-голе мука найдется.
— Это будет очень приятно! — ответил лама.
За чаем я спросил, чем обусловлена его ненависть к китайцам.
— Пять лет назад я дал обет мстить китайским купцам и чиновникам за своего отца, сестер и брата и отнимать у них деньги, чтобы выкупить сестер и брата из неволи. Тебе я могу рассказать, как это случилось.
Семья моя родом из Нань-шаня; там в горах живут рядом монголы хараёгуры и тангуты шира-ёгуры, и отец у меня тангут, а мать монголка. Семья наша была бедная, и отец охранял табун коней китайского амбаня города Гань-чжоу, которые паслись возле нашего улуса. Меня, старшего сына, отец отдал в большой монастырь Чертынтон на реке Тэтунг, и я стал ламой. Вместе с монгольскими богомольцами я поехал в Лхасу и пробыл там в обучении в монастыре далай-ламы [55] два года. Вернувшись оттуда, я посетил свою семью, но не застал никого. Оказалось, что амбань получил место начальника в Улясутае и взял туда моего отца вместе с семьей и табуном для той же службы. Полгода спустя меня послали в один из монастырей Хангая, так как я хотел жить ближе к своей семье. Я побывал в Улясутае у амбаня и от его чиновников узнал ужасную историю. В первую же зиму после переселения отца случилась страшная гололедица в той местности, где он пас табун амбаня. Ты, конечно, знаешь, что в Монголии гололедица зимой — ужасное несчастье. Скот пасется и зимой на подножном корму, потому что сена монголы не имеют. Когда трава покрыта толстым слоем льда, скот не может добывать себе пищу и гибнет в большом количестве от голода. Слой льда в этот раз был такой толстый, что даже кони не могли разбивать его своими копытами. Мороз держался, кони худели, начали падать. Отец пришел в отчаяние и погнал табун в Улясутай, где у амбаня был запас сена. Но было далеко, и по пути пало еще много лошадей. В Улясутай отец пригнал только треть табуна. Амбань рассвирепел, и хотя отец был невиновен в несчастии, его посадили в тюрьму, в грязную яму, где он вскоре умер, а двух сестер и брата, красивого мальчика, амбань отправил в Пекин и продал богдыхану, сестер в гарем, а мальчика в рабство, чтобы покрыть убытки, причиненные отцом. Когда я узнал это, я дал обет: взять у китайских купцов силой деньги, чтобы выкупить пленников у богдыхана. В монастырь, куда я был послан, я не вернулся, а мало-помалу составил отряд из монголов и тангутов, также так или иначе обиженных китайскими властями, и построил с ними эту крепость близ караванной дороги. Вот с тех пор, четвертый год мы и живем здесь в пустыне. Но через год или два у меня, может быть, будет довольно денег, чтобы ехать в Пекин и снабдить своих помощников небольшими деньгами для обзаведения юртой, скотом и семьей.
Мы выслушали этот рассказ с большим вниманием и не могли не извинить деятельности Черного ламы, пострадавшего от такого произвола китайского амбаня.
— А много ли у тебя помощников? — спросил я.
— Немного, ты почти всех видел. Их шесть человек, но один старый и большей частью остается дома, готовит нам пищу, пасет верблюдов.
— Где же вы сбываете товары?
— В Баркуле и Хами у меня есть доверенные купцы, которые принимают от нас товар, конечно, с большой уступкой.
— А выдать тебя амбаням они разве не могут?
— Не посмеют, а место нашей крепости, они, конечно, не знают. И товар им привозят не мои люди, а посторонние монголы, которые получают его от нас в условленных местах в пустыне.
Часа в три пополудни лама сказал нам, что пора отправляться. Лошади были уже накормлены горохом, верблюды наелись. При помощи людей ламы мы быстро навьючили их; один тюк с товаром заметно уменьшился, и мы положили его на верблюда, который обнаруживал признаки усталости.
Мы очень дружески простились с ламой, благодарили его за гостеприимство и обещали завернуть к нему на обратном пути и привезти книги, если найдем их в Хара-хото, и муки с Эдзин-гола. Верблюдов вывели по одному через ворота в начало ущелья, где построили караван, во главе которого рядом с Лобсыном поехал на своем скаковом верблюде один из монголов ламы.
С четверть часа мы ехали вниз по ущелью, и я при дневном свете заметил, что оно делает несколько зигзагов, что удобно для отражения нападающих из засад. Лобсыну монгол-вожак сообщил, что он открыл и указал это прекрасное место для тайной крепости в пустыне; в этих диких бесплодных горах никто не мог предполагать наличие воды и корма так недалеко от караванной дороги. Вода, вытекавшая из-под стены крепости, быстро исчезала в наносе дна ущелья, которое ближе к караванной дороге было сухое, расширялось и ничем не отличалось от других соседних ложбин.
Выйдя на караванную дорогу, мы ехали по ней часа два в виду все той же скалистой гряды продолжения Тянь-шаня, то почти в виде холмов, то представлявшей живописные острые вершины. Потом вожак неожиданно свернул влево вверх по мало заметной сухой ложбине, тянувшейся из группы острых вершин той же гряды. Ложбина углублялась, и на окраине группы перешла в ущелье, в котором появились кусты тальника, доказывавшие присутствие воды. Ущелье привело нас в небольшую котловину среди гор с прекрасной лужайкой, кустами и даже несколькими тополями — отличное место для ночлега, также совершенно незаметное с караванной дороги, но для больших караванов неудобное своими небольшими размерами. Для нас же корма было довольно, тем более, что трава не была потравлена, а топлива достаточно.
Солнце уже садилось, и проводник простился с нами, хотя мы предлагали ему остаться на ночлег.
— Начальник велел мне вернуться к ночи назад, — сказал монгол. — Он ждет ночью китайский караван из Хами и все люди ему нужны. На своем скакуне я через час буду уже дома.
В этом уютном скрытом уголке мы спокойно переночевали. На рассвете Лобсын взобрался на одну из вершин, с которой видна была караванная дорога; его разбудил отдаленный звон боталов, и ему захотелось посмотреть караван, который ночью подвергся нападению Черного ламы. Он, действительно, увидел его и насчитал 80 верблюдов и человек 12, частью ехавших на верблюдах, частью на ишаках, но издалека не мог определить, ехали ли монголы или китайцы.
Мы провели на этом месте большую часть дня: лошади и верблюды хорошо подкормились на лужайке перед трудным переходом, а мне удалось поохотиться. На скалистых склонах котловины, редко посещаемой людьми, ютилось несколько стаек кекликов [56], горных курочек; птенцы уже совершенно выросли, но все еще слушались голоса матери. Они бегали по склону между камнями, поклевывая зёрна. Когда я поднимался к ним, мать, вскочив на камень, подавала тревожный клекот, и все птенцы разбегались и прятались под камнями или за ними. А когда я подходил ближе, вся стайка по другому призыву вспархивала и перелетала на противоположный склон котловины. Мне пришлось несколько раз перебегать с одного склона на другой, выслеживая птиц, в чем мне с азартом помогали оба мальчика, тщетно пытавшиеся поймать какого-нибудь кеклика руками. За два часа охоты все-таки удалось подстрелить десяток. Лобсын предложил мне взять в помощь нашу собачку, но она только мешала, бегала слишком быстро и вызывала переполох в стайке и слишком быстрый взлет ее.
Поздно вечером к ключу, сочившемуся по лужайке, вероятно приходили на водопой горные козлы куку-яманы [57], которые встречаются в таких скалистых пустынных горах. Но мы не могли ждать до ночи и в три часа тронулись в путь, в трудный переход через Гоби. Напоили животных, наполнили бочонки и выехали на караванную дорогу. Этот переход мы выполнили, как и прошлый, с ночной остановкой на 3 часа в пустыне без развьючки и разбивки палатки, но для лошадей привезли несколько пучков тростника, срезанного на лужайке, а для огня — хворосту. На следующий день только часам к десяти мы закончили переход и остановились в широкой ложбине с большой луговиной по берегам ручейка, но сильно потравленной шедшим впереди нас караваном, следы стоянки которого были еще свежи. Пройденная Гоби имела такой же характер черной мелкощебневой пустыни, как описано выше.
На дальнейшем пути до Эдзин-гола, продолжавшемся еще 7 дней, больших безводных переходов уже не было, но местность имела тот же унылый характер. Слева, т. е. на севере, тянулись скалистые гряды продолжения Тянь-шаня с более или менее широкими перерывами. Справа, на юге, появились вдали отдельные группы горок или целые гряды Бей-шаня, который отделяет Тянь-шань от пояса оазисов подножия Нань-шаня и на западе доходит до Эдзин-гола.
Промежуток между теми и другими горами, по которому шла караванная дорога, представлял в общем пустынную равнину, всхолмленную плоскими увалами ближе к северным горам, со скудной растительностью, покрытую черным щебнем. Несколько раз дорога пересекала еще полосы черной Гоби, совершенно бесплодной, но не такие широкие, как две уже пройденные, так что мы проходили их в один ночной переход.
Один раз на переходе нас застигла сильная буря. На рассвете легкий ветер, дувший почти в спину нам в течение ночи, быстро усилился и налетал порывами, приносившими с собой целые тучи пыли и мелкого песка. Мелкий щебень, покрывавший почву Гоби, при этих порывах приходил в движение, перекатывался, перепрыгивал по земле, даже взлетал невысоко в воздух. Мы ехали, конечно, в шубах, а теперь пришлось защитить уши и глаза от пыли клапанами наших монгольских шапок. Мальчики, укрывшись шубами, совсем скрылись между вьюками.
Небо было безоблачно, но совершенно серо от пыли, заполнившей воздух, и поднявшееся солнце еле было видно на горизонте в виде красного круга без лучей. Но так как ветер дул сзади, он не задерживал нашего движения, даже подгонял животных, и к девяти часам утра мы закончили переход и остановились в небольшом оазисе среди голых холмов. Быстро развьючили верблюдов и уложили их среди зарослей чия спиной к ветру, лошадей оставили под седлами, а сами, укрывшись шубами, приютились между тюками, из которых устроили стенку, защищавшую от ветра. Разбить палатку и развести огонь не было возможности, и мы проспали часа два или три, пока буря перед полуднем не затихла. Тогда животные были отпущены на пастбище, палатка разбита и на огне варился сразу и чай и обед.
Под вечер, захватив ружье, я пошел побродить по холмам вокруг оазиса в надежде подстрелить зайца или кеклика. Вскоре склоны холмов обратили на себя мое внимание. На них темнели такие же большие ниши, которые я впервые увидел у реки Аргалты в Джаире во время поездки за зарытым золотом, но потом наблюдал не раз на гранитных холмах. Одна ниша уже лишилась своего свода и представляла как бы глубокое кресло с высокой спинкой и боковыми ручками, словно нарочно приготовленное для отдыха путника. Я уселся в него и в своем желтом монгольском халате, очевидно, сделался незаметным, так как, немного погодя, по ложбине между холмами ко мне спокойно подошли три антилопы, направлявшиеся на вечерний водопой к источнику. Когда я пошевелился, вскидывая ружье к плечу, они остановились на мгновенье шагах в двадцати от меня, подняли головы и растопырили уши. Я, конечно, воспользовался этим и выстрелил; первая антилопа упала, убитая наповал, остальные, конечно, скрылись большими скачками через холмы.
Если бы я не уселся в нишу, а продолжал итти по ложбине, антилопы заметили бы меня издали и не дали бы подойти. Довольный удачной охотой, я потащил добычу к палатке. Лобсын, рассмотрев антилопу, воскликнул: — Это не дзерен, это хара-сульта [58]!
— А какая между ними разница? — спросил я.
— Смотри, у этой кончики рогов только немного загнуты внутрь, а у дзерена — загнуты больше. Хвостик у дзерена желтый, как все тело, а у этой — черненький. Поэтому ее и зовут — чернохвостая.
— А мясо у них одинаковое, надеюсь?
— Одинаковое, но хара-сульту монголы почему-то больше уважают, может быть, потому, что она попадается реже.
Антилопу пришлось освежевать и положить на вьюк. Рога я взял себе, а шкуру спрятал Лобсын, со словами:
— Вот тебе будет коврик к кровати, когда мы выделаем его дома.
Из-за этой задержки мы выступили в путь немного позже, когда солнце уже село.
Этот переход был, впрочем, небольшой, и после ночного отдыха без развьючки мы уже на рассвете пришли к месту следующей стоянки, где обед и ужин у нас были замечательные — суп с диким луком, жареная печенка, шашлыки.
На последнем ночлеге перед поворотом дороги на юг к озерам в низовьях Эдзин-гола нас чуть не посетили нежданные гости.
Мы только что прибыли на место, развьючили верблюдов, расседлали лошадей, но еще не отпускали их на пастбище. Палатку не ставили, а развели огонек, чтобы скорее сварить чай и согреться после ночного холода. Солнце еще не взошло, чуть рассветало. Мы сидели у огонька, верблюды лежали, лошади стояли среди высокого чия, так что издали мы совсем не были видны. Вдруг оба мальчика и Лобсын подняли головы и прислушались.
— Сюда скачут кони с восхода, — сказал Лобсын. — Не дикие ли?
Теперь и я расслышал топот многих копыт по щебню пустыни, схватил ружье, проверил, заряжены ли оба ствола пулями и притаился за ближайшим снопом чия. По пустыне рысью бежало штук тридцать животных, но как раз на фоне ярко освещенного восходящим солнцем горизонта, так что видны были только темные силуэты. Они были еще шагах в трехстах от меня.
— Ну, это куланы! — воскликнул подошедший Лобсын.
— Почему ты знаешь?
— Дикие лошади такими табунами не бегают. Жеребец ведет за собой штук 5-7 кобыл, редко 10. А куланы ходят табунами в 20-30 голов и больше.
Но куланы, очевидно, уже почуяли запах дыма от нашего костра, перешли на шаг и, наконец, остановились шагах в шестидесяти от нас, подняли головы и уши. Вожак храпел, бил копытом, очевидно сердился, что нельзя подойти к водопою, вблизи которого мы расположились. Теперь можно было различить, что уши у них длиннее, чем у лошадей, а хвосты, которыми они размахивали, очень жидкие. Хотя расстояние было велико для моего ружья, я все-таки выстрелил. Весь табун шарахнулся и круто повернул вправо, на север, где поднимались высокие холмы. На месте, где он стоял, кружился только столб пыли.
— Не подойдут ли они позже еще раз? Им ведь хочется пить, — спросил Очир.
— Навряд ли! Если бы Фома не стрелял, — они бы, может быть, пришли, а теперь напуганы и попытаются притти разве ночью.
Остаться на ночь мы не могли. Нам предстоял большой безводный переход на юг от холмов, где мы стояли, к нижнему течению Эдзин-гола.
Еще днем с вершины высокого холма возле стоянки мы с Лобсыном осмотрели характер местности, по которой предстояло итти ночью. Холмы оканчивались недалеко на юг и дальше тянулся огромный бэль — черная пустыня, понижавшаяся мало-помалу и изборожденная желтыми лентами сухих русел. Вдали бэль упирался в гряду мелких холмов, за которыми едва можно было различить в двух местах серебристую поверхность озер — справа Гашиун-нура, слева Сого-нура, в которые впадали рукава реки Эдзин-гол. У озер ночевать нельзя было: вода в них горько-соленая и подойти к воде нельзя — берега окаймлены широкой полосой вязкого ила, как сообщили нам монголы Черного ламы. Мы должны были пройти между озерами к тому рукаву реки, который впадал в Сого-нур, и только там могли найти воду, корм и топливо. Выступив после заката, мы должны были итти по бэлю, около, полуночи добраться до холмиков, сделать там привал часа на два и затем на рассвете пройти между озерами и после восхода солнца добраться до реки.
Так мы и сделали; в сумерки вышли из холмов нашей стоянки, отшагали верст 25 по черной бэли, медленно спускаясь по ней, остановились среди холмиков, где весной, по распросам, могли бы найти воду маленького источника, летом пересыхавшего, и кое-какой корм, потом продолжали спускаться в обширную впадину обоих озер, на рассвете были в промежутке между ними и часов в девять утра остановились на берегу небольшого потока грязножелтой воды, окаймленного кустами тамариска и зарослями тростника. Топлива в виде засохших кустов тамариска на песчаных буграх в стороне от русла было довольно; тростник, еще зеленый, давал достаточно корма, но вода, хотя и пресная, была так переполнена желтым илом, что нам пришлось устроить фильтр из чистого платка, чтобы получить только сносную по чистоте воду для чая и супа.
Так как наши мальчики, сидя на вьюках, прекрасно выспались ночью, они на стоянке сразу же после чая отправились пасти животных, а мы с Лобсыном легли в палатке спать, доверяя собачке караулить весь стан.
Нам теперь нужно было найти монголов, узнать у них, где ставка их князя, посетить последнего, чтобы распродать товары, узнать точно, где расположены развалины города Хара-хото, и выяснить возможность раскопок. Искать монголов ночью в незнакомой местности не имело смысла; следовательно, отпадала надобность в ночных переходах и мы могли отправиться на поиски днем.
Спустя часа два после полудня мы, выспавшись, начали готовить обед, для которого имелось еще мясо хара-сульты. Вдруг собачка залаяла, послышались голоса, и к палатке подъехали два монгола, поздоровались, конечно, спешились и присели возле нашего огонька, на котором уже висел котел с супом. Начались обычные расспросы, и мы, удовлетворив их любопытство, узнали, что река, у которой мы стоим, называется Ихз-гол и впадает в озеро Сого-нур, которое имеет не очень соленую воду, — верблюд пьет ее, конь неохотно, — потому что весной из него образуется небольшой сток в озеро Гашиун-нур — самое главное и большое, т. е. вода отчасти освежается. Ставка князя — на берегу Ихэ-гола — не так далеко, в день легко доехать. Развалины Хара-хото находятся среди песков к востоку от Ихэ-гола, в одном переходе от ставки князя; там близко воды нет. Прежде, когда в городе еще жили люди, вода была, туда протекал самый восточный рукав Эдзин-гола Кундулен-гол. Монголы боятся ездить в развалины города: нечистые духи живут там.
Гости долго сидели у нас; пришлось угостить их обедом и чаем, но зато мы узнали, что народ на Эдзин-голе не так беден, как о нем говорили, но князь очень скупой и обирает своих подданных. Товары доставляют им китайские купцы из Гань-чжоу поздней осенью, когда скот нагулялся за лето и имеются также шерсть и кожи для обмена.
Удивили нас монголы сообщением, что в Сого-нуре водится даже рыба с красными плавниками, как у карася. Монголы ее не ловят и не едят, но зимой приезжают китайцы из г. Момин, ловят ее сетями из-под льда и увозят мороженую домой.
Перед закатом гости уехали — их юрты стояли выше по реке, откуда они и заметили наших пасшихся верблюдов и, конечно, поехали разведать, что за народ появился на их земле, поговорить, узнать всякие новости.
Ночью, пригнав животных к палатке, мы поочередно караулили. Хотя монголы Эдзин-гола были такие же торгоуты, как Лобсын, но никто не мог поручиться, что ночью они не попытаются ограбить приезжих, прежде чем последние передвинутся к ставке князя и, так сказать, под его защиту в качестве гостей. Но ночь прошла спокойно, и утром один из вчерашних монголов приехал к нам, чтобы показать прямую дорогу к ставке князя. Это было нелишнее потому, что рукав Ихэ-гол местами делал извилины, которые можно было спрямлять, а местность по его берегам представляла много песчаных холмов, заросли тамариска и саксаула, кое-где чия; по ним пролегало много троп, и без проводника легко можно было сбиться с прямого пути.
По такой неровной и заросшей местности мы ехали часов пять; потом холмы стали низенькие и редкие, деревья и крупные кусты исчезли, пучки чия были обглоданы — мы приближались к ставке князя. Наш проводник поскакал вперед, чтобы предупредить о нашем приезде. Вскоре мы увидели четыре хорошие юрты друг возле друга и немного в стороне еще одну. Проводник вернулся к нам и повел нас к этой юрте, которую князь велел поставить для приезжих. Оказалось, что наши вчерашние гости уже успели сообщить своему князю о чужестранцах.
В юрте было, конечно, удобнее, чем в палатке; мы уложили в ней все тюки с товаром. Разгрузившись, я и Лобсын почистились, надели новые халаты и отправились к князю, оставив вещи и животных под надзором мальчиков.
Князь принял нас в парадной чистой юрте из белых войлоков с ковровой дверью. Пол был устлан коврами, привезенными из Хотана в Синь-цзяне, судя по их цветам и узорам. Князь сидел на небольшом возвышении — толстой ковровой подушке; это был юноша лет восемнадцати-двадцати, не больше, хорошо упитанный, румяный; на голове китайская шляпа с голубым стеклянным прозрачным шариком, что указывало на сравнительно невысокий его чин. Возле него на ковре сидел старенький лама со сморщенным лицом и большими китайскими очками — очевидно, советник молодого князя и бывший его учитель.
После поклонов до пояса, как полагалось у монгольских князей для гостей, не подчиненных им, мы поднесли князю большой шелковый хадак [59] (длинный платочек), ламе — поменьше, и подарки: бинокль, часы-будильник и игрушку — калейдоскоп, которые были у меня запасены для такого случая. Нас усадили на плоские подушки против князя, поставили возле нас низенький столик и подали всем чай в китайских чашках с крышками. У дверей встало несколько монголов.
После обычных вопросов о здоровье скота и людей, благополучной дороге, князь спросил о цели нашего посещения? Я рассказал, что давно уже торгую русской мануфактурой в Монголии, побывал в Кобдо, Улясутае, Баркуле, Урумчи, во многих монастырях и, наконец, решил посетить кочевья торгоутов на Эдзин-голе.
— Мои монголы бедные, — предупредил князь, — и я также небогатый человек, и вы здесь продадите немного. А путь на Эдзин-гол — длинный и трудный, и вы, конечно, захотите получить хорошую цену за ваши товары.
Я разъяснил, что приехал в его владения также с целью посмотреть древний город Хара-хото, порыться в развалинах, и, если я найду там интересные вещи, это окупит мне дорогу и слабый сбыт товара.
— А какие вещи ты особенно ищешь в древнем городе, — конечно, золотые монеты, драгоценные камни — ожерелья, браслеты, серьги и другие дорогие женские украшения! — воскликнул князь, переглянувшись с ламой. — Такие вещи люди уже не раз искали в Хара-хото, но находили очень и очень редко, большею частью уезжали с пустыми руками, затратив много труда на раскопки. Это я слышал от моего отца и старых людей.
— Меня больше всего занимают старые печатные книги и рукописи тибетские, тангутские и китайские, — заявил я, — также старые картины на шелковой ткани, рисунки богов на стенах, изображения их из камня, глины и металла. Эти вещи у меня покупают ученые люди, которые изучают старинные верования и жизнь древних людей.
Я рассказал князю о русских музеях и библиотеках, об экспедициях Академии наук на развалины Каракорума на реке Орхон, о немецком ученом, раскапывавшем развалины в Турфане. Это заинтересовало князя, и он сказал, что такие вещи мы, может быть, найдем в Хара-хото, но так как мы ими торгуем сами, то правильно будет, если заплатим ему за право их вывоза с Эдзин-гола.
После довольно длинных разговоров князь согласился дать нам проводника в Хара-хото и право раскопок, за что я должен был передать ему верблюжий вьюк мануфактуры бесплатно, а остальной товар, сколько он захочет купить, уступить ему со скидкой в зависимости от ценности вещей, которые мы добудем раскопками. Князь заявил, что золотые монеты и драгоценные камни не трудно оценить как следует, а книги, посуду, бурханов он будет расценивать нам недорого.
Пришлось согласиться на эти условия, так как мы всецело были в руках князя и могли получить доступ в Хара-хото только при его помощи. Ведь, в сущности, он мог забрать весь наш товар бесплатно, а нас просто выгнать из своих владений.
Когда мы сторговались, лама посоветовал поехать в Хара-хото только с верблюдами, оставив лошадей у князя.
— Каждая лошадь пьет воды столько, сколько пьют четыре человека, — заявил лама. — В Хара-хото воды нет, и придется вам привозить ее туда для себя издалека. Верблюды будут ходить один раз в три дня к реке за водой для вас и при этом сами напьются вволю.
Этот совет был правильный, и мы решили выступить на следующий день на верблюдах, оставив весь товар в отведенной нам юрте, а лошадей — в табуне князя. Это гарантировало наше возвращение к нему для расчета за товары по результатам раскопок.
На следующий день мы выехали вчетвером в сопровождении монгола, знавшего дорогу в Хара-хото, который поехал на княжеском верблюде. Везли с собой воду в своих бочонках и во второй паре, которую взяли у князя, а также лопаты, кайлу, палатку, запас сухарей, баурса-ков, муки, крупы, масла, чая на две недели. В качестве живой провизии погнали с собой четырех баранов. Для вывоза выкопанных вещей князь дал нам несколько больших корзин, сплетенных из прутьев тальника, а для укупорки их у меня были сверток китайской оберточной бумаги и штука коленкора низшего качества. Корзины монголы изготовляли для китайцев, приезжавших зимой за рыбой на Сого-нур; в корзинах они увозили мерзлую рыбу. Без этого счастливого обстоятельства нам пришлось бы книги и вещи, добытые при раскопках, увозить в простых мешках. Последние также пришлось взять с собой, так как корзин хватило только для семи верблюдов. В корзинах и мешках мы везли, кроме провианта, одежды и инструментов, также пучки свежего тростника для верблюдов, так как подножный корм возле Хара-хото, по словам монголов, был очень скудный.
Против ставки мы перешли вброд через Ихэ-гол, который был здесь неширок, всего 6-7 сажен, и неглубок — до колена верблюда; но дно было довольно вязкое, илистое, а вода — густая и бурая, как кофе с молоком. В ставке воду для питья брали не из реки, а из колодца в наносах; просачиваясь через них, речная вода становилась почти бесцветной. За бродом мы пошли почти прямо на юг по бугристым пескам со скудной растительностью, что объяснялось соседством ставки, требовавшей много топлива. С удалением от нее кусты становились крупнее, появились деревья тамариска и саксаула. До Хара-хото от реки шли почти пять часов, миновали, наконец, бывшее русло последнего восточного рукава Эдзин-гола, не шире Ихэ-гола. По руслу валялись сухие стволы деревьев, засыпанные песком. Уже приближаясь к нему, мы вдали увидели стены Хара-хото с отдельными башнями; те и другие довольно сильно пострадали от дождей, ветров, морозов и жары. Зубцы на стенах почти исчезли, башни округлены. Из-за стены видны были высокие субурганы, также сильно обветренные. Субурганы, похожие на цилиндрические суживавшиеся кверху башни, мы встретили уже у самой дороги, не доезжая прежнего русла. Северная стена города в разных местах была засыпана песком до самого гребня, так что мы легко поднялись на нее и по песчаному же откосу спустились внутрь Хара-хото.
Выбрав более ровную площадку среди города, под защитой стены какого-то дома мы устроили свой стан, разбили палатки, сложили вещи, бочонки с водой укрыли мешками от солнца и от верблюдов, которые могли их опрокинуть.
В городе повсюду были плоские песчаные бугры, наметенные под защитой остатков стен домов и поросшие кое-где травой и кустами; но и корма и топлива было мало. Поручив мальчикам варить чай, мы втроем обошли развалины для общего обзора.
Стены, высотой в 3-4 сажени и толщиной 2-3 сажени внизу и 1-1Ѕ сажени вверху, окаймляли прямоугольник, длиной с запада на восток в 200 сажен и шириной с севера на юг в 180 сажен, вмещавший внутреннюю часть города. Видны были продольные и поперечные улицы, вдоль которых тянулись развалины глинобитных домов в виде стен или плоских бугров. В последних сохранились еще остатки плоских крыш из соломы, цыновок и деревянных стропил с подпорками, покрытых глиной и более или менее засыпанных песком. Кое-где поднимались субурганы и остатки более высоких и крупных домов, но также глинобитных, и основания храмов, сложенные из желтого тяжелого обожженного кирпича. Улицы и внутренности домов были усыпаны песком, разным мусором, обломками кирпича и черепками глиняной посуды. Вне городских стен также были субурганы и развалины отдельных домов, особенно на западной и южной сторонах.
Вернувшись к палаткам, мы пообедали, а затем мальчики под моим руководством составили общий план города, а Лобсын с ламой осмотрели развалины вне городских стен. Этой работы нам хватило до заката солнца. Верблюды в это время паслись среди развалин. На ночь мы уложили их внутри стен одного дома с выходом только в одну сторону, мимо наших палаток, так что они не могли выйти, не потревожив нас.
На следующий день мы начали раскопки. Для систематического обследования, подобного тому, какое немцы делали в Турфане, времени у нас не было, и мы решили копать наугад в разных частях города, разделившись на две партии: я — с Очиром, Лобсын — со своим сыном. Лама помогал то одной, то другой: ведь его задачей было видеть, что мы добываем.
Так мы проработали два дня с утра до вечера с небольшим перерывом на обед. Погода была не жаркая, тихая, небо облачное, что способствовало работе. На третий день лама с сыном Лобсына и всеми верблюдами отправился кратчайшим путем к Ихэ-голу, чтобы напоить животных, привезти нам воды в бочонках и нарезать тростника. До реки прямо на запад оказалось около 10 верст, так что, выехав с восходом солнца в 7 часов, они к полудню вернулись назад. Поездки за водой потом повторялись через день.
Раскопки в разных местах города дали разнообразные предметы: бурханы буддийских божеств бронзовые; многочисленные «цацы» — глиняные обожженные изображения этих божеств трех видов; бумажные китайские деньги (ассигнации); книги и рукописи китайские, тибетские, тангутские и персидские; черепки — фарфоровой и глиняной посуды, медные китайские монеты (чохи [60]), металлические чашечки для жертвоприношений и курений; изображения буддийских божеств красками на шелковой и полотняной ткани. Подобные же изображения (фрески) на стенах храмов, конечно, нельзя было увезти; с них Очир, научившийся у меня рисовать цветными карандашами, сделал несколько неплохих зарисовок. Нашли несколько золотых легковесных монет грубой чеканки и десятка два серебряных и медных браслетов и серег. В общем все наши верблюды были загружены корзинами и мешками с этими предметами, но довольно легко, так что в случае надобности мы могли увезти на них еще часть нашей мануфактуры, если не сторгуемся с князем и его монголами о продаже.
Пробыли мы в мертвом городе семнадцать дней, так как дважды во время нашего пребывания разыгрывалась такая сильная песчаная буря, налетавшая с северо-запада, что невозможно было работать на воздухе. Воздух был наполнен пылью и песком, мы прятались в палатках, укрепив их полы наваленными кирпичами и глыбами глины. Пробыть дольше на раскопках мы не могли — кончилась вся взятая провизия, включая и живую, а также дзерена, которого удалось подстрелить среди развалин. Становилось холодно — начался ноябрь, нужно было возвращаться домой.
На восемнадцатый день к вечеру мы прибыли к ставке князя, а на следующий день разложили перед ним все добытое и тюки с мануфактурой. Целый день ушел на оценку и переговоры. Из наших семи верблюжьих вьюков, которые мы привезли, один полностью пошел в уплату за разрешение раскопок, а пять князь взял со скидкой в 40%, уплатив китайским серебром. Последний вьюк мы выменяли его подданным на хорошую верблюжью и овечью шерсть, которой получили два добрых вьюка. Все это заняло еще три дня, так что в общем мы провели у ставки и в Хара-хото три недели.
Во время бесед с князем Лобсын рассказал ему о своем племени монголов-торгоутов, родиной которых также является долина Эдзин-гола, и которые ушли оттуда вместе с войсками Чингиз-хана в его походе XIII века на запад, а затем поселились вперемешку с киргизами на степях Джунгарии. Лобсын спросил князя, когда же его предки вернулись на свою родину — на Эдзин-гол. Князь сообщил, что это случилось 450 лет назад и что он слышал от своего отца передаваемую из рода в род жалобу на то, что те, которые устроили это возвращение на родину, ошиблись, так как последняя по своей природе оказалась хуже, чем долина Кобу между Сауром и Семистаем, где торгоутские князья осели после походов с Чингиз-ханом: Лобсын рассказывал князю о горах Саура, Семистая, Барлыка, Джаира, о прекрасных летовках на их прохладных высотах, удобных зимовках в долинах и соглашался, что на Эдзине гораздо хуже: хороших летовок нет, весь год проводят на берегах реки, где много насекомых, песчаные бури и природа гораздо беднее.
Обратный путь в Чугучак продолжался больше месяца; мы шли большею частью по той же дороге и без особенных приключений, так что описывать путь не имеет смысла. Упомяну только, что мы в одно утро после ночного перехода свернули к крепости Черного ламы, чтобы завезти ему обещанные книги. На стук в ворота нам открыл после переговоров старик-монгол и сообщил, что Черный лама захватил у китайского каравана крупную сумму серебра, которую везли в Урумчи, и счел, что у нею довольно денег для выкупа брата и сестер. Поэтому в сопровождении четырех своих соратников он поехал в Пекин, а старика оставил караулить крепость на случай, если денег нехватит, чтобы выкупить всех трех детей, и придется вернуться и продолжать свой промысел. Верблюдица, бараны и козы были оставлены старику, чтобы поддержать его существование.
Мы провели день у него, оставили ему муки и пшена, взятых на Эдзин-голе для Черного ламы, и вечером отправились дальше. Вторая остановка была возле Баркуля на том же постоялом дворе; здесь я израсходовал оставшиеся бумажные деньги на покупку муки, пшена, момо для людей и гороха для лошадей. Последний участок нашей обратной дороги был иной. Мы прошли в Гучен и оттуда прямо через пески Гурбан-тунгут к солончакам в низовьях реки Кобук, минуя более длинный маршрут к Алтаю и по реке Урунгу. Это было возможно потому, что наступила зима, выпадал снег и мы могли обходиться без колодцев и ключей, пользуясь снегом для себя и животных; в песках между Гученом и Кобуком имеется несколько больших безводных переходов, которые делают этот участок пути недоступным в теплое время года.
Мы благополучно перешли через пески к озеру Айрик-нур в низовьях реки Дям мимо города Нечистых духов и по долине Мукуртай проехали в Чугучак.
Все добытое в Хара-хото я передал консулу, который отправил его в Академию наук и получил за него деньги, которые покрыли мне все убытки по мануфактуре с небольшим излишком, что я считал достаточным, так как занимался раскопками не с целью обогащения, а из чистого интереса. От консула я узнал также имеющиеся в литературе сведения о причинах гибели города Хара-хото.
Народное предание о городе говорит, что последний владетель города, богатырь Хара-цзянь-цзюнь, считая свое войско непобедимым, собирался отнять престол у китайского императора. Поэтому китайское правительство выслало большой военный отряд. Целый ряд битв между ним и войсками богатыря близ границ Алашанского княжества в горах Шарцза был неудачен для войск богатыря. Китайские войска заставили их отступить и, наконец, укрыться в городе Хара-хото, который они обложили. Не решаясь итти на приступ, китайское войско задумало лишить город воды. Река Эдзин-гол в то время текла вокруг города. Китайцы запрудили русло реки мешками с песком и отвели реку на запад. Говорят, что запруда эта видна до сих пор в виде вала, в котором торгоуты находили еще недавно остатки мешков. Осажденные, лишившись воды, начали рыть колодец в северо-западном углу города, но, хотя прошли уже около 80 чжан (по 5 аршин), воды не нашли. Богатырь решил дать врагам последнее сражение, но на случай неудачи заранее использовал вырытый колодец, в который свалил все свои богатства — не менее 80 арб, по 20-30 пудов в каждой, одного серебра, не считая других драгоценностей. Затем умертвил двух своих жен, сына и дочь, чтобы над ними не надругались китайские офицеры, приказал пробить брешь в северной стене вблизи места скрытых богатств и через брешь во главе своего войска напал на неприятеля. В схватке он был убит, войско разбито, неприятель разграбил город, но зарытых богатств не нашел. Говорят, что они лежат до сих пор в колодце, несмотря на поиски китайцев соседних городов и окрестных монголов. Неудачу объясняют тем, что богатырь сам заговорил место. В это верят потому еще, что в последний раз искатели клада открыли вместо него двух больших змей с красной и зеленой чешуей.
В этом рассказе неправдоподобно то, что осажденные в городе не могли добыть в колодце воды. Если раньше вокруг города протекала река, то более вероятно, что в слоях наносной почвы, на которой стоял город, была вода и даже на небольшой глубине. Возможно, что эти колодцы скоро были исчерпаны. Столь же неправдоподобно отсутствие воды на глубине 400 аршин, т. е. 280 метров. В обширной долине с озерами и низовьем Эдзин-гола, в толщах наносов этой реки, наверно есть грунтовая вода на небольшой глубине, а глубже — артезианская.
Нужно упомянуть, что добытые нами древности XIII века в Хара-хото оказались очень интересными и выяснили много деталей жизни и быта китайского города на окраине пустыни, в котором побывал итальянский посланник Марко Поло. Но можно было спросить, чего ради люди основали этот город в низовьях реки Эдзин-гол, там далеко к северу от культурной и населенной полосы Китая, которая тянется вдоль всего северного подножия горных цепей Куэн-луня и Нань-шаня, по которому проходила известная «шелковая дорога» и происходило издавна сухопутное сообщение между Южной Европой и Китаем в средние века, когда морские пути еще были плохо изучены и опасны. Можно надеяться, что изучение древностей, добытых нами в Хара-хото, выяснит условия существования этого города и причины его основания в местности, не представлявшей никаких красот и удобств, а только берега реки с грязной водой, богатой илом, с кустами тальника, тамариска, тополей среди пустыни, вдали от гор. Признаков каких-либо полезных ископаемых мы вблизи этого города не нашли.
Бумажные деньги, найденные в городе, среди которых были ассигнации годов правления Чжун-тун Юанской династии, показали, что в годы 1260-1264 н. э. город еще существовал. Эта монгольская династия царствовала в Китае с 1260 по 1368 год.
СОКРОВИЩА ХРАМА ТЫСЯЧИ БУДД БЛИЗ г. ДУНЬ-ХУАН
Богатые результаты нашей поездки в мертвый город низовий реки Эдзин-гола окончательно укрепили мое стремление отыскивать развалины древних городов и добывать сохранившиеся в них сокровища, спасая их от гибели и расхищения. Поэтому Лобсын во время своих поездок по кочевьям киргизов и калмыков постоянно собирал у них сведения о развалинах селений и городов, я занимался тем же в Чугучаке у китайских местных и приезжих купцов, а консул просматривал старые китайские географические труды и литературу по Китаю и Индии, которую получал из посольства в Пекине.
В конце зимы в мою лавку зашел китайский купец, приехавший из г. Дунь-хуан, самого западного в провинции Гань-су. Он намеревался ехать дальше через Сибирь в Москву и даже за границу в поисках каких-то товаров особого рода, о которых он не распространялся, а только осведомился, занимаюсь ли я их сбытом. Между прочим, в разговоре он упомянул, что недалеко от г. Дунь-хуан, более известного под именем Сачжеу, находится в пещерах предгорий хребта Алтын-таг большая буддийская кумирня, содержащая будто бы тысячу статуй божеств. Ламы этой кумирни бедствуют, так как монгольского населения вблизи совсем нет и храмы привлекают очень мало посетителей и жертвователей. Поэтому ламы охотно продают богомольцам статуэтки богов, которые сами лепят из глины, а также старые буддийские книги, сохранившиеся от прежних времен, когда кумирня процветала. Часть пещер уже обрушилась и недоступна. Он упомянул, что купил там несколько буддийских сочинений и везет их в Париж, где имеется знаток санскритской литературы, который может оценить значение этих книг.
Интерес, который возбудило у ученых небольшое количество старых книг, привезенных нами из развалин Хара-хото и отправленных в библиотеку Академии наук, заставил меня принять к сведению это сообщение купца и поговорить потом о нем с консулом. Последний подтвердил наличие храма с тысячью будд вблизи Сачжеу, известного в китайской литературе, и посоветовал мне при случае посетить его и собрать более подробные сведения. Вскоре после этого и Лобсын, расспрашивая очень старого монгола, бывавшего в молодости даже в Лхасе, также слышал от него о храме с тысячью будд, который очень славился в старое время, но теперь посещается редко, так как лежит слишком далеко в стороне от главных путей монгольских богомольцев, пробирающихся на поклонение как в монастыри Гумбум, Лабран на северной окраине Тибета, так и в Лхасу. Прежде, лет сто и двести назад, особенно в то время, когда в Джунгарии правил независимый от Китая хан, монголы этой области, а также западной заалтайской части Монголии, направлялись в Лхасу через Хами и Сачжеу, и кумирня с тысячью будд на пути этих богомольцев являлась первой и самой крупной, расположенной, так сказать, в преддверии Тибета. Подле нее караваны богомольцев останавливались для отдыха и молились богам о благополучном пути через суровые нагорья Тибета, где караваны нередко подвергались нападениям тангутов и тибетцев.
Я рассказал об этой беседе консулу, и он, развернув передо мной карту Центральной Азии, показал наглядно, что для Джунгарии и Западной Монголии путь в Лхасу через Хами и Сачжеу значительно короче, чем путь через Ала-шань, Синин, Куку-нор и восточный угол Цайдама, по которому ходят в Лхасу из Восточной Монголии.
— Но в Западной Монголии и Джунгарии монголы и теперь еще живут, — заметил я. — Почему же они перестали ходить в Лхасу этим кратчайшим путем?
— В самой Монголии за последние 100-200 лет появилось довольно много новых монастырей, а в старых появилось больше гэгенов, т. е. перерожденцев Будды, привлекающих богомольцев. Поэтому количество богомольцев из Монголии в Лхасу вообще уменьшилось, что обусловлено также обеднением монголов вообще, эксплуатируемых ванами, князьями и китайскими торговцами. Чтобы итти в Лхасу на богомолье, нужно взять с собой подарки далай-ламе и всем кумирням Лхасы, провизию на много месяцев, верховых и вьючных животных — рядовому монголу это уже не под силу, и большинство предпочитает молиться и жертвовать в ближайшей к месту жительства кумирне или итти не так далеко — хотя бы в Ургу, где много кумирен и имеется гэген, который считается заместителем далай-ламы.
Так консул объяснил мне вероятные причины обеднения кумирни Тысячи будд на пороге Тибетского нагорья.
Но сведения о многочисленных пещерах и изображениях божеств, а также о старой литературе, которую голодные ламы охотно продавали желающим, очень заинтересовали меня и я наметил посещение Сачжеу и этой кумирни как задачу ближайших лет. Лобсын поддерживал мой интерес к этой кумирне и ее богатствам и как-то размечтался за чаем, весной, когда мы стали обсуждать вопрос, куда поехать в этом году с торговым караваном.
— Знаешь, Фома, — сказал он, — я начал подумывать о путешествии в Лхасу. Столько разных местностей мы с тобой уже посетили, и когда я при встречах с разными монголами рассказываю о наших поездках и приключениях, меня не раз уже спрашивали, почему я до сих пор не побывал в Лхасе, не осмотрел чудесные храмы этой столицы, не поклонился далай-ламе и не получил его благословения, которое делает человека счастливым на всю жизнь и приносит вечное блаженство.
— А ты разве не счастлив без благословения далай-ламы? — рассмеялся я. — Живешь не нуждаясь, имеешь хорошую жену, детей, юрты, много скота. Путешествуешь, куда хочешь, видишь новые места, новых людей.
— И все-таки хочется собственными глазами увидеть святого далай-ламу, его храмы и город, где живут многие тысячи лам и куда каждый год приходят на поклонение люди из всех стран, в которых почитают великого основателя нашей религии.
— Ну, я с тобой туда не поеду! Слишком это далеко и трудно, слишком много подарков нужно везти туда и средств затратить на них и на длинную дорогу. А в пути еще нападут тангуты и ограбят, отнимут даже вьючных животных, так что в Лхасу если и доберешься — так с пустыми руками; к далай-ламе и в храмы тебя даже не допустят.
— О Лхасе я пока только мечтаю, — заявил Лобсын, немного огорченный моими возражениями. — Но в этом году поведем наш караван в этот Дунь-хуан, побываем в пещерах с тысячей будд, посмотрим их, закупим интересные вещи и книги. А у лам я узнаю о дороге в Лхасу, по которой прежде ходили паломники, побывавшие у тысячи будд.
Против этого плана я не мог ничего возразить, так как других предположений на текущий год у меня еще не было. А путешествие в Дунь-хуан давало возможность видеть новые места, новых людей. Мы решили, что пойдем кратчайшим путем по тракту в Урумчи, оттуда в Турфан и Люкчун по знакомой дороге, а далее вдоль Тянь-шаня и через Хамийскую пустыню по новым местам до подножия Алтын-тага. Время, остававшееся до августа, давало возможность выяснить у людей, бывавших в этих новых местах, какие товары подобрать для продажи населению и ламам в кумирне тысячи будд и для обмена у них на старые книги, картины, статуэтки божеств и пр.
И вот в половине августа, снаряжаясь в эту новую экспедицию, я отобрал подходящие для лам кумирни Тысячи будд мануфактурные и мелкие скобяные товары, не забыл также товары, интересные для таранчей южного подножия Тянь-шаня, через селения которых мы должны были проходить. Лобсын прибыл с верблюдами и лошадьми и с запасами баурсака, сушеных пенок, творожного сыра из овечьего молока, который в его семье научились делать. Я добавил сухарей, сахару, разных круп и в конце августа мы двое, мой воспитанник Очир и старший сын Лобсына, получивший русское имя Олег, — тронулись в путь. Двенадцать дней мы шли по большому тракту в Урумчи, не торопясь, затем еще четыре дня до оазиса Люкчун по дороге, знакомой по поездке с немцами, так что описывать этот путь еще раз незачем. Отмечу только, что мы ехали гораздо спокойнее, чем в тот раз с немцами, и большею частью ночевали на воле в своей палатке, а не на постоялых дворах, где пришлось бы платить за фураж для нашего большого каравана.
Из Люкчунского оазиса можно было итти дальше до Хами двумя дорогами: более длинная шла через селения или города Пичан и Чиктым на северо-восток к подножию Тянь-шаня и далее вдоль него; это большой тракт Нань-лу со станциями для перемены лошадей, по которому едут все чиновники, а также идут возы и караваны с товарами. Более короткая и прямая дорога идет прямо на восток, вдоль южного края больших песков Кум-таг, и далее мимо озера Шона-нор в Хами. Эта дорога имеет странное название «Долины бесов» и когда-то являлась государственным трактом со станциями, но затем была упразднена, даже запрещена из-за опасности проезда по ней.
Меня, конечно, более интересовала эта Долина бесов, но, отправляясь по ней со всем караваном, я рисковал и животными, и товарами; имея же в виду посещение храма Тысячи будд как главную задачу экспедиции этого года, было бы неблагоразумно вести караван по Долине бесов. Поэтому я решил разделить его и отправить Лобсына с мальчиками и верблюдами с грузом по кружной дороге, а самому, взяв проводника, познакомиться с Долиной бесов.
Лобсын, конечно, также хотел бы пройти по этой дороге, но согласился со мной, что вести весь караван по ней слишком рискованно, судя по тем рассказам о ней, которые мы слышали от таранчей Люкчуна. Я обещал ему рассказать подробно свои приключения, и он, наняв себе в помощь проводника, повел вместе с мальчиками караван по тракту. А я, взяв двух запасных верблюдов, с легким грузом поехал в селение Дыгай на восточной окраине Турфанской впадины, где можно было найти проводника в Долину бесов.
Груз моих верблюдов состоял из двух бочонков для запаса воды, легкой палатки на двух человек самого простого устройства, провианта на неделю, постели и шубы. Я поехал на своей лошади и верблюдов вел в поводу. Из Люкчунского оазиса я прошел на юго-восток. Общий вид Турфанской впадины уже описан в рассказе о путешествии с немцами.
Обширная впадина Турфан — Люкчуна представляет замечательное сочетание полной пустыни и густо населенных цветущих оазисов в непосредстаенном соседстве. Пустыня занимает большую южную половину впадины, вмещая в самой глубокой части соленое озеро, окруженное кочками солончака. От этой южной части на север выдаются еще полосы пустыни в промежутках между оазисами, которые расположены вдоль речек, вытекающих из разрывов в горных грядах Булуек-таг и Ямшин-таг и приносящих сюда воду, выбивающуюся из наносов южного подножия Тянь-шаня, и вдоль кярызов, подземных каналов, выведенных из этих наносов. В оазисах пышная растительность — пирамидальные тополя, карагач, фруктовые деревья, виноградники и поля, засеянные разными хлебами и хлопчатником. Турфан славится своими плантациями, дающими лучший сорт хлопка, и виноградниками с мелким виноградом без косточек, из которого готовят мелкий зеленый изюм, известный под названием кишмиш. Хлопок и изюм из Турфана вывозят даже в Россию, и изюм мы всегда покупали в Чугучаке поздней осенью и зимой, когда его доставляли китайские купцы, занимавшиеся торговлей с Россией через Кульджу, Чугучак и Зайсан.
По тропинке, извивавшейся между Кочками солончака, я и ехал часов 5-6 из садов Люкчуна в селение Дыгай. Хотя была уже половина сентября (или даже конец его по нов. стилю), но в Турфанской впадине под 43° широты, представляющей самое низкое место материка Азии, вдавленное на 100-150 м ниже уровня океана, было очень душно. Накаленные солнцем бурые гипсовые кочки, совершенно лишенные растительности, дышали жаром, и я был рад, когда в селении Дыгай мог слезть с коня и укрыться в сакле таранчи, аксакала, т. е. старшины, к которому заехал.
Мы уже испытали жару Турфанской впадины три года назад во время разведки с немцами древностей возле Люкчуна, когда приходилось прерывать работу с 10-11 часов утра до 4 часов дня. Консул рассказал мне, что еще в конце X века посол китайского императора Тхай-цуна доносил о невыносимой летней жаре в Турфанском окрусе, от которой жители этой страны укрываются в подземельях, а птицы в самый зной не могут летать. Но, проведя лето в этом округе на открытом воздухе, я думаю, что этот посол очень преувеличил жару, чтобы заслужить благодарность императора в виде награды за перенесенные им тягости. Я не слыхал от жителей Люкчуна, чтобы они прятались от жары в подземельях, которых вообще в селениях нет. Может быть, посол слышал о кярызах; в этих подземных галлереях, где течет вода, конечно, гораздо прохладнее и туда, может быть, какие-нибудь больные спускаются в жаркие часы.
Селение Дыгай оказалось довольно крупным — с полсотни домов на восьми кярызах, т. е. штольнях, выводящих грунтовую воду из наносов, описанных мною раньше. Жители разводят прекрасные дыни, которыми славится это селение, и я, конечно, лакомился ими, обсуждая с аксакалом [61] дальнейший путь. Оказалось, что жители занимаются не только бахчеводством, но являются также прекрасными охотниками и промышляют в пустынном хребте Чол-таг, скалистые вершины которого закрывают вид на юг. В этих горах, совершенно безлюдных и бедных водой, водятся дзерены и сайги, горные бараны (архары), козлы (куку-яманы), а за ними, в пустынях между Чол-тагом и Курук-тагом, даже дикие верблюды. Эта пустыня, как говорят, самая труднодоступная, и ни один европейский путешественник в ее пределах еще не бывал, как позже сообщил мне консул. Аксакал сказал мне, что на южной окраине впадины, недалеко от подножия Чол-тага и на юго-запад от селения Дыгай, находятся развалины города Асса, очень древнего, до которого, вероятно, когда-то добегала речка из Чол-тага. Впадину к югу от Люкчуна иногда называют Асса по имени этого города. Это указание я записал себе на всякий случай, полагая, что придется еще посетить это место.
Аксакал помог мне найти проводника из местных охотников. Еще вечером пришел ко мне пожилой таранча, и мы сговорились в цене. Он обещал довести меня до озера Шона-нор, до которого считали 200 верст, за 4-5 дней, если не задержит сильная буря. Он предупредил, что поедет на верблюде и что мой конь может не выдержать больших безводных переходов, несмотря на запас воды, который будет у нас в бочонках, и добавил, что необходимо взять с собой для коня вьюк сухого клевера, так как по дороге подножный корм только верблюжий, да и то скудный. Эти предосторожности немного смутили меня; но не мог же я отказаться от попытки пройти по дороге, которая когда-то была казенным трактом, на которой были станции и по которой возили даже серебро в Урумчи, Кульджу и Кашгар.
Так как было еще достаточно жарко, проводник предложил выехать на следующий день уже под вечер, итти до полуночи, сделать небольшой привал часа на три и затем продолжать до позднего утра, чтобы выполнить первый большой безводный переход вдоль песков Кум-таг.
На следующий день после обеда явился проводник со своим верблюдом; аксакал снабдил меня вьюком хорошего сена из люцерны и клевера. Мы напоили своих животных, наполнили мои бочонки и покрыли их сеном. Я сел на второго верблюда, несшего легкий вьюк из легкой палатки, постели и провизии, чтобы не утомлять сразу своего коня.
Пошли из селения почти прямо на восток вдоль небольшого ручья, который выходил из подножия пустыни Чол-тага и тёк несколько верст до селения. Впереди уже видны были желтые барханы песков Кум-таг. Справа поднималось с небольшим уклоном подножие Чол-тага. Слева громоздились барханы [62] песков, становившиеся постепенно все выше и быстро закрывшие ближайший горизонт. Их крутые подветренные склоны из рыхлого песка были обращены на запад и местами поднимались в два и три яруса друг над другом. Растительность вскоре совсем исчезла — началась абсолютная пустыня, но дорога была ровная. День выдался хотя жаркий, но тихий и ясный, солнце медленно склонялось к закату, и наш маленький караван двигался размеренным шагом на Восток.
Мы вышли из селения около пяти часов дня и прошагали шесть с лишним часов с одной короткой остановкой. Солнце закатилось, на юго-востоке показалась добрая половина луны и осветила наш путь, который, впрочем, трудно было потерять, так как две или три дорожки, пробитые верблюдами, вероятно, уже в те далекие дни, когда по дороге ходили караваны, были еще хорошо заметны. Когда луна стала закатываться, мы остановились, сняли вьюки, уложили верблюдов на отдых, сварили себе чай, закусили; моя лошадь получила хороший сноп люцерны, а верблюды дремали, пережевывая свою жвачку.
Пока мы чаевали, проводник рассказал мне, что население Дыгая, вероятно и всего Люкчуна, убеждено, что пески Кум-таг засыпали какой-то древний город за неуважение божьих заповедей. Город был большой и языческий и жители развращены, не признавали никаких родственных отношений, братья женились на сестрах, отцы на своих дочерях. В городе был только один праведник, и ему ночью явился ангел и объявил, что в следующую ночь город будет погребен под тучей песка, которую принесет ветер в наказание за распутную жизнь жителей города. Ангел велел праведнику взять большую палку, воткнуть в песок и бегать вокруг нее все время, пока будет сыпаться с неба песок. Но палку будет также засыпать, поэтому нужно ее время от времени выдергивать, опять втыкать и бегать кругом, тогда песок не засыплет. Когда настала ночь, праведник выполнил указание ангела и бегал вокруг палки, пока с неба сыпался песок, по временам вытаскивая свою палку. Когда наступило утро, на месте города оказались огромные горы песка, а праведник остался один с своей палкой и, как говорят, ушел в город Аксу, где до сих пор еще имеется его могила, почитаемая таранчами. Место, где был город, и теперь еще называют Кетек-шари, т. е. наказанный город.
По словам проводника, поперек песков Кум-таг ходить очень трудно; пески поднимаются целыми горами на 100 и более размахов, а при сильных ветрах вздымаются тучами. Растительности на них почти никакой нет. Так как мы шли не через пески, а по их окраине, тропой, проложенной вдоль хребта Чол-таг, я мог видеть при свете луны только высокие холмы песка, остававшиеся в стороне, а на тропе попадались только местами небольшие наметы песка, в виде длинных грядок. Не раскидывая палатки, мы проспали часа три или четыре, закрыв лицо платком, так как при слабых порывах ветра в воздухе носился песок. Проснулись, как только показались первые признаки рассвета, быстро собрались и поехали дальше. Тропа постепенно поворачивала немного на северо-восток. Справа попрежнему тянулись глинистые площадки Чол-тага, а слева вздымались высокие песчаные холмы Кум-тага. Так мы отшагали часа два с половиной, стало светло, затем появилось и солнце, но в какой-то желтой дымке без лучей, и я заметил, что местность начинает меняться: песчаные горы становились мельче и мало-помалу уступали место красноватым глинистым площадкам, бугоркам и длинным выступам. А вместе с тем поднялся ветер и проводник посоветовал остановиться на отдых, заявив, что в Долине бесов днем почти постоянно дует ветер, песок слепит глаза и очень трудно итти против ветра, тогда как ночью ветер часто слабеет.
Чтобы немного защититься от ветра, который усиливался, мы зашли в ложбину довольно причудливой формы, сняли вьюки, уложили верблюдов и дали им и лошади по снопу люцерны, разбили палатку и легли спать. Проспали часов до 10 утра, потом согрели чай, позавтракали, лошади дали полведра воды и сноп люцерны. Ветер дул порывами, то ослабевая и почти затихая, то усиливаясь, так что приходилось закрывать лицо от переносимого им песка, который он сметал с красных бугров и грядок.
Когда тускло светившее сквозь пыль солнце склонилось к закату, мы, подкрепившись холодным мясом, чуреками и несколькими глотками чая, завьючили верблюдов и поехали дальше на северо-восток. Местность становилась все более и более неровной; ложбины, то узкие, похожие на глубокие рытвины, то широкие, чередовались с зубцами, гребнями, рогами, часто самых причудливых форм, сложенными из красного и буро-красного твердого песка, часто содержавшего мелкие камешки. Ветер, ослабевший к закату, сносил с этих скалистых выступов немного песка. Чем дальше по дороге, тем разнообразнее становились формы.
— Вот это началась Долина бесов, — сказал проводник. — Это нечистые силы забавляются здесь, и когда ветер усиливается, они воют, визжат, свистят, стонут, стараясь напугать путников, сбить их с дороги, засыпать им глаза песком, свалить с ног, выбить из сил и погубить.
Фантастические формы скал, по которым, извиваясь, шла дорога, огибая разные выступы, пересекая ложбины, действительно, производили впечатление чего-то сверхъестественного, а попадавшиеся изредка отдельные кости, черепа верблюдов и других животных и целые скелеты их, отполированные песчинками до блеска, усиливали мрачный вид местности, лишенной какой-либо растительности.
Когда совершенно стемнело и только тусклая луна освещала наш путь, жуткое впечатление от пустыни еще усилилось. То и дело появлялись какие-то странные формы и сочетания их, сменяя друг друга: то видна была рука с грозящим пальцем, то зажатый кулак, то уродливая фигура с кривым носом, зияющей пастью, то скорчившаяся в комок, сгорбленная крючком фигура. К нашему счастью, ветер был слабый и завыванье его среди неровностей почвы не удручало. Но можно было представить себе, что делалось в этой Долине бесов при сильном ветре, не говоря уже об урагане, который заставил бы лежать неподвижно людей и животных в течение долгих часов.
Когда луна, опустившись, скрылась в пыльном воздухе, проводник остановился, заявив, что в темноте в такой расчлененной местности очень легко потерять дорогу и лучше дождаться рассвета. Мы выбрали ложбину поглубже среди выступов и гребней, уложили верблюдов, забрались между тюками нашего багажа и, укрывшись халатами, заснули.
Такая же местность, то более, то менее сильно расчлененная ложбинами и причудливыми формами, продолжалась еще двое суток. Проводник рассказал мне, что, будучи мальчиком, он участвовал во время дунганского восстания в бегстве детей и женщин таранчей из Хами по Долине бесов в Люкчун. Бежали второпях, без должных запасов, и многие погибли от жажды. Бури до сих пор отрывают в долине скелеты людей, части одежды и обуви, седла.
По рассказам старых людей закрытие старинного пути по Долине бесов по повелению китайского императора случилось в начале XIX века. Из Пекина в Кашгарию шел караван, везший казенное серебро под охраной войска и чиновников. Разразилась сильная буря, разметала людей, животных и все имущество по пустыне. Люди, посланные для розысков погибших, не могли найти ничего. Тогда по повелению богдыхана все станции по этой дороге были разрушены, колодцы завалены камнем, а дорога наказана — ее бичевали цепями и били палками и было запрещено кому бы то ни было ходить по этой дороге. Это запрещение долго соблюдалось, и про существование этой дороги стали забывать. Но мало-помалу отдельные смелые люди — охотники в поисках дичи — стали заходить все дальше и дальше по старой дороге, и наконец, ею стали пользоваться смельчаки в месяцы осени, когда бури более редки, а в некоторых колодцах появляется вода; кроме того, редкое выпадение обильного снега дает возможность проехать этим путем зимой.
Когда я в течение трех дней познакомился с тем, как глубоко страшные бури изрыли, источили красные породы, выступающие в Долине бесов, я понял, почему ее называют также Сулк-ассар, что значит «фантастический город». Это было нечто совершенно поразительное, трудно описуемое, и я подумал, что если бы нашелся художник, который захотел бы изобразить все формы этого города, ему пришлось бы поработать много дней, чтобы нанести их красками на бумагу, и многие позавидовали бы ему.
Я забыл еще упомянуть, что в течение ночей, которые мы провели в Долине бесов, я явственно слышал отдаленный звон колокольчиков, иногда как бы ржание лошади или рев ишака, а иногда как будто отдаленную музыку. Проводник, которому я сказал об этих звуках, подтвердил, что и он слышал их, но что на них не нужно обращать внимания. Опытный охотник не слушает их, тогда как неопытные, по его словам, иногда ходили выяснить причину этих звуков, которые завлекали их все дальше и дальше, пока обманутые люди не теряли дорогу и не погибали, так как это поют и плачут нечистые духи пустыни. Я думаю, что эти звуки создаются слабыми порывами ветра в этой пустыне, представляющей такие разнообразные и сложные формы поверхности.
На четвертый день к вечеру нас обрадовало появление скудной растительности. Резкий рельеф начал сглаживаться, ложбины, выдутые ветрами, стали оканчиваться замкнутыми котловинами, на дне которых дожди создали гладкие блестящие площадки глины, которые называют хаками. Довольно большое озеро Шона-нор занимало более крупную впадину. Вода озера была соленая, но в него втекала небольшая речка Курук, где наши верблюды после трех с лишним дней поста могли полностью утолить свою жажду. Здесь уже начались заросли хармыка, камыши, а на озере плавали утки и турпаны [63], вероятно из пролетных стаек. На кустах я заметил саксаульную сойку, пустынную славку, чеккана [64]. За озером Шона-нор, где началась уже растительность, все деревья тограка, т. е. разнолистого тополя, были наклонены на юго-восток, а сторона их стволов, обращенная на северо-запад, лишена коры, которую, очевидно, сдирают переносимые ветром песчинки. О силе ветра свидетельствует и наклон стволов, который показывает также, что господствуют бури с северо-запада. Попадается много искалеченных мертвых деревьев, истертых песком и галькой. У дороги попадались гряды, сложенные из мелкой гальки и гравия, величиной до лесного ореха и высотой до трех аршин. Эти гряды, очевидно, были наметены ураганами и доказывают силу последних. Легко себе представить, как метет буря, которая в состоянии переметать по земле камешки величиной в лесной орех и даже подбрасывать их при сильных порывах до лица человека.
На следующий день, повернув на север, мы к полудню встретились с караваном Лобсына и сделали привал. Лобсын приехал сюда не по большой караванной дороге с казенными станциями, а по расспросам в Пичане и Чиктыме узнал, что имеется более короткая и прямая дорога без станций, но вполне удобная для путников, не нуждающихся в крове и имеющих запас хлеба и фуража. Он прошел по ней, выиграв один день во времени и довольно много в расстоянии.
Лобсын рассказал, что после оазиса Люкчуна, протянувшегося на несколько верст на восток вдоль арыков, выведенных из реки, караван вступил в долину между скалистыми горами, составляющими продолжение Ямшинтага, и песчаными горами Кум-таг. Он ехал по ней до селения Кичик, где Ямшин-таг отошел в виде низких холмов в сторону. Миновали глиняную крепость Пичан с китайским гарнизоном, не заходя в нее. Ночевали на окраинах таранчинских поселков, покупая зеленый корм для животных, так как подножный был слишком скудный. Миновали селения Чиктым, Сарыкамыш, Опур и Кара-тюбе; из последнего повернули на юг, где и встретились со мной.
Так как Лобсын, избрав более прямую дорогу, оставил далеко в стороне город Хами, я решил продолжать путь на восток вдоль северной окраины Чол-тага, до выхода на большой тракт, идущий из Хами в Сачжеу.
Соединившись с Лобсыном, я, конечно, отпустил проводника Ходжемета, который поехал назад не по Долине бесов, а по той дороге, по которой пришел Лобсын, чтобы на полученные от меня деньги купить кое-что в Чиктыме. Мы же шли еще три дня прямо на восток, а затем повернули на юго-восток через Хамийскую пустыню. Но на этом пути до Сачжеу я не буду описывать пройденную местность так подробно, как в Долине бесов, потому что она была более однообразна.
* * *
От автора. Любитель приключений Кукушкин мог только отметить частоту и чрезвычайную силу бурь на своем пути из впадины Турфана — Люкчуна на восток, вдоль южного подножия Тянь-шаня, известную также из описаний других путешественников, но объяснить это явление не мог. Автор может заполнить этот пробел, чтобы удовлетворить любознательность читателей.
Нужно заметить, что Центральная Азия вообще отличается обилием ветров и бурь, что обусловлено устройством поверхности этой обширной страны, занимающей внутреннюю часть материка Азии. Рассматривая хорошую рельефную карту Азии, легко заметить, что Центральная Азия в общем представляет обширную впадину, окруженную почти со всех сторон горными странами: с севера, с места слияния рек Аргуни и Шилки, образующих Амур, ее окаймляют горы Забайкалья, Восточного и Западного Саяна и Алтая, поднимающиеся местами выше снеговой линии и потому несущие ледники. На западе, вдоль границ Центральной Азии, тянутся горные цепи и нагорья Джунгарского Ала-тау, Тянь-шаня и Памиро-Алая. На юге цепи Куэн-луня, Нань-шаня и Цзинь-лин-шаня образуют высокий барьер, южнее которого еще выше поднимаются горы Тибета и Гималаи. Только на востоке нет такого сплошного и высокого заграждения. Здесь на севере тянется до 44° хребет Б. Хинган, поднимающийся только до 1 200 — 1 800 м абсолютной высоты, а южнее его расположены не более высокие цепи Шаньсийских гор; и влажный воздух с Тихого океана имеет наиболее свободный доступ в глубь Центральной Азии и приносит туда влагу, необходимую растительности.
Обширная впадина Центральной Азии не является ровной: ее бороздят в разных направлениях горные цепи и нагорья — на севере Кентей и Хангай, немного южнее их — Монгольский и Гобийский Алтай, еще южнее цепи Восточного Тянь-шаня, Курук-тага, Бей-шаня, Алашанского хребта и Инь-шаня и, кроме того, многочисленные гряды гор и холмов разной высоты. Но в общем значительные площади Центральной Азии опускаются до высоты 1 200 и даже 600 — 800 м над уровнем моря, поднимаясь в отдельных грядах до 1 800 — 2 000 м, редко до 4000 — 5000 м и понижаясь до 300 — 400 м в Джунгарии, Ордосе, Таримском бассейне, а в Турфанской впадине даже до 100-150 м ниже уровня океана.
Это открытие такой глубокой впадины у южного подножия Восточного Тянь-шаня оказалось неожиданным и было сделано русскими экспедициями Певцова и Грумм-Гржимайло в 1890-1891 годах, подтверждено последними исследованиями и объясняет нам также существование Долины бесов. Но так как Центральная Азия в общем, как сказано выше, представляет обширную впадину материка, окруженную со всех сторон более значительными высотами, т. е. выпуклостями суши, то не удивительно, что в эту впадину с этих высот устремляются потоки более холодного воздуха и что Центральная Азия вообще отличается частыми и сильными ветрами и имеет неспокойный климат. В Центральной Азии редко бывает тихо, особенно днем. С восходом солнца просыпается и ветер, дует, постепенно усиливаясь к полудню, целый день и стихает только после заката солнца, и то не всегда. А сильные ветры, переходящие в бури, случаются осенью, особенно же зимой и нередко весной и только летом не так надоедают путешественнику. Сильные ветры, переходящие в пыльные бури, вообще характерны для климата этой страны, а некоторые области ее известны в этом отношении, особенно. Таковы именно области по южному подножию Восточного Тянь-шаня и Пограничная Джунгария. Первой из них нужно отвести первое место в этом отношении, что вполне объясняется ее рельефом.
Мы уже знаем, что в Турфанской впадине поверхность земли вдавлена плоской ямой до 50-100 м ниже уровня океана на площади около 90 км с востока на юго-запад и около 40-50 км с севера на юг, т. е. около 4 000 кв. километров, и представляет плоскую пустыню, в которую узкими ленточками вдаются оазисы вдоль речек, текущих из Тянь-шаня. С севера впадину ограничивают невысокие, но совершенно оголенные скалистые горные гряды Туек-таг, Ямшин-таг и другие, обращенные к впадине крутым склоном, изрезанным оврагами и логами, лишенными растительности, так что на них везде видны горные породы — песчаники, сланцы. Севернее этих гряд поднимается к подножию Тянь-шаня пустыня, усыпанная галькой, в которой очень быстро исчезают речки, текущие из снегов хребта. Вода, ушедшая в толщи этого галечника, появляется опять у северного подножия голых гряд Туек-таг, Ямшин-таг, образуя речки, которые прорывают эти гряды ущельями и питают оазисы Турфана и Люкчуна.
Можно себе представить, как накаляется в ясные дни, которых там много, галечная пустыня подножия Тянь-шаня и дна впадины. А на востоке впадину замыкают пески Кум-таг, занимающие площадь около 50 км в длину и 20-30 км в ширину; они образуют барханы, высотой до 40-50 м, почти лишенные растительности, которые также сильно накаляются в ясные дни.
На севере, на расстоянии около 40-50 км от края впадины, поднимаются скалистые горы Тянь-шаня, увенчанные вечными снегами и достигающие 4500 — 5000 м абсолютной высоты, а на юге впадину ограничивают невысокие цепи хребта Чол-таг, почти лишенные растительности. В общем получается протянутая вдоль Тянь-шаня плоская яма, почти оголенная, сильно накаляемая солнцем, нечто в роде гигантской жаровни. Здесь и создались такие контрасты высоты и накаливанья, что они должны вызвать сильную тягу воздуха на восток вдоль по впадине и тягу, постепенно усиливающуюся с запада на восток, которая и представляет бури Долины бесов. Эти бури и создали к востоку от песков Кум-таг в выступающих здесь сравнительно непрочных горных породах разных третичных, меловых и юрских песчаников и конгломератов те разнообразные формы выветриванья и развеванья, которые наблюдали путешественники, но никто подробно не описал, вероятно потому, что в бурную погоду, когда ветер валит с ног, а пыль слепит глаза, и смотреть, и записывать, рисовать или фотографировать очень трудно. А судя по тем различным формам, которые я видел в эоловом городе Орху на реке Дям в Джунгарии, в Долине бесов они должны были быть еще более своеобразными и разнообразными.
Экспедиции Козлова и Роборовского сообщили о Долине бесов в своих отчетах только такие же скудные сведения, которые приведены в описании маршрута Кукушкиным. В дополнение к ним приведу еще то, что сообщил Г.Е. Грумм-Гржимайло, повидимому, по расспросам.
На станции Кырк-ортун, расположенной на большом тракте из Люкчуна в Хами, за большим селением Чиктым, близ богатого водой ключа сходятся два пути из Хами — колесный окружной и вьючный прямой. По последнему ездят редко на колесах и рассказывают о нем так: когда в Кырк-ортуне едва ощущается слабый ветер с востока, там, в ущельях, по которым бежит эта дорога, свирепствует настоящая буря, и никто не в состоянии удержаться на ногах, даже арбы опрокидывает и уносит на десятки шагов. Главная опасность этого пути, однако, не в этом: уложил ишаков и верблюдов, укрылся как-нибудь сам среди вещей и — стихла погода — опять продолжай свой путь. Опасность грозит сверху, со стороны гор, с которых ветер срывает и несет щебень, иногда в таких массах, что кажется точно идет каменный дождь. Тогда шум и грохот заглушают рев верблюдов и крики человека и наводят ужас даже на бывалых людей.
В дополнение к этим сведениям приведу еще те, которые можно извлечь из китайских сочинений.
Монах Иакинф Бичурин, проведший много лет в Китае, изучая старую литературу, приводит китайское описание ураганов в местности к востоку от г. Пичана: три станции Сань-цзян-фан, Ши-сань-цзян-фан и Буин-тай суть места ураганов. Ветер всегда поднимается со стороны северо-запада. Перед ветром слышен глухой шум, словно перед землетрясением. Мгновение спустя налетает ветер, срывает крыши с домов, наполняет воздух каменьями в яйцо величиной, опрокидывает самые тяжелые телеги и разносит рассыпавшиеся из них вещи, наконец уносит и телеги. Людей и скот, застигнутых бурей, уносит так далеко, что и следов их не найдешь. Такие ветры случаются всего чаще весной и летом, а осенью и зимой весьма редки. В горах зеленые плоско-продолговатые камни, похожие на яшму, движимые ветром, издают звук, подобный металлическому. Песчаные каменья, занесенные ураганом на горы, всегда лежат беспорядочными кучами в странных видах и никогда не составляют холмов. Если утро над северными и южными горами ясно и чисто, — в тот день не бывает ветра, а если мрачный туман мало-помалу скроет горы, — в тот день непременно будет сильный ветер и не следует пускаться в дорогу. Эта местность и есть Долина бесов («Вань-янь-дэ», Описание Джунгарии).
В заключение можно привести общие данные о Турфанской впадине и особенностях ее климата на основании наблюдений станции, устроенной экспедицией Роборовского вблизи г. Люкчуна и действовавшей 2 года с октября 1893 по сентябрь 1895 г.
Впадина имеет около 150 верст длины и около 70 верст ширины; с севера ее ограничивают южные предгория Тянь-шаня, с юга — невысокий кряж Чол-таг, с востока пески Кум-таг. Впадина представляет лёссово-солончаковую, а в середине болотистую местность, поросшую кое-где камышами, отчасти тамариском. Окраины орошаются речками из Тянь-шаня и кярызами, выведенными от подножия гор. Метеорологические наблюдения станции Люкчун показали, что годовой ход давления равняется почти 30 мм, величина, вероятно, крайняя для всего земного шара. Температура летних месяцев очень велика, в среднем для июля она приравнивается к Сахаре, предельная высокая в 48° — также наибольшая для всей Азии (на солнце 64°). По сухости и бедности осадков впадина также представляет крайность. Число ясных дней в 147 превосходит крайний возможный предел линий карты Шенрока (100-140), а число пасмурных дней 20 составляет нижний возможный предел (40-20).
По таблицам наблюдений видно, что среднее давление зимой 780, летом 762, т. е. зимой наибольшее, как и по всей Центральной Азии, а летом наименьшее. Ветры преобладают восточные и западные, но сила их небольшая, наибольшая в апреле, мае и июле. Температура зимой падает до -13, -15°, редко до -20°, а летом держится + 35-40° и до 48°. Морозных дней в году 130-140.
После этого отступления, которое иные читатели могут пропустить, если Долина бесов показалась им мало интересной, вернемся к изложению дневника Кукушкина о путешествии на восток от места его встречи с главной частью каравана, немного восточнее озера Шона-нор.
* * *
Первые три дня мы шли вверх по долине речки Курук-гол, которая вытекает из снегов Карлык-тага, т. е. той вечно снеговой группы, которая поднимается над самым восточным участком Тянь-шаня. Курук-гол течет на юг, орошает большой оазис Хами, в котором расположен город Хами — столица восточной части Синь-цзяня, где живут и таранчинский (мусульманский) ван и китайский амбань. Верстах в 20 ниже города речка резко поворачивает на запад вниз по долине, расположенной вдоль северного подножия хребта Чол-таг, который мы уже не раз вспоминали, огибая оазис Люкчун и Долину бесов. Эта речка дает орошение долине. Поэтому мы встречали на своем пути от озера Шона-нор, в которое речка впадает, поселки таранчей, расположенные то гуще, то реже, а в промежутках заросли камыша (где речка весной затопляет дно долины), тамариска, тополей. На юге все время тянулись высоты Чол-тага, поднимавшиеся от дна долины пологим склоном, разрезанным многочисленными логами и оврагами, и местами увенчанные плоскими скалистыми вершинами. Это продолжалась Долина бесов, пустынная, безводная, посещаемая только охотниками в поисках антилоп и диких верблюдов, которые живут еще там в горах Чол-тага и Курук-тага.
Затем мы повернули на юго-восток и юго-юго-восток, в общем шли 260 верст до реки Сулэхэ, единственной на этом пути через Хамийскую пустыню (Последняя на западе представляет скалистые гряды Чол-таг и Курук-таг, а на востоке — подобные же гряды, называемые уже Бей-шань, т. е. северные горы, в противоположность цепям Нань-шань, т. е. южным горам, расположенным южнее реки Сулэхэ и оазисов Сачжеу, Юймынь и Сучжоу. В сущности Чол-таг, Курук-таг и Бей-шань — это одна и та же горная страна, протянувшаяся с запада на восток между Тянь-шанем на севере и Нань-шанем на юге. Ее условной границей на востоке считают течение реки Эдзин-гол, который течет из Нань-шаня на север и впадает в озера Сого-нур и Гашиун. В этих грядах высоких вершин нет, они достигают 1600 — 2000 м абсолютной высоты, а в долине реки Сулэхэ абсолютные высоты падают уже до 1000 — 1200 м).
На протяжении первых 150 верст пути через Хамийскую пустыню можно было заметить, что местность в общем повышается, но неравномерно и медленно, местами даже незаметно; она представляет то ровную голую пустыню, усыпанную галькой, то поросшую скудными кустами саксаула, тамариска, эфедры, хармыка. Кое-где во впадинах, где могла задержаться дождевая или снеговая вода, попадались заросли камыша, что позволяло нашим верблюдам и лошадям на ходу подкармливаться, так как места наших ночлегов далеко не всегда были обильны подножным кормом, хотя мы всегда выбирали для ночлега те места, где корм был лучше, и останавливались даже раньше, если попадалось место с лучшим кормом. Часто встречались большие площади, сплошь усыпанные толстым слоем щебня и, конечно, бесплодные.
Далее местность стала более неровной; дорога шла по каменистым холмам, огибая крутые горки, на которых часто выступали толстые пласты каких-то сланцев. Встречались сухие русла с зарослями камыша, еще зеленого, тогда как в других местах он был уже засохший. Почти каждый день мы видели то справа, то слева нескольких диких верблюдов, которые при виде нашего каравана отбегали очень быстро подальше и очевидно были знакомы с человеком. На севере долго еще оставался в виду Карлык-таг с его снежной шапкой, иногда совершенно скрывавшейся во мгле, когда воздух становился пыльным. Но потом его заслонили зубчатые скалы и склоны Чол-тага. Последний на пятый день во время длинного безводного перехода порадовал нас выпадением снега при налетевшей с запада бури. Снег валил довольно густо около получаса и этого было достаточно, чтобы не только наши животные, захватывая на лету хлопья или подбирая их с кустов полыни и хармыка, утолили свою жажду, но и мы сами смогли набрать снега в большую клеенку, которая была у нас в запасе на такой случай.
Нужно заметить, что через Чол-таг проходят две дороги — одна трактовая, с небольшими станциями, на которых содержались верблюды и лошади для проезжающих китайских чиновников, имеющих право на сменных лошадей. По этой дороге видны были даже столбы телеграфа с тремя проволоками, нередко кривые или наклонившиеся в ту или другую сторону. Это был тракт из г. Хами в г. Аньси, который вскоре за станцией Куфи начал отклоняться к востоку и исчез из вида. На его станциях мы не останавливались, так как не имели права на это и нам пришлось бы платить дорого за корм животных, привезенный издалека.
Вторая дорога — караванная — за станцией Куфи отделяется от первой и идет прямо на юг в г. Сачжеу; на ней станций нет. По этой дороге на последних 150-160 верстах уклон местности в общем стал обратный — на юг. Мы пересекли длинное ущелье каменного хребта, вероятно Курук-тага, чрезвычайно пустынного и дикого, с серыми, черными и белыми камнями, которые торчали в разные стороны, словно чешуи каких-то диковинных чудовищ. За этим ущельем горы начали расходиться в обе стороны; но в общем мы еще больше одного перехода шли среди холмов с очень скудной растительностью, затем миновали обширное камышовое урочище, местами с сухими руслами и красной глинистой почвой, за ним — колодец, разрушенную фанзу и маленькую кумирню и поднялись по узкой долине в широкое ущелье, по которому перевалили через главную цепь Курук-тага и шли еще целый день по горам.
После спуска с этих гор растительность стала более обильной, попадалось много верблюжьих следов, встречались антилопы, зайцы, сороки, вороны. Хамийская пустыня кончалась, и вдали на юге уже показались горные вершины Нань-шаня, скрывавшиеся в облаках. Становилось теплее, и мы, наконец, остановились в обширных зарослях камышей, окаймляющих русло и разливы реки Сулэхэ, текущей из Нань-шаня. Эта река резко поворачивает на запад, протекает мимо городов Юймын и Аньси и затем, еще дальше на западе, впадает в озеро Хара-нур или Хала-чи.
В зарослях этой реки мы остановились, сделали дневки, чтобы после скудных кормов и больших переходов через пустыню дать всем отдых. Здесь оказалось много фазанов, и я успешно охотился. Эти заросли составляли северную окраину большой впадины, верст 30-35 в поперечнике, которая отделяет южное подножие Курук-тага от северной цепи Алтын-тага. В этой впадине мы далее встретили реку Данхэ, которая также течет из Алтын-тага и затем поворачивает на запад. Продолжались камыши, заросли разных кустов, рощи тополей, чередуясь с площадями серых солончаков, по которым то гуще, то реже рассеяны бугры с кустами тамариска, голые участки гладких и блестящих такыров и разбросанные в беспорядке фанзы и пашни китайских поселков.
Наши верблюды то и дело на ходу обрывали кустики колючки, своей любимой закуски, которая получила название верблюжьей колючки [65], и отправляли ее в пасть, корешком вперед; при этом положении длинные и гибкие колючки ложатся острием вперед и не впиваются в глотку и горло. А тут же на полях китайских крестьян часто видны были фазаны, бродившие спокойно, словно домашние курицы в богатом помещичьем хозяйстве или на промышленной ферме. Наша собачка носилась с лаем взад и вперед, вспугивая фазанов, которые перелетали с места на место. Самцы громко клохтали на взлетах, призывая за собой куриц. За два дня перехода по этой впадине я настрелял десятка четыре фазанов, и вечером даже пришлось устроить примитивную коптильню, чтобы заготовить впрок излишек добычи; оба мальчика были заняты ощипываньем перьев, и самым мелким пером мы обновили содержимое китайских валиков, заменявших нам подушки.
Большая дорога в Сачжеу, иначе называемый Дунь-хуан, часто терялась среди зарослей и полей, разветвлялась, и нам приходилось расспрашивать поселян, чтобы не терять общее направление пути. Китайцы были заняты молотьбой разных злаков на зиму и для вывоза на восток в Гань-су, так как впадина, орошенная разветвлениями рек Данхэ и Сулэхэ, считается плодородной и удобной для орошения полей. Поселяне, при виде наших завьюченных верблюдов, конечно, спрашивали, куда и зачем мы направляемся, и многие интересовались нашими товарами. На обоих ночлегах пришлось вскрывать один из тюков с разной мануфактурой, чтобы удовлетворить поселян. Приходили также торговцы — мелкие перекупщики, — но получали ответ, что наши товары назначены для храма Тысячи будд в Дунь-хуане.
На месте первого ночлега росло довольно много тополей, частью посохших, и мы, конечно, нарубили немного дров для своего костра. Когда жители соседнего поселка увидели, что мы рубим дрова, несколько человек подбежали и также стали рубить деревья. На наш вопрос, почему они занялись этим, они сказали, что эти деревья казенные, т. е. государственные, и их вообще запрещено рубить. Они воспользовались нашим примером, чтобы потом заявить, если власть заметит порубки, что они сделаны проезжими по незнанию запрета.
В общем в оазисе Сачжеу считается около 35000 жителей, а в самом городе Дунь-хуан 7000. Город состоит из двух частей — старой и новой. Каждая, конечно, окружена глинобитной толстой стеной с зубцами и несколькими воротами каменной кладки, запираемыми на ночь. Новый город с лучшими постройками вмещает начальство и отряд маньчжурского войска, а старый — всю торговую часть. Он очень грязен, улицы узкие и кривые, за исключением двух главных — продольной и поперечной, которые идут прямо и немного чище. Но вообще, как и в других китайских городах, главные улицы торгового города сплошь заняты лавками, мастерскими, харчевнями и постоялыми дворами. Собаки и свиньи являются единственными санитарами, занимающимися чисткой улиц от съедобных отбросов. Выбоины, заполненные грязью, просыхающие вероятно только летом, попадаются на обеих улицах, как и всякий мусор. К нему присоединяются запахи харчевен и передвижных кухонь, в которых жарят на сале и кунжутном масле и варят разную снедь, потребляемую тут же на улице прохожими.
В городе мы узнали, что пещеры тысячи будд расположены в нескольких местах в 25 и более верстах от Дунь-хуан. Поэтому мы только переночевали на постоялом дворе в предместье, закупили провизии и утром пошли дальше, чтобы устроить свою стоянку вблизи пещер, в спокойной обстановке, вдали от города с его вонью, любопытными посетителями и властями.
Главные пещеры, называемые Чэн-фу-дун, расположены на юго-восток от города в обрывах голой возвышенности, составляющей одну из передовых гряд Алтынтага. Они были построены при династии Хань, разрушены монголами, потом несколько раз восстанавливались и разрушались. Мы нашли только часть их в состоянии, доступном для осмотра, и узнали от лам — хранителей, что пещеры привлекают богомольцев с первого по восьмой день 4-й луны (т. е. весеннего месяца) в количестве нескольких тысяч.
Вместе с водой реки Данхэ кончилась и зелень оазиса Сачжеу, и дорога к пещерам шла по пустыне, разрезанной логами, вдоль желтой оголенной цепи холмов и горок. Вдоль дороги растительность очень скудная, хотя время от времени попадались купы тополей, кусты тамариска, эфедры, хармыка и возле них развалины фанз или небольшие жилища.
После пяти часов пути по такой скучной местности мы увидели, что на крутом склоне однообразной цепи, обращенном в нашу сторону, появились на высоте от 3 до 10 сажен над подножием остатки стен, и среди них чернели отверстия, издали казавшиеся норами мелких и крупных животных. Далее среди таких развалин появились восстановленные фанзы порознь или по нескольку друг возле друга. Это и были группы пещер Тысячи будд Чен-фу-дун. В одном месте у подножия гряды оказалась довольно большая роща не только тополей, но и карагача, джигды, с зарослями чия и верблюжьей колючки на окраине. В роще было несколько развалин, а в одной из пещер у подножия гряды мы увидели группу лам. Переговорив с ними, мы получили разрешение разбить свой лагерь в этой роще, где соломинки, остатки аргала и мелкий мусор показывали, что здесь кочуют иногда люди.
Места для нас и наших животных было достаточно, но в отношении материала для огня и в особенности подножного корма условия были трудные. Мелкий валежник, кусты полыни и аргал можно было собирать кое-где, но корм был плохой, только для верблюдов и в малом количестве, так что пришлось подумать о доставке его со стороны. Вода в виде небольшого ключа протекала поблизости у подножия возвышенности. Мы устроились на чистой площадке в тени деревьев, а вечером нашу палатку посетил старший лама пещер — хэшан. Он сообщил нам, что пещеры были сооружены при династии Хань, царствовавшей с 202 года до нашей эры по 220 год новой. Затем были разрушены монголами и восстановлены при династии Тан (с 618 по 907 г.), но позже также не раз разрушались, в последний раз дунганами в половине XIX века. Богомольцы собираются с 1-го по 8-е число 4-й луны до 10000 человек. Главная статуя изображает великого бога Да-фо-ян в сидячем положении, высотой в 13 сажен с лишним. Хэшан жаловался, что китайское правительство не принимает никаких мер для восстановления пещер, надеясь, что это сделают на средства богомольцев. Поэтому удалось пока восстановить только небольшую часть, наиболее доступную и вмещающую изображение Да-фо-яня, которая своей величиной привлекает богомольцев.
Хэшан узнал, что у нас имеются в продаже ткани для одежды лам, мелкие принадлежности буддийского культа — курительные свечи, масло для лампад, медные чашечки и др. — и житейского обихода и был очень рад этому, а возможность обмена всего этого на старые рукописи и книги увеличила его восторг по случаю нашего прибытия. Но разные намеки в его речах давали понять, что торговаться с ним придется упорно. Он был очень доволен, узнав, что мы в китайском ямыне Дунь-хуан еще не были и вообще китайским властям о своем прибытии и своих целях не говорили. Очевидно, китайские и буддийские начальники здесь соперничали друг с другом по скупке иностранной мануфактуры.
На следующий день мальчики погнали животных на пастбище в сторону от пещер, Лобсын остался у палатки, а я со старшим ламой и несколькими другими ламами отправился в обход пещер, которых оказалось гораздо меньше тысячи. Они расположены несколькими ярусами на крутом склоне гряды, сложенной из довольно мягких пород, в которых не так трудно было выкапывать или вырубать большие подземные комнаты, выбрасывая материал, вынимаемый из них, вниз по склону. Не трудно было заметить, что в пещерах сочетаются сооружения различной давности. Крутой, нередко почти отвесный, склон этой гряды в одних местах содержал ряды келий или комнат разной величины с совершенно открытыми дверными отверстиями, но различной степени сохранности, тогда как в других частях перемежались пачками желтоватые неровные пласты горных пород, толщиной в 2-3 аршина, выступая карнизами и отделяя друг от друга остатки келий и зал с зияющими дверными отверстиями и стен с отчасти сохранившейся штукатуркой, побелкой и цветными фресками.
Это, повидимому, были самые древние пещерные жилища буддийских лам, молитвенные помещения и галлереи с фигурами божеств, уцелевшие еще в виде части внутренних стен, тогда как передние или наружные почему-то обрушились. Горная порода, слагавшая эту гряду горизонтальными пластами разной толщины, очевидно, выветривалась довольно быстро. Вероятно, сначала разрушались наружные стены (отчасти может быть возведенные людьми на естественных уступах обрыва) и вскрывались комнаты и залы, которые в дальнейшем приходилось оставлять, выкапывая вместо них новые глубже в горе, так как видно было, что зиявшие отверстия дверей вели еще дальше вглубь, в залы, ставшие уже недоступными без приставной лестницы. В других же местах всего обрыва, или только в отдельных ярусах среди таких необитаемых уже келий, видны были отверстия, вполне сохранившихся келий, и в них различимы фигуры разных божеств, святителей и героев разной степени сохранности.
Я обошел для беглого осмотра целый ряд зал и келий в доступных ярусах пещер и условился с старшим ламой, что он будет давать мне еще дневного проводника, знающего помещения и могущего также называть мне имена фигур и их религиозное значение. Некоторые из них были целы, раскраску сохранили свежую и полную, — это, вероятно, были те, которые наиболее интересуют богомольцев или почитаются ими. Большинство же фигур находилось в разной степени разрушения, раскраска их полиняла или исчезла, штукатурка крошилась или совсем отпала, равно и часть их одеяний и даже членов.
Напомню, что в буддийских фигурах настоящая скульптура — редкость. Немногие высечены из мрамора или другого прочного материала, или отлиты из металла. Большинство же изготовляется художниками из соломы (крупные фигуры) или другого легкого материала и затем облицовывается слоем гипса или даже глины, которые и раскрашиваются. Эта легкость изготовления объясняет обилие фигур (которые скульптурой назвать, конечно, нельзя) во всех буддийских и китайских храмах. Мелкие же фигуры отливаются из бронзы и обычно являются пустотелыми, или же вырезываются из дерева, или лепятся из глины и обжигаются и, если нужно, раскрашиваются.
Пещеры имеют 4-5 сажен длины, 3-4 сажени ширины и столько же высоты. Против входа в нише стены сидит крупная фигура, сам Будда, а сбоку от него стоят еще три фигуры второстепенных лиц или божеств, которые в разных пещерах различны. Кроме этих пещер, называемых малыми, имеется несколько вдвое более крупных; в них фигуры стоят не в нишах, а посередине и дополнительные стоят позади и по бокам стен. Самая большая фигура называется Дафуян и имеет 12-13 сажен вышины; ступня ее ноги 3 сажени длины, а расстояние между обеими ногами внизу 6 сажен. Вторая по величине Джо-фу-ян — вдвое меньше, находится в другой пещере. Кроме того, имеются две лежачие фигуры, одна Ши-фу-ян, окруженная 72 детьми; ее голова, кисти рук, сложенные на груди, и босые ноги вызолочены, а одеяние красное. Другая лежачая фигура изображает женщину. Перед входами в большие пещеры и внутри их поставлены фигуры разных героев часто с зверскими лицами, в их руках мечи, змеи, одни сидят на слонах, другие на драконах. У больших пещер и некоторых малых висят чугунные колокола, а в пещерах стоят барабаны. Речка, текущая у пещер, называется Шуй-го и образуется из ключей, выбивающихся в верховьях непроходимого ущелья, прорезавшего конец пещерной гряды гор.
В некоторых пещерах попадались очень хорошо сохранившиеся фрески на стенах и сводах зал с раскрашенными фигурами, разными узорами и целыми сценами. Изучение их специалистом по буддийскому культу, конечно, обнаружило бы много интересного. Но у меня не было ни уменья срисовывать фрески, даже менее сложные, ни фотографического аппарата, чтобы снимать их. Поэтому мне пришлось ограничиться описанием некоторых сцен на фресках и объяснением их, которое мне давали ламы пещер, в лучших случаях старшина; поэтому за точность и правдивость объяснений я ручаться не мог. Я делал также грубые рисунки интересных фигур, записывая объяснения лам, в надежде, что специалисты в Эрмитаже разберутся в том, что их заинтересует; этот материал дополнял те предметы, рисунки и рукописи, которые я хотел приобрести в пещерах и увезти с собой.
Осмотр этой группы пещер занял целую неделю, причем два раза меня сопровождал Лобсын, который, меняясь с мальчиками, попеременно караулил наш стан и гонял на пастбища животных. А по вечерам — темнело уже в 6 часов вечера — я дорисовывал эскизы фресок и фигур, часто с помощью кого-нибудь из лам. Ламы знакомились с нашими товарами — мануфактурой, мелкими вещами для культа и для домашнего обихода и отбирали все, что хотели бы купить, и сговаривались насчет цены.
После этого старший лама повел меня в одну из камер, которая была на замке, и показал мне рукописи книги, которые соглашался продать или, вернее, обменять на наши товары. Место хранения рукописей находилось в одном из верхних этажей пещерных галлерей и не в камере, имевшей через дверь сообщение с наружным воздухом, а в такой, в которую можно было проникнуть, только миновав три камеры одну за другой, т. е. в самой глубине пещер, где воздух в течение столетий не освежался и содержал только влагу, сохранившуюся со времени сооружения пещер около 1000 лет назад, как уверял старший лама. Он говорил, что такое содержание древних рукописей при неизменных условиях температуры и влаги и отсутствии дневного света необходимо для их сохранности. Самое главное хранилище он мне даже не показал, а привел в небольшую темную залу, где на деревянных полках лежали свертки рукописей разной длины и толщины, очевидно отобранных из главного хранилища самим старшим ламой и предлагаемых для продажи. По словам старшего ламы, само хранилище состоит из пяти больших, совершенно сухих комнат, в которые никогда не просачивается вода, всегда бывает та же прохладная температура. В комнатах на простых деревянных полках, в некотором отдалении от потолка, пола и стен, лежат свертки рукописей в определенном порядке. В хранилище лама ходит очень редко и только рано утром в тихие дни, причем последовательно сначала в первую снаружи камеру, где ждет несколько минут, необходимых для произнесения определенных молитв, затем во вторую с таким же выжиданием и наконец в последнюю, где также ждет некоторое время, не прикасаясь к рукописям.
Эти правила выжидания, сказал лама, установлены с давних пор чтобы входящий успел освободиться от теплого или холодного воздуха и влаги, которые несет на своей одежде и на себе, а также от дурных мыслей.
— Но как же ты входишь? — спросил я его, — в камерах ведь темно?
— Я несу с собой маленький фонарь, из тех, которые у нас употребляются в праздники нового года. Он из промасленной бумаги с написанными на ней тушью молитвами, которые нужно прочитать в каждой камере, чтобы отогнать злых духов, стремящихся пробраться вместе со мной в хранилище благочестивых мыслей и великих изречений Будды.
Я воспользовался случаем и сказал, что могу уступить ему маленький фонарь со стеклами, которые не могут загореться и вызвать пожар в хранилище, как промасленная бумага, и поджечь сухие свертки рукописей, опасные в пожарном отношении.
— А что горит в этом фонаре? — спросил лама.
— Твердое белое горючее вещество, называемое стеарином, которое у нас делают из бараньего сала — объяснил я ему. — Оно не плывет, не пачкает рук, как сало китайских свечей, не проливается, когда несешь фонарь в руках, как масло в светильниках, горящих перед изображением Будды в ваших кумирнях.
Ламы еще никогда не видели русских стеариновых или восковых свечей. Им стеариновые больше понравились и они обрадовались тому, что я могу продать, вернее, обменять на рукописи, полсотни таких свечей. Нужно сказать, что я — согласно спросу монгольских и китайских покупателей — возил с собой стеариновые свечи и не обыкновенные тонкие и длинные известной у нас фабрики Жукова, а более короткие и толстые, употреблявшиеся для фонарей в железнодорожных вагонах, а для монгольских кумирен также толстые церковные восковые свечи и маленькие парафиновые, изготовляемые для детских елок.
В принесенных мне для обмена двух больших тюках рукописей оказалось следующее: китайские — нескольких династий, монгольские, тибетские, санскритские, тюркские, в том числе несколько уйгурских в форме небольших книжек, центральноазиатские и браминские [66]. В связи с различным происхождением и возрастом некоторые рукописи имели бумагу разного качества, толщины и даже цвета и представляли толстые и тонкие свертки разного формата. Все они были писаны тушью на перечисленных разных языках, некоторые имели оттиски каких-то печатей, другие представляли свертки, которые нужно было разворачивать, чтобы читать их сверху вниз и одни справа налево, другие, наоборот, или по горизонтальным строкам. Один сверток представлял, с одной стороны, центрально-азиатскую браминскую рукопись, а с другой — китайскую, но были ли они одного содержания, т. е. представляла ли китайская перевод браминской — лама не мог сказать. Попалось несколько рукописей в форме книжек, возможно печатных, а не рукописных, а один длинный и узкий листок представлял отрезок листа какой-то пальмы, исписанный по-санскритски.
Старший лама заявил, что все рукописи — древние в большей или меньшей степени. Приходилось верить этому, так как проверять я не имел возможности по незнанию, а Лобсын мог только подтвердить, что в числе их есть монгольские, тибетские и, кроме того, на разных незнакомых ему языках. Цвет и качество бумаги, характер свертков подтверждали их различный возраст. В дополнение к рукописям лама предложил нам несколько китайских шелковых платков с фигурами и надписями, несколько бумажных и шелковых картинок в виде свертков с деревянными линеечками вверху и внизу для удобства разворачиванья и подвешиванья на стене. Это были картинки буддийского культа. В общем все, предложенное нам старшим ламой в обмен на материал для ламских одежд, религиозные и бытовые объекты и в виде свертков с древними рукописями и картинками составило только два не очень тяжелых вьюка, а мы должны были отдать за них шесть хороших вьюков. Мелкие деревянные, металлические и глиняные фигурки божеств и героев, а также мои рисунки фресок составили еще небольшой вьюк. В общем же я никак не мог поручиться не только за выгодность обмена в том смысле, что он оправдает наши затраты товарами, работой и временем хотя бы с небольшой прибылью, но не мог быть уверенным в том, что он окупит стоимость одних товаров, оставленных храму Тысячи будд. Только прошлогодний опыт с рукописями и древностями, вывезенными из Хара-хото и окупившими наши расходы с небольшой выручкой, позволял надеяться, что и в этот раз наше предприятие не будет убыточным.
Правда, в Хара-хото мы вели раскопки в развалинах, оставленных людьми и не являвшихся ничьей собственностью, разве китайского народа в целом, и добыли там, кроме рукописей, монеты разного возраста и ценности, остатки тканей, одежды, посуды и других вещей, тогда как в пещерах Тысячи будд нам не позволили раскапывать завалившиеся и обрушившиеся пещеры, вообще производить какие-нибудь раскопки, а только разрешили осмотреть храмы, срисовать фрески и фигуры и увезти с собой только рукописи и мелкие изделия самих лам в виде фигурок божеств и героев.
После трех недель пребывания в Дунь-хуане я убедился, что больше ничего мы достигнуть не можем. Нужно было быть знатоком литературы и истории Индии, Тибета и вообще Внутренней Азии и ее народностей, чтобы судить правильно о значении этих храмов Тысячи будд, изображений в них и предлагаемых рукописей. Я мог только догадываться, что разнообразные по языку, возрасту и качеству рукописи должны представлять большую ценность, если только они не являлись подделкой, которой занимались ламы храмов для продажи паломникам под видом старинных. Но подделывать рукописи санскритские, уйгурские, браминские и даже китайские было, конечно, не легко, и разнообразие по языку, бумаге и общему виду предлагаемых рукописей устраняло подозрение в этом. Мелкие фигурки божеств из глины, металла и камня ламы, конечно, изготовляли для продажи богомольцам, но этого они и не скрывали, и я брал эти изделия просто, чтобы не обидеть лам. То же можно было сказать и относительно картинок по шелку и на бумаге, казавшихся мне современными. В общем мы расстались с старшим ламой вполне дружелюбно, и он приглашал нас приехать еще раз через год, обещая достать для нас рукописи из самых древних камер.
Октябрь близился к концу, когда мы распростились с ламами пещер и пустились в обратный путь. Лобсын использовал наше пребывание здесь, чтобы подробно расспросить у некоторых лам, бывавших в Лхасе, условия паломничества, снаряжения, самого пути по Тибету и Цайдаму, а также пребывания в Лхасе, тамошней жизни и нравах святого города. Старший лама побывал в Лхасе лет 20 назад, но оживлял свои воспоминания ежегодно беседами с паломниками, возвращавшимися оттуда. Лобсын, беседуя с ним, укреплялся в мысли, что лет через пять-десять он должен побывать в Лхасе и поклониться далай-ламе. На обратном пути, который мы совершали с небольшими вьюками, т. е. без больших хлопот по развьючке и вьючке, я часто слышал, как Лобсын просвещал наших мальчиков в отношении буддизма и знакомил их с его принципами. Мои не слишком почтительные замечания в отношении перевоплощения душ, всепрощения, созерцательной и в сущности самоудовлетворенной и малодеятельной жизни буддийского духовенства он скромно оспаривал, но чаще уклонялся от обсуждения, повторяя слова буддийской молитвы «ом-мани-пад-ме-хум».
От пещер мы направились не в город Дунь-хуан, а прямо на северо-запад к броду через реку Сулэхэ, так как я опасался, что китайские власти, конечно знавшие о нашем пребывании у пещер и торговле с ламами, захотят проверить, что мы увозим оттуда и могут наложить запрет на вывоз старых рукописей, задержать нас под предлогом просмотра этих рукописей, а может быть просто, чтобы получить с нас мзду за пропуск покупок.
Мы пошли по равнине с пустырями, зарослями чия, камышей, рощами тограков и тамарисков, разветвлениями реки Данхэ и через Ши-цу-эр и какие-то развалины старинных городов, представлявших башни из сырцового кирпича, ограды, стены фанз различной величины. Возможно, что раскопки в иных местах дали бы что-нибудь интересное, но я боялся задержаться здесь в районе властей Дунь-хуана по изложенной выше причине. День отъезда мы скрывали от лам и населения пещерного города и, простившись только с старшим ламой, вечером снялись со стоянки ранним утром и пошли не по большой дороге в город, а прямо к броду через реку Сулэхэ.
Этот брод не представил затруднений, так как летнее таяние ледников в Алтын-таге и Нань-шане уже прекратилось и ежесуточной прибыли воды в реке не было, ее можно было переходить в любое время дня и ночи там, где она разливалась несколькими рукавами, тогда как по дороге в Дунь-хуан нам пришлось бы ждать спада воды ранним утром. От брода мы пошли по большой дороге через Хамийскую пустыню в горные гряды Курук-таг и Чол-таг, как описано выше.
Характер местности, очень однообразный по своим то скалистым, то округленным, сглаженным грядам, плоским широким понижениям, щебневым полям и глинистым такырным площадкам в понижениях, временно затопляемых водою, представлял мало интереса. Ученый геолог может быть нашел бы много разнообразных горных пород и минералов, обнаружил бы среди них особенно интересные. Но для меня все они представляли то, что мы, необразованные мальчишки долины реки Бухтармы на Алтае когда-то называли «собакитами» и «швыркитами», соответственно главному назначению этих камней для нас. Облик местности в виде общего поднятия от реки Сулэхэ к северу, к грядам Курук-тага и Чол-тага, разделенным понижением, и затем общего понижения на север к г. Хами уже описан выше.
У брода через реку Курук-гол, текущую из Карлык-тага, мы свернули с большой дороги, идущей дальше к Хами, так как посещать этот город не было надобности. Пополнить нашу провизию после длинного пути через пустыню хлебом, мясом, дынями, виноградом мы смогли уже в селении на упомянутой речке и направились теперь почти на запад, приближаясь к большому тракту из Хами в Люкчун и Турфан. Мы могли бы пойти и несколько более короткой дорогой, по которой в сентябре из Люкчуна пришел с нашим караваном Лобсын. Но в селении Елмек, где от этой дороги отделялась та, по которой нам нужно было выйти на большой тракт, нам сказали, что уже начался период очень сильных ветров в Долине бесов, и сообщение по дороге через Кара-тюбе, Опур и Сарыкамыш дней на 10-15 прекратилось. Поэтому мы повернули на северо-запад и у селения Тогуча вышли на тракт, по которому и следовали в Люкчун и Турфан.
Этот тракт идет от Хами, постепенно приближаясь к подножию Тянь-шаня, который на протяжении почти 300 верст между меридианами Хами и Чиктыма значительно понижен и не несет вечноснеговых вершин. Дорога неровная, пересекает многочисленные понижения, лога и овраги, идущие из Тянь-шаня на юг; по ним расположены казенные станции, небольшие постоялые дворы, селения таранчей, отдельные фанзы, поля, рощи. В одном месте, за ключами Джигды возле тракта, находятся копи, в которых почти у самой поверхности земли добывают каменный уголь хорошего на вид качества, вывозимый в Хами и по всему тракту в Сачжеу для отопления станций, где и мы три раза пользовались им.
За этой копью на пути к станции Лодун ветер, усилившийся до степени бури, заставил нас остановиться раньше времени, так как порывы ветра, направленные прямо навстречу, останавливали даже груженых верблюдов. На станции Лодун пришлось с большим трудом разбить палатку, которая выдержала уже не мало ветров во время наших путешествий. Но здесь к вечеру буря усилилась до того, что разорвала палатку по ее швам и нам пришлось укрыться на постоялом дворе и платить за воду для чая и супа и за корм для животных.
На следующий день, несмотря на сильный встречный ветер, мы все-таки пошли дальше, но дошли только до станции Чоглу-чай, где опять пришлось укрыться на постоялом дворе, так как в поле невозможно было развести огонь и вскипятить чай — ветер задувал пламя, а чайник раскачивало так, что вода выплескивалась. Здесь нам рассказали, что лет 20 назад на эту станцию в начале бури прибыл обоз из 15 китайских телег, т. е. двухколесных и очень высоких. Их предупредили, что надвигается очень сильная буря и лучше переждать ее на станции. Но возчики очень торопились, заявили, что в телегах буря им не страшна, и уехали. На следующую станцию они не прибыли, очевидно, буря подхватила высокие и не очень тяжелые телеги и унесла их, людей и животных.
Станция расположена в устье ущелья, в самом начале небольшого кряжа голых скалистых гор, который тянется на юго-запад, отгораживая с юга обширную впадину, вытянутую вдоль главной цепи Тянь-шаня. Вокруг станции нет никакого подножного корма, и нам пришлось купить для лошадей и верблюдов по довольно высокой цене соломы и несколько снопов сухой люцерны. За станцией дорога пошла подлинной впадине Дуниен-чже вдоль Тянь-шаня; она представляла обширный солончак с рощами тополей, тамариска, разных кустов и чия и отдельными холмами сыпучего песка. Но тополи в этой впадине вымирают, очевидно, от засоления почвы, так как стока воды из нее нет и почва все больше насыщается солью; а разолистный тополь (тограк) не выдерживает сильного засоления, хотя и растет на солончаках. По сторонам дороги видны были мертвые деревья, иные еще с тонкими молодыми ветвями, а другие в виде пней разной высоты и толщины, с спирально закрученной древесиной и остатками толстых сучьев, очевидно засохших уже давно. Лобсын удивлялся тому, кто так небрежно рубил эти деревья: одни под самой кроной, другие на половине высоты, оставляя так много дров на корню в этой безлесной стране, и мне пришлось объяснить ему, что такое засоление почвы в впадине, лишенной стока вод. Но все-таки было странно, почему эти сухие стволы так близко от станции Чоглу-чай, конечно нуждавшейся в дровах, не срублены. Очевидно, они так были пропитаны солью, постепенно губившей их, что очень плохо горели.
В этой впадине на дороге имеются три станции, и мы шли по ней три дня, так как вне станций нет ни колодцев, ни ключей. Пришлось опять покупать воду и корм для животных, а также хлеб и похлебку для себя. Третья станция представляла просто маленький пикет, в котором жили два солдата, и мы могли бы миновать ее и остановиться на следующей, если бы не буря, которая разразилась, когда мы приближались к ней. Ветер был такой силы, что трудно было держаться в седле, а завьюченные верблюды при порывах бури останавливались под напором ветра. Я пробовал бросать вверх плоские плитки камня, и буря сносила их в сторону, не давая падать им вертикально вниз. У пикета пришлось остановиться и под защитой горы раскинуть палатку в самом ущелье. Здесь наши животные поголодали, так как на пикете не было корма на продажу. В ущелье было сравнительно тихо, но над палаткой слышен был гул и рев ветра и по временам налетали шквалы с той или другой стороны и на палатку сыпался песок и мелкие камни.
На дне этой впадины я заметил кое-где голые грядки, высотой до полуаршина, состоявшие из мелких камешков, величиной в кедровый и лесной орех. Они, очевидно, были наметены ветрами, уносившими пыль и песок куда-то дальше. Во время бури перед третьей станцией воздух во впадине посерел от пыли, которая поднималась столбами с солончака и песчаных холмов. Этот бурный день дал нам понятие о том, что происходит во время самых сильных бурь в Долине бесов.
За пикетом, у которого мы остановились из-за бури, тракт перевалил в другую впадину меньших размеров, но также с солончаком в средней части. А по окраинам ее на склонах гор голые скалы обратили на себя мое внимание тем, что все они были совершенно черные и блестящие, словно их вымазали дегтем или каким-то лаком. Это меня заинтересовало, я подъехал к одной из скал и потрогал рукой ее блестящий бок — он оказался совершенно сухим. Чтобы узнать, чем он вымазан, я достал из чересседельной сумы, в которой возил то, что нужно было иметь под рукой на всякий случай, молоток и попробовал отбить углы нескольких черных скал. Оказалось, что черными они были только сверху, а внутри некоторые были темнозеленые, серые, буро-красные и, действительно, казалось, что их кто-то вымазал черным лаком или краской [67].
Но рядом с этими черными скалами видны были маленькие холмики из грязножелтого песка, не покрытые этим лаком, и контраст этих холмов и скал рядом был поразительный [68].
Из этой впадины мы выехали по длинному и сухому ущелью через передовую цепь Тянь-шаня на его южное подножие, по которому медленно спускались до вечера. Это была полная пустыня, усыпанная галькой и щебнем, также сплошь черного цвета и блестящим. Только местами, где в поверхность врезались плоские ложбины и сухие русла, кое-где видны были жалкие и редкие кустики. Мы ехали и ехали, не видя впереди и позади ничего, кроме черных камней, усеивавших серую почву. Подобные площади вспомнились в Черной Гоби на пути из Баркуля на Эдзин-гол в Хара-хото, где мы встретились с Черным ламой. Выбрал ведь он для своего убежища эту черную пустыню! Только под вечер сухие русла и ложбины стали попадаться чаще, и мы, наконец, остановились ночевать среди каких-то развалин, где обнаружили глубокий колодец. Пришлось снять с вьюка веревку, чтобы достать воды. Но животным пришлось опять поголодать. Мы могли дать им только остатки сухарей, крошки хлеба, а верблюдам — последнюю муку.
На следующий день эта пустыня скоро кончилась довольно высоким откосом, местами с обрывами, здесь из галечника выбивались ключи, а немного далее было большое таранчинское селение Чиктым, где мы очень рано остановились, чтобы дать отдых животным и подкормить их после нескольких тяжелых и постных дней. Корм, конечно, пришлось купить. Но можно было удивляться тому, что здесь пролегал большой тракт из Хами в Турфан, Урумчи, Кульджу. Сопоставляя природу этого участка тракта с остальной его частью и с тем, что я видел в Долине бесов, а Лобсын на своем маршруте, можно было понять, почему по Долине бесов все-таки некогда проложили большую дорогу из Хами в Люкчун и пытались ездить по ней, хотя бы в спокойные месяцы. Дорога эта все-таки была прямее, короче и ровнее, чем современный тракт, по которому мы теперь шли.
После Чиктыма местность потеряла свой безотрадный характер; ее оживила вода, выбивавшаяся многими ключами из галечников подножия Тянь-шаня. Здесь были рощи, поля, отдельные фанзы, поселки таранчей, заросли тростника, кустов. Мы шли целый день по населенной местности с разбросанными среди нее холмами отрогов последней цепи Тянь-шаня. При виде этой жизни рядом с голой пустыней, по которой мы шли накануне, я удивился полному отсутствию предприимчивости у таранчей. Галечники пустыни содержали в глубине много воды, о чем свидетельствовали вытекавшие из-под них обильные ключи. Но воду ведь можно было бы получить при помощи бурения в самой верхней части этой пустыни и превратить последнюю в оазис. Попытку найти и использовать подземную воду представляли и кярызы, которые мы видели в Люкчунской впадине и о которых я упомянул в описании ее; но это были жалкие попытки с несовершенными средствами.
На следующий день мы вышли в оазис города Пичан, и остановились на южной окраине. Город и его сады и рощи лежали справа, а мы выбрали пустырь, где наши животные могли пастись в зарослях чия и кустов. На юг от нашей стоянки, вдали, видны были высокие желтые холмы с довольно пологими склонами. От проезжавшего таранчи я узнал, что это Кум-таг, т. е. песчаные горы. Это были те же большие пески, мимо которых я проехал с юга из селения Дыгай перед вступлением в Долину бесов. Таким образом, я увидел их теперь с другой стороны, с севера, и отсюда они казались выше, чем с юга. Вдоль их северной окраины тянулась цепь песчаных барханов обычной высоты в 3-5 сажен, но с нашей стоянки эти барханы казались просто холмиками по сравнению с высокими Кум-таг, которые были раз в десять выше, т. е. достигали 30-50 сажен над равниной Пичана, представляя настоящие песчаные горы.
Мне захотелось рассмотреть их ближе, и я под вечер съездил к ним верхом. Это, действительно, были целые горы голого песка, поднимавшиеся полого над равниной, поросшей довольно хорошей травой и полынью. Кое-где на них видны были пучки песчаной травы и кустики саксаула, но они мало смягчали вид этой песчаной пустыни. Меня занимал вопрос, откуда же нанесло сюда эту массу песка, и, сопоставляя с направлением ветров Долины бесов, я подумал, что песок приносило с запада из Люкчунской большой впадины, дно которой представляло пустыню, за исключением полосы вдоль речек, вытекавших из гряды гор, окаймлявших впадину с севера. Да и эти совершенно голые гряды, состоящие из песчаных пород, должны были давать ветрам много материала для уноса на восток.
Из Пичана мы пошли дальше на юго-запад. За рощами и садами города дорога вступила в долину, вернее, в широкий проход между песчаными горами Кум-таг и холмами из красных, желтых и зеленых песчаных пород, составлявших конец гряды Ямшин-таг, окаймляющей с севера впадину Люкчуна. Этот проход понижался понемногу, как бы углубляясь, словно сток вод в Люкчунскую впадину, и наконец открылся в нее, расширяясь. Окраина Кум-тага отодвинулась влево, а холмы Ямшин-тага повысились и превратились в ту голую скалистую гряду, которая была нам знакома по раскопкам в Люкчуне, ограничивавшая с севера рощи, сады и улицы таранчинского города, орошаемые водой речки, вытекавшей из прорыва в этой гряде.
Уже в сумерки мы прошли через этот оазис и остановились у того старшины, у которого нанимали квартиру для немцев во время раскопок. Старшина встретил нас хорошо, и мы целый вечер рассказывали ему о своих приключениях за истекшие годы, а он сообщил, что после нашего отъезда у него были неприятности с немцами из-за незнания ими языка.
Прибытием в Люкчун закончилась интересная часть нашего путешествия, так как дальше шли знакомые уже места. Через Турфан, Урумчи и Шихо, а затем через Джунгарскую впадину и горы Майли и Джаир мы вернулись без неприятностей в Чугучак. уже в декабре, испытав довольно сильные морозы. Мы убедились, что климат в Дунь-хуане гораздо теплее, чем в нашей местности.
В Чугучаке консул с большим интересом выслушал мое описание Долины бесов, Хамийской пустыни и пещер Тысячи будд. Он помог составить мне список привезенных оттуда рукописей, заглавия которых пришлось аккуратно копировать, чтобы специалисты-языковеды могли определить их содержание и выяснить, стоит ли их высылать в Академию наук, заслуживают ли они оценки, которую пришлось им дать на основании стоимости путешествия и товаров, которые я отдал за них старшему ламе. Этот список я составлял при помощи Очира целый месяц. Несколько первых выписок на разных языках консул отправил в Петербург и получил оттуда известие, что рукописи тщательно изучаются на предмет определения их научной ценности. Консул отправлял их понемногу небольшими казенными посылками во избежание потери на простой почте [69].
Весной я получил извещение, которое меня очень огорчило. Мне сообщали, что все прибыло, рассмотрено, но часть рукописей оказалась подделанной, а остальные не представляют какой-либо исторической ценности. Просто-напросто хлам привезли мы с Лобсыном из Дунь-хуана. Обманули нас ламы кругом.
ПУТЕШЕСТВИЕ К ОЗЕРУ ЛОБ-НОР И В ПУСТЫНЮ ТАКЛА-МАКАН
Неудача нашей экспедиции к храмам Тысячи будд близ Дунь-хуана не отбила у меня охоты к поискам разного рода кладов, находимых в развалинах древних городов и в библиотеках буддийских монастырей. Консул разъяснил мне, что в старые времена, когда морской путь из Западной Европы в Китай был еще очень мало известен и считался очень далеким, трудным и даже опасным, главный путь из Южной Европы в Китай был сухопутный и пролегал по Малой Азии и Персии, откуда караваны через Бухару, Самарканд и Фергану переваливали в пределы Китая, в Джиты-шар, населенный такими же тюркскими племенами, как и Туркестан и Иран. Караваны шли через Яркенд, Кашгар, Нию и Керию вдоль северного подножия громадной горной цепи Куэн-луня; за оазисами в низовьях реки Черчен-дарьи пролегал самый трудный участок пути до г. Сачжеу, где уже начиналось китайское население, большие и малые города и сообщение было не трудное.
Этот путь назывался большой шелковой дорогой, потому что по нему шли все караваны, которые везли из Китая шелк, особенно ценимый в Византии и Италии, а также чай и другие китайские товары на запад, а обратно доставляли европейские товары, имевшие спрос в Китае. По этому пути прошел в XIII веке в качестве итальянского посла в Китай купец Марко Поло, проживший несколько лет в Китае и составивший первое описание этой шелковой дороги, хорошо известное всем востоковедам. Об этом путешественнике я уже упоминал в описании нашего путешествия в мертвый город Хара-хото, где Марко Поло побывал. Пещеры и монастыри с тысячей будд находились именно на этой шелковой дороге и в том месте, где кончался самый трудный и безлюдный участок ее и начинались китайские города. Но западнее Сачжеу в Джиты-шаре в городах таранчей также находились развалины с буддийскими кумирнями, потому что на тот же шелковый путь выходили путешественники из глубины Индии через Белуджистан и Афганистан в Фергану или же по более короткой, но трудной дороге через верховья реки Инда и горы на восточной окраине Памира. И всего более по этому пути буддийские монахи и проповедники пробирались из Индии в Центральную Азию, проникая до Кобдо, Улясутая и Урги и даже дальше в Южное Забайкалье к монголо-бурятам, распространяя и здесь религию Будды.
— Вот почему в городах вдоль этой шелковой дороги также можно было находить развалины буддийских храмов и остатки индийской культуры, — сказал мне консул и прибавил: — Если вы, Фома Капитонович, еще не устали от ваших приключений — сходите в Джиты-шар, побывайте на южной окраине, по которой пролегает шелковая дорога, и разузнайте, нет ли и там интересных развалин. И туда, пожалуй, будет не дальше, чем в Сачжеу и, конечно, ближе, чем в Хара-хото.
Он развернул передо мной карту Внутренней Азии и, рассмотрев ее, мы сразу же пришли к выводу, что нужно ехать от Урумчи прямо на юг и юго-запад через Карашар и Курля к нижнему Тариму и вниз по нему до реки Черчена и вверх по последнему до Керии и Нии.
— Вот по этим двум рекам, текущим с высот Куэн-луня на север, в прежние времена населенные пункты тянулись дальше на север, чем в настоящее время, — пояснил мне консул. — Пески Такла-макан подвигаются на юг, засыпают оазисы и заставляют людей уходить. В этих засыпанных оазисах, наверно, найдутся оставленные храмы и дома, а в них клады для вас, — прибавил он, смеясь.
Этот разговор происходил в конце весны, после того как мы получили из Петербурга неблагоприятный отзыв из Академии о вещах и рукописях, вывезенных нами из Сачжеу. А дней 10 спустя в мою лавку зашел таранча, повидимому, купец, возвращавшийся из Москвы. Он осматривал мой товар, интересовался его ценами и между прочим сообщил, что в города Джиты-шара московская мануфактура завозится через Фергану и Ош, а не через Кульджу или Урумчи, а цены только немного дороже, чем в моей лавке.
Это замечание позволило мне сделать вывод, что возить свой товар туда, пожалуй, не стоит. Я, конечно, спросил его, что же можно продать там из мануфактуры с некоторой выгодой.
— Я бы посоветовал вам, — сказал он, — завезти в Черчен, Нию, Керию хорошую китайскую мануфактуру, особенно шелк ярких расцветок для женских нарядов, а также чесучу [70]. Эти товары туда редко попадают, и спрос на них всегда есть.
— Да ведь Черчен, Ния, Керия — это знаменитая шелковая дорога старого времени! — удивился я.
— Именно старого времени, когда шелка шли из Китая по этой дороге вдоль Куэн-луня в Ташкент, Бухару и дальше в Европу через Персию и Турцию, — сказал купец. — Но теперь по этой дороге ничего не везут. Шелка из Китая в Европу давно везут уже гораздо более легким и дешевым путем по морям. По старой дороге все станции давно заброшены, и там большие безводные переходы. К нам китайский товар привозят теперь кружным путем через Хами, Турфан, Курля, Карашар, а в Керию и Черчен он попадает через Кашгар и Яркенд.
Эти сведения были для меня интересны, и я рассказал о них консулу, который подтвердил их правдоподобность и спросил, где же я буду закупать китайский шелк, неужели в Чугучаке.
— Конечно, нет! — заявил я. Мы собираемся итти в Китайский Туркестан через город Урумчи. Там и придется покупать, китайский товар. Оттуда мы прямо повезем его через Карашар и по долине нижнего Тарима в Черчен, Нию и Керию.
— А нельзя ли найти этот товар в Токсуне или Турфане? — предложил консул. — Из Токсуна идет большая дорога в Карашар и на Тарим, и китайский товар там должен быть дешевле, чем в Урумчи. Я запрошу об этом нашего агента в Урумчи. Но все-таки я бы посоветовал вам не делать весь расчет на китайский товар. Возможно, что вы на нем в Черчене, Керие и Ние ничего не заработаете. Лучше повезти из Чугучака отборный русский товар тех расцветок, которые особенно в ходу в Джиты-шаре, и занять им половину вьюков, а вторую половину оставить для китайского, который закупите в Урумчи или Турфане, смотря по тому, что узнаем от агента.
Этот совет я, конечно, признал самым благоразумным. Но в общем я решил не загружать товарами весь свой караван и не затрачивать много времени на его продажу, чтобы оставалось время и на раскопки, которые могли дать более интересные вещи. Кроме того, не следовало утомлять верблюдов сразу полной нагрузкой, а беречь их силы для вывоза выкопанных ценностей.
Лобсын вполне одобрил эти соображения, и во второй половине лета мы начали организовывать караван, закупили хороший русский товар: галантерею, крючки, пуговицы, хорошие нитки и другую мелочь и мануфактуру, имеющую особый спрос у мусульманских женщин. От консула я получил справку, что китайский шелк можно закупить и в Токсуне или Турфане дешевле, чем в Урумчи, куда завозят очень мало шелков тех цветов и сортов, которые в большом ходу в мусульманских городах. Из Токсуна такой товар везут прямо через Карашар в Кашгар. Поэтому из Чугучака половина наших верблюдов могла итти без груза, а остальные везли неполную нагрузку, так что ежедневно можно было чередовать их.
В половине августа мы выступили в обычном составе — я, Лобсын и оба мальчика, которым было уже по шестнадцати лет; они стали уже хорошими помощниками нам не только в отношении сбора топлива, ухода за костром и чайником и пастьбы животных, но и при вьючке и других работах. Мы шли ночными переходами, чтобы не утомлять верблюдов.
В конце августа мы выступили из Урумчи по знакомой и уже дважды пройденной дороге в Турфан. В Турфане я нашел хороший выбор китайских шелков и закупил их в количестве, достаточном для загрузки половины верблюдов, но не полностью. Отсюда начиналась незнакомая нам дорога, а следовательно, и мое описание ее.
В Турфане, на северной окраине глубокой впадины между Тянь-шанем и Чол-тагом, большая дорога из Восточного Китая в Синь-цзянь делится на две ветви: правая идет в гг. Урумчи, Чугучак и в Кульджу, левая — в Токсун, Карашар и Кашгар. Правая была нам хорошо известна, по левой нам предстояло итти впервые. Но нас интересовали не Карашар и Кашгар, расположенные на северной окраине пустыни Такла-макан, а гг. Черчен, Ния, Керия, Яркенд на южной окраине той же пустыни, и я старался узнать, нет ли прямой дороги туда из Турфана или Токсуна. Оказалось, что большая дорога идет на запад в города Карашар и Курля вблизи большого озера Баграч-куль, откуда можно проехать вниз по реке Тариму к озеру Лоб-нор и вверх по реке Черчен в Нию и Керию. Но при этом пришлось бы сделать большую петлю на запад, лишних дней 10 пути. А по карте, которую я скопировал у консула, было ясно, что из Токсуна можно итти прямо на юг, к нижнему Тариму, срезая эту петлю. По расспросам в Турфане я не мог узнать, ездят ли этим прямым путем вообще. Нам, привыкшим в своих путешествиях с товарами ко всяким дорогам через пустыни, достаточно было знать, есть ли на этом прямом пути подножный корм и вода, как велики безводные переходы, нет ли высоких и трудных перевалов, чтобы рискнуть пройти. Об этом можно было узнать в Токсуне.
От Турфана до Токсуна около 60 верст, и дорога идет по северо-западной окраине Люкчунской впадины. Справа возвышаются плоские холмы и увалы красноватого цвета со скудной растительностью пустыни, а слева расстилается окраина этой впадины с поселками, садами и полями таранчей на кярызах и ручейках, выбегающих из окраинных высот. Они тянутся узкой лентой вдоль подножия этих высот, а немного далее на юго-восток уступают место заброшенным площадям полей, поросшим уже полынью и колючкой и доказывавшим, что прежде воды для орошения хватало на большую площадь. А еще дальше в этом направлении видны совершенно голые бурые кочки с белыми налетами солей, напоминающие грубо вспаханное поле и уходящие до горизонта. Это пропитанные солями и гипсом сухие отложения дна Люкчунской впадины, среди которых на юго-востоке синела поверхность соляного озера Боджанте.
За пикетом Дадун поселки и поля попадались чаще, так как сюда заходили арыки и разветвления реки, текущей со стороны кряжа Даванчин, который мы пересекли с немцами на пути из Урумчи в Турфан. Он тянется дальше на юго-запад, отделяя впадину Люкчуна от впадины Урумчи и протягивается от вечноснеговой группы Богдо-улы в Тянь-шань к высотам Кара-узень, также увенчанным снегами на юго-западе. В начале этих полей и садов Токсунского оазиса мы ночевали у края сжатого поля кукурузы, оставшиеся стебли которой дали нам материал для костра, но корм для животных пришлось купить в поселке. На следующий день мы уже к полудню пришли в Токсун и остановились в предместье на постоялом дворе, который нам рекомендовали еще в Турфане.
В Токсуне мы с удовольствием узнали, что прямой путь на юг к Лоб-нору и Тариму вполне доступен, что на нем имеются селения, вода, даже речки, а первые два перехода совпадают с трактом в Карашар. Надо только запастись сухарями, чтобы иметь запас на случай ночлегов вдали от селений. Ради этого мы остались лишний день в городе.
Первые два дня мы шли по тракту с пикетами. Сначала дорога поднималась по каменистой подгорной равнине северного склона хребта Чол-таг, затем миновала тесное и угрюмое ущелье, где она извивалась между отвесными скалами, в которых каждый стук копыт наших лошадей вызывал громкое эхо. На первом пикете среди скал можно было купить дрова и фураж, хотя очень дорого, но мы имели запас того и другого и ночевали, миновав пикет в верховьях ущелья у ключа. На следующий день дорога вышла из скал, поднялась на плоский гребень хребта за пикетом Ага-булак и спустилась к пикету Узьме-дянь; на всем этом протяжении растительность была очень скудная — мы перевалили через Чол-таг; здесь тракт ушел на запад, а мы продолжали спускаться по пологому холмистому склону на юг, в пустынную долину, отделяющую Чол-таг от хребта Караксыл, более низкого. В долине — следы высохшего озера, песчаные холмы с тамариском, солончаки, заросли камыша, солянок, саксаула. Ночлег был у колодца Шор-булак, где в зарослях моя охота оказалась очень успешной — я подстрелил дзерена, а Очир, наловчившийся в стрельбе из лука, добыл зайца, пока я ходил по зарослям в поисках дичи.
Недалеко от ночлега, вдоль северного подножия Караксыла, тянулась длинная гряда мелкого песка, в 30- 40 сажен высоты, накопившегося вокруг каменных и глинобитных стен какого-то укрепления, хорошо сохранившихся. Но в долине не видно было жилья, и не у кого было спросить, каких времен эти постройки. Впрочем, степень их сохранности позволяла думать, что им не более сотни-другой лет, а следовательно, интересных для нас кладов они не содержат.
Горы Караксыл мы обогнули с запада и шли дальше на юг по бесплодной долине целый переход до хребта Игерчи-таг. Спустившись с него, прошли через заросли камыша, тамариска с отдельными деревьями тополя вдоль небольшого ручья. В зарослях, судя по многочисленным следам, водятся кабаны. На берегу ручья мы с удивлением заметили большую печь, в которой прежде что-то обжигали; судя по куче шлака поблизости, это, вероятно, была свинцовая руда, но остатков жилья по соседству не было; вероятно, рудокопы жили в палатке. Дальше мы встретили группу горок и возле них источник, орошающий площадь длиной около 5 верст. Здесь мы встретили семью монголов-торгоутов и остановились на ночлег по соседству, так как у них можно было достать молоко. Лобсын, конечно, разговорился с ними, узнав, что они того же племени, что и он. Они, по его словам, когда-то отбились от орд Чингиз-хана и остались кочевать в Курук-таге, промышляя диких верблюдов. Лобсын узнал от них, что вблизи одного из источников этой долины, называемой Тунгуз-лык, имеются стены старинного укрепления и возле них древние могилы. Я на всякий случай записал эти сведения.
С юга долина Тунгуз-лык ограничена плоским хребтом Курук-таг, на котором возвышается группа высоких гор. По словам торгоутов, у подножия этой группы имеются источники и пастбища, а при них зимовки торгоутов. Склоны этой группы гор будто бы так круты, что даже звери не могут взбираться на них. В горах этих часто слышны раскаты грома, пальба из пушек, звон колоколов, музыка, пение. Эти горы считаются буддистами священными. Какой-то святой поднялся когда-то на вершину, недоступную для людей, устроил на ней обо, помолился и исчез. Группа называется Сайхан-ула. По словам других, святой остался в горах и по временам совершает молитвы, вызывая те звуки, которые слышатся людям. Эти рассказы после моего посещения Долины бесов, находящейся в тех же горах далее на восток, заставляют думать, что в этой высокой, скалистой и труднодоступной группе сильные ветры и бури, очевидно, и создают эти различные звуки, замеченные людьми. Я записал эти сведения в дополнение к другим, которые собираю о страшных ветрах Ибэ.
Встреченные нами торгоуты кочевали в долине вдоль северного подножия Курук-тага, занимаясь преимущественно охотой; добытые шкуры они сбывали в Токсуне и о дальнейшей дороге к Тариму ничего определенного не знали; они посоветовали нам итти на юго-восток, через старый рудник в поселок Кызыл-сенир, где найдется проводник до Лоб-нора. Мы так и сделали; первый переход привел нас к старому руднику Кант-булак в северных предгорьях Куруг-тага. Здесь мы нашли только семью сторожа, который сообщил нам, что в руднике работает несколько человек в зимнее время, свободное от полевых работ; рабочие дунгане приходят осенью из Токсуна и добывают свинцовую руду, которую весной плавят под надзором китайского чиновника, приезжающего из Урумчи, куда он и увозит выплавленный свинец. Но рудник, по словам сторожа, очень старый, и некоторые шахты имеют более 100 сажен глубины.
На следующий день мы прошли дальше до поселка Кызыл-сенир. Это — малгнький оазис у подножия Курук-тага, с зарослями камыша, тамариска, рощей тограка, джигды, саксаула и даже фруктовых деревьев, которые развели переселившиеся сюда из Люкчуна таранчи-охотники лет 30 назад. Один из них согласился провести нас к реке Тарим, до которой оставалось еще около 120 верст. Дорога шла через плоские высоты Курук-тага, над которыми поднимались выше отдельные горы. Проводник называл мне их имена, но я не записал их сразу и потом забыл. Местность была мелкогористая и пустынная, но на третий день пути мы встретили целый лес тополей, ограниченный зарослями тамариска и камыша; здесь сохранился еще рукав реки Конче-дарья, который течет из Южного Тянь-шаня и вдоль южного подножия Курук-тага отклоняется от остальных рукавов этой реки дальше на восток. Недалеко от нашей стоянки на берегу русла видны были стены крепости и развалины фанз старинного города Эмпень. Проводник сообщил нам, что кто-то раскапывал эти развалины, но будто бы ничего интересного не нашел; я на всякий случай записал это название. Но реки здесь уже не было, тянулось широкое сухое русло, засыпаемое песком невысоких в lЅ-2 сажени барханов, обращенных пологими наветренными склонами на северо-восток. По старому руслу были разбросаны сухие стволы тополей, некоторые еще стоят отвесно, наполовину засыпанные песком. Нужно думать, что господствующие северо-восточные ветры, засыпая русло реки песком, заставили ее отодвигаться на запад.
При виде этих следов прежней жизни и наличия воды я вспомнил, что консул перед отъездом дал мне перевод выписки из старой китайской летописи Ханьской династии середины I века до нашей эры. Он сказал, что в ней упомянут город на озере Лоб-нор, развалины которого могут оказаться на моем пути и побудить сделать раскопки.
Я достал выписку и прочитал следующее:
«Царство Шань-шань иначе называется Лоу-лан. Город IO-ши, его столица, лежит в 1600 ли от ворот Янг (Великой стены) и в 6100 ли от г. Чанг-ань (Си-ань-фу, совр. столица Шень-си). В ней живут 1570 семейств, 14100 людей, 2912 воинов. Находятся следующие чиновники: наместник для отражения ху [71]; главный комендант Шань-шаня, главный комендант для ведения войны против Гю-ши (Турфан), правый и левый князья [72], князь для войны с Гю-ши, два главных толмача.
На северо-запад до места жительства генерал-протектора 1785 ли, до царства Шань (к юго-востоку от Кара-шара) 1365 ли и на северо-запад до Гю-ши (Турфатс) 1890 ли.
Почва песчаная и соленая. Поэтому мало земледелия и жители зависят от продуктов соседних царств, откуда доставляют хлеб. Царство имеет яшму и много камыша, тамариска, тальника, тополей и белой поросли. Жители со своим скотом ищут орошаемые и заросшие места. Разводят ослов, лошадей и много верблюдов. Умеют изготовлять оружие, похожее на таковое из Дже-цзяня [северо-восток Тибета]». Слова в скобках, очевидно, вставил консул в старый текст для пояснения. Мера «ли» — почти 500 метров.
Судя по этой выписке, где-то здесь по реке Конче-дарье, вероятно ниже по течению, около 1900-1950 лет назад стоял большой город, столица какого-то государства, воевавшего с какими-то ху [гуннами?] и с турфанцами.
Найти местоположение этого города Лоу-лань царства Шань-шань и начать здесь раскопки было бы очень интересно, и может быть дальнейший путь в Нию и Керию становился ненужным, хотя мне после знакомства с Долиной бесов и песчаными горами Кум-таг очень хотелось поглядеть еще знаменитую песчаную пустыню Такла-макан.
Мы стояли на берегу старого русла Конче-дарьи у какого-то колодца, который, по словам нашего проводника с Кызыл-сенира, был выкопан жителями этого селения для ночлегов по дороге к живому руслу этой реки. Там немного дальше были селения и городок Дурал, где они сбывали шкуры диких верблюдов, архаров и дзеренов в обмен на хлеб, ткани и обувь. Я стал расспрашивать этого проводника, не знает ли он чего-нибудь о древнем городе Лоу-лань на Лоб-норе. Он сразу заявил мне, что Лоб-нор гораздо дальше на юг, большое озеро среди болот и зарослей камыша и жители там живут на берегах и островах в хижинах из камыша, занимаясь рыболовством. Я напомнил ему, что он рассказывал мне о старинном городе Эмпень здесь на старом русле Конче-дарьи, где кто-то произвел неудачные раскопки. Тогда он вспомнил, что на этом старом русле верстах в 10-12 выше, т. е. восточнее, он во время охотничьих разъездов видел полузасыпанные песком остатки каких-то жилищ, не каменных или глинобитных, а деревянных, но думал, что это столбы камышовых хижин, подобных хижинам на Лоб-норе, оставшихся здесь со времен, когда по Конче-дарье текла еще вода.
— Когда это было? — спросил я. — Ведь, может быть, старинный город Лоу-лань стоял на Конче-дарье?
— Люди на берегах этой реки жили не так давно, лет 150-200 назад, — ответил он. — Мой отец, умерший лет 20 назад, в возрасте около 80 лет, рассказывал, что в детстве он еще помнил о воде в русле реки, в которой купался летом, когда прибывала вода из гор; а зимой в русле вода была только в отдельных глубоких ямах и ею пользовались немногие, оставшиеся еще жить на умиравшем русле.
— Нельзя ли съездить посмотреть эти остатки жилищ? — спросил я. — В день можно обернуться?
— Конечно, можно, если поехать налегке, оставив караван здесь, — сказал проводник.
Так мы и условились, и на следующий день, оставив весь караван под надзором Лобсына и его сына на месте ночлега, мы поехали верхом — проводник, я и Очир (на лошади Лобсына), захватив пару лопат, кайлу и провиант на два дня, чтобы в случае надобности можно было переночевать, хотя бы без палатки, если раскопка даст что-нибудь заманчивое.
Мы выехали рано утром; был конец сентября, и солнце вставало уже немного позже 6 часов утра. Проводник повел нас на восток прямо по старому руслу реки, где ехать было легче по плотному песку, местами сменяемому солончаками, старыми такырами. В русле нередко были наметены барханчики рыхлого песка, но их легко можно было объехать. Иногда они, впрочем, преграждали все русло и достигали до 2 сажен высоты; их крутые подветренные склоны были обращены на запад, очевидно последние ветры дули с востока; взбираться на крутые и рыхлые подветренные склоны лошадям было бы трудно, и приходилось объезжать барханы или выбирать место смычки двух и подниматься по их слившимся рогам, где высота не превышала одной сажени.
Мы ехали вдоль русла то рысцой, то шагом, объезжая барханы или пересекая их по месту соединения рогов. По руслу и на его берегах кое-где попадались стволы засохших тополей и прутья сухих тамарисков, но засохших зарослей камыша почти не было; они, вероятно, были истреблены населением вдоль умиравшей реки прежде всего на топливо. Часа через два проводник поднялся из русла на террасу правого берега, где видны были какие-то торчащие палки и бревна, очевидно остатки поселка. Они занимали сажен 30 в длину и сажени 2-3 в ширину и представляли стволы тополей, или расколотые вдоль, или молодые, лишенные коры, которые торчали из почвы на различную высоту, но не выше роста человека с поднятой вверх рукой. Между стволами местами видны были остатки плетня из хвороста — стеблей камыша, прутьев тамариска и тальника; они поднимались на одну, две, три четверти над поверхностью земли и, очевидно, представляли уцелевшие нижние части стенок хижин или домиков, в которых когда-то жили обитатели этого города Шань-шань. Кое-где валялись отдельные колья или палки, может быть из кровли хижин, которой не было вовсе. Вокруг остатков плетня были наметены грядки и косы песка.
Сохранность этих остатков не позволяла думать, что эго — жилища первого века до н.э., когда существовал город Шань-шань, судя по выписке консула. Даже принимая во внимание сухость климата этой пустыни, этим бревнам и плетню не могло быть 2 000 лет; мы могли дать им — сто, двести лет, не больше.
Проехав еще с версту дальше и обнаружив еще две группы таких же остатков, я решил попробовать раскопать почву возле них. Мы спешились, привязали коней к столбам, развели огонек из остатков плетня, которые горели прекрасно, повесили чайник, налитый взятой с собой водой, и в ожидании его готовности начали копать почву одной из хижин, — я у одной стенки, проводник у другой. Очир караулил чайник.
Почва оказалась довольно плотно утоптанной, но заступ уходил сравнительно легко вглубь; каждую глыбу мы разбрасывали и разбивали заступом, чтобы обнаружить все посторонние предметы. Их оказалось немного: это были обрывки одежды, тряпки, прутики, осколки глиняной и фаянсовой посуды; я выбросил насквозь проржавевший обломок ножа, проводник — медную сильно позеленевшую монету с квадратным отверстием, т. е. самый обыкновенный китайский чох, стоимостью в 1/7 копейки на наши деньги. На глубине одной четверти с небольшим почва стала более твердой. Расчистив от рыхлой почвы площадку в квадратный аршин у задней стенки, где копал проводник, мы стали по очереди работать кайлой, углубляясь в твердую почву на одну ладонь, но на всей площадке нашли только в одном месте и в самом начале несколько ржавых рыболовных крючков и каменный шарик с сквозным отверстием, вероятно грузило от рыболовной сети.
Приходилось думать, что эти остатки жилья принадлежат не древнему городу Шань-шань, а хижинам рыболовов того времени, когда по руслу Конче-дарьи текла еще вода, т. е. лет 80-100 и не более 200 назад. А древний город находился где-то дальше по низовьям этой реки или по другому руслу реки южнее или немного дальше на восток. Но чтобы найти его развалины, нужно было бы организовать целую экспедицию с топографами и в разных подозрительных местах проделать раскопки. Мне это предприятие было непосильным, я не мог тратить свое время на поиски древнего города Шань-шань в пустыне к югу от Курук-тага.
В проводнике не было надобности, я отпустил его, а мы, вернувшись к вечеру на место ночлега, на следующий день пошли дальше на юг и верстах в 10 вышли к живой реке Конче-дарье, окаймленной густыми зарослями камышей, тамариска, тополевыми рощами, солончаками по низинам. В одном месте нам попались свежие следы кабанов и поверх них следы тигра, который, очевидно, преследовал их; вспугнули фазанов, два из которых попали в наш запас. Дорога то отдалялась от реки по зарослям и рощам, то приближалась, и можно было видеть, что река достигает около 30 сажен ширины и 2-3 сажен наибольшей глубины. Кое-где встречались поселки, жители которых занимались рыболовством.
Еще два дня мы шли вниз по этой реке, и фазаны доставляли нам хороший завтрак и ужин. На третий день начался район низовий, где смешивались, переплетаясь рукавами, воды Конче- и Яркенд-дарьи, составляя реку Тарим и область его низовий. Обе реки несут в своей мутной воде много ила, осаждают его, заиливают свои русла, разливаются по окружающей низменности, создают озерки и новые протоки. Возникает целая сеть русел, стариц, озерков среди зарослей камыша на широкой площади низовий, где сменяют друг друга широкие и узкие протоки, озерки, заросли камышей, разных кустов и рощи тополей. Среди них рассеяны и жилища в виде хижин из камыша, населенных жителями, живущими рыболовством и охотой на птиц, кабанов и даже маралов, которые водятся в чащах зарослей. Это уже район озера Лоб-нор, куда впадают воды этих двух рек, в совокупности называемых также Тарим.
При виде этих разливов я вспомнил, что консул перед нашим отъездом рассказал мне, что несколько лет назад наш путешественник полковник Пржевальский прошел впервые по реке Тариму и убедился, что озеро Лоб-нор находится не там, где его показывают китайские карты, а на два градуса широты южнее, почти у подножия Алтын-тага. По поводу этого завязался даже спор, немецкий ученый защищал точность китайских карт и думал, что Пржевальский открыл не Лоб-нор, давно известный в географии Азии, а какое-то другое озеро, а Пржевальский доказывал, что китайские географы могли неверно определить положение Лоб-нора или же последнее переместилось с тех пор на юг.
Теперь я мог бы рассказать, что в этом споре обе стороны были правы. Я видел у южного подножия Курук-тага старые русла Конче-дарьи в том месте, где китайские карты показывают озеро Лоб-нор и где, очевидно, когда-то было озеро, теперь исчезнувшее. А потом, пройдя вниз по Конче-дарье верст 120-140 на юг, т. е. около 2° широты, я встретил озеро, в которое впадает река Тарим, на том месте, где его видел Пржевальский. Старый Лоб-нор, который китайцы когда-то нанесли на карты, исчез, высох, а река, питавшая его, передвинула свое устье на юг и образовала там новое озеро, которое и открыл Пржевальский [73].
Еще два дня шли мы по этой области разлива и умирания главной реки южного Туркестана — Тарима, объединившего воды Южного Тянь-шаня в русле Конче-дарьи и Куэн-луня в русле Яркенд-дарьи. Мы пробирались через заросли и кусты, солончаки и рощи тополей, песчаные барханы, маленькие поля и поселки лобнорцев и перемещались постепенно к западной окраине. По берегам нижнего течения Тарима, а также его рукавов расположены заросли тростника, болота и озера. Оказалось, что последние часто устраивают сами жители, отводя воду из главной реки в соседние низины; с водой уходит и рыба, и ловить ее в мелких озерках и затопленных луговинах удобнее, чем в быстром, широком и глубоком главном русле Тарима. Вот эти озерки и разливы в течение жаркого времени года испаряют много воды, и в этом одна из причин, что в низовьях Тарим все больше мелеет. По словам берегового населения, вода быстро прибывает в Тариме летом, когда в Куэн-луне тают снега, и убывает осенью, всего больше к концу ноября, когда река замерзает.
Мы прошли по правому берегу Тарима до того места, где он резко повернул на восток и начал разливаться в большое озеро Кара-кошун. Легко было увидеть, что этот поворот реки вызван тем, что здесь поднялись плоские высоты гор, которые тянутся с запада на восток и представляют первую низкую гряду Куэн-луня; но эти низкие холмы увеличены песком, наносимым ветрами с севера и образующим здесь цепи барханов. Жители этого места у поворота реки, где начинаются болота и заросли западного конца озера Кара-кошун, в которое впадает Тарим, сказали нам, что осенью и зимой, когда в реке воды мало, многие рукава ее почти обсыхают и ветры уносят сухой песок по обсохшим руслам на юг, увеличивая здесь цепи барханов. Тут же вдоль подножия этих высот ветвится и разливается в своих низовьях река Черчен, впадающая с запада в озеро Кара-кошун, и ее разливы и обсыхающие русла дают еще много материала для песчаных заносов.
Мы шли целый переход по окраине разливов реки Черчен-дарьи, где тянулись обсохшие русла, заросли тростника, тамариска, песчаные барханы и косы, на возделанных участках, с которых хлеб был уже убран, судя по оставшимся стеблям, были пшеница, ячмень и кукуруза. Ночевали возле селения Чарклык, расположенного на речке, вытекающей из расположенного уже недалеко отсюда Алтын-тага. Это селение было основано только в половине текущего века охотниками из города Керии, которые, преследуя диких верблюдов, наткнулись здесь на разрушенные стены небольшого города, среди которых валялись изломанные прялки; следы другого города нашлись по соседству, судя по чему эта местность была удобна для поселения. Сюда и переселились некоторые семьи из Керии и назвали свое поселение Чарклык, от слова «чарк» — по-тюркски «прялка». Развели поля и огороды, насадили фруктовые деревья и живут очень хорошо, почва мелкая глинистая и при орошении очень плодородная; но неудобство составляет пыль, которую поднимают ветры, особенно весной.
Дальнейший путь пролегал по этой песчано-галечной равнине, которая тянется вдоль реки Черчен, окаймленной буграми песка и зарослями кустов, и поднимается постепенно к Алтын-тагу, который еле был виден или совсем скрывался в тучах пыли, составляющей особенность климата всей этой южной окраины бассейна реки Тарима. Жители этой окраины жаловались, что горячие летом и холодные зимой ветры пустыни приносят постоянно эту пыль, перевевая пески, и вся почва здесь пыльная. Она — очень плодородная при орошении и бесплодная без него; корм плохой даже для верблюдов, которых приходилось подкармливать, покупая снопы сухой люцерны или клевера в селениях. Воду на ночлегах добывали из колодцев, но ее было мало, и река Черчен оставалась далеко в стороне от нашей дороги, на которой попадались небольшие селения, а также развалины. По такой местности мы шли три дня до селения Ваш-Шари.
За этим селением пески пустыни Такла-макан, остававшиеся до сих пор на левом берегу реки Черчен-дарьи, перебросились и на правый берег, и дорога в течение двух дней пересекала их; они представляли то удлиненные увалы или гряды, то невысокие холмы в 3-9 сажен высоты, настоящие барханы с пологим наветренным склоном, обращенным на северо-восток.
Миновав эти пески, мы вышли уже к среднему течению самой Черчен-дарьи, которая в борьбе с песками то течет широким плесом в 30-35 сажен ширины по зыбучему песчаному дну, то разбивается на узкие рукава с спокойными заливами и участками мокрого песка, покрытого слоем липкой глины. Глубина в широком русле меньше аршина, но местами есть омуты. Эти русла с промежутками имеют до 200 сажен ширины. Вода грязная, переполненная мелким песком и илом, дно зыбучее, нога вязнет глубоко, а там, где течение тихое и осаждается жидкий ил, перейти вброд совсем нельзя. Главное русло часто перемещается в месяцы высокого уровня летом, как показывают в малую воду перерывы тропинок.
Берега реки окаймлены полосой бедной древесной и кустарниковой растительности, шириной то в 2-3, то 8-10 верст; из деревьев всего чаще тограк (разнолистный тополь), уродливый и корявый, с растресканной корой, покрытой пылью или белой солью, часто иссохший, без сучьев, с дуплами. Видны также тамариски, облепиха, кендырь [74], солодка, изредка джида, тростник. Кусты густо покрыты пылью, а почва то рыхлая, песчаная, то твердая с соляной коркой. Везде валяются обломанные сучья, ветки, кучи сухих листьев. Воздух желто-серый от густой пыли. В такой обстановке мы шли по среднему течению реки до г. Черчена четыре дня; в воде и топливе не было недостатка, но корм животных был скудный, и лошадям мы каждый день давали немного размоченного гороха, закупленного в Чарклыке.
Черчен оказался довольно большим городом в 600 дворов на небольшой площади глинистой почвы, окруженной сыпучими песками, которые на левом берегу реки Черчен засыпали площадь двух древних городов; один из них будто бы уничтожен около 3000 лет назад богатырем Рустем-дагестаном, а другой разорен уже 900 лет назад монголами Алтамыша. Жители Черчена иногда раскапывают остатки, чаще же осматривают развалины после сильных бурь, сметающих песок, и находят монеты, украшения, бусы, железные вещи, медную посуду, даже битое стекло, а при раскопках попадаются склепы и отдельные деревянные гробы, в которых трупы хорошо сохранились, очевидно благодаря особой сухости воздуха. Об этом нам рассказывали на постоялом дворе, где мы провели два дня, и я записал эти сведения для будущих поисков. Указывали, что следы древних поселений имеются и по всему среднему течению Черчен-дарьи, которое теперь совсем безлюдно.
Когда я, уже вернувшись домой, рассказывал консулу об обилии развалин городов в Таримском бассейне, начиная с севера, с Турфана и Люкчуна, особенно же по южной окраине вдоль современного подножия Куэн-луня и Алтын-тага, он подтвердил это и объяснил его переменой климата и развитием песков пустыни Такла-макан в историческое время; он сказал, что и Пржевальский уже отмечал это ухудшение климата всей области Центральной Азии и ее усыхание. [75]
От Черчена до Нии нам оставалось пройти еще около 300 верст по прямой дороге вдоль окраины песков; кроме нее имелась и другая дорога, длиннее верст на 100, вдоль подножия горной цепи Алтын-тага. Эту верхнюю дорогу, по расспросам, предпочитают летом, когда на нижней очень жарко и много насекомых. Но теперь была уже осень и мы, конечно, предпочли более прямую, хотя, как говорили, там вода хуже и много песка; зато она короче и гораздо ровнее; по верхней дороге много глубоких ущелий, неудобных для верблюдов, и корма меньше. У нас с собой была пара бочонков, чтобы возить с собой хорошую воду, а дорога через пески менее утомительна для верблюдов, чем крутые подъемы и спуски.
По нижней дороге мы шли десять дней по окраине больших песков пустыни Такла-макан, надвигавшихся с севера; высокие барханы, целые горы песка в 30-40 и более сажен высоты, видны были справа, а вдоль дороги приходилось преодолевать более низкие, в 3-5 сажен, редко до 10 сажен, выбирая промежутки между ними.
Вода попадалась в виде колодцев в достаточном количестве, но иногда затхлая; кроме того, мы пересекли на своем пути пять русел речек, текущих из Алтын-тага, несущих воду только летом, когда тают снега, а теперь, осенью, уже безводных; колодцы были вырыты в ложбинах их русел на самом краю.
Два раза на этом пути мы испытали песчаные бури с северо-востока, т. е. почти попутные и не слишком сильные. В общем этот путь совершили вполне благополучно, но почти не встречали людей. Поселения таранчей расположены ближе к подножию гор, куда еще добегает вода, где песчаных заносов гораздо меньше и возможно хлебопашество с орошением, без которого в этом жарком климате хлеб не растет. На окраине песков попадались только развалины прежних поселений, оставленных жителями в связи с надвиганием песков, засыпавших поля и здания.
Оазис Ния расположен на обоих берегах одноименной реки, верстах в 50 от подножия Алтын-тага, откуда вытекает эта река, называемая в горах Улуксай. Оросив оазис, она течет дальше еще верст 70, прорываясь через окраину сыпучих песков, пока не исчахнет в борьбе с ними. Только летом, когда тают снега и ледники, воды в реке много и она убегает и дальше в глубь пустыни Такла-макан. Но в зимнее полугодие воды в оазисе Нии уже немного и жители пользуются водой из хаузов, т. е. прудов, которые имеются почти в каждом дворе в тени больших деревьев; летом эти пруды являются проточными, но к октябрю приток в них почти прекращается; в помощь хаузам имеются еще колодцы, действующие круглый год.
Нам сказали, что в Ние числится более 1000 дворов и население доходит до 6000; главное занятие их — земледелие и садоводство; в садах растут груши, яблони, персики, абрикосы, тут, виноград, гранаты. На полях разводят пшеницу, ячмень, кукурузу, бобы, арбузы, дыни, морковь, лук, люцерну, клевер. Все поля орошаются и тщательно обработаны. Жители жалуются, что весной вредят поздние морозы и пыльные бури, морозы губят цвет плодовых деревьев, а бури засыпают песком поля и арыки. Прежде, по их словам, земледелие и садоводство тянулось гораздо дальше вниз по реке, но в борьбе с песчаными заносами оно мало-помалу отступало, сокращалось. И теперь уже каждая семья на своем участке земли разводит только то, что ей нужно для пропитания, и на продажу остается очень немного. Это мы испытали на себе: на базаре можно было купить мало, и в запас для увоза на место разведки пришлось закупать понемногу в течение нескольких дней.
Кроме земледелия и садоводства, жители Нии занимаются еще добычей золота в горах, на зимние месяцы молодые мужчины уходят вверх по реке в глубь Куэн-луня, где имеются прииски, на которых добывают и промывают россыпное золото.
В Нию мы прибыли уже в начале октября и остановились в караван-сарае таранчи Мухамед-шари. Он стоял на берегу арыка, выведенного из реки, и представлял довольно большой двор, огороженный глинобитной стеной и затененный с южной стороны линией пирамидальных тополей, стоявших вдоль этого арыка. Вдоль одной стены двора располагались небольшие фанзы для приезжающих, часть которых имела каны: очевидно, для китайцев, любящих спать на теплой лежанке; другие вместо кана имели обычное у таранчей возвышение, на котором на коврах располагались приезжие для трапезы, а ночью спали. Здесь, на южной окраине бассейна реки Тарима, в начале октября было еще очень тепло, даже жарко, и мы, конечно, выбрали фанзу без кана и побольше, чтобы в ней же разместить свои вьюки с товаром. Во время длинного пути от Турфана мы понемногу торговали, и у нас, в сущности, осталось только два неполных верблюжьих вьюка с шелками, которые на пути сюда в селениях таранчей не привлекли покупателей. Мухамед, узнав, кто мы такие и с какими товарами прибыли, уверил меня, что сейчас покупателей будет мало, так как урожай винограда, гранатов, смоквы и олив еще не реализован населением и нужно подождать недели три-четыре. Меня это вполне устраивало, так как я сначала хотел съездить вниз по реке к развалинам селений, о которых мне говорили, и провести раскопки. Хозяин, узнав об этих планах, обещал вызвать ко мне известного ему проводника, выходца из Узбекистана или Бухары, который знает все места вокруг Керии, Нии и до Яркенда.
На следующий день он привел ко мне этого человека. Это был пожилой, худощавый узбек, среднего роста с жиденькой седой бородой и жгучими черными глазами. Я заказал хозяину угощение, и за чаем в присутствии хозяина он рассказал мне, что по долинам рек Керии и Нии в настоящее время таранчи живут только на протяжении одного-двух переходов, так как дальше воды, текущей из гор Куэн-луня, уже мало и орошение невозможно. Но прежде, лет 300 назад, воды было больше и селения таранчей тянулись еще на три-четыре перехода дальше. Теперь там никого нет, фанзы развалились, деревья засохли или засыхают, а пески пустыни Такла-макан надвинулись и частью уже засыпали брошенные селения. В этой местности по реке Ние прежде был довольно большой город, окруженный садами, которые еще орошались последней водой реки; дальше воды не было. В этом городе во дворах и домах, от которых еще остались стены, но без крыш, дверей и оконных рам, растащенных населением вышележащих селений после вымирания города, попадаются золотые и серебряные монеты, разные металлические вещи, а в большом буддийском храме сохранилось много статуй богов.
Этот человек рассказал, что лет 6 или 7 назад он был проводником какого-то иностранца, как будто англичанина, который ездил с ним до этого города в сопровождении своих слуг, провел там несколько дней, кое-где копал землю, нашел несколько старых индийских книг и заявил, что приедет опять с десятком рабочих для раскопок, так как место очень интересное. Но пока он больше не приезжал. После угощения узбек ушел, заявив, что может провести меня в этот старый город.
Мне и Лобсыну этот человек не очень понравился, хотя производил впечатление знающего, показал несколько старых медных монет с индийскими буквами, найденных в этом городе, и обрывок листа из книги с санскритским текстом, который, по его словам, англичанин бросил из-за грязи и измятости. Поговорив еще с Мухамедом и узнав биографию этого проводника — Ибрагима, мы решили отправиться с ним для осмотра города и раскопок, если место понравится. Хозяин сообщил, что если я не найду ничего интересного для себя по реке Ние, можно будет поехать и вниз по реке Керии, где также много оставленных селений, а проводник знает и эту долину.
Вызвав проводника, мы срядились с ним. Везти с собой в пустыню два вьюка с товарами, конечно, не имело смысла. Если раскопки окажутся удачными — свободные верблюды для увоза всего добытого будут нужны. Товары можно было оставить у хозяина постоялого двора. Я сходил к аксакалу, который удостоверил, что проводник Ибрагим давно известен ему, а Мухамед-шари, старый житель города, также заслуживает полного доверия. К китайскому амбаню города я не счел нужным обращаться, так как случай в Баркуле с моими товарами, описанный в главе пятой, побуждал обращаться возможно реже к китайским властям в Синь-цзяне и предпочитать сношения непосредственно с населением.
Итак, мы оставили товары на складе у хозяина постоялого двора, который выдал мне расписку в их получении: правда, на тюркском языке, но удостоверенную аксакалом. Закупив сухой провизии на месяц и четырех баранов в качестве живого провианта, взяв с собой пустые мешки и чемоданы от мануфактуры, четыре бочонка для воды, пучки сухого клевера для лошадей и жмыхов для верблюдов, мы выступили 6 октября из Нин вниз по течению реки.
По долине ее тянулись поля с разным хлебом, хлопком, сады, отдельные дома таранчей и небольшие группы их, рощи тополей, джигды, карагача, шелковицы, оливковых и фисташковых деревьев. В первый день мы сделали переход верст в 30 и остановились на закате солнца возле большого уже сжатого поля, которое могло дать корм нашим четвероногим. Вечером, конечно, пришли жители соседней группы домов, и от них мы узнали, что на следующий день населенная часть долины кончится.
Действительно, на второй день пути группы полей, садов и фанз становились все более отдаленными друг от друга, появились пустыри давно заброшенных полей. В речке текло еще довольно много воды, но проводник объяснил это тем, что время полива полей и садов уже кончилось, вода не расходуется на поля и бежит дальше. На пустырях попадались пни и засыхающие деревья; признаки умирающей жизни были налицо. Вблизи места нашего ночлега уже не было жителей.
На третий день мы миновали утром последнюю маленькую группу домов с небольшими полями, засыхающими тополями и остатками садов. Началась пустынная часть долины Нии, кое-где видны были брошенные дома, уже без крыш, дверей, оконных рам, увезенных владельцами при выселении или расхищенных на дрова. Поля уже заросли колючками, полынью, бударганой; засыхающие деревья видны были все реже. Воды в речке стало меньше, а весной и летом во время полива вода сюда, очевидно, уже не доходила. В этот день мы сделали большой переход по совету проводника, чтобы на завтра раньше дойти до оставленного города. Долину Нии на этом переходе уже окаймляли песчаные холмы, частью заросшие, частью же совсем голые, с барханами, напомнившими мне пески Кум-тага в Долине бесов.
Последний день местность имела удручающий вид: кое-где еще стояли остатки домов и почти засохшие деревья, на старых полях борозды были уже совсем сглажены выветриванием и песком, который образовывал маленькие кучи под защитой отдельных кустов и группы небольших барханов, а по обе стороны долины тянулись более высокие барханные пески. На севере вдали виднелись еще более высокие гряды барханов. Вскоре после полудня мы дошли до места бывшего последнего города на Ние. На площади в 300-400 шагов, если не больше, стояли остатки стен домов, бывших дворовых оград и улиц, кое-где пни деревьев. Но в общем, по сравнению с развалинами Хара-хото и храмом Тысячи будд в Дунь-хуане, эти не производили впечатления. Вода реки теперь доходила и сюда, но только в виде маленького ручейка, еле сочившегося по песчаному руслу.
Проводник, заметив мое разочарование, сказал, что развалины старого храма, где находят монеты и древние книги, лежат немного дальше, но что за водой придется приходить сюда, так как туда она уже не добегает. Мы поехали дальше и минут через 10 или 15 дошли до этого места. Здесь среди нескольких более высоких и голых барханов поднимались частью совсем перекрытые песком развалины: стены из обожженного желтого кирпича, образовавшие несколько прямоугольников, остатки полуразрушенного субургана, возвышавшегося над песком и, немного в стороне, несколько пней тополей, торчащих из песка. Группа барханов, надвинувшихся на развалины, примыкала на севере к более высоким барханам, достигавшим уже сажен 8-10 высоты и напомнившим мне Кум-таг. Немного в стороне, вдоль сильно засыпанного сухого русла, тянулась полоса кустов тамариска, поднимавшихся над песчаными кучами. Здесь мы нашли довольно ровную площадку, где можно было разбить палатку. Вдоль русла тянулись заросли мелких кустов, которые могли служить пищей нашим верблюдам, но для двух лошадей корма не было совершенно.
Устроив свой лагерь и оставив мальчиков разводить огонь и готовить обед, мы оба с проводником обошли развалины. Там, где песок не образовывал барханов, на поверхности почвы попадались какие-то тряпки, осколки кирпича, щепки. В одном месте проводник поднял небольшую монету красной меди, поверхность которой была отшлифована песком, так что цифры и буквы совершенно стерлись, и только круглая форма позволяла думать, что это была монета. Сравнивая эти развалины с Хара-хото, я подумал, что работа будет здесь труднее из-за нанесенного песка, местами заполнявшего стены зданий до верха и даже поднимавшегося выше. Этот песок придется убирать, чтобы добраться до прежнего пола зданий, под которым можно будет найти что-нибудь. Выбрав один прямоугольник, занесенный песком меньше, я решил начать с него.
Вернувшись к лагерю, мы застали уже расставленную палатку, костер с закипавшим чайником и рядом котел с супом. Верблюды паслись между тамарисковыми кустами, лошади стояли привязанные к одному из них, понурив головы, бараны отдыхали, лежа кучкой. Четыре бочонка с водой были покрыты кошмами от солнечных лучей. Запас воды мы привезли из Нии, но теперь, зная, что поблизости в речке есть вода, решили напоить из бочонков верблюдов, лошадей и баранов, а под вечер съездить за свежей водой к ручью, оставшемуся в версте у первых развалин. Напившись чаю и отдохнув, мы начали поить животных. У нас был довольно большой медный таз, мы наливали в него воду из бочонков, подводили баранов, лошадей и верблюдов поодиночке и давали им напиться вволю. Когда солнце было близко к закату, проводник и сын Лобсына, навьючив бочонки для воды на двух верблюдов, поехали на лошадях к ручью, где наполнили бочонки свежей водой и напоили еще раз лошадей. Они вернулись уже в сумерки.
Солнце село в этот день багровое, и проводник сказал: — нужно хорошо укрепить палатку, устроить из всех тюков, седел и бочонков с водой ограду, за которой уложить баранов, и на ночь уложить верблюдов спиной к ветру. А ветер здесь почти, всегда с полуночной стороны и этой ночью может быть сильный.
Сообразно с этим мы и устроились на ночь с южной стороны большой песчаной кучи, заросшей тамарисковыми кустами и дававшей некоторую защиту. Улеглись спать мы и мальчики в глубине палатки, проводник — у входа.
— Мой верблюд молодой и беспокойный, за ним ночью надо присматривать, чтобы не убежал, — объяснил он нам.
Часов в девять вечера вдали на севере послышался гул, сначала слабый, очевидно еще далекий от нас. Я слышал его, потому что не спал, обеспокоенный мыслью, что клад, который мы собирались раскопать, весьма сомнительный по качеству и количеству и трудный по работе. «Едва ли какому-нибудь разумному человеку пришло бы в голову основывать большое поселение в местности, очень близкой к окраине песчаной пустыни, — думал я. — Застроенная площадь небольшая, крупного монастыря здесь быть не могло, и мы потеряем только время».
Усилившийся гул прервал мои мысли. Казалось, что к нам скачет целая армия всадников; завывания чередовались со свистом, и на палатку посыпались песчинки в таком количестве, что можно было различить ручейки их, сбегавшие в разных местах. Палатка то вздувалась, то вдавливалась. Но мы глубоко забили колышки и придавили полы со стороны ветра четырьмя бочонками с водой, закрытыми кошмами и холстами. Я долго слушал голоса бури и, убедившись в прочности нашей защиты, наконец уснул.
Буря продолжалась всю ночь, изредка только как будто немного ослабевая, но затем даже усиливаясь. Когда стало достаточно светло, я встал, подошел к выходу и, чуть раздвинув полы, выглянул, но, кроме желтой песчаной мглы в воздухе, ничего не мог увидеть. Проводник, также проснувшийся, сказал, что он недавно выходил, все в порядке, животные лежат, даже лошади улеглись спиной к ветру, и везде нанесены барханчики песка. В такую бурю, конечно, нечего было и думать разводить огонь и греть чайник: приходилось лежать и спать, закрыв лицо, так как сквозь швы палатки проникали мелкие песчинки и попадали в глаза, нос и рот. У нас в большом чайнике был сварен жидкий чай для утоления жажды. Я пососал его через горлышко, и он показался мне очень сладким. Вернувшись на свое ложе, я опять заснул и, очевидно, очень крепко; проснулся, когда было совсем темно. Очевидно, тянулась вторая ночь. От пыльного воздуха голова была тяжелой, и я опять заснул.
Не знаю, сколько времени я спал, изредка просыпался, ворочался, натягивал халат, которым был укрыт, больше на лицо, и опять засыпал. Меня, наконец, растолкал Лобсын, тряс за плечо, и я услышал слова:
— Вставай скорее, Фома, вставай, беда у нас, все верблюды ушли и лошадей нет, угнали их, что ли, пока мы спали!
Я поднялся, голова попрежнему была тяжелая, хотелось опять уткнуться в подушку. Но Лобсын не давал пощады, тряс меня, вскрикивал:
— Ты что, напился вина, что ли, очнись, наконец, Фома, беда у нас!
Я, наконец, очнулся, присел и слушаю, а он говорит:
— Верблюды и лошади убежали куда-то. Проводника Ибрагима и моего сына тоже нет; они, наверно, побежали искать животных. Я уже бродил поблизости, смотрел. Буря продолжается, хотя слабее, и следы всякие уже замело, не видать, куда все убежали, где их искать.
Это известие меня, конечно, встревожило, и я вскочил и вместе с Лобсыном вышел из палатки на воздух. Было светло, песчаная буря ослабела, и по ветру можно было уже смотреть вдаль шагов на сто, но по сторонам, только защищая глаза рукой. Вокруг нашего лагеря под защитой палатки, вьюков, бочонков были наметены свежие барханы песка, вытянутые косами, высотой местами в полтора-два аршина. Наветренная сторона палатки прогнулась горбом под тяжестью нанесенного песка. Подветренная сторона в двух-трех шагах дальше палатки, где лежали верблюды, была пуста, и нанесенный на нее песок лежал неправильными холмиками и косами; это показывало, что животные, которые были уложены нами друг возле друга мордами по ветру в подветренную сторону, встали уже довольно давно и при вставании растоптали нанесенный между ними песок, который потом передувался.
Мы обошли всю площадку вокруг лагеря. Между кучками и косами песка попадались катыши высохшего уже помета верблюдов.
— Где же бараны? Где же бочонки с водой? — спросил я, заметив отсутствие тех и других.
Бараны лежали под большим кустом тамариска правее верблюдов. На этом месте был наметен свежий песок, из-под которого местами выдавались шарики бараньего помета. Бочонки с водой стояли друг возле друга между подножием песчаного холма, поросшего тамариском, и краем палатки, который они придавливали своей тяжестью, а сверху были прикрыты цветными вьючными сумами, в которых был привезен в Нию мануфактурный товар, и отсюда должны были быть увезены находки из раскопок. Сумы были покрыты простыми мешками. На этом месте мы увидели несколько мешков, полузасыпанных песком, но ни сум, ни бочонков не было, а песок лежал беспорядочными грудами, сильно уже сглаженными ветром.
Мы стояли с Лобсыном и подошедшим к нам Очиром и смотрели с недоумением на пустое место.
— Верблюды, лошади и бараны могли убежать, — сказал я, наконец, — но у бочонков ног нет и у сум также. Значит, какие-то люди во время бури были здесь и угнали животных, а заодно и увезли на них бочонки и сумы.
— А Ибрагим спал у входа и ничего не слышал! — воскликнул Лобсын, — и вместе с моим мальчиком побежал за ворами.
— И как они их теперь найдут, — рассуждал я, — ветер все следы замел, и в какую сторону воры ушли — неизвестно.
— Никуда иначе, как в Нию, — сказал Лобсын. — Во все другие стороны песчаная пустыня и дороги нет.
— И что же нам делать? Итти в ту же сторону, бросив палатку и все вещи здесь? А если Ибрагим нашел следы в другую сторону и побежал туда, а мы пойдем в Нию? — недоумевал я.
Положение казалось безвыходным. Как будто оставалось сидеть на месте и ждать возвращения отсутствующих Ибрагима и сына Лобсына. И как пришлось пожалеть, что в этот раз у нас не было собачки Лобсына, которая так хорошо караулила и, конечно, разбудила бы нас своим лаем, поднятым при появлении воров. Но старая собачка издохла летом, а новая еще не была обучена.
— Что же, пойдем в палатку, попьем хоть холодного чая, — предложил я. — Буря как будто кончается, и скоро можно будет развести огонь и поставить еду. Сколько суток мы проспали, ничего не ели, не пили!
Мы вернулись в палатку и сели. Я протянул руку за чайником, но Лобсын придержал его и сказал: — Знаешь, Фома, я думаю, в наш чай было подмешано сонное питье, я спал как никогда, словно мертвый!
— Я тоже спал крепко, но приписал это песчаной буре, — сказал я. — Очир ничего не сказал, но он вообще отличался тем, что ночью спал как убитый и при дежурствах его всегда с трудом будили.
Я попробовал чай, потянув его из горлышка. Его оставалось уже немного: мы, видно, не раз пили его, просыпаясь во время бури. На вкус чай показался определенно противно сладким, а сахара мы, оставив половину чайника на ночь, не клали. Лобсын тоже попробовал и сказал: — Наверно, подмешано сонное. Вспомни тот раз, когда я гнался за ворами на реку Урунгу и потчевал их сонным дамским питьем, чтобы увести наших коней.
— Кто же мог подлить его, Фома? Не иначе как Ибрагим, который и угнал наших животных. А мой сын заметил и погнался за ним.
В это время Очир, увидевший белую бумажку, заткнутую под край втулки заднего шеста палатки, вытащил ее и подал мне. Я надел очки и, увидев на бумажке монгольские буквы, передал ее Лобсыну, так как разговорный монгольский язык знал отлично, но письмо разбирал с трудом. Лобсын же в монастыре был обучен монгольской грамоте и потом читал книжки у себя в юрте в долгие зимние вечера. Он развернул бумажку, прочитал ее один раз про себя, перечел ее еще раз и потом повторил мне.
— Вот, Фома, что написал тут мой сын: «Отец, мы с Ибрагимом уехали в Лхасу на богомолье, взяли ваших верблюдов и коней. Ты и Фома в Ние купите лошадей и поезжайте спокойно домой. Прощай!»
Я был поражен, а Лобсын сидел с бумажкой в руке и качал головой, как качают мальчики, заучивая громко молитвы в монастырях у лам.
— Этот Ибрагим мне сразу не понравился, — сказал, наконец, Лобсын, — у него глаза воровские. Он подговорил моего сына. И в чайник подсыпал сонное, чтобы мы не проснулись.
Лобсын рассказал, что его сын последний год очень избаловался: мать ему слишком много позволяла, давала полную волю. Весной он без спроса уехал верхом в Дурбульджин к знакомым мальчикам китайской школы, в которой он раньше учился, и пропадал недели три; они там курили опиум, пили водку. Когда он вернулся домой, прокутив все деньги, которые взял тайком у матери, Лобсын его здорово побил, и мальчик ему сказал в слезах, что убежит совсем из дому.
— Это все, Фома, наши клады виноваты, мы жили хорошо, ни в чем не нуждались, мальчик долго оставался без моего надзора, мать его избаловала: один ведь он сын у нас, делал дома, что хотел.
Записка объяснила все. Проводник подговорил мальчика, наверно расписал ему, как великолепна Лхаса. Мальчик, привыкший к путешествиям, обидевшийся на отца, захотел быть самостоятельным и пойти по следам отца, подружившись с проводником, который обмозговал все дело, воспользовался песчаной бурей, подлил в чай сонное зелье. Я вспомнил, что и накануне вечером мальчики долго сидели возле Ибрагима, и он им что-то рассказывал интересное. Его рассказы о находках в развалинах последнего селения могли быть просто выдумкой, чтобы увести наш караван в глубь песков Такла-макан, где угон верблюдов легче было выполнить, оставив нас в безвыходном положении. Комбинация с сыном Лобсына пришла в голову уже позже, когда они ездили вечером за водой вдвоем; может быть, сам мальчик жаловался на отца; угон животных вдвоем было гораздо удобнее осуществить, чем в одиночку. Теперь нам оставалось одно — итти пешком в Нию, унося с собой только самое необходимое: одежду, запас еды, и оставив все остальное в пустыне; в Ние взять оставшиеся товары, распродать их, купить трех лошадей и ехать налегке домой, бросив всякую мысль о раскопках.
Но теперь нам нужно было приготовить себе обед, а так как воды не было, — сначала сходить с чайником и котлом к источнику, где мы перед бурей брали воду. Лобсын с Очиром пошли туда, а я пока набрал хворосту и аргала, развел огонь. Чтобы его зажечь, я полез в карман своего летнего халата, где были спички, а во внутреннем кармане лежала записная книжка, в которую я положил расписку аксакала в получении на хранение четырех вьюков с нашим товаром. Достав спички, я почему-то полез и в этот карман проверить, налицо ли бумажка. Ее не было. Пошарил везде — в теплом халате, который был на мне, в постели под подушкой, — не нашел ничего. Приходилось думать, что Ибрагим или мальчик во время нашего сна обшарил халат и взял расписку, чтобы в Ние получить и продать наш товар и обеспечить себя средствами на далекий путь в Лхасу или куда они хотели скрыться от нас.
Эта пропажа еще больше усложняла положение. Правда, у меня в кармане были деньги за проданные по пути из Урумчи до Нии товары. Их было достаточно, чтобы купить трех лошадей с седлами и еще кое-что и питаться в пути домой. Но тогда мы с Лобсыном в этот раз возвратились бы в Чугучак не только без всякой выручки по торговле, но потеряв еще весь свой караван, палатку и дорожные вещи. Об этой пропаже я решил Лобсыну не говорить до прихода в Нию.
Когда Лобсын и Очир вернулись с водой, мы сварили ужин и чай и в сумерках сидели у огонька. Буря совсем прекратилась, выплыла почти полная луна из-за барханов, и мы еще долго сидели, перебрасываясь замечаниями о происшедшем. Луна освещала наш опустевший лагерь; на душе было нехорошо, Лобсын был очень опечален и часто вздыхал.
Чуть свет мы поднялись, сварили чай, отобрали из одежды и других вещей все, что были в силах унести на себе, а палатку и все остальное снесли к развалинам и сложили внутри самых высоких стенок одной из фанз, чтобы в Ние поручить аксакалу приехать и забрать эти вещи, если он захочет. Затем по пути на юг зашли к ручейку, взяли с собой воды в чайнике для завтрака и поплелись.
После бури установилась тихая и ясная погода, была половина октября и солнце грело еще сильно. Пешком мы двигались медленно и только поздно вечером добрались до первого в Низовьях Нии маленького поселка. К нашему счастью, здесь оказалась пара верблюдов, которых можно было нанять, чтобы съездить за нашими вещами, оставленными на месте злосчастного ночлега. Хозяин верблюдов вместе с Лобсыном поехал назад, и на следующий день они вернулись со всеми вещами, палаткой и даже бочонками для воды, которые оказались на месте ночлега, но засыпанные песком. Ветерок за два дня сдул песок и вскрыл бок одного бочонка.
В поселке я нанял того же таранчу с тремя верблюдами, чтобы он довез нас и наши вещи в Нию. В общем прошло уже 12 дней с тех пор как мы выехали отсюда в несчастную экспедицию. Хозяин Мухамед-шари встретил нас с удивлением.
— Откуда вы прибыли? — спросил он. — С неделю тому назад здесь был Ибрагим и ваш мальчик. Они сказали, что вы трое из песков прошли прямо через пустыню в Керию и велели взять у меня оставленные вьюки с товарами и везти их прямо в Керию, где должны встретиться с вами. Ваш мальчик отдал мне мою расписку в получении тюков, и я выдал их ему.
Он показал мне удостоверенную аксакалом расписку, и пришлось поверить, что Ибрагим с мальчиком действительно взяли все наши товары. Мухамед-шари сказал, что он удивился тому, что эти двое привели с собой так много верблюдов.
— Что же вы оставили вашим старшим? — спросил он их. Они сказали, что мы из последнего поселка Нии наняли новых верблюдов — прямо через пески в Керию с проводником, который обещал нам показать большие развалины с буддийскими кумирами. На Ние же при раскопках ничего интересного не нашли, и Ибрагим увезет товары и караван туда же на окраину Керии, чтобы встретиться с нами.
Мы с Лобсыном посетили еще аксакала и рассказали ему все, что случилось. Он очень пожалел нас, сказал, что Ибрагим и наш мальчик к нему не приходили, а ушли, по расспросам, по реке Черчен, откуда в трех днях пути сворачивает небольшая караванная дорога в Лхасу.
Возвращаться в Чугучак с пустыми руками, потеряв даже взятый с собой товар и всех животных, было бы для меня слишком обидно. Я подсчитал наличные деньги, вырученные за часть товаров, проданных в Ние. Оказалось, что я могу купить на них лошадь для себя, ишака для Лобсына и трех или четырех хороших верблюдов и на обратном пути остановиться на старом русле Конче-дарьи на месте древнего города Шань-шань, где мы на пути сюда начали раскопки и, надеясь на южную окраину Такла-макана, не окончили их.
Познакомившись с берегами современного Лоб-нора в виде озер и болот Кара-кошун, я теперь не сомневался, что Лоб-нор китайских карт, т. е. город Шань-шань, или Лоу-лань конца I века до нашей эры, находился не здесь, в устье Тарима, а на севере, на старом русле Конче-дарьи, и что там, где мы так быстро прекратили раскопки, наверно найдется достаточно интересных древностей, Лобсын также был этого мнения.
— Мы слишком поторопились, Фома! — сказал он, — надеялись на рассказы о кладах Керии и Нии. Может быть, здесь тоже имеются клады, засыпанные песками Такла-макана, но найти их трудно. А там, на Конче-дарье, мы их найдем и не там, где копали, а дальше на восток. Когда река умирала, — это умирание шло снизу вверх по течению и старый город был дальше того места, где мы копали и нашли только остатки рыбачьих хижин последнего времени. А если поехать вверх на один или два перехода — мы найдем развалины города Лоу-лань и что-нибудь откопаем поинтереснее крючков и грузил для сетей.
Итак, мы решили сделать эту попытку, чтобы не замарать свое лицо, как говорят китайцы. На базаре в Ние в течение нескольких дней купили трех хороших верблюдов, одного похуже для легкого вьюка палатки и бочонков, ишака, лошадь и, распрощавшись с Мухамед-шари, двинулись в путь известным уже нам путем вниз по Черчен-дарье до Кара-кошуна и вверх по Тариму до старого русла Конче-дарьи. До станции Дурал на Тариме дорога заняла две недели с двумя полудневками для отдыха в местах, где попадался хороший корм.
На первой полудневке я спросил Лобсына, почему он согласился на эту отсрочку нашего возвращения в Чугу-чак для новых раскопок вместо того, чтобы скорее снаряжаться для длинного пути в Лхасу на поиски сына.
— Я все еще надеялся, что сын раскается и вернется, догонит нас по дороге в Чугучак! А в Лхасу он так скоро не попадет. И пусть приедет туда, там легче будет найти его, чем на дороге. Не мог бы я ведь осматривать всех паломников, которых стал бы обгонять по пути.
Возле Дурала я сообразил, что если мы пойдем не прежним путем до Тыккелика, а повернем раньше на северо-восток через пустыню, то попадем на мертвое русло Конче-дарьи выше того места, где были и раскапывали стоянку рыбаков. И, расспросив у местных таранчей, мы так и сделали; оставив долину Тарима с рукавами реки, рощами, зарослями, мы повернули на северо-восток, поднялись на левый берег и пошли дальше. Местность сначала была неровная; цепи песчаных барханов, частью голых, частью зарастающих травой и кустами, перемежались с сухими руслами, остатками прежних разветвлений реки, окаймленными или сплошь занятыми зарослями камыша, совершенно засохшего и представлявшего только щетку невысоких палочек без следа листьев. Попадались кусты тамариска, также засохшие или еще с признаками, жизни; кое-где мертвые или умирающие стволы тополей.
Миновав эту полосу, шириной около 2-3 верст, мы опять поднялись метров на десять выше и вышли на равнину, усеянную описанными выше ярдангами в виде площадок и грядок в 1 -1,5 м вышины, с отвесными боками. Дорога по этим ярдангам была не очень приятная, приходилось выбирать впадины с мягким грунтом между твердыми площадками, чтобы не заставлять верблюдов на каждых 2-3 шагах подниматься на площадку, а через 2-3 шага спускаться с нее. Но в версте или двух далее впадин становилось все меньше и, наконец, они исчезли; с удалением от старого русла реки мы вышли на равнину с гладкой твердой поверхностью, поросшей только кое-где небольшими кустиками полыни, эфедры, колючки.
По этой пустынной равнине мы шли несколько часов и, наконец, встретили еще одно старое русло, врезанное в нее на 3-4 сажени; ему опять предшествовали ярданги, а в русле мы снова увидели жалкие остатки зарослей тамариска, отдельных засохших тополей, полосы и впадины сыпучих песков с барханами вдоль старого русла и его рукавов. Пора было остановиться на ночлег, вода у нас была с собой в бочонках; остатки камышей, кустики песчаной растительности могли дать нашим животным немного корма, который мы на ночь пополнили парой вязанок свежего камыша, захваченных на живом русле Конче-дарьи. Топлива было достаточно: мы срубили по соседству засохший тополь.
Наших верблюдов мы не пустили на ночь пастись, так как они, еще мало привыкшие к нам, могли бы уйти далеко вдоль по старому руслу в поисках скудного корма. Площади ярдангов были совершенно безжизненны, тогда как в русле, несмотря на отсутствие воды, попадались мелкие птицы; мы заметили сорокопута и сойку. Перед закатом я прогулялся с ружьем в сторону от лагеря в надежде наткнуться хотя бы на зайца, но ни одного не выгнал. Ночью же случилось маленькое происшествие. Лобсын, который по привычке спал очень чутко, на рассвете проснулся от небольшого шума. Лобсын осторожно высунул голову из палатки и увидел, что к нашим верблюдам подошли еще два, остановились возле них и стали подбирать стебли зеленого камыша, валявшиеся возле них. Лобсын спросонья подумал, что это встали наши, чем-то потревоженные, и, выйдя из палатки, направился к ним, чтобы уложить их. Но едва он сделал два-три шага в их направлении, как они бросились в сторону и убежали. Когда он подошел к месту происшествия, он увидел, что наши верблюды лежали спокойно и, повидимому, вытянув головы, спали. Очевидно, недавно к ним подошла пара диких верблюдов и лакомилась привезенным нами свежим камышом. Утром он рассказал мне это и пожалел, что не разбудил меня — одного из пришельцев легко было подстрелить, не выходя из палатки. Лобсын утром проследил их следы по песку.
На второй день мы опять поднялись из этого старого русла на возвышенность с ярдангами того же характера, по которой шли целый день, и дошли до берега сухого русла, по размерам похожего на то, в котором мы копали остатки хижин рыболовов. Но оно было еще пустыннее.
— Ну, Фома, — сказал Лобсын, оглянувшись вокруг. — Едва ли мы найдем здесь удобное место для стоянки! Ни признака свежей зелени, — значит, нет воды, а корм очень скудный.
Русло тянулось далеко на восток. Я достал бинокль и стал оглядывать берега, передвигая его медленно вдоль русла. И вот, верстах в пяти от нас, я увидел в русле у подножия левого берега маленькое зеленое пятно, явный признак источника воды, окруженного небольшой растительностью. А на откосе берега и над ним были различимы какие-то столбы и кучи каких-то обломков. Туда, конечно, мы и направились и нашли крошечный оазис: пресный источник, выбивавшийся из-под самого берегового обрыва какой-то темной твердой породы, и вокруг него заросли камыша, несколько тополей и кусты тамариска по соседству.
Мы, конечно, разбили свой лагерь на ровной площадке, несколько в стороне, чтобы не позволить нашим животным сразу броситься к воде, затоптать и загадить источник, исчезавший в десятке шагов дальше среди зарослей камыша. Разбив палатку и оставив Очира, занятого разведением огня, мы с Лобсыном взобрались по береговому откосу. Оказалось, что там на значительной площади тянулись развалины, торчали отдельные деревянные столбы разной толщины и высоты, валялись доски и бревна, полузасыпанные песком; кое-где высились остатки глинобитных стен и фанз, сильно выветрелых, поднимались выше какие-то башни, изъеденные временем. Было ясно, что это уже не следы бывшей хижины рыболовов, а нечто более крупное и более древнее, требующее внимательного изучения. Здесь нужно было сделать раскопки.
Вернувшись с обхода и напившись чая, мы вооружились втроем нашими серпами, которыми мы нарезали камыш, и вырезали большую часть зарослей, чтобы животные при свободной пастьбе не потоптали их; сложили скошенное в кучу и только тогда выпустили животных пастись до темноты на остатках, а на ночь дали им часть скошенного. Запас его позволял нам пробыть здесь не больше трех дней. На следующее утро, оставив Очира у палатки и захватив кайлу и заступы, мы вдвоем полезли опять на берег и начали раскопки возле развалин глинобитных домов.
Удалив песок, накопившийся под защитой стен и достигавший высоты до 1 аршина, мы углубились на высоту заступа в старый, сильно утоптанный пол, и вскоре нам начали попадаться разные, несомненно старинные, предметы: бронзовые наконечники стрел, кольцо от уздечки, обломок женской брошки, железная скоба с отверстием, конечно проржавленная, железная ложка и несколько женских головных булавок. Поработав часа два возле одного дома и набрав десятка полтора разных вещиц, мы перешли в другой, занимавший большую площадь, разгороженную остатками стенок на несколько комнат. В одной из них из-под наносного песка в уголку обнажилась плитка желто-серого цвета с мелкими ребрышками. Удалив песок, мы обнаружили, что пол этой комнаты почти весь был выстлан такими плитками, размерами в квадратную четверть, похожими на те, которыми у нас в барских домах застилают пол ванных комнат и кухонь. Нескольких плиток нехватало, и это позволило нам легко освободить от них половину комнаты и обнаружить целый склад документов на китайском языке: это были деревянные тонкие пластинки в 1/2аршина длины, шириной от вершка до ладони, покрытые иероглифами с обеих сторон, вдоль пластинки сверху вниз, так что их нужно было читать, держа пластинку, как палочку, вертикально. На одних иероглифы были крупные, во всю ширину пластинки, на других — мелкие, в два параллельных ряда. Кроме деревянных, попадались и бумажные, из толстой бумаги в виде длинных и узких полосок, и шелковые, все так же исписанные иероглифами по длине. Эта библиотека подпольная, если можно так выразиться, сверху была покрыта довольно толстым ковриком шерстяным с узорами, довольно потрепанным, который, очевидно, должен был предохранить документы от сырости, проникающей через щели между плитками. Последние, впрочем, имели очень гладкие ровные бока и были уложены аккуратно, так что щели были минимальные. Вместилище имело два шага в ширину и три в длину, больше четверти в глубину и разгорожено продольными деревянными перегородками, на которых несколькими рядами покоились плитки друг возле друга.
Мы, конечно, очистили это редкое хранилище, после чего заложили его плитками, за исключением одной, которую унесли с собой для пояснения устройства этой подпольной библиотеки. Раскопки в первом доме и в этом хранилище заняли у нас время до полудня. Все добытое мы унесли к палатке и там упаковали как следует, завернув каждую пластинку в бумагу.
После обеда мы начали копать в другом месте, где развалины нескольких домов тянулись в виде улицы на некоторое расстояние. Раскопали пол нескольких комнат в разных местах. В некоторых нашли очень мало — обломки дерева с узорами, отдельные бронзовые и железные вещицы. В другом нашли, повидимому, остатки мастерской резных изделий из дерева: фигурки людей, животных, цветков, узорчатых палочек и планочек. Все это, перемешанное с обрезками дерева, стружками и песком, заполняло впадину в углу комнаты. Мы, конечно, выбрали наиболее полные изделия этой мастерской, работавшей почти две тысячи лет назад по украшению жилищ обитателей города Шань-шань и для вывоза. В почве этой и других комнат попались и разные деревянные изделия: грубые лопатки, вероятно для размешивания теста, крючки, палочки — рукоятки нагаек, иные с остатками кожи на конце, шпильки из женских причесок, крошечные субурганы. Нашлось довольно много медных, бронзовых и железных монет в виде чохов разных размеров с квадратным или круглым отверстием и остатком стертых иероглифов. Находились и обрывки шерстяной, хлопчатобумажной и шелковой ткани с узорами. Деревянные изделия большею частью были из тополевого дерева, мягкого и легкого для резьбы, но непрочного и сильно трещиноватого, но попадались и более темные или красноватые из какого-то другого дерева, более прочного и твердого, вероятно привозного.
В самых верхних слоях мы нашли также чохи и кое-какие деревянные и металлические изделия, но более грубые и попадавшиеся редко. Можно думать, что они принадлежали гораздо более поздним обитателям, вероятно рыболовам, поселившимся на берегах Конче-дарьи, когда она после долгого перерыва опять проникла в это русло и привлекла за собой других людей.
За три дня, которые мы могли провести на этом месте по недостатку корма для животных, мы, конечно, не могли раскопать всю площадь развалин, занимавшую вдоль реки на обеих ее берегах несколько километров в квадрате. В ее пределах попадались остатки глинобитных башен разной величины; одни из них представляли некогда сторожевые башни на окраинах города, другие — караульные помещения внутри его, третьи — буддийские субурганы, вероятно позднейшего времени.
Ведь, судя по историческим данным и наблюдениям путешественников, можно думать, что город Шань-шань, или Лоу-лань, за два тысячелетия, истекшие со времени первых сведений о нем, мог погибать раза три или четыре, если не больше, в зависимости от перемещений русла реки Конче-дарьи с севера на юг и обратно, и опять возрождаться на том же месте. Мы обнаружили теперь остатки самого древнего города, известного китайским историкам в первом веке до нашей эры под этим именем, а также остатки рыболовных хижин ниже по течению, которые существовали не более 200 лет назад. А в промежутке между этими датами Конче-дарья могла еще не один раз уходить из этого русла и, сливаясь с Таримом, создать новое озеро на юге у подножия Алтын-тага, где Н.М. Пржевальский нашел новый Лоб-нор, а затем, засорив его своими отложениями, опять отступать на север, возвращаясь в старое русло у южногоподножия Курук-дага.
Я забыл упомянуть, что, кроме развалин глинобитных башен на площади бывшего города Шань-шань, мы видели при обходе ее во многих местах столбы разной высоты и толщины, вертикальные, наклонившиеся и лежащие, бревна, доски, круглые щиты, сколоченные из толстых досок, вероятно представлявшие остатки грубых первобытных колес, низкие плетни из прутьев и т. п. в промежутках между барханами песка и ярдангами; попадались осколки больших сосудов из обожженной глины для воды или хранения муки или зерна. Судя по этим развалинам, город был большой, и, конечно, наши раскопки обнаружили только небольшую часть хранившихся в этих развалинах археологических остатков. Но добытое нами должно было возбудить желание направить специальную экспедицию соответствующего состава ученых для съемки и раскопок на всей площади старого города у Лоб-нора, где, может быть, побывал и Марко Поло в XIII веке.
Упаковав тщательно все находки, составившие в общем не очень тяжелые вьюки для двух верблюдов, мы отправились вверх по старому руслу Кончедарьи и вечером того же дня остановились на том месте вблизи развалин Эмпень, где ночевали по пути из Токсуна и откуда сделали экскурсию для раскопок на месте рыбачьих хижин. Открытое нами теперь местоположение города Шань-шань находилось на расстоянии около 38 верст от этого пункта вниз по бывшему течению Конче-дарьи.
Таким образом, старое русло этой реки до известной степени возместило нашу неудачу на Нии. Хотя добыча была не так велика, но очень ценная по возрасту, так как едва ли можно было сомневаться, что рукописи и, во всяком случае, часть мелких вещей принадлежит времени существования города Шань-шань последнего века до р.х.
Наличие воды и подножного корма позволило нам устроить дневку, чтобы подкормить наших животных, которые поголодали у места раскопок, истребив все остатки зарослей камыша вокруг источника до самых корней. Мы использовали время дневки, чтобы упаковать более тщательно всю добычу в развалинах Шань-шаня, которую пришлось укладывать спешно кое-как из-за того, что подножный корм иссяк. Я забыл упомянуть, что среди мелких вещей оказалось довольно много маленьких фигур Будды из обожженной глины, а также бусы из стекла, нефрита, какого-то черного и красного камня, серебряные браслеты и разные монеты с искусно просверленными дырочками, которые чанту, т. е. тюрчанки этого края, подвязывают к своим косам в качестве украшений.
На следующий день мы выступили по знакомому уже пути через Курук-таг и Чол-таг в Токсун и через Урумчи и Шихо в течение 20 дней к концу ноября прибыли в Чугучак; Лобсын еще с пути через Джаир свернул к своему улусу, чтобы готовиться к путешествию в Лхасу.
Я посетил консула и рассказал ему о нашем путешествии, крупной неудаче, потере всего каравана и сына Лобсына на окраине пустыни в Нии и частичном возмещении на обратном пути раскопками на старом русле Конче-дарьи и открытии местоположения древнего города Шань-шань.
— Ваш рассказ показал, — ответил консул, когда я кончил рассказ, — что вы были слишком доверчивы в Нии. Впрочем, обстоятельства сложились также против вас. Представьте себе, что если бы буря не разразилась так не вовремя, вы в развалинах на окраине пустыни Такла-макан нашли бы много интересных вещей, а Ибрагиму не было бы случая соблазнить вашего мальчика и удрать вместе с ним. И вы бы вернулись домой и с кладом и с мальчиком. В книге, которую я недавно получил, сказано, что по южной окраине пустыни Такла-макан много развалин, оставленных людьми в связи с наступлением песков и уменьшением количества воды. И это ухудшение началось не так давно, лет 500 назад, и вместе с открытием морского пути в Китай вызвало упадок большого шелкового пути из Европы и постепенное умирание этого края. А если там осталось много развалин, то и много может быть материала для раскопок. Ваша неудача была случайная, независимая от истории этого края. Другое дело, если бы вы копали неудачно в разных местах и обнаружили отсутствие интересных вещей! Поэтому вы не унывайте, средства и опыт у вас есть, в будущем году наверстаете, и мы еще обсудим, куда лучше направиться.
— Нет, Николай Иванович! — сказал я со вздохом. Я уже состарился, силы не те, сердце дает себя знать. А главное, пожалуй, в том, что я потерял своего компаньона и помощника. Он моложе меня на 20 лет и мог бы еще не раз отправляться за кладами. Но потеря сына, бежавшего в компании с вором, его убила. Он мечтает теперь итти паломником в Лхасу и искать там своего сына. Я, конечно, туда с ним не пойду, на это у меня уже сил нет. А он может застрять там надолго в поисках сына.
— Пожалуй, что так, — заключил консул. — Ну, поживем, увидим. Сейчас зима, время вашего отдыха. Разберите находки, пошлем их в Петербург и узнаем их ценность. А лавка и дом у вас сохранились, как и средства для жизни.
Наши сравнительно небольшие древности, выкопанные в поселениях Лоу-лань на берегу оставленного русла Конче-дарьи, по заключению Эрмитажа и Академии наук, оказались очень интересными. Добытое в Лоу-лане представляло утварь и разные домашние вещи, орудия, оружие, картинки бытового обихода третьего и четвертого столетий после р.х. Все эти вещи получили высокую оценку, а мы большую благодарность за наши раскопки, отчасти оправдавшие экспедицию в бассейн Тарима.
ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОЛИНЕ ВЕТРОВ И ПАЛОМНИЧЕСТВО ЛОБСЫНА В ЛХАСУ
Вскоре после нашего возвращения из неудачной экспедиции за кладами на южной окраине пустыни Такла-макан Лобсын, побывавший уже в своем улусе в долине реки Богуты, явился ко мне в лавку. Я уже успел съездить в Семипалатинск и вернуться с новой партией мануфактуры и других товаров для своей лавки, так как остатков от прежних закупок было уже немного, а сидеть в ней для распродажи этих остатков случайным покупателям было слишком скучно. Я еще не собирался прекратить свои поездки по Монголии и Туркестану и почить, так сказать, на лаврах, проедая на старости лет заработанные деньги. Закупив новый товар на остатки золота, я думал еще раз отправиться по кочевьям, если позволит здоровье, состояние которого внушало уже опасения.
Лобсын был очень расстроен, даже похудел за последнее время. Он посидел молча в ожидании ухода покупателя и, послав Очира на кухню за стаканом чая, сказал мне со вздохом:
— Знаешь, Фома, житья мне в юрте не стало. Жена плачет с утра до вечера и упрекает меня за то, что наш сын убежал, как будто я виноват в этом, а не она, которая избаловала его, сделала своевольным и самонадеянным. Она требует, чтобы я отправился в Лхасу, разыскал сына и привез его домой. Она говорит, что сын у нас только один, что я испортил его своими поездками за кладами, приучил к безделью, что он отвык заботиться о нашем скоте и хозяйстве и дома в промежутки между путешествиями ничего не делал, обленился, таскался к девушкам в соседних улусах. Это, пожалуй, верно. Я сам исполнял все работы по хозяйству, когда был дома, а его не заставлял писать и читать по-монгольски и по-русски и заниматься грамотой со своими сестрами.
— Одним словом, я решил итти паломником в Лхасу, разыскать сына и привести его домой. У тебя еще лежит моё золото, отдай его мне, я куплю трех верблюдов, разных товаров на подарки далай-ламе и храмам, продовольствие на дорогу. В долине Кобу в этом году был хороший урожай и размножился скот, несколько человек решили итти на поклон к далай-ламе и уговорили меня присоединиться к ним, как знающего все дороги. Такого случая у нас давно не было, а итти одному слишком дорого и трудно.
— Итак, ты хочешь оставить меня! — сказал я ему. — Мы столько лет так хорошо и дружно работали вдвоем; смотри, какое большое хозяйство ты завел на Богуты, сколько скота имеешь, обставил юрты, нашел жену, народил сына и трех дочерей. А теперь хочешь все это оставить и итти в Лхасу искать сына-бездельника, затратишь на это свои силы и средства. Подумай хорошенько о себе и обо мне также, как я буду без тебя водить свой торговый караван, даже если перестану интересоваться кладами.
— У тебя уже подрос хороший помощник — Очир, — ответил мне Лобсын. — Он не хуже меня все дело знает. Один раз попробуй с ним поехать не так далеко. Я пробуду в отлучке только эту зиму и весну, к будущему лету вернусь с сыном или без него. Хозяйство мое и семья остаются ведь на Богуты.
Долго я уговаривал его, но он, видно, твердо решил: — Не могу я вернуться домой, жена пилит с утра до вечера и плачет, дочери тоже просят — приведи нашего брата домой.
Пришлось отдать ему его золото на покупку верблюдов, седел, товаров и даже отпустить ему из своего склада кое-что подходящее для подарков. Лобсын сказал, что его попутчики по паломничеству хотят итти в Лхасу не обычным путем через Алашань, Лань-чжоу и Синин к границе Тибета, а по более короткой дороге через Урумчи, Черчен и западный Цайдам, чтобы выйти на главную дорогу уже на границе Тибета.
— Если ты пойдешь этим путем, — сказал я ему, — я провожу тебя до Кульджи. Мне давно хотелось увидеть западную окраину нашей страны с долиной Ибэ и озером Эби-нур. У меня найдется товар на пару верблюдов, и через две недели мы можем отправиться. Для меня это немного поздно, но если не использовать этот случай, я в Кульджу сам уже не соберусь. А может быть, ты отложишь свое паломничество до весны? Ведь придется итти по Цайдаму и Тибету уже в зимние холода!
— Нет! — сказал Лобсын. — Если выручать сына — нужно это сделать скорее, чтобы застать его и его соблазнителя в Лхасе. А позже куда еще он его заманит, и следов не найдешь!
Поэтому мы и решили выехать вместе в самом начале декабря по прямой дороге в Кульджу. Лобсын уехал покупать верблюдов, в том числе двух для меня, а я заготовил запасы, отобрал товары для своей торговли в Кульдже и для подарков в Лхасу. Побывал я и у консула и рассказал ему решение Лобсына о паломничестве. Консул против ожидания поддержал моего компаньона, одобрил его желание найти и вернуть сына на путь честного торговца, а не бродячего прихлебателя лам. Он одобрил также мое желание побывать в Кульдже и обещал дать мне письмо к русскому консулу в этом городе с рекомендацией на всякий случай.
* * *
Первого декабря вернулся Лобсын с шестью верблюдами, двумя лошадьми и ишаком. Он навьючил двух верблюдов товарами и подарками для Лхасы, двух — провиантом на весь путь для себя, палаткой и другим снаряжением на длинную зимнюю дорогу. Я занял двух верблюдов своими вещами и товарами для Кульджи, подобранными по совету консула, знавшего местный спрос по своей прежней службе там. С нами ехал Очир, для которого и был куплен ишак. Сидя на нем, он должен был вести караван до Кульджи вместе с Лобсыном, а обратно уже самостоятельно во главе каравана, хвост которого замыкал всегда я.
По совету консула мы решили итти до Кульджи не ночными переходами, как обычно с караваном, а днем по следующей причине. До озера Эби-нур путь идет все время по долине, которую называют «Джунгарские ворота». По ней пролегает и русско-китайская граница, выступая углами то вправо, то влево, так что большая дорога часто проходит у самой границы и ночью итти неудобно. Стража на русской и на китайской стороне может принять наш караван ночью за контрабандистов, задержать и отвести на ближайший таможенный пост, где могут подвергнуть осмотру все товары и потребовать пошлину. Возможны всякие придирки и неприятности. Днем же при виде нашего каравана стражник, если увидит, — подъедет, проверит наши документы и отпустит без затруднений. Дневным путешествием я, конечно, был доволен, так как мог увидеть всю эту междугорную долину, которая меня интересовала с давних пор по своему историческому значению.
Я знал, что по этой долине в XIII веке впервые прошли орды Чингиз-хана из глубины Азии, оставляя в стороне высокие перевалы, покрытые зимой снегами и слишком трудные для движения больших орд. Она составляла последнее звено большой и ровной дороги, которая выходила из Каракорума, столицы Чингиз-хана на реке Орхоне, пролегала сначала на юг, огибая восточный конец гор Гурбан-Сайхан, и потом пролегала все время по долине между Монгольским Алтаем и Тянь-шанем и по Джунгарской Гоби выходила у озера Эби-нур в эти Джунгарские ворота, где поворачивала на северо-запад в Киргизские степи. Через эти ворота орды, оставив за собой длинный и ровный путь по степям и пустыням Монголии и Джунгарии, спокойно выходили в степи киргизов и калмыков к большим и богатым городам Бухаре, Хиве, Самарканду, растекаясь также на северо-запад мимо Аральского и Каспийского морей к берегам Волги и владениям русских князей. На всем пути не было ни одного высокого перевала и скот везде находил корм и воду. Правда, что ввиду краткости зимних дней дневные переходы не могли быть большими, так что путь должен был занять пару лишних дней.
Мы выступили 6 декабря в ясную погоду с легким морозом и пошли впервые из Чугучака на юг, тогда как во время предшествующих путешествий всегда шли на восток, вверх по долине реки Эмель. Местность представляла чиевую степь на солонцовой почве; голые площадки с белыми выцветами солей все время чередовались с зарослями чия в виде отдельных толстых снопов, достигавших высоты всадника. Обилие и свежесть чия на этой пограничной местности объяснялись тем, что здесь как с русской, так и китайской стороны не пасли скот из опасения, что он перейдет через границу, никакими знаками не обозначенную, и попадет в чужие владения, где его могут задержать. Поэтому вся местность была пустынная, и только на половине перехода мы встретили жилой пункт. Это была шерстомойка на берегу пруда, в которой собиралась зимой вода нескольких речек, питавших оазисы Чугучака и здесь оканчивавших свой путь. В пруду китайские скупщики шерсти промывали ее и потом просушивали на снопах чия. Но начавшиеся холода заставили прекратить эту работу, мы никого не застали, и навесы, под которыми паковали вымытую и высохшую шерсть в тюки, пустовали.
Вечером мы дошли до реки Эмель и стали на ночлег. Река течет здесь в берегах из желтозема, поросших тростником, спускающихся уступами к буро-желтой воде, которая, конечно, замерзла и лед уже выдерживал тяжесть груженых верблюдов. Но последние, как известно, скользят ногами на голом льду, и мы вечером должны были приготовить им дорогу, усыпав лед слоем песка, а для водопоя им и лошадям сделать прорубь. Немного восточнее вдоль реки видны были плоские холмы Маниту, Лаба и Арал-тюбе, разбросанные среди зарослей тростника и поросшие кустами, которые дали нам топливо. На западе виден был на берегу реки китайский таможенный пост. Русский пост был виден подальше. Когда стемнело, два солдата китайского поста навестили нас под предлогом проверить паспорта, но, конечно, главным образом из-за угощения. Мы подали им свежих баурсаков к молочному чаю и по пачке табаку. Паспорта наши они проверили очень бегло, обратив главное внимание на красочные штемпеля, а не на текст, из которого они бы узнали, что один из нас собирается итти в Лхасу на богомолье.
Вечером, когда мы пригнали наших лошадей и верблюдов к проруби во льду реки Эмель и стали поить из ведра, Лобсын воскликнул:
— Какая грязная вода в этой речке, Фома! Почему это? Ведь недалеко отсюда в холмах Джельды-кара вода еще чистая. Неужели это город Чугучак спускает столько грязи в реку, что так мутит воду?
— Едва ли, — ответил я. — Я думаю, что в долине Эмель река течет в берегах из этой желтой глины и размывает ее, потому и вода становится такой грязной [76].
На следующий день мы пошли на юг, по песчаной степи, поросшей невысокой, но довольно густой травой. И здесь вдоль границы скот не пасли. На западе видны были песчаные холмы, окаймляющие низовье реки Эмель и соседний берег озера Ала-куль; они тянулись грядами барханов, частью голых, напомнивших нам последние дни нашего злополучного путешествия по южной окраине пустыни Такла-макан. Но день был тихий, и пески не курились. На юго-востоке видны были плоские холмы предгорий Барлыка. После полудня мы вступили в долину с пологими склонами, покрытыми мелкой густой травой, а под вечер остановились на берегу ручейка, окаймленного полосой тростника. Обилие последнего сулило нашим животным хороший корм.
Недалеко от нашей стоянки на берегу того же ручья видна была фанза пограничного китайского пикета. Я поинтересовался пройтись к ней и, приоткрыв дверь, увидел двух солдат, спокойно спавших на кане в теплой комнате. Можно было думать, что они днем спят, а ночью караулят пограничную линию. Поздно вечером они посетили нас, были очень рады угощению и жаловались на удручающее однообразие своей жизни в этом уединенном карауле вдали от дорог. На вопрос Лобсына они сообщили, что за год своей службы на пикете видели контрабандистов только один раз, да и то это был какой-то жалкий бедняк, который хотел пронести немного китайской чесучи беспошлинно на русскую сторону. Они были рады тому, что скоро срок их службы кончится и их сменят.
На следующий день мы долго поднимались вверх по этой долине, перевалили через плоский водораздел северной цепи Барлыка и спустились по южному склону в долину реки Цаган-тохой. На всем этом пути не было никаких скал или просто выступов коренных пород; все было покрыто желтоземом, поросшим низкой, но густой травой. Только в конце спуска как-то сразу появились скалы и мы очутились почти в ущелье, промытом речкой в каких-то твердых породах [77]. Мы остановились в начале этого ущелья, вверх по которому склоны вскоре делались менее крутыми, покрытыми травой, а по дну долины появились деревья и лужайки, как я заметил, пройдясь вверх по долине речки до пограничного пикета. На последнем было уже несколько солдат и офицер, с которым я побеседовал и узнал, что в дни, когда свирепствует ветер Ибэ, никакой обход границы невозможен — ветер валит с ног. От него я также узнал, что на всем протяжении Джунгарских ворот ни на китайской, ни на русской стороне нет населенных пунктов кроме пограничных пикетов, нет ни посевов, ни даже огородов, потому что ветер слишком силен.
На следующий день я отправил Лобсына с Очиром по дороге до следующего пикета Тасты через Барлык, а сам налегке поехал вниз по ущелью реки Цаган-тохой; его окаймляли высокие скалы, понижавшиеся вниз по течению. Недалеко от выхода реки из этого ущелья я поднялся на его левый склон и перевалил через плоские горы в соседнюю к югу долину Арасан к поселку у минерального источника, о котором давно уже слышал в Чугучаке. Горячая вода вытекает у подножия правого склона довольно узкой долины и попадает в трубу, проведенную в ванное здание на дне долины; в ваннах она издает сильный запах сероводорода и имеет сернистый вкус и температуру до + 37° Ц. Сезон купанья давно кончился, и я застал только сторожа, который сказал, что приезжие лечатся от ревматизма, накожных и венерических болезней ваннами, но также от катара желудка питьем воды. Долина находится уже на русской территории, и больные приезжают не только из Чугучака, но и из других городов, даже Семипалатинска, и живут в нескольких маленьких домиках на дне этой узкой долины, где имеется только несколько деревьев и летом очень душно [78]. Покинув долину, я вскоре добрался к пограничному пикету на большой речке Тасты, собирающей свои воды в горах Барлыка и впадающей в реку Цаган-тохой недалеко от ее впадения в озеро Ала-куль. Озеро с этих холмов хорошо было видно на западном горизонте. Дважды через линию границы к курорту и потом к китайскому пикету на реке Тасты я проехал совершенно свободно, не встретив никого и не заметив никаких пограничных знаков. На пикете никого из пограничной стражи не оказалось, Лобсын и Очир расположились свободно во дворе, обнаружив отсутствие не только людей, но и признаков их недавнего пребывания. Мы не ставили свою палатку, а поместились в фанзе, где можно было развести огонь, а животных привязать во дворе, обеспечив их на ночь кормом в виде тростника, окаймлявшего русло реки. На русской стороне в окрестностях китайского пикета не было никаких построек, местность была совершенно пустынная на обоих берегах реки Тасты. Впереди на юге расстилалась более ровная местность, тянувшаяся на запад к южной половине озера Ала-куль.
— Я полагаю, что здесь очень сильно дует Ибэ, — сказал Лобсын, когда я спросил его, почему на пикете нет стражи. — Ветер вырывается из узкой долины между горами на простор к озеру Ала-куль. Поэтому зимой здесь очень холодно, и караул на холодные месяцы снимают.
Во дворе пикета мы нашли довольно много сухого аргала, так что могли хорошо согреться в фанзе. Рассмотрев карту местности, я заметил, что мы находились здесь в устье большого раструба, который образовали гряды Барлыка: северная цепь, которую мы пересекли, выдавалась вперед к озеру Ала-куль, на северо-запад, а южная, самая высокая Кер-тау, с вершинами, уже покрытыми густым снегом, тянулась дальше на юго-запад к озерку Джаланаш. В раструбе располагались более низкие горы, покрытые еловым лесом, прорезанные долинами нескольких речек. Какую роль этот раструб мог играть в отношении силы ветра Ибэ, я, конечно, не мог решить и подумал только: как жаль, что в Джунгарских воротах еще не устроили метеорологическую станцию, чтобы изучить эти загадочные ветры! При этом я, конечно, вспомнил свои впечатления на пути по Долине бесов у южного подножия Тянь-шаня между Люкчуном и Хами во время нашей экспедиции в Хара-хото, не менее загадочной своими ужасными ветрами. Но нельзя не отметить, что эта долина находится в глубине Внутренней Азии и в чужих владениях, а Джунгарские ворота с их ветрами Ибэ пролегают вдоль нашей границы и начать изучение этих ветров легко могли бы наши метеорологи, устроив станцию на одном из пикетов в этих воротах.
На следующий день мы сделали большой переход поперек упомянутого раструба, отшагав 30 верст от пикета Тасты до речки Кепели по довольно неровной местности, в которой были врезаны долины нескольких речек, текущих из долин в хвойных лесах Барлыка. На нашем пути в этих долинах мы встретили покрытые льдом ручейки, окаймленные скудными кустами. К берегу речки Кепели мы подошли к закату солнца после пасмурного дня. Когда мы ставили свою палатку, я обратил внимание на горки, видневшиеся невдалеке на западе и окрасившиеся ярко-красным цветом.
— Какие это кровавые горки видны там? — спросил я Лобсына, указав ему на них.
— Это горы Кату!
— Опять Кату, те самые возле старых рудников, где мы нашли золото? — воскликнул я, — неужели они тянутся сюда так далеко?
— Нет, это другие! Те горы Кату в хребте Джаир, далеко на восток отсюда. А это маленькие горки среди ворот.
Эти маленькие, но очень скалистые горки, возвышавшиеся недалеко от юго-западного берега озера Ала-куль среди плоских холмов в нескольких верстах к западу от окраины Барлыка, обращали на себя внимание своим уединенным положением и цветом. Последний, впрочем, зависел от освещения их багровокрасным закатом солнца. Заметив это, Лобсын воскликнул:
— Ну, Фома! Смотри, какой закат красный! Завтра, наверно, начнется сильный Ибэ, а мы будем в самом узком месте ворот. Нужно закрепить вьюки получше!
На следующий день мы пошли мимо гор Кату, поднимавшихся зубчатым горбом среди холмов; на одном из последних выделялась черная полоса, и, подъехав к ней, я рассмотрел, что это пласт земляного угля, изрытого ямами и небольшими выработками, из которых уголь, очевидно, добывали. Немного далее мы миновали русло довольно большой речки Теректы, вверх по которой виден был китайский пикет, а немного ближе ее правый берег обрывался серой стеной, прорезанной вертикальными ложбинами. За руслом поднимались какие-то голые черные холмы, сплошь усыпанные крупным и мелким щебнем, а справа от нашей дороги во впадине, окаймленной большими кустами саксаула, видно было довольно большое озерко.
— Эти холмы называются Джавлаулы, — сказал Лобсын. — Они выметены ветром Ибэ дочиста, на них нет ни кустика, ни травинки, голый битый камень. А озерко зовут Джаланаш; это значит — змеиное. Вода в нем пресная и в ней, говорят, много змей. Правда ли это — не знаю. Вода пресная потому, что в озеро впадает речка Теректы, а из озера имеется сток в южный конец озера Ала-куль, так что озеро проточное. А в Ала-куле, ты знаешь, вода соленая.
Озеро Джаланаш было, конечно, покрыто льдом, но снега нигде не было видно. Я обратил на это внимание Лобсына.
— Должно быть, не так давно в воротах дул Ибэ и согнал весь снег. И ты заметил, Фома, он уже начал дуть.
Действительно, с утра уже дул ветер, хотя не сильный, но прямо в лицо. А мы, в сущности, только что въезжали в самое узкое место ворот, где Ибэ должен был свирепствовать.
Когда мы подошли ближе к южному концу озера Джаланаш, я увидел ясные следы русских колес и, конечно, спросил, кто это ездит на колесах по этой пустынной долине, где мы уже третий день не видели ни одного человека.
— Эта дорога, — пояснил Лобсын, — идет из деревень Урджар и Муканчи. Вспомни, это последние русские деревни перед таможней Бахты. По этой дороге крестьяне ездят в горы Ала-тау, на западной стороне ворот, где растет хороший еловый лес. Они его рубят и увозят к себе. Пожалуй, все деревни построены из этого леса.
— Как же им позволяют рубить лес на китайской земле? — воскликнул я.
Лобсын рассмеялся. — На западной стороне ворот земля-то русская, и эта дорога идет все время по русской земле вдоль берега озера Ала-куль. А мы за пикетом Теректы тоже уже переехали через границу. У озера она делает большой угол.
Я вынул карту и увидел, что Лобсын прав. Мы совершенно незаметно миновали границу между Россией и Китаем. А пока я ее разглядывал, Ибэ давал знать о себе. Он налетал отдельными сильными порывами и взметал на твердой дороге пыль, которая стлалась струйками по колеям, пробитым тяжелыми телегами крестьян, нагруженными еловыми бревнами. Порывы ветра усиливались, и пришлось покрепче надвинуть на уши свои зимние шапки.
Когда озеро Джаланаш кончилось, от него по дну долины потянулась на юг полоса тростника, мелких кустов.
Но вот среди высот Ала-тау справа от дороги открылось устье поперечной долины, тянувшейся на запад. Лобсын, ехавший с Очиром во главе каравана, повернул вверх по этой долине, туда же завернули и колеи дороги, по которой крестьяне вывозили свой лес. Я понял, что Лобсын хочет укрыться в этой долине и подъехал к нему.
— Это долина речки Токты, — сказал он на мой вопрос. — Тут недалеко должен быть русский таможенный пост, где мы найдем защиту от Ибэ. Иначе мы все замерзнем.
Теперь мы шли уже не против ветра, а наперерез ему, и при сильных порывах он прямо валил с ног; верблюды шатались и откачивались в сторону. Хорошо, что мы в ожидании Ибэ очень прочно увязали все вьюки, укрыв плотно палаткой разную дорожную мелочь, иначе все было бы растрепано и унесено далеко. Холмы обоих склонов долины повышались и уже немного защищали от ветра. По дну долины текла хорошая речка, и видно было, как на ней исчезает снег и начинает проглядывать лед.
Больше часа мы ползли с остановками вверх по долине до маленького поселка таможенного поста. Он стоял среди более высоких гор, достаточно защищавших от ветра, и уже, приближаясь к нему, мы чувствовали, что порывы слабее, тогда как вверху в воздухе слышался неумолчный шум, свист, вой. Там Ибэ разыгрался во всю свою мощь. Пост стоял у северного подножия крутого, почти отвесного склона, служившего ему защитой; на склоне кое-где росли елочки, вцепившиеся корнями, словно когтями, в склон, в щели между камнями. Небольшой двор был огорожен невысокой стеной, сложенной из каменных плит. В глубине стоял деревянный дом с тремя окнами, с раскрашенными наличниками украинского типа. Очевидно, его строили плотники из Урджара или Муканчи из леса, срубленного тут же в Ала-тау. В этих селах издавна жили переселенцы с Украины. На другой стороне возвышалось деревянное здание — конюшни. Ворота были заперты, но через стену видно было, что по двору ходит караульный.
Мы остановились у ворот, караульный сейчас же вышел к нам и расспросил, кто мы, откуда и куда пробираемся. Я передал ему наши паспорта и просил доложить начальнику поста нашу просьбу разрешить нам переждать Ибэ возле поста.
Караульный унес паспорта и вскоре вернулся вместе с начальником, который отдал нам бумаги и разрешил нам раскинуть свой лагерь за стеной, где в нескольких шагах дальше была ровная площадка на берегу речки, на которой могла поместиться наша палатка. Мы ее раскинули под защитой здания поста, так что Ибэ лишь слабо трепал ее. Верблюдов уложили с одной стороны палатки у самой стены, лошадей — с другой. Вода была под рукой. Что же касается корма для животных — дело обстояло плохо. С ночлега у ложбины, тянувшейся от Ала-куля к Джаланашу, мы увезли большой сноп нарезанного тростника для лошадей, но когда поднялся Ибэ, его пришлось бросить, так как ветер стал его так трепать, что задерживал верблюда, на котором сноп был привязан, и ясно было, что до ночлега мы сноп не довезем. Вблизи поста по долине кое-где росли кустики и пучки полыни и колючки, так что верблюды могли кое-что поесть, но для лошадей не было почти ничего. Когда мы устроились и повесили котелок с супом, я пошел на пост к начальнику. В одной половине дома в большой комнате помещалось 10 казаков, спавших на нарах в два яруса вдоль стен, а в другой комнате поменьше жил начальник, молодой офицер, и здесь же была его канцелярия. В конюшне, конечно, были лошади, на которых казаки разъезжали, осматривая пограничную местность; следовательно, должен был быть и корм для них, и я спросил начальника, не может ли он продать нам немного сена на ночь. Он согласился и велел притти в сумерки.
В течение дня казаки заходили к нам по очереди, мы угощали их чаем — не монгольским с солью и молоком, так как последнего у нас не было, но с баурсаками, конечно, уже не первой свежести, и леденцами, которые были в запасе для Кульджи. В разговорах я узнал, что пост отодвинут от самой границы, проходящей вдоль по Долине ворот, в глубь гор из-за Ибэ, который дует в зимнее полугодие довольно часто, а в самой долине достигает такой силы, что деревянный дом не мог бы выдержать ее — никакая крыша не могла бы устоять, а, пока дует Ибэ, нет возможности выйти даже за дверь. По всей долине, сказали казаки, нет ни одного жилья, ни одна юрта киргизов не устояла бы здесь. Юрты встречаются, и то только летом, когда Ибэ слаб и дует редко, в нескольких верстах в обе стороны от ворот.
Казаки жаловались, что жить на посту очень скучно. В тихие дни они, всегда вдвоем, выезжают в долину на осмотр границы в ту или другую сторону на несколько часов. Контрабандистов встречают очень редко, иногда какого-нибудь китайца, который на себе несет шелковый товар продавать в Лепсинск, но пробирается почти всегда ночью, так что поймать его можно только случайно; еще реже попадается киргиз или калмык верхом. Людей по этой дороге почти не встретишь, разве иногда крестьян, которые едут в горы за лесом или везут его оттуда. А еще скучнее сидеть на посту целые дни, когда задует Ибэ. Это случается каждую зиму по нескольку раз в течение нескольких дней подряд, иногда целой недели, в прочее время года, особенно летом, редко.
Казаки сказали, что в эту осень Ибэ дул уже несколько раз, но не сильно, и разыгрался в этот день впервые. На мой вопрос, большой ли у них запас сена для коней, они сказали, что небольшой, но в тихие дни лошадей выгоняют в долину на берег озера Джаланаш, где они могут подкормиться тростником, особенно весной и летом.
В сумерки я пошел с Очиром к начальнику поста за обещанным сеном. Он отпустил его, но по цене вдвое выше, чем в Чугучаке на базаре, и я уверен, что он, во всяком случае, половину положил себе в карман. На мой вопрос, сколько времени дует Ибэ и смогу ли я получить еще сено, если ветер затянется, он ответил, что едва ли отпустит сено еще раз, но надеется, по некоторым приметам, что ночью Ибэ затихнет.
Гул и свист ветра в воздухе над постом продолжались весь день. Днем мы попытались погнать верблюдов попастись выше по ущелью речки и по очереди караулили их, чтобы они не ушли далеко. Они подкормились немного, но на ночь мы все-таки выдали им по порции жмыхов, которыми запаслись на всякий случай в Чугучаке, а лошадям дали по горстке овса, также запасенного. На ночь они получили сено, которое поели не очень охотно; оно было довольно старое и пересохшее. Казак, вероятно по приказу офицера, нагреб самое лежалое на сеновале. Но мы были довольны и этим, без него лошади остались бы голодными.
Буря продолжалась за полночь и только на рассвете начала стихать, а к восходу солнца ветер совсем затих и мы поспешно свернули лагерь, навьючили верблюдов и поехали вниз по ущелью Токты. Расстояние до ее устья, по которому мы накануне ползли более часа, мы прошли теперь в 20 минут, так что пост находился на расстоянии менее двух верст от устья речки Токты. Тут мы могли видеть результаты работы Ибэ: снег, который накануне лежал во многих местах под защитой кустов и во впадинах, а также на склонах холмов Джавлаулы на восточной окраине ворот, совершенно исчез, а речка Токты, которая была покрыта льдом, вскрылась, и вода журчала между заберегами, в которых еще сохранились остатки льда. Солнце поднялось над восточными горами, и стало теплее.
Мы повернули на юг вдоль западной окраины ворот и целый день шли вдоль нее. После полудня поднялся северный ветер и температура понизилась. Местность представляла мало интереса; справа тянулись небольшие округленные высоты Джунгарского Ала-тау, покрытые только мелкой степной пожелтевшей растительностью; слева сначала еще продолжались скалистые холмы Джавлаулы, а потом пошли плоские мягкие увалы восточной окраины ворот, такие же унылые, желтые, а за ними видны были более высокие скалистые горы промежутка между Кер-тау Барлыка и окраиной Майли. Широкое дно Долины ворот тянулось вдоль нашей дороги. Под вечер дорога разделилась: правая продолжала итти вдоль подножия Ала-тау, левая пошла наискось через долину. Лобсын свернул на последнюю и сказал мне:
— Казаки таможенного поста наказали итти по левой дороге. Они сказали — там найдете вечером воду и корм для животных; это ключ Кок-адыр, там есть деревья, кусты, чий, тростник.
Действительно, миновав впадину ворот, мы увидели небольшой оазис: группа тополей и кустов тамариска, заросли тростника вокруг ключа, вытекавшего у подножия холмов, снопы чия. Корма для животных было достаточно и мы остановились на ночлег. За весь день не встретили ни одного человека, ворота были пустынны.
В сумерки я с ружьем обошел окрестности в надежде на какую-нибудь добычу, так как запас мяса, взятый из Чугучака, кончился, а на посту у казаков самих его не было. Холмы вблизи нашей стоянки представляли выходы разных каменных пород, изъеденных нишами и впадинами, словно их грызли какие-то большие животные. Ниши на склонах были такой величины, что в них могла бы улечься крупная собака, но они не сливались друг с другом, как в холмах, которые мы видели в Джаире возле речки Ангырты.
Во время обхода этих холмов мне удалось подстрелить двух зайцев. Северный ветер продолжался и ночью, так что мы укрылись потеплее. Для животных Лобсын и Очир успели нарезать тростника и чия, пока я обходил холмы с ружьем, и мы не отпускали их на ночь.
Утром пошли дальше вдоль восточного подножия Долины ворот, представлявшего плоские холмы, на гребне которых кое-где выступали пласты грубых песчаников с галькой, тогда как другие холмы были заняты густыми зарослями тамариска. В промежутках между ними поверхность почвы часто представляла длинные плоские грядки, состоявшие сплошь из щебня величиной до лесного ореха. Эти грядки имели пологий южный склон и более крутой северный и, очевидно, были наметены силой Ибэ, который уносил с собой и песок, а щебень, который ему было уже не под силу поднимать в воздух, перекатывал и, отвеянный от всей мелочи, нагромождал такими грядами, которые по форме напоминали рябь, образующуюся на поверхности сыпучего песка при ветре, но имели до двух четвертей высоты и до 3-4 шагов в поперечнике. Можно было себе представить, с какой силой дул здесь Ибэ, создавая эти грядки отвеянного щебня на дне долины.
Часа через два мы вышли из этих холмов во впадину озера Эби-нур; последнее было видно впереди, но ближе не трудно было заметить старую береговую линию озера, на небольшой высоте над современным уровнем, в виде откоса из мелкого щебня, расчлененного ветрами на поперечные к долине грядки. Эта линия ясно свидетельствовала об усыхании озера. Самый же берег последнего поразил нас своими формами; он состоял из глыб льда, толщиной в целую четверть, набросанных друг на друга в полном беспорядке в лежачем, наклонном и стоячем положениях. Между ними еще кое-где виден был снег, но глыбы большею частью были лишены его. Очевидно, это были в миниатюре торосы полярного льда, нагроможденные во время Ибэ, который сначала взломал лед замерзшего уже озера, а затем набросал его глыбы вдоль берегов.
Северный ветер взволновал озеро, которое полностью вскрылось. Его южный берег был виден вдали, также с белой каймой торосов. Мы обогнули озеро по восточному берегу, что заняло час с лишним; шли по твердому пляжу, укрепленному морозом, между торосами льда справа и старой береговой линией слева. Еще левее поднимались уже плоские холмы окраины хребта Майли, которые уходили на восток. Южный берег озера представлял также торосы, но сюда набегали волны, поднятые северным ветром, и торошение льда продолжалось на наших глазах; льдины сталкивались, лезли друг на друга, опрокидывались, громоздились, все время слышен был шорох; волны набегали, сдвигали и ворошили льдины.
Поднявшись на берег, мы шли по песчаным холмам, наметенным северными ветрами и поросшим разными кустами, пересекли большой тракт Бей-лу, шедший из Урумчи через Манас и Шихо вдоль подножия Восточного Тянь-шаня дальше к перевалу через этот хребет. Но Лобсын повел нас прямо к устью ущелья речки Бургусутай, которое видно было впереди в стене Тянь-шаня, так как по расспросам знал, что там должна быть более короткая верховая дорога через хребет. Действительно, под вечер мы вошли в это ущелье и вскоре нашли хорошее место для ночлега на берегу речки, где имелось достаточно корма для животных. Но теплый Ибэ сюда, очевидно, не доходил, речка была под льдом, а на траве и кустах лежал небольшой слой снега.
Следующий день мы шли вверх по ущелью Бургусутая; вдоль речки росли кусты и деревья — тополя, тал, джигда, карагач, крутые склоны были скрыты под снегом, над которым возвышались редкие кусты. Через несколько верст дорога свернула в боковую долину, по которой мы поднялись в широкую долину между двумя цепями Тянь-шаня, окаймлявшими ее с севера и юга; с обеих сторон тянулись гряды с редким лесом, а дорога шла по сухой долине, поднимаясь все выше. Но около полудня дорога повернула на юг, перевалила через седловину южной из обеих цепей; здесь уже лежал неглубокий снег; мелкий лес из березы, осины, сосны покрывал склоны гор. Мы долго спускались по лесу на юг; становилось теплее, снег исчезал и, наконец, перед нами открылась широкая долина реки Или. Дорога повернула вправо, где вдали уже был виден большой город Кульджа.
К вечеру мы приехали туда. Чугучакский консул дал мне посылочку и письмо к консулу в Кульдже, и мы остановились в консульстве, расположенном на северной окраине города на большом участке со старыми деревьями. Нам отвели небольшой домик для приезжих с тремя комнатами и необходимой мебелью, где мы и расположились на свободе. Но для животных нужно было покупать село, так как участок представлял несколько домов среди сада и цветников, где пасти верблюдов и лошадей было бы неудобно.
На следующий день, помывшись и переодевшись, я отправился к консулу, а Лобсын ушел в город, чтобы обойти все постоялые дворы и узнать, нет ли где-нибудь паломников, собирающихся в Лхасу. К обеду он вернулся и сообщил, что на одном дворе нашел попутчиков в виде шести монголов-торгоутов, собирающихся на днях выступить в Тибет; он отвел туда своих верблюдов и лошадь, так что в консульстве остались только два моих верблюда, лошадь и ишак Очира.
Я прожил в Кульдже неделю. Свои русские товары быстро продал, частью в консульстве, частью в городе и закупил разные китайские, которых в Чугучаке не было или которые были там дороже, чем в Кульдже, так что я мог продать их с небольшой выгодой, окупавшей провоз. Лобсын каждый день приходил ко мне и мы беседовали о его путешествии. Паломники направлялись через Юлдус в Турфан и через хребет Курук-таг в Дунь-хуан и далее через Цайдам в Тибет; они рассчитывали в начале весны быть в Лхасе, а осенью пуститься в обратный путь, так что через год Лобсын надеялся вернуться в Чугучак.
Я проводил Лобсына до восточных ворот Кульджи, а на следующий день сам отправился домой той же дорогой через Тянь-шань и по Долине ворот. Теперь Очир ехал во главе каравана и вел головного верблюда, а я замыкал шествие. Но консул воспользовался моим отъездом и отправил со мной казака, который должен был заменить одного из казаков консульства Чугучака, умершего во время нашего путешествия. Ему это было выгодно, он ехал со мной на своем коне и экономил свои кормовые, а у меня был помощник на всякий случай.
Наше возвращение прошло совершенно благополучно. Когда мы переваливали через Тянь-шань, то могли видеть с высоты, что в Долине ворот дует сильный Ибэ, — вся долина была в желто-серой мгле. Но, пока мы спустились и выехали к берегу Эби-нура, Ибэ кончился, и мы проехали до Ала-куля в тихую погоду, так что к пикету Токты не было надобности заезжать. На берегах Ала-куля я увидел не ровный, а разбитый и торошенный лед, развороченный последним Ибэ, а вдоль берегов озера тороса тянулись сплошным валом по восточному и северному берегам. Когда мы ночевали второй день на Ала-куле, начиналась новая порция Ибэ, но здесь мы были уже в устье Долины ворот и успели свернуть к реке Эмель, прежде чем он разыгрался в полную силу, так что добрались до Чугучака вполне благополучно.
Консулу я привез письмо и подарки из Кульджи.
Чтобы закончить свои записки, мне остается только привести письма Лобсына о путешествии в Тибет и пребывании в его столице Лхасе, которые я получал от него время от времени.
ПИСЬМА ЛОБСЫНА С ДОРОГИ В ТИБЕТ И ИЗ ЛХАСЫ
Первое письмо я получил довольно скоро, еще весной; его привез один из торгоутов, вернувшийся из Дун-хуана по болезни. После обычных в таких письмах поклонов всем знакомым и пожеланий я нашел в этом письме следующее:
«Добрый мой приемный отец и покровитель Фома Капитонович! Пишу тебе от пещер Тысячи будд, где мы стоим уже третий день, отдыхая от долгого пути через Хамийскую пустыню. Из Кульджи в Карашар мы ехали почти целый месяц по стране Юлдус, где живут мои сородичи монголы-торгоуты со времен великих походов Чингиз-хана. Места здесь очень гористые, на полуночной стороне высокие горы и на полуденной тоже и, конечно, все снегом покрыты. А в промежутке широкая долина, где в зимнее время проживают наши кочевники, а летом уходят на джайляу в горы. Здесь мы стояли несколько дней, пока паломники снаряжались в свой долгий путь. В долинах богатые травы, народ зажиточный, живут вообще хорошо под управлением своих ханов, но, конечно, не без разных прижимов в свою пользу, как полагается всякому начальству.
Из Карашара мы пошли не по большой китайской дороге через Токсун и Хами, а прямее, по пустыне между горами Чол-таг и Курук-таг, потому что зимнее время позволяло обходиться без воды, а пользоваться снегом, наметенным во всех впадинах и на подветренных склонах, и возить с собой на вьюках куски льда, чтобы варить обед и чай на стоянке. Едем мы все на верблюдах, а больше идем пешком, коней у нас нет, а верблюды находят в пустыне довольно корма. А там, где корма больше, мы делаем дневки, чтобы подкормить своих двугорбых.
Когда вышли в пустыню Хамийскую, мы повернули на полдень, миновали р. Сулэхэ и остановились у пещер Тысячи будд за Дунь-хуаном. Старший лама узнал меня, спрашивал о тебе и много ли мы выручили от продажи старых книг из тайников храма. Послал с нами донесения хамбо-ламе в Лхасу. Узнал у него, что из Керии или Нии паломники не проходили, значит, мой сын здесь не был, а пошел оттуда прямой дорогой в Тибет. Не вернулся ли он домой? Если случайно узнаешь, — пиши мне в подворье монголов-торгоутов в Лхасе, где мы будем все время стоять. Отсюда мы пойдем скоро прямым путем через западный Цайдам, не заходя на Куку-нор и в Дуланкит, на высокое Тибетское нагорье. Если встретим где-нибудь обратных паломников из Монголии, пошлю тебе весть, а не то уже придется писать из Лхасы».
Второе письмо я получил уже почти через год после отъезда Лобсына. Оно было послано из Тибета с одним из возвращавшихся паломников, привезшим его в русское консульство в Урге, откуда его переслали через Сибирь в Чугучак.
«Дорогой Фома Капитонович! Вчера на стоянке на берегу Голубой реки в Тибете наш караван встретился с монголами, возвращающимися из Лхасы в Ургу. Я отдал им это письмо, которое писал тебе в пути через Цайдам и Тибет, когда было время и не слишком холодно, чтобы держать карандаш в руке.
Из Дунь-хуана мы вышли в начале весны. До подножия большого хребта Алтын-таг шли от пещер Тысячи будд еще два дня по каменистой полынной степи, перевалили через скалистые невысокие горы и русло реки Дан-хэ. Эта река течет маленьким ущельем, которое промыла себе в каменных породах в несколько размахов глубины. И в стенах этого ущелья всюду торчали большие и малые валуны, наложенные друг на друга. И я подумал, что сначала эта река сама натаскала валуны из гор на эту степь, наворотила их друг на друга, а потом опять стала их уносить и вырыла свое ущелье, в котором буйно течет в отвесных берегах. И хорошо, что через эту реку построен мост, иначе никак нельзя было бы спуститься на верблюдах к воде, чтобы итти вброд, да и бродить через буйную реку было бы опасно, она могла сшибить верблюдов с ног [79]. А мост построили китайцы, которые живут за рекой в этой степи, где имеют пашни и разводят баранов и коз.
В этом поселке мы взяли проводника, чтобы он провел нас через главный хребет Алтын-тага, который в этой части называют Нань-шань, т. е. южные горы. Из поселка он виден был высокой стеной впереди, весь его гребень был еще покрыт снегом. И в поселке было еще очень прохладно, весна только что начиналась, тогда как в Дун-хуане уже цвели абрикосы и персики.
Проводник повел нас к одному из ущелий хребта, где был перевал через него, но ошибся и попал не в ущелье с перевалом, а в соседнее. Здесь мы потеряли целый день, дошли по речке до того места, где верблюды с вьюками не могли пройти между скалами, стоявшими по обе стороны русла, шириной всего в два аршина. И только тут он понял что ошибся; пришлось итти назад по этому ущелью до его устья, выйти в соседнее, переночевать в удобном месте и на следующий день уже подняться на перевал, высокий, но не крутой. На нем лежал еще снег почти по колено, и мы очень устали, переводя наших верблюдов одного за другим во время метели через него до спуска на полуденную сторону, где нашлось удобное место с кормом для ночлега у подножия хребта.
За этим хребтом была широкая долина Е-ма-чуань, т. е. долина диких лошадей, где мы и встретили последних, целый табун в полсотни голов. Они паслись на берегах речки Е-ма-хэ, а когда мы подошли ближе, испугались и побежали, но не вдаль, а бегали по долине вокруг нас. А у наших торгоутов-охотников, промышлявших на Юлдусе и дзеренов, и куку-яманов, и архаров [80], а также медведей и барсов, конечно, были скорострельные русские винтовки, и, когда куланы стали бегать вокруг нас на расстоянии 200-250 шагов, два стрелка спешились и застрелили пару куланов. Поэтому пришлось стать на ночлег в степи в долине Е-ма-хэ, чтобы освежевать добычу, снять шкуры, разделить мясо между всеми и сварить побольше. Шкуры мы отдали проводнику, который отсюда возвращался к реке Данхэ в свой поселок.
На другой день мы перевалили через следующий хребет Нань-шаня по удобному месту, которое указал нам проводник, и спустились с него уже на северную окраину Цайдама. Это широкая долина между Нань-шанем и первой цепью Тибета; в ней рассеяны соленые и пресные озера, солончаки, болота с зарослями и степи с хорошей травой. Но место уже высокое и воздух редкий, ходить пешком скоро устаешь, а в ушах все время какой-то звон, точно где-то далеко поют или играют на дудке.
Мы шли дней семь поперек Цайдама до его южной окраины, где также стоят улусы монголов, которые живут за счет паломников. На горах Тибета летом погода мокрая и холодная, и вылинявший к лету верблюд не может работать. Все вьюки везут дальше на яках [81], косматых тибетских быках, а верблюдов оставляют у монголов для обратного пути. Вот монголы и пользуются их рабочей силой, молоком и шерстью за то, что пасут и караулят их. И мы также оставили у них своих верблюдов и взяли яков за небольшую плату.
Здесь, на северной границе Тибета, съезжаются монгольские паломники и образуют более многочисленные караваны, чтобы не бояться диких тангутов, которые грабят одиночных проезжих, отнимают у них вещи, припасы, оружие. И наша торгоутская партия прожила недели две в ожидании прибывающих, отдыхали и учились вьючить и пасти яков. Наконец, собрался караван в 42 человека из разных мест Монголии, и мы могли итти дальше в половине мая. Весна еще мало чувствовалась, перепадал снег, свежая трава только что появилась.
Поднялись мы по длинному мрачному ущелью, на крутых склонах его лежал еще снег. И намаялись мы сначала с яками: они не идут цепочкой, как верблюды или лошади друг за другом, а бегут стадом, как бараны, толкают друг друга, сбивают с тропы, задевают вьюками и сворачивают их, иногда сбрасывают на землю. Ящиков и хрупких вещей паломники не везут с собой, а только мягкую рухлядь, одежду, подстилки, подушки, мешки с мукой, солью, гуамянью [82], цзамбой, кирпичами чая, котлами и треногами. Все вьюки похожи один на другой, и, чтобы различать на стоянке свое имущество, каждый делает отметки, привязывая лоскуты разного цвета сверху или сбоку. Шли мы почти всё пешком, только впереди какой-нибудь старик ехал на легком вьюке, показывая всем дорогу.
Порядок у нас был такой: старались встать до рассвета, чтобы сварить чай, затем завьючить животных и выехать, когда будет светло. Шли 5-6 часов, иногда 8-10, смотря по местности, останавливались, где корм был получше, а палатки ставили по кругу, входом с внутренней стороны, чтобы воры не могли пробраться незаметно к кому-нибудь.
У некоторых паломников были собаки, которые караулили вход в палатку своего хозяина. Примерно раз в неделю делали дневку, выбирая место с хорошей травой, чтобы подкормить яков и самим отдохнуть.
Нужно сказать еще, что меняют верблюдов на яков только те паломники, которые идут в Лхасу летом в мокрую погоду, а идущие зимой могут итти туда и на верблюдах. Корма на Тибетском нагорье вообще плохие. В мокрых местах растет густо трава бухачирик, что значит сила яка; у нее стебель очень твердый, а мягкая головка небольшая. Это почти то же, что наш дэрису (чий), но только последний растет на сухих местах, а тот на сырых, которых там много, и старые яки и верблюды его не могут жевать и худеют. Поэтому в дальний путь в Лхасу нужно выбирать молодых животных.
Местность в Тибете вообще очень неровная, много горных гряд, а также рек и речек, грязных мест на солончаках и на берегах рек, где животные вязнут, много бродов, где нужно выбирать мелкие разливы по рукавам, чтобы не подмочить вьюки. Есть высокие перевалы; особенно запомнился один, называемый Убаши-хайрхан, т. е. милостивый убаши (мирянин с духовным обетом). Настоящее название его не произносят, чтобы не рассердить духов. На перевале, конечно, большое обо — куча камней и разных приношений — тряпок, костей, хадаков, рогов яка, а, проходя мимо, паломники непременно возжигают благовонное курево.
На одном ночлеге к нам пришел старый человек и очень просил купить у него мешочек соли, который он принес с собой, или обменять на мясо, муку, чай, цзамбу. У нас с собой была соль, и мы спросили, почему он торгует ею, у паломников из Монголии соль всегда есть. Тогда он нам рассказал следующее событие: «Я жил в Цайдаме и узнал, что в Лхасе соль очень ценится, захотел нажить на этом деньги. Вблизи моего улуса есть соленое озеро, и в сухое время соль садится. Я накопил ее много и повез в Лхасу; завьючил солью сорок баранов, выменяв в придачу к своим еще других на лошадь и корову. Каждый баран может увезти на себе пуд соли и провезти ее ничего не стоит, он сам кормится по дороге, а в Лхасе можно выгодно продать и соль, и баранов, там ведь и лам и паломников много и всем нужно и мясо, и соль. Вот я и погнал своих баранов с грузом соли по горам в Тибет. Добрались мы хорошо до этой долины, где вы стоите. А ночью выпал огромный снег; дело было в самом начале зимы. По глубокому снегу баран и без груза итти далеко не может, а снег закрыл всю траву и уже не таял. И все мои бараны сдохли от голода. Соль я всю собрал. Я мог бы потом итти в Лхасу пешком, но много ли на себе унесешь? Вот я и живу здесь поблизости в своей палатке и продаю паломникам соль. Когда распродам всю соль, — пойду домой пешком и принесу немного денег».
Удивились мы все этому человеку и спросили, давно ли с ним случилась эта беда. И он сказал, что вот уже четвертый год живет в одиночестве недалеко от большой дороги. Научился делать ловушки и ловить тарбаганов, птиц, собирает дикий лук и луковицы сараны, зимние запасы сеноставок.
Вот, Фома, чем иногда кончаются такие затеи. А чем кончится история с моим сыном, я еще не знаю. До Лхасы уже не так далеко, дней 20 или 15. Вчера мы встретили здесь паломников, возвращающихся домой; несколько из них были из Урги и обещали отдать мое письмо в русское консульство для пересылки тебе. Вот я и сидел вчера целый вечер и сочинял это послание, сколько успел написать. Следующее пошлю уже из Лхасы»
Третье письмо я получил довольно скоро после второго. Его привезли монголы-торгоуты Юлдуса, которые доставили письмо консулу в Кульджу.
«Дорогой Фома Капитонович! Посылаю письмо с нашими торгоутами, возвращающимися домой. Заживаться здесь у них нет средств, они побывали в главных храмах, поклонились далай-ламе и отправились домой. Поэтому я не успел много написать. Расскажу только о городе Лхасе.
Дошли мы до него в августе месяце, когда было еще жарко. Край здесь теплый, но дождливый. Город построен на реке Уй-чу, что значит срединная река. Она течет с запада на восток по широкой долине, с обеих сторон высокие горы. Среди долины небольшая гора, и на вершине ее и на южной стороне стоит город. На вершине главные храмы и монастыри, высокие каменные дома насажены тесно друг на друга и рядом почти без дворов От них каменные лестницы спускаются вниз к подножию горы, где также много домов, но проще, жилые подворья и простые дома, есть также в два или три этажа; местами небольшие сады и деревья. Между ними улицы, часто кривые, узкие и грязные, не мощеные. Дома больше из сырого кирпича, но нижний этаж сложен часто из каменных плит, а на горе все дома каменные в несколько этажей. Но красивых зданий, колоколен и башен с куполами, как в русских городах, или минаретов, как у мусульман, совсем нет. Большая часть домов имеет внутренний двор и из него лестницы на верхние этажи, так что снаружи на верх не попадешь, разве через окна. Крыши все плоские. На улицах много канав для отвода воды, потому что во время дождей с главной горы стекает в город много воды и некоторые улицы превращаются в ручьи, а на площадях и дворах образуются озерки. Квартиры в домах большею частью из одной или из двух небольших комнат; если их две, — передняя у входа это кухня, а вторая в глубине — спальня. Окна заклеены бумагой или затянуты коленкором, в богатых домах у окон внутренние ставни. Полы глинобитные, реже из глины, в которую забиты мелкие камни. Дымовые трубы имеются только в верхних этажах и кончаются вверху глиняным горшком с дырой для защиты от дождя. Из нижних этажей дым выходит через окно и двери, в редких домах имеются трубы по стенам для вывода дыма. В спальнях печей нет, их нагревают в холодные дни углями, которые вносят в глиняной миске. Но климат Лхасы теплый, сильных морозов не бывает и жить можно без отопления. Ты мне рассказывал, Фома, что в русских городах вода в дома проведена по железным трубам, а по другим трубам стекает грязная вода и уносит все нечистоты. В Лхасе ничего этого нет; нечистоты из отхожих мест падают прямо на дворы или улицы и эти места устраивают на верхних этажах; грязную воду также выливают во дворы и улицы, а чистую приносят ведрами из реки или из колодцев, которых много во дворах, и они не глубокие, но в них вода, конечно, пахучая. Ходить по улицам нужно, зажавши нос и пристально смотря под ноги, потому что тибетцы не стесняются отправлять свои потребности ни местом, ни присутствием людей. Осенью в октябре, в сухой месяц года, белят известью стены домов, обливая их из ведер густым раствором, а из верхних этажей спуская краску из желобков под крышей; поэтому окраска неровная и легко смывается летними дождями. В общем могу сказать, что живут люди чище и опрятнее в наших улусах и в Чугучаке, чем в Лхасе.
Я не буду тебе описывать храмы города, бурханы разных божеств и торжественные богослужения, которыми в храмах привлекают паломников и побуждают их к пожертвованиям. Я знаю, что ты в наших богов не веришь, да и сам я стал к ним равнодушен и посещаю храмы и богослужения только в надежде встретить своего сына и вернуть его домой. Но о здешних людях и обычаях можно кое-что написать.
В Лхасе считают около 10 тысяч постоянного населения, причем не менее двух третей составляют женщины. По составу большинство — тибетцы, второе место занимают китайцы; третье — люди из Кашмира и Непала — стран на границе с Индией; очень немного монголов. По занятиям нужно выделить высшее правительство из тибетских и китайских князей и их чиновников, духовенство, наиболее многочисленное, и простых граждан. Духовенство состоит из перерожденцев, простых монахов разных степеней и занятий, их учеников и прислужников. Простые граждане — это торговцы, ремесленники и разные поденщики. Лхаса живет за счет приезжих паломников и всяких богомольцев; им сдают в наём комнаты и целые дома, им нужно подвозить и готовить разные припасы, готовить пищу, этим и занимаются торговцы, женщины, сдающие комнаты, ремесленники. Главным рыночным местом являются улицы квартала Чжу-ринбочи, занятые лавками и уличными торговцами. Лавки помещаются в нижних этажах домов, а уличные торговцы, большею частью женщины, раскладывают товары на цыновках или подстилках прямо по сторонам улиц. Торгуют английскими, индийскими и китайскими товарами, местными сукнами, одеждой, обувью, съестными припасами, деревянными и глиняными изделиями.
Тибетцы окрестностей Лхасы занимаются земледелием, сеют главным образом ячмень, так как дзамба (слегка поджаренная ячменная мука) составляет главную пищу всего Тибета, как и Монголии, затем китайскую и тибетскую редьку, два вида капусты, картофель, репу и морковь. Скотоводы разводят овец, яков и немного лошадей и мулов.
Буддийская религия занимает в Тибете и отрывает от деятельной жизни большинство мужчин и меньшинство женщин. Недостаток мужчин сделал то, что в Тибете женщины заменяют их во всей жизни и сделались самостоятельными. Они занимаются торговлей, ремеслами (прядут, ткут, вышивают, шьют), работают в мастерских, на заводах, в городах и селениях водоносами, чистильщиками, дворниками, караульными. Но это вызывает и известную распущенность женщин и распространенность внебрачных отношений.
Большое число мужчин, занятых богослужением, а не работой, плохая обработка земли и отсутствие промыслов служат причиной общей бедности тибетского народа. Большинство населения питается дзамбой, редко видит мясо и молоко. За исключением монахов и монахинь население Тибета неграмотно. Обращает на себя внимание большое количество нищих и разных калек и больных, живущих без всякого призрения. А между тем климат здесь теплый, земли, удобной для хлебопашества, много и можно было бы возделывать много полей и разводить хороший скот. Суровая природа Тибета, его высокие и холодные горы кончаются, в нескольких днях пути не доходя Лхасы. Там дорога начинает спускаться вниз уступами нескольких горных хребтов, и начинаются более теплые края с широкими долинами, хорошими лугами, реками и озерами.
Познакомившись хорошо с Лхасой, могу признаться тебе, Фома, что этот город, где люди местные и приезжие, вроде наших богомольцев, занимаются только тем, что поют и бормочут молитвы, а другие этих бездельников кормят и поят, мне не понравился, и я бы рад был уехать, да вот надежда найти и вернуть сына держит меня еще здесь. Поживу еще месяц, а там посмотрим. Будь здоров и, если можешь, пошли своего Очира в мой улус прочитать там моим эти письма».
Четвертое письмо я получил довольно скоро — оно пришло из Зайсана, куда его привез один русский торговец из Кобдо.
«Дорогой Фома! Я все еще в Лхасе, в ожидании своего сына. Я посещаю всякие праздники, которые ламы устраивают в разных храмах под разными предлогами, чтобы привлекать богомольцев и побуждать их к пожертвованиям. Они дают случай видеть в короткое время много людей, не обращая на себя внимания в качестве человека, который кого-то высматривает. Поэтому я видел за этот месяц много всяких торжественных богослужений в разных храмах перед разными божествами. Но в общем это все одно и то же — молитвы с разными возгласами, сопровождаемыми звуками длинных труб, в которые дуют усердно ламы, то повышая, то понижая звуки, зван колокольчика в руках какого-нибудь перерожденца, заунывное или радостное пение хором, и так целыми часами. В сущности весь город занимается этим бездельем целые месяцы и годы. И мало того, что сотни людей вместо того, чтобы работать, с утра до вечера поют и молятся, так еще везде наставлены всякие устройства, возносящие молитвы к богу. Ты, конечно, знаешь, что есть молитвенные мельницы разного рода, на которые наклеена бумага с разными молитвами или молитвы врезаны в дерево, написаны на камне, выложены белыми камнями на склонах гор. Так вот здесь их видишь на каждом шагу: это валы сплошные или пустотелые, большие и маленькие на отвесной оси; богомолец должен повернуть этот вал хотя бы один раз вокруг ею оси, и тогда все написанные на нем молитвы вознесутся к богам. Часто поставлено несколько цилиндров, до десяти рядом, и нужно их повернуть один за другим. А потом еще ручные молитвенные мельницы; это уже маленький валик с молитвами на оси; он вертится сам от размахов руки, в которой его несут. Вот и видишь мужчину или женщину, идущую по улице и вертящую в руке такой молитвенник все время и воображающую, что это она сама возносит молитвы. И, наконец, водяные мельницы: на ручье, бегущем вниз по склону, поставлен вал с молитвами, а под ним отвесные лопатки, в которые бьет вода и вертит вал, который возносит, т. е. вертит, молитвы неустанно.
Видел я здесь и усердных богомольцев, которые от храма к храму ползут на коленях или даже становятся на колени, ложатся на землю во весь рост, поднимаются на колени, встают и опять повторяют тот же поклон и так без конца целый день, пока не обойдут весь храм или квартал или всю Лхасу, смотря по обету. Видел таких и думал, что они какие-нибудь тяжелые грехи замаливают. Таких богомольцев в растяжку на земле можно видеть здесь каждый день. Под колени и под ладони иные подкладывают тряпки, дощечку, подушку, чтобы не растереть их о землю.
Потом поклонение разным святыням всякими способами: проще всего прикладывание своего лба к правому или левому колену статуи Будды или какого-либо святого, причем шопотом высказываются пожелания, просьба о чем-нибудь — исцелении, ребенке, награде и пр. Прикладыванье лба к высокой фигуре с лестницы, которую нужно приставить и за это пожертвовать ламе какую-нибудь монету; или прикладыванье с наливанием масла в лампаду, в светильник, также еще с мздой и т. д. в разных формах.
Или еще уловка. Есть священная фигура, у которой из поднятого пальца каплями выступает вода, которая считается священной; ее замешивают с мукой и делают красные пилюли, которые продают как средство от разных болезней. А вода выступает потому, что голова фигуры пустотелая и от нее идет к пальцу трубочка; в голову наливают воду время от времени.
Статуям разных богов паломники жертвуют маленькие фигурки, которые ламы сами лепят из глины или выдавливают в формах, обжигают и продают. Это самый безобидный способ выручки денег — богомолец уносит что-нибудь на память, тогда как всякие сборы за поклонение, на масло, свечи и другие потребности храмов не дают ему ничего, кроме воспоминаний. А еще хуже всякие прорицатели, которые пристроились ко всем храмам, мужчины и женщины; они обирают паломников, предсказывают им за мзду всякие блага в будущем или дают советы на разные случаи жизни.
Ну, словом, дорогой Фома, насмотрелся я на нравы и обычаи священного города и начинаю думать, что вся эта буддийская религия — сплошной обман для наживы одних людей за счет труда других, за счет их веры в богов, в прорицателей, в молитвы и пожертвования невидимым силам.
Ты знаешь, что у монголов кладбищ нет; тела умерших выносят в степь на растерзание хищным птицам и зверям и только тела гэгенов, князей и богатых людей хоронят в субурганах. А здесь в Лхасе и простых монахов не хоронят; их выносят особые могильщики из простых людей в определенное место за городом, называемое дуртод, где тело режут на части, мясо отдают грифам, а кости дробят и бросают ягнятникам. При этом сжигают воскурения и это привлекает птиц; завидев, дым, поднимающийся на определенном месте, они слетаются издалека и начинают свое пиршество. И то правда, здесь монахов так много, что если бы их хоронили, — все окрестности Лхасы были бы заняты могилами монахов. А так, монах умер и исчез, мясо съели грифы и улетели, а кости разбросаны по окрестностям, на них не написано, кому они принадлежали при жизни.
Обошел я уже все улицы Лхасы и нашел, что красивых зданий совсем нет, все одинаковые, без статуй, карнизов и украшений, нижние этажи без окон, верхние с одинаковыми небольшими в один или два яруса, крыши плоские, все здания плохо побелены известью. Только большие лестницы, идущие из нижней части города к верхней, немного нарушают однообразие, если смотреть на город с южной стороны, от берегов реки Уй-чу».
Пятое и последнее письмо заставило себя долго ждать; консул получил его опять из Урги через консульство, куда его доставили паломники, вернувшиеся из Лхасы. Оно меня обрадовало.
«Дорогой Фома! Могу тебе сообщить хорошую весть, мой сын нашелся, и мы собираемся ехать домой.
Нашел я его случайно. Узнал я, что за городом есть холм с пещерами, в которых сидят самые набожные отшельники; они замурованы в маленьких кельях, вырубленных на склоне в каменной мягкой породе и им только раз в сутки подают воду и хлеб через отверстие в стене. Они остаются там до самой смерти и даже дольше, потому что их не освобождают, пока они не умрут в заточении; им только перестают приносить хлеб и воду, если они несколько дней окажутся нетронутыми. И вот я узнал, что будет большой праздник — замуровывание нового отшельника, согласившегося закончить свою жизнь в заточении; его будут сопровождать в эту могилу даже хамбо-лама и много лам и мирян.
В назначенный день я пошел к этим пещерам и влез на уступ холма перед ними, с которого видна была дорога из Лхасы к ним. Скоро появилась по дороге из города большая процессия. Впереди бежали мальчики, которые усыпали дорогу лепестками белых цветов. За ними шли по три в ряд тридцать лам с длинными трубами, в которые они трубили. Затем еще десятка два с курениями в чашах, все в своих желтых одеяниях и острых колпаках; далее верховный лама с колокольчиком и чашей под зеленым покрывалом, а за ним новый отшельник в белой одежде, которого вели двое лам под руки. За ними шли еще ламы с четками и курениями и толпа паломников и любопытных. Процессия двигалась торжественно и медленно, с песнопениями. Когда она проходила мимо меня, я увидел, что этот новый отшельник — мой сын Омолон; он шел, как бы тащился, ведомый ламами. Я узнал его, когда он был еще шагах в пяти от меня и, охваченный ужасом и жалостью, не удержался, и, в промежутке между звуками труб, крикнул громко его имя. Он вздрогнул, поднял голову в мою сторону; возле меня стояло на холме еще несколько человек. Но трубы заревели еще громче, и процессия прошла дальше. Я, конечно, присоединился к ней. На одном из холмов была узкая и низкая дверь, в которую с трудом мог протиснуться человек. Ламы поднялись на холм, окружив отшельника, загремели трубы и его под руки ввели в отверстие и затем при продолжавшейся музыке и громком пении молитв несколько лам стали замуровывать отверстие приготовленными кирпичами, поливаемыми раствором извести. Я протиснулся ближе и разглядел все это. Рядом с входом внизу было отверстие, в которое можно было просунуть руку с глиняной кружкой. Через него отшельника, очевидно, снабжали пищей и водой.
Когда вход был замурован, к малому отверстию подошел верховный лама и нараспев прочитал длинную тибетскую молитву, очевидно, напутствие отшельнику в его святом уединении, в котором он должен размышлять о грехах мира и сладости отречения от жизненных горестей. Потом еще раз заревели трубы, и процессия под звуки труб двинулась медленно назад; но кое-какие любопытные остались и некоторые захотели беседовать с отшельником. Но он начал петь молитву «ом-мани-пад-ме-хум» и не отвечал на вопросы. Любопытные немного постояли и ушли.
Я выждал некоторое время в стороне и когда все любопытные мало-помалу удалились от пещеры, подошел к отверстию и окликнул сына, когда он перестал возглашать молитву.
— Омолон, это я, твой отец, пришел! Ты ведь узнал меня, когда тебя вели ламы в эту келью! Неужели ты хочешь стать затворником, просидеть всю свою жизнь в душной келье, не видеть солнца и неба? Ты подумай только, ты ведь молодой, здоровый! Неужели хочешь целые годы сидеть в темноте и бормотать молитвы вместо того, чтобы ходить на свободе, делать что хочешь, ездить верхом, найти себе жену? А где Ибрагим, который обокрал нас и соблазнил тебя убежать с ним в Лхасу?
Омолон, рыдая, отвечал мне следующее:
— Ибрагим — негодяй, он обманул меня, как глупого ребенка. Мы приехали сюда недели три назад, но он держал меня взаперти, а сам продал весь товар и неделю тому назад уехал неизвестно куда, оставив меня запертым в комнате. Я ждал его несколько дней, наконец, голодный выломал окно, вылез и узнал, что его нет, и каравана нашего нет, и одежды моей нет, и денег нет. Я пришел в отчаяние, пошел в главный храм и сказал ламам, что хочу сделаться отшельником. Ах, отец, что я сделал тебе и матери, стал вором и обманщиком, — и он опять зарыдал.
Я, конечно, уговорил его бросить затворничество и вернуться со мной на родину и к матери. Мы сговорились, что вечером я приду опять и, когда стемнеет, выломаю закладку отверстия, выпущу его, уведу с собой в город, и мы уедем. Но до вечера мы условились, что он будет время от времени читать молитвы, так как можно было предполагать, что любопытные и ламы будут приходить днем проведать нового отшельника. Я оставил сыну свой нож, чтобы он потихонечку, когда людей не будет у пещеры, освобождал изнутри кирпичи закладки от замазки, чтобы она не затвердела и ночью легче было вынуть их с наружной стороны.
Под вечер, вооружившись на всякий случай маленьким ломом, я вернулся к пещере. По соседству как будто никого не было, а Омолон распевал ом-мани-пад-ме-хум. Но когда стемнело и я подошел к пещере, появился какой-то лама и на мой вопрос, зачем он здесь, ответил, что он на карауле. Пока замазка кирпичей не высохла, отшельник, раздумавшийся в одиночестве о своей судьбе пленника в тесной келье на хлебе и воде, может решиться освободиться и нарушить обет, который он торжественно дал в главном храме хамбо-ламе перед лицом Будды.
Я поговорил с ним, рассказал, что я отец отшельника, которого обманул мошенник-мусульманин, завлекший его с этой целью в Лхасу и обокравший его, что я хочу взять его на родину и заплачу за это. Мы сторговались за двадцать рупий индийских, которые я привез с собой и принёс на всякий случай. Лама помог мне вынуть кирпичи, Омолон вылез и, поклонившись мне до земли, обнял. Потом мы заложили опять отверстие кирпичами, и лама обещал мне, что рано утром придет с раствором извести и обмажет щели, которые остались между кирпичами, чтобы не было видно, что кладку нарушили.
Мы пошли в город и на следующий день выехали из Лхасы. Но итти только вдвоем через Тибет было рискованно, и мы, отойдя на два перехода, остановились в хорошем месте и прожили там недели две или три, пока не подошел караван паломников, возвращавшийся из Лхасы на родину. Мы присоединились к нему и прошли через Тибет, Цайдам и Куку-нор в Лань-чжоу на реке Хуан-хэ. Здесь Омолон тяжело заболел и мне пришлось остаться с ним. Это письмо я посылаю с паломниками в Ургу, откуда его тебе перешлют через русское консульство».
* * *
Теперь мне нужно написать еще несколько страниц, чтобы закончить свои записки кладоискателя в дебрях Азии.
Печальный исход нашей поездки на окраину пустыни Такла-макан с потерей значительной части выручки из прежних путешествий, уход сына Лобсына в компании с вором Ибрагимом., вызвавший необходимость поездки Лобсына в Лхасу, на выручку сына, что обошлось ему недешево, и, наконец, моя последняя поездка в Кульджу — все это в совокупности очень расстроило меня и подорвало мои силы и средства. После возвращения из Кульджи в Чугучак я подсчитал свою наличность в товарах и деньгах и пришел к выводу, что на спокойную скромную жизнь в городе с выручкой по лавке мне еще хватит до смерти. Долю Лобсына я выделил и отдал ему еще раньше на путешествие в Лхасу и на поддержку его семье. Но для новых закупок товаров у нас уже оставалось слишком мало. Под сомнением оставалось также, вернется ли Лобсын с сыном или без него и захочет ли продолжать наши путешествия. Я чувствовал, что уже сильно постарел, не хотелось думать о снаряжении каравана, ездить за товаром в Россию, вообще хлопотать, заботиться о верблюдах и лошадях. Хотелось пожить спокойно на старости лет. За городом у меня была маленькая заимка с садом и огородом, где можно было жить больше полугода в теплое время на чистом воздухе, недалеко от подножия Тарбагатая, оставляя в лавке Очира. В ожидании возвращения Лобсына я так и сделал: во-первых, нашел себе еще жену — молодую китаянку в Чугучаке, с отцом которой я по торговым делам был хорошо знаком. Она потеряла мужа, служившего в ямыне, осталась одна с маленькой дочерью и соглашалась разделить мое одиночество, перебравшись в мой дом. По-русски она не говорила, но я ведь знал китайский совершенно достаточно для домашних разговоров. Так я устроился на старости лет.
Лобсын вернулся из Лхасы, задержанный болезнью сына на пути оттуда в Лань-чжоу, только через полгода и рассказал мне подробно о приключениях сына. Ибрагим ему расписал, что судьба его, Омолона, теперь в его собственных руках, что есть возможность, пользуясь пыльной бурей, незаметно уехать, увезти верблюдов и лошадей в Нию, получить там у аксакала оставленные нами товары и уйти быстро в Лхасу по новой дороге, хорошо ему, Ибрагиму, знакомой, продать там товары, выручить за них и животных хорошие деньги и остаться жить в Лхасе, начать торговлю или другое занятие, найти жену, — словом, сделаться самостоятельным человеком с хорошим будущим. На вопрос сына, как же бросить отца и меня в пустыне, Ибрагим успокоил его тем, что мы, опытные путешественники, выберемся пешком в Нию и оттуда вернемся домой, а задержка нас в пустыне необходима, чтобы успеть дойти в город, взять товары и скрыться с ними прежде, чем мы пешком доплетемся в Нию. Так он уговорил этого глупого мальчика, соблазнил будущей самостоятельностью и средствами для ее достижения. По пути в Лхасу он ухаживал за Омолоном, называя его своим начальником, владельцем каравана, но, прибыв туда, скоро переменил обращение и начал запирать в комнате, когда уходил устраивать свои дела по продаже товаров и скрытному отъезду. И уехал он не назад в Нию, а, закупив некоторые товары, направился в Кашмир и Индию, как узнал Лобсын на постоялом дворе, где Ибрагим остановился с Омолоном.
Лобсын, потеряв меня в качестве компаньона по торговле и путешествиям и затратив все свободные деньги на выручку сына, остался в своем улусе в горах Джаира, занялся хозяйством, а сына женил и тем закрепил его дома. Они начали разведение хороших племенных овец и коз, которых продавали в Чугучаке; навещали меня, приезжая в город, где мой сын давал им приют и место для пригнанного скота. Сидя у меня за чаем, Лобсын вспоминал наши путешествия и приключения; изредка приходил ко мне и консул и однажды огорчил известием, что рукописи, привезенные нами из пещер Тысячи будд в Дун-хуа-не, при подробном изучении оказались подделанными, копиями старых рукописей и за историческую ценность их содержания ручаться нельзя.
Кончая эти записки, не могу не вспомнить с благодарностью о консуле Бокове, который очень много сделал для меня. С самого начала, когда он вызвал меня в качестве переводчика при разборе дел с монголами и китайцами и познакомился со мной, он заставил меня восстановить свои знания, беседовал со мной по разным вопросам, давал книги для чтения и даже учебники. Времени в промежутках между торговыми путешествиями у меня было много, в мою лавку покупатели заходили редко, и можно было часами читать книги и даже писать спокойно без помехи. С наступлением ночи я закрывал лавку и дома мог заниматься и читать целый вечер. Меня интересовали книги с описаниями жизни и быта разных народов, описания путешествий, книги исторические и я снова сделался образованным человеком. А когда приютил Очира и стал учить его русской грамоте, то сам вспомнил правописание и грамматику; наблюдательность и любовь к природе у меня еще были с детства и, конечно, развились при путешествиях, когда я начал записывать по вечерам и на дневках то, что примечал интересного и что думал об этом, вместо того чтобы спать или думать о пустяках.
И все время, когда я на старости лет начал составлять эти записки, вспоминая все приключения и пользуясь своими заметками, я приходил иногда к консулу и спрашивал его объяснения по какому-нибудь затруднительному вопросу, а он не отказывал мне в беседе. Без помощи Николая Ивановича Бокова я бы не достиг того, что сделал в своей жизни, и не составил бы этого описания своих путешествий.
КРАТКИЙ ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРИК
Аксакал (тюркск.) — буквально «белая борода», почтенный, уважаемый человек, старшина, начальник.
Амбань — звание важного чиновника Китайской империи, обычно губернатора провинции или генерал-губернатора края.
Арат — трудящийся Монгольской Народной Республики, крестьянин, буквально скотовод.
Аргал (монг.), кизяк (казах.) — помёт рогатого скота и лошадей, употребляется в безлесных местах Монголии, Центральной Азии как топливо и в смеси с глиной как строительный материал.
Архар (тюркск.), аргали (монг.) — горный баран, живущий в высокогорных местах Алтая, Центральной Азии и Казахстана; в СССР создана новая порода овец путем гибридизации архара и мериноса — архаро-меринос.
Аршан (монг.), арсан (тюркск.) — минеральный источник.
Байкалыч (монг.), баялыш (каз.) -солянка кустарниковая, поедается верблюдами.
Барханы — формы незакрепленных, движущихся песков, имеющие вид месяца с крутой подветренной стороной и пологой наветренной, с двумя рогами по концам, вытянутыми по ветру.
Ботало — крупный бубенчик, в котором вместо дроби помещен кусок металла; употребляется при пастьбе скота в Сибири; дает не звенящий, а шаркающий звук, почему иногда применяется название «шаркунец».
Больдурук, бульдурук, по-русски саджа, копытка — птица из отряда рябковых, живет в пустынях Центральной Азии, отличается покровительственным оперением, совершенно совпадающим по цвету с окружающей природной обстановкой; в поисках пищи совершает перелеты на очень большие расстояния.
Браминские рукописи — рукописи, которые писали индусские брамины, последователи учения Брамы, религии, возникшей в Индии в IX-X вв. до н. э.
Бодисатва — одно из перевоплощений Будды (см. Гэгэн).
Бударгана, будургана (монг.) — растение поташник облиственный.
Буддизм — религия, возникшая в Индии в VI веке до н. э. и названная по имени своего мнимого основателя — Будды; северная ветвь буддизма — ламаизм.
Бурханы (идолы) — изображения буддистских и ламаистских божеств в виде фигур, сделанных из бронзы.
Ван (кит.)- титул монгольского князя.
Гарудэ, гариде — по представлению монголов мифическая исполинская птица, действующее лицо многих монгольских сказок.
Гуамянь (кит.), гума (каз.) — сорго, злак.
Гэгэн — по верованию буддистов и ламаистов Будда и другие святые перевоплощаются после своей смерти; такие перевоплощенцы называются хубилганами, а за гражданские заслуги называются — гэгэнами, что означает «светлый, блестящий и святой».
Даба (монг.) — хлопчатобумажная ткань одного цвета без рисунков.
Далай-лама — высший из лам, обитающий в Тибете, в гор. Лхасса, в монастыре Потала. По своему значению среди ламаистов может быть сравнен с папой римским среди католиков.
Далемба — хлопчатобумажная ткань типа дабы, но лучшего качества.
Дзерен — вид газели, живущей в степях; отличается песчаножелтой окраской спины и боков; собирается в значительные стада.
Джигда — лох узколистный, кустарник или небольшое дерево.
Дунгане — жители западной провинции Китая, земледельцы, по вере мусульмане; неоднократно восставали против китайских властей; самое крупное восстание было в 1862-1877 годах.
Карагана — широко распространенный кустарник из сем. бобовых, желтая акация; два вида карагана введены в садовую культуру.
Карагач (тюркск.) — берест, ильм — дерево из сем. ильмовых, вид вяза.
Кеклик — каменная курочка небольших размеров, водящаяся в Центральной и Средней Азии; на каменистых россыпях вследствие покровительственной окраски оперения незаметна; хорошо бегает, но плохо летает.
Кендырь (тюркск.) — многолетнее растение из сем. кутровых; из стеблей можно получить крепкое волокно, близкое по свойствам к пеньке и используемое в изготовлении веревок и текстиля.
Киргизы — так Кукушкин называл, как и все русские того времени, казахов.
Князья правые и левые — означает князья правого и левого знамени; китайские власти, привлекая монголов к военной службе, устанавливали разделение их по отрядам, имевшим знамена правые, средние и левые.
Куку-яман (монг.) — горный козел, вернее, козерог, по-казахски «тау-теке», живущий в горах Центральной Азии, Алтая и Саян, где придерживается неприступных мест.
Кулан (тюркск.), джигетей — относится к полуослам, живет в пустынях и полупустынях Центральной Азии.
Кярыз, кяриз — почти горизонтальная горная выработка в наносах, служащая для сбора и вывода на земную поверхность подземных вод.
Лама — служитель ламаистской религии; имелись различные ступени — от послушников — детей (с 7-летнего возраста) до высшего ламы — далай-ламы.
Ли — китайская мера длины, равняющаяся в настоящее время 576 метрам.
Марал (тюркск.) — олень, из рогов которого, «пантов», вырабатывается лекарство «пантокрин»; разводится в неволе на Алтае в «маральниках». Прежде сушеные панты, которые спиливались у маралов каждый год, очень ценились китайцами как лекарство.
Ом-мани — буддийская молитва, полностью «ом мани-пад-ме-хум», что означает «о, сокровище на лотосе»; смысл этой молитвы неясен, но, согласно буддийским верованиям, читавшие ее буддисты и ламаисты достигали небесных царств.
Саксаул — древесное растение из сем. маревых, отличается корявыми стволом и сучьями, мелкими чешуйчатыми листьями; растет в пустынях и полупустынях; древесина очень тверда, но ломка.
Санскритские рукописи — написанные на санскрите — литературном языке древней и средневековой Индии.
Такыры (тюркск.) — пониженные участки земли с гладкой глинистой плотной поверхностью, покрытой весной водой, а позже высыхающей и трескающейся на куски в сухое время; характерны для пустынных местностей Средней Азии.
Субурган (инд.) — буддийский памятник, отмечающий место какого-либо события или надгробия, состоит из пьедестала, шара и шпица.
Тамариск (лат.), гребенщик — небольшое дерево или кустарник из сем. гребенщиковых, обладающее приспособлениями для борьбы с засухой — игловидными листьями и отложениями солей на листьях.
Тангуты — монгольское название тибетцев, населяющих северовосточную часть Тибета.
Таранча — название уйгуров, переселенных китайскими властями в долину р. Или; уйгуры принадлежат к восточной ветви тюркской языковой группы; уйгуры — мусульмане, по занятиям земледельцы; неоднократно восставали против китайских властей.
Турпан, варнавка — крупная утка с красными ногами и яркорыжим оперением; гнездится в норах или дуплах деревьев вдали от воды.
Тюрки — обширная группа народов, родственных по языку, но не составляющая единого народа; в СССР к тюркам относятся — узбеки, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки, татары, чуваши, азербайджанцы и т. д.
Улус — у бурят — поселение, в Якутской АССР означает район, в Монголии ранее означал государство.
Фанза — китайский однокомнатный домик с земляным полом, земляной или черепичной крышей, камышевой дверью и окном с бумагой или бычьим пузырем; жилище китайской бедноты.
Хадак — длинный и узкий платок из дешевой шелковой материи, служивший для подношений в Китае и Монголии.
Хак (инд., перс.) — солончаковые котловины с глинистой коркой, плотной в сухое время, превращающейся в топкую грязь во время дождей; распространены в Средней и Центральной Азии и Нижнем Поволжье.
Хара-сульта (монг.), буквально «чернохвостик» — название джейрана, газели, живущей в Монголии, отличается более темной окраской спины, чем дзерен; в отличие от последнего собирается небольшими стадами.
Хармык (монг.) — растение селитрянка сибирская, широко распространенный кустарник; монголы называют хармыком ягоды этого растения, но не само растение; русские же путешественники называют хармыком само растение.
Хлынь — сибирское обозначение верховой езды небольшой рысцой.
Ху — гунны — от китайского названия «хунну».
Чекан — маленькая птица из отряда воробьиных, отличается темной покровительственной окраской.
Чесуча — китайская материя из естественного шелка — тусора, беловато-сероватого цвета.
Четверть (аршина) — весьма распространенная ранее в России мера; аршин (сажени) равен 71 см.
Чий дэрису (монг.) — ковыль блестящий, очень распространенный в Средней и Центральной Азии злак с длинными тонкими стеблями, растущий крупными скоплениями; стебли поедаются скотом и идут на изготовление цыновок и других изделий.
Чох — мелкая китайская медная монета с квадратным отверстием в середине для нанизывания на шнурок.
Эфедра — хвойник, кузьмичева трава, — растение из сем. хвойниковых, растет в умеренной полосе Европы и Азии; используется в медицине.
Як — тибетский бык с длинной шерстью, черного или белого цвета, с большими рогами; очень вынослив в высокогорных условиях, в связи с чем используется как вьючное животное в Тибете; домашнего яка монголы называют сарлыком.
[1] Карагач (тюркск.) — берест, ильм — дерево из сем. ильмовых, вид вяза.
(обратно)[2] Даба (монг.) — хлопчатобумажная ткань одного цвета без рисунков.
(обратно)[3] Марал (тюркск.) — олень, из рогов которого, «пантов», вырабатывается лекарство «пантокрин»; разводится в неволе на Алтае в «маральниках». Прежде сушеные панты, которые спиливались у маралов каждый год, очень ценились китайцами как лекарство.
(обратно)[4] Русские в Джунгарии местных монголов называли также калмыками.
(обратно)[5] Фанза — китайский однокомнатный домик с земляным полом, земляной или черепичной крышей, камышовой дверью и окном с бумагой или бычьим пузырем; жилище китайской бедноты.
(обратно)[6] Баурсаки — шарики из теста, зажаренные в бараньем сале, — вкусное и удобное для перевозки в вьючной суме дорожное печенье, заменяющее хлеб.
(обратно)[7] Хлынь — сибирское обозначение верховой езды небольшой рысцой.
(обратно)[8] Аргал (монг.), кизяк (казах.) — помет рогатого скота и лошадей, употребляется в безлесных местах Монголии, Центральной Азии как топливо и в смеси с глиной как строительный материал.
(обратно)[9] Гэгэн — по верованию буддистов и ламаистов Будда и другие святые перевоплощаются после своей смерти; такие перевоплощенцы называются хубилганами, а за гражданские заслуги называются — гэгэнами, что означает «светлый, блестящий и святой».
(обратно)[10] Лама — служитель ламаистской религии; имелись различные ступени — от послушников — детей (с 7-летнего возраста) до высшего ламы — далай-ламы.
(обратно)[11] Бурханы (идолы) — изображения буддистских и ламаистских божеств в виде фигур, сделанных из бронзы.
(обратно)[12] Четверть (аршина) — весьма распространенная ранее в России мера; аршин ( сажени) равен 71 см.
(обратно)[13] Карагана — широко распространенный кустарник из сем. бобовых, желтая акация; два вида карагана введены в садовую культуру.
(обратно)[14] Эфедра — хвойник, кузьмичева трава, — растение из сем. хвойниковых, растет в умеренной полосе Европы и Азии; используется в медицине.
(обратно)[15] Дунгане — жители западной провинции Китая, земледельцы, по вере мусульмане; неоднократно восставали против китайских властей; самое крупное восстание было в 1862-1877 годах.
(обратно)[16] Амбань — звание важного чиновника Китайской империи, обычно губернатора провинции или генерал-губернатора края.
(обратно)[17] Чий дэрису (монг.) — ковыль блестящий, очень распространенный в Средней и Центральной Азии злак с длинными тонкими стеблями, растущий крупными скоплениями; стебли поедаются скотом и идут на изготовление цыновок и других изделий.
(обратно)[18] Кукушкин видел ниши и ячеи выветривания в твердом граните, часто встречающиеся не только в Джаире, но и во многих странах с континентальным климатом. Их создает механическое и химическое выветривание, а ветер выметает мелкие продукты выветривания — зерна минералов, потерявшие связь друг с другом. Они особенно часты в гранитах и в некоторых песчаниках. — Прим. автора.
(обратно)[19] Улус — у бурят — поселение, в Якутской АССР означает район, в Монголии ранее означал государство.
(обратно)[20] Аршан (монг.), арсан (тюркск.) — минеральный источник.
(обратно)[21] Архар (тюркск.), аргали (монг.) — горный баран, живущий в высокогорных местах Алтая, Центральной Азии и Казахстана; в СССР создана новая порода овец путем гибридизации архара и мериноса — архаро-меринос.
(обратно)[22] Тамариск (лат.), гребенщик — небольшое дерево или кустарник из сем. гребенщиковых, обладающее приспособлениями для борьбы с засухой — игловидными листьями и отложениями солей на листьях.
(обратно)[23] Джигда — лох узколистный, кустарник или небольшое дерево.
(обратно)[24] Саксаул — древесное растение из сем. маревых, отличается корявыми стволом и сучьями, мелкими чешуйчатыми листьями; растет в пустынях и полупустынях; древесина очень тверда, но ломка.
(обратно)[25] Бударгана, будургана (монг.) — растение поташник облиственный.
(обратно)[26] Киргизы — так Кукушкин называл, как и все русские того времени, казахов.
(обратно)[27] Ом-мани — буддийская молитва, полностью «ом мани-пад-ме-хум», что означает «о, сокровище на лотосе»; смысл этой молитвы неясен, но, согласно буддийским верованиям, читавшие ее буддисты и ламаисты достигали небесных царств.
(обратно)[28] Арат — трудящийся Монгольской Народной Республики, крестьянин, буквально скотовод.
(обратно)[29] Джут — зимняя гололедица, мешающая скоту и лошадям пастись.
(обратно)[30] Буддизм — религия, возникшая в Индии в VI веке до н.э. и названная по имени своего мнимого основателя — Будды; северная ветвь буддизма — ламаизм.
(обратно)[31] Таранча — название уйгуров, переселенных китайскими властями в долину р. Или; уйгуры принадлежат к восточной ветви тюркской языковой группы; уйгуры — мусульмане, по занятиям земледельцы; неоднократно восставали против китайских властей.
(обратно)[32] Тюрки — обширная группа народов, родственных по языку, но не составляющая единого народа; в СССР к тюркам относятся — узбеки, казахи, киргизы, туркмены, каракалпаки, татары, чуваши, азербайджанцы и т. д.
(обратно)[33] Кулан (тюркск.), джигетей — относится к полуослам, живет в пустынях и полупустынях Центральной Азии.
(обратно)[34] Дзерен — вид газели, живущей в степях; отличается песчаножелтой окраской спины и боков; собирается в значительные стада.
(обратно)[35] Субурган (инд.) — буддийский памятник, отмечающий место какого-либо события или надгробия, состоит из пьедестала, шара и шпица.
(обратно)[36] Эта впадина у южного подножия Тянь-шаня, по позднейшим данным русских путешественников, является наиболее низкой на всем материке Азии и расположена на 30-100 метров ниже уровня океана. Экспедиция Роборовского и Козлова 1893-1895 годов устроила в г. Люкчуне метеорологическую станцию, которая почти два года вела наблюдения. Понятно, что в такой впадине в теплое время очень жарко. — Прим. автора.
(обратно)[37] Гарудэ, гариде — по представлению монголов мифическая исполинская птица, действующее лицо многих монгольских сказок.
(обратно)[38] Бодисатва — одно из перевоплощений Будды (см. Гэгэн).
(обратно)[39] Санскритские рукописи — написанные на санскрите — литературном языке древней и средневековой Индии.
(обратно)[40] Ван (кит.) — титул монгольского князя.
(обратно)[41] Кярыз, кяриз — почти горизонтальная горная выработка в наносах, служащая для сбора и вывода на земную поверхность подземных вод.
(обратно)[42] Как уже отмечено в предыдущей главе, в те годы портативных фотоаппаратов небольшой величины для съемки зданий, фресок и т. п., еще не было. — Прим. автора.
(обратно)[43] Хармык (монг.) — растение селитрянка сибирская, широко распространенный кустарник; монголы называют хармыком ягоды этого растения, но не само растение; русские же путешественники называют хармыком само растение.
(обратно)[44] Такыры (тюркск.) — пониженные участки земли с гладкой глинистой плотной поверхностью, покрытой весной водой, а позже высыхающей и трескающейся на куски в сухое время; характерны для пустынных местностей Средней Азии.
(обратно)[45] Хак (инд., перс.) — солончаковые котловины с глинистой коркой, плотной в сухое время, превращающейся в топкую грязь во время дождей; распространены в Средней и Центральной Азии и Нижнем Поволжье.
(обратно)[46] Массивный гранит при выветривании иногда распадается на большие шары, которые в условиях пустыни покрываются черным блестящим «лаком пустыни», как и щебень, отражающий лучи солнца и луны, что уже отмечено несколько раз в этой книге. Прим. автора.
(обратно)[47] Предположения консула были совершенно обоснованные. Выходы густой нефти у подножия Джаира в нескольких местах, превращавшейся при затвердевании в кир, или асфальт, доказывают присутствие на глубине, в толще горных пород, месторождений жидкой нефти, которую и добывают, проводя в толщу пород буровые скважины и выкачивая по ним насосами эту нефть. По появлению нефти на поверхности земли в разных местах были открыты уже давно первые месторождения нефти на Кавказе, в Сибири, Северной Америке. Жилы чистого асфальта в городе Нечистых духов, открытые Фомой и Лобсыном, также доказывают наличие на глубине нефти, которая поднималась по трещинам пород в нескольких местах до земной поверхности, заполняя эти трещины и превращаясь при затвердевании в асфальт, более чистый, без примеси песка, который ветер приносил на холмы у южного подножия Джаира. Последние мне указал мой проводник Гайса Мусин, знавший их потому, что монголы собирали вытекавшую из них густую нефть в качестве лекарства и для смазки осей у телег, а жилы асфальта мы открыли при изучении эолового города на реке Дям. — Прим. автора.
(обратно)[48] Ботало — крупный бубенчик, в котором вместо дроби помещен кусок металла; употребляется при пастьбе скота в Сибири; дает не звенящий, а шаркающий звук, почему иногда применяется название «шаркунец».
(обратно)[49] Байкалыч (монг.), баялыш (каз.) — солянка кустарниковая, поедается верблюдами.
(обратно)[50] По описанию Н.М. Пржевальского, дикая лошадь, открытая им в Джунгарской Гоби, несколько отличается от домашней, и поэтому нельзя думать, что это просто одичавшая домашняя. Рост ее средний, голова сравнительно велика, уши короче, чем у ослов, грива короткая прямостоячая темнобурая и чолки, характерной для домашних лошадей, нет; спинной ремень, т. е. черная полоса вдоль хребта, характерная для ослов и куланов, отсутствует. Верхняя половина хвоста мохнатая без длинных волос, нижняя покрыта длинными черными волосами. Туловище чалого цвета, на нижних частях почти белое, а голова рыжеватая, конец морды белый. Зимняя шерсть довольно длинная, слегка волнистая. Ноги сравнительно толстые, передние в верхней половине беловатые, над коленями рыжеватые, далее вниз черноватые и возле копыт черные; задние ноги беловатые и возле копыт также черные; копыта круглые и довольно широкие. Держится в самых диких частях Джунгарской пустыни небольшими табунами от 5 до 15 экземпляров, пасущимися под присмотром опытного старого жеребца. (Н.М. Пржевальский. Из Зайсана через Хами в Тибет на верховья Желтой реки. Изд. Русск. Геогр. общ., СПб., 1883, стр. 41, с табл.), Географгиз, М., 1948, стр. 47-48. — Прим. автора.
(обратно)[51] Больдурук, бульдурук, по-русски саджа, копытка — птица из отряда рябковых, живет в пустынях Центральной Азии, отличается покровительственным оперением, совершенно совпадающим по цвету с окружающей природной обстановкой; в поисках пищи совершает перелеты на очень большие расстояния.
(обратно)[52] Тангуты — монгольское название тибетцев, населяющих северо-восточную часть Тибета.
(обратно)[53] Далемба — хлопчатобумажная ткань типа дабы, но лучшего качества.
(обратно)[54] Ли — китайская мера длины, равняющаяся в настоящее время 576 метрам.
(обратно)[55] Далай-лама — высший из лам, обитающий в Тибете, в гор. Лхасса, в монастыре Потала. По своему значению среди ламаистов может быть сравнён с папой римским среди католиков.
(обратно)[56] Кеклик — каменная курочка небольших размеров, водящаяся в Центральной и Средней Азии; на каменистых россыпях вследствие покровительственной окраски оперения незаметна; хорошо бегает, но плохо летает.
(обратно)[57] Куку-яман (монг.) — горный козел, вернее, козерог, по-казахски «тау-теке», живущий в горах Центральной Азии, Алтая и Саян, где придерживается неприступных мест.
(обратно)[58] Хара-сульта (монг.), буквально «чернохвостик» — название джейрана, газели, живущей в Монголии, отличается более темной окраской спины, чем дзерен; в отличие от последнего собирается небольшими стадами.
(обратно)[59] Хадак — длинный и узкий платок из дешевой шелковой материи, служивший для подношений в Китае и Монголии.
(обратно)[60] Чох — мелкая китайская медная монета с квадратным отверстием в середине для нанизывания на шнурок.
(обратно)[61] Аксакал (тюркск.) — буквально «белая борода», почтенный, уважаемый человек, старшина, начальник.
(обратно)[62] Барханы — формы незакрепленных, движущихся песков, имеющие вид месяца с крутой подветренной стороной и пологой наветренной, с двумя рогами по концам, вытянутыми по ветру.
(обратно)[63] Турпан, варнавка — крупная утка с красными ногами и яркорыжим оперением; гнездится в норах или дуплах деревьев вдали от воды.
(обратно)[64] Чекан — маленькая птица из отряда воробьиных, отличается темной покровительственной окраской.
(обратно)[65] Alhagi camelorum, — Прим. автора.
(обратно)[66] Браминские рукописи — рукописи, которые писали индусские брамины, последователи учения Брамы, религии, возникшей в Индии в IX-X вв. до н.э.
(обратно)[67] Фома не знал, что покрывает эти черные скалы. Это так называемый «лак пустыни», который состоит из железа и марганца и покрывает очень тонким, в доли миллиметра, но прочным слоем, который нельзя отбить от камня, поверхность многих горных пород в пустынях. Но он не везде одинаковый, на мелкозернистых темно-зеленых, серых, бурых породах он черный, сильно блестящий, на розовом граните он представляет только бурую пленочку, слабо блестящую, а на белом кварце — желто-бурую пленку, также блестящую. Образование лака еще не разъяснено точно: полагают, что влага в виде росы, дождя, снега, проникая в глубь камня, извлекает из него растворимые соли железа и марганца и отлагает их на его поверхности, образуя эту тонкую корочку, а пыль, содержащаяся в воздухе пустынь, полирует ее. Черный лак образуется только на породах, содержащих в себе железо и марганец; на известняках получается только бурая почти не блестящая корочка, но если в известняке имеются прожилки кварца — на них можно видеть буро-черную блестящую корочку, и эти прожилки тогда резко выделяются на светлобуром фоне. Прим. автора.
(обратно)[68] Фома правильно отметил и это. В этой впадине на южной окраине Тянь-шаня, действительно, у подножия черных скал в холмиках выступают рыхлые глины и песчаники, которые, конечно, не покрываются лаком, развитым только на твердых породах, тогда как рыхлые породы ветры развевают.
(обратно)[69] Пещерные храмы 1000 будд вблизи г. Дунь-хуан (Сачжеу), основанные при династии Хань около 2000 лет назад, были посещены итальянским посланником и купцом Марко Поло в 1273 г., давшим в отчете о своем многолетнем путешествии из Венеции в Китай первое описание их. Венгерская экспедиция графа Бела Сечени осматривала эти храмы и пещеры в 1879 г., и участник ее, лейтенант Г. Крейтнер, дал очень беглое описание их в своем популярном труде 1881 г.
Несколько больше сведений о них находим в описании третьего путешествия Н. М. Пржевальского, который называет это место Чэн-фу-дун и говорит, что пещеры выкопаны в громадных обрывах наносной почвы западного берега ущелья и расположены в два яруса, а в южном конце даже в три и сильно пострадали во время дунганского восстания. Он указывает размеры некоторых пещер и вышину самых больших статуй Да-фу-ян, и Джо-фу-ян, высеченных в горной породе (не твердой). Самая большая статуя по рисунку Роборовского изображена на таблице и имеет около 12-13 сажен вышины. Роборовский в отчете об экспедиции 1893-1895 гг. упоминает также о них кратко. Наиболее подробные сведения об этих пещерах с многочисленными фотографиями можно найти в сочинении английского исследователя А. Стейна «Ruins of desert Kathai», т. II, который изучал их подробно и вывез обширные коллекции рукописных книг на разных языках, картин, фресок и других предметов. — Прим. автора.
(обратно)[70] Чесуча — китайская материя из естественного шелка — тусора, беловато-сероватого цвета.
(обратно)[71] Ху — гунны — от китайского названия «хунну».
(обратно)[72] Князья правые и левые — означает князья правого и левого знамени; китайские власти, привлекая монголов к военной службе, устанавливали разделение их по отрядам, имевшим знамена правые, средние и левые.
(обратно)[73] Фома не мог объяснить сущности этого вопроса, которую выяснили уже позднейшие русские и иностранные экспедиции. Лоб-нор оказался кочующим озером, которое образуется то у северного подножия Алтын-тага, где его видел Пржевальский, то у южного подножия Курук-тага, где его нанесли китайские географы. Озеро питают обе реки Конче-дарья и Яркенд-дарья, в совокупности образующие Тарим; своими наносами они сами преграждают путь в северное озеро, после чего устремляются в южное, заполняют его, начинают заиливать южные русла и отступают назад в северную впадину, где восстанавливают свое прежнее озеро. Экспедиции начала XX века уже видели восстановление озера на месте, показанном на китайских картах, тогда как озеро, открытое Пржевальским, умирало, зарастало камышом, заносилось осадками. На берегах Лоб-нора китайских карт найдены остатки больших поселений; под именем Лоу-лань они описаны и в китайской литературе; большая шелковая дорога пролегала то мимо северного, то мимо южного озера в связи с их восстановлением и умиранием. Вопрос о блужданиях Лоб-нора изложен подробно в введении Э.М Мурзаева «Лобнорское путешествие Пржевальского и загадка Лоб-нора» к новому изданию книги Н.М. Пржевальского «От Кульджи за Тянь-шань и на Лоб-нор» Гос. изд. геогр. литературы, М., 1947, стр. 3-23. Прим. автора.
(обратно)[74] Кендырь (тюркск.) — многолетнее растение из сем. кутровых; из стеблей можно получить крепкое волокно, близкое по свойствам к пеньке и используемое в изготовлении веревок и текстиля.
(обратно)[75] Пржевальский, ссылаясь на Рихтгофена, полагал, что усыхание Центральной Азии началось в третичный период после того, как исчезло море Хан-хай, занимавшее ранее Внутреннюю Азию, Но, по новым данным, внутреннее море исчезло уже в конце пермского периода и с тех пор началось усыхание, сначала очень медленное. Еще в юрский период в Центральной Азии были многочисленные озера и на их берегах пышная растительность, судя по присутствию пластов угля в юрских толщах. В начале мела также были озера и растительность, оставившая после себя угли; но уже в отложениях верхнего мела и третичных угля нигде нет; можно думать, что тогда и начался степной период, постепенно перешедший в пустынный. — Прим, автора.
(обратно)[76] Фома правильно отметил причину загрязнения воды реки Эмель, собирающей эту воду из чистых источников в горах Барлыка, Джаира и Уркашара, но не мог объяснить ее. Дело в том, что в широкой долине нижнего течения реки Эмель почва состоит из желтозема, лёсса, образующего толщу в несколько метров, в которую и врезано русло реки. Этот лёсс нанесен западными ветрами с сыпучих песков, слагающих барханы на берегах озер Сасык-куль и Ала-куль и представляющих перевеваемые этими ветрами аллювиальные отложения рек, впадающих в эти озера. Те же ветры приносят пыль — мелкие продукты выветривания горных пород и наносов по всей местности к востоку и к югу от этой долины. Лёсс покрывает также северные склоны всего хребта Барлык. Но вдоль русла реки Эмель он слоистый, уже переотложенный ею — лёссовый ил Примечание автора.
(обратно)[77] Путники на этом маршруте увидели, что северная цепь Барлыка покрыта достаточно мощным слоем лёсса, скрывающего выходы коренных пород и отложенного теми же северо-западными ветрами, приносящими пыль с обширной площади выветривания и сыпучих песков в районе упомянутых озер. Примечание автора.
(обратно)[78] Этот маленький курорт хорошо известен и описан подробно мною в книге «Пограничная Джунгария», т. III, вып. 2, 1940г., стр. 290-291. Примечание автора.
(обратно)[79] Лобсын очевидно, видел ущелье реки Данхэ в предгорьях Алтын-тага, где река врезалась в свои собственные более древние грубые наносы на глубину 10-15 метров. Это доказывает недавнее повторное поднятие гор, которое увеличило падение русла реки и дало ей силу углубляться в более древние отложения. — Прим. автора.
(обратно)[80] Куку-яман — горный козел; архар — горный баран, т. е. дикие животные Центральной Азии.
(обратно)[81] Як — тибетский бык с длинной шерстью, черного или белого цвета, с большими рогами; очень вынослив в высокогорных условиях, в связи с чем используется как вьючное животное в Тибете; домашнего яка монголы называют сарлыком.
(обратно)[82] Гуамянь (кит.), гума (каз.) — сорго, злак.
(обратно)
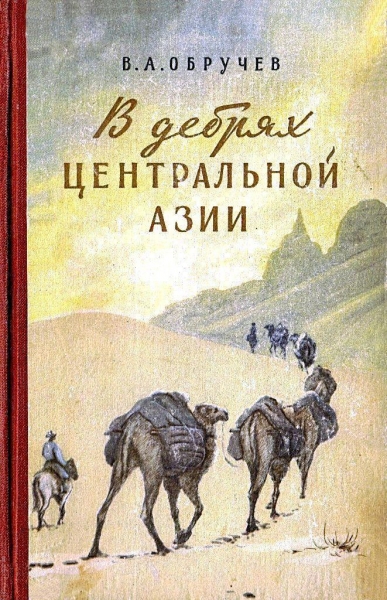


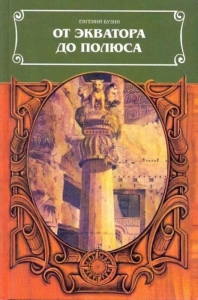
Комментарии к книге «В дебрях Центральной Азии. Записки кладоискателя», Владимир Афанасьевич Обручев
Всего 0 комментариев