Уилфрид Тесиджер Озерные арабы
Введение
Я регулярно приезжал на озера Южного Ирака с конца 1951 по июнь 1958 года и жил там подолгу, иногда до семи месяцев подряд; лишь в 1957 году я не смог там побывать. Хотя я почти постоянно находился в движении, эту книгу нельзя причислить к рассказам о путешествиях, ибо я разъезжал по одному ограниченному району. Книга не претендует и на подробное исследование жителей озерного края, среди которых я жил, поскольку я не этнограф и вообще не ученый-специалист в какой-либо области. Я провел эти годы на озерах, потому что мне там правилось. Все это время я жил среди озерных арабов, вел их образ жизни, и со временем мне удалось в какой-то мере понять, как и чем они живут. Пользуясь воспоминаниями и опираясь на свои дневники, я попытался описать озерный край и его обитателей. Политические изменения в Ираке сделали этот район недоступным для иностранцев.[1] В ближайшем будущем постоянно заболоченные участки, по всей вероятности, будут осушены. Когда это произойдет, исчезнет образ жизни, продержавшийся тысячелетия.
Озерный край Южного Ирака — это примерно 6000 квадратных миль территории вокруг Эль-Курны; здесь Тигр и Евфрат сливаются (выше города Басры), образуя общее русло Шатт-эль-Араб. Здесь есть постоянно заболоченные места, поросшие гигантским тростником касабом (Phragmites communis); есть плавни, большей частью поросшие камышом (Typha augustata), которые высыхают осенью и зимой; есть участки, которые затопляются во время паводков, а потом зарастают осокой (Scirpus brachyceras). Этот район для удобства можно разделить на восточные озера — к востоку от Тигра, центральные озера — к западу от Тигра и к северу от Евфрата и южные озера — к югу от Евфрата и к западу от Шатт-эль-Араб. Постоянно заболоченные участки есть также ниже Шатры вдоль Шатт-эль-Гарраф — рукава, который отходит от Тигра возле Кут-эль-Амары и течет на юго-запад в направлении Эн-Насирии; плавни есть на равнинах к северо-востоку от города Амары, где рассеиваются стекающие с Иранского нагорья воды Нахр-эт-Тиба и Дуариджа; имеется небольшой участок плавней на землях племени аль бударадж, в пятнадцати милях севернее Амары, к западу от Тигра. В разгар паводка затопляются большие участки соседствующей с озерным краем пустыни; покрываемая водой площадь меняется год от года и иногда простирается более чем на 200 миль от окрестностей Басры почти до Кут-эль-Амары. После паводка большая часть этой затапливаемой территории вновь превращается в пустыню.
Вследствие весеннего таяния снегов в горах Ирана и Турции Тигр и Евфрат выходят из берегов; озера и болота образовались в результате повторяющихся веками паводков и рассеивания вод этих рек. Восточные и центральные озера питаются водами Тигра, и они поглощают 80 процентов вод Тигра ниже Багдада. Воды Евфрата растекаются ниже Эн-Насирии по многочисленным каналам и постепенно собираются в оз. Эс-Санаф, а оттуда попадают в Шатт-эль-Араб по руслу Кармат-Али несколькими милями выше Басры. Старое русло между Сук-эш-Шуюхом и Эль-Курной все еще считают принадлежащим Евфрату, но на самом деле вода поступает в него от разливов Тигра. До недавнего времени полагали, что Тигр и Евфрат некогда впадали в Персидский залив по отдельности и что в результате наносов ила береговая линия постепенно отодвигалась все дальше на юг. Согласно современной теории, выдвинутой Дж. М. Лийсом и Н. Л. Фолконом в 1952 году, тяжесть наносов ила вызывает соответствующее оседание почвы, и поэтому береговая линия в основном остается неизмененной с библейских времен. Ежегодный разлив Тигра достигает максимума в мае, а Евфрата — месяцем позже. Начиная с июня уровень обеих рек постепенно понижается и достигает минимума в сентябре — октябре. В ноябре обычно бывает небольшой подъем воды, но в течение зимы уровень понемногу повышается. Зимой и весной случаются внезапные кратковременные паводки.
Центральные озера я знаю лучше, чем остальные, — может быть потому, что я начинал свои странствия с них. Более того, я воспринимал их как родной дом. За годы моего пребывания на озерах я побывал почти во всех поселениях, даже самых маленьких, а большинство из них я посещал неоднократно. Гребцы, которых я нанял, когда приобрел лодку, были родом из поселений на центральных озерах. Они приняли меня как своего, и, следовательно, я был принят и их сородичами. Гребцы сопровождали меня повсюду; их родные деревни стали базами, на которые я возвращался после экспедиций. Почти так же много я путешествовал по восточным озерам, но их жителей мне не довелось узнать столь же близко. Для них я оставался чужаком, хотя встречали они меня доброжелательно, так как я оказывал им посильную медицинскую помощь. Южные озера я знаю плохо.
Уилфрид Тэсиджер
1. Первое знакомство с озерным краем
Весь день мы ехали верхом по однообразной равнине. Из-под копыт лошадей поднималась удушливая пыль. Как это часто здесь бывает, дожди, которых так жаждет в это время земля, не выпали, и пробившиеся сквозь растрескавшуюся почву ростки рассыпались в прах. Не было ни куста, ни камня, которые могли бы служить ориентиром, отмечая наше медленное продвижение к линии горизонта. Наши седла обычного арабского типа были жестки, как доски. Сдвинутые далеко назад стремена вынуждали нас сидеть, подавшись вперед, вдавливаясь в переднюю луку седла, изогнутую, как на ковбойских седлах. Мне пришло в голову, что американские седла, быть может, ведут свое происхождение от таких, как эти; арабы, возможно, завезли их в Испанию, а испанцы захватили с собой в Новый Свет.
Мы двигались медленно, потому что мой спутник не умел ездить верхом. Его звали Дугалд Стюарт, он был британским вице-консулом в Амаре. Несмотря на свою молодость (ему было всего двадцать девять лет) и очевидную одаренность, Дугалд утверждал, что предел его мечтаний — закончить карьеру в качестве консула в Сплите, в Югославии, где можно охотиться на пернатую дичь сколько душе угодно. Мы обменивались воспоминаниями об Итоне, что свойственно всем его питомцам. В Итоне Дугалд учился хорошо и, несмотря на больную ногу, состояние которой после двух операций только ухудшилось, завоевал в колледже много наград, в то время как я, обладатель двух здоровых ног, не сумел получить ни одной.
Прошлую ночь мы провели в селении племени базунов и после обильной трапезы, состоявшей из риса и баранины, улеглись спать на полу в гостевом шатре шейха. Шатер шейха отличался от прочих многочисленных палаток, обтянутых козьими шкурами, лишь тем, что был намного больше и крепился на одиннадцати колышках. Палатки не имели одной стенки и были обращены открытой частью все в одну и ту же сторону; почти везде к колышкам были привязаны одна-две стреноженные лошади. Каждую палатку окружали тесно сгрудившиеся овцы и козы, причем часто они даже забирались внутрь палатки. Я видел, как на закате их пригоняли мальчики-пастухи, каждое стадо двигалось в золотистом облачке пыли. Всю ночь раздавалось блеянье коз и овец вперемежку с собачьим лаем.
Я продвигался к югу, возвращаясь из Иракского Курдистана. Там я пытался вновь обрести душевный покой, снизошедший на меня в пустынях Южной Аравии; я прожил пять лет среди бедуинов и прокочевал с ними 10000 миль по местности, где автомобиль появился только тогда, когда в поисках нефти прибыли группы сейсмологов — авангард современного прогресса.
Мне всегда хотелось побывать в Иракском Курдистане, и я проехал его верхом из конца в конец в сопровождении одного молодого курда. Пейзаж был девственно прекрасен, а местные курды все еще ходили в красочных национальных костюмах: в тюрбанах, шароварах и коротких куртках, подпоясанных разноцветными узорчатыми кушаками; они также щеголяли кинжалами и револьверами, а их изукрашенные нагрудные патронташи были набиты патронами, Я ночевал в прилепившихся к склонам гор селениях, расположенных террасами, где дома с плоскими крышами покоились на лежащих ниже крышах, или в черных палатках кочевников, раскинутых на вершинах гор, где среди травы попадаются цветы горечавки, а слежавшийся снег не тает все лето. Я спускался по долинам бурных рек, прорезающих дубравы, где в зарослях отыскивали корм медведи; смотрел сверху на стадо каменных козлов, пробиравшихся по уступам скальной стены высотой 3000 футов; мимо проплывали громадные белоголовые сипы, ветер свистел в их оперении. Я был свидетелем роскошной весны в Курдистане, когда склоны долин покрываются анемонами, а горы пламенеют тюльпанами. Я лакомился только что сорванными гроздьями винограда, согретыми солнцем или охлажденными в ближайшем ручье.
Однако, побывав в Иракском Курдистане, я не хотел туда возвращаться. Свобода передвижения была слишком ограниченна, и путешествие напоминало выслеживание оленей в каком-нибудь заповеднике на севере Шотландии. За одним ручьем была Турция, за другим водоразделом лежал Иран, а на каждом перевале дежурили полицейские и требовали визы, которых у меня не было. Я опоздал на пятьдесят лет. Полвека назад я смог бы подняться от Равандуза к озеру Урмия, а потом и к озеру Ван, и единственным реальным препятствием могли бы быть грабители или воюющие друг с другом племена. Правда, озера Южного Ирака, к которым я теперь направлялся, занимали меньшую площадь, чем Иракский Курдистан, но они были отдельным, замкнутым мирком, а не частью какого-то большого мира, в который я не имел доступа. Хотя природа Иракского Курдистана мне очень нравилась, я не мог сказать того же о людях. Конечно, мне мешал языковой барьер, но, даже если бы я знал их язык, я, скорее всего, все равно не смог бы полюбить их. А так как для меня люди важнее, чем природа, я решил вернуться к арабам.
На следующий день мы снова были в седле, двигаясь на юг, к озерному краю, по однообразной равнине. Среди дня мы остановились у какого-то кочевья, чтобы поесть и сменить лошадей. Дугалду достался великолепный, но норовистый серый жеребец. Когда я высказал сомнение, сумеет ли Дугалд с ним справиться, шейх явно решил, что я хочу ехать на этом жеребце сам, и сказал, что привел его специально «для консула». Немного погодя Дугалд нечаянно ударил жеребца пятками, и тот понес. Чтобы удержаться в седле, Дугалд бросил поводья и обеими руками ухватился за луку седла. Наши попутчики пустились галопом вслед за ним, но я, поняв, что этим они еще больше раззадорят жеребца, крикнул им, чтобы остановились. Дугалд к этому моменту уже потерял стремена. Еще немного — и он вылетит из седла. Почва была твердая, и моему воображению уже рисовалось страшное несчастье. Но через две мили жеребец выдохся и остановился, а Дугалд все-таки удержался в седле. Когда мы поравнялись с ним, Дугалд уже спешился и стоял, рассматривая свои руки. Ладони были исцарапаны в кровь шляпками гвоздей, украшавших луку седла.
— Теперь я, черт побери, буду передвигаться только пешком! — заявил он.
Все попытки убедить его в кротости права наших лошадей не имели успеха. Он остался верен своему решению и не согласился ехать верхом.
Солнце все еще стояло высоко. Разливы прошлых лет оставили следы на земле, испещренной глубокими трещинами. Шейх продолжал свои увещевания, но Дугалд ковылял на своих на двоих.
— Ради всего святого, заставь его замолчать! — умолял он меня.
Солнце село, а признаков озер и деревни, к которой мы направлялись, все еще не было в помине. Уже стемнело, когда мы заметили вдали пляшущие огоньки. Базуны предупредили о нашем приезде Мазиада бин Хамдана, шейха племени[2] аль иса, и он с наступлением сумерек выслал навстречу нам своих людей. Они отвели нас к его лагерю на пороге озер. Мы почувствовали, что за палатками было водное пространство.
Мазиад сам вышел приветствовать нас. В этом невысоком коренастом человеке с очень прямой осанкой сразу же угадывались внутреннее достоинство и властность. В гостевом шатре, освещенном фонарем «молния», собралось много мужчин, у большинства были винтовки. При нашем появлении они встали. Мазиад провел нас на место, расположенное напротив очага. Пока нам подавали кофе и чай, Мазиад задавал традиционные вопросы о нашем здоровье и подробностях нашего путешествия. Все остальные сидели неподвижно, в несколько напряженных позах. Никто не произносил ни слова. Мы находились среди настоящих арабов пустыни, которые всегда строго и с достоинством ведут себя на людях. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем принесли громадное блюдо, на котором, как всегда, горой возвышался рис с бараниной. Это была отнюдь не изысканная еда, но арабы ценят скорее количество, чем качество. Сначала поели мы вместе со старейшими жителями деревни, затем Мазиад, обращаясь к остальным по именам, пригласил их занять наши места. Он сам, как хозяин, не садился до тех пор, пока все не поели. Мужчины ели по очереди, и, когда последний насытился, Мазиад позвал детей, притаившихся в темноте за шатром. Самому младшему на вид было не больше трех лет. Перед концом трапезы слуга, приносивший кофе, отделил небольшую порцию еды и положил ее на отдельную тарелку. Только теперь Мазиад присел чуть в стороне и принялся за свой скромный ужин, а нам снова подали кофе и чай. Считалось, что ему как хозяину неприлично приниматься за еду, пока не поест последний из его гостей; на следующий день я видел, как в обеденное время Мазиад стоял перед своим шатром, желая удостовериться, что каждый проходящий мимо зайдет внутрь и примет участие в трапезе. Дважды в день он резал по одной овце для своих гостей, которых могло набраться до сотни. Эти скотоводческие племена сохраняли свои древние обычаи, и о других они судили по тем самым меркам, которые некогда принесли с собой из пустынь Аравии.
В последующие годы я неоднократно возвращался в гостевой шатер Мазиада и посещал много других становищ его племени. Во время тяжелых летних месяцев, когда мне приходилось уезжать из озерного края, я одалживал лошадей и посещал скотоводческие племена. Я хорошо узнал большинство из них — бени лам, базунов, аль иса, аль бусалих и других. Некоторые с наступлением весны пересекали границу и поднимались в предгорья Ирана, где молодая зеленая трава пестрела анемонами. Другие на зиму спускались в Саудовскую Аравию и в окраинные районы Кувейта; мужчины и мальчики гнали стада овец и коз, а одетые в черное женщины вели ослов, нагруженных палатками и колышками, коврами, постельными принадлежностями, деревянными сундуками, котлами, блюдами и чайниками. Я часто видел, как они двигались в знойном мареве по безбрежной, словно море, равнине.
После еды Мазиад провел нас в ближайший дом, аккуратно сложенный из тростника и тростниковых циновок. Там для нас были разостланы матрасы и стеганые одеяла. Дугалд и я были благодарны Мазиаду за неожиданное предоставление нам отдельного ночлега. Всю ночь сырой, холодный ветер дул в решетчатые окна, и сквозь сон я слышал, как волны плещутся о берег.
Выйдя на рассвете из хижины, я увидел вдали за открытым водным пространством контуры далекой земли, темнеющие на фоне рассветного неба. На мгновение мне показалось, что это — волшебный остров Хуфайз; считается, что увидевшие его люди теряют рассудок. Затем я понял, что это были заросли тростника. У моих ног лежала вытащенная на берег легкая лодка черного цвета с высоко загнутым носом — боевая лодка шейха, приготовленная для моего путешествия по озерам. Еще до того, как в древнем Уре были построены первые дворцы, жившие здесь люди выходили на рассвете из такой же хижины, спускали на воду такую же лодку и отправлялись на охоту. Археолог Леонард Вулли раскопал их жилища и нашел модели их лодок, погребенные глубоко под археологическим слоем государства шумеров, еще глубже, чем археологические свидетельства великого потопа. Пять тысяч лет истории лежали здесь передо мной, а образ жизни людей остался неизменным…
Память об этом первом посещении озер никогда не умирала во мне: отсвет костра на чьем-то лице, крик гусей, утки, прилетающие на кормежку, голос мальчика, напевающего в темноте, лодки, идущие друг за другом по руслу, садящееся солнце — темно-красное сквозь дым горящего тростника, узкие вьющиеся протоки, уходящие в глубь озерного края. Обнаженный человек в лодке с острогой в руках, тростниковые дома над водой, черные мокрые буйволы, которые словно появились на свет из этой топи вместе с первым островком сухой земли. Звезды, отражающиеся в темной воде, кваканье лягушек, лодки, возвращающиеся вечером домой, покой и неразрывная связь тысячелетий, тишина мира, никогда не знавшего шума мотора. И снова я испытывал непреодолимое желание разделить с жителями озер их жизнь — и совсем не как сторонний наблюдатель.
2. Снова на пороге озерного края
Спустя шесть месяцев я с двумя гребцами-арабами шел в дырявой лодке вниз по рукаву Тигра к озерам. Один из гребцов, иссохший старик, был одет в залатанную рубаху неопределенного цвета, доходившую до середины икр. Другой, коренастый косоглазый парень лет пятнадцати, был облачен в остатки европейской куртки, надетой поверх новой белой рубахи, которую он подобрал поясом, чтобы подол не волочился по земле. На них были куфии — головные платки, которые обычно носят арабы-шииты в Южном Ираке: квадратные куски некогда белой ткани в черную клетку размером три на три фута. Так как у них не было игалей,[3] они, сложив платки углом, обернули их вокруг головы. Старик сидел на высокой корме. Я со своим багажом примостился, скрестив ноги, на куске циновки, постеленном на дне лодки у его ног. Багаж состоял из двух черных оцинкованных ящиков; в одном хранились лекарства, а в другом были книги, фотопленка, патроны и прочее. На ящиках лежал пестротканый курдский седельный вьюк, набитый одеялами и одеждой. Охотничье ружье и винтовку фирмы Ригби в брезентовом чехле я поставил на дно лодки, прислонив их к ящикам.
Быстрый поток шириной около тридцати ярдов явно был глубок. Я сидел, ухватившись обеими руками за борта лодки, и кончики моих пальцев все время были в воде. Свежий ветер дул против течения, поднимая небольшие волны, которые время от времени обрызгивали меня и мой багаж. Я боялся пошевелиться, убежденный, что при малейшем моем движении лодка перевернется. Оба араба, однако, совершенно спокойно ходили взад и вперед, не нарушая равновесия лодки.
Мальчик перестал грести, повернулся и присел, чтобы, укрывшись от ветра, зажечь сигарету. Старик поднялся, высматривая какого-то приятеля, работающего в поле. Сидя на дне лодки, я не видел ничего, кроме крутых берегов высотой в три-четыре фута. Время от времени их прорезали ирригационные каналы различной ширины, отводившие воду на поля. Берега увенчивал покрытый пылью блекло-зеленый колючий кустарник высотой в два-три фута. Водяные черепахи, примостившиеся на береговых уступах, соскальзывали с них и шлепались в мутную, темную воду. Пестрые мухоловки проносились мимо или повисали в воздухе, быстро работая крыльями перед тем, как «пикировать». Высоко над ними парили коршуны, Время от времени с прибрежных полей с шумом срывалась стая грачей. Дымка смягчала краски неба, и все вокруг казалось тускло-землистым.
Мы миновали небольшое селение с тростниковыми домами, серыми, как старые стога. Одетые в черное женщины мыли посуду у берега среди целой флотилии черных лодок, вытащенных на илистый берег. Из хижины вышел мужчина. Старший из моих гребцов приветствовал его:
— Салям алейкум! (Мир вам!)
— Алейкум ас-салям (И вам мир), — ответил мужчина, потом добавил: — Фильху (Остановитесь и поешьте).
Мы ответили:
— Кафу, Аллах яхфазак (Мы сыты; храни вас Аллах).
Полдюжины собак бежали за нами вдоль берега с бешеным лаем и рычанием, пока их не остановила широкая канава, через которую они не могли перепрыгнуть.
Этим утром, в первую неделю февраля 1951 года, я вышел из Амары, наняв в Маджар-эль-Кабире лодку, которая должна была доставить меня за пять миль вниз по течению к дому Фалиха бин Маджида на пороге озерного края. Его отец, Мадрид аль-Халифа, был одним из двух верховных шейхов большого племени аль бу-мухаммад, насчитывавшего 25000 воинов. Я надеялся провести несколько месяцев на озерах; Дугалд Стюарт сказал, что Фалих — как раз тот человек, который может помочь мне в этом.
Сидя в неудобной позе на дне лодки, я с надеждой смотрел вперед, ожидая за каждым очередным поворотом реки увидеть начало озерного края, но темный поток продолжал струиться по бесконечной плоской равнине.
Вот еще один поворот, и русло раздвоилось. Вдоль главного протока выстроился ряд больших жилищ, умело сооруженных из тростника. На открытой площадке за ними стоял одноэтажный кирпичный дом с плоской крышей, что делало его похожем на форт. Но больше всего меня поразило здание с полукруглым сводом, крыша которого была выложена желтыми циновками. На обоих торцах плавная линия крыши заканчивалась четырьмя суживающимися кверху колоннами. Здание было расположено на стрелке между двумя протоками.
— Это мадьяф шейха Фалиха, — сказал старик.
Юноша, стоявший у входа в мадьяф — гостевой дом, — вошел внутрь, и через мгновение несколько мужчин вышли и остановились, ожидая, когда я высажусь на берег.
— Вот шейх Фалих, — сказал старик, указывая на коренастого человека в коричневом плаще из тонкой ткани, надетом поверх свободного халата из тяжелого темного материала.
Как только нос лодки коснулся берега, мальчик ловко спрыгнул на берег и придержал лодку, пока она не развернулась бортом. Затем старший гребец сошел на берег, приблизился к Фалиху и, поцеловав ему руку, сказал:
— Англичанин из Амары, йа мухафаз (о покровительствуемый Аллахом).
Фалих окинул меня взглядом и произнес:
— Добро пожаловать!
У него было волевое, мужественное лицо, чисто выбритое, за исключением коротко подстриженных усов. Густые темные брови почти смыкались над крупным носом. Лицо было обрамлено складками традиционной черной с белым куфии, удерживаемой на голове массивным черным игалем. Как только я поднялся, лодка покачнулась, через борт полилась вода. Фалих сказал:
— Подожди минутку.
Затем он обратился к гребцам:
— Живее! Помогите ему.
Он протянул мне свою сильную руку, помогая выйти на берег, и повторил:
— Добро пожаловать!
Повернувшись к какому-то мужчине, стоявшему рядом с ним, он приказал:
— Проследи, чтобы вещи англичанина отнесли в мадьяф.
Затем он повел меня ко входу.
— Благоволи войти. Чувствуй себя как дома.
Сбросив обувь, я прошел между колоннами. Каждая из них, футов восемь в обхвате, представляла собой связку гигантского тростника, очищенные стебли которого были стянуты так плотно, что поверхность колонн казалась гладкой, как бы отполированной.
В большом зале стоял едкий запах дыма, и после яркого солнца здесь было полутемно. Вдоль стен маячили неясные фигуры людей.
Я воскликнул:
— Салям алейкум!
И они хором ответили:
— Алейкум ас-салям!
Мы сели на аляповатые коврики, расстеленные поверх циновок, а остальные уселись вдоль стен. Те, у кого были винтовки, положили их перед собой. В глубине помещения я заметил два изумительных старинных ковра в синих и золотистых тонах, убранных с почетного места ради новых — тех, на которых мы сидели. В дальнем конце у стены я заметил деревянный сундук, а недалеко от входа — установленный в деревянной раме большой глиняный кувшин, наполненный водой. Другой мебели не было. Примерно посередине комнаты, немного ближе ко входу, располагался очаг, в нем горел огонь. Рядом выстроилась дюжина кофейников, самый большой высотой около двух футов. В этот кофейник, по принятому у арабов обычаю, сливалась гуща от предыдущих заварок кофе. Когда прибывал какой-нибудь важный гость, в самом маленьком из кофейников всегда заваривали свежий кофе. Старик в белой рубахе — единственный человек кроме меня, не носивший плаща, — занимался приготовлением кофе в соответствии с освященным временем ритуалом. Как только кофейные зерна поджарились, кахвачи начал толочь их в медной ступке, выбивая четкий ритм. Этот приятный звук как бы указывал на то, что в гостевом доме шейха приготовляют кофе, и приглашал принять участие в церемонии всех, кто мог его услышать. Затем, держа в левой руке кофейник, а в правой — две фарфоровые чашечки размером чуть больше рюмки для яйца, старик налил немного кофе в верхнюю чашечку и предложил ее Фалиху, который велел ему подать кофе сначала мне. Я, в свою очередь, отказался. Но Фалих продолжал настаивать, и я взял чашку, а старик налил немного кофе во вторую чашечку для Фалиха. Кофе был крепкий и горький. Зная арабский обычай, я выпил три порции и только после этого слегка встряхнул чашечку, чтобы показать, что мне достаточно. Старик медленно ходил по комнате, подавая кофе остальным в соответствии с их рангом. Фалиху, мне и двум моим гребцам подали также сладкий черный чай в стаканчиках с золотым ободком, напоминающих по форме песочные часы. В дом вошел шестнадцатилетний юноша, старший сын Фалиха. У него был отцовский крупный нос, но лицо было узкое и менее волевое. Фалих представил мне своего сына, назвав его «твой слуга». Затем он поручил ему позаботиться о завтраке и обратился ко мне:
— Мне неловко, оттого что я не могу предложить тебе достойную пищу, но ты приехал без предупреждения. Прошу меня извинить. Я думаю, ты предпочтешь поесть то, что уже готово, а не ждать, пока мы зарежем овцу. Ведь ты, наверное, голоден после долгого путешествия.
Среди арабов долгие паузы в разговоре не смущают ни хозяина, ни гостя. Фалих два-три раза спросил меня, как я себя чувствую, а я дал полагающийся в таких случаях ответ:
— Хвала Аллаху!
Несколько раз он также спросил, было ли мое путешествие удачным, и я отвечал:
— Вполне. Хвала Аллаху!
Кроме нас, никто в комнате не произнес ни слова. Через некоторое время Фалих вернулся к своим утренним делам, ибо мадьяфы были не только домами для приема гостей; в них шейхи заседали утром и вечером, отдавая распоряжения по хозяйству и разрешая споры между своими сородичами.
Некоторые шейхи, например Маджид аль-Халифа, отец Фалиха, имели обширные хозяйства, приносившие им сотни тысяч фунтов в год. Когда-то земля принадлежала племенам, и шейх правил лишь до тех пор, пока племя признавало его. Но последнее время шейхи фактически завладели землей; у оседлых племен они стали землевладельцами, а их соплеменники были низведены до положения работников, обрабатывающих поля в обмен на долю урожая, без всякой гарантии на то, что эти поля останутся за ними на длительный срок, Теоретически все земли в провинции Амара принадлежали государству, которое сдавало их в аренду шейхам. Последние, однако, платили налоги и считали землю своей собственностью, и, пока они обладали силой, никто не оспаривал их права на землю.
Хотя считалось, что шейхи уже не имеют юридической власти, тяжбы между членами племени редко рассматривались государственными судами (кроме дел об убийстве, да и то не всегда). Члены племени предпочитали суд шейхов, которых они знали, правосудию государственных чиновников, с которыми у них не было ничего общего. В конце концов правительство решило, что «от добра добра не ищут».[4]
В тот день Фалих занимался разными делами. Он отдал распоряжение укрепить берег до того, как начнется подъем воды в реке, обсудил распределение земли по случаю приближающейся уборки урожая риса и предупредил одного из крестьян о необходимости выплатить причитающуюся с него долю урожая. Мне с трудом удавалось понимать их говор. Я стал рассматривать лица людей, сидевших напротив меня, пораженный разницей между их простыми, тяжеловатыми чертами и чеканными лицами бедуинов Аравии; ломовая лошадь отличается от чистокровной не менее резко. Но в этой обстановке трудно было составить правильное впечатление об этих людях. Все они спокойно сидели, завернувшись в свои плащи. Их куфии увенчивались черными игалями, которые, по-видимому, были в моде в этих краях. Они показались мне уравновешенными и обладающими чувством юмора людьми, готовыми подчиниться дисциплине, но в то же время умеющими быть упрямыми и быстро приходящими в ярость, если затронуты их чувства.
Мадьяф, который мне потом удалось обмерить, имел шестьдесят футов в длину, двадцать футов в ширину и восемнадцать в высоту, но казался гораздо просторнее, особенно когда входишь в него в первый раз. Одиннадцать больших подковообразных арок поддерживали крышу. Как и колонны у входа, арки были сделаны из плотно связанных стеблей гигантского тростника и имели девять футов в окружности на уровне пола и два с половиной фута вверху. Как я потом узнал, этот тростник мог достигать в высоту двадцати пяти футов. Завершали конструкцию пучки камыша, сплетенные наподобие двухдюймового троса, которые были прикреплены один над другим к аркам с их наружной стороны по всей длине здания. Контраст между этими горизонтальными «ребрами» и очертаниями вертикальных арок создавал удивительный рисунок. Сама крыша была выложена внахлест, в четыре слоя, тростниковыми циновками, прикрепленными к продольным «ребрам». Такие же циновки покрывали пол. Стены помещения были бледно-золотистые, темно-каштановый от дыма потолок казался лакированным.
Несколько слуг под наблюдением сына Фалиха принесли и расстелили перед нами круглую плетеную циновку, футов пять в поперечнике, из мягкого камыша. На циновку водрузили круглый поднос с горой риса. Затем слуги расставили блюда с тушеными овощами, тремя зажаренными курами, зажаренной целиком рыбиной и финиками, а также тарелки со сладкой подливкой из яиц и молока, миски с пахтаньем и кувшины с шербетом. Большинство из присутствующих к этому моменту уже покинули мадьяф. Я думал, что они останутся: обычно арабы племен, когда подается еда, собираются все вместе. Позже я узнал, что в этих краях только шейхи кочевых племен держат общий стол в своих гостевых шатрах. Другие, за исключением особых случаев, считали пропитание своих приближенных их собственной заботой, оказывая гостеприимство только заезжим гостям. Кроме меня и моих гребцов в качестве гостей остались только трое старейших жителей деревни.
Фалих и его сын разделили трапезу с нами. Слуга обнес по кругу таз и кувшин с водой, и мы по очереди вымыли руки. После этого Фалих сказал:
— Что ж, устраивайтесь поудобнее, — и, наклонившись вперед, опустил тушеные овощи на рис. Разломив руками кур, он положил большой кусок на мою тарелку, рядом с которой специально для меня лежали ложка и вилка. Но так как остальные брали еду с тарелок правой рукой, я последовал их примеру. Тут же Фалих сказал:
— Пользуйся вилкой и ложкой, так тебе будет удобнее.
Я ответил, что привык есть руками и что хорошо знаком с обычаями арабов. Он сказал:
— Значит, ты — один из нас.
Когда с едой было покончено, мы снова вымыли руки и нам подали кофе и чай.
Заметив, что Фалих не сводит глаз с моей винтовки, я протянул ее шейху и спросил, какого он о ней мнения, так как все арабы интересуются оружием и разбираются в нем.
Фалих вскинул винтовку на руке, прицелился, сказал, что это хорошая винтовка (каковой она и была на самом деле), и спросил, сколько она стоит. В конце концов, как я и надеялся, он заговорил о моих планах, и я сказал, что хочу направиться на озера, чтобы познакомиться с маданами — жителями района озер.
— Это легко устроить. Я отправлю тебя в Эль-Кубаб. Это большая деревня в центре озерного края, оттуда привезли тростник для моего мадьяфа. У моего отца, шейха Маджида, там есть представитель, и, если ты захочешь переночевать, у него найдется подходящий дом. В Эль-Кубабе ты сможешь увидеть, как живут маданы: вокруг нет ничего, кроме буйволов, тростника и воды. Передвигаться можно только в лодке — кругом ни клочка сухой земли. Если ты захочешь поохотиться, там сейчас еще есть утки.
Я поблагодарил его и тут же объяснил, что надеюсь провести среди маданов несколько месяцев.
— Эль-Кубаб — хорошая деревня, и у Саддама есть мадьяф, но маданы живут не лучше своих буйволов, — продолжал Фалих. — Их дома стоят наполовину в воде и кишат комарами и мухами. Если ты рискнешь устроиться в одном из них на ночлег, не исключено, что ночью тебе на голову наступит буйвол. Маданы — бедняки. У них нет достойной еды, вся их пища — рис и молоко. Лучше оставайся здесь, отсюда ты сможешь посещать озера, когда тебе захочется. Я могу устроить тебя с удобствами, этот дом — твой на столько времени, сколько тебе понадобится. У меня есть лодки и люди, они могут отвезти тебя куда угодно. Проводи ночи здесь, а дни — на озерах. Это самое разумное.
Я сказал, что в прошлом году уже провел на озерах несколько дней в обществе консула из Амары. Сейчас я вернулся потому, что мне интересны маданы и я хочу узнать их лучше; этого можно добиться, только живя среди них.
— Я всю свою жизнь путешествовал по необжитым местам и привык к отсутствию комфорта. Последние пять лет я провел в Руб-эль-Хали.[5] Это было нелегко — ни еды, ни воды. Здесь по крайней мере воды сколько угодно.
Фалих рассмеялся.
— Да, видит Аллах, у тебя не будет недостатка в воде. Тебе придется спать в воде. Странные вы люди, англичане! С меня хватает и одной ночи на озерах, когда я вынужден бывать там по делам. Я не ночую там ради удовольствия. Как бы то ни было, оставайся у меня до завтра, я устрою охоту на кабанов. На следующий день я отправлю тебя в Эль-Кубаб и велю Саддаму позаботиться о тебе. Если хочешь, сегодня вечером можем прогуляться по полям, может быть, нам удастся подстрелить несколько куропаток. А сейчас я тебя оставлю, чтобы ты отдохнул.
— Тебе доводилось когда-нибудь охотиться на кабанов? — спросил Фалих. — Будь осторожен — они опасны. На прошлой неделе кабан напал на человека, осматривавшего свои посевы, и убил его. Сомневаюсь, чтобы сегодня мы увидели хотя бы одного, а вот куропатки нам наверняка попадутся.
Мы шли друг за другом по гребню дамбы, ограждавшей широкий ирригационный канал, к пальмовой роще, которая темнела на фоне неба. Это возведенная руками человека дамба приподняла нас над бесконечной аллювиальной равниной Южного Ирака. К востоку эта равнина простирается на 100 миль, к Иранскому нагорью; к югу — на 150 миль, к морю; на севере она тянется 200 миль, до Багдада; на западе, за Евфратом, она переходит в пустыни Аравии. То и дело нам приходилось перепрыгивать через проходы, прорытые в дамбе, по которым вода поступала на лежащие под нами поля. Некоторое время мы пробирались под сенью пальм сквозь заросли колючего кустарника высотой в три-четыре фута, затем вышли на более открытое место. Здесь земля была покрыта скользким белым налетом, на ней рос какой-то кустарник, приспособившийся к солончакам. Мы спугнули несколько черных куропаток, но они были очень осторожны и не подпустили нас на выстрел. На обратном пути мы видели трех уток. Они летели очень высоко, возвращаясь с озер. Фалих выстрелил и подбил одну. Я поздравил его, подумав, впрочем, что это было случайное попадание. Однако потом я узнал, что Фалих — отличный стрелок.
Мы вернулись в деревню в сумерках. В мадьяфе горела лампа, подвешенная на шнуре к потолку. В доме сидело полдюжины парней. Фалих сотворил вечернюю молитву, повернувшись лицом ко входу, поскольку мадьяф, как всегда, был обращен входом к Мекке. Мусульманам положено молиться на рассвете, в полдень, в послеполуденное время, на закате и еще раз двумя часами позже. Но в этих краях мало кто молился вообще, а если и молились, то в основном старики. Окончив молитву, Фалих послал слуг за едой. Обед почти не отличался от предыдущей трапезы, если не считать жареной баранины вместо курицы и кусочков мяса в тушеных овощах. Вскоре после обеда слуги, убрав посуду, вернулись, нагруженные матрасами, валиками и тяжелыми стегаными одеялами, подбитыми зеленым, красным или желтым шелком. Двое стариков все еще были в мадьяфе, они оставались на ночлег. Фалих приказал одному из юношей взять ружье и охранять дом до рассвета, пожелал мне доброй ночи и ушел в кирпичный дом, где он жил со своей семьей.
Юноша погасил лампу, выпил остатки кофе и сел у очага, время от времени вороша головешки. У него было несколько монголоидное лицо с тяжеловатыми чертами, очень красивое. Когда один из стариков начал храпеть, юноша стал громко будить его. Старик с ворчанием повернулся на другой бок, но через несколько минут снова захрапел. Юноша сказал мне с улыбкой:
— Старики всегда храпят.
3. Охота на кабанов
Старый кахвачи Абд ар-Рида появился в предрассветных сумерках и разжег огонь. Помещение быстро наполнилось дымом. Юноша уже ушел. Старики поднялись, откашливаясь и отплевываясь. Совершив ритуальное омовение, они помолились и склонились над очагом. Мне показалось, что холодно, и я не стал вылезать из-под одеяла, пока двое слуг не пришли, чтобы умести постельные принадлежности. Тогда я присоединился к остальным, и мне подали чашечку кофе. Слуга принес завтрак — тонкие лепешки из рисовой муки на сплетенной из травы тарелке и горячее подслащенное молоко в чайнике — и поставил еду на ковер перед нами. Поднимающееся солнце уже позолотило колонны у входа.
Через час-другой пришел Фалих, сопровождаемый группой вооруженных соплеменников, чтобы взять меня на обещанную охоту на кабанов. Но сначала все напились кофе.
Я оказался в одной лодке с Фалихом и его сыном. Это была прекрасная лодка, рассчитанная на двенадцать человек. Тридцати шести футов в длину, но всего три с половиной фута в самой широкой части, она имела деревянную обшивку вгладь, а снаружи была покрыта ровным слоем битума. Носовая часть безупречной линией изгибалась вперед и вверх, образуя длинный и тонкий форштевень; корма тоже поднималась изящной дугой. Кормовая и носовая части были крыты палубой, каждая на два фута. На расстоянии в одну треть длины от кормы находилась банка, а на расстоянии в одну треть длины от носа борта соединял бимс. Днище лодки покрывал съемный настил. Верхняя часть шпангоутов была обшита изнутри досками, прибитыми к шпангоутам пятью рядами гвоздей с плоскими круглыми шляпками диаметром в два дюйма. Эти декоративные гвозди были отличительным признаком таррады, которую полагалось иметь только шейхам. Много лет спустя я увидел в Осло хранящиеся там ладьи викингов, и они сразу напомнили мне таррады озерных арабов. Оба типа лодок отличаются лаконичной красотой линий.
Четыре человека, двое на корме и двое на носу, вели лодку вперед, отталкиваясь шестами. Они ритмично и слаженно двигались, погружая шесты в воду с одной стороны лодки и синхронно перенося их на другую, когда это было необходимо. Их ружья и плащи лежали в лодке подле них. У каждого был туго набитый патронташ, а на поясе висел изогнутый кинжал с узким лезвием.
Озера начинались тремя милями ниже мадьяфа Фалиха. Приближаясь к ним, мы миновали большую деревню, тянувшуюся примерно на 200 ярдов по левому берегу протока. Дома из циновок, прикрепленных к тростниковым аркам, располагались параллельно берегу, иногда совсем близко друг к другу. Перед домами стояли на привязи несколько телят, тут же бродили буйволицы. Я заметил двух или трех лошадей, туловища которых были покрыты ковриками, а передние ноги скованы железными стержнями. У лошадей Фалиха ноги были скованы таким же образом. В ответ на мой вопрос он объяснил:
— Благодаря этому лошадей нельзя украсть. Если спутать ноги лошади веревкой, вор перережет веревку, вскочит на лошадь — и поминай как звали. У нас лошади породистые, очень ценные, и мы бережем их.
— А почему они покрыты ковриками? Ведь сейчас не холодно.
— Чтобы их не кусали мухи.
По берегу за нашей лодкой бежали собаки. Каждые десять-пятнадцать ярдов они останавливались и, скаля зубы, захлебывались неистовым лаем. На границе своей территории очередная группа собак передавала эстафету другой.
Дети молча смотрели на нас, из домов выглядывали женщины. Ни одна из них не носила покрывало. Мужчин почти не было видно. Мы причалили у большого дома. Один из людей Фалиха крикнул:
— Заир Махайсин!
Из дома вышел пожилой человек, на ходу повязывая куфию.
— Добро пожаловать! Добро пожаловать, йа мухафаз! Входите, входите!
Фалих отказался, хотя человек этот уговаривал нас выпить кофе. Фалих спросил:
— Ты послал лодки с людьми на озеро?
— Да, мухафаз, они все уже там и ждут вас у устья протока.
— В тростниках есть кабаны?
— Есть, но они далеко разбрелись. Вода стоит довольно низко, и они не скапливаются на тростниковых островках.
— Ну, давай садись.
Заир Махайсин ловко забрался в лодку и уселся на настиле. Пассажиры всегда садятся на дно лодки, причем наиболее почетным считается место, ближайшее к корме, напротив кормовой банки. Когда лодка идет на веслах, двое гребцов садятся на корме, на приподнятой палубе, друг за другом, третий садится на передней банке — неудобном узком брусе, а четвертый становится на колени на носу. Я спросил Фалиха:
— Эти люди — маданы?
Фалих и заир Махайсин с улыбкой переглянулись. Фалих ответил:
— Нет, они обычные феллахи — земледельцы. Маданы живут на озерах. Ты увидишь их позже, когда попадешь в Эль-Кубаб.
Еще на подходе к деревне поля пшеницы и ячменя кончились. Проток, по которому шла лодка, был мелководный, и гребцы с трудом продвигали тарраду вперед. Если выпрямить спину, сидя на дне лодки, можно увидеть то, что располагается по обеим сторонам высокого берега. С обеих сторон па протяжении 200 ярдов, поблескивая на солнце, тянулся поросший сорняками липкий ил, а за ним — тростниковые заросли. На этом фоне выделялась стая больших белых цапель. Две египетские цапли, меланхолично сутулясь, стояли на краю канавы. Несколько пестрых ворон шумно ссорились из-за каких-то отбросов. Фалих сказал:
— Вот здесь жители озерного края сажают рис. Скоро они начнут расчищать поля.
Я увидел впереди нас множество людей и лодок. Мы приблизились к ним, вышли из лодки и осторожно встали на осыпающейся дамбе. Несколько стариков, одетых лучше других, пробрались по илу и воде к нам, чтобы приветствовать Фалиха и поцеловать ему руку. Остальные, в большинстве своем мальчики, сидели или стояли в своих лодках неподалеку, где вода была глубже. На некоторых были грубые черные или коричневые плащи, перехваченные на талии; кроме плащей, на них не было ничего. Прочие были в длинных арабских рубахах, подвернутых до бедер. У большинства голова была обмотана кусками ткани, многие имели кинжалы. Несколько мальчиков были вооружены палками с налепленными на них для веса кусками битума. Увидев, что я с интересом рассматриваю эти палки, один из мальчиков с приветливой улыбкой протянул мне свою. В целом это были люди среднего роста с крепким телосложением, со светлой, но обветренной кожей, с открытыми лицами; глаза у них поставлены широко, носы довольно плоские.
Их обмазанные битумом лодки в большинстве своем были невелики. Общее название всех лодок — масхуф, хотя лодка каждого вида и размера имеет свое имя. Несколько лодок, сидящих низко в воде, — матаур — были рассчитаны на одного человека и обычно использовались при охоте на водоплавающую дичь. Другие, чуть больше размером, вмещали двоих, а некоторые были той же величины, что и лодка, на которой я прибыл из Маджар-эль-Кабира. Многие вместо шеста пользовались острогой, перевернув ее вниз рукоятью. Эти остроги представляли собой внушительное оружие: бамбуковый ствол длиной до двенадцати футов с пятизубым наконечником, похожим на огромную вилку для подсушивания ломтиков хлеба, притом с зазубринами на каждом острие.
Перед отправлением Фалих предложил мне взять с собой мое охотничье ружье, так как при таком скоплении народа пользоваться винтовкой было бы опасно. Теперь я с радостью убедился, что винтовки имелись только у четырех гребцов Фалиха, хотя вообще-то у жителей деревень было множество огнестрельного оружия. Во время первой мировой войны местные жители подобрали на полях сражений большое количество британских и турецких винтовок, и с той поры их никто не разоружил.
Боеприпасы для винтовок системы Ли-Энфильда все еще можно было достать, так как они состояли на вооружении армии и полиции Ирака. Боеприпасы же для турецких винтовок практически отсутствовали. В некоторых деревнях были умельцы, которые ухитрялись перезаряжать стреляные гильзы, используя самодельный порох и пули, но стенки этих гильз истончались, и патроны сами по себе представляли опасность.
Во время второй мировой войны на территории Ирака было сравнительно мало боевых действий, и у племен было немного возможностей раздобыть оружие. Однако в Иране, перед вступлением в него британских войск, армия и полиция в массе своей распались, и каждый солдат или полицейский, уходя домой, прихватывал с собой винтовку. К тому же племена грабили арсеналы различных гарнизонов. Позднее, опасаясь сурового наказания за хранение оружия, иранцы тайно переправили большую часть оружия в Ирак. Тогда в Ираке винтовку можно было купить всего-навсего за пять динаров, что соответствовало пяти фунтам стерлингов. Мне говорили, что теперь за нее можно выручить сто динаров.
Фалих некоторое время выслушивал какую-то запутанную жалобу, связанную с разделом рисового поля. Наконец он сказал:
— Довольно! Приходи завтра в мой мадьяф пораньше, часа через два после восхода, и скажи Хасану, чтобы он тоже пришел.
Потом он спросил:
— Азайм здесь? Позовите его.
Низенький человек, слегка прихрамывая, вылез из стоявшей вдалеке лодки и зашлепал по воде. Подойдя к нам, он с некоторым подобострастием пытался поцеловать Фалиху руку.
— Ты отдал Джасиму десять динаров, как я тебе велел?
— Я собирался сделать это завтра, мухафаз.
— Я велел тебе сделать это десять дней назад.
— Я был болен! Я целых два дня…
— Вчера, я слышал, ты был в Маджаре.
— Я поехал туда, чтобы показаться врачу и купить лекарства.
— Но ты так и не добрался до врача, ты провел весь день на свадьбе Нисайфа.
— Клянусь Аллахом, я был у доктора. Я…
— Собака, собачий сын! Я сказал тебе, что, если ты не вернешь Джасиму деньги сразу же, я накажу тебя. Ты обманщик и лжец! Ясин, отведи его к Хазалю и скажи, чтобы он посторожил его до моего возвращения. Пусть свяжет его. Возьми его! Пошел! Я научу тейя, черный пес, исполнять мои приказания.
Когда к нему обратился еще кто-то с новой жалобой, Фалих сказал:
— Хватит. Покажите-ка нам, где кабаны. Я хочу посмотреть, как стреляет англичанин.
Обратившись ко мне, он сказал:
— Отправляйся в этом масхуфе. Двигайся в нем поосторожнее. Этот человек пойдет с тобой гребцом.
Я забрался в маленькую лодку, которую мне подвели. Фалих и его сын сели в другую, и мы в сопровождении остальных отправились к зарослям тростника. Когда вода стала глубже, гребцы положили шесты и остроги, которыми они отталкивались от дна, уселись в лодки и начали грести короткими, резкими гребками. Если в лодке было двое или больше гребцов, они погружали весла в воду одновременно с одной стороны лодки.
Дымка, стоявшая вчера весь день, исчезла, засветило нежной голубизной небо с редкими полупрозрачными струйками перистых облаков. Весла оставляли цепочку маленьких водоворотов, и сверкающие капли срывались с них, падая в чистую воду, которая казалась очень холодной. Мы вышли из мутного «языка», вытекающего из устья протока, который остался позади, миновав заросли сероватого поломанного камыша, растущего на мелководье. Теперь нас окружал касаб (Phragmites communis), который покрывает большинство постоянно заболоченных участков. Этот гигантский тростник, похожий на бамбук, растет густыми зарослями высотой в двадцать пять футов и выше. Стволы тростника, заканчивающиеся бледно-желтыми метелками, такие толстые, что озерные арабы используют их в качестве лодочных шестов. В это время года бледно-золотистые и серебристые заросли тростника, окаймляющие узкие протоки, выглядели светлыми и воздушными. Они сохранились с прошлого года. Лишь внизу ярко зеленели молодые побеги всего в несколько футов высотой. Небольшие группы лысух спешили укрыться при нашем приближении в зарослях; малые бакланы и змеешейки, сушившие на солнце крылья, сидя на побелевших от помета тростниковых пеньках, испуганно срывались с места и ныряли в воду или устремлялись прочь, летя низко над водой; цапли, гремя сухими стеблями тростника, поднимались в воздух и улетали, хлопая крыльями и покачивая длинными ногами.
Лодки, которых набралось к этому времени не меньше сорока, натыкались друг на друга в узких протоках, а на более широких участках они расходились, и тогда гребцы со смехом и криками старались обойти друг друга.
Скоро я уже не мог определить, углубляемся ли мы в озерный край или идем параллельно берегу. Тростник плотно смыкался вокруг нас, а протоки становились все уже и извилистее. Неожиданно мы вышли из зарослей в небольшую укромную заводь. Дикая утка поднялась с кряканьем и улетела, развернувшись высоко над нашими головами. Множество маленьких островков, некоторые всего несколько ярдов в поперечнике, другие площадью в акр или больше, перекрывали дальний конец заводи. Жители озер называют такие островки тухуль. Некоторые островки были неподвижны, другие свободно перемещались по заводи. Все они были покрыты густорастущим касабом высотой всего в восемь-десять футов, порослью мощной осоки с острыми как бритва листьями, ежевикой, небольшими кустами ивняка и разного рода стелющимися растениями. Под этой растительностью расстилался ковер мяты, осота, кипрея и других трав.
Твердая на вид почва была на самом деле чрезвычайно сырой. Это был слой корней и перегноя, плавающий на поверхности воды. Несколько лет спустя я подстрелил крупного кабана, пасшегося на таком островке; незадолго до этого растительность на нем была выжжена. Кабан стоял на островке, как на твердой земле, но, когда мы проходили мимо этого же места часом позже, туша животного исчезла.
— Наверное, я не убил его. Он пришел в себя и убежал.
— Нет-нет, — ответил мой спутник. — Кабан был мертв. Просто туша затонула.
У одного из островков лодка Фалиха подошла к моей.
— Здесь! — сказал он и крикнул своим людям:
— Высаживайтесь и посмотрите, есть ли тут живность.
Несколько человек высадились на берег, держа остроги перед собой. На этом островке животных не оказалось, и они попытали счастья на другом, а потом на третьем. Я засмотрелся на пару певчих птиц, прыгавших в тростнике. Вдруг раздался громкий треск, а затем крики:
— Вот он! Быстрее! Берегись! Вот это да! Их целых четыре!
Раздался всплеск, и все затихло.
— Куда они ушли? — спросил другой голос.
— Они бросились в воду. Один выскочил прямо у меня из-под ног, слово даю! Величиной с осла, клянусь Аллахом!
Кто-то другой громко сказал:
— Я метнул острогу и чуть не попал! Самка с тремя поросятами!
Тут опять раздались крики:
— Они забрались сюда! Быстрее окружай их, отрезай от воды!
Мы были зажаты в узком проходе между двумя островками, но мой гребец стал поспешно табанить на открытую воду, где к нам присоединились еще несколько лодок. Охота переместилась на другой островок, и, по мере того как мы, торопясь, подходили к нему, возбуждение там все нарастало. Вдруг раздался короткий пронзительный визг, затем смех. Кто-то крикнул:
— Я попал! Это один из маленьких. Он был в воде. Я утоплю его.
Мимо прошла лодка Фалиха. Он сиял плащ и греб сам.
— Куда ушла самка, Манати? — спросил он энергичного старика, который руководил охотой.
— По-моему, туда, на большой остров, мухафаз… Да, вот ее следы. Живее, давайте выгоним ее!
Манати исчез из виду, нырнув в тростниковые заросли, за ним последовали еще двое. Было слышно, как они продираются сквозь заросли. Один из них крикнул:
— Здесь она не проходила.
Немного погодя прозвучал голос Манати:
— Вот следы!
Однако ничего не произошло, и я решил, что они, должно быть, потеряли след. Но тут с дальнего конца островка послышался громкий треск. Раздался крик:
— Она убьет меня! Убьет!
Кто-то воскликнул:
— Самка напала на Манати. Живей, ребята! Быстро! Где же наши бойцы?
Многие откликнулись на его зов и бросились в заросли.
Фалих, я и несколько других изо всех сил гребли к дальнему концу островка. Там мы увидели Манати: его укладывали в одну из больших лодок. От его окровавленной рубахи осталась половина. Он лежал с закрытыми глазами, с правой стороны ниже поясницы зияла рана, в которую можно было бы вложить кулак. Фалих склонился над ним и спросил с беспокойством:
— Как ты, Манати?
Старик открыл глаза и прошептал:
— Со мной все в порядке, мухафаз.
Фалих приказал немедленно возвращаться назад к устью Хирра, до которого, к счастью, было недалеко. Когда мы гребли назад, один мальчик сказал:
— Манати искусала самка. Кабан исполосовал бы его клыками и убил бы.
Кто-то добавил:
— Хорошо, что ему удалось упасть на живот. Года два тому назад в месте расположения племени аль бубахит я видел человека, убитого кабаном. Кабан его наполовину выпотрошил.
Еще кто-то добавил:
— Кабан, который убил молодого сейида в прошлом году на пшеничном поле, разорвал его на куски. Сейид был один, без оружия и, должно быть, случайно наткнулся на кабана. Пшеница росла высоко, мы как раз собирались начать жатву. Он ползком двигался к деревне, но умер, так и не выбравшись из пшеницы.
Мальчик спросил:
— А помните, как Хашим прокатился верхом на кабане?
— Да, клянусь Аллахом! — ответил мой гребец. — Они с братом осматривали посевы ячменя и увидели кабана — старого, с седой шерстью. Брат Хашима хотел застрелить его. Он как раз купил винтовку у кого-то из племени ферайгатов. Хашим пытался остановить брата, но тот выстрелил и ранил кабана в брюхо.
— Да, — вставил другой мужчина, — он очень плохой стрелок.
Мой гребец продолжал:
— Кабан пошел в атаку, сбил его с ног и исполосовал ему руку. Хашим бросился на кабана сзади и ударил его кинжалом в бок. Когда кабан повернулся к нему, Хашим бросил кинжал и вскочил ему на спину. Кабан побежал, а Хашим — на нем верхом. Он за уши держался. Кабан довез его до сада сейида Али и свалился, пытаясь перепрыгнуть через большую канаву. Хашим сказал, что он больше никогда не хочет ездить верхом на кабане!
Слушатели рассмеялись.
— Кабаны — наши враги, — сказал один старик. — Они пожирают наш урожай и убивают нас. Аллах да уничтожит их! Посмотрите на Манати — от него уже не будет прока. Эта свинья, можно сказать, прикончила его.
Мы подошли к устью протока. Таррада Фалиха и группа людей поджидали нас в том месте, где насыпь была повыше и пошире. Мы причалили и вытащили на берег лодку, в которой был Манати. Он лежал на боку, кто-то поддерживал ему голову и плечи. Было похоже, что он потерял не очень много крови — вода на дне лодки была розоватой, но рана являла собой страшное зрелище, были видны разорванные мышцы. Манати слегка повернулся, чтобы взглянуть на свою рану, но ничего не сказал.
В моих ящиках, оставшихся в деревне Фалиха, было большое количество медикаментов. У меня нет профессиональной медицинской подготовки, но после двадцати лет странствий по диким местам, где все считали, что я, конечно же, буду излечивать болезни и раны, я приобрел некоторый опыт в медицине. Кроме того, я никогда не упускал возможность обходить палаты больниц и наблюдать за операциями и таким путем накопил некоторые познания в хирургии. Впрочем, мне предстояло приобрести еще больший опыт за годы пребывания в озерном крае.
Теперь же я сказал Фалиху:
— Нужно как можно быстрей доставить его в твой мадьяф, где я смогу дать ему морфий и попытаюсь обработать рану. Больше я, пожалуй, ничем не могу ему помочь. Его надо отправить в больницу в Амару.
— Не посылайте меня в больницу, — просил Манати. — Только не в больницу! Оставьте меня в родной деревне. Попросите англичанина, чтобы он полечил меня.
— В любом случае надо доставить его в твою деревню, — сказал я Фалиху. Но он стал убеждать меня, что еда уже готова и надо сначала подкрепиться.
Я уже начал сердиться, но Манати сказал мне с улыбкой:
— Поешьте, сахеб,[6] поешьте; со мной все в порядке. Да ведь и я голоден. Я тоже хочу немного поесть перед тем, как отправиться дальше.
Я сдался и прошел туда, где на тростниковой циновке была расставлена еда. Было подано большое блюдо с рисом и кусками баранины, жареные куры и тушеные овощи. Но мне было не до еды, и я быстро поднялся, надеясь, что теперь мы отправимся в путь, но остальные по очереди принимались за еду, пока все не насытились; потом стали пить кофе и чай. Не в состоянии более скрывать свое раздражение и нетерпение, я подошел к Манати. Он держал в руках баранью кость, но я не был уверен, что он на самом деле хоть что-нибудь съел. Выглядел он ужасно.
В деревне Фалиха Манати снова умолял не отправлять его в больницу, но Фалих в конце концов убедил его в том, что это необходимо. Оказалось, что животное изрядно порвало ему ягодицу. Я ввел ему морфий, промыл рану и обработал ее сульфамидным препаратом. Затем мы постарались как можно удобнее устроить Манати в лодке и отправили его в Маджар-эль-Кабир, через который лежал путь в Амару.
Мы встретились с Манати годом позже, когда я остановился позавтракать в его деревне. Я с ужасом увидел, что он стал калекой и не мог двигаться, не опираясь о шест. Я спросил, сколько времени он пробыл в больнице, и он ответил:
— Когда я туда добрался, они не приняли меня, пришлось вернуться назад. Благодарение Аллаху, твои лекарства вылечили меня. Ничего другого я не получил.
Впрочем, я подозреваю, что он никогда не был даже рядом с больницей: он просто вернулся из мадьяфа в свою деревню.
4. Прибытие в Эль-Кубаб
На следующее утро Фалих отправил меня в Эль-Кубаб в лодке с тремя гребцами.
— Они отвезут тебя к Саддаму. Когда тебе надоест жить среди маданов, возвращайся сюда. Помни, что этот дом — твой. Ступай с миром.
Мы поплыли вниз по главному рукаву и прошли мимо еще одного большого мадьяфа, который, как сказал мне гребец, принадлежал сейиду Сарвату. Вскоре я узнал, что он был наиболее почитаемым из местных сейидов, что его имя известно во всем Южном Ираке, вследствие чего его мадьяф почитается почти как мечеть. Сегодня любой горожанин Ирака с претензией на знатность называет себя сейид, подобно тому как во времена владычества Турции он называл бы себя эффенди. В этом смысле сейид означает просто «господин» и не имеет религиозного значения. Однако для членов племен слово сейид все еще было почитаемым наименованием, означающим «потомок пророка».
Ниже мадьяфа сейида Сарвата по берегу тянулись дома маленькой деревни. Буйволы — угрюмые, черные, с массивным туловищем и лохматой шерстью — стояли у берега или отдыхали в воде, выставив ноздри и верхнюю часть головы с толстыми изогнутыми рогами. Лодки различных размеров были причалены к берегу; на берегу лежали полуистлевшие остатки других лодок. Какой-то человек, стоя у входа в дом, молча наблюдал за нами.
— Приветствуй его, сахеб, — сказал мне один из гребцов.
— Салям алейкум! — воскликнул я. Он отозвался:
— Алейкум ас-салям! Остановитесь и поешьте.
— Мы сыты, храни тебя Аллах.
— Это хорошо! — сказал араб, сидевший позади меня. — Ты должен привыкать к нашим порядкам. Понимаешь, у нас так принято — человек в лодке должен приветствовать того, кто на берегу, а если встречаются две лодки, то первым здоровается тот, кто спускается вниз по течению.
Ниже деревни вдоль берегов росли ивы с еще голыми ветвями, лишь кое-где расцвеченными зеленью раскрывающихся почек; нижние ветви деревьев купались в мутной воде, колеблемые течением. За ними были заросли дикорастущих пальм, а на одном из расчищенных мест стояли тростниковые дома. Здесь река снова раздваивалась, и мы свернули в первый, более узкий рукав. Поля пшеницы и ячменя, еще одна деревня, низины, покрытые илом, и затем окраина озер с зарослями камыша — словом, вчерашний пейзаж.
Мы шли узким протоком, извивающимся среди тростников, и сразу же повстречали много возвращающихся домой лодок, тяжело нагруженных грудами мокрых побегов касаба. Сами лодки были едва видны из-под них. Их вели полуобнаженные мужчины и мальчики, иногда по двое в одной лодке, но чаще по одному.
— Это хашиш — корм для буйволов, — пояснил гребец, добровольно взявший на себя роль гида. Его звали Джахайш (ослик), причем это было не прозвище, а имя. Многие из жителей этих мест носили самые невероятные имена, имя Джахайш было отнюдь не самым странным. Впоследствии я встречал мужчин и мальчиков с такими именами, как Чилайб (маленькая собака), Бакур (свинья) и Ханзир (поросенок); подобные имена необычны у мусульман, которые считают собак и свиней нечистыми животными. Были и такие имена: Джарайзи (маленькая крыса), Вави (шакал), Дауба (гиена), Каусадж (акула), Африт (джинн). Эти непривлекательные имена часто давали мальчикам, чьи братья умерли в детстве, чтобы отвести дурной глаз.
Мы прошли мимо того места, где жители собирали хашиш. Это арабское слово, означающее «трава», используется здесь для обозначения молодых побегов тростника, которые идут на корм скоту. Обнаженный мальчик, стоя на носу лодки, срезал зеленые побеги серпом с зазубринами и складывал мокрые стебли в лодку. Время от времени он продвигал лодку вперед на шаг-другой, цепляясь за крупные стебли. За стеной тростника раздавались голоса и смех. Чистый голос мальчика без малейшей фальши пел веселую песенку. Мои гребцы остановились послушать.
— Это Хасан, — со знанием дела сказал один из них. Песня кончилась; кто-то крикнул:
— Спой еще!
Подобные сценки стали для меня привычными в последующие семь лет. Иногда они случались зимой, когда вода становилась ледяной, а пронизывающий ветер со снежных вершин Курдистана проносился над озерами; иногда случались летом, когда воздух был насыщен влагой и на дне туннелей, между стен высокого темного тростника, было невыносимо жарко, а над головами плясали тучи комаров. Я редко наблюдал эти сценки весной и осенью: слишком коротки весна и осень в этих краях. Но, будь то зимой или летом, звуки смеха и песен связаны для меня с зарослями тростника, где трудились озерные арабы, заготовляя корм для своих ненасытных буйволов.
— У этого мальчика прекрасный голос, — сказал Джахайш, когда гребцы снова взялись за весла.
— Да, голос у него еще лучше, чем у Чилайба из Эль-Кубаба.
— Голос действительно лучше, но он не умеет танцевать. Видели вы мальчика на свадьбе Абд ан-Наби? Просто сердце радовалось, когда он танцевал.
Больше мы лодок не встречали. Медленно, почти со скоростью течения, продвигались мы вдоль тихих протоков среди золотистого тростника. Когда мы умолкали, ни один звук не нарушал тишины, кроме плеска весел и шелеста воды, рассекаемой носом лодки. Постепенно проток стал шире, и лодка оказалась на краю небольшого озера, примерно три четверти мили шириной. Вода на солнце отсвечивала ярко-голубым. Джахайш сказал:
— Пойдем прямо через озеро. Ветра нет.
На озере отдыхала большая стая лысух, а дальше на воде было множество уток, но издали нельзя было понять каких. Я поднял ружье, однако утки взлетели, как только мы вышли из-под прикрытия тростников.
— Утки сейчас очень пугливы, — сказал Джахайш. — Надо было тебе приехать осенью, когда они только прилетают. Тогда ты смог бы настрелять их сколько угодно. Фалих этой зимой добыл много уток.
Заросли тростника по ту сторону озера походили на невысокие скалы из песчаника вдоль сильно изрезанной береговой линии, а заросли, протянувшиеся за ними, напомнили мне поля спелой пшеницы. Добравшись до дальнего берега, мы опять вошли в тростники. Нам встретились две большие лодки, нагруженные сухим тростником, который так сильно выступал за борта лодок, что мы едва смогли протиснуться. Обе лодки были очень вместительные, длиной около тридцати футов, с высокими бортами и украшенными резьбой носом и кормой. В каждой было по три человека, которые медленно продвигали лодку вперед, упираясь шестами в дно и шаг за шагом проходя по планширу от носа до кормы. Дойдя до кормы, гребцы возвращались на нос, и все повторялось снова.
— Саддам в Эль-Кубабе? — крикнул Джахайш.
— Да, он позавчера вернулся от Халафа.
Халаф был младшим братом Фалиха.
— Куда направляетесь?
— К Саддаму. Мы от Фалиха, везем англичанина.
— А где Фалих?
— Дома.
— А Маджид?
— Все еще в Багдаде.
— Мы называем эти лодки балям, — сказал Джахайш. — Они идут из Эль-Кубаба с тростником для нового мадьяфа Маджида.
Скоро мы стали обгонять нагруженные хашишем лодки, возвращающиеся в Эль-Кубаб. Среди касаба стал попадаться камыш, проток стал явно мельче. Вот он расширился, мы обогнули камышовый мыс, и нашему взору предстала деревня. Дома отражались в сверкающей на солнце воде, подернутой рябью. Легкая пелена белого дыма таяла в бледно-голубом небе над домами, а за ними стеной стоял желтый камыш. По заводи было разбросано шестьдесят семь домов, некоторые из них разделяло всего несколько шагов. Издали казалось, что дома поднимаются прямо из воды, но на самом деле каждый стоял на пропитанной водой груде стеблей камыша, напоминающей гигантское лебединое гнездо; на ней как раз помещался дом, и перед ним еще оставалось немного места. У ближайшего дома стояли два буйвола, с их черной шерсти стекала вода; неподалеку, погрузившись в воду, лежало еще несколько буйволов. Все дома, как и на суше, были из циновок, привязанных к каркасу из тростниковых арок. Одна сторона у каждого дома была открытая, и мы, проплывая мимо, могли заглянуть внутрь. Некоторые жилища были довольно большими, другие напоминали шалаши и вряд ли могли быть названы домами. Те, что поновее, были цвета свежей соломы, остальные — тускло-серые.
Повсюду люди высаживались из лодок или садились в них, чтобы попасть с одного искусственного островка на другой. Мужчины и мальчики вытаскивали на берег охапки хашиша и складывали их перед домами. Мы приветствовали их, и они отвечали:
— Добро пожаловать, добро пожаловать! Остановитесь и поешьте.
Я обратил внимание на мальчика четырех-пяти лет, который сел в лодку, взял шест, оттолкнулся от берега и пошел к зарослям тростника. Молодая женщина с ребенком на руках окликнула его, когда он проходил мимо. У нее было прелестное лицо с нежным овалом подбородка. Одета она была в черное платье и плащ из грубой черной ткани, наброшенный на голову. Перед другим домом две девочки в длинных платьях из узорчатой ткани, одно в красных тонах, другое в зеленых, толкли зерно в деревянной ступе длинными тяжелыми пестиками. Они ударяли по очереди, наклоняясь вперед; каждый удар сопровождался громким ритмичным выдохом.
Мадьяф Саддама находился на дальнем конце деревни, у тростников, немного в стороне от других домов. Это был самый большой дом в Эль-Кубабе. Он один стоял на суше — на островке черной земли с крутыми берегами, выступавшими из воды на пять-шесть футов. На островке, видимо, когда-то было поселение, так как у воды виднелась кирпичная кладка. Здесь размещался еще один дом, поменьше размером, в котором жил Саддам с семьей. Когда мы приблизились, он вышел из дома и велел мальчику поскорее принести ковры.
— Добро пожаловать, добро пожаловать!
Саддам помог мне выйти на берег. Это был высокий худощавый человек с чисто выбритым, если не считать усов, лицом, кое-где отмеченным оспинами. На нем была белая рубаха и коричневый плащ, куфия и игаль. Его сопровождал сын Ауда, спокойный, уравновешенный мальчик лет десяти.
Я сбросил обувь у входа и вошел внутрь. Мадьяф, единственный в Эль-Кубабе, был построен довольно коряво. Он имел семь арок и открывался на южную сторону. С высокого берега, на котором стоял мадьяф, открывался вид на всю деревню. Пол покрывали истрепанные циновки. На тростниковом стебле, воткнутом в стену, висела лампа «молния» с закопченным стеклом.
— Где же этот мальчишка, будь он проклят! — нетерпеливо воскликнул Саддам.
Наконец появился молодой парень с глуповатым лицом, нагруженный двумя большими коврами и несколькими подушками.
— А ну-ка, живее! Разве ты не видишь, что у нас гости? Дай эти ковры мне, а сам принеси другой ковер, хороший.
Юноша вернулся с небольшим молитвенным ковриком прекрасной выделки. Саддам расстелил его у дальней стены, положил рядом с ним подушку-валик, обтянутую красным шелком, и предложил мне сесть. Я слышал, как он тихонько шепнул слуге:
— Скажи, чтобы приготовили завтрак, а потом пойди к лавочнику и узнай, есть ли у него рыба. Рыбу возьми только хорошую. Принеси шесть пачек сигарет и еще сахара и чая. Возьми маленькую лодку.
Вошел рослый, грузный человек. У него были неопределенные черты лица. Вероятно, смолоду он был красив, но теперь лицо его было женоподобным и вялым. Его сопровождал пятнадцатилетний сын. Он поздоровался с нами и сел.
— Ну-ка, Аджрам, помоги, — сказал Саддам мальчику-подростку, у которого было живое, веселое лицо. — Вскипяти воду для кофе. Вода в большом горшке. Разожги огонь, касаб вон в том углу. Вот спички.
Когда вернулся слуга, Саддам положил на ковер передо мной и моими спутниками по пачке сигарет, потом открыл другие пачки и дал всем, кто был в доме, по сигарете.
Пока нам подавали кофе, пришли несколько человек, потом появились еще люди, и в помещение набилось двадцать-тридцать человек, похожих по внешнему облику па жителей деревни, которые со мной и Фалихом охотились на кабанов. Меня поразили их широкие лица; у нескольких человек, особенно у одного высокого молодого парня, были монголоидные черты. Все взрослые мужчины носили усы, у нескольких стариков были седые бородки; волосы у всех были острижены. На них были обычные куфии и рубахи, у большинства поверх рубахи был накинут плащ из грубой ткани.
Саддам вышел и вернулся вместе с Аудой, Аджрамом и слугой, неся две миски с супом, двух вареных кур и большой круглый поднос, на котором горой лежал клейкий рис. Он поставил блюда на круглую циновку, расстеленную передо мной. Аджрам и слуга снова вышли и принесли жареную рыбину длиной в два фута и полдюжины толстых круглых лепешек из пресного темного теста, кое-где подгоревших, с приставшей золой. Как принято, Джахайш пригласил Саддама присоединиться к нам, но тот отказался, приговаривая:
— Кушайте, кушайте.
Он полил рис супом и руками разломал кур на части, складывая куски перед нами. Бедуины, перед тем как отправить рис в рот, скатывают его в ладонях в крепкий шарик, но местные жители брали рис кончиками пальцев. Я обратил внимание, что они едят рис с курицей, а хлеб с рыбой. Поев, каждый вставал, мыл руки и прополаскивал рот.
Когда мы кончили есть, Саддам пригласил к трапезе остальных, но они один за другим отказывались, говоря, что уже поели.
— Что за чепуха! Поешьте, — настаивал Саддам.
— Нет. Ни за что! Нет, нет, — отвечали они с явным негодованием.
В конце концов Саддам взял одного из них за руку, как будто намереваясь силой привести его к столу, после чего тот встал, подошел к еде и стал есть. Поспорив еще немного, часть мужчин присоединилась к нему, но несколько человек отказались наотрез, повторяя:
— Нет, Саддам, я в самом деле сыт. Клянусь молоком твоей матери, я поел.
Эта любопытная клятва, видимо, принята только у племени аль бу-мухаммед. Из тех, кто в конце концов принялся за еду, вряд ли хоть один сначала не уверял, что он ни за что не будет есть. И еще я заметил, что они немедленно выгнали забежавшую в мадьяф собаку, но терпели рядом с собой кошку и даже бросали ей объедки.
После того как мы снова пили чай и кофе, три моих гребца встали, и Джахайш сказал:
— Да хранит тебя Аллах, Саддам.
— Как, вы уходите? Что за ерунда! Оставайтесь ночевать, — воскликнул Саддам.
— Нет, у нас много работы, мы должны вернуться.
— Прошу вас, останьтесь.
— Нет, правда, нам надо идти.
Они повторили:
— Да хранит тебя Аллах.
Саддам сказал:
— Ну хорошо, идите с миром.
Я добавил:
— Привет от меня Фалиху.
— Да принесет Аллах тебе мир, — ответили они, взяли весла и шесты, сложенные в углу комнаты, вышли из дома и сели в лодку.
Мужчины стали расходиться. Один из стариков подошел к Саддаму и сказал:
— Приведи англичанина после обеда ко мне в дом выпить чаю.
Я заметил, что, принимая приглашение, Саддам назвал старика «заир». Это религиозный титул, используемый шиитами — последователями Али, двоюродного брата и зятя пророка Мухаммеда. Шииты считают Али первым законным наследником Мухаммеда, в то время как сунниты утверждают, что преемником пророка был Абу Бакр, первый халиф.
5. Первое впечатление о маданах
Мухаммед впервые сумел объединить враждующие племена Аравии. За десять лет, прошедших после его смерти в 632 г. н. э., еще недавно погрязшие в нищете, разобщенные племена вырвались из пустыни, разбили наголову противостоящие им хорошо обученные и организованные войска и отвоевали у Византии Сирию и Египет, а у Ирана — территорию современного Ирака. Менее чем за сто лет их государство разрослось от Пиренейских гор до границ Китая и заняло территорию, превышающую владения Рима в дни его славы. Успех арабов особенно примечателен, если учесть, что созданное ими государство с самого начала раздиралось борьбой за власть и междоусобицами.
Волнения начались в 644 году, когда был убит Омар, преемник первого халифа — Абу’Бакра. Осман, второй халиф, человек слабохарактерный, но представлявший могущественные семейства Мекки, был убит в 656 году. Ему наследовал Али. Разразилась гражданская война. Племянник Османа, Муавия, наместник Сирии, присоединился к мятежникам. Военные действия чередовались с малорезультативными переговорами. Наконец в 661 году Али сам был убит в своей новой столице, Эль-Куфе, в Южном Ираке. Его тело было погребено в пустыне.
Муавия, могущественный наместник Сирии, стал халифом и основал знаменитый Омейядский халифат в Дамаске. Когда Муавия умер, жители Эль-Куфы решили поднять восстание. Они послали гонцов к Хусейну, второму сыну Али, умоляя его прийти в Ирак и возглавить восстание. Взамен они обещали ему полную поддержку. Хусейн согласился и отправился из Мекки через пустыню с небольшим отрядом, взяв с собою женщин и детей. Уже в пути он узнал, что заговор раскрыт и десять зачинщиков арестованы и казнены. Не поддавшись страху, Хусейн продолжал двигаться вперед и прибыл в Кербелу на Евфрате, где его встретили выстроившиеся вдоль реки четыре тысячи воинов, которых новый халиф, Иазид, послал, чтобы перехватить Хусейна. Не вызывает сомнения, что Иазид не отдавал приказа убить Хусейна и не желал его смерти. Хусейн мог, не подвергая себя опасности, повернуть назад или сдаться. Но он предпочел дать бой, круто изменив тем самым ход истории ислама.
Никто из тех, на чью поддержку рассчитывал Хусейн, не пришел ему на помощь. На десятый день арабского месяца мухаррама в 680 году н. э. Хусейн и его соратники двинулись на врага… Отрубленная голова Хусейна была доставлена в Эль-Куфу и показана наместнику Йазида.
Шиизм первоначально возник как политическое движение среди арабов, ставящее своей целью поддержку притязаний Али и его потомков на Халифат. Но после мученической смерти Хусейна шиизм превратился в новое религиозное движение и вскоре особенно распространился в Ираке и Иране. Со временем шиизм вызвал раскол ислама. В то время как сунниты признавали Али четвертым в ряду халифов — преемников Мухаммеда, шииты не признавали трех первых халифов. Они верили в преемственность имамов,[7] которые следовали за пророком Мухаммедом. Большинство шиитов признавали двенадцать имамов, из которых Али, Хасан и Хусейн были первыми, а остальные являлись потомками Хусейна. Согласно учению шиитов, последним имамом был Мухаммед аль-Махди, который таинственно исчез и пришествия которого в должный срок в качестве махди (мессии) они ждали.
В пустыне вокруг могилы Али вырос священный город Эн-Наджаф. Правоверные воздвигли над могилой большую мечеть с золоченым куполом, в которую и сегодня не смеет войти ни один «неверный». Даже из таких дальних краев, как Индия, люди все еще привозят сюда тела усопших, чтобы упокоить их прах в этой священной земле. Для многих Али — чуть ли не божественная фигура, еще более значительная, чем сам пророк Мухаммед. К обычному мусульманскому символу веры «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник его» шиит добавляет: «и Али — наместник Аллаха». Тело Хусейна было погребено в Кербеле — там, где он пал. Вскоре туда потянулись паломники, вырос город, а затем и великолепная мечеть, в которой поместили останки мученика шиитов. И в Кербелу и в Эн-Наджаф стали стекаться паломники со всего мусульманского мира.
Когда я впервые приехал к озерным арабам, они относились к окружающему их край миру с большой подозрительностью. Из Эль-Кубаба они обычно ездили на рынок в Маджар, но мало кто из них бывал в Амаре, двадцатью милями дальше, и только один-два человека побывали в Басре или Багдаде. Однако все надеялись посетить Кербелу и Эн-Наджаф, и каждый мечтал о том, чтобы его тело после смерти отвезли в Эн-Наджаф и погребли там.
По дороге к дому заира Саддам предложил мне заглянуть в местную лавку. Мы сели в лодку Саддама, Аджрам взялся за весла, и мы направились к ближайшим домам. Два дома были построены на одном «островке», и над крышей большего из них развевался, как флаг, кусак белой ткани, привязанный к тростниковому стеблю.
— Мы всегда так отмечаем лавку, чтобы приезжий видел, где она, — сказал Саддам.
Две небольшие бурые коровы и три неказистые овцы кормились на груде зеленого тростника. Хозяин лавки сам вышел на берег, чтобы приветствовать нас и придержать лодку. Срезанные стебли тростника, на которых он стоял, погрузились под его ногами в воду на несколько дюймов.
Мы вышли на берег. Сын лавочника, чтобы унять, собаку, замахнулся на нее веслом. Две курицы, бродившие неподалеку, с перепуга взлетели на крышу. Дверь лавки была сделана из стенок упаковочных ящиков, на цепи висел амбарный замок. Когда мы вошли внутрь, лавочник выдвинул пустой ящик из-под чая и предложил мне сесть. Он велел сыну приготовить чай. В лавке было не так уж много товаров: два мешка, на одном из которых были следы муки, а на другом виднелась надпись «сахар», большой тюк с финиками, ящик дешевого индийского чая, бидон с керосином, пачки иракских сигарет и спички, несколько кусков мыла и пыльный игаль. Я вспомнил, что видел этого лавочника в мадьяфе Саддама; у него был воспален глаз, и он время от времени прикладывал к нему уголок своей куфии.
Через открытую дверь я заметил, не без некоторого опасения, как девочка наполняла водой чайник, зачерпывая ее прямо у борта нашей лодки. Однако, как оказалось, на вкус этот чай не отличался от любого другого. Пока мы ждали чая, я спросил Саддама, какими, качествами должен обладать человек, чтобы заслужить наименование заир. Саддам ответил, что для этого требуется совершить паломничество к святилищу восьмого имама — Резы, в городе Мешхеде, в провинции Хорасан на северо-востоке Ирана. Я как раз побывал в Мешхеде прошлой зимой, и мне удалось осмотреть мечеть и пройти по всему святилищу. Даже в 1950 году немусульманину было трудно попасть в эту мечеть. В ней же находится могила знаменитого халифа Харуна ар-Рашида. Вообще большинство пилигримов из Южного Ирака посещают Мешхед, а не Мекку, хотя расстояние до обоих городов примерно одинаковое. Во время пребывания в озерном крае я встречал много заиров, но помню только трех хаджжи.[8]
Хотя шииты считают Кербелу и Эн-Наджаф местами более святыми, чем Мешхед, в Южном Ираке паломничество к ним не дает права на какой-либо титул. Позже, когда я был в Центральном Афганистане среди хазара, я обнаружил, что каждый, кто побывал в Кербеле, носит звание кербелави, а паломничество в близлежащий город Мешхед не приносит паломнику какого-либо отличительного звания. Создается впечатление, что это зависит от дальности расстояния.
Дом заира стоял в группе домов, отделенных друг от друга канавами шириной в несколько футов, которые были заполнены грязной водой. Перед открытой стороной каждого дома располагался пропитанный водой двор, занимающий большую, чем дом, площадь. Почва во дворе — смесь перегнивших растений и навоза — поднималась над водой на несколько дюймов. Вокруг была тростниковая ограда высотой менее фута. На стенах дома на солнцепеке рядами сохли кизяки. Старуха в черном и две маленькие девочки в цветных платьях грелись на солнышке у входа. Мы причалили, переступили через низкую ограду и прошли в дом, пробираясь среди буйволов, которые совершенно не обращали на нас внимания, только головы отворачивали. Один теленок расположился в доме. Выводок цыплят путался у нас под ногами. Женщина, одетая в черное, как все пожилые женщины в деревне, сказала:
— Добро пожаловать, Саддам! — и взяла на руки совершенно голого ребенка, чтобы дать нам пройти.
Дом был образован семью арками и имел около шести ярдов в длину, два ярда в ширину и восемь футов в высоту. Позже я узнал, что все дома и мадьяфы традиционно строятся с нечетным числом арок. Помещение разделялось на две части низким, похожим на кровать сооружением из стеблей касаба, отходящим от левой стены. Оно было завалено мешками из козьей шерсти (в них хранилось зерно), множеством стеганых одеял, одеждой и тряпьем. Поверх всего этого лежали несколько лодочных шестов. Ближайшая ко входу половина дома принадлежала женщинам, здесь они готовили пищу.
Мы пробирались мимо деревянной ступы, висевшей на деревянной треноге маслобойки, сделанной из бурдюка, и круглого жернова с деревянной ручкой. Рядом с небольшим очагом было множество блюд, подносов и горшков. В дальнем конце дома заир творил послеполуденную молитву, расстелив в качестве молитвенного коврика свой плащ. Это была мужская половина дома, где обычно принимают гостей. Поверх тростниковых циновок были постелены два истрепанных ковра, лежали несколько туго набитых шерстяных подушек, расцвеченных ярким геометрическим узором. Саддам, словно он был хозяином, предложил мне сесть и чувствовать себя как дома. Наконец заир пробормотал последние слова молитвы, пригладил бороду, посмотрел направо и налево, встал на ноги, поднял с пола плащ и произнес:
— Добро пожаловать!
Это был внушительного вида старик, высокий, но сутулый, с морщинистым лицом аскета, длинным носом и белой бородой. Вся его одежда состояла из куфии и длинной белой рубахи из тонкой, почти прозрачной ткани. Взяв подушку, заир положил ее поверх другой, лежавшей рядом со мной, и сказал:
— Откинься на подушки, так тебе будет удобнее.
Затем он начал разжигать огонь в очаге. Когда огонь разгорелся, заир добавил в него кизяки, сложив их наподобие карточного домика. Комната наполнилась едким беловатым дымом, и у меня стали слезиться глаза. Саддам сказал:
— Вот этот кизяк еще сыроват, — и вынул его из очага, но дыма меньше не стало.
Заир собрал посуду для чаепития и сел у очага, чтобы вымыть стаканы, блюдца и ложки в эмалированном тазу. Чай хранился в бумажном кульке, сахар — в жестяной коробочке. Пока заир и Саддам рассуждали о тростнике, который они должны по приказу Фалиха собрать для постройки нового мадьяфа его отца, вернулся сын заира. Он выгрузил хашиш, часть его бросил буйволам на корм, а остальной сложил в доме. Сыну было около двадцати лет. Его непокрытая голова была коротко острижена «под горшок»; на нем не было никакой одежды, кроме плаща, обернутого вокруг талии. Поставив острогу в угол, юноша надел рубаху и присоединился к нам.
— Завтра я поеду в Бу Мугайфат и повидаю Сахайна, — сказал Саддам. — Он должен отправить из своей деревни еще две лодки с тростником.
— Да, верно, Саддам! До сих пор только мы заготовляли тростник, — воскликнул заир.
— Люди Сахайна от чего угодно отвертятся, — добавил его сын, — как и все ферайгаты. От них ничего, кроме неприятностей, не бывает.
Вечером, после возвращения в мадьяф Саддама, я стоял у края воды и наблюдал, как солнце садилось за зарослями тростника, простиравшимися, казалось, без конца и без края. Высоко над головой разметанные ветром перистые облака отливали всеми цветами — от черного как смоль до огненно-золотистого и цвета пожелтевшей слоновой кости — на фоне неба, где переливались алые, оранжевые, фиолетовые, розовато-лиловые и бледно-зеленые тона. Отовсюду, словно дыхание озерного края, доносилось кваканье лягушек — всеохватывающий ритмичный звук, настолько непрерывный, что его скоро перестаешь замечать. Именно этот звук, а не крик гусей зимой был голосом озерного края. Лаяла собака; то там, то сям раздавалось фырканье буйволов, удивительно похожее на верблюжье; мужской голос выкрикивал длинное и для меня неразборчивое сообщение; последовала пауза, потом кто-то ответил. По направлению к деревне по открытой воде все плыли и плыли буйволы, над водой виднелись только их головы, за каждым по воде тянулся след. Среди домов вздымались столбы густого дыма от костров, отгоняющего комаров от скота. Задержавшийся в зарослях тростника мальчик спешил в лодке вниз по протоку, по сверкающей золотистой дорожке, протянувшейся от заходящего солнца. Он тихо напевал, звуки медленно таяли в воздухе…
Саддам позвал меня, и я вошел внутрь дома.
6. В гостевом доме Саддама
Весь прошлый год я читал о маданах все, что мне удавалось найти. Материала было не так уж много. По-видимому, единственным более или менее полным описанием была книга Фуланайна (С. Э. Хеджкока) «Озерный араб хаджжи Риккан»[9] — вполне доброжелательное описание жизни обитателей озерного края к концу первой мировой войны. Кроме этой книги, мне не удалось найти ничего, за исключением случайных упоминаний о них, причем всегда нелестных, в различных отчетах о военных кампаниях в Месопотамии. Несомненно, маданы пользовались дурной славой как среди арабов, так и среди англичан. По-арабски это слово означает «обитатель равнины», и кочевники пустыни презрительно называли так все иракские приречные племена, в то время как земледельцы, живущие вдоль рек, пренебрежительно обозначали этим именем обитателей озерного края.
В течение тех лет, что англичане управляли Ираком, должностные лица были слишком заняты более неотложными проблемами, чем условия жизни маданов. Некоторые из них довольно далеко забирались в озерный край, но визиты эти обычно длились всего несколько дней. В последние годы многие европейцы из Басры и Багдада приезжали сюда на утиную охоту, но они останавливались у богатых шейхов, живших на пороге озер. Что касается иракских чиновников, то я уверен, что ни один из них не углублялся в озерный край дальше, чем это было абсолютно необходимо. Скорее всего, я был первым чужестранцем, который и хотел и имел возможность жить среди маданов как один из них.
Подобно многим англичанам моего поколения и круга, я испытывал инстинктивную симпатию к традиционному образу жизни других народов. Мое детство прошло в Эфиопии, где тогда еще не было ни дорог, ни автомобилей. После окончания Оксфорда я провел восемнадцать лет в отдаленных уголках Африки и Ближнего Востока. Благодаря этому я легко мог общаться с коренным населением и приспосабливаться к его обычаям, и я живо интересовался образом его жизни; наоборот, я чувствовал себя не в своей тарелке с теми, кто предавал забвению свои обычаи и пытался приобщиться к западной цивилизации. В Ираке, как и везде, такие перемены были неизбежны. Я знал, что другие люди, обладающие более широким кругозором, чем я, считали этот процесс заслуживающим интереса и верили в благотворность его результатов. И все же я предпочитал как можно реже сталкиваться с результатами этого процесса. Например, я обычно скучал, если мне случалось провести вечер с иракскими чиновниками, и считал такой вечер потерянным — за что, впрочем, я осуждал самого себя, поскольку мои хозяева вели себя по-дружески и были в высшей степени гостеприимны. Но они были глубоко озабочены политикой Ирака, политикой, о которой я мало что знал и которая меня совершенно не интересовала, а мой интерес к жизни племен казался им непостижимым и даже злонамеренным. Они могли часами беседовать об Организации Объединенных Наций, о том, как приятно провести отпуск в Париже, о различных моделях автомобилей или о развитии их страны, и ради соблюдения приличий я вынужден был произносить какие-то неискренние фразы. Их дома, комфортабельные по сравнению со многими жилищами, где мне приходилось ночевать, часто представляли собой бунгало, построенные на скорую руку и обставленные без малейшего вкуса. Полученное ими образование приучило их судить о цивилизации лишь по степени прогресса в материальной сфере, и они поэтому стыдились своего происхождения и старались забыть о нем. Утопией, о которой они мечтали, был Ирак, сплошь застроенный респектабельными пригородами.
Мои собственные вкусы, возможно, были близки к другой крайности. Я чувствовал отвращение к автомобилям, самолетам, радио и телевидению — короче, к большинству достижений нашей цивилизации за последние пятьдесят лет — и всегда был рад случаю, в Ираке или в любой другой стране, разделить задымленную хижину с пастухом, его семьей и их скотиной. В таком доме все было иным, необычным; внутренняя независимость этих людей вселяла в меня легкость и непринужденность; я с радостью ощущал неразрывность с прошлым человечества. Я завидовал их умению довольствоваться тем, что у них есть, столь редкому в современном мире, их мастерству и навыкам в занятиях (пусть даже не слишком сложных), какого я никогда не смог бы достичь.
Я много лет провел в путешествиях по неизведанным краям, но теперь таких краев уже нет — во всяком случае, в тех странах, которые меня привлекают. И поэтому мне захотелось пожить среди людей, которые пришлись бы мне по душе. В Аравии я был очень близок с моими сотоварищами, но, так как я постоянно путешествовал, мне не удалось изучить хотя бы одну общину достаточно хорошо. Те скудные сведения, которые мне удалось собрать об озерных арабах, привлекали меня. Маданы были приветливые, дружелюбные люди, и внешность их тоже мне нравилась. Их образ жизни, в то время еще мало затронутый влиянием внешнего мира, был уникален, а сам озерный край был прекрасен. Здесь, слава богу, не видно было никаких признаков той унылой современности, которая, обрядившись, как в форму, в подержанную европейскую одежду, распространялась по всему остальному Ираку, словно дурное поветрие.
Кроме Саддама, варившего кофе, в комнате не было никого. Когда я сел, он подал мне чашечку и продвинул пылающий конец длинной связки тростника в глубь очага, под кофейник.
— Каковы твои планы, сахеб? (По-арабски сахеб означает просто «друг».) Фалих передал мне, что ты хочешь повидать озера. Ты работаешь на правительство?
— Нет. Я путешествую, потому что мне правится видеть разные места и встречать разных людей.
— Кто оплачивает твои путешествия? Какое у тебя жалованье?
— У меня нет жалованья, и я плачу из своего кармана.
— Как странно! — сказал Саддам и замолчал. Чувствуя, что он не поверил мне, я добавил:
— Я путешествовал по многим странам, был в Эфиопии, в Судане и Аравии. Сюда я приехал из Курдистана. Я ищу знаний.
Мне казалось, что это звучит впечатляюще. Вряд ли Саддам поверил бы мне, если бы я сказал, что путешествую ради развлечения.
— И ты ищешь знаний среди маданов тоже? — спросил он с явным недоверием.
— Знания можно найти в любом месте, — нравоучительно ответил я.
Потом Саддам стал спрашивать меня, знаком ли я с некоторыми англичанами, с которыми он прежде встречался. В то время в Ираке англичане все еще пользовались расположением части местного населения, что было результатом тесного сотрудничества с Ираком в период между двумя мировыми войнами; тогда англичане работали здесь в качестве административных чиновников и советников. Многие из местных старожилов по-прежнему проявляли уважение и привязанность к тому или иному англичанину. Члены племен в целом были слишком вежливы, чтобы поставить гостя в неловкое положение, но мне часто приходилось подвергаться жестоким нападкам со стороны горожан и правительственных чиновников из-за внешней политики Англии — например, по вопросу о Палестине или Суэце. В таких случаях упоминание имени англичанина, которого они знавали прежде, могло круто изменить ход беседы — от ожесточенности к дружеским воспоминаниям.[10]
— Что у тебя в этих ящиках? — продолжал беседу Саддам.
— Лекарства.
— Ты доктор?
— Я знаком с медициной.
— Найдется у тебя лекарство для меня? У меня голова болит.
Я открыл ящик и дал ему две таблетки аспирина.
— Дай еще, сахеб, это очень мало. Я дал ему еще шесть таблеток, но предупредил, что за один раз следует принимать только две.
— А для живота? Живот у меня тоже болит.
Я дал ему соду в таблетках с примесью мяты.
— А это что?
— Это йод.
— А это?
— Примочка для лечения ожогов, — ответил я и решительно закрыл ящик.
Последовала новая пауза. Саддам подал мне еще чашечку кофе, а затем спросил:
— Куда ты хочешь поехать?
— Я хотел бы пересечь озерный край до Евфрата и вернуться через территорию фартусов, где я путешествовал в прошлом году с консулом.
— Ты встречался с Джасимом аль-Фарисом?
— Нет, он был в отъезде, когда я приехал в его деревню. Нас принимал его сын, молодой Фалих.
— Я не знаком с ним. Оставайся у нас, здесь намного лучше. Будем вместе охотиться на уток, кабанов, на любую дичь.
— Спасибо, Саддам. Я обязательно приеду еще, но сначала я хочу повидать озера.
— Озера велики, сахеб, за Тигром они простираются далеко в Иран. Ты и за год не сможешь все осмотреть.
— И все же я надеюсь повидать столько, сколько смогу объехать сейчас.
— Что ж, хорошо. Завтра поедем в Бу Мугайфат. У меня там есть дела. Позавтракаем у Сахайна. На следующий день повезу тебя к Евфрату через Зикри. Это большое озеро, там приходится трудно, если дуют сильные ветры. В нем утонуло много маданов.
За обедом, который мы ели вдвоем, Саддам предложил мне чашку молока буйволицы. Я никогда не пробовал его, и оно показалось мне вкуснее, чем коровье. Постепенно комната заполнялась людьми. Я сел у стены, прислушиваясь к разговорам. Смысл большинства разговоров пока еще ускользал от меня, так как мужчины говорили о выращивании риса, используя неизвестные мне термины.
Я спросил:
— Выращиваете ли вы рис здесь, в Эль-Кубабе?
— Выращивали прежде, но теперь разливы уже не приносят ил. В Эль-Кубабе больше нельзя сажать рис — он ведь растет только на свежем иле. В этом году мы будем просить Маджида выделить нам землю для посевов риса возле устья реки.
— Вы собираетесь перебраться отсюда?
— Конечно нет! Здесь наш дом. Мы ведь маданы. Те, кто захотят, будут выращивать рис на краю озер, но все они вернутся сюда.
Двое мужчин остро заспорили о невыплаченном выкупе за невесту. В спор включились все. Отец Аджрама попытался было взять на себя роль арбитра, но тут к нему обратился Саддам:
— Хусейн, завтра мы с англичанином будем завтракать у тебя. Надеемся, что нам предложат достойный завтрак.
Наступила тишина. Все смотрели на Хусейна, который как-то засуетился, пробормотал неубедительным тоном «добро пожаловать» и вдруг зачастил:
— Клянусь молоком твоей матери, Саддам, завтра я должен ехать в Маджар.
Несколько человек заулыбались, и я почувствовал, что над Хусейном подшучивают. Позже я узнал, что он был известный скряга.
— Поедешь в Маджар послезавтра. Завтра англичанин окажет честь твоему дому.
— Я польщен, — обреченно ответил Хусейн.
— Значит, завтра около полудня. Мясо, молоко, рис!
Хусейн обратился за поддержкой к остальным:
— Вы же знаете, завтра я должен ехать в Маджар. Я должен встретиться там с двоюродным братом жены.
— С тем самым, который умер в прошлом году? — спросил Саддам.
— Нет, правда, Саддам. Клянусь твоей жизнью! Клянусь Аллахом, Саддам!
— Честное слово, Хусейн, тот день, когда ты принимаешь гостя, станет памятным днем. Ты позоришь нас!
Мне стало жаль Аджрама.
Когда последний из гостей ушел, Саддам приказал Аджраму и еще одному парню остаться на ночь в мадьяфе.
— Положите вещи англичанина между вами, а сверху поставьте лампу. Спать будете по очереди. Если что-нибудь пропадет — убью. Его оружие я возьму к себе домой, так будет надежнее.
Потом он обратился ко мне:
— Здесь тебе будет хорошо. Но маданы — воры. На прошлой неделе кто-то из них украл мою лодку. Да испепелит их Аллах! Я так и не нашел лодку. С месяц назад они ночью залезли в лавку и обчистили ее. Когда ты будешь на озерах, спи в обнимку со своими ружьями, иначе их утащат — не те, кто живет в этом доме, а другие, возможно даже жители другой деревни. Несколько лет назад в Маджар приезжал сам губернатор. Туда съехались все шейхи со своими людьми, собралась громадная толпа. У одного из людей Маджида была новая винтовка, за которую Маджид заплатил сто с лишним динаров. Хозяин винтовки очень гордился ею и показывал ее всем и каждому. Какой-то мадан захотел поближе взглянуть на нее. Хозяин протянул ему винтовку, и мадан тут же растворился в толпе. С тех пор никто не видел ни его, ни винтовки. Маджид был вне себя от ярости.
Слуга Саддама принес матрас и стеганое одеяло.
— Положи здесь, — сказал ему Саддам. — Нет, вот здесь, болван! Теперь принеси подушку.
Я сказал, что у меня есть одеяла.
— Они тебе здесь не понадобятся. Это твой дом.
Он поправил подушку, пожелал мне спокойной ночи и еще раз предупредил Аджрама:
— Если заснете, спущу с вас шкуру.
Мне показалось, что он вполне может выполнить свою угрозу.
Перед тем как лечь спать, я тоже вышел наружу. Луны не было, ночь была очень темная. Аджрам крикнул:
— Берегись, там собака!
Яркие, как алмазы, звезды сверкали и отражались в воде у моих ног. Холодный воздух напоминал о затянувшейся зиме. В нескольких домах через дверные проемы были видны отблески огня в очагах. Недалеко от меня с всплеском села на воду утка. Потом единственным звуком в ночи осталось мерное кваканье лягушек.
7. Бу Мугайфат — деревня на озерах
Когда я проснулся, солнце еще не встало. Аджрам разжег очаг кизяком, едкий дым заклубился по комнате.
— Доброе утро, сахеб. Хорошо ли спалось?
— Доброе утро, Аджрам. Очень хорошо, а тебе?
— Я не спал, я охранял твои вещи.
Он свернул постельные принадлежности и взял чайник. В углу комнаты он стал лить тепловатую воду из чайника в мои сложенные ладони, чтобы я умылся и прополоскал рот. Саддам приказал ему надоить молока, и я вышел вслед за ним, чтобы понаблюдать. Дым многочисленных очагов легким туманом висел над деревней. Вода в заводи была зеркально гладкая, все вокруг окрашено в приглушенные тона. Воздух был холодный и довольно сырой. Бадейка для молока, вырезанная из цельного куска дерева, имела коническую форму, заостряясь книзу, так что ее нельзя было поставить на землю. Слуга Саддама подал ее Аджраму, тот присел на корточки у бока буйволицы, зажав бадейку между коленями. Всего перед домом было четыре взрослых животных и один теленок. Меня удивило, почему Саддам приказал надоить молока Аджраму, вместо того чтобы поручить это слуге. Тогда я еще не знал, что лишь некоторые мальчики умеют доить буйволиц — странное обстоятельство, если иметь в виду, что вся жизнь маданов связана с буйволами. Некоторые семьи в Эль-Кубабе имели до пятнадцати этих животных, но обычно их было от шести до восьми. Перед каждым домом всегда торчал хотя бы один буйвол.
Меня не удивило, что женщинам не разрешают доить буйволиц, ведь у бедуинов Южной Аравии женщинам никогда не разрешают доить верблюдиц. Наоборот, у скотоводческих племен вокруг озер, а также у курдов мужчины никогда не доят овец или коз; они только держат их, чтобы женщинам было удобно доить. Ни один из озерных арабов не станет ни толочь или молоть зерно, ни лепить кизяки для очага. Мужчина готовит себе пищу или идет за водой только в том случае, если нет женщины, которая делала бы это для него. Такие ограничения свойственны всем народам с примитивным образом жизни. Некая католическая миссия в Южном Судане однажды потеряла всех своих приверженцев, потому что священник не прислушался к протестам мальчиков, заявлявших, что обмазывать глиной внутренние стены дома — дело женщин.
Когда Аджрам кончил доить буйволицу, мы позавтракали лепешками из рисовой муки и молоком, подогретым и подслащенным сахаром. Затем Саддам велел Аджраму пригнать лодку с тремя гребцами, чтобы отвезти нас в Бу Мугайфат. Здесь, в Эль-Кубабе, Саддам обладал почти неограниченной властью, штрафуя жителей деревни или наказывая их палками по своему усмотрению и взимая пошлину за товары, провозимые через деревню. Он был представителем Маджида, а правительство предпочитало оставлять в озерном крае власть в руках шейхов.
Маджид был одним из двух верховных шейхов аль бу-мухаммед — оседлого племени, насчитывавшего 120000 человек и жившего вдоль Тигра и его многочисленных рукавов, протекающих по озерному краю, от Амары до Эль-Азайра на юге. Другим шейхом был Мухаммед аль-Арайби, глубокий старик; его владения простирались к востоку от Тигра. В период турецкого владычества племя занималось выращиванием риса, сажая его на землях, затапливаемых во время весенних разливов. В последнее время, с появлением механических насосов, многие стали выращивать озимые — пшеницу и ячмень. Почти каждая семья держала по нескольку буйволов, и все-таки это племя, за исключением небольшого числа семейств, живших на озерах, причисляло себя к феллахам, а не к маданам. В самом Эль-Кубабе жили только две-три семьи аль бу-мухаммед. Другие обитатели деревни принадлежали к ферайгатам, шаганба и фартусам. Эти три племени и те из аль бу-мухаммед, которые жили в других местах на озерах, считались маданами, несмотря на то что многие из них выращивали рис.
В провинции Амара шейхи, чьи земли примыкали к озерам, получили власть над деревнями, находящимися в их пределах, даже если они были населены другими племенами. Шейхи изымали в свою пользу часть урожая риса, если он выращивался в данной деревне, запрещали торговать тем, кто не платил за разрешение на торговлю, и требовали, чтобы жители деревень продавали пойманную рыбу только тем, кого шейхи назначали для этой цели. Они реквизировали сухой тростник для постройки собственных домов и мадьяфов и в некоторых случаях заставляли платить налог на буйволов. Представители шейхов, естественно, увеличивали налоги, отбирая излишки в свою пользу. Жители деревень роптали, но мирились с этой системой.
В свою очередь, шейхи и их представители обеспечивали мир и порядок и вершили суд в соответствии с правосознанием племен. Члены племен смертельно боялись быть вовлеченными в официальное судебное дело — ведь это было чревато крупными расходами на оплату адвокатов и на взятки, да еще на все время слушания дела пришлось бы оторваться от дома. Если бы их нашли виновными, они должны были бы отбывать срок в городской тюрьме вдали от своих сородичей, что само по себе казалось им ужасным, поскольку мало кто из них отдалялся более чем на десять-двенадцать миль от надежного укрытия озер. Шейх мог оштрафовать их, мог наказать палками или даже на некоторое время заключить под стражу в своей деревне, но все решалось в мадьяфе шейха, в окружении знакомых им лиц и в присутствии их сородичей. Кстати, как правило, приговоренные к какому-либо наказанию действительно были виновны.
Вскоре я понял, что Саддама очень не любили. Он отличался властностью и деспотизмом, а в гневе терял всякий самоконтроль. Жители деревни жаловались, что Саддам широко пользовался своим положением для собственного обогащения, но ведь любой из них на его месте сделал бы то же самое. Они признавали его щедрость и восхищались силой его характера. Им нравилось его чувство юмора, которое подчас переходило все допустимые границы. Однажды Саддам шокировал всю округу: проходя через деревню, где только что умер брат человека, которого он не любил, он велел своим гребцам пропеть под залихватский мотив такие слова: «О ты, сын собаки, пусть Аллах сожжет в аду твоего брата, умершего вчера». В это время в деревне как раз исполняли траурные обряды.
В конце концов Саддам зашел слишком далеко. Как-то через Эль-Кубаб по пути из Эль-Курны в Амару проходила парусная лодка, груженная финиками. Саддам вышел из своего дома, резко приказал владельцу остановиться и отдать ему три тюка фиников. Хозяин ответил, что он бы с удовольствием сам преподнес Саддаму какое-то количество фиников, но теперь ни за что не даст ему ни одной штуки. Саддам бросился в дом, схватил винтовку и выстрелил. Пуля пролетела над самой головой торговца. Он пожаловался Маджиду, который на следующий же день с негодованием сместил Саддама. Я встречался с ним несколько раз после этого. Саддам пребывал в нищете, но оставался столь же гостеприимным и любезным, как во времена своего управления Эль-Кубабом.
Деревня Бу Мугайфат находилась милях в двух от Эль-Кубаба. Мы отправились туда из мадьяфа Саддама по протоку, который, словно шоссе, соединял две деревни. Я спросил Саддама: образовались ли эти проходы в тростниковых зарослях естественным путем, или их проложили люди? Он объяснил, что, когда вода спадает, маданы проводят через заросли буйволов, чтобы образовался проход, который потом остается открытым, так как по нему постоянно снуют лодки. По дороге мы натолкнулись на дюжину буйволов, стоявших в воде прямо посередине протока. Человек, сидевший на носу лодки, ударял их шестом по голове, чтобы сдвинуть с места, но они не обращали на нас ни малейшего внимания, даже когда лодка задевала их спины.
— А везде ли глубина такая, что буйволы достают ногами до дна? — спросил я.
— Не везде. Но когда они жуют тростник, они должны иметь возможность упираться ногами в дно. Да они любят находиться в воде, ты ведь только что сам убедился в этом. Иногда, когда паводок бывает очень высокий, им приходится стоять на площадке перед домом. Тогда их осаждают мухи и их общее состояние ухудшается. К тому же, если они не пасутся сами, хозяевам бывает трудно обеспечить их кормом. И без того мадан проводит весь день, срезая и собирая тростник буйволам на ночь. В этом вся жизнь мадана — срезать тростник на корм буйволам.
В Бу Мугайфате было восемнадцать домов, тесно сгрудившихся под натиском тростниковых зарослей. Мы причалили у одного из самых больших домов, выбрались на скользкий черный берег и протиснулись через узкий проход в дом. Внутри находилось несколько человек, и все, мешая друг другу, расстилали коврики и раскладывали подушки.
— Добро пожаловать, Саддам! Добро пожаловать, сахеб! — сказал наш хозяин Сахайн, чье имя означало «маленькое блюдо».
Все столпились вокруг нас, чтобы пожать нам руки. Как и все маданы, они носили либо белые, либо темные рубахи. Только у детей была одежда более ярких цветов. Внутри дом выглядел так же, как и тот, что я видел накануне, но с одним важным отличием, значение которого объяснил мне Саддам. Вход в дом был на северной стороне — стало быть, это была раба, объединяющая под одной крышей жилище хозяина и гостевой дом. Среди маданов, как и среди других племен, путник может остановиться в любом доме, чтобы поесть и переночевать, и никто никогда ему не откажет. Когда в деревне есть мадьяф, гостю подобает остановиться в нем, если у него нет друзей в этой деревне. Если мадьяфа нет, приезжему следует идти в рабу. Любой житель деревни может превратить свой дом в рабу или построить мадьяф, но для этого надо обладать определенным положением. Позже мне рассказали, что один молодой человек, заработав в Басре некоторую сумму денег, вернулся в свою деревню на озерах и построил себе мадьяф. Жители деревни усмотрели в этом явную самонадеянность, и когда в течение года умерли сначала его сын, а потом жена, они ничуть не удивились.
— У его отца никогда не было ни мадьяфа, ни даже рабы, — говорили они. — Если уж он решил построить мадьяф, надо было пойти к сейиду и получить его благословение. Без этого ничего не выйдет.
Я сказал несколько слов о замечательном гостеприимстве арабов. Сахайн рассказал, что несколько лет назад трое маданов из Кубура, близлежащей деревни, отправились в Басру. Они были молоды, и никто из них до этого не выезжал за пределы озерного края. Они шли по главной улице Басры, ошеломленные и изрядно напуганные: в этом городе у них не было ни одного знакомого. Им хотелось есть, и они искали мадьяф. Вдруг какой-то веселый толстяк вышел из дома, мимо которого они проходили, и обратился к ним:
— Добро пожаловать! Тысячу раз добро пожаловать! Идите сюда.
Он провел их в большую комнату, где множество людей, сидя на стульях за столиками, ели разные яства.
— Чувствуйте себя как дома. Что вам подать? Суп, овощи, рыбу, мясо, сласти? Шербет будете пить? Вы только скажите, и я принесу все, что закажете. Добро пожаловать, добро пожаловать!
Трем парням такое поведение показалось странным. Где это видано, чтобы хозяин спрашивал гостей, чего они хотят поесть? Однако он вел себя очень по-дружески, и они решили, что именно так ведут себя цивилизованные люди.
— Мы будем есть всё, — сказали они.
— Хорошо, хорошо. Суп, рыбу, овощи, курицу, ладно? И, конечно, сласти и шербет. Подождите минуточку.
Один из маданов повернулся к другому:
— А ведь эти горожане — хорошие люди. Разве встретишь такое гостеприимство на озерах? Почему наши родители говорили нам, будто горожане — плохие люди?
Хозяин вернулся, принеся множество мисок с едой, которыми он уставил весь стол. Он принес им и воду, чтобы вымыть руки, но они не позволили, чтобы он сам поливал им. Потом он сказал:
— Ну, теперь кушайте, будьте как дома.
Им никогда еще не перепадала такая обильная трапеза. Они ели и ели.
— Позвольте мне добавить вам еще супа. Съешьте еще курочку!
— Спасибо, спасибо.
— Что за человек! — восклицали они, когда он приносил им еду. Наконец парни убедили его, что они вполне удовлетворены. Они умылись, и хозяин принес им кофе и чай. После этого они поднялись и направились к выходу со словами: «Аллах да вознаградит тебя».
— Эй, постойте! А где же деньги? Ведь вы должны мне два динара!
— Что это ты говоришь? Мы должны тебе деньги? Это же твой мадьяф. Мы шли мимо, и ты уговорил нас войти.
— Отдайте мне мои деньги! Воры! Вы дождетесь — я вызову полицию.
В конце концов их заставили заплатить полтора динара. У них не осталось денег на автобус, и им пришлось возвращаться в Эль-Курну пешком.
— Мы маданы, — сказал один из тех, кто слушал Сахайна. — Что мы можем знать о городе?
Сахайн ответил:
— Я был в Басре. Везде люди и машины. Тысячи машин, одна к другой впритык.
— Это правда, что там нет мадьяфов? Как же там может жить путник?
— Он должен платить за все, как в кофейне в Маджаре.
Нам подали чай. Вошли еще несколько жителей деревни, гостевая часть дома была заполнена людьми. В другом конце комнаты женщины готовили завтрак. Саддам сказал Сахайну, что Бу Мугайфат должен поставить две лодки касаба для постройки нового мадьяфа Маджида. Тут же раздались протестующие возгласы, посыпались возражения и начались споры о том, кому этим заняться. Это были необузданные люди, и мальчишки горланили наравне со взрослыми. Саддам, поигрывая небольшими янтарными четками, спокойно произнес:
— Я хочу, чтобы это было сделано послезавтра.
Его слова вызвали новый взрыв негодования, который был прерван появлением еды — двух блюд клейкого риса и двух кур.
В деревне Бу Мугайфат жили члены племени ферайгатов. Сахайн был калит — глава ветви племени, проживающей в этой деревне. Пост этот был почетным и передавался по наследству. Сахайну было около сорока лет. Крепко сложенный, хотя и ниже других ростом, он отличался спокойным, уверенным видом и был единственным человеком, сохранившим невозмутимость во время спора, который разгорелся перед завтраком. У него была подстриженная острая бородка и традиционные короткие усы озерных арабов. Его брат Хафаз, которому было лет восемнадцать, вместе с двумя другими юношами принес завтрак.
За год до этого, охраняя ночью посевы риса, Хафаз услышал какой-то шум и решил, что это кабан. Он выстрелил — а потом обнаружил бездыханное тело женщины, которой он попал в голову. Она была тоже из племени ферайгатов, из соседней деревни. Ее семья в конце концов согласилась принять «плату за кровь», которая, как я узнал, «исчисляется в женщинах». Среди ферайгатов эта плата составляла шесть женщин, из которых первая, известная под названием фиджирия, должна быть непорочной девушкой брачного возраста, от четырнадцати до шестнадцати лет; другие пять называются талави. Фиджирия должна прийти из семьи убийцы или, если у него нет подходящей дочери или сестры, из семьи его ближайших родственников. Ее всегда отдают в жены родному или двоюродному брату жертвы. Потерпевшая семья имеет право выбирать, сколько талави она будет требовать, или вместо них взять деньги. Первые две оцениваются в пятьдесят динаров каждая, три остальные — по двадцать динаров. Женщины или деньги изыскиваются среди членов той части племени, к которой принадлежит убийца. Когда я заметил, что шесть женщин кажутся мне непропорционально большой платой за смерть одной, Саддам ответил:
— Плата за одну женщину из семьи шейха племени аль бу-мухаммед составляет пятьдесят женщин и семь лет изгнания.[11]
Арабское слово фасль, означающее «плата за кровь», удобнее переводить как «выкуп». Степень вины не влияет на размер фасля. Я слышал об одном деле, в котором был затребован и выплачен выкуп за смерть, последовавшую через двадцать лет после случайно нанесенной раны. В случае преднамеренного убийства родственники жертвы почти наверняка откажутся принять плату и будут жаждать кровной мести.
Я заинтересовался происхождением племени аль бу-мухаммед. Саддам рассказал мне, что четырнадцать поколений назад один человек, по имени Мухаммед, из племени зубайд аза убил своего двоюродного брата, бежал вместе со своей дочерью Башой и нашел убежище у ферайгатов. Он прожил среди них пятнадцать лет и полюбил Маханию, прекрасную дочь шейха ферайгатов. В конце концов шейх согласился отдать дочь ему в жены при условии, что Мухаммед разрешит ему жениться на Баше. Мухаммед согласился, но в день свадьбы шейх подменил прекрасную Маханию другой своей дочерью, неказистой Каушей. Свадебная процессия с песнями и танцами, как того требует обычай, привела девушку в дом Мухаммеда и передала ему. Когда Мухаммед, сняв с нее покрывало, обнаружил обман, он не отверг ее, а признал своей женой, воскликнув при этом:
— Хвала Аллаху! Вот та, которая выпала на мою долю!
Кауша родила ему двух сыновей, Саада и Абуда, от которых пошли две ветви великого племени аль бу-мухаммед — амла и аль бу-абуд. Саддам добавил:
— У нас, аль бу-мухаммед, боевой клич: «Я брат Ваши».
Этот обычай, как и многие другие, пришел к ним, очевидно, от бедуинов Аравии, где воин выбирает в качестве своего клича имя своей сестры или боевого верблюда.
Мы уже собрались уходить, когда в дом вошел сейид. Это был средних лет мужчина со щетиной на подбородке, одетый в старую драную рубаху: он только что готовил корм для буйволов. Все встали, а гребцы Саддама подошли и поцеловали ему руку. В Южном Ираке бесчисленное множество сейидов, как, впрочем, и в большинстве районов арабского мира. В озерном крае немного деревень, которые не могут похвалиться тем, что у них живет по крайней мере одна семья, ведущая свое происхождение от семьи пророка Мухаммеда. Некоторые деревушки населены одними только сейидами. В дальнейшем я встречал целые ветви племен кочевых маданов, которые претендовали на такое происхождение. По всей видимости, от них и не требовали каких-то особых доказательств. Позже, находясь у фартусов, я останавливался в семье так называемых сейидов. Кое-кто в деревне говорил мне:
— Они вовсе не сейиды; все мы знаем, откуда они появились. Старик только позавчера окрасил свою куфию в зеленый цвет.
Несмотря на это, они уже называли его мауляна; это обращение, подобающее при беседе с сейидом. Скорее всего, через несколько лет никто уже не будет оспаривать притязания этой семьи.
Дом Сахайна был построен на островке, который, как мне показалось, был естественного происхождения; возможно, здесь некогда располагалось древнее поселение. Но когда мы уезжали, я заметил, что островок состоит из чередующихся слоев земли и перегнившего тростника. Стало быть, это была просто более усовершенствованная платформа того же типа, что и площадка, на которой стоял дом заира в Эль-Кубабе. Для того чтобы создать такую платформу, сначала обносят тростниковой оградой (высотой примерно в 20 футов) участок, достаточный для дома и двора; затем на этом Участке трамбуют штабелями стебли тростника и камыша; когда штабеля поднимаются над уровнем воды, надламывают тростник ограды и укладывают его поперек штабелей. Затем маданы укладывают поверх тростника камыш и приминают его как можно сильнее. Когда площадка, по их мнению, готова, они приступают к постройке дома, втыкая в площадку стебли тростника, из которых делаются арки, после чего стебли соединяют в связки. Если пол дома заливает — либо из-за того, что он оседает, либо при повышении уровня воды, — хозяин просто укладывает на пол несколько охапок свеженарезанного тростника. Полученный таким образом участок называется кибаша.
При постройке более основательного жилища маданы покрывают площадку илом, который собирают на дне. Они делают это осенью, когда вода стоит низко, и только на мелких местах. Затем ил покрывают новыми слоями камыша. Так кибаша превращается в дибин. Если семья, которая сложила дибин, не занимает его более года, она теряет право собственности и его может занять любой. В течение многих лет слои ила и камыша образуют остров, подобный тому, на котором стоял дом Сахайна.
На обратном пути в Эль-Кубаб рядом с нами из камышей поднялось несколько уток. К сожалению, я не подумал о том, что мне удастся поохотиться, и мое ружье не было заряжено. Саддам был явно разочарован, и, когда мы к вечеру вернулись в деревню, я предложил пойти поохотиться.
— Хорошо. С тобой пойдет Аджрам. Он знает места… Смотри, чтобы англичанин не перевернул эту маленькую лодку! — крикнул он, когда мы отчалили. — Он не привык к таким лодкам.
Последнее замечание было явно излишним, так как Аджрам уже успел убедиться в том, что я недостаточно ловок.
По пути мы встретили несколько нагруженных хашишем лодок, которые возвращались в деревню.
— Куда мы направляемся, Аджрам?
— Поохотиться на уток.
— Давай-ка к краю заводи, их там много.
Через некоторое время Аджрам сказал:
— Твое ружье заряжено? Мы прибыли.
Действительно, в укромных узких протоках гнездилось множество уток, но они были очень пугливы. Медленно продвигаясь вдоль кромки тростников, мы наконец подобрались к стайке уток. Первым выстрелом я уложил двух на воде, но из второго ствола промазал. Аджрам подгреб к уткам, и мы подобрали их.
— Смотри, вот еще летят, — сказал он.
Потревоженные выстрелами, утки закружили в воздухе. Я выстрелил в одну из них; подбитая, она упала неподалеку от нас в тростник. Аджрам стянул с себя рубаху, прыгнул в воду и стал с хрустом продираться сквозь тростник. Я не удивился, когда он вернулся с пустыми руками. По грудь в воде он подошел к лодке и забрался в нее. Будь я на его месте, я немедленно перевернул бы лодку, но Аджрам едва качнул ее. Не надев рубахи, он взялся за весло и направил лодку в другой проток. Его кожа в местах, защищенных от солнца, была почти такой же светлой, как моя.
Мы подстрелили еще двух уток и вернулись в Эль-Кубаб, где небольшая группа мужчин и женщин ждала нас у входа в мадьяф. Молодая женщина в черном платье держала на руках ребенка, укрытого шалью.
Саддам объяснил:
— У бедного малыша сильные ожоги. Ему нужны лекарства. Можешь ты ему помочь?
Женщина развернула шаль и протянула мне ребенка. Это был годовалый мальчик. Его грудь, живот, левая нога и рука были покрыты свежим буйволовым навозом.
— Когда это случилось?
— Сейчас, несколько минут назад, — сказала женщина. — Я варила рис на ужин. На огне подогревалась вода. Я на минутку отвернулась, и он вылил на себя горшок. Сахеб, это наше единственное дитя. Да сохранит тебя Аллах! Спаси его, сахеб, спаси! Аллах защитит тебя!
Саддам сказал, что родители ребенка поженились всего год назад.
Так как на дворе было светлее, я вынес из мадьяфа ящик с лекарствами. Затем я приказал матери сесть на землю и держать ребенка, который тихонько плакал. Потом как можно осторожнее я стер влажный навоз. Тут ребенок стал биться и кричать, и молодой отец присел на корточки и стал держать его за ноги. Ожоги покрывали большие участки тела. На некоторых местах кожа сошла полностью и ее лохмотья сморщились, как папиросная бумага; на других местах были большие волдыри. Я нанес гладким слоем на все обожженные участки тела мазь, помогающую при ожогах.
— Не накрывайте смазанные места. Когда все высохнет, осторожно покройте вот этим.
Я дал им большой кусок марли и таблетку аспирина и сказал, чтобы они растворили ее в воде и дали ребенку. Они забрались в лодку и поплыли к своему дому. Несколько человек из оставшихся стали просить у меня лекарства. У одного гноился порез на ноге, двое жаловались на головную боль, еще один — на геморрой. Купец, у которого мы были в гостях, попросил лекарство для глаз. Было почти темно, когда последний из них ушел.
Утки, которых мы съели за ужином, были великолепны. После ужина мы разделились на две команды по пять человек и стали играть в махайбис. Команда, у которой находится кольцо, сидит рядком, руки у всех спрятаны под плащи. Один человек из команды соперников стоит перед ними и пытается отгадать, у кого из них кольцо и в какой руке. Исключая их по очереди, он громким высоким голосом скороговоркой повторяет:
— Вижу кольцо в руке такого-то, вижу кольцо в руке такого-то…
Плохо улавливая смысл скороговорки, я нашел эту игру невыносимо скучной, по остальные занялись ею с большим удовольствием. В дальнейшем мне часто приходилось играть в махайбис в разных деревнях, и почти неизменно игра заканчивалась, как и сейчас, обвинениями в жульничестве и общей перебранкой.
Наконец Саддам отправил всех по домам, заметив не без основания, что англичанин устал и хочет спать.
8. В центре озерного края
На следующее утро, как и было обещано, Саддам отправился со мной по озерам к Евфрату. Было еще рано, солнце взошло всего час назад. Лодки одна за другой выходили из деревни для сбора хашиша, на носу каждой зубцами вперед торчала острога, которой маданы бьют рыбу. Мы с Саддамом плыли в одной лодке, Сахайн — в другой; в каждой было по три гребца. У всех были винтовки. В озерном крае человек, проплывая по территориям, занятым другими племенами, не любит быть без оружия.
Когда они довезут меня до Евфрата и отправятся домой, я останусь совсем один. Некому будет присмотреть за моими вещами, некому будет представить меня жителям других деревень. Я попытался уговорить Аджрама составить мне компанию, обещая ему, что мы вернемся в Эль-Кубаб недель через шесть, но он отказался.
— Он испугался, — объяснил мне Саддам. — Никто не пойдет с тобой. Маданы — невежественные люди, живут на озерах подобно своим буйволам. Они боятся правительства. Я встречал англичан и знаю, что они хорошие люди, но маданы с подозрением относятся ко всем чужакам. Аджрам думает, что ты увезешь его и завербуешь в армию.
Я не ожидал, что будет трудно подыскать себе спутника, и чувствовал себя несколько обескураженным.
Пятнадцатилетний мальчик, гребец на соседней лодке, предложил:
— Возьми меня с собой, сахеб! Дай мне денег и возьми с собой. Тогда мне не придется целый день срезать хашиш, стоя в холодной воде.
— Нет, не бери его! От него не будет прока, он лентяй. Лучше возьми меня! — крикнул другой мальчик.
— Да они оба никуда не годятся! Возьми меня, я умею петь и танцевать. Я будут развлекать тебя, — воскликнул мальчик-гребец помоложе, лет тринадцати. У него был курносый нос, большой рот и смешливые глаза, а сам он был кожа да кости.
— Они шутят, — сказал мне Саддам и обратился к младшему: — Давай, Хелу, спой.
— Да я не умею, Саддам.
— Ну, ну, спой, Хелу. Развлекай нас, пока не дойдем до тростников.
Сахайн тоже подал голос из своей лодки:
— Спой, Хелу.
Саддам сказал мне, что у мальчика приятный голос. Последний взглянул на нас с дерзкой усмешкой и начал чистым дискантом: «Арабы рассказывали мне о тебе — тиране с самых первых дней». Мелодия была прелестна — ритмичная, печальная. Саддам поспешил объяснить мне, что эту песню о шейхе, жившем за Тигром, сочинила одна из его жен, с которой он плохо обращался и в конце концов развелся.
В озерном крае песня обычно бывала популярной полгода или год. Потом она приедалась и появлялась другая. Как правило, одновременно пользовались успехом до полудюжины таких песенок. Эта была настоящим боевиком. В течение последующих двух лет я слышал ее повсюду — на свадебных церемониях, вечерами на импровизированных танцах и, как сейчас, на пути к тростниковым зарослям.
— Спой еще, Хелу. Давай другую песню!
И Хелу запел снова. Несколько ушедших вперед лодок поджидали нас. Всего набралось двенадцать-пятнадцать лодок. Они беспрерывно стукались бортами одна о другую, плывя рядом с нами по протоку. Два мальчика гребли кормой вперед. Позже я заметил, что маданы часто гребут таким образом, когда в лодке один человек. Как только Хелу замолкал, аудитория кричала:
— Давай, Хелу! Еще одну песню!
Красивая девушка лет четырнадцати сидела в одиночестве в одной из лодок, набросив на голову и плечи черный плащ. Когда один из мальчиков оттолкнул рукой нос ее лодки, двинув лодку в тростник, она сердито накричала на него. Я не расслышал ее слов, но другие засмеялись и похвалили ее решимость постоять за себя. В другой лодке совсем юная девушка гребла вместе со своим братом, сидя, как и положено женщине, позади него. Я спросил, помогают ли женщины собирать хашиш. Саддам ответил:
— Да, но только если в семье не хватает рабочих рук.
Наконец лодки одна за другой вошли в заросли тростника. Хелу, отъезжая, шутливо крикнул:
— Ну что, сахеб, не хочешь взять меня с собой?
Впереди расстилалось открытое водное пространство шириной в две мили. Поверхность воды, волнуемая поднимающимся ветром, была темная, с синими отсветами. Саддам сказал, что это место известно под названием Дима. Местные маданы дают отдельное название каждому участку открытой воды, даже если он не больше, чем пруд, почти каждому протоку и тростниковому массиву, но их географические познания обычно ограничены ближайшими окрестностями.
— Кругом или напрямик? — спросил Саддам. Сахайн, внимательно всмотревшись в воду и небо, сказал:
— Напрямик! Пойдем против ветра, все будет в порядке.
В безоблачном небе парили три орла. Я наблюдал за стаями уток, летавших над дальним концом озера. Некоторые кружили высоко в небе. Мне удалось признать крякв и широконосок. Другие утки — чирки либо чирки-трескунки — опускались и поднимались над верхушками тростника плотными стаями, сверкая белыми подкрыльями, когда они одним рывком взмывали вверх. Сначала я не мог понять, кто потревожил их, но тут заметил вдали, у тростников, две лодки. Я спросил, на охотники ли это, но Сахайн, взглянув на лодки, ответил:
— Нет, они травят рыбу. Они из Кубура — деревни, в которой мы будем завтракать. Гребите сильнее, нам нужно пересечь озеро, пока ветер не усилился.
Когда мы прошли полпути, Сахайн сказал:
— Приготовь ружье, сахеб.
Он указал налево, где на воде плотной стаей сидело несколько сот лысух. В это время орел, пролетая низко над стаей, пикировал на нее, но лысухи отогнали его, так сильно ударяя по воде крыльями, что она бурлила.
Ветер усиливался, и, когда мы повернули к стае лысух, вода стала время от времени хлестать через борта лодки. Орел пикировал на лысух еще два-три раза, пока мы подходили к стае, которая не обращала на нас никакого внимания, хотя мы были уже в сорока ярдах. Я выстрелил из обоих стволов. Лысухи рассеялись и поднялись против ветра. Пока мы подбирали убитых птиц, другие охотились за подранками, которые ныряли, когда лодка приближалась к ним. Сахайн, стоя на носу, с помощью остроги подбирал птиц одну за другой, как только они появлялись на поверхности. Он бил острогой тех, что были поближе, и метал ее в тех, что оказывались дальше. Как только птица попадала в лодку, один из гребцов перерезал ей горло, обратившись лицом к Мекке и приговаривая: «Во имя Аллаха, Аллах превыше всего!» Это ритуальное изречение как бы делает птиц законной пищей для мусульман; в противном случае даже маданы будут рассматривать их как падаль и швырнут прочь. Строго говоря, все птицы должны быть еще живыми; должна показаться кровь, когда им перерезают горло. Но мои спутники были не слишком привередливы.
— Вот эта как будто мертвая? — спросил один из них, выудив из воды птицу, чья голова пробыла под водой добрых десять минут.
— Конечно нет! Быстрее перережь ей горло.
У мусульман считается, что кровь, падаль и свинина нечисты. Существует еще множество ограничений, меняющихся от района к району, от племени к племени. Например, некоторые мусульмане не едят птиц с перепончатыми лапами. В Ираке шииты не едят зайцев, а сунниты этот запрет не признают. Маданы едят бакланов и змеешеек, но не пеликанов; едят караваек, цапель и журавлей, но не аистов; едят малых поганок, по ни в коем случае не другие виды птиц этого семейства; и они не станут есть такую рыбу, как сом.
Когда мы подобрали всех лысух, Саддам приказал гребцам поторапливаться, так как наша лодка с двумя пассажирами и моими ящиками на борту набрала довольно много воды. Я был рад, когда мы оказались под прикрытием тростниковых зарослей. Здесь к нам присоединилась лодка Сахайна, и мы подсчитали добычу. Вместе мы подобрали пятнадцать птиц.
— У нас будет обильный завтрак, — сказал Саддам с явным удовлетворением.
Когда мы добрались до Кубура, небо затянула сероватая дымка, в тростниках засвистал ветер, повеяло холодом. Деревня напоминала Эль-Кубаб и была примерно тех же размеров. Мы подплыли к одному из больших домов. Узкий вход в дом находился над скользким черным скатом берега футов пять высотой. В доме два мальчика грелись у очага.
— Отец дома? — спросил Саддам.
Старший ответил:
— Да, но он только что пошел в лавку. Беги быстрее, скажи Альвану, что у нас гости, — добавил он, обращаясь к своему брату.
Несмотря на пиджак, рубашку, свитер и шерстяные брюки, я здорово продрог и с удовольствием подсел к огню. Сын Альвана, высокий стройный юноша лет шестнадцати, был одет в тонкую хлопчатобумажную рубаху. Он прошел в другой конец дома и принес несколько ковриков и подушек, которые дала ему девочка.
— Я пойду принесу ваши вещи, — сказал он Саддаму.
— Нет, мы собираемся идти дальше, в Абу Шаджар, после того как поедим.
— Вы не сможете. Оставайтесь ночевать. Погода плохая, и потом, вы уже давно не оказывали нам эту честь.
Саддам велел одному из своих людей принести двенадцать лысух и отдал их мальчику.
Через несколько минут появился сам Альван, дружелюбный мужчина средних лет. Он тоже стал уговаривать нас выгрузить вещи и остаться на ночь, но Саддам утверждал, что мы должны идти дальше.
— Маданы все еще в Абу Шаджаре? — спросил он.
— Да, — ответил Альван. — В этом году разлив поздний, и они еще не тронулись.
Он принес все для чая, заметив:
— А вы настреляли много лысух.
Когда Сахайн рассказал ему об орле, он сказал:
— Один орел в этом году свил гнездо в тростнике и нападал на всех, кто проплывал по протоку. Ребята всегда в этих местах заготовляли хашиш, так что пришлось им поджечь тростник, чтобы гнездо сгорело.
Разговаривая, Альван перебирал длинные четки из девяноста девяти черных бусин. Это были молитвенные четки, а четки из тридцати трех бусин янтарного цвета, которыми поигрывал Саддам, предназначались только для того, чтобы чем-нибудь занять руки. Большинство людей носили в кармане такие четки и бесконечно перебирали их, когда им было нечего делать. Саддам бросил мне свои четки. Когда я потом хотел вернуть их ему, он сказал:
— Нет, оставь их у себя, они твои. У меня в Эль-Кубабе есть другие.
С тех пор я приобрел привычку перебирать четки.
Мы съели за завтраком девять лысух. Мясо, напоминающее утиное, показалось мне очень вкусным — возможно потому, что я продрог и проголодался. Саддам и Сахайн, несмотря на мои возражения, все время подкладывали мне куски от своих порций. После этого мы полили часть риса подливкой и съели его, а оставшийся рис полили пахтаньем. Не так-то легко брать это месиво руками; арабы ели так же неряшливо, как я. Альван собрал остатки риса и лысух на одно блюдо. Один из его сыновей принес еще пахтанья, и они, в свою очередь, принялись за еду. После чая мы сели в лодку и попрощались с ним. Никто не поблагодарил его за угощение — это было бы неслыханным нарушением этикета.
Мы двигались через пригибаемый ветром тростник по едва различимым проходам; метелки на концах его стеблей развевались над нами, точно вымпелы на ветру, на фоне бледного неба. Один из гребцов, поощряемый Саддамом, пел народные песни. У него был сильный хрипловатый голос. Жилы на его шее напряглись, лицо налилось кровью. Песни тянулись бесконечно и, казалось, не имели определенного ритма. Чтобы слушать их с таким удовольствием, как это делали мои спутники, нужно было, без сомнения, понимать слова. Мне это не удавалось.
Часа через полтора мы добрались до Абу Шаджара, островка темной голой земли триста ярдов в поперечнике и десять футов высотой в самой верхней точке. Островок был окружен зарослями тростника. Вдоль берега беспорядочной группой теснилось тридцать-сорок домов.
На каждом свободном клочке земли стояли буйволы; вокруг домов были выкопаны небольшие ямы, чтобы буйволы не могли тереться о стены. Люди, жившие здесь, принадлежали к племени шаганба.
Посовещавшись между собой — какой дом выглядит наиболее солидно, — мы причалили у одного дома. Навстречу вышли мужчина и мальчик, приветствовали нас и помогли вынести на берег мои вещи; мои спутники не взяли с собой в дорогу ничего, кроме винтовок. Мы также отнесли в дом шесты и весла, так как по общепринятой практике любой другой путник мог прихватить их с собой. Шесты делались из стеблей обычного касаба, но найти подходящий стебель было не так-то просто, к тому же гребец привыкал к своему шесту. Лопатообразные весла, сделанные из доски, прибитой к бамбуковому стволу, было и вовсе трудно смастерить из местных материалов.
Как всегда, небольшой дом вскоре был заполнен до отказа. Наш хозяин задал несколько вопросов, прочие сидели молча, бесстрастно глядя на меня темными глазами. Я ощущал их недоверие: «Кто он такой? Откуда пришел? Зачем Саддам привез его сюда?» Когда Саддам и наш хозяин, по заведенному обычаю, повели меня на прогулку по островку, в доме тотчас началась оживленная беседа.
Почва была засолена, и на ней ничего не росло. Здесь не было ни камней, ни обломков скал. Вообще на озерах я не видел ничего подобного. Судя по кирпичам и глиняным черепкам, которыми была усеяна земля, Абу Шаджар был расположен на месте какого-то древнего города. Саддам сказал:
— Говорят, на этом острове зарыто золото. Маданы разыскивают его. Видишь, где они копали?
Он указал на несколько неглубоких ям и добавил, что пока ничего не нашли.
Наш хозяин прервал его:
— В прошлом году, когда одна семья из племени шаганба копала ямы для своего дома в Эль-Аггаре, нашли два кувшина, наполненных монетами.
Я спросил, где расположен Эль-Аггар.
— Вон там, к западу. Это такой же остров, как наш. Там живут много шаганба.
— Что потом было с монетами?
— Не знаю. Думаю, они спрятали их, чтобы шейхи не могли отнять.
Саддам сказал:
— Несколько лет тому назад, когда мы в Эль-Кубабе строили мой мадьяф, мы нашли каменного идола — фигурку женщины, можно было различить ее груди. Она была вот такой величины.
Он отмерил между ладонями девять дюймов.
— Фигурка все еще у тебя?
— Нет, ее взял Маджид.
Находясь на озерах, я никогда не пытался собирать предметы, представляющие интерес для археологов. Но однажды мне дали хеттскую печать, а в другой раз небольшой кусок свинцового листа, покрытого царапинками, которые оказались знаками финикийского письма. Человек, давший мне его, сказал, что этот лист был частью большого свитка, который расплавили на пули. Как-то раз меня с весьма таинственным видом отвели в один дом и показали терракотовую фигурку собаки. На ней был штамп (на английском языке) «сделано в Японии».
Солнце стояло низко, ветер стих, и бескрайние массивы тростника в тусклом вечернем свете казались унылыми. В нескольких местах к северу и востоку густые клубы дыма указывали места, где маданы выжигали тростник, чтобы получить молодую поросль на корм буйволам.
— Ты когда-нибудь слышал о Хуфайзе? — спросил хозяин дома.
— Да, но хотелось бы узнать побольше.
Он указал рукой в юго-западном направлении.
— Хуфайз — остров где-то там. На нем дворцы, пальмы, гранатовые сады, а буйволы там гораздо крупнее, чем наши. Но никто не знает точно, где он расположен.
— И никто его не видел?
— Видели. Но каждый, кто увидит Хуфайз, становится заколдованным, и никто уже не может понять, что он говорит. Клянусь Аллахом, это правда. Один из фартусов видел этот остров много лет назад, когда я был еще мальчиком. Он разыскивал своих буйволов… Когда он вернулся, его речь была бессвязной, и мы поняли, что он видел Хуфайз.
Саддам сказал:
— Сайхут, великий шейх племени аль бу-мухаммед, пытался найти Хуфайз с целой флотилией лодок еще тогда, когда здесь были турки, но не нашел ничего. Говорят, что джинны прячут остров, когда кто-нибудь подходит к нему близко.
Я сделал несколько скептических замечаний, но Саддам настойчиво сказал:
— Нет, сахеб, Хуфайз действительно существует. Спросите кого угодно — хоть шейхов, хоть власти. Все знают про Хуфайз.
Мы зашагали по берегу к деревне, ступая по хрупкому ковру из белых витых ракушек размером от дюйма до полудюйма. Я осмотрел несколько из них, но они оказались пустыми. Мне интересно было узнать, принадлежат ли они пресноводным улиткам, которые летом переносят паразитов, вызывающих шистоматоз. Эти микроскопические плоские черви живут в воде в теплое время года. Они могут проникнуть через кожу человека и затем попадают в мочевой пузырь, где размножаются, вызывая кровотечение и часто сильные боли. Их яйца покидают тело человека с мочой, готовые начать новый цикл. Шистоматоз — бич озерного края, и все маданы страдают от него. Это неизбежное следствие их образа жизни.
Несколько девушек несли воду в глиняных кувшинах, держа их на голове. Чтобы наполнить кувшины, они заходили в воду всего на несколько футов от берега. Берег обычно используется как общественная уборная, и каждый кувшин наверняка содержал прелюбопытную коллекцию местных микробов. Теоретически каждый обитатель озер должен быть заражен дизентерией и множеством других эндемических заболеваний, но практически большинство маданов приобретают определенный иммунитет. Во всяком случае, яркий солнечный свет, по-видимому, убивает большинство микробов. Соблюдать какие-то меры предосторожности оказалось для меня нереальным — вот только я старался летом не заходить в воду вблизи деревень. Я ел пищу этих людей и пил ту же самую воду, часто пользовался их постельными принадлежностями и постоянно подвергался укусам комаров, песчаных мух и блох. За все те годы, что я провел на озерах, у меня один раз был синусит и один раз я перенес в легкой форме дизентерию, от которой вылечился за четыре дня. За исключением этих двух случаев, я не страдал ни от чего более тяжелого, чем головная боль.
Было бессмысленно волноваться по поводу болезней, которые я мог подхватить. Гораздо труднее было справиться с брезгливостью по отношению к еде и питью.
9. В глубине озерного края
Когда Саддам и я вместе с нашим хозяином вернулись в дом, солнце уже зашло за горизонт. Сахайн читал молитву, которую творят на закате. Среди маданов некоторые старики, в основном заиры, молились регулярно. Немногие, как Сахайн, читали только утренние и вечерние молитвы. Большинство же не молилось вовсе. Когда творили молитву, сначала клали перед собой брусочек священной земли из Кербелы, которого касались лбом, простираясь ниц. Брусочки хранились в небольшой корзине, висевшей на стене.
Закончив молитву, Сахайн положил брусочек обратно в корзину, разжег огонь и пригласил меня погреться у очага. Мальчик принес лампу — заполненную наполовину керосином бутылку с фитилем из полоски ткани; фитиль был закреплен в горлышке бутылки комком, слепленным из фиников. В соседнем доме тихо переговаривались двое мужчин. Слышно было каждое слово. Стены двух домов, каждая толщиной в одну циновку, отстояли друг от друга не более чем на два фута. Вскоре я понял, что эти люди не знали в своей жизни уединения и не стремились к нему. Они принимали как должное тот факт, что все, что касается одного из них, касается всех. Если в семье вспыхивала ссора, соседи были тут как тут, давая советы, становясь на ту или иную сторону и внося свою лепту в общий гвалт. Единственный способ поговорить наедине — отправиться с собеседником вдвоем в лодке. Но даже и в этом случае предмет разговора вскоре становился известным всем, так как люди были чрезвычайно любопытны и совершенно неспособны хранить что-либо в тайне.
После обеда начали собираться посетители. Когда, казалось, не было уже места даже для ребенка, двое или трое протискивались через дверь и ныряли в толпу. Стены из тростниковых циновок еще чуть-чуть выпячивались наружу, и гости наконец устраивались. Оставалось свободным только место у очага. Наши гребцы пели, а все остальные громко разговаривали, чтобы слышать друг друга. Хозяин угощал всех сигаретами, и даже совсем маленькие мальчики дымили, если им удавалось заполучить окурок. Снова и снова заваривали чай, в очаг подбрасывали топливо. Струи голубоватого дыма поднимались и плыли над нашими головами на фоне тростниковой крыши. Как хорошо мне было в этой первозданной обстановке!
Зажатый в углу, я подремывал. Наконец гости с трудом поднялись на ноги и выбрались наружу мимо женщины, кормившей грудью ребенка рядом со вторым очагом, в котором догорал огонь. Мы расправили циновки и изодранные коврики, я вытащил из сумки свои одеяла. Хозяин принес из другого конца комнаты постельные принадлежности. Мы улеглись спать друг возле друга, а хозяин сел у огня охранять нас. В бок мне впивался твердый ком земли под циновками, комары упорно пытались прорваться к моему лицу, а под рубашкой вовсю шныряли блохи. В нескольких шагах от моей головы топтались буйволы, невдалеке лаяла собака. Потом я уснул и крепко спал, пока меня не разбудили мои товарищи, поднявшиеся с рассветом.
За ночь ветер стих, было ясное, солнечное утро. Буйволы сами, без присмотра, направлялись на пастбища. У оседлых маданов, в противоположность кочевникам, буйволов не пасут стадами, они пасутся сами по себе. Сахайн и Саддам заспорили, пересекать ли озеро Зикри или плыть другим путем. Я стал уговаривать их пойти через Зикри, так как хотел увидеть озеро.
Саддам сказал:
— Тебе не захочется смотреть на озеро, если нас застигнет ветер. Крупные озера очень опасны, В прошлом году буря застигла свадебную процессию, возвращавшуюся в Кубур, на озере Дима. Две лодки пошли ко дну, и в них — восемь человек. Ты видел Диму — ведь это маленькое озеро, не то что Зикри.
Сахайн поддержал его:
— Да, сахеб, озера опасны. Мы живем здесь и хорошо знаем это. Четыре года назад, как раз в это время года, утонули два человека, а третий вскарабкался на плавучий островок касаба. Его нашли только через пять дней. Дважды он видел лодки, но люди не слышали его криков. Он чуть не умер от голода и холода.
После завтрака мы стали переносить в лодку мой багаж. Наш хозяин и его сын и пальцем не шевельнули, чтобы помочь нам. Когда я позже упомянул об этом с некоторым неодобрением, Саддам объяснил, что хозяин всегда помогает гостям внести вещи в дом, но никогда не выносит их обратно, чтобы это не выглядело так, будто он спешит избавиться от гостей.
Он сказал:
— Мы пойдем через Зикри, раз ты хочешь взглянуть на это озеро, и проведем ночь в Рамле у бени умайр. Но если поднимется ветер, мы пойдем более длинным путем.
Мы добрались до озера после двухчасового плавания по множеству узких незаметных проходов в чаще высокого тростника. Когда я увидел впереди сверкавшую на солнце открытую воду, я сначала почувствовал разочарование: озеро показалось мне не больше, чем Дима. За открытой водой стеной стоял касаб. Только когда мы прошли уже половину пути, я понял, что тростник рос на множестве плавучих островков, многие из которых находились друг от друга на значительном расстоянии. За этой каймой островков и лежало озеро Зикри. Сидя на настиле на дне лодки, я не мог судить о его ширине — три мили или, может быть, шесть. Ветер был совсем слабый, но гребцы вдруг опустили весла. Они казались озабоченными. Я стал проявлять нетерпение, ведь я не знал, как обманчиво бывает такое спокойствие.
Четырьмя годами позже, в разгар половодья, мне пришлось пересекать обширное пространство в двенадцать миль шириной и шесть футов глубиной: залитый водой участок пустыни у западного края озер. Мы отправились на рассвете. Водная поверхность была абсолютно гладкой, не было ни малейшего дуновения ветерка. Тогда у меня уже была собственная таррада. На полпути Амара, один из моих четырех молодых гребцов, вдруг воскликнул испуганным голосом:
— О Аллах! Вы слышите?
Я напряг слух и услышал, как с севера над водой к нам шел ветер. Впереди, милях в шести от нас, я едва мог различить контуры пальм у деревни, к которой мы направлялись. Зарослей тростника, оставшихся позади, уже не было видно. Тут один из гребцов крикнул:
— Смотрите! Вон там парусная лодка. Хвала Аллаху! Скорее, сахеб, выстрели из винтовки, чтобы привлечь их внимание.
Наша таррада уже наполовину погрузилась в воду, когда парусная лодка подошла к нам. Ее экипаж поднял на борт мои ящики и взял пустую тарраду на буксир. Когда мы добрались до деревни, большие волны бились о берег и пальмы гнулись под натиском бури.
А сейчас, глядя на спокойные воды Зикри, я убеждал моих спутников пересечь озеро. Саддам сказал:
— Мы пойдем вдоль берега. Если задует ветер, укроемся в тростниках. Так медленнее, но безопаснее.
Я предполагал, что Зикри, как и Дима, имеет четко очерченные границы, с тростниковыми массивами на твердых берегах. Но по мере того как лодка двигалась от одной группы плавучих островков к другой, я понял: то, что казалось мне границей озера, было на самом деле еще одной цепью островков, за которой снова была открытая вода и снова островки. Вода глубиной в восемь-десять футов была совершенно прозрачная. Под ее поверхностью спутанные заросли темной гибкой травы, похожей на морские водоросли, качались, влекомые течением. Это была наяда (Najas marina), водяное растение с острыми листьями, которое маданы называют сувайка. Они считают, что эти заросли — место нереста рыб. Десятка два пеликанов, нарядно-белых в ярких лучах солнца, с негодованием поплыли прочь от нашей лодки, повернувшись к нам большими желтыми клювами и не спуская с нас глаз. Саддам стал упрашивать меня подстрелить пеликана; маданы используют их горловые мешки для обтяжки барабанов. Но у взбудораженных птиц был столь комичный вид, что я, желая спасти их, возразил, что выстрел спугнет уток, темными рядами сидевших на воде вдали от нас. За пределами ружейного выстрела из тростника с шумом поднялась цапля-голиаф и, медленно и тяжело махая крыльями, полетела прочь. Один из моих спутников сказал:
— Если бы ты подстрелил ее, мяса хватило бы на всех. В ней веса не меньше, чем в овце, и мясо у нее вкусное.
Высоко над нами парили несколько орлов. На озерах почти всегда парят в небе орлы, как в Африке — грифы.
В заливчике на дальнем краю Зикри нам повстречались три лодки, в каждой из которых сидел мальчик. Возле лодок в воде плавали несколько рыб — на мой взгляд, дохлых. Один из людей Сахайна предложил подобрать их, но Сахайн нетерпеливо ответил;
— Не дури! Мы не знаем этих людей. Нам ни к чему раздражать их. Давай попросим их, и они наверняка дадут нам рыбы.
Мальчики сказали, что они из Рамлы, деревни близ Евфрата, и дали нам полдюжины рыбин, каждая весом около двух фунтов. Это были усачи, которых здесь называют бинни. Маданы травят рыбу зимой, а также весной, до паводка. Для этого они используют датуру (снадобье, которое покупают у местных торговцев). Его закатывают в шарики из муки и куриного помета. Датура усыпляет рыбу, и она всплывает, после чего собрать ее не стоит труда.
Я спросил Саддама, ловят ли маданы рыбу сетями. Он ответил:
— Нет, никогда. Только дикари используют сети. Члены племен бьют рыбу острогой.
— Кто такие «дикари»?
— Да просто дикари, презренные люди, которые ловят рыбу сетями. Они живут среди племен. Среди аль бу-мухаммед их много.
Саддам продекламировал двустишие о том, что «дикари», подобно ткачам и коробейникам, мастерам по металлу, огородникам и сабейцам,[12] — отщепенцы и не могут быть на равной ноге с членами племен, ибо занимаются торговлей. У самих маданов, как и у всех арабов племен, богатство, как таковое, не пользуется особым уважением, а торговля как род занятий совершенно презирается. Положение человека целиком определяется его характером, личными достоинствами и происхождением.
Пройдя озеро Зикри, мы снова вошли в густые заросли тростника. Задолго до Рамлы глубина проходов уменьшилась, и гребцы с трудом продвигали лодку вперед. Шесты из касаба вообще очень хрупки. Когда я впоследствии пытался идти с шестом, он сломался у меня при первом же толчке; но мои спутники налегали на них всем своим весом, каждый раз немного продвигая лодку вперед. Шесты делали из того же гигантского двадцатипятифутового касаба, который шейхи использовали для своих мадьяфов. Его можно было найти лишь в определенных районах озерного края. Маданы всегда берут с собой несколько запасных шестов, но нередко одним и тем же шестом пользуются много месяцев. В это утро, неуклюже залезая в лодку, я ухитрился сломать три шеста.
Добравшись наконец до Рамлы, мы достигли противоположной границы озерного края. Хотя вблизи деревни рос и тростник и камыш и люди передвигались ни лодках, среди домов и на открытой равнине за деревней стояли пальмы. Мы остановились в мадьяфе. Наш хозяин повел меня прогуляться по деревне, которая была перерезана глубокими полноводными каналами; через них были переброшены мостики из пальмовых стволов. Мы прошли мимо лавки, едва видной за грудами тростниковых циновок, и немного дальше остановились понаблюдать за семьей, которая изготовляла циновки. Старик сидел, скрестив ноги, на земле, у кучи сухого касаба; каждый стебель был футов восемь длиной и толщиной в средний палец руки. Старик разрезал стебли вдоль на две половинки изогнутым ножом и перебрасывал женщине, которая отбивала эти половинки деревянным пестиком, чтобы сделать их мягче, пользуясь утяжеленным концом пестика, имевшим короткую массивную поперечину. Она обрабатывала одновременно около двадцати половинок, уложив их друг возле друга. После этого мальчик сплетал их «елочкой». Циновки были размером примерно восемь на четыре фута. Наш хозяин сказал, что на одну циновку уходит два часа и платят за нее пятьдесят филсов (около шиллинга).
Мы вышли на равнину. Земля была покрыта увядшей осокой, напоминавшей стерню. Это говорило о том, что равнина при разливе покрывается водой. Сейчас земля была тверда, как железо, и отпечатки копыт были как будто отлиты в гипсе. В воздух с криками поднялись ржанки, сделали круг и снова сели; серые и белые цапли взлетали, как только мы приближались к ним; степной лунь, сносимый ветром, пролетел низко над землей, кренясь и поворачиваясь. Темнеющие купы пальм вдали обозначали деревни на берегу Евфрата.
Мы вернулись в мадьяф на закате. Гости разошлись рано, приговаривая, что мы, должно быть, устали после путешествия. Мы легли спать. Где-то в деревне женщина оплакивала умершего ребенка. Без всякой передышки, час за часом она твердила слова: «О сын мой, сын мой!» — воплощение безысходного горя, изливавшегося в ночь и не находившего утешения.
На следующий день мои спутники собирались вернуться домой, оставив меня совсем одного.
10. Немного истории
В Ираке история человечества началась как раз на пороге озерного края. Давным-давно, во тьме веков, какой-то народ, уже довольно развитой в социальном и культурном отношении, спустился с Иранского нагорья и осел в дельте Евфрата. В V тысячелетии до н. э. эти люди строили тростниковые дома и лодки, били рыбу острогой и ловили ее сетями. Они жили так же, как люди живут здесь и сегодня, в природных условиях, которые почти не изменились. Примерно через пятнадцать веков они были поглощены или вытеснены каким-то другим народом, пришедшим в Ирак из Анатолии. Пришельцы привели с собой одомашненных буйволов, они умели обрабатывать металл и владели искусством письма. Каждый народ оставлял на своей неповторимой керамике летопись своих странствий. Затем примерно за 3000 лет до н. э. на землю обрушился великий потоп, но люди каким-то образом выжили. Шумеры основали свои города на местах древних поселений, погребенных под толщей ила, и создали то, что, вероятно, было первой цивилизацией на свете.
Прошли века. Поднялся Вавилон, и пал Шумер. В 728 году до н. э. грозные ассирийцы на колесницах, влекомых лошадьми, потрясая железным оружием, истребили амореев и сровняли Вавилон с землей. Изнуренные войнами и завоеваниями, они были, в свою очередь, покорены мидянами. В 606 году до н. э. могущественный ассирийский город Ниневия был взят штурмом[13] и превратился, как сказано в Библии, в «развалины, в место сухое, как пустыня». Вавилон, вновь поднявшийся из руин при халдеях, пережил Ниневию на семьдесят лет, после чего был разрушен Киром, который предал огню висячие сады Навуходоносора. В течение тех же 2000 лет территорию современного Ирака завоевывали и другие народы: дикие, не знающие закона гутии, опустошившие Шумер, касситы, хетты, которые однажды разграбили Вавилон, митаннийцы, принесшие чужих богов из Индии, народ Элама.
После того как Кир захватил Вавилон в 539 году до н. э., эта территория на тысячу с лишним лет попала под чужеземное господство, становясь иногда важной провинцией империи, а иногда полем битвы соперничающих держав. Армии персов, греков, парфян, римлян, а потом снова персов топтали эту землю, стремясь либо удержать ее, либо отвоевать у других. Когда в начале VII в. н. э. арабы вышли из пустыни и захватили эту территорию, они лишь добавили еще одно имя к перечню чужеземных завоевателей.
Надежда на добычу была побудительным мотивом, а принадлежность к исламу, их новой религии, — тем связующим раствором, который объединял кочевые племена. Приветствуемая местным населением или принимаемая им с безразличием, новая власть захватывала государственные земли, но не трогала наделы тех, кто признавал ее. Отнюдь не будучи фанатиками, жаждущими обратить других в свою веру, арабы рассматривали ислам как привилегию своего народа и поначалу не позволяли неарабу принять их веру, если только его не принимало какое-нибудь арабское племя. Такие псевдоарабы были известны под именем мавали. Немусульмане облагались особым налогом, и массовое обращение в ислам не поощрялось. В течение следующих 116 лет территория Ирака была провинцией Арабского халифата, управляемой сначала из Медины в Хиджазе, а потом из Дамаска, за исключением короткого периода, когда Али, четвертый халиф, правил в Эль-Куфе. Все эти годы арабское население представляло собой лишь прослойку военной аристократии, жившей в основном в городах и состоявшей на службе у правительства. Когда после гибели Хусейна в Кербеле в 681 году н. э. возник шиизм, он оказался особенно притягательным для иракских мавали, поскольку шиизм в религиозной форме отражал их недовольство существующим порядком. Великолепие двора, роскошь, окружавшая, к примеру, Харуна ар-Рашида, пышные одежды, сложный этикет и церемониал, евнухи и дворцовые палачи — все это не имело ничего общего с той простой жизнью, которую вели первые халифы в Хиджазе.
Аббасидский халифат просуществовал 500 лет, пройдя путь от величия ранних правителей до хаоса последних дней. Последний из халифов был казнен, когда в 1258 году Хулагу захватил Багдад; его смерть добавила лишь еще один труп к 800000 тел его сограждан, вырезанных ворвавшимися в город монголами. В 1401 году Багдад был снова разграблен, на этот раз Тимуром, последним из великих монгольских завоевателей; резня уступала по своим масштабам предыдущей лишь потому, что население города теперь было меньше, После Тимура пришли туркмены, сначала «Белые бараны», а затем «Черные бараны»;[14] после них в 1508 году — персы, за которыми в 1534 году последовали турки, владевшие страной до тех пор, пока их не вытеснили оттуда во время первой мировой войны англичане. К тому времени территория Ирака являла жалкое зрелище. Обосновавшись в нескольких маленьких городках, турецкие чиновники пытались учредить некую видимость власти над неуправляемыми племенами, обитавшими в этой нищей провинции обреченной империи.
На протяжении тысячелетий, со времен шумеров, эта земля имела оседлое население с городами и устойчивым сельским хозяйством. Завоеватели грабили города и вырезали жителей, но все они, кроме монголов, всегда строили новые города, внося свой вклад в цивилизацию, которая была здесь до них. Более всего они заботились о каналах, по которым на поля текла животворная вода. Но смуглые всадники, которых Чингисхан точно волшебством вызвал из пустынь Центральной Азии, находили удовольствие только в разрушении. Их монументами были пирамиды из человеческих черепов. Когда этот вихрь разрушения, пронесшийся над Ираком, в конце концов утих, результаты многовековой работы были уничтожены: ирригационная система, от которой целиком зависело процветание страны, была безнадежно разрушена. Многие из повреждений были сделаны с умыслом, но большинство явилось результатом полного бездействия. Для очистки каналов, укрепления и восстановления берегов, для постройки плотин, регулирующих разливы, требовались организация и неустанный, бесконечный труд. Но после того как ушли монгольские орды, оставшихся в живых было слишком мало и дух их был слишком сломлен, для того чтобы взяться за эту работу. Поля превратились в пустыни, а драгоценная вода рассеялась в болотах. Вдоль рек люди еще продолжали заниматься земледелием, но в целом Ирак перестал быть страной сельскохозяйственной и стал страной скотоводческой. Города, бывшие одними из величайших в мире, превратились в убогие деревушки.
Арабские кочевники, жившие за Евфратом, проникли в страну и стали пасти свои стада на холмах, где некогда стояли царские дворцы. В то время как арабы эпохи Халифата оседали в процветающих городах и постепенно ассимилировались местным населением, эти новые пришельцы с черными шатрами, стадами верблюдов, овец и коз поделили страну на пастбищные угодья. Систему правления, опирающуюся на сеть городов, сменили родовые законы шатров. В этих условиях человек мог обеспечить себе безопасность, только будучи членом племени, и в результате запуганные и разобщенные земледельцы присоединялись к любым кочевникам, которые были готовы принять их. Смирившись со своим более низким социальным положением, земледельцы подражали поведению и обычаям этих аристократов пустыни и старались превзойти их деяния. Со временем старые различия стерлись и два разных пласта населения перемешались. Одни племена осели на земле, другие отказались от верблюдов и стали навьючивать свои шатры на ослов.
Арабы пустыни, переместившиеся на территорию Ирака, по численности далеко уступали населению, жившему здесь до них, но именно их обычаи и установления стали господствующими. Коренные жители территории Ирака могли бы с гордостью говорить о своем происхождении от шумеров или вавилонян, от ассирийцев, чьи армии опустошали Египет, от персов — воинов Кира, Дария и Ксеркса или от парфян, которые изгнали отсюда римские легионы. Но вместо этого они похвалялись тем, что происходят от бедуинских племен. Александр Великий тоже проходил по этим землям, и в Передней и Средней Азии магическая сила его имени все еще жива в горных долинах, где люди утверждают, что они — потомки его воинов. Но на земле Ирака о нем забыли. Когда я слушал стариков, рассказывавших у огня легенды о храбрости и великодушии, героями этих историй были отнюдь не Александр Великий в двурогом шлеме, не утопающие в роскоши халифы Багдада, а непритязательные пастухи аравийских пустынь.
Кочевые арабы пустыни во все времена были готовы к жизни, полной лишений. Для них не существовало покоя, лишь вечная усталость долгих перекочевок и изнурительного труда у источников. «Мы бедуины», — похвалялись они и требовали только свободы, которая им принадлежала по праву. Стоически относясь к боли, эти зачастую весьма отважные люди жили ради набегов, которые проводились согласно установленным правилам и обычно в рыцарском духе. Эти арабы самозабвенно гордились опасностями и страданиями, выпадавшими на их долю, и никогда не сомневались в своем превосходстве над земледельцами и горожанами. Чистокровные — так они называли себя, используя то же самое слово асиль, которое они применяли, говоря о своих знаменитых лошадях и верблюдах. Они действительно происходили от одного из самых «чистых» по крови народов, они веками не вступали в смешанные браки; у них были широко распространены браки между двоюродными братьями и сестрами, От вырождения их спасала суровая природа их родного края, в котором выживали только лучшие, а все остальные были обречены на гибель. Привыкшие с детских лет к постоянному недоеданию, они по-настоящему голодали, когда не выпадали дожди, что случалось довольно часто, и рассматривали жажду как обыденное, повседневное неудобство. Временами, однако, они недооценивали серьезность переносимых лишений, и тогда приходила смерть. Долгие летние месяцы они превозмогали жару, которая опаляла их, словно пламя в открытой печи. Лето было тяжелым временем для мальчиков-пастухов. Впрочем, зимой было не лучше: ледяные ветры проносились над голыми песками, косые дожди пронизывали до костей. Длинными зимними ночами они лежали на земле, завернувшись в свои убогие одежды, и к утру кости застывали так, что они не могли пошевелиться. В хороший день им доставалось на завтрак и на ужин по чашке молока верблюдицы — и больше ничего. Над ними всегда висели угрозы набега, страх перед кровной местью и неожиданной смертью.
Кочевая жизнь позволяла бедуину иметь немного имущества; все, что не являлось необходимым, было обузой. Одежда, которая была на них, оружие и седельное снаряжение, несколько горшков и бурдюков, шатры из козьих шкур — вот все, чем они владели. Разумеется, у них были еще животные, от благополучия которых зависела вся их жизнь, ради которых они бодро переносили все лишения. Высокомерные и гордые люди, индивидуалисты до мозга костей, они никогда по своей воле не признавали никакого господина и предпочитали смерть унижению. Чрезвычайно демократичный народ, бедуины тем не менее высоко ценили происхождение и в течение веков кинжалом охраняли чистоту своей крови. К своим шейхам они относились с уважением соответственно их происхождению, но не более, если они того не заслуживали. Глава племени был первым среди равных. У него не было слуг, которые могли бы навязывать другим его волю и приводить в исполнение его приговоры. Соплеменники следовали за ним только до тех пор, пока он пользовался их уважением, а он правил ими только до тех пор, пока они подчинялись ему. Если они разочаровывались в нем, они шли за другим членом его семьи, и его гостевой шатер пустовал.
Когда люди живут в тесном кругу посреди пустыни, утаить что-либо невозможно, каждое деяние становится известным, ни одно слово не может не быть услышанным. Будучи любознательными, бедуины знали обо всем, что происходило вокруг, и вопрос «Что нового?» неизменно задавался после каждого приветствия. Если человек выделял себя среди других, его товарищи провозили его на верблюде по кочевому стану, восклицая; «Да выбелит Аллах лицо такого-то!» Если он покрыл себя позором, его везли с криками: «Да вычернит Аллах лицо такого-то!», и он становился изгоем. Стремясь завоевать признание, они шли на все ради этого, и многие их поступки несут на себе налет театральности. С недоверием относясь к чужакам, бедуины были глубоко преданы своим соплеменникам. Обмануть товарища — самый тяжкий грех; намного страшнее, чем убийство: ведь пренебрежение к человеческой жизни привело этих людей к таким актам кровной мести, когда, например, убивали безоружного пастушонка. Однако, с пренебрежением относясь к своим страданиям и к страданием других, бедуины никогда не проявляли умышленной жестокости. Их честь было легко задеть, и они всегда без промедлений мстили за оскорбление, подлинное или воображаемое, но, как правило, были веселы и беспечны. Их характер был средоточием противоположностей. Словоохотливые по природе, они всегда заботились о своем достоинстве и просиживали часами в полном молчании, когда того требовал этикет. Безразличные к красотам природы, они страстно любили поэзию. Безмерно щедрые, они зачастую могли отдать последнюю рубашку тому, кто ее попросит. Их гостеприимство было легендарным: бедуин мог не задумываясь забить одного из своих драгоценных верблюдов, чтобы накормить путника, забредшего в его шатер. Но в душе они были бережливы и любили деньги. Они были глубоко религиозными людьми и во всем усматривали перст божий. Усомниться в существовании Аллаха для них было так же немыслимо, как совершить богохульство. И в то же время они не были ни фанатиками, ни пассивными фаталистами. В своей трудной жизни они всегда боролись до самого конца, а потом с достоинством покорялись судьбе, как проявлению воли Аллаха.
Озера, край со сложным лабиринтом тростниковых зарослей, где можно было передвигаться только на лодке, естественно, стали убежищем для людей, потерпевших поражение. Озера издавна были центром неповиновения закону и сопротивления. Великий ассирийский царь Саргон был разбит жившими в этих местах халдеями. Через десять лет, покорив Египет и завоевав Израиль, он вернулся и победил в сражении, происшедшем в районе озер в 710 году до н. э. Битву эту он увековечил на фризах своего дворца в Хорсабаде. Он взыскал за свое поражение сполна и в конце концов вытеснил халдеев в Сирию, поселив вместо них хеттов, которых взял в плен в горах к северу от озер.
Через шестнадцать столетий озерный край стал оплотом зинджей,[15] чей мятеж угрожал самому существованию Аббасидского халифата. Бесчисленные рабы, в основном африканцы, использовались для осушения местности вокруг Басры. С ними обращались с невообразимой жестокостью. Они восстали, перебили охрану и стали терроризировать окрестности. Их восстание сразу потопили бы в крови, если бы у них не оказался незаурядный вождь. Под руководством перса Али ибн Мухаммеда им удалось продержаться в течение четырнадцати лет (869–883), разбивая все войска, которые посылал против них халиф. Они взяли Басру штурмом и разграбили ее, захватили Ахваз в Юго-Западном Иране и грабили селения в двадцати милях от самого Багдада. Но силы были все же неравны. Али отказался сложить оружие, его армия была наконец разбита. Голову Али с ликованием доставили в Багдад.
К XVII веку родовой образ жизни на озерах и вокруг них начал складываться в его теперешнем виде. Мунтафик, великий союз племен, который господствовал в низовьях Евфрата в течение 300 с лишним лет, образовался, когда некий беженец из Мекки стал посредником в каком-то споре и поплатился за это жизнью. Племя бени малик, к которому он себя причислял, бежало в пустыню, взяв с собой его малолетнего сына. Мальчик вырос и затем привел племя обратно к берегам Евфрата, чтобы разбить своих врагов. Его слава и влияние ширились, все больше и больше племен признавали его руководство: и племена кочевников — аристократов пустыни, и скотоводческие племена с сомнительной родословной, и всеми презираемые маданы. В период своего расцвета Мунтафик фактически был независимым государством, способным на равных бороться с турецким правительством. Еще ниже по Евфрату осело племя бени асад — вокруг Эль-Кабаиша, где оно живет и теперь. Бени асад тоже доставили туркам немало хлопот в пору своего взлета. В тот же период к западу от Эль-Курны осело племя бени умайр, а каабы господствовали на востоке озерного края. На Тигре Мухаммед и два его сына, в жилах которых текла кровь также и племени ферайгатов, подчинили себе группу племен, которые теперь называют себя аль бу-мухаммед. Дальше к северу внук некоего Лама стал во главе бени лам («детей Лама») — мощного племени скотоводов, насчитывающего 100000 человек.
Кровь многих народов, населявших территорию Ирака на протяжении тысячелетий, вероятно, текла в жилах тех, кого надежно укрывали озера и болота. Но основой всей жизни маданов, стержнем всего их уклада, от кровной мести до поведения за столом, был неписаный свод законов бедуинов.
11. Удачное начало
Эль-Кабаиш расположен на северном берегу Евфрата. Здесь течение глубокое и медленное, ширина реки — около ста ярдов. Вдоль этого берега тянется густая пальмовая роща шириной в несколько миль, а противоположный болотистый берег местами порос тростником. За цементированной площадкой, окаймленной фонарными столбами, располагался ряд неказистых кирпичных зданий — районная администрация, полицейский участок, небольшая аптека, школа, клуб и жилые дома чиновников. Некоторые здания были построены совсем недавно, но все почему-то выглядели заброшенными. Их несообразный внешний вид был бы, возможно, оправдан, если бы они могли предложить большие удобства и блага цивилизации по сравнению с тем, что можно было найти в соседних деревнях.
Базар, расположенный на одном конце площадки, состоял из ряда лавок, напоминавших будки. Бетонный мостик украшал другой конец площадки, но его назначение было загадочным, ибо он вел прямо в обширную заводь. Мудир (местный начальник), который, прежде чем стать государственным служащим, был плотником, лично наблюдал за возведением мостика. За исключением этого участка набережной, Эль-Кабаиш был приятным местом. За фасадами государственных зданий оказалось множество островков, поросших пальмами и отделенных друг от друга каналами, украшенными ковром водяного лютика; его белые с желтой сердцевиной цветочки благоухали медом. В тени пальм стояли тростниковые дома и несколько мадьяфов, в одном из которых я и остановился.
Я заехал в Эль-Кабаиш через несколько дней после того, как расстался с Саддамом и его людьми в Рамле, чтобы показать мудиру письмо от министра внутренних дел, разрешающее мне путешествовать везде по моему усмотрению. В Ираке каждая провинция, или лива, управляется мутасаррифом и делится на две или более кады. Ими, в свою очередь, управляют каймакамы, и делятся они на нахии, которыми руководят мудиры. Эль-Кабаиш был нахией в каде Сук-эш-Шуюх в провинции Мунтафик, столица которой — Эн-Насирия.[16]
Вскоре после прибытия я посетил мудира, который пригласил меня пообедать с ним в клубе. Клуб оказался примитивно построенным кирпичным зданием, в котором при здешнем климате летом было жарко, а зимой — холодно и сыро. Здание стояло за изгородью из тростниковых циновок, подле которой росли чахлые от недостатка влаги циннии. На затоптанном газоне стояли выкрашенные в зеленый цвет железные стулья и несколько круглых железных столов. Мы застали в клубе двух-трех чиновников, остальные появились позже. С большинством из них я уже успел познакомиться утром. Мы сели за столы, и нам подали чай. Его разносил задерганный старик, одетый в истрепанные, чересчур просторные брюки цвета хаки и чересчур тесную куртку. Один из школьных учителей вынес из здания клуба радиоприемник, подключил к нему антенну и провел следующие четыре или пять часов, вертя ручки настройки. На фоне музыки, песен, декламации со всех концов света и шума атмосферных помех собравшиеся толковали о своем жалованье, о политике арабских стран и о скандале, который разразился недавно в официальных кругах Эн-Насирии. Не питая любви к араку, я стакан за стаканом пил сладкий черный чай — единственный напиток в клубе кроме арака. Мои хозяева, не разделявшие моих предубеждений, непрерывно поглощали арак, споры их становились все горячее, и они, казалось, забыли, что пригласили меня к обеду. За тростниковой оградой астматически «дышал» генератор, питая единственную лампочку, висевшую над нашими головами без всякого абажура; малоприятный набор насекомых, привлеченных ее светом, дождем сыпался на столы. Железный стул, на котором я сидел, добавлял к скуке физическое неудобство. Было уже за полночь, когда мудир наконец вспомнил, что надо заказать обед, и кебаб и рис не стали лучше от того, что их так долго не подавали.
Большинство этих чиновников родились в радиусе ста миль от Эль-Кабаиша, но полученное ими образование привело к тому, что они чувствовали себя как дома только в городах. Пребывая, как в ссылке, в этой чуждой им атмосфере, они мечтали о переводе по службе и тратили массу времени, добиваясь этого. А пока они находились здесь, они замкнулись в пределах нескольких сот ярдов: дом — контора — клуб. За все годы, проведенные мною в Ираке, мне ни разу не встретился чиновник, который испытывал бы подлинный интерес или привязанность к племенам, находившимся в его ведении. Многие чиновники спрашивали меня, как я могу выдерживать жизнь среди маданов, добавляя при этом, что они не лучше диких зверей.
Не интересовали их и окрестности. Прошлым летом я провел день в обществе молодого полицейского офицера в Иракском Курдистане, в одном из самых красивых уголков, которые мне приходилось видеть. Он был назначен туда на два месяца, на время пребывания в этом районе большого кочевого племени. У подножия гор высотой 8000–9000 футов росли дубравы, сменявшиеся выше зелеными лугами; сверкающие потоки ледяной воды сбегали вниз, к далеким хребтам лиловатых гор. В лесах водились медведи, среди скал — каменные козлы. Погода была превосходная. Когда я зашел в палатку к молодому офицеру, он сидел у радиоприемника. Пепельница была полна окурков.
— Вы счастливчик, что живете здесь, — сказал я с энтузиазмом.
Тут он взорвался:
— Счастливчик?! Да если бы не приемник, я бы сошел с ума. А что еще делать цивилизованному человеку в этом ужасном месте? Мой предшественник выбрался отсюда через неделю. Он дал денег, и его перевели. Я беден и не могу себе этого позволить. Вот я сижу здесь да и слушаю передачи Багдада.
Эль-Кабаиш и соседние деревни вдоль Евфрата были населены бени асад. Это арабское племя, в истории которого было много и побед и поражений, было вытеснено в район озер 300 лет назад. В период расцвета оно поглотило много более слабых народностей, часто неарабского происхождения, которые искали его защиты и чья верность прибавляла ему силы. Из озерного края бени асад периодически вели нередко успешную войну с турками и даже после первой мировой войны продолжали совершать набеги. Наконец в 1924 году англичане разбили их и сместили их шейхов. С тех пор родовая структура распалась. Из-за природных условий земледелие в Эль-Кабаише всегда было занятием ненадежным, и в последние годы это племя, насчитывающее около 10000 человек, стало все интенсивнее заниматься изготовлением тростниковых циновок. Но, даже прожив 300 лет на озерах, они продолжали отличать себя от маданов. У них были коровы. Разведение буйволов они считали недостойным занятием.
В Эль-Кабаише царила атмосфера безделья и праздности, и поэтому я с радостью уехал оттуда. Я двигался на восток, добрался до края пустыни в Эль-Хамисие и повернул назад. Обычно я прибывал в какую-нибудь деревню утром. Я завтракал, а после полудня мой хозяин доставлял меня в следующую деревню. Каким бы бедным ни было хозяйство — а некоторые семьи были действительно очень бедны, — меня везде принимали радушно. И повсюду в течение месяца я сталкивался со сдержанным отношением и ловил изучающие взгляды. Нигде я не мог остаться наедине с самим собой, за каждым моим движением наблюдали, и даже когда я выходил, чтобы облегчиться, за мной следовал мальчик, чтобы отгонять собак. Могу себе представить, какие начинались разговоры, стоило мне выйти из комнаты: «Что ему нужно? Зачем он пришел? Ясно, ни один горожанин не захочет кормить комаров и есть нашу пищу, если у него нет на то особой причины. Наверное, правительство послало его шпионить за нами, пересчитать наших молодых мужчин или проверить, сколько у нас буйволов».
Мои хозяева были достаточно учтивы, но они явно старались поскорее от меня избавиться и обращались со мной как с «нечистым». Шииты рассматривают сохранение ритуальной чистоты как религиозный долг, и наиболее строгие из них не будут пить из чашки, из которой пил «неверный». Поскольку эти люди были куда менее щепетильными при соблюдении других религиозных установлении, подчеркивание именно этого различия казалось умышленным проявлением неуважения. Я стал задумываться над тем, примут ли они когда-нибудь меня, христианина и европейца, как равного, к чему я так стремился.
Но однажды на пути к фартусам, на север, я остановился в рабе, в большей деревне на земле племени амайра.
Хозяина рабы не было дома, но высокий красивый молодой араб радушно приветствовал нас. Мои гребцы, напившись чая, сразу же вернулись в свою деревню. Хозяин, чье имя было Абид (сокращение от «слуга Аллаха»), появился только вечером.
— Что у тебя в ящиках? — спросил он после обеда.
— Лекарства.
— Ты доктор?
— Я знаком с медициной.
— Ты умеешь делать обрезание?
Я никогда не делал эту операцию, но видел много раз, как делали ее в больницах, а также у арабов племен. Я набрался смелости и ответил:
— Да.
— Сможешь ли ты сделать обрезание моему сыну Харайбиду? Человек, умеющий делать обрезание, уже несколько лет не появлялся у нас, а моему сыну пора жениться. Нужно сделать обрезание.
Он указал на юношу, который утром принял меня в рабе. Сейчас он разливал кофе. Не без опасений я согласился сделать операцию утром.
Обрезание, хотя о нем и нет упоминания в Коране, считается обязательным для мусульманина по примеру пророка Мухаммеда, который был обрезан в соответствии с обычаем арабов. По закону необрезанный мужчина не может совершить паломничество в Мекку. Среди племен Южного Ирака — как маданов, так и скотоводов — операция часто откладывается до зрелого возраста; ее вообще редко делают до наступления половой зрелости. Обрезание делают специальные люди, которые летом объезжают деревни. Традиционное вознаграждение — петух, но чаще они взимают по пять шиллингов. Образчики их хирургии, которые мне довелось видеть позже, были ужасающими. Они пользовались грязной бритвой и куском бечевки и не применяли никаких антисептических средств. Закончив операцию, они посыпали рану специальным порошком и затем туго перевязывали ее тряпкой. Организм людей, живущих в суровых условиях, приобретает удивительную сопротивляемость инфекции, но подобных действий никто не может вынести безнаказанно, и мальчики иногда болели по два месяца, испытывая ужасные мучения. Один молодой человек как-то обратился ко мне через десять дней после обрезания, и хотя я приучил себя к неприятным зрелищам, то, что я увидел, было слишком даже для меня. Мне все же удалось вылечить его с помощью антибиотиков. Несмотря на то что быть необрезанным означало определенную социальную неполноценность, некоторые мальчики все же отказывались от обрезания. Иногда отцы не позволяли делать операцию своим сыновьям, потому что некому было присматривать за буйволами. Некоторые утверждали, что они были обрезаны ангелом при рождении — суеверие, которое распространено также в Египте. Позже я бывал в деревнях, особенно среди суайдитов и каулаба, в которых, по слухам, почти никто не был обрезан, хотя трудно представить, чтобы это могло быть среди мусульман.
Утром Абид предложил мне оперировать во дворе, чтобы не осквернить дом кровью. Группа людей собралась во дворе, где стояли и буйволы. Вряд ли это была идеальная операционная. Пришло несколько сверстников Харайбида — по-видимому, чтобы оказать ему моральную поддержку. Я выбрал себе в помощники смышленого на вид мальчика. Харайбид вынес большую деревянную ступу, перевернул ее и уселся на ней. Я приготовил шприц для местного обезболивания, но Харайбид спросил:
— А это для чего?
Я объяснил, что укол избавит его от боли.
— Нет, нет, я не хочу, чтобы в меня втыкали какие-то иголки.
Никакие уговоры не помогли. Мне стало казаться, что он нервничает не меньше меня, хотя он ничем это не выказывал. Пока я оперировал, он сидел абсолютно неподвижно, а когда я закончил, он поблагодарил меня и встал. Мой помощник, который держал различные хирургические инструменты, бросил их и, оттолкнув другого мальчика, уселся на ступу и сказал:
— Теперь моя очередь.
Я с ужасом понял, что все десять друзей Харайбида пришли делать обрезание. Младшему было около пятнадцати лет, старшему — двадцать четыре. Потом я узнал, что все они поправились в течение нескольких дней. Слух об этом достиг следующей деревни прежде, чем я туда добрался, и там десятка два мальчиков уже поджидали меня.
Со временем мало кто в этих деревнях решался прибегнуть к услугам местных специалистов по обрезанию. Они предпочитали ждать, пока я не появлюсь в их деревне, или разыскивали меня сами. Однажды пришло сто пятнадцать душ, и я работал до изнеможения, с рассвета до полуночи. Они верили, что после обрезания рана может воспалиться от запаха пекущегося хлеба или аромата благовоний. Поэтому они затыкали ноздри куском ткани и вешали на шею связку лука, если он продавался в местной лавке. Не полагалось также есть рыбу, творог и арбуз, пока совсем не поправишься; воды следовало пить очень мало. Местные лекари использовали эти суеверия как оправдание собственного невежества и неумения. Когда какой-нибудь несчастный юноша, морщась от боли, ковылял мимо них, они говорили нравоучительным тоном:
— Конечно же, этот болван не потрудился как следует заткнуть ноздри. Он, наверное, нанюхался запаха хлеба в печи, а может, пил слишком много воды.
К маданам никогда не приезжали врачи, а если они сами отправлялись в амбулаторию в Эль-Кабаише, их заставляли платить за лекарства, которые, по их утверждениям, не приносили им никакой пользы. С тех пор, где бы я ни оказался, число моих пациентов росло. Я не проводил и дня на озерах без того, чтобы не полечить кого-нибудь. Иногда желающих оказывалось с полдюжины, а иногда больше ста. Иной раз я еще спал, когда прибывали первые пациенты, и меня довольно бесцеремонно будил какой-нибудь старик, который хриплым голосом объяснял, что его мучит кашель. Многие страдали от простуды, головной боли, запора или от мелких порезов и ссадин. С этим я справлялся, хотя времени уходило немало. Но некоторые были серьезно — возможно, неизлечимо — больны. Я помогал им как мог, но иногда помочь было нечем. В таких случаях я горько жалел, что у меня нет настоящей медицинской подготовки.
Маданы болели трахомой и другими глазными болезнями, страдали от чесотки и геморроя, от камней в почках, от кишечных паразитов и дизентерии, амебной и вирусной, от шистоматоза и баджаля; это далеко не полный список их болезней. Баджаль был одной из самых распространенных и, возможно, одной из самых неприятных болезней. Это одна из форм фрамбезии, она очень заразна. Язвы, которые могли появиться на любой части тела, часто были очень большие и испускали сильное зловоние. Я обычно испытывал чувство дурноты, когда в комнате находилось несколько таких пациентов. Несомненно, в некоторых случаях я имел дело не с баджалем, а с сифилисом, но инъекции пенициллина были эффективны при обоих заболеваниях. Гонорея попадалась крайне редко: за семь лет я видел лишь три случая, и все три пациента заразились в Амаре. Я ничего не мог поделать с шистоматозом, от которого страдали все. Курс уколов должен был продолжаться месяц, а я никогда не задерживался так долго в одном месте. Удавалось вылечить моих гребцов, но они всегда заражались снова. Случались также эпидемии кори, ветряной оспы, свинки и коклюша, а в 1958 году — эпидемия азиатского гриппа, которым переболело большинство маданов. Мои лекарства спасли жизнь многим из них: после гриппа часто возникала как осложнение пневмония. Хотя мы день за днем были окружены заболевшими гриппом людьми, жаждущими лекарств, мои гребцы и я, к счастью, ухитрились не подхватить грипп. Я очень боялся гриппа в таких условиях.
К моему удивлению, я редко сталкивался с настоящей малярией. В большинстве случаев люди заболевали ею за пределами озерного края. Но многие маданы страдали от приступов лихорадки, а у большого числа детей была увеличена селезенка. Преобладающая здесь разновидность комара (Anopheles pulcherrimus) — менее активный переносчик малярии. Более опасная разновидность (Anopheles Stephensi) попадалась на озерах сравнительно редко.
Кроме того, мне приходилось иметь дело с несчастными случаями. Попадались люди с тяжелейшими ожогами — жертвы пожаров в домах; маленькие дети все время опрокидывали на себя котелки с кипятком. Приносили ко мне людей, пострадавших от кабанов. Иногда кабаны нападали на людей во время охоты, но чаще — во время заготовки тростника или сбора урожая. У одной жертвы кабана были раны на руках и бедрах и глубокая рваная рана на животе, из которой выпадали внутренности. К счастью, кишки были целы, и мне удалось вправить их в брюшную полость и зашить рану. К моему удивлению, он выжил. Один раз меня привели в дом осмотреть мальчика, которому оторвало половицу кисти — у него в руке взорвалось самодельное ружье. Единственное, что я смог сделать, — это ампутировать ему три раздробленных пальца. В другой раз двое мальчиков разбудили меня как-то ночью, и мы три часа добирались на лодке до их деревни. Мы прибыли на рассвете. Их отец, зажав руками глаза, корчился на полу от боли. Они рассказали мне, что он ослеп на один глаз после удара по голове два года тому назад. Теперь какое-то внутреннее давление, казалось, выдавливало мертвое глазное яблоко из глазницы, и единственным выходом было попытаться удалить его. Я имел некоторое представление о строении глаза, так как мне приходилось свежевать убитых на охоте животных для изготовления чучел. Я дал старику морфий и удалил глаз. Сыновья крепко держали его. Несмотря на морфий, он корчился и стонал. Я и сам был изрядно потрясен. Придя в себя, он заявил, что теперь боль стала намного меньше. Я прожил у них два дня; когда мы встретились через полгода, старик чувствовал себя хорошо.
Но было много случаев, когда я решительно ничего не мог сделать, да и неудачи случались часто. До сих пор меня преследует лицо маленького мальчика, умиравшего от дизентерии. И очень часто было невероятно трудно убедить маданов в том, что я бессилен. Они привозили ко мне, иногда издалека, старика, умирающего от рака, или девочку, задыхавшуюся от глубокого кашля, вызванного активным туберкулезом, совершенно убежденные в том, что я смогу вылечить этих больных. Они вновь и вновь жалобно умоляли меня:
— Только дай нам лекарство, сахеб! Дай нам лекарство!
Некоторых можно было бы вылечить, если бы они отправились в больницу в Амару или Эн-Насирию, но они панически боялись больниц и редко соглашались следовать моему совету.
Доктора в Маджаре, Эль-Кабаише и Амаре могли бы, конечно, выразить свое возмущение тем, что у меня не было медицинского образования, но они никогда не возмущались. Наоборот, некоторые из них помогали мне советами и лекарствами. Министр внутренних дел в Багдаде не возражал против того, чтобы я оказывал посильную медицинскую помощь жителям озерного края, но предупредил меня, что, если в результате моих действий кто-нибудь умрет и семья поднимет по этому поводу шум, ничто не спасет меня от судебного преследования. Я был согласен на риск. Мне пришлось лечить многих людей, которые уже находились при смерти, но никто никогда не намекнул, что это я убил их.
12. Среди фартусов
Уехав из деревни, где жил Абид, я остановился в небольшом доме, расположенном на кибаше, и под тяжестью моих пациентов пол дома осел. Я заканчивал прием, стоя по щиколотку в воде. Мой хозяин уверял, что это пустяки, но все же он вздохнул с облегчением, когда я собрался ехать дальше.
Следующая деревня называлась Мабрад. Сорок или пятьдесят домов, каждый на собственном дибине, располагались по обеим сторонам канала; между домами были неглубокие протоки. Снова собралась большая и очень горластая толпа пациентов, и я возился с ними часа три до наступления темноты. Я остановился у старосты деревни, малоприятного старика по имени Махсин. Я попросил его сыновей помочь мне, но они валяли дурака и клянчили у меня лекарства, в которых не нуждались. Они были очень похожи на своего отца — такой же длинный нос, близко поставленные глаза и визгливый голос. Наконец, когда мне это все изрядно надоело, я дал самому назойливому из них две таблетки хинина, сказав, что их надо разжевать; вскоре я услышал, как за домом его сотрясают приступы рвоты. Мое настроение не улучшилось от долгого ожидания обеда, который состоял из блюда холодного слипшегося риса и чашки грязного пахтанья. Потом я стал ждать, чтобы Махсин приготовил чай, хотя он не спешил с этим. Один из его сыновей повернул голову к выходу и воскликнул:
— Это что же такое?
Он выскочил во двор и закричал:
— Пожар! Пожар!
Мы устремились за ним, расталкивая буйволов.
Горел соседний дом, расположенный с подветренной стороны от нас. У меня на глазах крыша заполыхала и взметнулась ревущим полотнищем огня, осыпая темноту искрами. Мы прыгнули в лодку и двинулись к горящему дому. Не успели мы подойти к нему, как занялся следующий дом. Искры, уносимые сильным ветром, сыпались на другие дома. Взад и вперед по воде, освещаемой отблесками огня, сновали лодки. Хозяева вбегали о свой дом, хватали все, что попадало под руку, бросали в лодку и снова торопились в дом, чтобы спасти как можно больше имущества. Причитала какая-то женщина, кричали мужчины, лаяли собаки. Буйволы, испугавшись, бросились в воду и уплыли в темноту. Но устрашающий рев и треск огня перекрывали общий шум. Занялся третий дом, как раз когда мы причаливали к дому, стоявшему за ним. Мимо меня протиснулась обезумевшая от страха женщина с ребенком на руках; маленький мальчик, плача, бежал рядом, ухватившись за ее платье. Она отдала младенца девочке, сидевшей в лодке, усадила плачущего мальчика рядом с ней и бросилась обратно в дом; через несколько секунд она вернулась с грудой стеганых одеял.
У входа в дом я наткнулся на старика и мальчика, пытавшихся вынести мешок зерна. Я помог им перетащить его в лодку, потом мы вынесли еще один мешок. В доме осталось еще несколько мешков, все очень тяжелые. Но теперь соседний дом горел, как факел. Одна из женщин глядела на пылающую крышу и била себя в грудь. Ее черный силуэт четко выделялся на фоне зарева. Крыша рухнула, сноп искр взлетел в воздух, несколько человек бросились в проток между домами. Мы тащили очередной мешок. Кто-то крикнул:
— Загорелось!
Мы увидели, как занялась крыша над нами. Почти сразу стало нестерпимо жарко, языки пламени, извиваясь, подползали к нам. Оставался еще один мешок, но мы уже не выдерживали.
— Пошли! — крикнул старик.
Мы прыгнули в проток и по пояс в воде перешли к соседнему дому. Чтобы он не загорелся, на крышу лили воду, но было ясно, что его не удастся спасти.
В ту ночь в Мабраде сгорели двенадцать домов. Последний в их ряду пылал, точно погребальный костер, окрашивая черную воду в красно-золотистые тона. Мы перебрались на другую сторону канала и смотрели, как дом догорает. Ночь была темная, звезды — холодные и ясные. Ветер казался прохладным после жаркого огня. Повсюду светились груды золы, время от времени на них вспыхивали раздуваемые ветром языки пламени. Мужчины, возбужденные сражением с огнем, громко хвастали своими подвигами. Неподалеку причитали женщины, оплакивая погибшие дома и вещи.
Ко мне подошел незнакомый мужчина и сказал:
— Пойдем, сахеб, выпей с нами чаю.
Когда я вернулся в дом Махсина, там была семья из дома, сгоревшего первым. Хозяин потерял куфию, его белая рубаха сильно обгорела. Это был невысокий жилистый человек с седой головой и морщинистым лицом. Он сидел на корточках у очага с двумя своими сыновьями. У старшего, которому было лет семнадцать, было сильно обожжено плечо. В другом конце комнаты древняя старуха, вероятно бабушка, шумно горевала. Молодая женщина с ребенком на руках и еще двумя подле нее сидела неподвижно. Махсин, который наконец приготовил чай, сказал:
— Это еще хорошо, что пожар начался прежде, чем все улеглись спать. А ведь в Саде в прошлом месяце ночью сгорели жена сейида и его ребенок.
Хозяин сгоревшего дома сказал нам, что, когда начался пожар, он и его сыновья были в соседнем доме.
— Мы спасли детей, а потом я пытался вынести винтовку. Она была под грудой одеял и подушек, и я не смог ее найти. Тогда-то Али и обжег плечо. Все пропало: винтовка, восемь динаров в сундуке, одеяла, одежда — все. И все зерно! Что ж, мой дом сгорает не в первый раз. Сегодня вечером исчезло двенадцать домов — пуф, и нет их! Хвала Аллаху, — с полной покорностью добавил он.
Древняя старуха проплакала всю ночь, но никто не обращал на нее внимания. Хозяин и оба его сына спали рядом со мной, один из них под моим одеялом. По крайней мере уцелели их буйволы и лодка — самые большие их ценности. Семья построит новый дом, как только остынет почва на участке; по соседству росло много подходящего для этой цели касаба. Жители деревни помогут им зерном и постельными принадлежностями, а свою посуду они подберут на пепелище. Единственной серьезной потерей была винтовка. Утром я дал им несколько динаров, чтобы помочь купить новую.
Два часа ушло у нас на то, чтобы добраться до Авайдийи, небольшой деревни племени фартусов, в которой мы с Дугалдом Стюартом побывали год назад. По дороге мы переплыли озерцо, окруженное высоким тростником, а потом на шестах прошли по широкому мелководному протоку. Еще до того, как за тростником показался первый дом, мы услышали звуки, безошибочно указывающие на близость деревни: гул голосов, глухие удары пестиков, которыми женщины толкли зерно, мычание буйволов, лай собак и ясно выделяющееся на этом фоне пение петуха. Дома были беспорядочно разбросаны среди зарослей тростника. Небольшой мадьяф Джасима аль-Фариса находился в дальнем конце деревни. Стоявший на дибине дом был несколько приподнят над водой и явно кренился влево. Сам Джасим, высокий худой мужчина в белой рубахе, стоял у входа. Он сразу понравился мне. У него было испещренное глубокими морщинами лицо, прямой нос, твердая линия рта и добрые глаза. Его младший сын, Фалих, который принимал нас в прошлом году, быстро принес ковры и подушки. Ему сейчас было пятнадцать лет. У него было красивое, хотя и нагловатое лицо. Фалих страдал от грибкового заболевания, и вся его голова была покрыта коркой засохших струпьев. Правда, он всегда тщательно закрывал голову, и я увидел струпья, только когда он попросил меня полечить его. Эта болезнь была распространена среди здешних детей довольно широко. По-видимому, к четырнадцати годам она постепенно проходила, но многие из-за нее оставались на всю жизнь лысыми.
Я пробыл у Джасима неделю и вскоре стал чувствовать себя у фартусов совершенно свободно, ибо они обращались со мной как со своим. Здесь мы пили из одной чашки с самого начала. Утром и вечером Фалих отвозил меня на ближайшее озеро поохотиться на уток. Но утки были такие пугливые, что приходилось довольствоваться лысухами, цаплями и бакланами, которых изданы употребляют в пищу. Они уверяли меня, что мясо баклана очень вкусное, совсем как рыба, и я однажды решился попробовать. Проглотив лишь один кусочек, я потом в течение нескольких часов не мог избавиться от этого вкуса.
Однажды утром Фалих и его двоюродный брат Дауд повезли меня по направлению к суше. Миновав касаб, мы оказались среди поваленного камыша, покрывавшего площадь в несколько квадратных миль. Сквозь спутанные серые прошлогодние стебли поднималась молодая поросль, но она была еще не настолько высока, чтобы закрыть мне обзор, хотя я и сидел на дне лодки. Кругом было множество птиц. Рядом с нами вспорхнул бекас и зигзагами унесся прочь, стая каких-то мелких болотных птиц пролетела мимо. Турухтаны, веретенники, кроншнепы, травники, шилоклювки и множество других болотных птиц, которых я не мог распознать, кормились на открытых илистых участках. Здесь были колпицы, каравайки, белые, серые и рыжие цапли. Один раз издалека донесся крик гусей. Низко над камышами проносились, охотясь, луни. Над головой, как всегда, парили орлы. Фалих и Дауд вели нашу маленькую лодку на шестах, пока позволяла глубина, а потом подоткнули рубахи до пояса и повели ее дальше, увязая по колено в иле.
Мы надеялись достичь суши, но до плоской равнины, где в черных шатрах жили скотоводы племен Мунтафика, было еще несколько миль. Фалих называл их «арабами». Он обещал отвести меня к ним в другой раз.
— Мы навестим Махсина, сына Бадра, — сказал он. — Махсин — самый знаменитый из них, и он друг моего отца. Отец прятал его, когда его разыскивали англичане. Ты никогда не слышал о Бадре? «Великодушный, как Бадр» — так до сих пор говорят арабы; его сын — весь в отца. Возвращайся к нам, когда будет разлив, и мы поедем к нему.
На обратном пути я подстрелил несколько султанок, мясо которых, по словам Фалиха, настоящий деликатес. Они были величиной с лысух. Вылетая из зарослей тростника, они плавно покачивали длинными ногами. В летнее время эти птицы и мраморные чирки, которые прилетают сюда весной, — единственная дичь, которую едят маданы.
Дауд, который до этого был не слишком разговорчив, робко спросил меня, смогу ли я взять его с собой в Амару, где его отец сидел в тюрьме.
— Он служил у шейха племени аль иса в Сайгале, — рассказал Дауд. — Однажды шейх послал отца арестовать троих людей из племени азайриджей, которые доставили ему много неприятностей. Отец привел арестованных к шейху, и тот велел наказать их палками. Потом они напали на отца, и один из них ударил его по голове палкой так, что он потерял сознание. Когда отец пришел в себя, он взял винтовку и застрелил этого человека. Тот умер. Вместо того чтобы защитить отца, шейх — да проклянет его Аллах — передал его властям, и ему дали десять лет тюрьмы. Мы с матерью переехали сюда, к моему дяде Джасиму. Это было шесть лет назад. Теперь я хочу повидать отца.
Дауд был странный мальчик. Обычно веселый и болтливый, он временами впадал в мрачное молчание. Когда Джасим услышал, что Дауд едет со мной в Амару, он обрадовался.
— Дауд предан своему отцу, а ведь он не видел его с тех пор, как тот попал в тюрьму. Когда все это случилось, он несколько дней не разговаривал и ничего не ел. В прошлом году он опять стал какой-то странный, и никто не знал отчего. Он все ходил и повторял: «Дауд умер». Нам пришлось отвезти его к святилищу в Фуваде, чтобы вылечить.
Каждый вечер мужчины и мальчики приплывали на лодках к мадьяфу Джасима, оставляли лодки у входа и рассаживались вдоль стен. Первое время мы просто разговаривали, но как-то Джасим предложил нам спеть.
— Да, давайте споем и потанцуем! — отозвались остальные. — Давайте повеселимся! Где Хаяль? Он сегодня вернулся из Мабрада. Где барабаны? Покажем англичанину, как веселятся маданы. Фалих, неси барабаны и бубны! Дауд, позови Хаяля!
Фалих вернулся с двумя барабанами, кто-то принес два бубна. Барабаны были керамические и по форме напоминали конусообразные вазы длиной около восемнадцати дюймов; диаметр широкой части был около восьми дюймов. Этот конец был обтянут тонкой кожей, а другой, меньшего диаметра, был открыт. Хаяль, который наконец появился, был того же возраста, что Фалих и Дауд. Он спел несколько песен под аккомпанемент барабана, в который ударял Фалих. Привлеченные звуками барабана, к мадьяфу приплывали все новые гости, и вскоре помещение было переполнено. У Хаяля был приятный голос и большой репертуар песенок, одни ритмичные и веселые, другие печальные. Потом Хаяль, Фалих, Дауд и еще несколько юношей образовали небольшой круг и втащили в него, невзирая на их возражения, двух худощавых, озорных на вид мальчиков. Они были братьями, старшему было около тринадцати лет. Хаяль взял один барабан, Фалих — другой, и они начали отбивать кончиками пальцев быстрый, ломаный ритм. Два других мальчика ударяли в бубны. Все остальные сложили ладони и отбивали такт, щелкая пальцами и ударяя об пол правой пяткой.
Сначала братья, покачиваясь и подняв руки так, что локти находились на уровне плеч, медленно и томно ходили по кругу. Когда ритм убыстрился, они слегка опустили руки, их тела начали вращаться и изгибаться, они все быстрее стали двигать ногами — вперед, в стороны, назад. Остальные принялись подпевать, чувствуя себя вполне раскованно. Танец достиг кульминации. Вдруг мальчики остановились, их тела все быстрее изгибались. Потом движения стали замедляться, и наконец танцоры остановились, улыбнулись публике и сели.
13. Междоусобная вражда и кровная месть
На следующий вечер, когда стемнело, Дауд и я сидели в мадьяфе с полдюжиной пациентов, которые пришли за лекарствами и не собирались остаться на ночь. Через дверной проем я видел костры, с помощью которых от буйволов отгоняли комаров, и низкую, густую пелену дыма над водой. Комары уже стали появляться, и я мог себе представить, что летом здесь, рядом с зарослями тростника, бывает невмоготу даже маданам. Неумолчное мерное кваканье лягушек, которого я уже почти не замечал, вдруг сменилось одним повторяющимся резким звуком. Остальные тоже обратили на это внимание,
— Змея схватила лягушку, — сказал Дауд. — Здесь много змей, мы недавно убили одну на крыше.
Жалобный звук еще долго стоял в вечернем воздухе.
Два года спустя, летом, я сидел в этом же мадьяфе, пытаясь с помощью тростникового веера создать хоть подобие ветерка. Вдруг я почувствовал какое-то движение позади себя. Я уже был готов отвести назад руку, но инстинктивно остановился. Быстро подавшись вперед, я оглянулся и увидел змею светлой окраски длиной в два фута. Я ударил ее по голове ручкой веера и убил.
Змей здесь много, особенно летом. Маданы утверждают, что самой ядовитой является арбид — толстая змея, обычно около четырех футов длиной, окрашенная в черный цвет, переходящий в тускло-красноватый. Однако я только один раз столкнулся в Южном Ираке со случаем укуса ядовитой змеей. Это было во время праздника рамадана, который в тот год выпал на лето. Один мужчина хотел приехать со своей четырнадцатилетней дочерью в Эль-Кабаиш, чтобы продать сыр домашнего изготовления. Избегая солнечного зноя, они решили двинуться в путь после заката. Девочка наступила на змею, забираясь в лодку, и змея укусила ее в ногу. Она умерла через полчаса. Лицо девочки почернело, а когда ее стали переносить, изо рта и из носа хлынула темная кровь. Я приехал в их деревню вскоре после этого случая. Маданы — словно им не хватало настоящих змей — твердо верили в существование двух чудовищ, анфиш и афа. Считалось, что оба живут в глубине озерного края и что их укусы смертельны.
После того как Фалих убрал остатки блюда, в мадьяф вошел высокий человек с худощавым лицом. Его левая рука была обмотана окровавленной тряпкой. Он заготовлял тростник и глубоко порезал себе кисть руки. Глаза у него были цвета темного янтаря; один глаз чуть косил, что придавало лицу зловещее выражение. Он пришел из Кабибы, большой деревни фартусов в двух часах пути по направлению к Сайгалу.
Много лет тому назад аль иса, то самое племя скотоводов, в чьем лагере на краю пустыни мы с Дугалдом Стюартом останавливались, добилось господства над Сзйгалом — большой деревней на озерах — и изобильными рисовыми полями вокруг нее. Оттуда аль иса захватили Кабибу, возвели там небольшое глинобитное укрепление и держали в нем гарнизон, пока фартусы Кабибы не взбунтовались и не вернули себе независимость. Дугалд и я проходили через Кабибу спустя год после этого события. Мы быстро плыли на лодках мимо деревни, и наши гребцы, которые были из племени аль иса, держали винтовки наготове и не обменивались приветствиями с жителями деревни, ибо между ними «была кровь».
Человек, которому я перевязывал руку в мадьяфе Джасима, оказался одним из предводителей восстания, и я стал расспрашивать его об этих событиях.
— Аль иса не имеют никаких прав в наших краях, — запальчиво сказал он. — Они не маданы, они пастухи из пустыни. Кабиба расположена на озерах. Она принадлежит фартусам, наши отцы выкладывали ее дибины. В тот самый день, когда шейхи аль иса захватили Кабибу, там начались беспорядки, большинство из нас выехало из деревни и построило себе дома в другом месте. По какому праву они вынудили нас покинуть наши дома?
— Да, по какому? Да проклянет Аллах аль иса! — воскликнул кто-то.
— Поэтому мы решили бороться. Мы окружили их укрепление в двенадцатую ночь месяца кусайр. Прошло три часа после захода солнца, луна светила ярко. Мы знали, что там было шесть человек, что главный у них — Фалайдж. Мы послали старого заира Али, чтобы он предложил им сдаться, но они ответили, что мы, маданы, — собаки и сыновья собак и что, если мы приблизимся, они убьют нас. Тогда мы атаковали их со всех сторон в лодках, бросив наш боевой клич: «Я брат Алии»!
К этому времени все слушатели напряженно подались вперед, захваченные повествованием о межплеменной войне, которое большинство из них, должно быть, слышало десятки раз.
— У них был пулемет, и пули срезали тростник за нами, точно град. Хвала Аллаху, жалкий раб, сидевший за пулеметом, не умел стрелять, иначе в ту ночь погибло бы намного больше наших. Мы выскочили из лодок и захватили укрепление. Еще до того, как мы туда ворвались, мы двоих уложили из винтовок. Потом еще двоих убили ножами. Мы столпились в помещении на первом этаже, и тут один из двух уцелевших аль иса выстрелил сверху сквозь пол и попал одному из наших в нос. Раненый закричал: «В меня выстрелили сверху». Тогда мы стали залпами стрелять в потолок и убили еще одного. Остался только Фалайдж. Мы крикнули ему, чтобы он сдавался, но он отказался. Он действительно был храбрец. Наши стали подниматься по лестнице, и он застрелил двух из них — двух братьев. После этого, выкрикивая свой боевой клич, он спрыгнул с крыши и упал, изрешеченный нашими пулями. С ним был его маленький сын. Он попросил пощады, и мы оставили его в живых. Сейчас он в Сайгале, у шейхов аль иса. Двенадцать фартусов погибли в этом бою.
Как только он кончил рассказ, Фалих вскочил и, отбивая такт ногами, нараспев произнес:
О мать Караима, не оплакивай его,
Ибо Караим пал в разгар битвы.
Через секунду остальные тоже были на ногах; образовав круг и притоптывая, они выкрикивали те же слова.
Фалих выбежал наружу и, вернувшись с винтовкой, начал время от времени палить вверх. Я присоединился к нему и выстрелил десять раз из своей винтовки. В помещение набилось еще больше людей, общий шум усилился. Наконец, выдохшись, они остановились, и Джасим послал Дауда в лавку за сахаром и чаем. Я спросил, кто такой был Караим; мне объяснили, что он был убит, возглавляя нападение на укрепление аль иса…
Через три года после этого я как-то остановился у аль иса, живших за пределами озерного края. На закате я увидел тонкий серп молодого месяца, который знаменует окончание поста, длящегося весь месяц рамадан. На следующий день все племя должно было, как всегда, собраться вместе, чтобы отдать дань уважения своему шейху и отпраздновать окончание поста в его большом гостевом шатре. На рассвете люди начали прибывать со всех концов равнины, одни верхом, другие пешком, каждая группа под своим собственным темно-красным знаменем. Когда наконец все собрались, всадники имитировали атаку и контратаку, а пешие, став в круг, мерно притоптывали ногами, стреляли из винтовок и распевали:
Мы вернемся к водным просторам,
Мы вернемся и принесем домой Фалайджа.
И я вспомнил ночь, когда впервые услышал рассказ о смерти Фалайджа — от одного из тех, кто убил его.
Я уехал от Джасима на следующее утро. Со мной отправились Дауд и двое слуг Джасима, вооруженные винтовками системы Ли-Энфильда. Лодка шла по узкому проходу между высокими тростниками; вода была буквально забита роголистником и другими водорослями, и проток походил на поросшую мхом тропинку. Гребцы с трудом проталкивали лодку шестами. Мы прошли мимо Кабибы, большой деревни из трехсот домов, и добрались до цепочки небольших заводей. За ними лежали рисовые поля западной окраины Сайгала. К востоку от деревни было озеро шириной в три-четыре мили, отделявшее озерный край от суши. В это время года озеро тянулось всего на пятнадцать миль на территорию племени азайриджей, но во время разливов оно соединяется с водами паводка, покрывающими большую часть пустыни.
Сайгал оказался самой большой деревней, которую мне приходилось видеть. Деревня была разделена на две части широким протоком, который окаймляли полоски сухой земли. Здесь стояло несколько мадьяфов и лавок. Остальные дома (всего их было четыреста или пятьсот) были построены, по обычаю маданов, на дибинах. У восточного въезда в деревню стояло кирпичное строение. Оно было спешно сооружено людьми аль пса в период, когда деревне угрожало нападение со стороны аль бу-мухаммед, и стены его уже потрескались. Напротив этого укрепления, на южном берегу протока, стояло кирпичное строение с плоской крышей, также предназначенное для обороны; его помещения располагались вокруг внутреннего дворика. В тридцати шагах от него, на выдающемся в озеро клочке суши, стоял великолепный мадьяф в одиннадцать арок. И дом и мадьяф принадлежали Абдулле, дяде Мазиада и его представителю в Сайгале. Сам шейх Мазиад со своим племенем жил на суше, и единственными аль иса в Сайгале были члены его семьи и их слуги. В деревне жили фартусы и шаганба, а также небольшое число аль бу-мухаммед и азайриджей.
Абдулла в этот момент отсутствовал, дома был его сын Тахир, дружелюбный юноша лет шестнадцати, чрезвычайно вежливый и воспитанный, подобно арабу пустыни. Он отпел меня в мадьяф, где сидели, завернувшись в черные плащи, несколько вооруженных мужчин. Это были аль иса, прибывшие в гости из своих палаток в пустыне. Двое фартусов — гребцов Джасима, не питавшие особой любви к аль иса, сразу же отправились назад, в Авайдийю, выпив положенное число чашечек кофе. Дауд был в сравнительной безопасности в Сайгале, так как его отец Хашим принадлежал не к фартусам, а к джара, небольшому племени, разбросанному по деревням на озерах (по две-три семьи). Дауд мог бы подвергнуться опасности, если бы находился среди живущих на той стороне озера азайриджей, так как Хашим убил одного из них. Понимая, что Абдулла предал его отца, он сидел в мадьяфе молча, перебирал четки и не реагировал на попытки Тахира завязать дружескую беседу.
Хашим впоследствии вышел из тюрьмы и осел в Авайдийе, где я с ним познакомился. Это был один из самых приятных маданов, которых мне довелось повстречать. Он казался старше своих сорока лет: десять лет, проведенные в тюрьме, покрыли его волосы сединой, а лицо — морщинами. Хашим был беден, но он всегда уговаривал меня остановиться в его доме. От него я много узнал о маданах и их обычаях. Он был все еще вовлечен в распрю с азайриджами, так как ни один член племени не считает тюремное заключение достаточным наказанием за убийство; по их убеждению, возмещением за убийство может быть либо смерть другого человека, либо «плата за кровь». Племя Хашима было слишком малочисленным и разбросанным, чтобы собрать эти деньги, даже если бы азайриджи были готовы принять их. Однако Хашиму не грозила кровная месть до тех пор, пока он оставался среди фартусов в Авайдийе. К несчастью, он был вынужден уехать оттуда.
Пока Хашим был в тюрьме, его шурин Джасим выдал дочь Хашима замуж за человека из племени аль бу-мухаммед, получив за невесту семьдесят пять динаров. Как водится, часть денег Джасим потратил на одеяла, подушки и другие предметы домашнего обихода, которые невеста приносит в свой новый дом. После освобождения Хашим потребовал остаток денег для себя, но Джасим заявил, что потратил их на содержание семьи Хашима. По обычаю племени, отец может взять назад замужнюю дочь даже против ее воли и даже если у нее есть дети, но при этом он обязан полностью вернуть уплаченный выкуп. Хашим воспользовался этим правом, хотя у его дочери уже был ребенок. Когда ее муж потребовал вернуть выкуп, Хашим сказал, что деньги должен вернуть Джасим. Убедившись в том, что последний не собирается отдавать деньги, муж обратился к властям. Власти послали двух полицейских, чтобы препроводить Хашима в Амару на допрос. То ли вследствие неудачного стечения обстоятельств, то ли преднамеренно, оба полицейских оказались из племени азайриджей, и семья, с которой у Хашима была кровная вражда, каким-то образом заставила их пройти через свою территорию. Узнав, какой дорогой его собираются вести, Хашим стал энергично протестовать, но полицейские уверили его, что у них в тех краях есть неотложное дело и что под их охраной он будет в полной безопасности.
Они остановились, чтобы перекусить, в полицейском посту в Сук-эт-Тавиле. Когда они вышли из дома, чтобы продолжить свой путь, их уже ждала толпа. Брат убитого вышел вперед и выстрелил Хашиму в грудь из револьвера, который он одолжил у шейха. Хашим успел вытащить кинжал, но тут же упал. После этого убийца выстрелил еще два раза и убежал, а полицейские симулировали погоню. Хашим лежал, истекая кровью, но никто даже не подошел к нему. Часом позже полицейские вернулись и отнесли его в помещение поста. Находясь еще в сознании, он обвинил их в убийстве и испустил дух.
Я встретил Дауда через полгода после убийства его отца. Он купил револьвер и собирался отправиться один к азайриджам, чтобы найти убийцу отца. Психика Дауда и раньше не отличалась устойчивостью, а перенесенный им удар совсем выбил его из колеи. Когда я попытался отговорить его от этой затей, он не стал со мной спорить и только твердил без всякого смысла:
— Дауд умер десять лет назад.
Я никогда больше не видел его.
14. Возвращение в Эль-Кубаб
Вечером Тахир повез меня в своей тарраде на озеро. Мы плыли по течению без весел. Тахир оказался приятным собеседником. С ним был молчаливый, воспитанный маленький мальчик в плаще с вышивкой золотом. Я решил, что это родственник Тахира, но потом узнал, что это сын Фалайджа — тот самый мальчик, что был рядом с отцом, когда последнего убили в стычке в Кабибе. Когда мы в сумерках возвращались в мадьяф, стаи маленьких летучих мышей летели от деревни в глубь озерного края. Эти летучие мыши в больших количествах прятались под крышами мадьяфов, загаживай помещение. Иногда в мадьяфах досаждали воробьи. Они разрывали жгуты вокруг тростниковых арок; как они это делали и зачем, мне так и не удалось узнать. На следующий год я привез с собой из Англии духовое ружье, которое оказалось прекрасным средством налаживания контактов с незнакомыми мне людьми, ведущими себя чересчур сдержанно, Как только я доставал это ружье, даже самые угрюмые седобородые старцы с жаром упрашивали меня дать им выстрелить.
Ранним утром следующего дня нас с Даудом отвезли в Эль-Аггар. Когда мы шли на веслах через серебристое озеро, серые крачки, легкие, точно ласточки, пролетали над самой водой; утки, собиравшиеся в стаи для весенних перелетов, поднимались в воздух при нашем приближении. Позади нас, в Сайгале, лодки медленно и бесшумно двигались мимо просыпающихся домов. Постепенно деревня исчезла за горизонтом, и только мадьяф Абдуллы указывал, где она лежит. Мы снова были в замкнутом мире озер и болот, где новая поросль тростника за последние несколько дней вымахала уже довольно высоко. Через два часа мы неожиданно вышли на открытую воду. Посреди на двух островах располагался Эль-Аггар. Большой остров принадлежал племени шаганба; их двести пятьдесят домов стоили так близко друг к другу, что самого острова почти не было видно. Меньший остров лежал в ста ярдах от первого, и на нем уместилось лишь тридцать домов, принадлежащих племени аль бу-мухаммед. Обе деревни входили в сферу влияния Маджида бин Халифы. Мы ступили на берег, шагнув через низкую ограду на пропитанную водой груду камыша. У большой рабы нас радушно встретил Юнис, худощавый человек с умным, породистым лицом. От природы сдержанный, он тем не менее держался приветливо.
Комната была полна народа. На почетном месте сидел молодой сейид из Эль-Курны. Собирая деньги, предназначенные как будто для постройки мечети в Эль-Курне, он воспользовался случаем, чтобы напомнить своим слушателям о том, что судный день не за горами. Я чувствовал, что сейид недоволен моим вторжением. Действительно, вскоре он задал вопрос, как его слушатели надеются получить спасение, если они позволяют «неверным» осквернять свои жилища. Юнис, который варил кофе, хранил молчание. Когда кофе был готов, он встал и, держа в руке кофейник, обратился к сейиду:
— Я простой мадан, не богослов, но мне всегда казалось, что англичане не хуже нас. Некоторые из нас встречались с ними, все мы слышали о них — ведь они управляли этой страной, когда изгнали турок. Они не лгали, не брали взяток, не притесняли бедных. Мы, мусульмане, как ты хорошо знаешь, делаем все это. Но все это так, между прочим. Англичанин — мой гость. Добро пожаловать, сахеб, — сказал он мне и продолжал: — В моем доме гости пьют из одной чашки с нами. Таков мой обычай. Те, кому он не нравится, обойдутся без кофе.
Он подошел ко мне (я сидел немного в стороне от остальных) и протянул мне чашечку кофе. Когда я выпил, он налил в нее еще и подал следующему. Пили все, кроме сейида.
Позже пришел местный сейид из Эль-Аггара. Бедняк, проведший большую часть жизни, заготовляя корм для нескольких своих буйволов, он отличался от прочих бедных маданов лишь своей зеленой куфией. Усевшись рядом со мной, он спросил несколько раз о моем здоровье. Я подозревал, что он уже наслышан о поведении своего коллеги и старается как-то сгладить неловкость. После обеда он сказал Юнису:
— Я слышал, что сахеб любит песни и танцы. Я хочу показать ему, как танцуют в Хиджазе.
Он исполнил плавный пируэт, разительно отличавшийся от лихих прыжков маданов. Я оценил его инициативу. Первый сейид уселся в углу, бормоча себе под нос и перебирая четки. То был единственный сейид, проявивший грубость по отношению ко мне. Многие из них чуждались меня при первой встрече, но со временем оттаивали, а некоторые стали моими близкими друзьями. Случалось, что самые известные сейиды приводили ко мне женщин из своей семьи для лечения, а сыновей — для обрезания. А ведь последнее — религиозный обряд, который логичнее было бы поручить единоверцу-мусульманину.
На следующее утро Юнис предложил нам присутствовать при совершении свадебного обряда в большой рабе на дальнем конце деревни. По этому поводу был приглашен знаменитый танцор из Маджара. До нас уже доносились отдельные звуки пения и барабанного боя. Юноша-танцор был одет в алый халат, на шее у него висели нити искусственного жемчуга, в ушах были тяжелые золотые серьги. Тщательно причесанные и надушенные волосы падали на плечи, лицо было подкрашено. Он был похож на жеманную девушку и держался манерно, но танцевать он безусловно умел. В каждой руке у него было по паре кастаньет — отличительный признак профессионального танцора, так как деревенские юноши не пользуются кастаньетами. Многие из танцев были, по сути, гимнастическими упражнениями высокого класса.
Отмечу, кстати, что среди маданов не было распутных или продажных женщин. Для того чтобы осудить девушку за распущенность, не требуется особых доказательств, достаточно бывает слуха. Тогда родственники безжалостно убивают ее, чтобы восстановить честь семьи. Обязанности палача возлагаются на брата девушки; если бы он пощадил ее, ему пришлось бы стать изгоем. Таким образом, юноша не может быть близок с девушкой, не может даже прикасаться к ней до свадьбы.
…Когда юноша кончил танцевать, Юнис повел меня во двор, где заново обмазывали битумом его лодку. Битумного покрытия хватает всего лишь на год, потом оно начинает трескаться и пропускать воду. Трещины можно временно залатать, размягчая битум горящим тростниковым факелом. Маданы утверждают, что покрытие, нанесенное в холодную погоду, держится хуже, чем то, которое сделано летом, В огороженном тростником дворе находилось несколько вытащенных из воды лодок. Одна из них была перевернута, и четверо маленьких мальчиков уже почти закончили соскабливать битум с днища и бортов. Мальчик постарше растапливал на металлическом листе над небольшим огнем куски свежего битума. Во дворе, усеянном дощечками и остатками разбитых лодок, приятно пахло нагретой смолой. Мальчик крикнул:
— Али, Юнис пришел!
Из ближайшего дома появился старик в грязной рубахе. Юнис спросил:
— Ты приготовил мою лодку?
— Пока еще нет, — ответил Али. — Но теперь уже скоро. Мои птенцы кончают очищать ее.
«Птенцами» на озерах обычно называли маленьких детей. Старик расстелил тростниковую циновку у стены своего дома и сказал;
— Садитесь и устраивайтесь поудобнее, пока мы будем заканчивать.
Он сказал одному из мальчиков:
— Хасан, сынок, пойди скажи, чтобы заварили чай.
Я сказал, что мы уже пили чай в доме Юниса и еще несколько раз, когда смотрели на танцы, но старик не сдавался:
— Ничего, ничего, выпьете еще.
Али пошел взглянуть на лодку. В очищенных от битума планках было полно отверстий и трещин. Выбрав из лежавших на земле планок подходящие, он с помощью тесла придал им нужную форму и прибил поверх самых крупных дыр. Затем старший мальчик зачерпнул совком немного кипящей смолы и вылил ее на днище лодки. Али разгладил смолу слоем толщиной около четверти дюйма. Когда он закончил, лодка выглядела как новая — черная, гладкая, блестящая.
Али подсел к нам и закурил сигарету.
— Подождите еще немного и сможете забрать лодку, — сказал он и послал Хасана за веслами.
Я заметил, что на ночь все лодки ставили в заводи, примерно в сотне ярдов от домов. Юнис объяснил, что это делается для того, чтобы до них не добрались буйволы, которые поедают смолу. Правда, в некоторых деревнях буйволы почему-то не трогают ее. Когда мадан приезжает в незнакомую деревню, он обычно спрашивает, едят ли местные буйволы смолу. Буйволы Эль-Аггара пользовались особенно дурной славой.
Мне также рассказали, что смолу привозят из Хита, расположенного на Евфрате, недалеко от Багдада. Я был там и видел небольшие озерца, где расплавленная смола, пузырясь, выходила из земли. Остывшую смолу отправляют в виде небольших твердых брусков, похожих на обломки асфальтового покрытия. В Южном Ираке нет леса, годного для постройки лодок. Для шпангоутов строители лодок предпочитают шелковицу из Курдистана, а для обшивки используют планки из древесины, ввозимой из других стран. Во многих больших деревнях на озерах и вокруг них есть такие мастера, как Али. В Хувайре, несколькими милями ниже Эль-Кабаиша по течению Евфрата, население одной большой деревни было целиком занято этим промыслом; строили не только маленькие лодки, но и большие двухмачтовые парусные лодки. Самым знаменитым из мастеров той деревни был хаджжи Хамайд, его таррады славились в этом районе Южного Ирака. Впрочем, были и другие известные мастера. Житель озер мог с первого взгляда определить, кто построил ту или иную тарраду.
Жители Хувайра были мусульманами, но в других деревнях лодки строили в основном сабейцы. Их насчитывается несколько тысяч человек. Они выделяются пышными бородами и куфиями в красную с белым клетку и славятся своими поделками из серебра. Живут сабейцы главным образом в Багдаде, Басре, Сук-эш-Шуюхе и Амаре. Отдельные семьи живут в мусульманских деревнях вокруг озер. Домашние утки — признак дома сабейца, так как мусульмане по какой-то причине едят только диких уток. Сабейцы совершали обряд крещения, погружаясь в воду каждое воскресенье; водой же очищались они от осквернения и от любого нарушения ритуальной чистоты. По этой причине плохо информированные европейцы называли сабейцев христианами святого Иоанна.[17]а самом деле они не были христианами, хотя и поклонялись высшему существу. Их религия, насколько я понял, содержала элементы манихейства, и их ритуальным языком был арамейский.
На озерах дети часто сооружают из связок камыша небольшие плоты; иногда концы стеблей загибают вверх, чтобы получилось нечто вроде носа. На этих примитивных суденышках дети передвигаются по деревне. Однажды на одном из притоков Евфрата ниже Сук-эш-Шуюха я видел интересный образчик плетеной лодки, называемой займа. Сделанная из касаба и обмазанная снаружи битумом, она имела десять футов в длину и два с половиной фута в поперечнике (в самой широкой части). Владелец сказал, что займа служит всего один год, так как битумное покрытие не восстанавливается. Он показал мне, как ее изготовляют. Сначала он сделал полдюжины крепких связок из касаба, по пять-шесть стеблей в каждой, несколько превышающих по длине длину будущей лодки. Потом прочно соединил их так, что образовался киль, оставив нескрепленными концы по восемнадцать дюймов спереди и сзади. Эти концы он загнул вверх. Затем он взял пять длинных стеблей, согнул их в виде буквы U, пропустил среднюю часть сквозь один из несвязанных концов киля, а свободные концы — через второй конец киля. Поочередно повторяя это с каждого конца киля, он вывел борта и оконечности корпуса лодки. Затем он укрепил всю эту конструкцию, введя в нее несколько шпангоутов, сделанных из двух-трех прутьев ивняка. Связки из нескольких стеблей касаба, прикрепленные изнутри друг над другом, покрыли верхнюю часть шпангоутов и образовали внутреннюю обшивку. Наконец мастер поставил враспор между бортами три прочные палки, нечто вроде банок, и закрепил их концы битумом. Теперь займа была готова к обмазке битумом снаружи. Сегодня даже беднейшие из маданов имеют деревянные лодки, но в прошлом, когда связь с окружающим миром была ненадежной и древесину достать было трудно, многие, вероятно, пользовались такими плетеными лодками! Круглая плетеная лодка, называемая куффа, была распространена в окрестностях Багдада. Самая южная точка, где я видел такую лодку, находилась ниже Эль-Кута, возле Шейх-Саада.
Из Эль-Аггара я решил вернуться в Эль-Кубаб, откуда легче было отправить Дауда в Амару. К нам присоединились два двоюродных брата Юниса.
Весь путь в Бу Мугайфат мы проделали, пробираясь между густыми зарослями тростника. В начале пути нам повстречалась переезжающая семья маданов. Двое мальчиков в небольшой лодке подгоняли полдюжины буйволов, следующих за балямом, в котором на веслах сидели пожилой мужчина и другой мальчик, гортанными криками подбадривавший плывущих буйволов. Женщина и трое маленьких детей — на одном ребенке не было ничего, кроме серебряного обруча вокруг шеи, — занимали кормовую часть лодки вместе с двумя телятами, котенком и множеством кур. На носу громоздились их пожитки: разобранный остов дома, тростниковые циновки, кувшины для воды, горшки, мешки с зерном и груда одеял. Поверх всего этого между деревянными ножками маслобойки стояла собака, которая облаяла нас.
Саддам поджидал меня в Эль-Кубабе. Я спросил, где его сын, молодой Ауда. Саддам ответил:
— Он кланяется тебе. Он пошел в лавку к торговцу и сейчас вернется.
Не успел я выбраться на берег, как прибыл первый пациент — юноша, который стонал и корчился на дне лодки. Боли в области почек сотрясали его мучительными приступами. Я заподозрил камни в почках. Чтобы хоть как-то облегчить его страдания, я осторожно натер ему поясницу жгучей мазью, в состав которой входил перец. Когда спазмы прошли, он объявил, что я исцелил его, и я почувствовал себя шарлатаном в еще большей мере, чем обычно. Однако мое «огненное лекарство» стало очень популярным, так как почти все жители озер, включая маленьких детей, время от времени страдали от этих болей, которые они называли хасара.
На следующее утро Дауд разбудил меня еще затемно, сказав, что какие-то люди принесли раненого мальчика. Родители ввели своего двенадцатилетнего сына в дом. Его полосатая рубашка, белая с голубым, была изорвана и пропитана кровью, нижняя половина лица была покрыта окровавленной тряпкой. Большие черные глаза на очень бледном лице пристально смотрели на меня. Я спросил, что случилось.
— Его искусала наша собака.
Мальчик дрожал, и я закутал его в свои одеяла, пока разжигали огонь и подогревали воду. Потом я снял с его лица повязку, смочив ее водой. Собака прокусила ему щеку, в одном месте были видны коренные зубы. На руке и плече тоже были укусы. Мальчик не произносил ни слова, лишь следил за мной немигающим взглядом. Я промыл и продезинфицировал раны, обработал их сульфамидным препаратом, а потом тщательно зашил щеку. Мальчик жмурил глаза от боли, но даже не пикнул. Когда я закончил, он пробормотал:
— Спасибо, сахеб.
Это были первые слова, которые он произнес. Я сделал ему укол пенициллина и устроил поудобнее у очага.
К нам присоединился Саддам. Пока мы пили чай, отец мальчика, который приехал из Дауба, деревни на озерах к востоку от Эль-Кубаба, рассказал, что сын вышел из дома, перед тем как лечь спать.
— Наша собака — ты видел ее, Саддам, огромная тварь, — прыгнула на него и вцепилась ему в руку. Вот там у него отметины зубов. Она повалила его па землю и хотела вцепиться в горло. Хвала Аллаху, она промахнулась и схватила его за щеку, а не то загрызла бы его. Мальчик даже не крикнул — честное слово, Саддам! Я вышел наружу, чтобы посмотреть, отчего забеспокоились буйволы, и увидел, что мой сын сражается за свою жизнь. Но Аллах милосерден. Мы знали, что англичанин в Эль-Кубабе, и, как начало светать, повезли мальчика сюда. А перед тем как отправиться, я застрелил собаку.
Я боялся, что у собаки могло быть бешенство, но отец уверил меня, что она никогда не покидала их дибина, стоящего на отшибе. Они увезли мальчика в полдень. В руке он зажал динар, который я дал ему на новую рубаху. Рана зажила хорошо и, хотя на щеке остался большой шрам в виде полумесяца, рот не искривился. Маданы утверждают, что собаки никогда не кусают женщин и девочек; действительно, я ни разу с этим не сталкивался.
Услышав, что мне понравились их танцы, Саддам решил устроить в мою честь вечер. Как только мы поужинали, он достал барабаны и бубны и согрел их над очагом, чтобы натянулась кожа. Услышав первые несколько ударов, сделанных, чтобы проверить, как звучат инструменты, люди стали собираться со всей деревни. Пришел Аджрам со своим отцом, юный Хелу с двумя братьями, которые были еще меньше ростом и еще костлявее, чем он. Голоса их были тоже более пронзительными, чем у него, и вскоре они уже подпевали ему. Сахайн, староста Бу Мугайфата, тоже явился со своим братом Хафезом и большой компанией из своей деревни, включая двух юношей, Ясина и Хасана, которые потом стали моими гребцами.
Был там и юноша из племени фартусов по имени Дахиль. Сирота и нищий, он ссорился со всеми по очереди, из-за чего постоянно переезжал из деревни в деревню в поисках заработка, предлагая свои услуги в качестве пастуха. Но при всем этом Дахиль обладал некоей притягательной силой, и все говорили о нем со смешанным чувством симпатии и раздражения. Он был пылко влюблен в сестру Вади, веселого четырнадцатилетнего мальчика, сидевшего рядом с ним. Немного поломавшись, Дахиль встал и начал танцевать; мимикой и движениями он выражал комичное сочетание огорчения и некоторого негодования. Он был гвоздем программы этого вечера. Танцевали и другие мальчики, среди них Аджрам, но зрители снова и снова вызывали Дахиля. Потом отец Аджрама, Хусейн, тоже решил пуститься в пляс. Мальчиком он славился как танцор, но теперь выглядел нелепо и выделывал неуклюжие коленца, точно слон в цирке. Наконец Саддам остановил его:
— Садись, Хусейн, пусть Дахиль еще спляшет.
В течение вечера несколько человек, которых я не смог узнать, присаживались рядом со мной и говорили, что очень рады моему возвращению. Я провел здесь всего два дня в прошлый раз — более двух месяцев тому назад, но у меня было такое чувство, будто я пропил в этой деревне долгие годы. Компания разошлась перед рассветом, и, когда я вышел наружу, на востоке уже появилась едва заметная светлая полоса. Из темноты доносились всплески весел и голоса людей, возвращающихся по домам. Было невозможно не отвечать взаимностью таким дружелюбным людям.
15. Фалих Бин Маджид
Маджид аль-Халифа был шейхом той части племени аль бу-мухаммед, что населяла район Маджар-эль-Кабира, и, по сути, правил большой частью озерного края. Будучи депутатом иракского парламента, он проводил много времени в Багдаде, предоставив управлять своими обширными владениями старшему сыну — Фалиху. Только через год пребывания на озерах я познакомился с Маджидом. Проходя через Эль-Кубаб, я узнал, что он недавно прибыл из Багдада и что Саддам и старейшие жители деревни посетили его, чтобы засвидетельствовать свое почтение. Я решил, что мне следует сделать то же самое. Ранним утром я отправился в путь в лодке с двумя гребцами — Ясином и Хасаном из Бу Мугайфата, которые к этому моменту путешествовали со мной уже полгода. Лодка принадлежала Ясину. Это был шестнадцатилетний юноша, высокий, стройный, хорошо сложенный, с открытым, приветливым лицом, в котором было что-то монголоидное. Хасан был того же возраста, но ниже ростом и коренастый. Страстный охотник за водоплавающей дичью, он владел устрашающего вида шомпольным ружьем местного производства; ствол ружья был обвязан медной проволокой. Я убедил его оставить это ружье дома, разрешив ему пользоваться моим. Ясин обладал более сильным характером, чем Хасан, и лучше знал все, что связано с путешествием в лодке по озерам. Несмотря на молодость, он уже считался исключительно умелым лодочником даже по меркам маданов.
Река Маджар, приток Тигра, разделяется ниже Маджар-эль-Кабира на Адиль и Вадийю, которые рассеиваются среди озер и болот восемью милями ниже, отдав большую часть воды ирригационным каналам. Мы спустились по одному из этих каналов и вышли на Адиль, на берегу которого стояла деревня Маджида. Хасан привязал к носовой банке веревку и потащил лодку против течения, а Ясин, сидя на корме, правил веслом. Мы прошли несколько деревень. Около десяти часов утра мы увидели деревню, где над остальными домами возвышалось большое квадратное кирпичное здание с плоской крышей и потрескавшимися стенами. Это был собственный дом Маджида. За ним, сильно покосившись на один бок, стоял полуразвалившийся старый мадьяф. Маджид еще не построил нового мадьяфа, но неподалеку были сложены связки касаба. Перед мадьяфом, где Маджид принимал посетителей, стояла толпа. Вперед вышел человек и провел нас внутрь. Маджид встал с ковра, мы обменялись рукопожатием. Он казался ниже среднего роста, так как был крепко сложен и очень широк в плечах. В молодости он был силач, но к старости обрюзг; живот свисал мешком, ходил он вперевалку. Лицо над короткой толстой шеей было испещрено прожилками и покрыто седой щетиной, маленькие глаза раздраженно и высокомерно смотрели из-под красных век. Казалось, его только что подняли из берлоги и дальнейшее его поведение совершенно непредсказуемо. Он приказал принести и поставить друг против друга поперек комнаты два напоминающих ящики кресла из сосновых досок, крытых синим бархатом. Одно кресло он предложил мне, в другое уселся сам. Мадьяф был переполнен, и я чувствовал бы себя намного лучше, если бы сидел на полу.
Задав несколько вопросов о моем здоровье, Маджид снова обратился к своим делам. Он умело и быстро решал каждый вопрос, но при этом мало считался с чувствами других. Если кто-нибудь пытался возразить, он взглядом заставлял его замолчать. Писец Маджида, рябой мужчина средних лет с подобострастными манерами, сидел рядом, записывая его решения. Как и Маджид, он был одет в халат из плотной темной ткани и коричневый плащ. Но плащ Маджида был из более тонкого материала; чувствовалось, что он легкий как пушинка. Вся земля вокруг принадлежала Маджиду. и потому он был беспристрастен в своих суждениях, заботясь лишь о том, чтобы обеспечить максимально высокую отдачу. Известный скряга, он в то же время был умелым хозяином, знал каждый уголок своих владений и обладал полувековым опытом по оценке уровня воды, от которого зависело все его благополучие. Маджид совершенно точно знал, когда и где следует построить плотину, когда и насколько следует сбросить воду.
Меня всегда поражало, что глубокие реки, в пятьдесят ярдов шириной, бешено мчащиеся в половодье, могут быть перегорожены плотинами из валежника, тростника и земли. Громадный труд требовался не только для того, чтобы строить такие плотины, но и для того, чтобы очищать каналы и спрямлять берега. Земледельцы этого края были не очень-то склонны к совместному труду. Они часами рассуждали, прежде чем договориться о том, чтобы совместно сделать какую-нибудь работу, пусть даже жизненно важную для них. А в назначенный день явится лишь горсточка людей, да и те вскоре, потеряв всякую охоту, разойдутся. Маджид отлично знал, что нужно делать, отдавал соответствующие распоряжения и заставлял выполнять эту работу. Если кто-то уклонялся или плохо работал, его тут же наказывали палками.
Чиновное сословие и городская интеллигенция относились к шейхам враждебно, завидовали их богатству и старались лишить их политической власти. Когда они бойко рассуждали о конфискации земель, принадлежащих шейхам, и о распределении их среди земледельцев, они не учитывали, что Ирак не имеет государственной службы ирригации, которая могла бы осуществлять функции, выполняемые шейхами. Крупнейшие шейхи провинции Амара нередко были вымогателями и деспотами, но большинство из них, подобно Мадриду, были первоклассными хозяевами и с детства знали свои владения как свои пять пальцев. Лучшие из них испытывали к этой земле любовь, которая была глубже, чем стяжательские интересы. Если бы их сместили, чиновникам, присланным, скажем, из Багдада или Мосула, потребовались бы годы на то, чтобы приобрести такое же знание местных условий, даже если бы их убедили или принудили остаться на этих постах. Плохой или хороший урожай — это было бы им безразлично, и они неизбежно поддались бы искушению предоставить воду не тому крестьянину, который в ней больше нуждается, а тому, кто больше за нее заплатит. Нетрудно представить себе такую сценку:
— Тебе нужна вода? Что ты мне принес? Полдинара? Зачем ты явился — отрывать меня от дел? Убирайся!
Решение проблемы было не в конфискации земель у шейхов. Необходимо было добиться, чтобы они выделяли своим работникам большую долю урожая и не сгоняли их с земли.
После трех часов пребывания в мадьяфе, когда толпа начала редеть, я успел проголодаться и стал изнывать от скуки. Помещение наполовину опустело. Слуга принес жареную курицу, зажаренную на решетке рыбу, рис, хлеб и суп. По приказу Маджида передо мной поставили шаткий столик, а на него водрузили поднос с едой. Когда я вымыл руки, Маджид пригласил меня начать трапезу. Я ожидал, что Маджид будет есть вместе со мной, но, так как он, видимо, не собирался присоединиться ко мне, я попросил поставить поднос на пол, чтобы Ясин и Хасан могли поесть вместе со мной.
— Нет, нет, ешь за столом. Они не в счет, их накормят позже, — бесцеремонно сказал Маджид.
Я объяснил, что предпочел бы сидеть на полу, так как привык есть вместе со своими спутниками.
— Нет, нет, ешь за столом, — повторил он и повернулся к одному из своих посетителей.
Такое обращение с гостем выходило за всякие рамки приличий, и я рассердился не на шутку. Я съел всего горсть риса, встал и попросил воды, чтобы вымыть руки. Все смотрели на Маджида. Он спросил меня, в чем дело.
— Ничего. Большое спасибо, я поел.
— Что ж, пусть он ест на полу, если ему так хочется, — воскликнул он.
Я еще раз поблагодарил его, уверив, что вполне сыт, и вернулся на свое место. Ясин и Хасан, воспользовавшись моим отказом, быстро управились с едой. Вскоре мы уехали.
После этого я не посещал Маджида больше года. В следующий раз он принял меня совершенно иначе. Он настаивал, чтобы я остался ночевать, поел вместе со мной и проявил ко мне такое внимание, какое арабы всегда проявляют к своим гостям. Впоследствии я останавливался в его мадьяфе много раз, и, хотя он по-прежнему не внушал мне симпатии, я стал чувствовать к нему уважение.
В то утро, выйдя из Эль-Кубаба, мы решили заночевать в мадьяфе Фалиха на берегу Вадийи. В прошлом году он гостеприимно принял меня и просил приехать еще раз. Я не сделал этого, так как был вообще предубежден против шейхов после моих встреч с некоторыми из них, когда я останавливался у Дугалда Стюарта в Амаре. Претенциозно-вульгарная обстановка городских домов шейхов выставляла их в невыгодном свете. После приема, оказанного мне Маджидом, я не чувствовал ни малейшего желания встретиться с его сыном и предложил идти прямо в Эль-Кубаб, но Ясин сказал:
— Нет, давайте заночуем у Фалиха. Он ведь совсем другой.
Через два часа Фалих устраивал меня в своем мадьяфе.
— Я надеялся, что ты в конце концов приедешь, — сказал он. — Я много слышал о твоих делах от маданов. Они всегда говорят о тебе как о своем докторе. Скоро вся наша деревня явится сюда за лекарствами, вот увидишь. Ты уже повидал озера. Теперь мы хотим получше узнать тебя. Удалось ли тебе подстрелить за последнее время хоть одного кабана? Как, ни одного? Тогда подожди немного, поднимется вода, и мы вместе пойдем на охоту.
Фалих наблюдал за очисткой каналов и укреплением берегов перед очередным паводком. Я остался у него на неделю, радуясь возможности поближе узнать земледельцев, отличавшихся от маданов. Каждое утро мы садились в тарраду Фалиха. Возвращались мы во второй половине дня, перекусив по пути в какой-нибудь деревне. Как он и предсказывал, каждый день в его мадьяф приходило много пациентов, и я принимал их до отъезда или по возвращении. В деревне заира Махайсина нам встретился Манати — тот самый, на которого напала дикая свинья. Я был потрясен, увидев, каким он стал хилым и согбенным, и вспомнил слова старика: «Эта свинья, можно сказать, прикончила Манати».
— Какой хороший парень! — сказал Фалих, указывая на одного из двух юношей, помогавших заиру Махайсину подавать еду. — Старик Сукуб, его отец, сейчас не может работать, и семью содержит Амара. Они очень бедные.
Он обратился к юноше:
— Ведь правда, что тебя назвали Амара, потому что мать родила тебя на базаре?
Амара улыбнулся и ответил:
— Да, правда. Но с тех пор я на базаре не бывал.
Тонкий, стройный, очень красивый, Амара был ловок и подвижен, но держался сдержанно, словно прирожденный аристократ. В противоположность ему, второй юноша, Сабайти, был неуклюж и далеко не красив, но явно имел добродушный характер. Фалих сказал мне, что отец Сабайти держит лавку в деревне, добавив, что эта семья зажиточная и очень гостеприимная. При этих словах Сабайти просто расцвел. На следующее утро оба они и несколько других юношей из деревни, лежавшей в пяти милях, поджидали меня возле мадьяфа, чтобы я сделал им обрезание. Когда я спросил Амару, как они потом собираются добраться домой, он ответил:
— Мы побудем здесь, пока острая боль не утихнет и не остановится кровь, а потом пойдем пешком.
Так они и сделали.
В своем мадьяфе Фалих держал себя, как подобает шейху его ранга, но в деревнях он вел себя по-дружески и без церемоний. Все жители деревень приветствовали его с трогательной теплотой. Впереди нас неслись дети, крича:
— Фалих идет!
А когда мы прибывали на место, их родители толпой окружали нас, и каждый уговаривал оказать честь его дому. Иногда Фалих бывал жестким, даже безжалостным, но за это они уважали его еще больше, и я никогда не слышал, чтобы какое-либо его решение назвали; несправедливым. Он соответствовал их идеалу шейха: человек благородного происхождения, он был вождем, которым восхищались, которому верили и которого боялись. Фалих был прекрасный стрелок и наездник и, не в пример другим шейхам, легко управлялся с лодкой. Из прочих шейхов Маджид и Мухаммед аль-Арайби, несмотря на преклонный возраст, все еще производили сильное впечатление, сохранив дух прежних — суровых боевых — времен. Большинство остальных шейхов, особенно молодые, были ленивые толстяки. Они постоянно пеклись о своем здоровье и пробовали всевозможные патентованные лекарства. Джасим, сын Мухаммеда аль-Арайби, был единственный, кто, по общему мнению, мог потягаться с Фалихом. Но он умер, и теперь люди говорили:
— Остался один Фалих.
Когда я неделей позже вернулся в Эль-Кубаб, я купил себе лодку, вместительную и более устойчивую, чем другие, заплатив за нее десять фунтов стерлингов. Лодка была почти новая, в хорошем состоянии. Ясин сказал:
— Ну, теперь ты один из нас. В этой лодке мы отвезем тебя куда угодно — в Сук-эш-Шуюх, в Кут-эль-Амару, в Басру, куда захочешь.
Мы вернулись на этой лодке в деревню Фалиха через шесть недель. Когда мы причалили, я с гордостью спросил его:
— Как ты находишь мою новую лодку?
— Неплоха! Но погоди, сейчас ты увидишь, что я приготовил для тебя.
Он отдал распоряжение одному из слуг, тот ушел и вскоре вернулся в совершенно новой тарраде. Темная, стройная, она скользила по воде, поблескивая бортами и высоко поднятым носом.
— Тарраду привели вчера из Хувайра. Она твоя, я велел построить ее для тебя, — сказал Фалих. — Ты можешь считать себя маданом, если тебе так угодно, но на самом деле ты шейх. Эта таррада достойна тебя.
Ясин воскликнул:
— Клянусь Аллахом, она прекрасна! Это лучшая таррада, когда-либо построенная хадокжи Хамайдом. Другой такой нет.
Глубоко тронутый, я пытался выразить свою благодарность, но Фалих положил руку мне на плечо, сказав:
— Сахеб инта сахеби (Друг, ты мой друг).
В тот вечер Фалих сказал, что мне нужны еще двое таких парней, как Ясин и Хасан, чтобы укомплектовать экипаж лодки. Из тех, кто постарше и женат, никто не согласился бы оставить семью на несколько месяцев. Амара и Сабайти, услышав об этом, пришли на следующее утро и предложили мне свои услуги.
Амара производил очень приятное впечатление, но я сомневался, достаточно ли он крепок, чтобы грести на тарраде в долгих переходах. Хасан, который тоже был из ферайгатов, все же убедил меня, что Амара сильнее, чем кажется на вид. Ясин принадлежал к шаганба, а Сабайти — к какому-то малоизвестному племени, о котором я никогда не слышал. Я сказал Амаре и Сабайти, что согласен взять их гребцами, и оба они были при мне, пока я не уехал из Ирака. Хотя Амара был значительно моложе других, у него был самый сильный характер. Сабайти во всем следовал за ним без колебаний, а Хасан редко возражал против его решений. Только Ясин время от времени восставал против его лидерства и в результате оказывался в одиночество. Амара и Сабайти вскоре научились помогать мне во врачевании, а все уколы обычно делал Амара. Я никогда не устанавливал моим гребцам регулярной заработной платы, объяснив им, что хочу иметь товарищей в пути, а не наемных слуг. Я одевал их и фактически дал им намного больше денег, чем они могли надеяться заработать. Позже, когда они женились, я помог им внести выкуп за невесту. Когда их спрашивали, сколько англичанин им платит, они с гордостью отвечали:
— Он нам не платит, мы путешествуем с нашим сахебом ради собственного удовольствия. Он великодушен и заботится о нас.
В тот год мы пересекли в нашей тарраде центральную часть озерного края и спустились по Евфрату до Эль-Курны; мы снова посетили Сайгал и еще раз побывали у племени аль иса на суше; мы посетили азайриджей, но нам не понравились ни они сами, ни их шейхи. Мы снова навестили Джасима и его фартусов и опять повстречались с Дахилем — мальчиком, который так забавно танцевал в Эль-Кубабе. Он был все так же беден, но теперь выглядел совсем изможденным; скорее всего, он угасал от шистоматоза и различных осложнений. После бесконечных споров я убедил Дахиля поехать в Басру для лечения. Уезжая, он обливался слезами. Я дал ему письмо к моему другу Фрэнку Стилу, который был вице-консулом.
К тому времени наступило лето, и на озерах тучи комаров висели над головой даже днем, когда мы продвигались по тихим проходам между темными зарослями высокого тростника. По ночам комары беспрепятственно сосали нашу кровь; было слишком жарко, чтобы чем-то укрываться. Мы с облегчением покинули озера и начали странствовать по деревням в районе Маджара, приобретая новых друзей среди земледельцев. Но независимо от того, было ли наше путешествие долгим или коротким, мы всегда возвращались в мадьяф Фалиха. Обычно кто-нибудь замечал нашу тарраду еще издали, и тогда Фалих сам выходил на берег встретить нас. Если же мы возвращались поздно вечером или до рассвета, мы ложились спать в пустом мадьяфе. Старый кахвачи Абд ар-Рида обнаруживал нас в мадьяфе, придя туда на заре, и тут же бежал к Фалиху с известием, что вновь появился его друг.
В отличие от большинства шейхов Фалих недолюбливал городскую жизнь и редко посещал Багдад и Амару. Иногда он проводил день-другой у родственников близ Маджара, чаще всего у своего дяди Мухаммеда, младшего брата Маджида. Хотя Мухаммед и не был богат, он был самый щедрый и привлекательный человек во всей семье. Злополучный (как оказалось впоследствии) сын Мухаммеда Аббас, коренастый юноша лет двадцати, был любимым двоюродным братом Фалиха. Вместе с Фалихом я провел несколько веселых вечеров в доме Мухаммеда. После обеда в мадьяфе мы удалялись в отдельную комнату в его доме. Среди его свиты было несколько исключительно одаренных певцов и танцоров. Один юноша, например, показывал пантомиму: как местные чиновники развлекаются в свободное время (хочется верить, что юноша утрировал).
Болотистое место возле дома Мухаммеда в некоторые месяцы становилось прибежищем кабанов, которые по ночам опустошали рисовые поля. Фалих и я выслеживали их, пробираясь в маленьких лодках по каналам, пересекавшим тростниковые заросли. Однажды я убил сорок семь кабанов, а в другой раз — сорок два. Они принадлежали к тому же виду, что и европейские и индийские кабаны, но достигали необычных размеров. Я как-то измерил двух, средних по величине, и оба они в холке были по тридцать семь дюймов. Жаль, что я не измерил ни одного из самых крупных кабанов. Днем они отлеживались на сырых лежбищах, которые они обычно устраивали на низких берегах, окаймляющих каналы. Лежбища, достигавшие иногда шести футов в поперечнике, представляли собой груды камышовых стеблей, которые эти животные срезали клыками и приносили в пасти иногда за много ярдов. Во время паводка кабаны уходили из озерного края и залегали в финиковых рощах, представлявших в большинстве своем заросли неухоженных пальм и колючего кустарника. В таких зарослях я однажды видел волчицу с тремя волчатами. Фалих и я либо подкрадывались к кабанам на своих на двоих (что очень щекотало нервы, но приносило мало толка), либо Фалих приказывал выгнать их из зарослей на открытую местность, а мы гонялись за ними верхом, стреляя с седла.
В конце концов я должен был уехать. Я собирался той осенью путешествовать в горах Северного Пакистана. Амара, Сабайти, Ясин и Хасан, которые теперь называли себя моими людьми, были вместе со мной в тот последний раз, что мы ночевали у Фалиха. Вечером мы все вышли из мадьяфа в поисках прохлады и уселись на траве. «Сорокадневный» ветер, который дул не переставая весь июнь, незадолго до этого утих, и сейчас воздух был неподвижен. Как только зашло солнце, из-за мелеющей реки стало доноситься отрывистое, жутковатое тявканье шакалов. Взошла луна, над нашими головами кружились летучие мыши. Мы ели дыни и виноград из сада одного сейида и пили ароматизированный чай. Из мадьяфа вышел Абд ар-Рида со своим неизменным кофейником. Он сказал мне:
— Там, куда ты едешь, такого кофе не бывает. Выпей еще, пока есть такая возможность. А Фалих добавил:
— Не покидай нас надолго!
16. Смерть Фалиха
— Добро пожаловать, сахеб, добро пожаловать!
Младший сын Абд ар-Риды вскочил на ноги и стал будить человека, спавшего рядом с ним.
— Эй, проснись, англичанин вернулся! Пойди скажи Фалиху, а я позову отца.
В мадьяфе лежали на циновках несколько людей, закутанных в одеяла. Они поднимались один за другим, приводили в порядок свои куфии, поправляли плащи. Когда они подошли поздороваться со мной, я увидел, что это слуги Фалиха.
— Добро пожаловать, сахеб, добро пожаловать! Это для нас счастливый день. Ты слишком долго не был у нас.
Я уехал отсюда в последнюю неделю июля 1952 года, а сейчас был февраль. Прошло семь месяцев, но мне они показались очень долгими. За это время, я прошел высокогорными перевалами заснеженного Гиндукуша к холодному синему озеру Коромбар, где берет начало река Читрал; я стоял на перевале и видел вдали слабый отблеск — Амударью; я ночевал и на ледниках у подножия гор, и в темных, запущенных домах посреди тутовых садов у границы с Нуристаном, где жили кафиры.[18] Сейчас, войдя в мадьяф Фалиха на пороге озерного края, я почувствовал, что вернулся домой.
Поспешно вошел сам Абд ар-Рида, еще сильнее согнувшийся за это время, улыбаясь щербатым ртом.
— Фалих вспоминал тебя как раз вчера вечером, все интересовался, когда ты вернешься. На днях Саддам приезжал к нам из Эль-Кубаба и тоже спрашивал о тебе. Добро пожаловать, добро пожаловать! Сегодня у нас праздник.
Мы сели вокруг очага и стали пить кофе. Потом все встали — вошел Фалих. Он обнял меня, поцеловал в щеку и спросил, как мои дела.
— Почему ты так долго отсутствовал? Мы ждали тебя в прошлом месяце, не правда ли, Абд ар-Рида? Но все равно, хорошо, что ты вернулся. Маданы обрадуются, услышав эту новость. Амара и Сабайти все время спрашивали, когда ты вернешься. Они явятся сюда, как только узнают о твоем приезде.
После кофе он сказал:
— Сахеб, ты уже не гость и не можешь останавливаться в мадьяфе, как раньше. Ты член семьи и должен жить в нашем доме.
Повернувшись к одному из своих людей, он сказал:
— Джасим, отнеси вещи сахеба в дом.
У Фалиха был одноэтажный дом, построенный из кирпича, который изготавливался прямо на месте. Когда мы приблизились к дому, он сказал:
— Вот это — твой дом. Добро пожаловать! Входи.
Мы вошли в одну из комнат. На стенах висели аляповатые портреты Али и Хусейна; эти шиитские святые верхом на конях поражали мечами своих окровавленных врагов. Здесь же висела большая фотография Маджида в золоченой рамке. Повсюду были разложены матрасы, обшитые красным и зеленым шелком, подушки и валики разнообразных цветов. От этого комната выглядела просторной и уютной и совсем не была похожа на те давании — неудобные кирпичные гостевые дома, которые в течение последних двадцати-тридцати лет строили богатые шейхи для иракских чиновников и приезжих европейцев. В таких домах я чувствовал себя как в тюрьме. Когда гостей не было, их запирали, а ставни закрывали; во всех комнатах обычно лежал толстый слой пыли, пол был усеян окурками. Вдоль стен неизменно стояли тяжелые квадратные кресла обычного иракского образца, крытые темным бархатом; каждая пара кресел отделялась от другой втиснутым между ними столиком. Здесь, за закрытыми окнами, шейх мог вести вымученные беседы с посетителями, в то время как все остальные держались на почтительном расстоянии.
Аббас, любимый двоюродный брат Фалиха, в это время жил у него и явно спешил вернуться в отцовский дом близ Маджара. Фалих повернулся ко мне.
— Пойдем завтра на охоту, ладно? Поищем по краю озер уток. Может быть, найдем и кабанов. Аббас, ты не можешь уехать домой, раз приехал англичанин. Он сказал, что хочет поохотиться с нами завтра. Я сейчас же пошлю кого-нибудь за твоим ружьем. Уедешь завтра вечером. Что за спешка? Ты ведь не на свадьбу торопишься!
К несчастью, Аббас дал себя уговорить.
Мы позавтракали яичницей, рисовыми лепешками и горячим подслащенным молоком и вышли на улицу. Было яркое прохладное утро. Потом проверили лошадей Фалиха — трех серых породистых арабских кобыл. Каждая была покрыта одеялом, передние ноги были скованы. После традиционного визита в мадьяф мы пошли к тарраде Фалиха, где нас ждали гребцы.
— Ну как, Дайр, есть у нас шанс найти уток в устье Хирра?
Дайр, немолодой седеющий мужчина, самый верный из свиты Фалиха, усмехнулся.
— Это известно одному Аллаху. Может быть, найдем немного. Но они как будто уже улетели из-за высокой воды. Зато должно быть много лысух.
Фадих, Аббас и я сели в тарраду; Абд аль-Вахид, сын Фалиха, сел в маленькую лодку, и мы отправились вниз по протоку. Аббас сидел в середине таррады между мной и Фалихом. Он положил свой патронташ на коврик передо мной, и я заметил несколько патронов с клеймом L.G., вставленных в гнезда вперемежку с другими. Он объяснил, что Абд аль-Вахид дал их ему для того, чтобы заполнить патронташ.
— Они годятся только на кабанов. Ради всего святого, не пользуйтесь ими, когда будете стрелять уток, так можно убить кого-нибудь, — сказал я.
В подтверждение своих слов я открыл один патрон и показал ему семь крупных дробин, а потом положил их в карман. Фалих по моей просьбе предупредил своего сына о том, как опасны эти патроны.
На краю озер каждый из нас пересел в маленькую лодку с одним гребцом, и мы углубились в тростники. Все, кроме меня, отправились в одном направлении в поисках уток, а я поплыл в другую сторону охотиться на кабанов. Но вода стояла высоко, и они, по-видимому, ушли отсюда на сушу. Я слышал стрельбу остальных, и, когда я вернулся на место встречи, они были уже там. Уток они не нашли, но подстрелили много лысух. Фалих спросил, буду ли я продолжать охоту или подожду завтрака. Я ответил, что мне все равно. Он сказал:
— У меня девять лысух, я хочу подстрелить десятую. Завтрак будет готов через час, так что продолжим.
На сей раз я присоединился к ним. Мы растянулись цепью, каждая лодка ярдах в семидесяти от другой, и пошли параллельно берегу, лавируя между разбросанными там и сям массивами камыша. Фалих и Аббас были справа от меня, Абд аль-Вахид — слева. Время от времени из тростников поднимались лысухи и летели по ветру над нашими головами. Я подстрелил одну и остановился, чтобы подобрать ее, как вдруг услышал характерный звук выстрела в моем направлении, справа от меня. Я крикнул:
— Ради всего святого, смотрите, куда стреляете!
Мы прошли немного дальше и увидели лодку Фалиха, неподвижно стоявшую на открытой воде, ярдах в пятидесяти от тростников. Мой гребец глянул в лодку, закричал: «Фалих ранен!» — и лихорадочно погреб к лодке Фалиха.
Фалих, поддерживаемый Даиром, клонился вперед. Его глаза были закрыты, и он, казалось, был без сознания. Два кровавых пятна проступили на белой рубахе, на груди. Сказав моему гребцу, чтобы он держал нашу лодку бортом к их лодке, я наклонился и схватил руку Фалиха. Пульс едва прослушивался. Затем я расстегнул его рубаху. Над левым соском из круглой синеватой ранки, сделанной явно одной крупной дробиной, сочилась кровь. Появился Абд аль-Вахид. Он спросил, что случилось.
— Это Аббас стрелял, — сказал Дайр, впервые нарушив свое молчание.
Он кивнул в направлении ближайших зарослей тростника. Я огляделся, но вокруг никого не было. Остальные четверо вдруг разом запричитали: «Отец мой, о отец мой», и все три лодки, как маленький плот, закачались на волнах. Я накинулся на них:
— Прекратите! Какой толк от ваших причитаний? Его надо доставить на берег. Дайр, держи его, а мы будем грести с обеих сторон и толкать вашу лодку.
Они сразу перестали стенать, и мы пошли вперед.
Берег был в трехстах ярдах, и в отдалении я разглядел деревушку. Дайр рассказал нам, как это случилось.
— Мы пытались подойти поближе к лысухам. Вокруг никого не было видно. Потом из тростников вылетела цапля. Аббас был на другой стороне и выстрелил прямо в нас. Фалих вскрикнул: «Аббас, ты убил меня!» Тогда Аббас поднялся в лодке, я увидел его за тростниками. Он крикнул в ответ: «О Аллах, я не знал, что ты там!» Больше я его не видел.
Вода была глубокая, и Фалих, конечно, утонул бы, если бы Дайр не сумел как-то удержать лодку на ровном киле. Подойдя к берегу, мы увидели гребца Аббаса. Он был один.
— А где Аббас?
— Он приказал высадить его, а потом убежал.
Фалих был все еще без сознания, я с трудом прощупывал его пульс. Необходимо было как можно быстрее доставить его домой, потом в Маджар, а оттуда машиной в Басру или Амару для переливания крови. Я послал гребца Аббаса в деревню, чтобы он привел большую лодку. Я сообразил, что раненый должен быть в тепле, и послал другого гребца в деревню за одеялами. Абд аль-Вахид стоял, ошеломленно глядя на отца, и спрашивал снова и снова:
— Он умрет, сакеб? Он умрет?
— Если Аллах пожелает, он будет жить, но он очень тяжело ранен.
Вдруг Абд аль-Вахид истерически закричал:
— Где Аббас? Куда он исчез? Клянусь Аллахом, если Фалих умрет, я убью его. Сахеб, ты друг Фалиха, ты должен помочь мне найти и убить Аббаса. Куда он делся, проклятый? — и он зарыдал, судорожно всхлипывая.
Откуда-то появились два перепуганных маленьких мальчика. Они стояли поодаль, наблюдая за нами. Я подозвал старшего и велел ему бежать в деревню и поторопить людей, чтобы пригнали лодку. Оба мальчика убежали. Больше я ничего не мог придумать и беспомощно смотрел на Фалиха и на Дайра, который все еще поддерживал его. По лицу старика текли слезы.
Начали появляться мужчины и женщины, прибежавшие по полям. Какой-то мужчина сказал, что по протоку из деревни идет большая лодка. Чтобы выиграть время, он предложил перевести лодку, в которой лежал Фалих, к устью протока. Два человека повели лодку, бредя по колено в неглубокой воде. Наконец подошла большая лодка. Я с облегчением увидел, что в ней лежат коврики и подушки, а на дне постелей большой ковер. Когда мы начали поднимать Фалиха, он открыл глаза и четко сказал:
— Осторожно, ружье заряжено.
Потом он снова закрыл глаза и лежал неподвижно. Мы бережно перенесли его в большую лодку. Дайр сел позади, чтобы поддерживать его голову. Мы накрыли Фалиха ковриками. Несколько человек предложили свои плащи.
Один мужчина сел на корме, чтобы править веслом, другой привязал к носу веревку; двое других потащили лодку против течения. Абд аль-Вахид и я шли рядом по берегу, покрытому увядшим чертополохом и невысоким колючим кустарником. Мы оставили свою обувь в тарраде. Ступни моих ног были еще достаточно грубыми после годов блуждания босиком по пустыне, но Абд аль-Вахид, который, вероятно, ни разу в своей жизни не выходил из дому без обуви, скоро захромал и отстал от нас. Фалих открыл глаза и попытался что-то сказать. Приказав остановиться, я стал на колени рядом с лодкой.
— Где Абд аль-Вахид? — прошептал он.
— Сейчас придет.
— Скажи ему… скажи ему от меня, сахеб, что он должен отвести Аббаса к его отцу. Он не должен оставлять его, пока Аббас не будет в безопасности, рядом с Мухаммедом. Что бы ни случилось со мной, он должен сделать так, чтобы Аббас остался невредим. Это мои приказ. Скажи ему, чтобы он пошел туда сейчас же.
Фалих снова закрыл глаза, и я дал сигнал двигаться дальше. Аббас был, по-видимому, впереди нас, отчаянно стремясь скорее добраться домой.
Пока мы медленно продвигались вверх по течению, известие о происшедшем распространилось по округе. Небольшие группы людей в молчании спешили к нам из разных деревень. Подойдя, они с воплями бросались в воду. Стоя в воде, они мазали грязью головы и одежду; женщины разрывали на себе платье и били кулаками в грудь.
— Фалих, отец мой, отец мой! — причитали они и брели вслед за нами.
Фалих лежал на дне лодки, лицо его казалось совсем белым на фоне темной рубахи Дайра. Еще и суток не прошло с того момента, когда он приветствовал меня в своем доме. До сих пор рассудок мой находился в состоянии оцепенения, и я не мог до конца осознать случившегося. То, что произошел несчастный случай и Фалих тяжело ранен, я понял сразу; но сейчас мне стало ясно, что он умирает. Арабам показалось бы более естественным, если бы я рыдал вместе с ними, но какое-то глубоко сидящее сдерживающее чувство лишило меня и этого облегчения. Разделив с этими людьми по собственному желанию так много, я не мог сейчас разделить с ними проявление их скорби.
Наконец далеко за полдень мы добрались до деревни Фалиха. Принесли кровать, положили на нее Фалиха и, прокладывая дорогу сквозь обезумевшую толпу, внесли его в дом. Кто мог, пробился в комнату и тихо стоял там. Снаружи, однако, то вздымался, то опадал плач на фоне постоянного ритмичного звука, похожего на приглушенный бой барабанов; это женщины мерно ударяли себя по обнаженной груди. Фалих открыл глаза и посмотрел в потолок. Этот взгляд был единственным признаком жизни на обескровленном, восковом лице, похожем на безжизненную маску. Люди умоляли меня дать ему лекарство и отказывались верить, что я бессилен помочь. Отведя Абд аль-Вахида в сторону, я твердил ему, что единственный выход — отвезти Фалиха туда, где ему смогут сделать переливание крови, что каждая минута задержки уменьшает шансы на спасение его отца. Он соглашался со мной, но не делал ничего. Остальные стояли вокруг кровати, громко приговаривая:
— Он умирает.
— Да, он почти мертв.
— Клянусь Аллахом, Фалих не заслужил такой смерти.
Фалих шепотом попросил воды. Когда ему дали воды, он не смог проглотить ее, она полилась вниз по его подбородку и намочила рубаху.
Прибыл другой его двоюродный брат, Хатаб. К счастью, у него был решительный характер и он привык командовать. Хатаб немедленно взял все в свои руки. Фалиха положили в тарраду Хатаба, и он повез его в деревню своего отца Хамуда, расположенную недалеко от Маджара. Я отправился следом за ними в другой лодке, тяжелой и тихоходной, и мы скоро отстали. Когда я прибыл в Маджар, Фалиха уже перенесли в диванию, принадлежавшую Хамуду, и тот пошел звонить по телефону в Багдад Маджиду. В коридоре среди толпы стоял местный врач. Я спросил его, в каком состоянии Фалих. Покачав головой, он ответил, что Фалих, как кажется, умирает. Врач согласился, что единственным спасением было бы отвезти его прямо в Басру — ближайшее место, где могли сделать переливание крови.
Кто-то крикнул:
— Где англичанин?
Когда я вошел в комнату, мне сказали, что Фалих позвал меня. Я подошел. Он повел глазами и взглянул на меня, но ничего не сказал. Здесь была только его семья, и, хотя я боялся показаться назойливым, я остался у его постели. Мы стояли и ждали, время тянулось очень медленно. Стемнело. Внесли керосиновую лампу, которая, издавая слабое шипение, заливала комнату резким светом.
Вернулся Хамуд. Тяжкая задача — объявить о несчастье Маджиду — выбила его из колеи. Он совершенно растерялся.
— Фалиха нужно сейчас же отвезти в Багдад. Это приказ Маджида. Я уже послал за тремя машинами.
Я знал, что Фалих не вынесет путешествия в двести пятьдесят миль в темноте, по ужасной, ухабистой дороге.
— Отвезите его в Басру, — умолял я Хамуда. — Вы сможете переправить его оттуда утром на самолете, если Маджид будет настаивать на своем. Прошу, отвезите его в Басру! Это займет всего три часа, и там он получит лечение, в котором нуждается. Не заезжайте даже в Амару, езжайте прямо в Басру!
Но Хамуд сказал только:
— Мы сначала поедем в Амару, а там посмотрим.
Приехали машины. Фалиха снова подняли и положили на заднее сиденье одной из них. Его семья — и женщины и мужчины, все, кто мог найти себе место, втиснулись в другие машины, и они отправились. Дайр и я в темноте пошли на лодке вниз по течению в деревню Фалиха. Мы говорили мало, но я помню, что Дайр сказал:
— И вот такое случилось только потому, что он хотел подстрелить еще одну водяную курочку. Жизнь Фалиха за одну водяную курочку!
Он помолчал и добавил:
— Это предначертано, сахеб.
Мне тоже казалось, что здесь распорядилась судьба, а не случай. Иначе как объяснить, что Аббас сложил все патроны вместе и зарядил ружье картечью в том единственном случае, когда он выстрелил в направлении Фалиха? Как объяснить, что одна дробина поразила Фалиха именно в грудь с расстояния в семьдесят ярдов? Когда я раздевался в доме Фалиха, в той самой комнате, в которой я провел предыдущую ночь, я обнаружил в кармане семь дробин L.G. из патрона, который я разрядил в то утро.
Рано утром на следующий день я вернулся в Маджар и нанял машину до Басры. Там я узнал, что Фалиха отправили в Багдад на самолете. Говорили, что ему стало лучше, и я начал надеяться. Я дал телеграмму одному из своих друзей, сел в вечерний поезд и на следующее утро был в Багдаде. Мой друг встретил меня на вокзале, и мы поехали в город искать дом Маджида. Полицейский объяснил нам, как проехать, и, спохватившись, добавил:
— Да ведь Маджид уехал в Эн-Наджаф хоронить сына, который вчера умер.
Так я узнал о смерти Фалиха.
17. Траурный обряд
Дом Маджида, оказавшийся виллой на окраине города, мы нашли легко. Я позвонил в дверь, и меня провели внутрь. В небольшой комнате сидели Абд эль-Вахид и Халаф, младший брат Фалиха. Я поздоровался с ними. Очень скоро пришел Маджид. Глаза у него покраснели от слез, лицо осунулось от горя. После обычных взаимных приветствий он предложил мне сесть рядом с ним на диване, спросил, как я себя чувствую и когда приехал — традиционные вопросы арабского этикета. Я выразил свое соболезнование. Он повернулся ко мне и просто сказал:
— Сахеб, я знаю, что ты был ему другом.
Мы сидели молча. Через некоторое время слуга принес кофе. После кофе Маджид снова спросил меня о моем самочувствии. Я ответил, и мы опять замолчали. Видеть этого потрясенного горем старика, чьи надежды и чаяния рухнули со смертью сына, было невыносимо тяжело. Я подождал еще немного и попросил позволения удалиться. Он сказал:
— Иди с миром.
— Да хранит тебя Аллах, — ответил я. Когда я вышел из дома Маджида, начался дождь. Он лил не переставая весь день.
Через несколько месяцев я встретил англичанина-[139]кардиолога, работавшего в Багдаде по контракту с иракским правительством. Он находился в Басре, когда Фалиха доставили в аэропорт, и, услышав о происшедшем, сразу поспешил туда. Осмотрев Фалиха, он хотел его немедленно оперировать, чтобы уменьшить давление крови на сердечную мышцу, но ему сказали, что Маджид приказал доставить сына в Багдад. Врач пытался объяснить, что он и есть кардиолог из Багдада, единственный в стране, что единственный шанс спасти Фалиху жизнь — немедленно оперировать. Спутники Фалиха отказались. Врач добавил, что, как показало вскрытие, Фалиха все равно не удалось бы спасти. Дробина повредила сердце и сердечные нервы и вызвала коллапс легкого. Он был очень удивлен тем, что Фалих так долго оставался в живых. Видимо, сказал он, это был исключительно крепкий человек.
Через три дня я вернулся в деревню Фалиха, чтобы участвовать в траурном обряде. Я прибыл туда в полдень. Уже на некотором расстоянии от деревни я услышал причитания женщин и ритмичные звуки ударов в грудь. Вдоль берега стояло множество лодок, перед мадьяфом собралась большая толпа. У входа поставили несколько знамен племени, их длинные алые складки и украшения из серебра на древках сверкали под ярким весенним солнцем на фоне тростниковых стен. Внутри было довольно темно и очень тихо. Вдоль стен неподвижно сидели люди, закутанные в черные плащи. Кто-то шепнул мне:
— Вот там Маджид!
Я пересек комнату, приветствовал его, пожал ему руку и стал искать, где бы сесть. Какие-то люди подвинулись, чтобы освободить мне место. Среди находившихся в мадьяфе я узнал некоторых, но остальные были мне незнакомы. Здесь были сейиды в зеленых куфиях, духовные лица из Кербелы и Эн-Наджафа, одетые в черное, с небольшим, плотно намотанным черным или белым тюрбаном на голове; шейхи из таких отдаленных мест, как Кут-эль-Амара и Эн-Насирия, со своими приближенными; деревенские старосты и старейшие жители деревень, горожане и купцы из Маджара, Амары и Басры; и, наконец, родственники Маджида, весь клан. Абд ар-Рида встал со своего места у очага и, держа в руках маленький кофейник, подошел ко мне и налил кофе. Мальчик положил передо мной пачку сигарет. Один-два человека, сидевшие неподалеку, сказали тихонько:
— Добрый день, сахеб.
На этом движение, вызванное моим приходом, затихло.
Время от времени кто-нибудь вполголоса обменивался несколькими словами с соседом, но в основном все сидели молча, перебирали четки, курили. Человек шесть встали, подошли к Маджиду, попрощались и вышли из помещения. Входили другие, иногда по двое или по трое, иногда человек двадцать одновременно. Они, как и я, приветствовали Маджида и усаживались, им давали пачки сигарет, подавали кофе и чай. Перед тем как уйти очередной группе, они, воздев руки, нараспев читали суру «Фатиха».[19] Через тростниковую стену было слышно, как причаливали и отплывали лодки. Над головой, в тростнике арок, чирикали воробьи, тени в дверном проеме все удлинялись. Все больше людей уходило, все меньше прибывало; между фигурами, застывшими вдоль стен, появлялось все больше свободных мест.
За годы пребывания в Аравии я научился сидеть на полу, и все же к вечеру, когда Маджид встал и вышел из мадьяфа, ноги у меня совершенно онемели. Арабы стали готовиться к вечерней молитве, а я вышел из мадьяфа, чтобы найти Дайра. Я спросил его, как долго, исходя из приличий, мне следует здесь оставаться.
— Все знают, что ты был другом Фалиха. Я думаю, они рассчитывают, что ты останешься еще дня на два. А сейчас пойдем, побудь немного с друзьями.
Дайр повел меня к длинному тростниковому навесу, который был построен в последние дни. Солнце сверкающим оранжевым шаром лежало на горизонте за той самой рощей финиковых пальм, в которую мы с Фалихом ходили на охоту первый раз.
Под навесом вокруг маленького очага сидели несколько слуг Фалиха. Их куфии были выкрашены в темно-синий цвет в знак траура. Они сердечно приветствовали меня и подали мне кофе. На этот раз обычай арабов наливать в чашечку совсем немного кофе пошел мне на пользу: ведь в тот день мне подавали бесчисленное множество чашечек. С едва различимого в сумерках противоположного берега реки вдруг донесся короткий вечерний хор шакалов.
Я поинтересовался судьбой Аббаса.
— Убежал в Калъат-Салих и отдал себя в руки полиции. Он все еще там, Аллах да покарает его, — с презрением ответил Дайр.
— А Мухаммед, его отец?
— Тоже уехал в Калъат-Салих и обратился за помощью к правительству. Говорят, он нанял адвоката.
— Адвокат? — сказал кто-то. — Адвокат не очень-то ему поможет. Маджид в ярости от того, что они обратились к правительству. Это в самом деле презренный поступок.
— Да, — отозвался другой человек. — Мухаммед должен был привести Аббаса сюда и передать его Маджиду. Если бы он это сделал, Маджид пощадил бы Аббаса. А теперь он наверняка убьет его.
— Да, они поступили очень глупо, — сказал Дайр. — Теперь беды не миновать.
— Маджид теперь говорит, что Аббас застрелил Фалиха умышленно, потому что у них был спор из-за возделываемой земли.
— Да, знаю, — ответил Дайр.
Когда я вернулся в мадьяф, там было еще около тридцати человек. Я не знал никого из них, но кто-то спросил меня:
— Ты тот самый англичанин, который был другом Фалиха?
Когда я ответил утвердительно, он сказал:
— Добро пожаловать, добро пожаловать, друг Фалиха!
Другой спросил, был ли я вместе с Фалихом, когда Аббас застрелил его, и что случилось потом. Пока я рассказывал, принесли обед, и мы стали есть в молчании, как того требует обычай. Потом мы снова разговаривали, пока не пришли слуги с постельными принадлежностями, которые они разложили вдоль стен.
С раннего утра в мадьяфе начались хлопоты. Один за другим люди поднимались и, умывшись и сотворив молитву, рассаживались вдоль стен. Слуги скатали и унесли постельные принадлежности. Сварили и подали кофе. Мальчик принес блюдо, на котором горкой возвышались лепешки, выпеченные из муки; он разложил лепешки — по одной на циновку, лежащую перед каждым. К ним подавали по два-три стаканчика горячего молока. Все встали, когда в мадьяф вошел Маджид вместе со своим младшим сыном, Халафом, Абд аль-Вахидом и другими членами семьи. Он поздоровался с нами и сел на свое вчерашнее место. Мы тоже сели. Вскоре прибыли первые посетители, мадьяф постепенно заполнился народом. Маджид, седой, небритый, с солидным брюшком, выглядел очень усталым. То был старый, раздавленный горем человек. Он был не в силах примириться со случившимся.
— Почему это должно было случиться именно с Фалихом? Почему с Фалихом? — вдруг взорвался он. — О Аллах, теперь у меня не осталось никого!
Тут я вспомнил, что его старший сын, Харайбид, был убит три года назад. Сидевшие рядом с ним попытались утешить его:
— У тебя ведь есть Халаф и Абд аль-Вахид.
— Нет, нет, теперь у меня нет никого! Нет у меня сына! А моя земля, что будет с моей землей, когда я умру? Что будет с моей землей теперь, когда умер Фалих?
Прибыли другие посетители. Он ответил на их приветствия и погрузился в горькое молчание.
За стеной мадьяфа на берегу реки началась какая-то суматоха, раздавались голоса и стук наталкивающихся одна на другую лодок. Большая группа людей, вооруженных винтовками, вошла в мадьяф вслед за высоким грузным человеком в плаще из тончайшей верблюжьей шерсти, расшитом золотом.
— Кто это? — шепотом спросил какой-то горожанин из Басры.
— Сулейман бин Мотлог, — ответил его сосед.
Я слышал о Сулеймане, верховном шейхе племени азайриджей, рисовые поля которого граничат с землями Маджида, но никогда не видел его, хотя и ездил по землям его племени. Мясистое лицо Сулеймана казалось очень бледным. Долгие годы жизни в довольстве изнежили его. Как и большинство богатых шейхов, он много времени проводил в Багдаде. Сулейман сел рядом с Маджидом, его спутники расположились в ряд строго по рангу. У каждого под плащом были кинжал и нагрудные патронташи, набитые патронами. Подали кофе и чай. В помещении вновь воцарилась тишина. Затем Сулейман произнес: «Фатиха», после чего он и его соплеменники стали нараспев читать первые строки Корана:
Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Хвала — Аллаху, Господину миров милостивому, милосердному, царю в день суда! Тебе мы поклоняемся и просим помочь! Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, — не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.Я надеялся, что вскоре подадут завтрак и я смогу размять ноги, но тут беспорядочная пальба и судорожные причитания возвестили о прибытии очередной группы. Через дверной проем я мельком увидел знамя племени и толпу людей, покрывших илом головы и одежды.
— Из Эль-Кубаба, — сказал кто-то Маджиду.
Люди из Бу Мугайфата и Эль-Кубаба — человек сорок-пятьдесят — по очереди подходили к Маджиду, целовали ему руку и отходили в сторону. Я узнал многих из них. Чуть позже опять раздались выстрелы и рыдания: прибыла большая группа из Эль-Аггара. Они тоже намазались илом. К этому времени было уже далеко за полдень. Прибыли еще три группы представителей племен, оплакивающих Фалиха. Наконец слуга сообщил Маджиду, что завтрак готов. Нас приглашали, по сорок-пятьдесят человек, под тростниковый навес, где я сидел накануне вечером, и подавали баранину с рисом на огромных блюдах. Как только одна группа заканчивала трапезу, блюда снова наполнялись, и под навес приглашали следующую группу. Накормили всех — и тех, кто сидел в мадьяфе, и тех, кто находился снаружи.
После этого началась хауса — боевой танец племен. Представители каждой деревни по очереди нараспев произносили импровизированную речь в память Фалиха, а соплеменники подхватывали слова, держа над головами винтовки и притоптывая ногами, сомкнувшись плотным кольцом вокруг алых знамен. Мужчины, державшие знамена, были главами тех семей, которые по традиции обладали правом быть знаменосцами на поле боя; сейчас, во время пляски, они потрясали древками так, что серебряные украшения сталкивались и звенели. Продолжая пританцовывать в такт пению, они начали стрелять из винтовок, сначала беспорядочно, а потом залпами. Такие залпы мне приходилось слышать только на войне. Острый запах пороха распалял их еще больше.
— Хватит! — произнес наконец Маджид. Его слуги бросились в бурлящую толпу, крича:
— Хватит! Шейх сказал — хватит!
Мы вернулись в мадьяф.
Через несколько часов, на закате, вскоре после того, как удалился Маджид, я стоял на берегу реки и беседовал с группой людей. Мимо пробежал мальчик, выкрикивая что-то, и я почувствовал, что все пришли в сильное возбуждение. Несколько человек бросились к своим домам.
— Что случилось? — спросил я.
— Маджид послал отряд убить Мухаммеда!
— Но ведь Мухаммед под защитой властей в Калъат-Салихе, — возразил я.
— Нет, говорят, что он вернулся домой, в Маджар.
В меркнущем свете дня я увидел, что две лодки устремились вверх по течению, унося мстителей. На противоположном берегу реки опять завыли шакалы. Но Мухаммед все еще находился в безопасности, в Калъат-Салихе.
18. Восточные озера
Следуя совету Дайра, я остался еще на один день. Затем, как полагается, попросил у Маджида разрешения уехать и направился в Эль-Кубаб с Амарой и Сабайти, которые приехали накануне вечером и ночевали в мадьяфе. Они тоже были потрясены смертью Фалиха. Когда наша таррада повернула к озерам, Амара сказал:
— Фалих был нам как отец. Друзья моего друга — так он звал нас. Он посылал за нами каждый раз, когда приезжал в нашу деревню, чтобы узнать, все ли у нас в порядке.
Слезы текли по лицу Амары. Весь этот год люди, жившие в отдаленных друг от друга местах, с глубоким сожалением говорили о смерти Фалиха.
— Ведь ты был другом Фалиха? — порой спрашивал меня незнакомый человек и принимал меня еще более радушно. Я и не подозревал, какой доброй славой пользовался Фалих, как глубоко его уважали.
Мы собрались провести следующие шесть недель на восточных озерах. Один раз мы заночевали в мадьяфе Саддама. В отсутствие отца роль хозяина выполнял его младший сын. В Эль-Кубабе тоже оплакивали Фалиха. Несколько человек, зашедших в мадьяф, были немногословны и вскоре ушли. На следующее утро к нам присоединились Ясин и Хасан, и мы направились к племени аль бубахит. Целых два дня я без устали оказывал медицинскую помощь в маленьких деревнях. Пройдя под мостом, по которому пролегало шоссе Басра — Амара — Багдад, мы достигли Тигра ниже Эль-Азайра и пошли вверх по течению мимо гробницы Эзры.[20] Купол гробницы выложен зелеными и голубыми изразцами, она окружена пальмами. К ней примыкал ветхий дом для паломников. Сам Эль-Азайр — неказистый поселок, в котором останавливались грузовики и автобусы. На протяжении нескольких миль за поселком пустынные берега усеивали массивные печи для обжига кирпича, похожие на жертвенные алтари. Быть может, в подобных печах обжигали кирпичи, из которых возводился Вавилон… Кирпич шел на постройку домов в окрестностях Басры.
Мои размышления прервал Ясин:
— Говорят, недавно в этих местах на человека в реке напала акула и отхватила у него полноги.
Я знал, что в Басре на купающихся иногда нападают акулы, но Эль-Азайр расположен в восьмидесяти милях выше по течению и в ста пятидесяти милях от моря. Когда я выразил удивление, мои гребцы стали уверять, что у Эль-Азайра дурная слава из-за акул. Когда я был здесь в другой раз, один из жителей рассказал мне, что во времена, когда еще жил его отец, в период спада воды какая-то огромная рыба буквально перегородила своим телом реку. Пришлось рубить ее на куски прямо в реке.
Пока мы шли дальше, я стал расспрашивать, встречаются ли акулы на озерах. Хасан сказал, что несколько лет назад забили острогой небольшую акулу. Амара прервал его:
— А ты знаешь, что, пока ты отсутствовал, одного человека прикончила гиена? Он спал в поле за Маджаром. Гиена схватила его за лицо. Когда его нашли, он был мертв. Его опознали только по одежде.
Я сам видел гиену три года назад. Это была полосатая гиена; пятнистые гиены, более крупные, водятся только в Африке. В этих краях еще сорок лет назад встречались львы, но они были истреблены, когда у местных жителей во время первой мировой войны появились современные винтовки. Один из старых слуг Фалиха как-то сказал мне, что видел трех львов недалеко от Маджара, а другой описал охоту на льва вблизи Амары, в которой он некогда принял участие. Один из охотников когда-то убил льва из шомпольного ружья. Еще кто-то видел двух львят, которых группа маданов принесла своему шейху. Многие старики помнили те времена, когда по ночам в этих местах слышался львиный рык.
Мы повернули в широкий проток, ведущий к восточным озерам, и повстречались с большой двухмачтовой лодкой, доверху нагруженной тростниковыми циновками, которую гребцы с натугой вели на шестах по направлению к Тигру. Позже мы видели большой плот из сухого тростника длиной в сорок и высотой в десять футов. Плот лежал на берегу, оставленный на время без присмотра. Когда уровень воды поднимется, эта огромная связка тростника будет сплавлена вниз по течению — может быть, до самой Басры; там тростник разберут и продадут.
Байдат-эль-Нуафиль, где мы провели ночь, — самая большая деревня, которую мне довелось видеть на озерах: шестьсот сорок домов, но при этом ни одного мадьяфа. Дома стояли группами на полосах сухой земли, разделяемые водой. Когда уровень воды в Тигре был особенно низок, протоки совсем высыхали, и тогда Жители оставляли свою деревню и временно обосновывались на берегах Тигра. Вместе со своими соседями, аль буганам на севере и аль бубахит на юге, нуафиль вставляли шадда — большую, непокорную ветвь племени аль бу-мухаммед. Нуафиль держат буйволов, но их основное занятие — изготовление циновок, которые они вывозят на продажу. Большие парусные лодки — одну из них мы уже видели — вывозят циновки, когда вода поднимается достаточно высоко. В тот год стояла особенно высокая вода.
Мы остановились у старосты. Накормили нас очень плохо, и я был недоволен, так как перед этим оказывал помощь нескольким больным членам семьи старосты. Я решил, что жители деревни все отчаянные скупердяи и без сожаления расстался с ними. Мои товарищи полностью разделяли мои чувства — хозяин не дал нам на завтрак молока, подал только два стакана не слишком сладкого чая и хлеб. Ясин с отвращением сказал:
— Даже слюна не появилась!
Это была острота: по-арабски «выделить слюну» и «позавтракать» обозначаются одним и тем же словосочетанием. Однако утро было прекрасное, и мои гребцы скоро пришли в хорошее расположение духа. Воздух был бодрящий, свежий, с севера дул легкий ветерок, солнышко ласково пригревало, перистые облака испещряли голубое небо. Мы вели тарраду по цепочке узких проходов, которые вились по открытой равнине, покрытой сухой осокой. В центральной части озерного края, за исключением отдельных заводей, заросли тростника всегда ограничивали видимость — иногда до нескольких шагов. Здесь вид открывался на мили. Земля высохла за зиму, и сейчас в местах, еще не покрытых растительностью, она была серого цвета и твердая, как обожженная глина. В других местах поднявшаяся вода покрывала ее на несколько дюймов, и образовавшаяся жижа имела цвет и густоту растопленного шоколада.
Мы спугивали разных болотных птиц. Некоторые поодиночке с пронзительными криками поднимались в воздух, другие плотной стаей кружили над водой и выбеленной солнцем осокой. Я различил по крайней мере два вида кроншнепов, травников, веретенников, турухтанов, шилоклювок, ходулочников и разнообразных ржанок. Здесь были и утки, но они взлетали задолго до того, как мы подходили на расстояние выстрела; были серые и белые цапли, ибисы и колпицы. Один раз мы видели вдалеке стаю журавлей. Хасан устраивал вылазки за каждой птицей, которую он считал съедобной, но ему ни разу не удалось подойти достаточно близко. Его возвращение каждый раз встречали грубоватыми замечаниями по поводу его охотничьей квалификации. Между тем Ясин и Сабайти подталкивали тарраду шестами, идя по обоим берегам. Ширина прохода в некоторых местах едва равнялась ширине лодки, а иногда он поворачивал под прямым углом. В таких случаях мне казалось, что придется возвращаться назад — ведь наша таррада имела тридцать шесть футов в длину, но в конце концов гребцы всегда ухитрялись как-то провести ее.
На мне была длинная арабская рубаха, и, когда я шлепал по воде, чтобы помочь им, я подворачивал ее до пояса. Я всегда подозревал в склонности к самолюбованию тех путешественников, которые без особой необходимости нацепляли на себя одежду местных жителей. Арабская одежда, в частности, не слишком удобна для тех, кто не привык к ней. Я же носил ее в течение пяти лет, проведенных мной в Южной Аравии, поскольку иначе мои спутники просто не приняли бы меня как своего. В Ираке арабы привыкли видеть европейскую одежду (все чиновники тщательно следят за тем, чтобы не появляться на людях в другом обличье), и я во время первого путешествия по озерам носил европейскую одежду. Позже, когда я почувствовал, что принят местными жителями, я стал носить куфию и длинную арабскую рубаху, поскольку они были явно удобнее. Поверх рубахи я надевал куртку — эта мода приобретала все большую популярность и среди маданов. Когда сидишь в лодке или в доме, рубаха хорошо защищает ноги и ступни от мух и комаров. Но, посещая официальных лиц или уезжая в город, я всегда переодевался в европейскую одежду.
Мы пересекали Авайзидж — полосу земли, затапливаемую только во время разливов. Она тянулась на двадцать с лишним миль, отделяя Тигр и болотистые низины, окаймлявшие его в некоторых местах, от обширной озерной территории на востоке. Поскольку здесь озера и болота были в основном слишком глубоки, чтобы держать буйволов, маданы чаще всего строили свои деревни вдоль Авайзиджа или севернее, в устьях Чахлы и Машарии. Осенью кочевники рабиа, часть племени ферайгатов, пересекают Тигр с большими стадами буйволов, разбивают становья и зимуют здесь. Весной они уходят обратно, за Тигр, медленно передвигаясь вдоль Вадийи на север, пася своих буйволов по пути к Маджару на сжатых полях ячменя и пшеницы; им это разрешают, так как буйволы оставляют на полях навоз. Затем они откочевывают на запад, к Джиндале, чтобы провести лето на тучных пастбищах, оставляемых спадающим разливом, но за это шейхи взимают с них довольно высокую плату.
Амара принадлежал к рабиа, и мы рассчитывали найти его родственников в Абу-Лейла, самом большом из зимних становищ рабиа, лежавшем на нашем пути. Приблизившись к нему, мы увидели стада буйволов, охраняемые мальчиками-пастухами. Я разглядел одного почти белого буйвола и несколько пестрых. Пораженный размерами стад, я спросил, сколько буйволов имеет обычная семья кочевника.
— От двадцати до тридцати, — сказал Амара.
Но Хасан настаивал, что большинство имеют гораздо больше, и назвал по имени одного из рабиа, у которого было сто пятьдесят голов.
— А в каком возрасте первый раз телится буйволица?
— Обычно на четвертый год, — ответил Амара и добавил: — Они вынашивают телят одиннадцать месяцев. Хорошая буйволица приносит до пятнадцати телят.
Зная, что бедуины обычно сразу убивают новорожденных верблюжат-самцов, чтобы иметь больше молока для себя, я спросил, поступают ли маданы так же с новорожденными бычками,
— Да. Но если у хозяина совсем мало буйволов, он обычно оставляет бычка на продажу. Если хозяин забивает теленка, берут теленка другой буйволицы, и его кормит не только мать, но и оставшаяся без теленка буйволица; тогда он быстрее растет.
— Сколько можно выручить от продажи буйвола?
— Джаллаба в прошлом месяце платили по пятьдесят динаров за хорошую буйволицу и тридцать пять за буйвола.
Джаллаба — торговцы, которые разъезжают по деревням маданов, скупая буйволов. Торговцы скупают также шкуры животных, которые погибают во время периодических эпидемий геморрагической септицемии — болезни крупного рогатого скота, которая буквально косит стада. Жители озер знают, что такие шкуры — источник инфекции. Но это не мешает им продавать их — хотя они возмущаются, если торговец привозит зараженные шкуры в их собственную деревню.
— Несколько лет назад, — сказал Хасан, — была большая эпидемия ящура. Болели многие наши буйволы, болели даже кабаны. Мы часто находили кабанов, которые не могли ходить — так сильно у них были поражены болезнью ноги.
В Абу Лейла проток расширился до тридцати ярдов. Там и сям стояли буйволы, одни в воде, другие на берегу. Много лодок, в большинстве своем очень больших, были вытащены на берег. По воде на камышовых плотиках сновали дети. По обоим берегам было разбросано около сотни домов. Небольшие сами по себе, лишь в пять арок, они выглядели карликовыми по сравнению с пристроенными к ним укрытиями для буйволов, называемыми ситра, которые достигали в длину сорока ярдов. В отличие от домов, чьим продолжением они являлись, ситры имели форму шатра и не покрывались циновками. Образующие стену стебли касаба ставили под наклоном и привязывали наверху к продольному коньковому шесту, представляющему собой связку стеблей касаба. Кучи навоза и истоптанного хашиша лежали вдоль обеих стен.
Мы остановились у одного из двоюродных братьев Амары, высокого спокойного юноши по имени Бадаи. Он радостно обнял Амару (они были добрыми друзьями), потом принес коврики и подушки. Мы сели на солнце у входа в его ситру, которая, как туннель, вела к дому. Жена и сестра Бадаи стали толочь рис, чтобы потом сварить его на завтрак. Отец Бадаи умер несколько лет назад, и он являлся главой семьи, состоявшей из матери, жены, сестры и двух младших братьев, которые в этот момент пасли буйволов.
Бадаи враждовал с семьей человека по имени Радави, который жил неподалеку. Хасан, один из сыновей Радави, любил жену Бадаи; прежде он надеялся на ней жениться. Но Бадаи, как ее двоюродный брат со стороны отца, имел преимущественное право на девушку и, настояв на своем праве, женился на ней. Хасан поклялся, что он все равно заполучит ее, даже если ему придется убить Бадаи. За несколько недель до нашего прибытия эти двое молодцов случайно встретились и подрались, но их разняли. Все сидевшие с нами согласились, что Хасан не имеет никаких прав на девушку. Какой-то старик воскликнул:
— Он сын Радави. Каков отец, таков сын. Все они необузданные, плохие люди. Разве не убил уже Радави двух человек, которые мешали ему?
Амара убедил трех старейшин пойти с ним в дом Радави и попытаться уладить ссору. Они вернулись вечером ни с чем, и Амара с отвращением сказал:
— С ними никто не сможет сладить, даже сам сейид Сарват. Они твердят, что Бадаи должен развестись с женой — или, мол, пусть пеняет на себя.
Он предупредил Бадаи:
— Держись подальше от них, и пусть винтовка твоя все время будет под рукой, особенно ночью. От них всего можно ждать.
Когда солнце село и в воздухе разлилась прохлада, последние буйволы — в сумраке они казались темными пятнами на фоне темнеющей равнины — двинулись к деревне. Прозрачные облака, на которых играли разноцветные отсветы, плыли в небе высоко над головой. Утки стая за стаей проносились на запад. Мы вошли в дом, а длинную ситру стали заполнять буйволы; над их мощными телами вздымались толстые изогнутые рога.
Амара принадлежал к этим кочевым ферайгатам. Благодаря этому, а также благодаря моему врачеванию нас радушно приняли и в других становищах. Не привязанные к какому-либо определенному месту, вооруженные до зубов, эти рабиа были гордыми, необузданными людьми. Чтобы обеспечить молодую поросль на корм своим буйволам, они выжигали тростник, который служил жителям Байдат эль-Нуафиля основным материалом для изготовления циновок. За это их ненавидели. Рабиа постоянно враждовали с маданами племени суайдитов — пародом столь же необузданным, как они сами, жившим близ границы с Ираном. Рабиа и суайдиты похищали друг у друга буйволов, как только представлялась такая возможность.
Покинув ферайгатов, мы остановились на ночлег в Турабе, большой деревне, жители которой, подобно жителям Байдат-эль-Нуафиля, занимаются изготовлением циновок. Они, однако, принадлежат к племени аль буганам. Находясь среди кочевников, я удовлетворялся пищей, состоявшей из риса и молока. Здесь же, по моему мнению, они могли бы по крайней мере зарезать для нас курицу; так что, когда наш хозяин стал без устали поносить ферайгатов, я защищал их как мог. Наутро какой-то человек из окрестностей Чахлы попросил нас подвезти его. Мы были рады взять его с собой, так как он уверенно повел нас по тростниковым зарослям. Ясин накануне спрашивал, как нам идти, но ему сказали, что без проводника мы заблудимся. Наш путь пролегал среди высоких тростников и мелких заводей, найти проход было нелегко. Помню, что именно во время этого путешествия я впервые услышал крик выпи. Четыре часа ушло, чтобы добраться до деревни Дибин, расположенной в устье Чахлы, куда мы и направлялись.
Мои спутники легко запоминали дорогу, и за годы, проведенные со мной, они узнали озерный край так хорошо, как, возможно, никто другой. Но даже там, где они никогда не бывали, ими отлично руководил инстинкт. Это было особенно заметно, когда они обнаруживали среди тростников и маленьких островков по краям заводи узкий вход в какой-нибудь нужный нам проток, который не отличался от сотен других, никуда не ведущих. Приобретенный с детства опыт позволял им также выследить плывущего кабана, отличить одну рыбу от другой по оставляемому на воде следу, с одного взгляда узнать лодку, которую они видели всего один раз. Но, как ни странно, они очень плохо запоминали имена. Страдая и сам тем же недостатком, я всегда раздражался, когда ни один из четверки не мог вспомнить имени хозяина, принимавшего нас вчера.
Когда мы шли на лодке, кто-нибудь из моих спутников время от времени просил нас остановиться, запускал руку в воду и выдергивал молодой побег бирди — так они называют камыш. Они ели хрустящую, бледную прикорневую часть стебля; по-видимому, только определенные побеги бирди годились в пищу. Иногда они жевали тщательно выбранный ими стебель касаба, как жуют сахарный тростник. Весной женщины маданов собирают колоски камыша и делают нечто вроде твердого желтого сдобного хлебца, который считается лакомством; мне его слабо выраженный вкус казался неприятным.
Мы провели несколько ночей в Дибине, каждое утро отправляясь на обследование озер Хавайзы. Мы обнаружили скрытые массивами тростника озера, по величине не уступающие Зикри, но ни разу не отважились уходить далеко от берега, опасаясь внезапного шторма. Пока мы плыли по еле различимым проходам, которые, казалось, чуть ли не на каждом шагу упирались в глухую стену тростника, наш проводник просил меня держать винтовку наготове, приговаривая:
— Нас здесь могут убить бандиты, и никто никогда даже не узнает об этом.
Эти озера были естественным заповедником для птиц. Нигде мне не приходилось видеть такого их количества. Водное пространство казалось черным от сидевших на воде птичьих стай, а когда взлетала даже небольшая часть этого скопища, в воздухе стоял сильный шум. Кроме случайных контрабандистов, мало кто беспокоил птиц.
Но вообще число уток и гусей на озерах уменьшалось с каждым годом. В 1951 году на сжатые рисовые поля близ Сайгала на закате прилетали кормиться такие огромные утиные стаи, что они напоминали мне стаи саранчи. Когда я в 1958 году покидал озерный край, такого уже не было и в помине. В этот период в Ирак ежегодно ввозили до миллиона патронов, и большинство людей, которые использовали их, надеялись одним патроном убить хотя бы одну птицу. Большой ущерб наносили пернатой дичи профессиональные охотники, которые ловили ее сетями, по сотне с лишним штук за раз. Они платили шейхам за право охотиться на некоторых водоемах и разбрасывали там зерно для приманки. В частности, вокруг Амары было много таких, как бы сданных в аренду, небольших водоемов.
Дикие гуси — серые, с белой грудью — обычно прилетали на озера в октябре. Они появлялись с севера, возвращаясь из своих гнездовий в Сибири, где они выращивали птенцов. В их крике мне чудился призыв диких, нетронутых мест. Стаи гусей, растянувшиеся треугольниками по бледному небу, следовали одна за другой, а я с грустью думал о том дне, когда исчезнет последний дикий гусь, когда не станет львов в Африке…
Каждое утро, перед тем как отправиться в путь, мы одалживали у нашего хозяина в Дибине чайник, стаканы и блюдо и покупали у лавочника чай, сахар, соль и муку. Когда мы хотели сделать привал, мы выбирали подходящее место на краю озера, ломали и утаптывали тростник, чтобы образовалась площадка, которая удерживала бы нас на поверхности воды, и готовили еду. Хасан жарил на тростниковом вертеле дичь, которую нам удавалось подстрелить, а Сабайти выпекал на углях лепешки из муки; они всегда были сырые, всегда были покрыты золой. Потом мы заваривали и пили чай до тех пор, пока не кончался сахар. Я наблюдал за утками на озере или за зимородками, стрелой проносившимися мимо нас. Однажды мы видели двух выдр, резвившихся примерно в ста ярдах от нас. Хасан потянулся за ружьем и спугнул их; несколько секунд они как бы стояли в виде, вытянувшись во весь рост, уставившись на нас, потом нырнули и исчезли. Я был рад, что они заметили нас, ведь Хасан обязательно попытался бы подстрелить их. Шкурка выдры стоит здесь один динар. Дядя Хасана в Бу Мугайфате однажды за два месяца настрелял сорок выдр.
Хасан сказал мне, что вокруг озера Зикри много выдр. Они плодятся на плавучих островках иногда уже в январе, но чаще в феврале и марте. Через три года, в 1956 году, Гэвин Максуэлл, который хотел написать книгу об озерном крае, приехал со мной в Ирак, и я семь недель возил его по озерам в своей тарраде. Он всегда мечтал приручить выдру и держать ее у себя дома, и я наконец нашел для него детеныша европейской выдры, который, к сожалению, умер через неделю, уже в конце пребывания Гэвина в Ираке. Когда Гэвин находился в Басре, готовясь к отъезду домой, мне удалось достать другого детеныша, которого я и послал ему. Эта выдра, шести недель от роду, с очень темным мехом, оказалась представительницей какого-то нового вида. Гэвин увез ее в Англию, и этот вид выдры был назван его именем.
19. В гостях у суданитов и суайдитов
По вечерам, когда мы возвращались в Дибин, Амара поддразнивал меня:
— Будьте начеку, сахеб: заира наверняка поджидает вас.
Мадьяф, в котором мы остановились, стоял на дамбе. Оттуда были видны растянувшиеся цепочкой вдоль Чахлы деревни и пальмы. Мадьяф принадлежал престарелому представителю Мухаммеда аль-Арайби; старик был прикован к постели болезнью почек и умер на следующий год. У него было четверо взрослых сыновей, но их всегда бесцеремонно оттирала в сторону заира — их дородная стареющая мамаша. Закутанная в черные одежды, она сновала то в мадьяф, то обратно; иногда она усаживалась в мадьяфе, командуя всеми. Привыкший подчиняться установленным правилам, я был удивлен таким нарушением обычая. К тому же это была ужасно надоедливая женщина, и я никак не мог отвязаться от нее. Она являлась даже тогда, когда я принимал своих пациентов, давала непрошеные советы и иной раз ставила всех в неловкое положение.
В Дибине ко мне принесли мальчика, у которого нижняя часть туловища была парализована до пояса. Год назад он болел лихорадкой, после чего стал калекой. Я часто встречался с аналогичными случаями — по-видимому, это были последствия полиомиелита. Племена с особой теплотой относились к увечным. Здесь серьезные физические недостатки, пожалуй, не так сильно мешали жить, как в некоторых других обществах. В том же Дибине жил мальчик, который, будучи слепым от рождения, свободно передвигался по деревне и даже сам ходил на лодке на короткие расстояния, заготовляя хашиш.
За годы, проведенные на озерах, я встретил несколько глухонемых мальчиков и мужчин, которые, по-видимому, были счастливы; они были дружелюбны и принимали полезное участие в жизни общины.
Но иногда маданы проявляли непонятную мне черствость. Так, однажды, когда мы собирались отправиться в очередную однодневную экспедицию, нас попросили поискать тело маленькой девочки, утонувшей в реке. Возвращаясь вечером назад, мы увидели всплывший труп. Когда я предложил моим спутникам перенести тело девочки в лодку, они отказались прикасаться к нему и даже не соглашались на то, чтобы положить утопленницу в тарраду, так как боялись ритуального осквернения.
— Мы после этого должны семь раз омыться с ног до головы, — сказал Ясин. — И потом, это ведь не наш ребенок.
Они согласились лишь подтолкнуть тело к берегу реки и вытащить его на землю с помощью весел.
В другой раз ко мне пришел пожилой сейид со своим девятилетним сыном, который глубоко порезал руку, заготовляя хашиш. Ослабевший от потери крови мальчик покачнулся и чуть не упал на меня. Когда я с возмущением спросил отца, почему он не помог ребенку, тот возразил, что на одежду могла попасть кровь, а это сделает его «нечистым». К счастью, я вовремя вспомнил, что он сейид и что мне не подобает говорить с ним резким тоном. Должен, однако, сказать, что некоторые из его единоверцев-мусульман были менее щепетильными.
Чахла отходит от Тигра несколькими милями ниже Амары и начинает рассеиваться по озерам миль через двадцать пять. Деревни в ее дельте, где мы провели несколько дней после того, как оставили Дибин, были населены семьями еще нескольких племен, помимо аль бу-мухаммед, шейхам которых они все подчинялись. Жители деревень держали буйволов и выращивали рис. Выше по течению, в деревнях, стоящих на различных ответвлениях реки и на многочисленных каналах, жили люди племени аль бу-мухаммед. Они выращивали пшеницу и ячмень. Сеяли в ноябре, урожай собирали в апреле-мае. В отличие от Маджара, где дома стояли прямо на берегу реки посреди совершенно пустынного ландшафта, деревни на Чахле перемежались пальмовыми рощами, небольшими фруктовыми садами и зарослями ивняка. Мы блуждали среди них, поднимаясь по одному рукаву реки и спускаясь по другому.
На каждом рукаве нам приходилось преодолевать большую земляную дамбу, которую соорудили шейхи для того, чтобы обеспечить водой посевы озимых. Запруженный, как на водяной мельнице, поток стремительно катился через узкий проход в середине дамбы, завихряясь и образуя водовороты на протяжении тридцати ярдов вниз по течению. Мои спутники с трудом вели нашу тарраду вверх по течению фут за футом, дюйм за дюймом. Борт таррады никогда не выступал из воды больше чем на два дюйма, и я опасался, что она накренится, будет снесена и залита водой. Когда же мы спускались вниз, таррада сходу проскакивала плотину, словно Порог, наращивая скорость. Небольшие каналы были зачастую полностью запружены, и мы упирались в наклонный берег высотой фута в четыре. Таррада была слишком тяжела, чтобы ее можно было переносить на руках. Тогда мы поливали берег водой, чтобы он стал скользким, и, задрав нос лодки, с трудом толкали ее вверх по склону до самого гребня, после чего осторожно спускали ее на воду по ту сторону запруды.
Мухаммед аль-Арайби был самым богатым и могущественным шейхом племени аль бу-мухаммед в районе Чахлы. Почитаемый всеми старец, он жил большей частью в Багдаде или Амаре, поручив вести хозяйство своему любимому сыну, беспутному и надменному юноше. Другие его родственники жили в большей или меньшей нищете на клочках земли, которые он выделил им в менее плодородной части своих владений. Мы останавливались у некоторых из них; они оказались гостеприимными и непритязательными людьми.
Оставив окрестности Чахлы, мы пересекли болотистое место, где в изобилии водились кабаны (мне удалось застрелить довольно много этих животных), и вышли к рукаву Машарии, реки, отходящей от Тигра севернее Чахлы, прямо в центре города Амары. Здесь мы находились среди племени суданитов, весьма привлекательного, но вместе с тем и очень неудачливого народа. В прошлом мощное и процветающее племя, суданиты теперь были разбросаны по разным местам, а земли их запустели. Суданиты утверждали, что с тех пор, как на Тигре в Кут-эль-Амаре была построена плотина, уровень воды сильно понизился. Их шейх установил было насосы, но после его смерти его сын, любитель азартных игр, продал насосы, чтобы расплатиться с долгами.
По дороге я насчитал шестьдесят кабанов, кормившихся у кромки тростника. Суданиты просили меня уничтожать кабанов, так как эти животные опустошали маленькие поля пшеницы и ячменя, которые уже почти созрели. Кабаны редко забираются на поля ячменя, если по соседству есть пшеница. В это время года они по ночам кормятся на полях, а днем отлеживаются там же. В некоторых местах пшеница вымахала на высоту в четыре фута, что делало охоту исключительно опасной, особенно если поле волновалось под ветром. Год тому назад в такой же местности меня сбил с ног кабан.
В тот день я уже застрелил около дюжины кабанов. Я выгонял их из густых зарослей ежевики по берегам заброшенных каналов. Когда они выскакивали на открытое место, я стрелял. Какой-то мальчик прибежал и сказал мне, что он обнаружил кабана на ближайшем пшеничном поле. Он точно указал мне место. Вмятина среди колосьев была хорошо видна даже издалека, но пшеница стояла мне по грудь, и дальше ярда ничего не было видно. Вдруг я заметил дернувшееся ухо; впереди, спиной ко мне, в тени лежал кабан. Я выстрелил ему в загривок, и он даже не шелохнулся.
— Давайте возвращаться, ведь путь долгий, — стал убеждать меня мой хозяин, когда я присоединился к нему.
Мы уже собирались уходить, как вдруг опять прибежал тот же самый мальчик: он обнаружил еще одного кабана.
— Застрели его, сахеб, он пожирает мой урожай!
Мой хозяин пытался отговорить меня, но я сказал:
— Еще вот этого, и тогда пойдем. Я подкрался к вмятине, на которую указал мне мальчик. Посмотрев поверх колосьев, я вдруг встретился глазами с крупным кабаном. Я до сих пор вижу, как сверкали его белые клыки! Я мгновенно очутился на земле в нескольких ярдах от того места, где стоял; я лежал на спине, винтовка моя выстрелила во время падения. И тут кабан опять налетел на меня. Он навалился на меня, я увидел над головой его длинное рыло и злобные глазки, почувствовал его дыхание. Он тянулся клыками к моей груди, и я инстинктивно загородился от удара прикладом винтовки. Вдруг кабан исчез… Я сел и посмотрел на винтовку: на ложе была глубокая борозда, а из моего пальца, разрезанного до кости, точно бритвой, текла кровь. Я перезарядил винтовку и поднялся на ноги. Кабан уходил по краю поля. Я крикнул, он развернулся ко мне, и я выстрелил ему в грудь. Кабан рухнул на месте…
Но тогда я был один и отвечал только за себя. На этот раз со мной были четверо моих гребцов и группа суданитов, шагавших по полю пшеницы и наносивших ему больший урон, чем дюжина кабанов. Амара был вооружен моим охотничьим ружьем, заряженным картечью, у Хасана был браунинг калибра 9 мм, который я в тот год привез с собой. У Сабайти и Ясина были только кинжалы. Убив несколько кабанов и два раза с трудом избежав опасности, я убедил жителей деревни, что мы добьемся большего, охотясь среди затопленных водой зарослей камыша. Здесь мы за два дня убили тридцать шесть животных, преследуя их на нашей тарраде и стреляя им в голову из браунинга, когда они плыли впереди лодки или пытались напасть на нас. Пока кабаны были в воде, они не представляли для нас опасности. Один раз Ясин выпрыгнул из лодки на глубоком месте и утопил крупного кабана руками. Суданиты жалели, что мы уезжаем.
Мы направились к землям племени суайдитов. По пути нам попался голый Черный холм, возвышавшийся над тростником на тридцать футов. На этом месте некогда располагался давно забытый город; сейчас холм был известен среди маданов как Ишан-Вакиф, или Неподвижный Остров. Позже суайдиты возили нас в глубь озерного края и показали нам другой подобный холм — Азизу, который достигал, как мне показалось, пятидесяти футов в высоту. По этому холму во всю прыть бежала мангуста… Мы прожили неделю у шейхов в низовьях Машарии. Они были небогаты, но отличались гостеприимством. Один старик, внешностью напоминавший китайского божка, был известен как «Отец Лампы», потому что каждую пятницу (пятница — день отдыха у мусульман) привлекал путников в свой мадьяф, вывешивая на шесте лампу. Эти шейхи вели себя по отношению к своим соплеменникам дружелюбно и держались очень просто; когда подавалась еда, они уговаривали всех присутствующих, принять участие в трапезе. Даже Амара и Хасан, которые, будучи ферайгатами, не питали особой любви к суайдитам, признавали, что их шейхи щедрее, чем большинство шейхов аль бу-мухаммед. Однако, когда я как-то покритиковал гостеприимство некоего шейха аль бу-мухаммед в мадьяфе другого племени, мне сделали строгий выговор.
— Нам ты можешь говорить о них все что угодно. Мы и сами это говорим. Многие из них действительно скупы, но не критикуй их в мадьяфе другого племени.
Меня удивила такая преданность, поскольку ни один из четырех моих гребцов не принадлежал к племени аль бу-мухаммед.
Когда мы ели вместе с суайдитами, то следовали их обычаю мыть руки после еды на берегу реки. Мои спутники приобрели от меня неизвестный здесь обычай бедуинов — подниматься всем вместе, когда мы заканчивали еду. Когда их спрашивали, почему они гак поступают, они отвечали:
— Таков наш обычай.
Часто после еды мы вызывали шейхов и их свиту на соревнование по стрельбе из духового ружья, а иногда из моей винтовки или пистолета. Амара стал прекрасным стрелком, Ясин и Хасан тоже не ударяли лицом в грязь, но никакая тренировка не могла научить Сабайти стрелять хоть мало-мальски прилично.
— Целься вон в тот мадьяф, может быть, по ошибке попадешь в цель, — поддразнивали его другие.
Их самих было очень легко вывести из себя, но Сабайти никогда не обижался. Ясин иногда бывал сварлив, а Амара угрюм, но добрейший Сабайти всегда был самым разумным, уравновешенным и добродушным из моих спутников. Мы все были ему многим обязаны. Я порой сердился на других, но почти никогда не сердился на Сабайти, а если это все же случалось, то потом я всегда чувствовал себя неловко.
С сожалением расставшись с шейхами племени суайдитов, мы повернули на восток и на шестах провели нашу тарраду по мелководью через заросли камыша, который рос между массивом касаба и краем пустыни. Ясин, как всегда, размещался на корме, впереди него сидел Амара, Хасан был на носу, а позади него сидел Сабайти.
Мы оказались в авангарде группы суайдитов, перебиравшихся на новое место всей деревней. Самые большие лодки были нагружены частями разобранных домов и другими пожитками. В лодках поменьше мальчики, многие из них обнаженные, гортанными криками подгоняли буйволов. Эти суайдиты не были земледельцами, они жили на озерах со своими стадами. В отличие от кочевых ферайгатов они носили куфии цвета охры. Позади нас из зарослей тростника одна за другой выходили их лодки. Какой-то человек объяснил нам, что из-за прибывающей воды, поднявшейся очень высоко в этом году, им пришлось раньше обычного сняться с мест зимовки в глубине озерного края.
— Ночуй у нас, сахеб, — сказал он. — Мы хотим поставить нашу деревню на этом сухом участке земли.
Через час после того, как они высадились на сушу, первый дом уже поднялся. Связки тростника, образующие арки, были укреплены друг против друга в два ряда, каждая связка была слегка наклонена кнаружи. Затем один человек взбирался на треножник, также сделанный из тростника; другие начинали отгибать связки арок внутрь, а он соединял их верхушки. Это не составляло особого труда, так как связки уже были изогнуты от предыдущего использования. Когда пять арок были готовы, суайдиты привязывали к ним поперечный каркас, покрывали его циновками, иногда всего лишь в один слой, привязывая их жгутами к каркасу и аркам. Все жгуты были тоже из касаба. Я расхаживал по берегу, наблюдая за постройкой домов и разгрузкой лодок. Вскоре мой новый знакомый пригласил меня в свой дом, который уже был благоустроен внутри. Чай был готов, рис для завтрака варился на очаге.
Суайдиты-кочевники собирают для своих буйволов камыш и каулан (Scirpus brachyceras) — осоку, покрывающую большую часть затопляемых в период разлива участков. Ясин заметил, что его собственные буйволы в Бу Муганфате не прикоснулись бы к этой осоке. Многие из суайдитов нуждались в медицинской помощи. Мы остались у них еще на один день, а потом посетили другие их деревни, одна из которых находилась в нескольких милях в глубине тростниковых зарослей. Из всех маданов суайдиты были наименее затронуты современной цивилизацией, и удовольствие от общения с ними омрачалось лишь вкусом воды в этих местах; у порога пустыни вода везде была солоноватая. Суайдиты, живущие на суше, добывают соль, выпаривая воду в неглубоких ямах. Наконец мы добрались до границы с Ираном. Переночевав на иракском полицейском посту, мы довернули назад, к центральной части озерного края.
20. Семья Амары
Район Авайзидж был затоплен, и когда мы вернулись в край ферайгатов, они уже ушли. Мы с трудом вели тарраду через темные заросли осоки. Только время от времени попадавшиеся серые гуси, которые остались здесь, чтобы вывести птенцов, напоминали о скоплениях водоплавающей дичи в зимние месяцы. В тростниковых зарослях вдоль Евфрата среди худосочных прошлогодних стеблей вымахала высокая молодая поросль. Душистый водяной лютик покрывал, словно снег, открытые водные пространства.
В Эль-Азайре мы оставили лодку и наняли машину дли поездки в Басру, которую я обычно посещал каждые два месяца, чтобы забрать почту, принять ванну и купить лекарства. Провести несколько дней в комфортабельном доме было весьма приятно. Мои друзья из консульства всегда хорошо принимали меня и моих спутников. Когда мы опять плыли в нашей тарраде, Амара сказал:
— Теперь, когда Фалиха нет, ты должен остановиться у меня. Ты знаешь, что мы небогаты, но все, что у нас есть, твое. Ясин и Хасан проведут это время в своих семьях, мы пошлем за ними, когда захотим снова отправиться в путь.
Через четыре дня мы вошли в канал, который вел к Руфайе, родной деревне Амары. Течение было сильное. По берегам мужчины расчищали землю и увозили срезанные растения в глубь озерного края, работая по колено и даже по пояс в воде. Высокий юноша, у которого рубаха была обмотана вокруг шеи, бежал по воде к нам, выкрикивая приветствия.
— Это Решик, мой брат, — сказал Амара. — В прошлом году он помогал другим управляться с рисом. Теперь у него есть своя земля.
Юноша смыл грязь с ног, сел в тарраду рядом с Амарой, поцеловал его и взялся за шест. Хотя у него было приятное лицо с живым, задорным выражением, в нем не чувствовалось того особого духа, который отличал Амару. На год младше и почти такой же высокий, Решик казался нескладным. Когда он станет постарше и раздастся в плечах, он, наверное, будет сильнее своего брата. Мы прошли мимо первых домов деревни. Дети неслись по берегу за нашей лодкой, так что я чувствовал себя Крысоловом из города Гаммельна.[21] Когда мы остановились, на берегу собралась целая стайка детворы.
— Хасан, беги и скажи отцу, что сахеб приехал к нам в гости, — сказал Амара одному мальчику. Потом он обратился к Решику:
— Проследи, чтобы птенцы принесли все вещи в дом, и не забудь взять тесты.
Ясин и Хасан остались на несколько дней в Бу Мугайфате. В сопровождении Сабайти и еще одного юноши, который приехал с нами, мы зашагали к дому Амары, расположенному на окраине деревни. За ним лежали сжатые поля ячменя, а вдали темнели купы пальм. Отец Амары Сукуб был пожилой мужчина с обветренным лицом и безмятежным взглядом, одетый в чистую белую рубаху и куфию. Он принял нас со спокойной учтивостью. Сукуб держался прямо, но двигался медленно и несколько напряженно, проводя нас в свой дом. Дом был небольшой и низкий, в каждой из его пяти арок было всего по нескольку стеблей касаба. На потрепанной циновке был расстелен потертый ковер с двумя подушками. Проворная женщина средних лет с добрым лицом приветствовала меня:
— Добро пожаловать, сахеб, добро пожаловать в твой дом! Ведь ты Амаре как отец. Благослови тебя Аллах!
За ней стояли совсем маленький ребенок, два маленьких мальчика и девочка лет пятнадцати, прикрывшая наполовину свое лицо.
Амара послал Решика за чайником и отправил Сабайти к его отцу в лавку — купить сахара и чая. Затем с помощью своих младших братьев и стайки других детей он попытался поймать старого петуха. Петух удрал из дома и, шумно преследуемый по всей деревне, был наконец загнан в угол и зарезан. Кроме того, Амара извлек откуда-то рыбу не первой свежести; в этих краях никого не волнует, что рыба с душком. Нага, мать Амары, испекла для нас хлеб в круглой глиняной печи, налепляя сырое тесто на ее внутренние стенки. На суше такие печи можно видеть перед каждым домом, а на озерах женщины пекут хлеб над очагом на круглых глиняных блюдах. Пришел Чилайб, другой брат Амары. Этот крепко сколоченный, молчаливый подросток заботился о буйволах в отсутствие Амары. Хотя ему было не более двенадцати лет, он работал от зари до зари, заготовляя и привозя хашиш. Решик помог Чилайбу перенести хашиш из лодки к дому. Вечером буйволов привязали к кольям перед домом. Если их оставить на ночь непривязанными, они забредут на засеянные поля. Поголовье состояло из буйвола с мрачными глазами, трех буйволиц, телки и теленка. И Чилайб и Амара любили буйволов. Подоив буйволицу, Амара сказал, поглаживая ее:
— Посмотри, какая красавица! И к тому же стельная. Я купил ее на деньги, которые ты дал мне в прошлом году. Скоро, если будет угодно Аллаху, у нас будет настоящее стадо.
Зато Решик был поглощен только своим урожаем и не хотел тратить время на уход за буйволами. Он был сообразителен, дерзок со старшими и, когда его подстрекали сверстники, мог впадать в ярость. Но в поле он с головой уходил в тяжелую работу и по вечерам сидел у стенки усталый, но довольный. Когда Решик рассказывал нам, как идут дела на рисовом поле, он шевелил пальцами, будто все еще рыхлил почву. Летом он страдал от шары — раздражения кожи йог, которое маданы подхватывали летом в воде вокруг деревень и полей, а также на мелководье среди тростников, где водились кабаны. Рисоводы все поголовно страдали этой болезнью и расчесывали ноги в кровь. Раздражение и зуд обычно длились около суток. Я знал, как это неприятно, ибо сам часто подхватывал эту болезнь, охотясь на кабанов.
Арабы ведут счет по лунному календарю, и каждый год один и тот же месяц начинается немного раньше, чем в предыдущий год. Как и земледельцы в Хадрамауте (на юго-востоке Аравии), местные крестьяне определяли начало того или иного времени года по появлению или исчезновению определенной звезды или созвездия, например Плеяд или Сириуса. В начале каждого нового сезона землю по обоим берегам канала ниже Руфайи размечали с помощью тростниковых колышков на делянки равной ширины, которые потом разыгрывали по жребию. Обычно земледелец получал несколько делянок в разных местах. Он мог либо объединиться с другими, либо обрабатывать свои наделы сам (или вместе со своей семьей). В средний год землю расчищали в апреле и засевали рисом в середине мая, когда вода спадала.
Если вода стояла высоко после посадки риса, на расчищенной земле всходили сорняки и заглушали рис.
Перед посадкой зерна риса мочили в воде в течение пяти дней; потом их выкладывали на два дня на солнце под циновки с грузом, пока зерна не начинали прорастать. Различали два вида риса: нисар, который сеяли, а потом прореживали, и шитал, который сначала высеивали в рассаду и через сорок дней пересаживали в почву. Маданы на озерах выращивают только шитал, в то время как азайриджи, чьи земли расположены далеко от озер, выращивают в основном нисар. Здесь, в Руфайе, на краю озер, культивируют оба вида. Решик, который работал в одиночку, на четырех пятых своей земли выращивал нисар, который требовал меньших затрат труда, но давал вполовину меньший урожай по сравнению с шиталом. Нисар обычно убирали в середине октября, шитал — месяцем позже.
В 1956 году, который обещал быть урожайным, Решик посеял на четырех кабалах нисар и на одном — шитал. Кабала составляет 0,62 акра. Со своей земли он собрал около 3500 килограммов риса. Четверть урожая он отдал Маджиду, себе оставил столько, сколько нужно, чтобы прокормить семью в течение года, а остальное продал, выручив около тридцати динаров. Доля Маджида взималась натурой со всей деревни, а не с отдельных земледельцев. Иногда он забирал треть собранного зерна, но обычно — четверть урожая на корню. В таких случаях Маджид, зная уровень разлива данного года, сам определял величину урожая. Мне говорили, что его оценки, как правило, были очень точны.
Высокие разливы — благо для таких земледельцев, как азайриджи, которые выращивают рис на полях, орошаемых реками, но для маданов они сущее бедствие, так как их рисовые поля остаются под водой. И наоборот, низкая вода позволяет маданам выращивать урожай на большей площади, но оказывается катастрофой для других. В 1951 году, когда вода стояла исключительно низко, маданы из Сайгала, Эль-Аггара и больших деревень на озерах за устьем Адиля могли засеять намного больше земли, чем обычно. К сожалению, из-за затяжных осенних дождей уровень воды поднялся и большая часть земли превратилась в болото до того, как можно было собрать урожай. В провинции Амара племена выращивают рис только на землях, покрытых свежим илом, но на Евфрате ниже Сук-эш-Шуюха некоторые из них распахивают рисовые поля. Иногда они выращивают рис под пальмами на том же самом участке, с которого только что собрали пшеницу или ячмень.
Семилетний Хасан, один из четырех братьев Амары, в первый же вечер порезал себе руку и пришел ко мне на перевязку. До тех пор он тихонько сидел в дальнем углу комнаты, и я едва заметил его в отличие от его младшего брата Ради, который сидел возле меня и болтал без умолку. Меня поразил анемичный вид Хасана. Его мать Нага сказала, что он всегда быстро устает и малоподвижен. Кровь, которая текла из пореза, была слабоокрашенной. Я дал Наге флакон железосодержащих таблеток для Хасана. Через месяц я едва узнал его. Он стал веселым, общительным мальчиком, и я очень привязался к нему.
Сукуб мечтал о паломничестве в Мешхед. Он проводил много времени в молитвах и размышлениях, с радостью предоставив все заботы о семье Амаре, который часто советовался с матерью. На следующий год Амара стал советоваться со мной насчет определения Хасана в школу.
— У нас в семье хоть кто-то один должен уметь читать и писать.
Я, хотя и не без колебаний, согласился с Амарой, и на следующее утро мы отправили Хасана в школу, которую посещали с полдюжины мальчиков из их деревни. Школа находилась в двух милях, на главном русле Вадийи. Была еще одна школа, на берегу Адиля, ниже деревни Маджида, но в самом озерном крае не было ни одной. Хасану очень нравилось в школе. По утрам он бодро бежал туда с другими мальчиками, а вечером с гордостью показывал мне результаты своих трудов. Когда я в очередной раз был в Басре, я купил ему ранец и тетради, цветные карандаши, перья, чернильницу, линейку и циркуль. Он был в восторге и уверял меня, что у других школьников нет ничего подобного. Тем не менее я не был уверен, что от учения будет прок. Следующие пять-шесть лет Хасан должен будет провести, сидя весь день за партой в здании школы; в соответствии с установлениями ЮНЕСКО его будут кормить обедом. Легкая жизнь по сравнению с жизнью Чилайба среди тростниковых зарослей или Решика на рисовых полях! Но именно тростники и рисовые поля будут его уделом, если он будет жить в Руфайе после окончания школы. Оставалось только надеяться, что Хасан не превратится в одного из тех парней, которые без дела слоняются по улицам городов. Немногие из мальчиков, которые посещали школу, намеревались остаться в родной деревне. В течение нескольких лет они находились под влиянием своих учителей, которые ненавидели образ жизни племен и приучали детей к мысли о том, что единственное место, где можно обеспечить себе достойное существование, это город.
— Возьми меня с собой в Басру, сахеб, и найди мне там хорошую работу, — часто упрашивали меня молодые ребята. — Я все здесь ненавижу! Мы живем как животные. Это удел моих родителей и братьев, но я-то ведь образованный.
Если они все же оставались дома, их ожидали горечь и разочарование. Их вера в то, что, если им удастся вырваться отсюда, их весьма ограниченное образование даст им все, на что они рассчитывали, вызывала глубокое сожаление.
Почти все родители стараются посылать своих детей в школу. Однако какой-то старик из деревни на Адиле сказал мне:
— У моего сына хорошая работа в правительственном учреждении в Басре. Как видите, мы бедны. Я потратил много денег на то, чтобы содержать его в Амаре все те десять лет, что он учился в школе. Я думал, он потом будет заботиться о нас. Он приносил нам много радости, когда был ребенком, он наш единственный сын. Теперь он никогда не приезжает сюда, не помогает нам. Образование — плохая вещь, сахеб, оно крадет у нас детей.
Но я помню одну старуху в Эль-Кубабе, чей муж развелся с ней и работал в Амаре ночным сторожем. Она была другого мнения. К ней приехал сын, окончивший школу в Амаре. Он был одет в пиджак и брюки с большой дырой сзади, но волосы у него были намазаны бриллиантином и причесаны на пробор, на европейский манер. Когда он через два дня уехал, его мать с гордостью стала ходить по соседям, заявляя:
— Мой сын — образованный. Он ест ложкой.
В один из наших частых визитов в Эль-Кубаб Дахиль пригласил нас к себе на свадьбу. Год назад, отправляя его в Басру, я думал, что он умирает. С тех пор как он поправился, я несколько раз встречал его то у фартусов, то в Эль-Аггаре и недавно встретил в Эль-Кубабе. Я привязался к этому немного смешному парню, любителю поспорить и пошутить. Чувствуя ответственность за его судьбу, я помогал ему деньгами. Вот и теперь я заплатил большую часть выкупа за невесту, который составлял семьдесят пять динаров. Дахиль женился на сестре своего друга Вади — девушке, которую он давно любил.
Мы прибыли в Эль-Кубаб в полдень, за день до свадьбы, и были рады концу пути, так как в проходах между темными тростниковыми зарослями было невыносимо жарко. Даже когда я сидел неподвижно, пот струйками стекал по телу, а товарищи мои выглядели так, словно они искупались, не снимая рубах. Вода, которую мы набирали для питья, была тепловатая и безвкусная. В таррабу десятками падали маленькие паучки, вокруг тучами вились комары. Мухи, хотя они и были столь же безобидными на вид, как обычные домашние мухи, свирепо кусали нас сквозь рубахи. Эль-Кубаб казался заброшенным, легкая дымка струилась над ним под жгучим солнцем. Саддам отправился к Маджиду, и мы остановились у одного пожилого ферайгата, моего друга, двоюродного брата Хасана. Дахиль жил в соседнем доме, в семье фартусов. Он был занят расширением дома по случаю своей свадьбы, пристраивая к нему две дополнительные арки. Покончив с этим, он пристроил над своим брачным ложем красный полог, защищающий от комаров.
На следующее утро в дальнем конце деревни послышались пение и барабанный бой. Это Вади начал праздновать замужество своей сестры. Днем друзья Дахиля отправились в нашей тарраде за невестой. Амара взял мое ружье, а Хасан — пистолет, чтобы стрельбой отметить это событие. Как велит обычай, Дахиль ожидал их возвращения в доме. Не имея семьи, он попросил меня побыть с ним. Мы сидели, прислушиваясь к долетавшим издали звукам. Пение прекратилось, потом началось снова. Как объяснил мне Дахиль, это означало, что невесту привезли и что теперь Вади принимает гостей. Часом позже, когда солнце уже клонилось к горизонту, пение стало громче, а потом мы услышали разрозненные выстрелы.
— Невесту усаживают в лодку, — сказал Дахиль. — Теперь они будут возить ее по деревне. Будут останавливаться у разных домов по дороге сюда, чтобы потанцевать.
Наконец мы увидели лодки. Таррада, в которой сидела невеста, закутанная в новые одежды, была окружена другими лодками. Мужчины гребли в нашу сторону, распевая песни. Перед невестой были сложены одеяла, матрасы, подушки и другие предметы домашнего обихода, которые Вади дал ей для нового дома. Как глава семьи, он мог по своему усмотрению потратить на это большую или меньшую часть выкупа за невесту. Я был рад, что он оказался щедрым, поскольку Дахиль был очень беден.
Когда они высадились, я выстрелил несколько раз из винтовки. Амара и Хасан выскочили на берег, и, пока невесту вели в дом, Хасан выпустил из пистолета всю обойму из тринадцати патронов, а Амара палил из ружья, едва успевая перезаряжать его. Все вышли на берег, перебираясь из лодки в лодку. Амара сымпровизировал двустишие и дважды повторил его. Затем гости подхватили слова и, образовав круг, стали притоптывать ногами и размахивать винтовками, веслами и кинжалами. Время от времени мы стреляли в воздух, чтобы подбодрить их. Это продолжалось, пока не зашло солнце, после чего все разошлись по домам, чтобы поужинать. Затем мы собрались снова в доме Дахиля. Хелу и другие юноши пели, многие юноши танцевали, а Дахиль обносил всех чаем и сигаретами.
Около полуночи я намекнул Амаре, что Дахиль был бы, наверное, рад, если бы гости разошлись и он смог бы уединиться со своей невестой, но Амара ответил:
— Все в порядке. Он пойдет, когда надо.
Чуть позже Дахиль одолжил ружье и один патрон и исчез. Компания продолжала веселиться. Вдруг, совсем неожиданно — по крайней мере для меня — в дальнем конце комнаты раздался выстрел; остальные гости, очевидно ожидавшие его, заулыбались. Это означало, что Дахиль осуществил брачные отношения. Вскоре после этого он появился среди нас в довольно растерзанном виде. Рубаха его была порвана, он потерял свой игаль. Ясин спросил, не оказалась ли невеста чересчур неприступной. Дахиль ответил с комичным возмущением:
— Разве ты не слышал выстрела?
На следующее утро я посетил Дахиля, и он провел меня под полог, где, по обычаю племени, его жена должна была провести следующие семь дней. Я сел рядом с ней на груду одеял и подушек, которые она принесла с собой в дом. Эта полнотелая девушка лет шестнадцати с приятным лицом была внешне похожа на своего брата и оказалась отнюдь не застенчивой. Пока Дахиль заваривал чай, она обрызгала мою одежду какими-то очень сильными благовониями из флакона и угостила меня приторными сластями. Как только семидневный «медовый месяц» окончился, Дахиль построил в деревне небольшой дом, в котором новобрачные и обосновались. Работящая, бережливая, спокойная, она оказалась хорошей женой. Не прошло и года, как она родила дочь; на следующий год родила сына. Каждый раз, когда я навещал их, Дахиль демонстрировал детей с величайшей гордостью и давал одного из них мне подержать.
Возвращаясь в Руфайю, мы остановились в большой деревне маданов вблизи устья Адиля. Несколько дней назад некий отец оставил маленького ребенка на попечение своей старой слепой матери, а сам ушел в лавку, на другой берег. Когда он вернулся, оказалось, что ребенок упал в воду и утонул. Траурный обряд проходил в его доме, недалеко от того места, где мы остановились. Мимо проходили лодки, в которых сидели либо женщины, либо мужчины, но никогда — те и другие вместе. Причитания то нарастали, то затихали. К нам явились двое юношей; когда-то мы вместе охотились на кабанов. Они посидели с нами, потом один сказал другому:
— Ну, пошли, нам пора явиться туда.
Они встали, попрощались и с ходу запричитали. Я вспомнил об одном случае у фартусов, когда Фалих, Дауд и Хаяль взяли меня с собой поохотиться на озерах недалеко от деревни Джасима. Мы встретили лодку из Кабибы и узнали, что там утром умер парень, который был их другом. Все трое принялись истошно рыдать, пока вдруг Фалих не сказал:
— Хватит!
Рыдания немедленно прекратились, и они взялись за весла.
Мы знали отца утонувшего ребенка и потому пошли к нему выразить соболезнование. Фатиха, как называется траур, объявляется по умершим обоего пола и продолжается семь дней, в течение которых жители деревни по очереди обеспечивают обед (обязательно мясной). Жители деревни во время фатихи могут пить кофе, но не пьют чай и не курят — чай и сигареты предназначаются только для гостей. Амара предложил, чтобы я произнес «фатиха», но я попросил его сделать это вместо меня. Бывает очень трудно определить, какую религиозную формулу следует употреблять немусульманину, а какую нет. Многие из этих выражений употребляются повседневно, например: «хвала Аллаху», «во имя Аллаха», «да хранит тебя Аллах» и чаще всего «если будет угодно Аллаху». Невозможно говорить по-арабски, не прибегая к таким выражениям. Однако некоторые выражения немусульманам употреблять не следует. Например, после упоминания имени пророка Мухаммеда мусульмане добавляют: «Да будет с ним молитва и мир». Я всегда говорил — «ваш пророк». В течение десяти дней месяца мухаррамэ, когда шииты неистово оплакивают смерть Хусейна, я часто оказывался в мадьяфе во время послеобеденного чтения Корана. В этом случае я, конечно, вел себя, как другие, поднимаясь вместе с ними и поворачиваясь, как они, то направо, то налево.
Комната, куда мы вошли, была переполнена. Мы приветствовали отца — пожилого человека, хромого на одну ногу из-за пулевого ранения. Он пригласил меня сесть рядом с ним, нам подали кофе, чай и сигареты. Двенадцатью годами ранее этот старик прославился в сражении между Маджидом и его тестем хаджжи Сулейманом. Я так и не узнал подлинной причины этой вражды, но знал, что дочь хаджжи Сулеймана была убита, будучи женой Маджида. Через несколько лет после этого Харайбид, старший сын Маджида, тоже был убит; говорили, что это было проявление все той же кровной мести. Во время сражения соплеменники Маджида, пройдя в обход рисовыми полями, напали на деревню хаджжи Сулеймана, захватили ее и сожгли. В тот день были убиты и ранены сто сорок человек, после чего на место прибыл какой-то сейид и установил перемирие. Отец утонувшего ребенка был ранен, когда он, неся знамя племени, пробился к самым стенам укрепления; само укрепление им не удалось взять.
Мы просидели рядом с ним полчаса, после чего я подтолкнул Амару. Он провозгласил: «фатиха», и мы ушли. В таких случаях полагается жертвовать на покрытие расходов. Старик проводил нас до дверей, и я дал ему полдинара.
21. 1954-й год: разлив
Зима 1953/54 года была исключительно суровой. Когда я в середине февраля вернулся в Ирак, Тигр разлился в результате проливных зимних дождей, хотя глубокие снега в горах Ирана и Турции еще не начали таять. Амара и Сабайти встретили меня в Басре. Через несколько дней, закупив лекарства, патроны и одежду, мы отправились в их деревню. По дороге мы остановились на ночлег у Абд аль-Вахида, сына Фалиха, унылого юноши, которому, казалось, не о чем было говорить. Он находился под влиянием своей скупой и властной матери. Старые слуги Фалиха поддержали бы его сына, но она избавилась от них, чтобы сэкономить деньги. Дайр ушел, Абд ар-Рида сказал, что собирается последовать его примеру. Теперь в мадьяф приходило мало людей, и большую часть времени мы проводили в тягостном молчании.
Здесь стояла наша таррада. Сейчас мы обнаружили, что она протекает. И хотя, перевернув ее, мы заклепали часть щелей, нагревая битум тростниковым факелом, лодка явно нуждалась в обмазке битумом заново. Мы решили пересечь озера Хувайра, чтобы провести лодку к самому хаджжи Хамайду. Течение было очень сильное, уровень воды почти сровнялся с берегами, угрожая в некоторых местах прорвать насыпь и залить поля пшеницы и ячменя, которые здесь, как и в других местах, лежали ниже насыпи. По дороге в Руфайю (как обычно, я остановился у Амары) мы видели несколько групп людей, занятых укреплением берегов. Амара перестроил дом, который теперь стал добротнее и просторнее. Я заметил новый ковер и несколько новых подушек. Решик собрал хороший урожай риса, буйволицы отелились, так что теперь обе давали молоко. Я был счастлив вернуться. По-видимому, жители деревни тоже были мне рады. Все деревенские мальчишки сопровождали меня от причала до дома Сукуба; старшие упрашивали Амару «прогнать этих птенцов, чтобы мы могли видеть нашего друга», но это было легче сказать, чем сделать. Один семилетний мальчик нахально заявил:
— Оставьте нас в покое, это наш друг, а не ваш!
Мне никогда не приходилось видеть, чтобы взрослый мадан ударил ребенка или грубо обошелся с ним; дети очень редко ссорились друг с другом.
Решик догадался попросить мальчишек поймать несколько кур. Против этого устоять было невозможно. Они бросились в погоню за курами, как свора щенков. Куры принадлежали Матаре, сестре Амары, и их буквально истребляли каждый раз, когда я останавливался в их доме. Иногда Матара продавала кур покупателям-горожанам, которые путешествовали по деревням.
В Басре я купил Матаре зеленое шелковое платье, которое выбрал Амара, так что теперь я чувствовал себя не так неловко из-за этих кур. Матара была застенчивая, молчаливая девушка с прелестным лицом, стройная и изящная. Я как-то спросил Амару, что они с Сукубом будут делать, если шейх захочет взять ее в жены. Амара ответил, что они откажут ему.
— Если шейх возьмет ее в жены, я не смогу защитить ее.
Шейх имеет право взять в жены любую девушку, но его дочь может выйти замуж только за шейха; так же обстоит дело и у сейидов. Мусульмане могут иметь до четырех жен, но в Руфайе всего трое мужчин имели по две жены. Большего числа жен не было ни у кого. Точно так же в Эль-Кубабе только Саддам и еще двое мужчин имели по две жены.
Сначала я предполагал, что очень большой процент детей умирает в раннем возрасте. В одной деревне фартусов, которую я посетил в самом начале своего пребывания на озерах, за одну неделю умерли от коклюша пятеро детей. Но на самом деле детская смертность была сравнительно низкой. Из девяти детей Сукуба выжили все, кроме одного. У Сабайти все семеро братьев и сестер были живы и здоровы. В десяти семьях Эль-Кубаба, которые я выбрал наугад, было в общей сложности восемьдесят детей; из них тринадцать умерли в возрасте до пятнадцати лет.
Мы провели в Руфайе еще день и отправились в Бу Мугайфат. Всю ночь лил дождь, и поутру хмурое небо было обложено тучами. Когда мы подходили к дому Хасана, снова пошел дождь и зарядил на весь день. Мы промокли до нитки, пока вносили свои вещи в дом, который был хорошо построен; крыша его была крыта циновками в несколько слоев. Сам Хасан был на охоте, но его мать Афара приветствовала нас и развела огонь в очаге, чтобы просушить нашу одежду. Эта крупная женщина с массивным лицом, освещенным широко поставленными зеленоватыми глазами, пользовалась большим влиянием в деревне. Она происходила из хорошо известного рода Макензи. Афара обожала своего сына. Впервые услышав имя Макензи, я почти настроился на встречу с представителем какого-то ответвления шотландского клана, одетым в клетчатую рубаху, но на самом деле Макензи были чистокровными ферайгатами. Дед Афары назвал своего сына Макензи в знак уважения к некоему шотландцу, с которым он познакомился во время первой мировой войны.
Появился промокший до костей Хасан. Его маленькая лодка была до половины залита дождевой водой. Он принес четырех уток-широконосок, которых подбил одним выстрелом. Хасан сказал, что утки очень пугливы и он смог подбить этих четырех только благодаря тому, что шел по шею в воде, держа перед собой пучок тростника.
Вскоре после этого вернулся домой и Ясин. И Ясин и Хасан очень хотели снова пойти со мной на тарраде. Мы намеревались после ремонта таррады в Хувайре переплыть Тигр в Эль-Курне и затем пойти на север и посетить ту часть восточных озер, где никто из нас еще не бывал.
— Не подходите близко к озеру Зикри в такую погоду, — посоветовал Сахайн. — Идите к Евфрату через деревни аль бу-бахит и постарайтесь взять в проводники Тахира бим Убайда. Он промышляет контрабандой и знает каждый проток на восточных озерах.
— Да, — подтвердил Ясин, — я встречал его в прошлом году в Эль-Азайре. С ним мы везде пройдем.
На следующий день мы обедали в Даубе у человека, сына которого три года назад искусала собака. Ни отец, ни сын слышать не хотели о том, чтобы мы после обеда продолжили путь, и мы остались у них на ночь. Несколько дней назад ночью воры украли в их деревне буйволов. Собаки подняли тревогу, за ворами погнались; убегая, они сделали несколько выстрелов, и пуля попала одному мальчику в грудь, убив его наповал. Я знал убитого мальчика и теперь отправился в его дом на фатиху. Об этом случае рассказывал в Бу Мугайфате Сахайн. Он подозревал, что ворами были ферайгаты из Авайзидж, но в Даубе нам сказали, что это были суайдиты, их узнали по голосам. Житель озерного края всегда может определить, к какому племени принадлежит незнакомец, по его произношению.
Когда мы на следующее утро прибыли в деревню Тахира, он оказался дома. Это был мужчина лет тридцати, атлетического телосложения. Над правым глазом у него был нарост величиной с грецкий орех. Он сразу же согласился пойти с нами проводником.
Старший сын Тахира недавно умер, у него остались только двое маленьких детей. Племянник Тахира, веселый мальчик лет двенадцати, живший в соседнем доме, помогал ему принимать нас. Отец мальчика, младший брат Тахира, тоже промышлял контрабандой. Меня всегда удивляло, как быстро распространялась новость о моем прибытии в ту или иную деревню. Мне пришлось остаться у Тахира еще на один день, так как пациентов оказалось больше, чем обычно, причем некоторые прибыли издалека.
По дороге в Хувайр Тахир рассказал нам, что его последняя вылазка оказалась неудачной. Иранская полиция поймала его, конфисковала у него сахар и чай и допрашивала по поводу исчезновения двух полицейских за несколько месяцев до этого. Через два дня Тахира наказали — били палками по пяткам — и отпустили, предупредив, что застрелят на месте, если он попадется снова.
Хувайр был расположен поблизости, вверх по протоку, на север от Евфрата. Дома и многочисленные мадьяфы стояли под пальмами на высоком островке. Мы остановились у хаджжи Хамайда в его небольшом мадьяфе, стоявшем рядом с «верфью». Хамайд, энергичный мужчина средних лет, немедленно велел мальчикам снять старый битум с моей таррады, а меня повел пройтись по деревне. Казалось, каждый ее житель был прямым или косвенным образом связан с постройкой лодок. Планки, бревна и бамбуковые шесты штабелями лежали во дворах позади лавок, в которых купцы кроме своих обычных товаров продавали инструменты и гвозди. В тени пальм несколько человек хлопотали возле уже готовой большой двухмачтовой лодки, готовясь спустить ее на воду. Большинство мастеров работали на собственных «верфях» за тростниковыми оградами, очищая маленькие лодки от старого битума и покрывая их новым, ремонтируя лодки или строя новые. Мы наблюдали за стариком, приступавшим к постройке новой лодки. Разложив в дюйме друг от друга поперечные деревянные доски, он сформировал днище, а потом прибил к ним посередине одну длинную доску. Пока мы пили чай, он вырезал шпангоуты, выбирая для этой цели подходящие деревянные бруски, наваленные грудой рядом с ним. Он пользовался теслом, а остальной его инструмент — небольшая пила и лучковое сверло — вместе с кучкой гвоздей лежал на циновке. От соседней «верфи» к нам доносился запах разогретой смолы. Сквозь кроны пальм пробивались пучки солнечных лучей, а две пестрые вороны, сидя на ветвях, пристально наблюдали за каждым нашим движением.
Наконец хаджжи Хамайд сказал:
— Пора возвращаться. Очистку твоей таррады наверняка уже закончили. После завтрака я заново покрою ее битумом. Оставайся ночевать, битум к утру затвердеет как следует.
Он сделал нам новые весла, и мы покрасили их лопасти в красный цвет, чтобы было меньше желающих их украсть; ведь каждый был бы рад стать обладателем весел, сделанных самим хаджжи Хамайдом. С того дня красные весла стали нашим отличительным признаком. Они хорошо смотрятся, подумал я, когда мы, погружая их одновременно в воду, на следующее утро пошли вниз по течению вдоль поросших пальмами берегов. Тахир сел на место Хасана на носу, а Хасан заменил Амару, который сейчас, как пассажир, сидел напротив меня. По дороге в Эль-Курну нам повстречались две-три моторные лодки. Понтонный мост, расположенный в месте слияния Евфрата и Тигра, был открыт. Уровень воды в Тигре был высокий. Мы поели в мадьяфе, стоявшем на восточном берегу Тигра. Было 4 марта. Мы провели на восточной стороне реки еще пять недель.
Сначала мы посетили племена, с которыми я еще не встречался, — духайнатов, или халики, чье имя означает «бакланы». Позже мы посетили старых друзей из племени аль бу-мухаммед, кочевых ферайгатов и суайдитов. Часто шел дождь, особенно по ночам, над озерами разражались сильные грозы. Немногие из домов, в которых мы ночевали, имели крышу толщиной более чем в две циновки; у большинства домов крыша была крыта в один слой. Хозяева иногда клали на крышу еще и циновки, снятые с пола; но крыша почти всегда все равно протекала, а спать приходилось на голом полу. По ночам было холодно, мы спали по двое под одним одеялом. А уровень воды все повышался.
Однажды днем, когда мы охотились, быстро собрались черные тучи, предвещая бурю.
— Господи, хоть бы града не было, — взмолился Ясин; остальные подхватили его мольбу.
Буря вскоре разразилась. Уже по дороге домой нам пришлось вычерпывать воду из лодки. Мои спутники панически боялись града, и не без оснований. На следующий год буря с градом прошла над северной частью озерного края, скосив даже самый мощный тростник и убив бесчисленное множество пеликанов, гусей и других птиц. Их тела были разбросаны повсюду. От града погибло много телят. На озере Дима градом забило до смерти одного мужчину и его сына.
— В этом году, при таком паводке, мы убьем много кабанов, — сказал Амара и оказался прав. На этой стороне Тигра я застрелил двести пять кабанов. Это всегда была азартная охота, и временами опасная, но я охотился на них не только ради спортивного интереса. Кабаны были природными врагами жителей озерного края. Я столько раз зашивал раны, нанесенные ими людям, что, убивая их, не испытывал ни малейших угрызений совести. И все же мне не хотелось, чтобы их совсем истребили здесь, как истребили львов. Массивные темные туши кабанов у кромки тростников, где они кормились, были для меня неотъемлемой частью пейзажа озерного края. Без постоянного риска случайной встречи с ними жизнь здесь потеряла бы значительную часть своего неповторимого, опасного своеобразия.
Кабаны иной раз вели себя вызывающе. Жители одной деревни племени амайра уверяли меня, что по вечерам кабаны являются в деревню вместе с буйволами и ночуют в пустых домах. Я не поверил их рассказам. Но вот однажды мы увидели двух кабанов, бредущих на закате по мелководью к деревне. Мы погнались за ними и убили их, а когда уже в темноте вернулись домой, кто-то из семьи, сидевшей у огня возле своего дома, спокойно сказал нам, указывая на соседний дом в нескольких ярдах от них:
— Вот там их еще несколько штук.
Я решил, что они шутят. Однако, когда мы причалили к этому дибину, нас едва не сшибли с ног пять кабанов, выскочивших из дома и бросившихся в воду.
Повернув тарраду на север, Тахир повел нас к Авайзидж, длинной высокой полосе земли, тянущейся параллельно Тигру. Из-за необычно высокого разлива большая часть ее была уже вровень с водой, и днем на ней отлеживалось множество кабанов. Пока мы охотились, мои спутники с легкостью перетаскивали тарраду по густому илу в любом направлении. Однажды я убил сразу десять кабанов, которые пересекали нам путь, шествуя гуськом. В тот день охота была особенно удачной, каждый раз одним выстрелом я укладывал последнее животное в ряду. Потом нам попались еще четыре кабана. Я застрелил одного. Пока он бился на земле, остальные остановились рядом с ним и почему-то не трогались с места; я перебил их одного за другим.
Вскоре мы увидели двух очень крупных кабанов. Они стояли в двухстах ярдах и смотрели на нас. Тахир и остальные гребцы повернули лодку боком и стали позади нее. Сидя в лодке, я выстрелил в более крупного кабана и ранил его. Он закрутился на месте, проскакал в сторону ярдов двадцать, а потом пошел прямо на нас. Второй побежал следом за ним. Я выстрелил еще раз и услышал чмокающий звук удара попавшей в кабана пули, но он даже не покачнулся. Еще один выстрел, а он все бежит! Теперь он был совсем близко. Я выстрелил, и на этот раз кабан упал. Четыре выстрела, остался один патрон… Я щелкнул затвором и повернулся ко второму кабану, который в два прыжка мог добраться до меня. Я сделал последний выстрел, и он упал, проскользив по илу до самой лодки. Я перезарядил винтовку, но оба кабана лежали неподвижно. Наклонившись вперед, я дотронулся до ближайшего кабана; второй лежал на расстояний примерно фута. Я был слишком занят, чтобы успеть испугаться. Но это двойное нападение и кажущаяся неэффективность моей стрельбы должны были изрядно встревожить моих пятерых спутников, которые не были вооружены, так как ружье и пистолет лежали в лодке рядом со мной. Я повернулся к ним. Они стояли полупригнувшись, с кинжалами в руках.
— Что бы вы стали делать, если бы кабан вскочил в лодку? — полюбопытствовал я.
— Мы бы кинулись на него и убили бы его кинжалами, — ответил Амара.
На следующий день мы преследовали на лодке (вода была глубиной дюймов восемнадцать) другого крупного кабана. Он был всего в сорока ярдах от нас. Мы стали догонять его, но тут он резко повернулся и стремительно пошел в атаку, вздымая мириады брызг. Я не смог попасть в него из продолжавшей двигаться таррады, и он оказался у борта прежде, чем я успел выстрелить еще раз. В то утро Тахир одолжил у кого-то острогу, и теперь он всадил ее прямо в рыло кабана. Боковым зрением я увидел, как Тахир вылетает из лодки, вися на рукоятке остроги. Я выстрелил снова, и на сей раз кабан рухнул, ударившись о борт таррады и сдвинув ее вбок. Облепленный с головы до ног илом, Тахир, отплевываясь, поднялся на ноги.
— Зачем ты выскочил из лодки? — с невинным видом спросил Ясин. — Ты был бы здесь в полной безопасности. Разве ты не видел, что сахеб изготовился стрелять?
Но Тахиру было не до смеха.
— Еще фут, и он разломал бы нашу тарраду надвое, — заметил Амара. — Как ту лодку, что мы видели недавно.
У этого кабана, одного из самых крупных среди убитых мною, длинная спутанная шерсть была темно-коричневого цвета. У одних кабанов была почти черная окраска, у других — рыжеватая, а однажды мы видели стадо кабанов с такой светлой шерстью, что на какое-то мгновение мы приняли их за овец. У многих, однако, на голой шкуре торчало всего несколько щетинок. У поросят, появляющихся на свет между мартом и маем (самка обычно приносит пять штук), бывает мягкая полосатая шерстка, и выглядят они очень симпатично. Охотясь на кабанов, я обнаружил, что подкрадываться к ним с подветренной стороны бессмысленно. У кабанов к тому же хорошее зрение. Зато, когда они спят, они словно глохнут. Однажды, когда мы охотились на них верхом в зарослях тамариска, несколько арабов племени бени лам крикнули мне, чтобы я подъехал к ним; оказалось, что в кустах, в ярде от дюжины топочущих лошадей, храпит большой кабан. Маданы утверждают, что кабаны едят падаль. На Авайзидж я действительно видел частично обглоданные туши кабанов, которых я сам застрелил несколько дней тому назад, но они с тем же успехом могли быть обглоданы шакалами, которых здесь довольно много. Я опасался, что в этом году все шакалы утонут, так как оставалось совсем мало сухой земли, а вода будет подниматься по крайней мере еще два месяца.
Часто мы ночевали в деревушках, где дома ограждала от окружающей их воды только небольшая, наспех сооруженная глинобитная стенка. Мне всегда казалось, что она рухнет, когда мы спим, и дом зальет водой фута на два. По ночам почти все время разражались грозовые бури, и мы быстро промокали, так как дождь лил сквозь дырявые крыши. Если утро было ясным, мы быстро все высушивали. Если же нет, то мы, продрогшие и несчастные, продолжали свой путь через обширные пространства воды и ила под нависшими над нами хмурыми небесами.
Когда мы пришли к устью Чахлы, окрестные деревни были уже затоплены. В одной из них защитная глинобитная стена была за ночь снесена, и жители бродили по воде, разыскивая свои пожитки. По всему течению Чахла прорвала берега и залила неубранные поля пшеницы и ячменя. Когда наконец мы решили снова перебраться через Тигр, вода была уже вровень с дамбой. Мы полили водой землю и волоком перетащили свою тарраду через дамбу.
Тут Тахир сказал, что должен расстаться с нами, чтобы помочь своей семье.
— В этом году вода будет слишком глубока и буйволы не смогут сами пастись в тростниках. Придется как следует потрудиться, чтобы нарезать им достаточно хашиша.
К этому времени он стал одним из нас. Он проводил нашу тарраду в глубь обширных тростниковых массивов по проходам, известным лишь немногим. Даже в самых трудных обстоятельствах Тахир неизменно оставался добродушным и всегда был готов помочь, трудясь на равных с моими спутниками, которые по возрасту годились ему в сыновья. Он обещал, что будет снова путешествовать с нами. Но когда я на следующий год спросил, как поживает Тахир, кто-то сказал мне с удивлением:
— Разве ты не знаешь, что Тахир мертв? Его молодой племянник убил его в прошлом месяце.
По-видимому, Тахир и его брат потеряли самообладание из-за какого-то пустяка и подрались. Тот самый двенадцатилетний мальчик, которого мы видели в прошлом году, бросился на помощь своему отцу, схватил острогу и ударил ею Тахира в спину. Удар зазубренного острия пришелся по почкам, и Тахир умер в муках через несколько часов.
— Его брат обезумел от горя, — сказал мне этот человек. — Он проклял своего сына. Сам мальчик любил Тахира, как родного отца. Это настоящая трагедия.
На озерах мы были полностью отрезаны от остального мира и не имели понятия о масштабах катастрофы, обрушившейся на Ирак. Были затоплены обширные пространства, угроза нависла над самим Багдадом. Но разлив еще не перекрыл дорогу к Басре, которую мы успели посетить в апреле, Оставив тарраду в Эль-Азайре, мы наняли машину. Перед тем как отправиться в Ирак, я купил подержанную винтовку фирмы Ригби, чтобы не брать с собой винтовку того же калибра, изготовленную этой фирмой по моему заказу перед войной. Но в 1954 году я захватил с собой эту свою лучшую винтовку. Прежнюю, которую я держал в Басре, я подарил теперь Амаре и купил Сабайти, Ясину и Хасану по охотничьему ружью. Через два месяца, когда мы снова посетили Басру, мы прошли в нашей тарраде на шестах по шоссе до самой Эль-Нурны, где наняли катер, чтобы пойти дальше вниз по реке.
Вернувшись в апреле в Эль-Кубаб, мы увидели, что уровень воды всего лишь на фут ниже входа в мадьяф Саддама; когда я впервые подъехал к этому мадьяфу, в очень засушливый год, вход находился в шести футах над уровнем воды. Вскоре Саддаму пришлось окружить здание стеной. Необыкновенно высокая вода, безусловно, создавала для маданов большие неудобства, однако жизнь продолжалась, как обычно. Хозяева домов просто накладывали на пол все больше и больше тростника, чтобы в помещении было сухо. Из Эль-Кубаба мы отправились к нижнему течению Евфрата, чтобы посетить племена Мунтафика, а потом пошли на север, вверх по течению Эль-Гаррафа. На два дня мы остановились у Джасима аль-Фариса. В это время года район к западу от деревень фартусов всегда бывает затоплен водой; в прошлом году мы едва не утонули на переходе от Авайдийи к Хамару. Поэтому Джасим настоял на том, чтобы мы пошли в баляме вместе с его сыном Фалихом и еще двумя фартусами. Мы ушли из этой деревни на Авайдийе 29 апреля. Дул сильный северо-западный ветер, на открытой воде гуляла почти морская волна. Амара, Сабайти и я со своим багажом перешли в балям, оставив Ясина и Хасана в тарраде. Без груза она великолепно шла по волнам, то опускаясь между ними, то взбираясь на гребень.
Разлив уже намного превзошел уровень любого нормального года и должен был продолжаться по меньшей мере еще месяц. Но, только увидев, что большая часть деревни Хамар затоплена, я осознал всю серьезность положения. Мы могли пройти на лодках куда угодно, проводя нашу тарраду и балям по полям с нескошенными зерновыми, между стволами бесчисленных пальм. Были заброшены целые деревни; когда мы проходили через них, бездомные собаки выли на крышах домов. Иногда мы видели буйволицу, стоящую на насыпи по брюхо в воде; все пальмы, до которых она могла добраться, были объедены. Но несколько домов и мадьяфов, стоявших на более высоких местах или там, где дамбы еще не разрушились, были все еще населены. Когда мы обменивались с их обитателями приветствиями, они приглашали нас остановиться у них. Если мы соглашались, они готовили чай и кофе, резали кур на ужин и болтали с нами, словно ничего страшного не происходило. Некоторых я встречал во время предыдущих посещений; все слышали об англичанине, который живет среди маданов. Но даже если бы я не был им известен, они принимали бы нас не менее радушно, ибо мы были их гостями.
Вернувшись в Эн-Насирию, мы вошли в главное русло Евфрата, и стремительное течение понесло нас вниз. В одном месте остатки дамбы образовали отмель, через которую поток шел водоворотом. Мои тяжелые ящики были в баляме, и без них таррада хорошо держалась на воде. Все же в какое-то мгновение я был уверен, что мы перевернемся. Однако Ясин знал свое дело и ловко вел нас через водоворот, а остальные гребли изо всех сил. Город Сук-эш-Шуюх, мимо которого мы проходили, был наполовину под водой.
Пробыв два дня у аль джуайбар, мы вернулись в Эль-Хаммар. Потом нам довелось видеть, как эвакуируется рынок в Фукуде. Лавочники садились в лодки, стены их глинобитных домов рушились прямо на глазах. Затем мы поднялись вверх по Эль-Гаррафу, не дойдя нескольких миль до Эш-Шатры. В некоторых местах вода прорвала берега, в других они еще держались, и там люди работали без устали, чтобы спасти урожай. Мы остановились у племени аль бу-салих в большом гостевом шатре Махсина. Даже в этих условиях он держал открытый дом с щедростью, достойной сына Бадра. Мы останавливались и у других шейхов Мунтафика, но чаще ночевали в семьях простых пастухов или земледельцев — то в черных палатках, то в тростниковых хижинах или глинобитных домиках, отрезанных водой от окружающего мира.
Вернувшись в Авайдийю, мы расстались с Фалихом и его двумя товарищами и отправились в гости к базунам. Пятью годами ранее Дугалд Стюарт и я покинули их лагерь и верхом проехали по бесплодной пустыне, чтобы добраться до палаток племени аль иса. Теперь я возвращался к ним по той же пустыне на тарраде.
22. 1955-й год: засуха
В отличие от 1954 года год 1955-й был засушливым. В горах на севере выпало мало снега, и в апреле вода в Тигре едва поднялась над зимним уровнем. Необычный разлив 1954 года погубил поля пшеницы и ячменя по Эль-Гаррафу, Евфрату и в других местах, а в озерном крае не дал возможности обработать обширные рисовые поля между Сайгалом и устьем Адиля. Однако азайриджи и другие племена, чьи рисовые поля лежат за пределами озерного края, смогли после спада воды засеять поля и собрать небывалый урожай на обширных землях, которые вода обычно не заливает; в 1954 году эти земли были залиты и покрыты толстым слоем ила. Теперь исключительно низкий уровень воды позволил жителям озерного края расчистить и возделать намного больше земли, чем обычно, а азайриджи, наоборот, пострадали.
Рисоводы азайриджи насчитывали около сорока тысяч человек и жили в районе нижнего течения Бутайры, рукава Тигра, который отходит от главного русла в десяти милях выше Амары. Воды Бутайры, разделившись на три основных потока, рассеиваются в озерах и болотах к северу от Сайгала. Мы проходили через земли азайриджей в середине апреля. По берегам, почти вплотную одна к другой, стояли зажиточные деревин. Характерной их особенностью были Т-образные рабы; в одном крыле жила семья, в другом останавливались гости. Вокруг домов старост в огромных тростниковых корзинах, закупоренных слоем засохшего буйволового навоза, хранилась доля шейха от урожая риса предыдущего года. По количеству и размерам этих корзин было видно, каким богатым был урожай.
Тем не менее деревни были наполовину пусты. Я знал, что многие азайриджи весной покидают свои деревни, чтобы помочь убрать пшеницу и ячмень на Эль-Гаррафе. Сначала я предположил, что, поскольку виды на урожай риса были плохие, туда отправилось больше людей, чем обычно. Однако, останавливаясь в деревнях азайриджей, мы заметили, что опустели многие большие, добротно построенные дома. Их владельцы вряд ли занимались сбором урожая на Эль-Гаррафе — это было уделом бедняков. Вскоре я узнал, что на самом деле в этом году на жатву отправилось меньше людей, чем обычно. Нам объяснили, что большое число азайриджей, и бедных и зажиточных, перебралось в Багдад и Басру. Это было началом движения в провинции Амара, напоминавшего знаменитую «золотую лихорадку». В результате много деревень оказались заброшенными или полузаброшенными. Все земледельцы были затронуты этим движением, не только азайриджи, но и аль бу-мухаммед, и суайдиты, и суданиты. Устояли только маданы и такие племена скотоводов, как аль иса.
Когда я впервые приехал в Ирак в 1950 году, нефтяные месторождения в Басре еще не были открыты, но в 1955 году они работали на полную мощность, и в страну потекли деньги. В Багдаде сносили и строили заново целые кварталы, всюду прокладывали новые дороги и возводили мосты. Потребность в неквалифицированной рабочей силе была велика, а среди племен ходили преувеличенные слухи о том, сколько можно заработать в городах. Десятки тысяч земледельцев провинции Амара со своими семьями стали уезжать из деревень. Отправляясь на сбор урожая на Эль-Гарраф или в другое место, они брали с собой свой скот и имущество. Теперь же они продавали лодки, буйволов, зерно, буквально все, кроме того, что можно было увезти с собой на автобусе или грузовике, ибо они не собирались возвращаться.
Но они тронулись с земли не по необходимости. В частности, азайриджи, которых уехало больше, чем земледельцев любого другого племени, собрали в ноябре небывалый урожай риса. Правда, им грозил недород в наступающем году, но имеющиеся запасы помогли бы им прожить; те, кто остался, не испытали серьезных трудностей. В 1951 году уровень воды тоже был очень низок, но я тогда не заметил особых признаков нужды среди азайриджей или аль бу-мухаммед. Истина заключалась в том, что слабый разлив 1955 года ускорил массовую миграцию в города, но не был ее причиной.
В предшествующие годы небольшое число людей из племен азайриджей и аль бу-мухаммед уже переехали в Багдад и Басру, где они жили компактно в своих собственных кварталах, поддерживая связь с сородичами в деревнях. Некоторым удалось стать лавочниками или открыть свое маленькое дело и даже преуспеть в этом. Рассказы об их процветании отнюдь не бледнели при пересказе. К. тому же было общеизвестно, что любой здоровый мужчина мог теперь найти в Багдаде работу и зарабатывать по пять шиллингов в день. Эти пять шиллингов казались земледельцам настоящим богатством.
Другой причиной миграции была неудовлетворенность, порожденная образованием. Многие из наиболее предприимчивых юношей в деревнях окончили школу и вследствие этого стали критически воспринимать традиционные ценности деревенской жизни. Они также возмущались властью шейхов и негодовали по поводу их вымогательства. Они мечтали о Багдаде — мире больших возможностей, мире многообразном и увлекательном. Родители с почтением относились к знаниям, почерпнутым их сыновьями из книг, и прислушивались к их словам, но сами они, как правило, слишком привыкали к своему укладу жизни, чтобы сдвинуться с места. Когда в 1955 году молодежь увидела, что обработать можно будет только небольшую часть полей, она стала особенно энергично давить на старших.
— Зачем нам оставаться здесь и надрываться, чтобы вырастить урожай для шейхов? И вообще — почему мы должны работать на них? Мы свободные люди, не рабы, а они обращаются с нами как с собаками. Какие у них права на землю? Правомочное правительство должно было бы отобрать у них землю и отдать ее нам. В этом году поля не будут засеяны, воды-то нет. Если мы останемся здесь, то будем голодать. Если поедем в Багдад, то все мы сможем найти работу и через несколько месяцев разбогатеем. Посмотрите на Зави! Он уехал два года назад в одной рубахе, а теперь у него машина и дом. Али, Аббас, заир Часиб — все уехали. Ганим тоже продает своих буйволов и уезжает. Поехали, отец, скоро мы останемся здесь одни, и тогда шейхи заставят нас выполнять всю работу. Давай уедем, пока они не погнали нас строить большую плотину в Абу-Фале.
Сами шейхи были серьезно озабочены создавшейся проблемой. «Исход» членов племен угрожал оставить их поля без рабочей силы. Власть шейхов над теми, кто оставался, явно слабела и вскоре могла вообще исчезнуть. Перед отъездом в Багдад жители одной из деревень, опекаемой особенно непопулярным шейхом азайриджей, продефилировали перед его мадьяфом, скандируя:
— Лучше быть носильщиком в городе, чем работать на недостойного!
Во многих случаях шейхам следовало винить лишь себя, так как они ужасно зазнались. В 1953 году один из слуг Маджида ударил брата калига из племени шаганба в Эль-Аггаре. Рассвирепевшие жители деревни чуть не убили его, так как калит и его семья пользовались большим уважением односельчан. Маджид послал своего представителя, который наказал палками нескольких старейших жителей деревни. В результате большинство шаганба ушли из Эль-Аггара в Сайгал. Узнав об этом, Маджид при всех воскликнул:
— Собаки ушли! Я найду других собак, которые займут их место.
Но в июле 1955 года он обнаружил, что это не так-то просто. Когда я задал ему вопрос, ушла ли из деревень половина его земледельцев, он подумал немного и со стоическим видом ответил:
— Нет, не думаю. До половины еще дело не дошло.
Я спросил, что он будет делать, если уйдет большинство. Маджид сказал, что перестанет возделывать рис и сосредоточит силы на выращивании пшеницы и ячменя с помощью машин. Для Маджида главным в жизни была его земля, а не его соплеменники. Мне вспомнились его горестные стенания во время оплакивания погибшего сына:
— Моя земля! Что станет с моей землей, когда я умру?
Меня тогда огорчило, что он в первую очередь думал о своей земле, а не о своем племени.
Среди аль бу-мухаммед и азайриджей былые отношения между шейхами и их соплеменниками канули в вечность, и для обеих сторон это означало потери. Среди скотоводческих племен традиционные связи еще держались. Мазиад из племени аль иса годами побуждал соплеменников сеять на своих полях ячмень, но условия для этого были неподходящие. Иногда воды было слишком много, иногда слишком мало. В этом предприятии участвовало все племя, но в долги перед правительством залез сам Мазиад. Когда от него потребовали выплатить долги, племя все же собрало деньги и расплатилось. Вот другой пример. Махсин бин Бадр из племени аль бу-салих как-то попросил меня быстро доставить его в моей тарраде к уездному начальству в двух часах пути вверх по Эль-Гаррафу. Там он прошел в контору, где мудир разбирал какое-то судебное дело, и, поздоровавшись с ним, резко сказал обвиняемому:
— Выйди и сядь в тарраду, что стоит у дома. Обратившись к мудиру, Махсин сказал:
— Эти дела тебя не касаются. Этот человек принадлежит к моему племени, я сам разберусь с ним.
После этого он сел и некоторое время вежливо беседовал с мудиром, а затем откланялся.
К весне 1956 года массовое переселение в города прекратилось. Хотя некоторые семьи еще переезжали в Багдад и Басру, сообщения оттуда были уже не столь восторженными, а некоторые, разочаровавшись, вернулись в свои деревни. Зарплата в четверть динара в день казалось весьма заманчивой до прибытия в город, а там выяснилось, что ее едва хватало на то, чтобы скудно прокормить себя и семью. Более того, при плохой погоде строительные работы могли приостанавливаться на неделю, а то и больше, и тогда зарплаты не было вообще. И при этом за все надо было платить. Даже за воду, говорили некоторые. Тогда какой же смысл переезжать? Мужчина, остававшийся дома и работавший на своем рисовом поле, мог собрать урожай, достаточный для того, чтобы в течение года кормить семью; более того, после уплаты шейху его доли у него оставалось на руках зерна на тридцать пять динаров, что в конце концов было эквивалентом годовой зарплаты по два шиллинга в день, а ведь работать в поле приходилось всего шесть месяцев в году. В период, когда все работы на его поле были закончены, хозяин мог с семьей отправиться на уборку урожая в другой район и заработать зерно, что позволяло ему продать еще какую-то часть своего риса. Скот обеспечивал его молоком, можно было резать кур. Топливо, строительный материал и корм для животных доставались ему даром. В реках и озерах водилась рыба, а на болотах — водоплавающая дичь.
Помимо всего прочего, в деревнях контраст между уровнем жизни богатых и бедных был невелик. Шейхи вели такой же образ жизни, как и их соплеменники, только жили они побогаче. Но в Багдаде и Басре контраст ошеломлял. По соседству с роскошными отелями и виллами возникали трущобы; среди тростниковых лачуг валялись пустые жестянки, битые бутылки, рваная бумага. Трущобы эти были намного грязнее любой деревни.
Не так уж трудно расстаться с родовым образом жизни и уехать в город, но для потерпевших неудачу вернуться в лоно племени почти невозможно. В 1936 году, будучи в Марокко, я посетил трущобы на окраине Касабланки, которые французы называли бидонвиллями. Здесь обнищавшие берберы влачили жалкое существование в лачугах, сделанных из расплющенных канистр из-под бензина. Они пришли в Касабланку из своих горных деревушек во время послевоенного бума, когда в городе была острая потребность в рабочей силе. Затем в тридцатых годах наступила депрессия. Эти несчастные берберы выискивали объедки на свалке и десятками умирали от недоедания.
В Ираке многие из переселенцев уезжали из деревень, чтобы избавиться от тирании шейхов. Но в Багдаде и Басре они наталкивались на полицию. Поставив свои тростниковые шалаши среди таких же, беспорядочно разбросанных по ничейной земле в пределах города, они только-только начинали осваиваться, как вдруг являлась полиция с приказом очистить участок.
— Куда же нам идти?
— Куда угодно, только здесь оставаться нельзя. Возвращайтесь в свои деревни, если вам тут не нравится. Давайте, давайте, разбирайте этот дом. Поторапливайтесь! Нам некогда.
Они с трудом перебирались со своими пожитками на другое место, но полиция снова прогоняла их. Если они оседали на окраинах, им приходилось дорого платить за проезд автобусом на работу и обратно. Власти, встревоженные массовой миграцией в города, стремились остановить ее и поощряли полицию, которая и так считала, что имеет полное право издеваться над этой деревенщиной.
— Предъяви справку о демобилизации. У тебя ее нет? Тогда пойдем в полицейский участок.
Предполагалось, что в Ираке каждый мужчина должен отслужить два года в армии, но очень мало кто из переехавших был в армии. Как-то, когда я был у Фалиха, в мадьяф прибыл капитан в сопровождении сержанта и двух рядовых. Они несли толстые папки. Фалих был предупрежден об этом визите и должен был приготовить новобранцев. Был июль, жара стояла невыносимая. Толстый немолодой капитан и его команда с благодарностью приняли шербет и ароматизированный чай. Форма капитана была тесновата и не рассчитана на сидение на полу.
Он встал и направился к столу и стулу, поставленным для него в дальнем конце комнаты. Привели новобранцев — шестнадцать мальчиков. Все, кроме двоих, были несовершеннолетние. Их выстроили в шеренгу перед столом. Родители и прочие посетители сели вдоль стен. Капитан заглянул в папки, вытер платком лицо, надел очки и начал:
— Альван бин Шинта?
Ответа не последовало. Он повторил имя. Какой-то человек, сидевший у стены, сказал:
— Уехал с семьей в Басру в прошлом году.
Капитан порылся в бумагах, сделал какую-то отметку и продолжил:
— Чилаиб бин Хасан?
— Умер в прошлом году, — прозвучал короткий ответ.
— Мазиад бин Али?
Вперед вышел двенадцатилетний мальчик.
— Ты Мазиад бин Али?
— Нет, — быстро ответил мальчик, а потом, после откровенного тычка в спину: — Да!
— Ты Мазиад бин Али? — усомнился капитан, заглядывая в свои бумаги.
— Да. Я Мазиад бин… бин Али, — уже более уверенно сказал мальчик.
— Но тебе, по моим бумагам, должно быть восемнадцать!
Тщательно обтерев лицо, капитан повернулся к Фалиху.
— Здесь какая-то ошибка, Не может быть, чтобы это был Мазиад бин Али.
— У этих людей тяжелая жизнь, — мягко ответил Фалих. — Мальчики развиваются поздно.
Капитан сделал в своих бумагах еще одну пометку и произнес:
— Скажите ему, чтобы явился на следующий год.
После обильной трапезы капитан и его команда отбыли с двумя жертвами, которые заранее были отобраны для них. По всей видимости, остальные тридцать два лица, перечисленные в списке капитана, либо умерли, либо уехали, либо явно еще не доросли.
Когда земледельца поддерживает его шейх, такие беседы проходят весьма мирно. Но все выглядит совершенно иначе, когда в полицейском участке в Багдаде полиция, стремящаяся запугать человека и готовая применить силу, чтобы вытянуть у него деньги, требует справку о том, что он служил в армии.
23. О «дикарях» и о гостевых домах
В последнюю неделю апреля мы расстались с деревнями азайриджей и, приблизившись к Сайгалу, увидели за озером мадьяф Абдуллы. Этим утром мы спугнули несколько мраморных уток, прилетающих сюда весной, чтобы вывести потомство. Меня удивило количество красноголовых нырков, которые, по моим расчетам, к этому времени должны были уже улететь. Ясин настаивал, чтобы мы держались близ зарослей тростника, так как мог разыграться шторм. Несколькими днями ранее ураганный ветер сорвал тростниковые покрытия с многих домов в деревне, где мы останавливались. В прошлом году в это же время года мы более двух часов вынуждены были просидеть в этих же зарослях тростника, окутанных зловещей красноватой мглой.
Вдалеке на озере «дикари» ловили с лодок рыбу. Слышны были удары по жестянкам и звуки рассекавших воду шестов, с помощью которых они загоняли рыбу в сети. Маданы глубоко презирали «дикарей» и, хотя они и садились за еду вместе с ними, относились к ним почти с таким же пренебрежением, как к сабейцам, которые по социальному положению стояли ниже всех. Тем не менее члены племен никогда не говорили мне, что «дикари» отличаются от них происхождением. Презрительное отношение к ним целиком объяснялось их родом занятий. На первый взгляд это казалось нелогичным, так как маданы и сами ловят рыбу. Но «дикари» ловят рыбу сетями на продажу, тогда как маданы добывают рыбу острогой для пропитания. Правда, в последние годы маданы начали продавать рыбу, но это было отклонение от нормы. В прошлом никто из них не стал бы продавать рыбу, так же как не стал бы продавать молоко. Теперь обстоятельства заставляли их делать и то и другое. Например, у кочевых ферайгатов женщины продавали молоко и масло в Калъат-Салихе и Маджаре, если они разбивали лагерь возле этих городов. Первоначальное предубеждение против «дикарей» из-за торговли рыбой стало ассоциироваться с их способами ее ловли. Здесь, пожалуй, подходила такая параллель:
— Черт возьми, сэр, джентльмен может быть вынужден продать своих фазанов, но не станет же он стрелять в них, когда те сидят!
Среди фартусов, шаганба и ферайгатов «дикарей» не было, но среди аль бу-мухаммед их было довольно много, а еще больше — среди азайриджей. Попадались «дикари» и среди бени асад в Эль-Кабаише, где они рыбачили вдоль западных границ озер, живя месяцами на небольшом островке возле деревни Джасима аль-Фариса. Перекупщики — саффат — брали у них рыбу, солили ее и отвозили в Басру. Обычно «дикари» ловят рыбу неводом, но я видел, как они пользовались плавными сетями на реках, а в плавнях за пределами озерного края они применяли также длинные сети, прикрепленные к шестам из касаба.
Иногда парни из Маджар-эль-Кабира на речных отмелях вблизи города использовали набросные сети, но вообще-то такие сети не встречались нигде, кроме Басры. Земледельцы-суайдиты на восточных озерах иногда ставили сеть поперек быстрого протока, а однажды я видел, как двое суайдитов ловили рыбу по пояс в воде, с помощью бредня, напоминающего по форме и размеру носилки. Земледельцы, живущие по берегам рек, часто устанавливали в воде ниже дома небольшие циновки, чтобы образовалось затишье, и сразу за циновками втыкали в дно стебли тростника. Когда рыба заплывает на тихое место, стебли тростника шевелятся, выдавая тем самым ее присутствие, и рыбак бьет рыбу острогой.
Весной, перед разливом, маданы собираются группами на сорока-пятидесяти лодках. Выстроившись в ряд на расстоянии четырех-пяти ярдов друг от друга, они прочесывают какую-нибудь заводь из конца в конец; стоящие на носу рыбаки с острогами пытаются ударить рыбу, когда она прорывается назад под лодками. Летом рыбу бьют острогой по ночам при свете тростниковых факелов. Но лучшие результаты дает потрава рыбы с помощью датуры.
Пока мы шли на веслах по направлению к мадьяфу Абдуллы, я рассказал своим спутникам, что однажды сам видел, как в Тигре близ Киркука поймали рыбу длиной в пять футов. Я спросил, какой величины достигают на озерах катаны и бинни.
— Бывают длиной с мою руку, — ответил Хасан. — Та, что ты видел, наверное, шабут. Они водятся в проточной воде и бывают очень крупные. Есть рыба еще крупнее, мы называем ее гессан. Она похожа на гигантского катана и водится под плавучими островками. Мы ныряем под островок и ловим ее руками. К ноге ловца привязана веревка, второй конец ее держит напарник в лодке. Однажды кто-то принял пловца за рыбу, зацепил его острогой и пытался вытащить из воды. Нам пришлось кинжалами вырезать зубья остроги у него из тела, и это была ужасная работа, потому что он дергался.
Шабутом они называли усача, а гессан, раз он был похож на катана, вероятно, представлял собой какую-то разновидность усача,
— Если Аллах пожелает, этот год будет как год Умм-эль-Бинии, — заметил Ясин. — Сейчас даже меньше воды, чем тогда. За два дня я тогда забил столько рыбы, что заработал четыре динара. Клянусь Аллахом, я бы нажил состояние, если бы не вмешался Маджид.
— Да, — согласился Хасан. — Я был на Умм-эль-Бинни вместе со своим дядей за два дня до того, как Маджид закрыл озеро для всех, кроме «дикарей». Я видел тебя там с какими-то фартусами, — сказал он мне. — Вы все остановились у «дикарей». Я тогда не знал тебя, но ты дал моему товарищу лекарство от болей в желудке.
Я хорошо помнил этот случай. То был 1951 год, мой первый год на озерах. В последнюю неделю ноября я с тремя фартусами пришел в Эль-Аггар и обнаружил, что в деревне практически никого нет. В тот год вода стояла очень низко, но после прошедших на севере дождей уровень ее за несколько дней поднялся, и вода угрожала затопить рисовые поля, где как раз убирали урожай. Большинство жителей деревни были на полях, пытаясь спасти урожай. Все остальные мужчины и мальчики ушли ловить рыбу на озеро Умм-эль-Бинни, где, по слухам, были феноменальные уловы. Мы тоже отправились туда. Множество разнообразных лодок, пройдя через тростники, оставили широкий проход в самой гуще зарослей; некоторые стебли касаба, втоптанные в ил, были толщиной в запястье моей руки. Вода была мелкая, иногда нам с трудом удавалось проводить даже свою легкую лодку. Тем не менее нам повстречались два больших неуклюжих баляма, доверху нагруженных рыбой; команда из шести человек с трудом проталкивала каждый балям. Позже я узнал, что торговцы платили им по целому динару в день за этот изнурительный труд.
Через три часа после выхода из Эль-Аггара мы подошли к небольшому открытому месту, где под примитивным навесом из циновок обосновался торговец. Его звали Джабар, и вместе с двумя другими он покупал рыбу для багдадского рынка. Он пробыл здесь уже шесть дней и советовал нам остаться у него на ночлег, так как нам не удалось бы дойти до Умм-эль-Бинни засветло. Торговец платил по три динара за сотню рыбин независимо от их размера и покупал их тысячами. В последние дни, по его словам, количество рыбы резко упало. Рыбу отправляли в балямах на сушу, где уже ждали грузовики, отвозившие обложенную льдом рыбу в Багдад. Мы заночевали рядом с навесом торговца на груде тростника, которая отделяла нас от воды. Отчаянно кусались комары; так как было холодно, я смог спрятаться под одеяла. Другие группы людей, направлявшиеся на озеро Умм-эль-Бинни, расположились вокруг нас, усевшись у костров и распевая песни до поздней ночи. В темноте прошли еще три баляма, и торговец проверил груз при свете тростниковых факелов.
Утром у нас ушло еще три часа на то, чтобы добраться до Умм-эль-Бинни. Озеро оказалось около Двух миль в длину и полторы мили в ширину. Оно было окружено почти непроходимыми зарослями тростника и посещалось, видимо, очень редко. «Дикари» располагались в устье проделанного лодками прохода на площадках из примятого тростника. На солнце сушились запасные сети, каждую площадку охраняли один-два мальчика. Лодки «дикарей», числом около пятнадцати, были на озере, и мы направились к ним, чтобы понаблюдать. Рыбаки все время вылезали из лодок в воду и залезали обратно. Большинство из них скинули рубахи и работали обнаженными. Используя неводы диаметром примерно в сорок ярдов, они вытаскивали большие уловы усача, в основном бинни (Barbus sharpeyi), весом в среднем по четыре фунта. Одни седой старик уверял нас, что его лодка пришла на озеро первой. Он сказал:
— Я всю жизнь рыбачу, но такого никогда не видел. В первый завод невода мы выловили девятьсот штук. Я боялся, что вся эта рыба не уместится в лодке. Сейчас рыбы уже меньше.
Сотни две лодок, принадлежащих фартусам, шаганба, ферайгатам и аль бу-мухаммед, небольшими группами были разбросаны по краям озера. В каждой лодке было по два человека: один греб, а второй стоял на носу и непрерывно бил острогой, целясь в гущу водорослей. Обычно маданы считают, что им повезло, если удалось поймать дюжину рыб за день (без применения датуры). А сейчас они добывали по одной рыбине через три-четыре удара. Это были в основном катаны (Barbus xanthoptems), другая разновидность усача.
Мы присоединились к группе фартусов. Возбужденные удачным ловом, они с силой вгоняли свои остроги в воду и сбрасывали блестящую на солнце рыбу в лодку.
— Тут не промахнешься! — кричали они. — Они просто вповалку лежат!
Рыбаки некоторое время били рыбу на одном месте, их лодки сближались тесной группой. Затем они решали, что в другом месте лов будет лучше, и устремлялись туда; стоящие на носу ловцы с острогой поторапливали гребцов. Когда лодки «дикарей» оказывались недалеко от них, фартусы отходили от края озера и с криками устремлялись на них, проводя лодки над их сетями И убивая острогой рыб прямо в сетях. «Дикари» отвечали им бранью, а маданы смеялись и дразнили их. Кто-то из «дикарей», видимо, пожаловался Маджиду, и тот через два дня закрыл озеро для маданов, разрешив лов только «дикарям».
Из Сайгала мы продолжали идти на тарраде и остановились на несколько дней у Джасима в Авайдийе. Обычно в это время года во всем районе между западной окраиной озер и Эль-Гаррафом вода стоит по меньшей мере на четыре фута, но в 1955 году нам пришлось из-за засухи идти к югу почти до Евфрата, чтобы найти за пределами озерного края достаточно глубокие места даже для таррады.
Мы остановились в Эль-Хаммаре, в деревне аль бу-шама, расположенной среди пальм в нижнем течении Эль-Гаррафа. Другие ветви того же племени жили на озерах как кочевые маданы; мы повстречали одну такую группу на ее пути к убранным полям зерновых, где можно было пасти буйволов на стерне. На Эль-Гаррафе мы также гостили у амайров. Часть этого племени живет в Мабраде и других деревнях маданов и зарабатывает себе на жизнь, продавая в Сук-эш-Шуюхе высушенный тростник. Соседние фартусы занимаются тем же самым, но они чаще привозят на продажу циновки.
В мае обычно стояла ясная, солнечная погода, но иногда небо на несколько дней заволакивало тучами. На сей раз было три-четыре грозы с ливнями. Чаще всего с севера и запада дул сильный ветер, принося с собой тучи пыли. При этих ветрах была приятная прохлада, но в безветренную погоду дни становились жаркими и влажными. Мы провели месяц среди аль джуайбар, аль хасан и других племен Мунтафика, продвигаясь вдоль по Евфрату. Мы постоянно поднимались по отходящим от Евфрата протокам, заросшим ивняком, зачастую добираясь до самого порога озерного края и останавливаясь в мадьяфах, хозяева которых приглашали нас к себе еще в прошлом году. Все это время мы находились в краю пальм, которые росли сомкнутыми рядами везде, куда не добирался ежегодный разлив, даже на крохотных островках среди камышовых зарослей. Пальмы покрывали также цепь островов к югу, их кроны темнели на фоне сверкающих вод оз. Эс-Санаф.
Единственным напоминанием о бедствии, постигшем эти племена в прошлом году, были четкие отметины разлива на стволах пальм и стенах мадьяфов.
На Тигре немногочисленные финиковые рощи представляли собой настоящие джунгли, через которые мы с трудом продирались, охотясь на кабанов. Но здесь деревья были тщательно ухожены, и каждый чешуйчатый ствол рос на вскопанной земле. Мы посетили острова на краю оз. Эль-Хаммар, которые отделяются от лежащих к северу болот открытой водой. Эти водяные пространства позднее покрываются плоскими листьями кувшинки (Nymphoides peltata u indica) и мириадами ярко-желтых и белых цветов. В сентябре я видел буйволов, которые по брюхо в воде паслись среди этих растений, погружая головы в воду, чтобы зацепить низкие побеги. Издали они походили на коров, пасущихся на лугу, заросшем лютиками. Осенью тут появлялись другие кувшинки (Nymphaea caerulea), с белыми или лиловыми цветами.
Члены племен Мунтафика не селятся деревнями, а живут каждый на своем участке земли. Они сохраняют традиционное гостеприимство, и среди пальм почти столько же мадьяфов, сколько жилых домов. Многие возводят рядом со своими домами небольшие глинобитные укрепления с бойницами, так как они весьма воинственные люди и чтут обычай кровной мести. Каждый мужчина, каждый мальчик носит кинжал, очень многие имеют винтовки с большим запасом патронов. Где бы ни справляли свадьбу — а здесь, как мне показалось, свадьба бывает каждую ночь, — пальба продолжается почти до рассвета.
Иногда перед тем, как нас приглашали войти в мадьяф, наши вещи относили в сарифу. Сарифа — небольшое строение прямоугольной формы с решетчатыми стенами. Острую, крытую тростником крышу поддерживают два тростниковых столба. У племен Мунтафика коньковым брусом обычно служит ствол небольшой пальмы, но на озерах, где лавочники часто используют такие строения под склады, коньковый брус делают из связок тростниковых стеблей. Вход находится в боковой стене строения. Я всегда радовался возможности на некоторое время уединиться в сарифе, чтобы отдохнуть от общественной жизни мадьяфа. Даже после многих лет жизни среди арабов полное отсутствие возможности уединиться было для меня тягостным. К полудню, после долгих часов возни с толпами крикливых пациентов, я часто чувствовал себя совершенно выдохшимся, особенно в жару. Если мои спутники по прибытии в какой-нибудь мадьяф ощущали усталость, они могли, выпив положенные чашечки кофе, встать с места, пройти в дальний конец комнаты и лечь спать, завернувшись в плащ. Хозяин дома будил их, когда была готова еда. Это считалось в порядке вещей, но мне было неловко так себя вести. Остаться совсем одному было несбыточной мечтой, но в сарифу за мной все-таки шли только мои спутники и еще двое-трое людей, так что я мог забраться в уголок с книгой или подремать.
В отличие от мадьяфов на Тигре, которые по традиции, строят в девять или одиннадцать арок, на Евфрате число арок у мадьяфов больше. Самый большой гостевой дом из всех, какие мне довелось видеть, хотя был всего в пятнадцать арок, насчитывал восемьдесят четыре фута в длину, пятнадцать футов в ширину и пятнадцать в высоту. Были мадьяфы в семнадцать арок; однажды я видел мадьяф в девятнадцать арок, но он имел шестьдесят девять футов в длину, пятнадцать в ширину и всего двенадцать в высоту. Мадьяфы на Тигре обычно насчитывают восемнадцать футов в ширину и восемнадцать в высоту, в то время как на Евфрате пятнадцать футов — нормальная цифра для ширины и высоты. На Евфрате, когда мадьяф грозил развалиться, хозяин и его друзья уменьшали его высоту следующим образом. Сначала они выкапывали снаружи, у самого подножия арки, канаву, обнажая два фута тростниковой связки, вкопанной в землю. Затем они обвязывали основание связки веревкой и втягивали его в канаву. Очистив освободившееся гнездо, они отрезали нижнюю часть связки на два фута, вставляли ее на место и засыпали канаву. Эта операция повторялась с каждой аркой, сначала на одной стороне, потом на другой.
На Евфрате такой ремонт мог проводиться дважды, но на Тигре, где легче было добыть подходящий тростник, этот способ не применялся, и мадьяф всегда перестраивали целиком. В среднем мадьяф нуждался в перестройке каждые десять лет; интервал зависел от состояния земли и при благоприятных условиях мог растягиваться до пятнадцати лет. Чтобы построить большой мадьяф, сто человек должны трудиться двадцать дней. Платили только мастеру-строителю. Работникам полагался сытный обед днем, хозяин обычно каждый день резал овцу, чтобы накормить их мясом. Сердцевину каждой связки, образующей арку, составляли из стеблей, использовавшихся ранее, что делало связку более гибкой. Поверхность связки покрывали тонкими стеблями, чтобы она была гладкой. В районах Мунтафика подходящий для строительства тростник имел слишком короткие стебли, что не позволяло вывести арку нужной высоты, и поэтому арки сращивали. Вследствие этого арки получались не подковообразные, а более удлиненной формы, и их нельзя было нагружать так, как у аль бу-мухаммед, которые сооружали арки из цельных стеблей. Когда строительство мадьяфа заканчивалось, на каждой колонне оставляли отпечаток ладони, окрашенной хной. Перед праздниками этот отпечаток часто обновляли. Под Новый год (ноуруз) колонны украшали небольшими пучками зеленого тростника.
Среди аль бу-мухаммед, азайриджей и других племен на Тигре мадьяфы мало отличались один от другого по внешнему виду. Крыша, как у всех мадьяфов, была крыта тростниковыми циновками в несколько слоев; зачастую нижний слой состоял из одной громадной циновки, покрывавшей всю крышу целиком. Нижняя часть стен образовывалась одинарными, прикрепленными по верхней кромке циновками, которые свисали до земли с внешней стороны арок. В жаркую погоду их можно было поднять, а в холодную — опустить. В юго-западной стене, обращенной к Мекке, между большими колоннами делали три дверных проема, иногда над ними в циновках прорезали окна. Северо-восточная стена была глухой.
У племен на Евфрате конструкция мадьяфов была более сложной и разнообразной. Стены в нижней части по всей длине представляли собой решетчатые тростниковые плетения, привязанные снаружи к аркам и соединенные с крышей узкой циновкой. Перед этими решетками с внутренней стороны на высоте менее фута был укреплен поручень, к которому могли прислониться люди, находившиеся внутри дома. В центре юго-западной стены всегда был вход со стрельчатой аркой, окруженной решетчатыми окнами. Конструкция северо-восточной стены была аналогичной, но обычно в ней не было входа. Устройство и рисунок решетчатых окон менялись в зависимости от фантазии строителя. Над входом, как правило, располагалась решетка того же размера и формы, что и сам вход, с двумя меньшими по размерам стрельчатыми окнами по бокам, В одном мадьяфе глухую верхнюю часть стены прорезало единственное круглое окно. Здесь нижняя часть стены была разбита горизонтально на три секции (средняя часть была глухая, верхняя и нижняя части — решетчатые), а вся стена делилась вертикально двумя центральными колоннами. В мадьяфах на Евфрате мне неизменно казалось, что я нахожусь в романском или готическом соборе. Эта иллюзия создавалась ребристой крышей и ажурными окнами на обоих торцах, через которые яркие снопы света пронизывали царивший внутри сумрак. И на Евфрате и на Тигре мадьяфы были замечательными архитектурными сооружениями из простейших материалов. Эстетический эффект, создаваемый узорами тростниковых элементов конструкции, целиком определялся функциональными строительными приемами. Историческое значение мадьяфов было также велико. Долгое знакомство с такими зданиями могло породить у строителя идею имитации их арочных форм с помощью сырцовых кирпичей; ведь увековечили же греки свое раннее деревянное строительство в камне. Здания, подобные мадьяфам, составляли неотъемлемую часть пейзажа в Южном Ираке в течение пяти с лишним тысяч лет. Вероятно, в ближайшие двадцать лет (и уж наверняка через пятьдесят лет) они исчезнут навсегда.
24. Амара и кровная месть
Каждый год я проводил июнь, а часто и июль у племен, живших по Тигру, к северу от города Амары. Дважды я поднимался по Тигру почти до Кут-эль-Амары. За исключением 1954 года, когда мы прошли по этому району в нашей тарраде через затопленную водой пустыню из Сайгала, меня сопровождали только Амара и Сабайти. Мы всегда путешествовали верхом; наши хозяева одалживали нам лошадей до ближайшей деревни или кочевья. Ни Амаре, ни Сабайти не доводилось прежде ездить верхом. Когда они впервые сели в седло, их лошади пошли в противоположных направлениях. Но вскоре, попрактиковавшись, они стали неплохими всадниками. А так как сам я был беспомощен в лодке, мне доставляло удовольствие демонстрировать им свое умение ездить верхом, хотя в основном мы двигались шагом — ведь в седельных вьюках было мое медицинское снаряжение. К полудню иногда становилось нестерпимо жарко, но ночи в июне были еще прохладными, и я был рад завернуться в два одеяла. Весь месяц дул северо-западный ветер, нередко ураганной силы; бывали и пыльные бури, когда в двух шагах ничего не было видно. В июле ветер стихал, и тогда даже по ночам не было спасения от влажной жары, достигавшей 50 градусов в тени.
Из четырех моих постоянных спутников Амара и Сабайти были моими любимцами. Во время этих путешествий, вдали от своих сородичей и от привычного окружения озер, они становились мне еще ближе. Я стал принимать все большее участие в их личных делах. Ясин и Хасан женились в 1955 году. Теперь была очередь Амары и Сабайти. Они сказали, что женятся только после моего отъезда, так как хотят быть со мной до конца. Я не мог вернуться сюда на следующий год, потому что договорился с издателем, что напишу книгу о Южной Аравии.
Амара был помолвлен с сестрой Сабайти. За пять месяцев до этого Сахайн и я по поручению Амары отправились к Лязиму, отцу Сабайти. Следовало также побеседовать с братом Лязима, так как, по обычаю, его сын имел преимущественное право на эту девушку, и он согласился на помолвку Амары только после бесконечно долгого спора. Мы договорились, что выкуп за невесту составит 75 динаров. И Амара и Сабайти были в восторге, и в тот вечер в Бу Мугайфате мы отпраздновали это событие танцами, песнями и пальбой из ружей.
В тот год, как всегда, наши странствования не имели определенной цели. Мы знали, что нас ждет радушный прием в любой из деревушек, лежащих на нашем пути на север. Мы останавливались там, где хотели, и уезжали, когда заблагорассудится. Некоторое время нас принимало гостеприимное племя аль бу-дарадж. Эти люди выращивали рис вдоль протоков, рассеивавшихся на одном изолированном болотистом участке. У них мы одалживали лодки, чтобы посетить кочевые племена каулаба и акайль, которые пасли своих буйволов среди низкорослого касаба или на затопленных клочках земли, поросших колючим кустарником. Потом мы снова ехали верхом мимо рисовых полей аль бу-али, части племени аль бу-мухаммед, последовавшей за хаджжи Сулейманом па север после сражения с Маджидом. Затем мы добрались до земель бени лам.
Мутная река текла по голой равнине, оранжевое солнце поднималось и садилось за плоский горизонт, пересекающий пустыню. Некоторое время мы ночевали у пастухов в тесных черных палатках. Овцы и козы наступали на нас, тучи мух вились над нами от зари до зари. Но я всегда с удовольствием останавливался у этих кочевников. Вечера, когда мальчики-пастухи играли на дудочках, сидя у мерцающего огня костров, были полны очарования. Иногда мы расседлывали лошадей в разбросанных на берегу реки деревушках; здесь многие мелкие шейхи были радушными хозяевами и приятными собеседниками. В полдень ветер обжигал палящим зноем, но внутри маленьких глинобитных домов царила божественная прохлада, так как окна были закрыты циновками, которые постоянно поливали водой.
Эта суровая земля будила во мне то самое чувство свободы, которое я так остро ощущал в пустыне. Такой же бесконечный простор, и в немногочисленных домах — лишь самое необходимое для жизни. Здесь я много занимался лечением больных. Это всегда было интересно и нередко доставляло мне чувство удовлетворения. Нравились мне и сами бени лам. Со многими из них я успел подружиться во время предыдущих посещений.
Несколько раз мы видели волков. Кто-то рассказал нам, что верхом догнал и убил гиену. Лет двадцать тому назад мне довелось узнать в Судане, что для того, чтобы поймать гиену, нужна хорошая лошадь. Другой человек рассказал, что он с друзьями выкопал из норы барсука-медоеда. Зверь этот напал на них и двоих искусал, не обращая внимания на удары, пока кто-то не стукнул его по морде. Изредка нам попадались дикие кошки. У одной, в отличие от других, была рыжая шерсть. Здесь не было газелей. Они водились во множестве восточнее, но там их нещадно истребляли, охотясь за ними на автомобилях. Такая охота была запрещена, но чиновники часто сами занимались этим незаконным делом. Возвращаясь из Курдистана, я видел в тех местах стада в пятьдесят газелей и более. Скоро их начисто истребят в Ираке, как уже истребили львов и онагров.
Сами мы охотились только на кабанов, которые в изобилии водились в кустах тамариска вдоль протоков, а также в зарослях высокой лебеды, тянувшихся вдоль берегов Тигра. Здесь были идеальные условия для охоты с копьем, но копья у меня не было. Я стрелял из винтовки на скаку, как из пистолета, одной рукой. Мне доставлял удовольствие бодрящий галоп, но в то же время надоедало это истребление кабанов. Когда мы охотились на них спешившись, я давал стрелять Амаре. Он редко промахивался. Амара уже заслужил репутацию первоклассного стрелка, что ему вскоре весьма пригодилось.
Вернувшись в Маджар в конце июня, мы узнали, что двоюродный брат Амары Бадаи убил одного из сыновей Радави, брата того самого Хасана, который домогался жены Бадаи и пытался расстроить их брак. Я вспомнил день, проведенный вместе с Бадаи на Авайзидж три года назад; вспомнил, как тогда Амара ходил к Радави и пытался договориться с ним. Теперь была пролита кровь.
Амара уже говорил мне, что в начале этого года жена Бадаи ушла от мужа и живет у своего отца. Мужчина может развестись с женой, просто заявив ей: «Я развожусь с тобой», но в этом случае он обычно не получает обратно уплаченный за нее выкуп. Жена же не имеет права развестись с мужем. Однако она может уйти и искать убежища у отца или брата. Если она отказывается вернуться, они попытаются убедить ее мужа развестись с ней, предлагая вернуть часть выкупа или даже весь выкуп. В данном случае Бадаи отказался развестись с женой, что дало бы ей возможность выйти замуж за Хасана; во всем случившемся Бадаи обвинил Хасана.
Мы узнали, что, в то время как Бадаи располагался лагерем на канале близ Вадийи, Хасан, его младший брат Халаф и один из их двоюродных братьев направились туда, намереваясь убить Бадаи. Их собственный лагерь — обычная группа жилищ из тростниковых циновок — находился на некотором расстоянии от лагеря Бадаи, около Калъат-Салиха. Бадаи в это время отсутствовал, разыскивая украденного буйвола, и они стали поджидать его. Бадаи вернулся на третий день. Поздно вечером они приблизились к его жилищу, но тут их увидел один из соседей.
— Зачем вы приходите сюда каждый вечер и ищете Бадаи? — крикнул он. — Он не убивал никого из вашей семьи!
После этого он выстрелил поверх их голов. Когда они стали уходить, собака Бадаи выскочила и погналась за ними, а вслед за ней появился и сам Бадаи. Ориентируясь по лаю собаки, он догнал их (они остановились, чтобы закурить) и услышал, как Хасан сказал:
— Давай хоть собаку его пристрелим.
Бадаи выстрелил и промахнулся, а его враги бросились врассыпную. Он выстрелил еще раз, и один из них упал. Приблизившись, он узнал Халафа; пуля попала тому в бедро, раздробив кость.
— Ты хочешь крови? Ну так получай! — сказал Бадаи и выстрелил ему в голову.
Между тем Хасан и его двоюродный брат нашли друг друга. Они пошли искать Халафа и в конце концов наткнулись на его тело. Горя желанием немедленно отомстить, они поспешили к лагерю Бадаи. Стоя на противоположном берегу канала, Хасан окликнул Бадаи. Тот принял вызов. Луна к этому времени зашла, было совсем темно. Никто из них не хотел подставлять себя под пулю, переходя канал вброд, и они стали стрелять друг в друга, целясь по вспышкам выстрелов. Перед рассветом соседние ферайгаты убедили Хасана уйти, пригрозив, что шейх арестует его, если он останется до утра, что власти наверняка продержат его в тюрьме до тех пор, пока его отец, которого уже разыскивали по обвинению в двух убийствах, не сдастся властям. Хасан и его двоюродный брат ушли и унесли тело Халафа. Бадаи был легко ранен, но, как только рассвело, он разобрал свое жилище, погрузил все имущество в лодку и отправился вместе с семьей и скотом на озера. Никто не знал, куда он ушел.
Услышав эти новости, Амара помрачнел. Я был склонен рассматривать все это как очередное убийство в среде необузданных кочевников, но Сабайти сказал мне:
— Разве ты не понимаешь, что Амара — ближайший родственник Бадаи и что Радави со своей семьей могут теперь убить его?
Я собирался провести три месяца в Нуристане, диком малоисследованном горном районе на границе Читрала, и через десять дней должен был выехать в Афганистан. Перед отъездом необходимо было сделать все от меня зависящее, чтобы обеспечить безопасность Амары. Мы отправились прямо в Руфайю, в семью Амары. Я спросил Сукуба, есть ли какая-нибудь опасность для него и Решика.
— Нет, — ответил он. — Но если Радави не сможет убить Бадаи, он безусловно попытается убить Амару.
Сукуб предложил, чтобы я попросил Маджида объявить афву[22] или хотя бы перемирие для Амары.
— Если только вам удастся добиться перемирия на шесть месяцев, гнев Радави может утихнуть. А потом можно будет попробовать убедить его принять «плату за кровь».
Я согласился отправиться утром к Маджиду, чтобы попытаться уладить дело.
Я знал, что ни один шейх, каким бы могущественным он ни был, и ни один сейид, каким бы уважением он ни пользовался, не могут окончательно примирить враждующие стороны. Только калит может скрепить мир, обвязав куфию вокруг стебля тростника и протянув ее концы враждующим сторонам. Пост калита был наследственным, и калит сохранял его, даже если был дряхл или слабоумен. Только если калит был еще ребенком, его мог заменить ближайший родственник мужского пола. Я спросил Сукуба, следует ли Сахайну, который был калитом этой части племени ферайгатов, отправиться со мной, чтобы вести переговоры, если нам удастся войти в контакт с Радави. Однако Сукуб уверил меня, что афва может быть объявлена шейхом или другим человеком без присутствия калита.
Я оставил Амаре свой пистолет и посоветовал ему завести хорошего сторожевого пса и каждую ночь ложиться спать в разных местах дома. У него также была винтовка, которую я подарил ему два года назад, и много патронов. Недавно он купил винтовку и Решику — хоть старую, но вполне исправную. Когда мы стали ложиться спать, Сукуб сказал:
— Я буду караулить. Я уже стар, и мне не спится. Да я и днем могу отдохнуть.
— Подстрели волка, сахеб, — со смехом сказал Решик, — и дай нам один волчий глаз. Мы нашьем его на шапочку, и тот, кто наденет ее, не будет спать.
В эту ночь мы проявляли крайнюю осторожность. Я лег между юным Хасаном и Амарой, Решик лег подле Амары. Рядом со мной и Амарой лежали заряженные винтовки. Старик отец сел на пороге, держа на коленях винтовку Решика. В дальнем конце дома занятая уборкой Матара мирно напевала что-то себе под нос. Самый маленький капризничал, и Нага, его мать, взяла его на руки и баюкала у огня. С того места, где я лежал, были видны привязанные буйволы, довольно большое стадо, пережевывающее при свете луны молодые побеги, которые собрал для них Чилайб. Хасан сжал мне руку, давая понять, что рад моему возвращению. Он принес ранец, который я подарил ему, и показал мне свои книги. До сих пор в семье Амары все шло хорошо. Решик засеял больше земли, чем когда-либо раньше, и в прошлом году, несмотря на засуху, собрал хороший урожай. Теперь же, без всякой их вины, возле их дома, быть может, прятался человек с заряженной винтовкой, ожидая своего часа. Если мне не удастся добиться афвы, они вряд ли осмелятся спать по ночам. Даже в ту ночь Амара поднимал голову каждый раз, когда в деревне лаяла собака.
25. Последний год на озерах
Ранним утром следующего дня я поехал повидать Маджида в новом доме, который он построил себе близ Маджара. Маджид отправил меня в машине со своим личным представителем и письмом к шейху, на чьей земле, близ Калъат-Салиха, располагался лагерь Радави. Я попросил шейха гарантировать перемирие на год для Сукуба и его семьи.
— Радави вне себя от горя и ярости. Не думаю, что он вообще согласится на афву. И уж наверняка не согласится, если ты включишь Бадаи, — ответил он.
— Бадаи пусть сам позаботится о себе, он меня не интересует. Я прошу афву для семьи Сукуба.
— Постараюсь сделать все, что смогу, но, по-моему, ничего не получится. Побудь в мадьяфе, а я поеду к ним с представителем Маджида.
Я отправил с ними Сабайти, чтобы он представлял меня. Их не было несколько часов, и я начал опасаться, что миссия оказалась безуспешной. Кахвачи шейха даже не пытался приободрить меня.
— Радави никогда не согласится на афву. Он поклялся, что прольет кровь за кровь. Клянусь Аллахом, ни о ком из его семьи нельзя сказать ничего хорошего.
Наконец шейх и его спутники вернулись. После бесконечных споров им удалось убедить Радави гарантировать перемирие на шесть месяцев для Амары, его отца и братьев. На большее я и не рассчитывал.
Через три месяца, в сентябре 1956 года, я заехал на две недели в озерный край на обратном пути из Нуристана и провел несколько дней в Руфайе. Амара женился на сестре Сабайти, но все еще жил со своими родителями.
Его жена, стройная и тихая молодая женщина с большими черными глазами, уже завоевала любовь всей семьи и была неразлучна с Матарой. Однажды мы с Сукубом наблюдали, как она шла к ручью за водой, и старик сказал мне:
— Хвала Аллаху, у моего сына хорошая жена. Если бы не твоя доброта, он еще много лет не смог бы жениться из-за нашей бедности. Я хочу поблагодарить тебя за все, что ты для нас сделал.
Я не смог вернуться в Ирак вплоть до начала 1958 года. Когда наш самолет летел над Ираком, я увидел внизу под нами озера. Я с радостью предвкушал шесть месяцев жизни в озерном крае. В аэропорту Басры меня встречали Амара и Сабайти. Когда я прошел таможенный досмотр, они бросились ко мне, и мы обнялись. Я стал расспрашивать об их семьях и о других моих друзьях, и на каждый мой вопрос они давали мне традиционный ответ:
— Он передает тебе приветствия.
Сабайти, который тоже успел жениться, почти не изменился, но я сразу почувствовал, что Амара стал совсем другим. Он явно возмужал и был чрезвычайно сдержан.
Только когда мы добрались до консульства, Сабайти отвел меня в сторону и сказал, что и отец и жена Амары умерли, Я сразу же спросил, не Радави ли убил Сукуба, но Сабайти сказал, что он умер летом от желудочного заболевания, а перед этим долго хворал и мучился от болей. Впоследствии из рассказов Амары я понял, что Сукуб умер от рака.
— Если бы ты был с нами, сахеб, ты бы дал ему лекарство, чтобы унять боль. Я ничем не мог ему помочь, а ведь он был мой отец.
Через две недели после смерти Сукуба жена Амары, по обычаю, отправилась в дом своего отца, чтобы произвести на свет ребенка. Она умерла сразу же после его рождения. Ребенок, мальчик, выжил, но постоянно болел. Амара сказал, что его мать, которая сама родила ребенка всего два года назад, кормила его грудью, но у нее осталось мало молока; ни одна из буйволиц в тот период не доилась.
Посоветовавшись в Басре с разными людьми, мы накупили всяких смесей для детского питания. Но когда мы добрались до Руфайи, оказалось не так-то просто убедить Нагу воспользоваться ими:
— Это, может, хорошо для сыновей шейхов, но для наших детей лучше всего рисовая паста. А если нет молока, то вода с примесью речного ила.
Мы заручились поддержкой Матары. Она самоотверженно ухаживала за ребенком и стала кормить его, по нашим указаниям. В результате ребенок явно прибавил в весе. Когда я впервые увидел его, он казался полуживым от голода. Однажды он сильно напугал нас. Мы два месяца путешествовали в нашей тарраде; когда мы вернулись домой, оказалось, что у него понос и рвота. Амара был уверен, что сын умирает, но я сделал ему укол пенициллина, и на следующее утро он был уже почти здоров.
В Бу Мугайфате к нам присоединился Хасан. Он привел своего двоюродного брата Касира взамен Ясана, который остался с семьей. Мы вновь посетили почти все деревни, и я был очень тронут, увидев, как их обитатели радовались моему возвращению.
— Мы думали, наш доктор покинул нас и уехал жить в свою страну, — говорили многие. — Да хранит тебя Аллах, сахеб, теперь ты снова здесь, и у нас все будет в порядке.
Я почувствовал себя вознагражденным сполна за все то раздражение, расстройство планов и утомление, причиной которых эти люди так часто бывали. Чиновники, возможно, продолжали считать меня шпионом, хотя было непонятно, какие военные секреты я мог выведать на озерах. Но земледельцы, которые привыкли доверять мне, знали, что я приезжал для собственного удовольствия и помогал им чем мог.
Угроза кровной мести все еще оставалась. Меня несколько раз предупреждали, что Радави оставил попытки убить Бадаи и собирается вместо него убить Амару. Наша компания была слишком хорошо вооружена, и у нас была слишком громкая репутация метких стрелков, чтобы Радави и его семья попытались убить Амару, пока мы были вместе. Но я боялся, что они попробуют сделать это, когда я уеду. Бадаи был в безопасности среди фартусов на западе, где Радави сейчас же заметили бы как чужака. Но в Руфайе, на расстоянии одного-двух часов пути от лагеря Радави, Амара был всегда под ударом, и я был убежден, что рано или поздно Радави нанесет этот удар. Я предложил, чтобы Амара перебрался в Сайгал, но, как я и ожидал, он отказался.
— Меня не заставят прятаться. Если Бадаи предпочитает укрываться среди фартусов, это его дело. Я останусь здесь, где живут мои друзья, где у Решика есть земля. У меня есть винтовка, ты одолжил мне твой пистолет. Я никому не желаю зла. Семья Сукуба хочет одного — жить в мире. Но если Радави придет по мою душу, я убью его.
Сам сейид Сарват посетил Радави и безуспешно пытался убедить его согласиться на «плату за кровь». Более того, Радави настолько вывел сейида из равновесия, что тот ударил его палкой. Я твердо решил пойти к Радави и заставить его согласиться на новое перемирие с Амарой и его братьями, на сей раз на год. Это обеспечило бы им безопасность во всяком случае до моего возвращения.
Но найти Радави оказалось не так-то легко. Дважды мы пытались встретиться с ним, и каждый раз наши сведения оказывались неверными. В конце мая мы услышали, что он находится возле Эль-Азайра, на земле шейха племени аль бу-мухаммед по имени Шинта. Мы прибыли туда после полудня и нашли престарелого Шинту в его мадьяфе. После традиционных приветствий я сказал:
— Я пришел, чтобы добиться от Радави перемирия для Амары. Я хочу, чтобы его привели сейчас в твой мадьяф.
— А где он? — спросил Шинта, делая вид, что не знает этого.
— Вон в тех домах, на кромке сухой земли.
Шинта позвал одного из своих людей.
— Пойди к Радави и скажи ему, что он мне нужен. Приведи его с собой.
Мы стали ждать, сидя на траве в тени мадьяфа, так как было очень жарко. Через полчаса посыльный вернулся один. Радави отказался прийти.
Я взглянул на Шинту. Тот пожал плечами и сказал:
— Что же еще я могу сделать, если он не хочет приходить? Завтра я прикажу ему убраться с моей земли.
Он явно не намеревался помочь нам.
— Какая мне от этого польза? — сказал я в сердцах. — Сабайти, Хасан, Касир, вставайте! Мы пойдем и приведем его сами.
Я взял в руки винтовку. Шинта поспешно вскочил на ноги.
— Не ходи, сахеб, Радави плохой человек.
— Если ты не приведешь его сюда, это сделаю я.
— Нет, нет, мы с сыном пойдем сами, а ты со спутниками оставайся здесь.
Шинта направился к дальним домам в сопровождении своей свиты. Прошел час, потом два. Время шло. Наконец мы увидели, что они возвращаются. Когда они подошли поближе, Амара спокойно сказал:
— С ними Радави и его сын.
Мы встали и обменялись приветствиями. Радави и его спутники сели напротив нас. Радави был невысокий сухопарый человек с редкой бородкой и жестокими глазами. Его сыну Хасану, коренастому угрюмому парню, было около двадцати лет. С ними были восемь ферайгатов. Все были без оружия, не считая кинжалов, но я решил не рисковать и положил пистолет на циновку рядом с собой.
— Сахеб, это Радави, — начал Шинта. — Он пришел, так как узнал, что ты хочешь говорить с ним,
— Я прошу перемирия для Амары и его братьев на два года. Меня не интересует Бадаи, — сказал я.
— Никогда! — наотрез отказал Радави.
— На два года, — повторил я, не отрывая взгляда от его лица.
— Никогда!
Мы молча смотрели друг на друга; никто не произносил ни слова.
— Мы просим перемирия только для семьи Сукуба, — произнес наконец Сабайти.
— Никогда, ни для кого! Ни сейчас, ни после!
И опять мы застыли в молчании. Амара поигрывал четками. Мимо гуськом прошли возвращавшиеся домой буйволы. Солнце садилось, небо заполыхало багрянцем. Вокруг гудели комары.
— Никогда! — повторил Радави. Я наклонился вперед.
— Слушай, Радави, слушай внимательно. Либо ты согласишься на перемирие сейчас же, либо я утром отправляюсь к властям. Тебя уже разыскивают по обвинению в двух убийствах. Если тебя арестуют, ты проведешь в тюрьме весь остаток жизни. Твой сын Хасан принимал участие в последнем убийстве, и его тоже арестуют.
Я сделал паузу и продолжил:
— Я предложу вознаграждение в сто динаров за твой арест. Каждый полицейский в провинции, да и многие другие начнут охотиться за вами обоими. Подумай хорошенько, Радави, потому что, клянусь Аллахом, я не шучу. Клянусь жизнью! Более того, если ты все же убьешь Амару, пока меня здесь не будет, я позабочусь о том, чтобы тебя тоже убили, чего бы мне это ни стоило.
Я откинулся назад. Через несколько мгновений седобородый ферайгат, пришедший с Радави, сказал ему:
— Давай отойдем в сторонку и поговорим.
Они все встали, отошли на сотню ярдов и сели в кружок. Мне были слышны их приглушенные голоса, потом гневный, пронзительный голос Радави. Наступили сумерки, слуга принес лампу. Шинта велел ему подать кофе. Через час ферайгаты присоединились к нам. Говорил седобородый старик:
— Радави — добрый человек. Он и его сын согласились дать дому Сукуба перемирие на один год. На больший срок перемирие, по нашим обычаям, не дают. Что касается Бадаи, Радави не даст ему перемирия ни сейчас, ни потом.
— Соглашайся, сахеб, — убеждал меня Шинта. — В самом деле, по обычаям наших племен, перемирие не дают больше чем на год. Когда время подойдет к концу, ты сможешь возобновить его. Соглашайся, сахеб.
— Кто будет гарантировать перемирие? Я хочу, чтобы это сделали четыре человека из разных племен.
— Это я устрою, — ответил Шинта.
Я посоветовался с моими спутниками и сказал:
— Хорошо, мы согласны.
Когда формальности были завершены и ферайгаты ушли, Шинта велел подать обед. Я вскоре должен был лететь в Лондон, чтобы засесть на шесть месяцев за книгу, после чего предполагал вернуться в озерный край. Теперь я мог уехать с легким сердцем. Но тогда я еще не знал, что мне больше не суждено ни увидеть Амару, ни узнать о его судьбе…
Амара и Сабайти провожали меня в Басре. Мой самолет улетал в полночь, и мы провели оставшееся время в гостинице аэропорта. Изорванный плакат на стене изображал молодца, которому подавала еду экзотического вида стюардесса. Текст внизу гласил: «Любуйтесь миром, сидя в кресле!» Приземлился мой самолет. Пока его заправляли горючим, в помещение провели утомленных пассажиров. Служитель подал им кока-колу. Они вылетели утром или накануне вечером из Бангкока или Сиднея. Теперь и я присоединялся к ним и через восемь часов должен был быть в Лондоне. За это время можно пройти от Эль-Кубаба до Эль-Курны, пообедав по дороге у аль бу-бахит…
Тут «взорвался» громкоговоритель. Я мог разобрать только отдельные слова:
— Пассажиров… рейс номер… Рим… Лондон… паспорта… проверка паспортов.
Все зашевелились. Я встал и собрал вещи.
— Мне пора, — сказал я своим товарищам. Амара и Сабайти поцеловали меня на прощание. Амара сказал:
— Возвращайся поскорее!
— На следующий год, если будет угодно Аллаху, — ответил я и присоединился к толпе пассажиров.
Через три недели, в Ирландии, я пил чай у своих друзей. Кто-то вошел в комнату и сказал:
— Вы слышали по радио последний выпуск новостей? В Багдаде революция, королевская семья уничтожена. Толпа подожгла английское посольство…
Я понял, что мне больше никогда не бывать в Ираке, что кончилась еще одна глава моей жизни.
Перечень главных действующих лиц
Маджид аль-Халифа — шейх племени аль бу-мухаммед
Фалих бин Маджид — сын Маджида; жил на Вадийе.
Абд аль-Вахид — сын Фалиха.
Халаф — брат Фалиха.
Мухаммед аль-Халифа — брат Маджида; жил в Маджаре.
Аббас — сын Мухаммеда.
Хамуд аль-Халифа — брат Маджида; жил в Маджаре.
Хатаб — сын Хамуда; жил на Вадийе.
Дайр — слуга Фалиха, его гребец.
Абд ар-Рида — кахвачи Фалиха.
Саддам бин Талаль — представитель Маджида в Эль-Кубабе.
Сахайн — калит ферайгатов; жил в Бу Мугайфате.
Джасим аль-Фарис — шейх фартусов на Вайдийе.
Фалих — сын Джасима.
Дауд — племянник Джасима.
Хашим — отец Дауда, отбыл десять лет заключения в Амаре за убийство.
Мазиад — шейх племени аль иса.
Абдулла — дядя Мазиада, его представитель в Сайгале.
Тахир — сын Абдуллы.
Амара — один из моих гребцов; жил в Руфайе.
Сабайти — один из моих гребцов; жил в Руфайе.
Ясин — один из моих гребцов; жил в Бу Мугайфате.
Хасан — один из моих гребцов; жил в Бу Мугайфате.
Сукуб — отец Амары.
Нага — мать Амары.
Решик — брат Амары; рисовод.
Чилайб — брат Амары; ухаживал за буйволами,
Хасан — брат Амары, школьник.
Ради — самый младший брат Амары.
Матара — сестра Амары.
Лязим — отец Сабайти,
Бадаи — двоюродный брат Амары; ферайгат-кочевник.
Радави — ферайгат-кочевник; враждовал с Бадаи.
Хасан — сын Радави; враждовал с Бадаи.
Халаф — сын Радави; пал от руки Бадаи.
Краткий словарь терминов
Анфиш — мифическое чудовище, живущее, согласно поверью, на озерах
Арак — спиртной напиток
Афа — мифическое чудовище, якобы обитающее на озерах
Балям — плоскодонная лодка с обшивкой вгладь, обычно имеет тридцать пять футов в длину; на ней ходят с шестами, иногда под парусом
Джаллаба — торговец, разъезжающий по деревням и скупающий буйволов
Дибин — кибаша (см. ниже) с одним или несколькими слоями земли
«Дикари» — рыбаки на озерах, использующие сети.
Динар — денежная единица Ирака (равная фунту стерлингов по курсу тех лет)
Дивания — кирпичный гостевой дом, где принимают европейцев и местных чиновников
Заир — человек, который совершил паломничество в Мешхед (Иран)
Займа — лодка, сделанная из касаба и обмазанная битумом
Калит — наследственный староста; у некоторых племен, например у шаганба, бывает только один калит; у других, например у ферайгатов, каждая часть племени имеет своего налита
Касаб — гигантский тростник (Phragmites communis), достигающий в высоту двадцати пяти футов
Каулаи — осока (Scirpus brachyceras), наиболее распространенное растение в местах, затопляемых лишь во время разлива рек
Кахвачи — слуга, обязанность которого — приготовление кофе
Кибаша — площадка из тростника и камыша, используемая в качестве фундамента для постройки домов на озерах
Куффа — лодка, используемая на Тигре
Мадан — житель озерного края
Масхуф — общее название для всех лодок типа каноэ, кроме таррады
Матаур — маленькая лодка на одного человека, используемая при охоте на водоплавающую дичь
Мудир — государственный чиновник, управляющий нахией, самой мелкой административной единицей провинции
Мадьяф — гостевой дом с цилиндрическим сводом, сооружаемый из тростника и тростниковых циновок
Раба — жилой дом с входами на обеих торцевых стенах, часть которого используется как гостевой дом
Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного года, в течение которого мусульмане соблюдают пост
Сарифа — строение из тростника и циновок, крышу которого поддерживает коньковый брус
Сейид — человек, ведущий свое происхождение от семьи пророка Мухаммеда
Ситра — тростниковая пристройка к жилому дому, в которой маданы держат зимой буйволов
Талави — одна из женщин, передаваемых по соглашению о кровной мести (ср. фиджирия)
Таррада — лодка шейха; достигает тридцати пяти футов в длину; вдоль внутренней обшивки отделана рядами декоративных гвоздей с плоскими шляпками
Тухуль — плавучий островок, образованный растениями
Фасль — денежный выкуп, или «плата за кровь»
Феллах — крестьянин, земледелец
Фиджирия — непорочная девушка брачного возраста, передаваемая пострадавшей стороне как часть «платы за кровь» вместе с талави
Филе — мелкая монета
Хауса — военный танец племен
Хашиш — срезанные зеленые растения, свежий корм для буйволов и другого скота
Хуфайз — волшебный остров, якобы существующий на озерах
Перевод единиц измерения в метрические
1 дюйм — 2,54 см
1 фут — 30,48 см
1 ярд — 91,44 см
1 миля — 1,609 км
1 акр — 4,052 кв. км
1 фунт — 454 г
В. Константинов Послесловие
Советский читатель имеет возможность познакомиться с интересными записками английского путешественника и этнографа-любителя Уилфрида Тэсиджера об озерных арабах Ирака, населяющих обширные районы на юге этой древнейшей страны Арабского Востока. Книга Тэсиджера — добротный и, пожалуй, единственный в своем роде этнографический материал в том смысле, что в ней изложены не беглые путевые заметки (чаще всего мы сталкиваемся с таким жанром), которые неизбежно страдают фрагментарностью и не всегда достаточно глубоки, а наблюдения человека, посвятившего целые годы изучению этого колоритного уголка арабского мира. В истории этнографических исследований Арабского Востока подобных случаев не так уж много. Это в полной мере относится к таким труднодоступным районам, как озерный край юга Ирака, где сплошные озера и болота в сочетании с жарой и высокой влажностью заставляют человека буквально бороться за выживание.
Заслуга У. Тэсиджера, проявлявшего к арабам искренний и доброжелательный интерес, особенно очевидна на фоне беспощадной колониальной политики, которую проводила Англия в Ираке в 50-х годах. Отмечая эту заслугу английского автора, хотелось бы вместе с тем добавить к его запискам несколько замечаний, которые представляются необходимыми прежде всего потому, что от описанных Тэсиджером событий нас отделяет более 20 лет, которые в современной истории Ирака, пожалуй, сыграли решающую роль.
Этнографические зарисовки сделаны У. Тэсиджером в 50-х годах, когда в Ираке назревала антимонархическая революция. Автор воспроизводит безрадостную картину существования арабов озерного края — одного из самых отсталых и заброшенных уголков тогдашнего Ирака. Тэсиджер оказался в окружении людей, живших в середине XX в. в таких социально-экономических условиях, которые вполне могут быть отнесены на несколько веков назад.
У. Тэсиджер с искренним умилением пишет о неизменности быта жителей озер на протяжении 5000 лет. Противник современной цивилизации, которая, по его мнению, уродует человека, Тэсиджер в порыве ностальгии по средневековой «чистоте и простоте» явно идеализирует патриархальный уклад и социальные порядки, царившие в то время в озерном крае. Вряд ли, однако, было бы правильно думать, что Тэсиджер не видит ужасного положения, в котором столетиями пребывали жители озер — парии монархического Ирака. Скорее всего, в своем нигилизме, категорическом отрицании современной цивилизации, Тэсиджер заходит так далеко, что не хочет даже признать право жителей озер приобщиться к ее благам — попросту говоря, выйти из состояния крайней отсталости.
Следует отметить, что ход мыслей У. Тэсиджера — хоть и нехарактерный, но весьма показательный образчик психологии английских колонизаторов: ведь он ратует за то, чтобы навсегда законсервировать существовавшие на озерах порядки.
Однако сквозь повествование автора, всецело отдающего свои симпатии этому укладу жизни, проступает удручающая картина нищеты, болезней, невежества, забитости абсолютного большинства жителей озер. В каком-то смысле воспроизведенные Тэсиджером картины жизни озерных арабов Ирака помогают понять причины революции 1958 г., хотя, разумеется, автор-англичанин не ставил перед собой такой задачи. Напротив, он явно ассоциирует себя и свое длительное пребывание на озерах с сохранением монархических порядков и засилья кучки шейхов, нещадно эксплуатировавших труд жителей озер. Недаром Тэсиджер, узнав о происшедших в Багдаде революционных событиях 1958 г., понял, что ему больше не бывать в озерном крае…
С того момента, когда оборвались странствия У. Тэсиджера по озерному краю, минуло четверть века. Сама жизнь, логика поступательного развития иракского народа распорядилась иначе, чем некогда виделось Тэсиджеру. Годы, последовавшие за 1958-м, преобразили Ирак, ставший одним из ведущих арабских государств, следующих по пути самостоятельного развития.
Не остался в стороне от этих бурных перемен и озерный край. Хотя суровая природа по-прежнему ставит перед республиканскими властями труднейшие задачи по переустройству этого обширного района, там проведены и продолжаются сейчас широкомасштабные ирригационно-мелиоративные работы. Создана заново сеть школ, молодежных центров, поликлиник и амбулаторий, ведущих борьбу за искоренение неграмотности, за преодоление многочисленных болезней, от которых страдают жители озер. Под воздействием аграрной реформы и других мероприятий в послереволюционный период продолжается ломка прежних социальных отношений. Введена и функционирует новая современная система административной власти, практически не существовавшая в озерном крае во времена путешествий У. Тэсиджера. Проложены дороги от прилегавших к озерному краю крупных городов в Эль-Кабаиш, что помогло покончить с изолированностью этого района.
По соседству с озерным краем выросли важные районы современной индустрии, построены мощные предприятия, среди которых следовало бы прежде всего отметить первые в Ираке отечественные нефтепромыслы в Северной Румейле, сооруженные при активной помощи и содействии Советского Союза, и мощную ТЭЦ в городе Эн-Насирия, который в книге Тэсиджера фигурирует лишь как захолустный провинциальный городок на юге страны. Люди озер принимали и принимают участие в этих стройках, они тянутся к новому, созидательному труду.
Многое изменилось в озерном крае со времен пребывания там У. Тэсиджера, как изменилось и во всем Ираке. Осталось неизменным, пожалуй, лишь то, что так полюбилось этому английскому путешественнику: добросердечие, радушие и гостеприимство, благородство души простых людей озер — тех, к кому он был так искренне привязан и кому посвятил свою книгу.
В этом основное достоинство книги «Озерные арабы» и главная заслуга ее автора.
Wilfrid Thesiger
THE MARSH ARABS
Harmondsworth, 1967
Тэсиджер У.
Озерные арабы
Пер. с англ. Э. А. Маркова
Послесловие и примечания В. Константинова
Москва
Главная редакция восточной литературы издательства «Наука»
1982
Эта книга, написанная известным английским путешественником Уилфридом Тэсиджером, — результат его наблюдений в 50-х годах над жизнью обитателей одного из заповедных районов Ближнего Востока — зоны озер Южного Ирака. В книге содержится много интересных зарисовок патриархального уклада озерных арабов, их нравов и обычаев.
Примечания
1
У. Тэсиджер не вполне прав. После революции 1958 г. власти Ирака не чинят особых препятствий желающим посетить этот район. — Здесь и далее примечания составлены ответственным редактором.
(обратно)2
Здесь и далее У. Тэсиджер пользуется словом «tribe» — «племя». Однако в большинстве случаев речь идет о сельской общине, о больших группах людей, связанных узами одного рода, и т. п.
(обратно)3
Игаль — кольцевой шнур, обычно черного цвета, надеваемый поверх куфии, чтобы она держалась на голове.
(обратно)4
Состояние аграрных и социальных отношений в озерном крае, описываемое У. Тэсиджером, кардинально изменилось после революции 1958 г., и особенно в 70-х годах.
(обратно)5
Руб-эль-Хали, пустыня на юго-востоке Аравийского полуострова, отличается особо суровыми условиями.
(обратно)6
См. с. 50.
(обратно)7
Имам — верховный глава шиитов.
(обратно)8
Хаджжи — титул, который мусульманин получает после паломничества в Мекку.
(обратно)9
Fulanain. Haji Rikkan: Marsh Arab. L., 1927.
(обратно)10
У. Тэсиджер явно идеализирует отношение иракцев к англичанам. Антианглийские настроения были сильны в Ираке не только в связи с антиарабской политикой Лондона в целом, но и в силу его откровенно колониалистского курса в самом Ираке.
(обратно)11
Обычаи, описываемые У. Тэсиджером, безусловно, отошли в прошлое и не отражают нынешних отношений между жителями района озер.
(обратно)12
О сабейцах см. на с. 116–117.
(обратно)13
В советской исторической науке взятие Ниневии и разгром Ассирийской державы датируются 612 г. до н. э.
(обратно)14
Так назывались государства на Иранском нагорье и в ряде других районов.
(обратно)15
Зинджи — арабское название африканцев.
(обратно)16
У. Тэсиджер рассказывает о системе местной администрации, существовавшей в Ираке до революции 1958 г.
(обратно)17
Сабейцы называют себя наорае д’йахйа — «исполнители заветов святого Иоанна» (Иоанна Крестителя), которого они почитают. Поэтому в западной литературе их именуют «последователи святого Иоанна». Манихейство — религиозное учение, возникшее на Ближнем Востоке в III в. и представлявшее собой синтез халдейско-вавилонских, персидских и христианских мифов и ритуалов.
(обратно)18
Кафиры — жители труднодоступных восточных районов Афганистана.
(обратно)19
Фатиха («Открывающая») — первая сура Корана; ее произносят также в память об умершем.
(обратно)20
Эзра — один из предводителей религиозной общины древних иудеев.
(обратно)21
Гаммельнский Крысолов — персонаж средневековой немецкой легенды, увлекший за собой детей игрой на флейте.
(обратно)22
Афва — прощение, помилование.
(обратно)
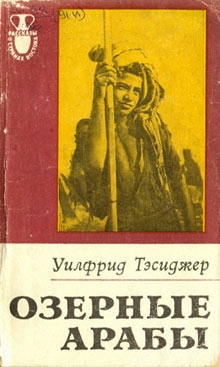



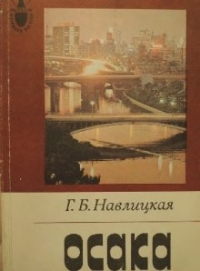
Комментарии к книге «Озерные арабы», Уилфрид Тэсиджер
Всего 0 комментариев