Авторское предисловие к книге
Жизнь адмирала флота первого виконта Горацио Хорнблауэра, кавалера Ордена Бани, была чрезвычайно увлекательно описана писателем С. С. Форестером, умершим в 1966 г. В течение тридцати лет он написал двенадцать книг о Хорнблауэре, и одного бы этого хватило, чтобы считать его одним из выдающихся писателей своего времени.
Что касается основных фактов и этапов карьеры адмирала, то, как известно, Форестер пользовался письмами и целым собранием корреспонденции, которые четвертый виконт Хорнблауэр завещал в 1927 году Королевскому Военно-морскому колледжу в Гринвиче. Эти материалы, которые в настоящее время находятся в Национальном морском музее, долгое время хранились на чердаке городской резиденции лорда Хорнблауэра на Бонд-стрит, 129 в Лондоне, откуда они позднее были перенесены в другую семейную резиденцию, в г. Найтсбридж, на улицу Уилтон-стрит. Несомненно, сам Форестер, как и четвертый виконт Хорнблауэр до него, считали это собрание документов абсолютно полным. Но оба они не знали, что старый адмирал отдал на хранение в Окружной банк Мэйдстона свое письмо, адресованное его прямому потомку, причем письмо можно было открыть только через сто лет после его смерти. Окружной банк Мэйдстона был в конце концов поглощен Вестминстерским банком, находящимся по адресу Хай-стрит 3 и 4, и следует отдать должное его директору, который, в соответствии с завещанием, точно 12 января 1957 года достал это письмо и уведомил пятого виконта Хорнблауэра о существовании документа. Однако тот на старости лет стал преувеличенно осторожным и с большой неохотой относился к мысли о возможности опубликования того, что его прославленный предок намеревался сообщить ему в этом письме. Однако он все же рассказал о его существовании нескольким историкам флота, в том числе — и автору (С. Н. Паркинсону — прим. пер). После смерти пятого виконта, последовавшей в 1968 году, я написал наследнику его титула и попросил, чтобы мне разрешено было прочесть неоткрытое письмо. Шестой виконт Хорнблауэр не согласился на это, однако своим письмом из Браамфонтейна в Южной Африке уполномочил меня получить его от его имени. Делая это, я обратил внимание, что к письму был приложен незапечатанный конверт с препроводительной бумагой, в которой шла речь о еще трех ящиках дополнительных материалов, находящихся на хранении у м-ра Ходжа, адвоката из Мэйдстоуна. По-прежнему запечатанное письмо старого адмирала было выслано заказной бандеролью в Южную Африку, а я начал разыскивать юридическую фирму, которая унаследовала архивы м-ра Ходжа. Это оказалось самой легкой частью моего задания, т. к. оказалось, что фирма «Ходж, Уинтроп, Найтли и Хэй» до сих пор работает на Хай-стрит, хотя уже ни один из ее владельцев не носит фамилий основателей. Старший клерк фирмы обыскал чердак и, наконец, нашел два железных ящика, один с надписью «Смоллбридж-Мэнор», а второй с надписью «Боксли-хауз». Вначале я думал, что эти ящики содержат исключительно корреспонденцию, относящуюся только к этим резиденциям, конечно же, интересную, но не имеющую непосредственной связи с морской карьерой адмирала. Однако вскоре я убедился, что это было собрание документов, не упорядоченное ни хронологически, ни тематически, причем многие из них были написаны или получены в море. Я обнаружил там залежи информации, к которой Форестер никогда не имел доступа. На многие уже известные мне истории пролился новый свет, пробелы между уже описанными событиями были восполнены.
Получив эти новые сведения, я решил написать биографию Хорнблауэра; сам Форестер, которому не хватало этих материалов, никогда бы не пробовал этого сделать. Моя книга написана не как полемика с уже опубликованными книгами про Хорнблауэра, но для их дополнения. В первый раз стало возможно достаточно полно и последовательно рассказать о карьере адмирала. Однако я так и не смог отыскать третий ящик с документами, о которых упоминает адмирал. Не могло быть сомнений в том, что все три ящика вместе были убраны на пыльный чердак, на котором позже были найдены два из них. Существовала вероятность, что кто-то из Хорнблауэров, возможно — и сам старый адмирал, послал за одним из ящиков, может, для того, чтобы проверить детали какой-либо аренды и забыл возвратить. Если так, то ящик можно было бы еще разыскать и найти в нем еще больше подробностей его славной карьеры. Принимая во внимание эту возможность, сомневался, стоит ли публиковать написанную мной биографию, потому что надеялся, что обнаружение этих материалов сделает рассказ полнее. Однако когда даже усиленные поиски не принесли результата, я сказал себе, что ни одно собрание документов не бывает абсолютно полным. Если бы мы ждали, пока соберем полную информацию, то никогда бы не смогли ничего опубликовать. Если же все-таки удастся разыскать дополнительные данные, то они могут быть включены во второе, расширенное издание. И уже по окончании этой книги, я, наконец, получил весточку от сегодняшнего лорда Хорнблауэра. Он охотно согласился предоставить мне дополнительные документальные материалы, однако ничего не упоминал о письме, которое адресовал ему его знаменитый предок. Я попросил его о копии с этого документа, обещая не использовать ее без дополнительного разрешения, однако он не имел желания предоставить ее мне, а еще меньше, по всей видимости, хотел бы увидеть это письмо напечатанным. В конце концов, шестой виконт Хорнблауэр проконсультировался с профессором истории университета в Капштатде, который заверил его, что письмо имеет не только семейную, но и историческую ценность. Лорд Хорнблауэр прислал мне фотокопию письма, которую я переписал и поместил в соответствующее место в книге, к сожалению, уже в последний момент. Это письмо дает ответ на вопрос, который я поставил, но не попытался дать ответ в предшествующей части книги.
С. Норткот Паркинсон,
о. Гернси, 12 января 1970 г.
1. Ученик
Если бы в последующие годы кто-нибудь спросил его о месте рождения, Горацио Хорбнлауэр, скорее всего, назвал бы скромный городок в Кенте, где его отец был врачом и игрывал каждый вечер партейку-другую в вист с пастором и где он сам в мальчишеские годы должен был снимать шапку перед землевладельцем. На самом же деле все было гораздо скромнее, нежели он рассказывал, поскольку местечко с трудом можно было назвать городком, отца — врачом, священник не был полноправным пастором, а местный начальник не являлся землевладельцем.
В 1776–1793 гг. Уорс было местечком столь незначительным, что почти нищим. Оно лежало на равнине между Сандвичем и Диллом, на расстоянии примерно одной мили от моря. Со стороны моря почва была кислой и пропитана водой, что служило удобной отговоркой для крестьян, предпочитающих зарабатывать себе на жизнь контрабандой. Штаб-квартирой контрабандистов была ферма «Под голубыми голубями», которая находилась у дороги, ведущей к побережью, напротив которого находится рейд, известный под именем Малый Даунс. В глубине суши, у перекрестка дорог, около двух десятков домиков теснились вокруг тихой часовни, на месте которой сегодня стоит собор. Уорс сегодня достаточно густо населен, в нем есть собор и школа (построенная в 1873 году), гостиница и поля для игры в крокет. В XVIII веке все это выглядело по-другому, когда местечко даже не заслуживало того, чтобы размещать его на карте, а когда оно все-таки туда попадало, то называли его по-разному: Уорд, Уордс или Уорс.
Насколько местечко не было городком, настолько еще менее местный медик мог претендовать на звание врача. Чтобы понять это, нам придется погрузиться в историю. Когда в 1857 году Горацио скончался, в некрологе «Таймс» было указано, что его отец, д-р Хорнблауэр, вел свое происхождение из «древнего рода графства Кент». В какой-то степени это, очевидно, правда, поскольку эпитет «древний» можно применить к любому роду, при условии, конечно, что имеется в виду исключительно древность как таковая. Род Хорнблауэра мог быть древним, однако наверняка он не был известным. Похоже, все Хорнблауэры или «Мужи из Кента» или, попросту, все жители этого графства, имели предков, которые проживали в Мэйдстоне или ближайших местечках. В начале XV века некий Николас Хорнблауэр владел в Эйлфорде достаточным количеством земли, чтобы попытаться обзавестись гербом. На присвоенном ему гербовом щите был серебряный шеврон на черном поле и голубая рыба между тремя, собственно, рогами (трубами). Однако ничего большего он не добился, а его потомки ничем особенным себя не проявили и даже не были уже землевладельцами. Первым Хорнблауэром, который был более или менее известен, стал Иеремия Хорнблауэр (1692–1754), торговец зерном из Мэйдстона; своим завещанием он основал местный сиротский дом, однако при этом поставил условие, что бедных сироток там будут обучать ремеслу. После 1760 года про судьбу этого завещания нам уже ничего не известно, возможно оттого, что на осуществление этой благородной цели уже не хватало средств. Зато мы знаем, что у Иеремии было пятеро детей, в том числе две дочери. Старший сын, Джеймс, аптекарь и фармацевт, родился в 1714 году, практиковал в Мэйдстоне и умер в 1769 году, не оставив потомства. Следующий сын, Джонатан (1717–1780), был довольно известным инженером, а третий — Джошуа (1729–1809), в молодые годы уехал в американские колонии, где позднее стал председателем совета депутатов штата Нью-Джерси. От него происходят американские Хорнблауэры, а от Джонатана — та семья, которая нас интересует.
В свою очередь, у Джонатана было три сына: старший — Яков (родившийся в 1738 году) и два его младших брата: Джонатан Картер (1753–1815) и Джейбз Картер (1744–1814). Оба они стали инженерами, а Джейбз, возможно, изобрел машину для обработки перкаля. Джонатан же работал у Джеймса Уатта, но поссорился с ним из-за какого-то патента. Яков работал у своего дяди Джеймса, но когда, наконец, смог открыть собственную практику, то сориентировался, что в Мэйдстоне не хватит места для еще одного аптекаря. В 1759 году он женился на Маргарет Роусон, дочери неплохо зарабатывавшего строителя судов в Дилле и переехал вместе с семьей в те края. Он был аптекарем в местечке Уорс и именно там, 4 июля 1776 года родился их единственный сын. Это произошло в тот самый день, когда американские колонии постановили провозгласить свою независимость. Дав сыну имя Горацио, аптекарь проявил собственную независимость, поскольку семейные традиции предписывали давать каждому потомку мужского рода имя, начинающееся с буквы «Д». Каково бы не было происхождение этой несколько неумной традиции, Яков не стал ее придерживаться. Также не подлежит сомнению, что окрестил своего ребенка в честь Горацио (или Хораса) Уолпола, четвертого сына известного премьера. Конечно, надежда на протекцию была весьма слабой, однако это следовало отметить. Похоже, Яков был настолько опытным гравером, что смог проиллюстрировать свой собственный (причем единственный) печатный труд: «Травник Кента» (Кентерберри, 1761) и, таким образом, заслужил заметку в две строки в книге Уолпола «Граверы Англии» (1763). Так что, когда в 1771 году вышло в свет второе издание «Травника», оно было посвящено Уолполу, что могло быть признано не слишком приличным даже по тем временам. Ни тогда, ни когда-либо позднее Яков Хорнблауэр так и не дождался ответа на этот свой шаг, так что, похоже, выбор имени единственного сына стал для него, если говорить про Уолпола, искоркой последней надежды на протекцию, которая так никогда и не сделалась реальностью.
Если медик не был врачом, то и его партнер по висту также не был пастором. Уорс в те времена не являлось самостоятельным приходом, и часовню местечка обслуживали многие викарии, причем некоторые из них при ней и жили. В реестре можно найти упоминания о преподобном Уильяме Томасе в 1773 г., преподобном Джоне Аткинсе в году 1776, преподобном М. Нисбете в 1779-м, преподобном Томасе Педингтоне в 1781-м и преподобном М. Гаррете в 1789 году. Из них в Уорсе жил лишь Педдингтон, и это именно он и его жена играли в вист с аптекарем и его супругой, что представляется весьма естественным. По свидетельству Хастеда (1799), часовня св. Петра и Павла была «маленьким, бедным домиком, с западной стороны которого была пристроена маленькая башенка, на которой находятся два колокола». После этого пессимистичного замечания Хастед меняет тему, что позволяет нам прийти к выводу, что с паломничеством в Уорс следовало, как минимум, подождать до тех пор, как погода наладится.
А что же с землевладельцем? Единственной усадьбой, хозяин которой имел хоть сколько-нибудь значительный вес, является Аптон Хаус, который существовал уже в 1736 году. Построенный на лучших землях в глубине местечка, он был резиденцией Карла Мэтсона, эсквайра, смерть которого в 1791 году была увековечена памятной доской. Очевидно, он и был тем самым человеком, перед которым Горацио Хорнблауэр снимал шляпу. Скорей всего, он был единственным землевладельцем, которым местечко могло похвастаться. Но здесь нас снова ожидает разочарование, поскольку Аптон Хаус называли также и Аптон Фарм, причем даже сама ферма принадлежала не Мэтсону, а отсутствующему графу Кауперу, который, наверное, никогда и не бывал в этих краях, где по количеству принадлежащих ему земель мог поспорить с также постоянно отсутствующим графом Гилфордом. Так что «землевладелец» оказывается лишь кем-то, не намного лучшим обыкновенного арендатора поместья, обрабатывавшего сто двадцать гектаров наиболее плодородной почвы. Если бы он был мировым судьей, этот факт нашел бы отражение на памятной доске. Так что можем предположить, что Мэтсон им не был, что, по крайней мере, позволяло ему не беспокоиться из-за деятельности, центром которой была ферма «Под голубыми голубями», сознательно не обращая на нее внимания.
Первым важным событием в жизни Горацио была смерть матери, которую похоронили на кладбище при часовне 18 января 1782 года. В тот год зима была тяжелой, и мы можем хорошо представить себе, как засыпанное снегом кладбище обдувал резкий восточный ветер. В такой день немногие из соседей решились бы присутствовать на погребении, а родных умершей было всего лишь четверо. Это был овдовевший муж, наверняка более ошеломленный, нежели расстроенный. Был дядя Томас, несомненно, плотно закутанный, но несмотря на это дрожащий от холода. Был дядя Джордж, алый мундир которого выглядывал из-под плаща. И наконец, там был единственный ребенок умершей, шестилетний мальчик, которого держала за руку служанка Жаннет. Именно Жаннет предстояло отвести ребенка домой, если бы он не выдержал вдруг всей церемонии. Однако мальчик не доставил Жаннет хлопот — он молча стоял над гробом, пока не были произнесены последние слова. (Слезы пришли позже, вечером, но даже и тогда шли недолго). Теперь для Горацио Хорнблауэра наступил период одиночества, которому суждено было продлиться почти тридцать лет.
Теперь, рассказав о Горацио и его отце, стоит объяснить существование и присутствие на похоронах дяди Томаса и дяди Джорджа. Можно сказать, что выходя за Якова, Маргарет Роусон совершила мезальянс — во всяком случае, ее отец был человеком состоятельным, женившимся на Элизабет Мэйнард, младшей дочери преподобного Сэмюэля Мэйнарда, пастора из Брэндсби в Эссексе. Его старший сын, Томас (1736–1799) имел какие-то связи с достопочтенной Вест-Индской компанией, по крайней мере, с ее морским транспортом, а тесть Томаса был другом и соседом Роберта Кина, в то время навигатора и капитан-лейтенанта Военно-морского флота. Младший сын, Джордж (1742–1787), был поручиком 77-го пехотного полка, который в то время квартировал в Дувре.
Вряд ли кто-либо из братьев уделял значительное внимание Маргарет с тех пор, как она вышла замуж, однако так сложилось, что в момент ее смерти от тифа оба они находились неподалеку. Томас решал какие-то вопросы на судне Вест-индской компании, стоявшем в Даунсе, а Джордж пребывал в гарнизоне, расположенном не далее, чем в десяти милях, так что оба они не могли, хотя бы из чувства приличия, не присутствовать на похоронах. Так что дяди приехали и, скорее всего, для Горацио это была первая оказия их увидеть. Поскольку мы вынуждены основываться на домыслах, то можем быть, по крайней мере, уверены в том, какие слова были использованы во время погребального обряда. В наши дни священники без колебаний изменяют тексты молитвенника, но их предшественники в 1782 году были людьми более точными, а их обязанности определял закон. Таким образом, дрожа от холода, пастор Уорса должен был начать следующим образом: «Аз есмь воскресение и жизнь, говорит Господь; а кто верует в меня, пусть даже умрет, но жить будет, а пока верует в меня, то не умрет никогда. Бог дал, Бог взял и да будет благословенно имя Его».
Так продолжалось, пока на гроб не упали первые комья земли: «…а посему поверяем ее тело земле, земля к земле, пепел к пеплу, прах ко праху, с твердой и непреклонной надеждой на Воскресение».
Можно предположить, что муж, полный скорби, должен был осознать свою утрату и придал своему трауру соответствующее выражение. Однако же он не установил надгробия на могиле своей жены и лишь из церковных записей нам известно, что к моменту смерти ей исполнился сорок один год. После нее не осталось ни одного письма и до сих пор она остается для нас фигурой таинственной. Невозможно узнать, чем была мать для Хорнблауэра, но из того, что он когда-либо о ней вспоминал, можем предположить лишь чувство вины за то, что он в столь малой степени ощутил ее уход. Немногим больше мы знаем о Якове, мы видим его невезучим и неудовлетворенным мечтателем, обладающим определенными достоинствами, однако лишенным той амбиции, которая характерна для его отца и братьев. Его «Травник» оценивается специалистами как труд незначительной ценности, по большей части заимствованный у других авторов. Что касается граверных работ, то они были всего лишь его хобби, одним из многих, ни одно из которых не приносило ему дохода, зато каждое из них отрывало его от профессиональных занятий. К Горацио он относился рассеянно и истерично, а ранним воспитанием мальчика на практике занималась Жаннет, которая, однако, вышла замуж через год после смерти его матери. Горацио не помнил даже имени той, кто пришла ей на смену.
С последними словами: «Милость Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога и присутствие Святой Троицы да будет с нами. Аминь», — похороны подошли к концу. Маленькая группа расступилась и направилась к дому, бредя по снегу и стараясь укрыться от ветра. Яков Хорнблауэр привел шуринов обратно в дом, где жил и принимал пациентов, и из которого час назад похоронная процессия тронулась на кладбище. Одно несомненно — там было подано красное французское вино с пряностями, которого гости очень ждали. Теперь мы должны прояснить постоянно возникающий вопрос о точном месте рождения Горацио. Местные предания по этому вопросу высказываются твердо, но неоднозначно. Историки из Сандвича и Дилла исследовали этот вопрос в научных обществах, причем некоторые указывали на Фэррьерс Коттедж, а другие — также уверенно — настаивали, что Яков жил в доме, в котором позднее разместился городской магазин. Теоретически можно было бы закончить эту дискуссию ссылкой на документы на право собственности, но Яков, скорее всего, был просто нанимателем и вообще никакой недвижимостью не владел. Во времена ныне покойного Джона Лэйкера на страницах «Дилльского Меркурия» завязалась нудная переписка между теми, кто придерживался в этом вопросе мнения Притчарда, и теми, кто был на стороне Лэйкера (См. Дж. Лэйкер, «История Дилла». Дилл, 1917 г., приложение VII). Дискуссия эта получила название «Битвы за свиное корыто», поскольку могло показаться, что большинство аргументов касалось того, было ли во дворе дома корыто для свиней, или нет — ибо известно, что маленький Горацио любил играться в этом самом корыте, представляя себя потерпевшим кораблекрушение в открытой шлюпке… существует множество доказательств, что он мог проделывать это в Фэррьерс Коттедж, однако невозможно доказать, что это было невозможным и в другом доме. К сожалению, даже каменное корыто не является столь постоянным предметом пейзажа, как это предполагают некоторые историки — его можно передвинуть, продать или разбить. Если бы мы все основывались исключительно на месте расположении этого предмета, то нам пришлось бы дискутировать о месте рождения адмирала до бесконечности. Однако существует один документ, которым исследователи пренебрегли, который проясняет дело и при этом удовлетворяет обе стороны. В приходской книге существует запись о смерти в 1764 году Сэмюэля Хьюсона, аптекаря. Это свидетельствует о том, что Яков прибыл в Уорс в качестве помощника Хьюсона и унаследовал практику после его смерти. Значит, он жил вместе с Маргарет в Фэррьерс Коттедж (который был построен в 1723-м) с 1759 по 1764 года, а затем переехал в более просторный дом. Таким образом, Горацио родился уже по новому адресу, но и те, кто полагает, что Яков жил в Фэррьерс Коттедж, также правы. Он действительно жил там в течение пяти лет, однако это было еще до рождения его сына, единственного из оставшихся в живых детей. Кстати сказать, приходская книга говорит, что Маргарет родила еще двух дочерей, одну из них — в 1767 году, но обе девочки умерли еще в детстве. Горацио никогда не вспоминал о них и мог вообще не знать об их существовании.
Горацио говорил о себе, как о «сыне доктора», и при этом лишь немного преувеличивал, если говорить про общественное положение отца. В восемнадцатом веке аптекарь был чем-то средним между сегодняшним аптекарем и врачом общей практики. С 1617 года существовало Лондонское Общество аптекарей, членство в котором зависело от результатов сдачи квалификационного экзамена. Однако власть этого Общества не распространялась за пределы Лондона и специалистом, подобным Якову Хорнблауэру, можно было стать и после нескольких лет работы помощником аптекаря в провинции. Положение в обществе у врача было выше, нежели у аптекаря, особенно, если врач обладал университетским дипломом. Более того, тогда, также как и сегодня, врач использовал титул «доктора» (хотя обычно не имел этого ученого звания), что гарантировало ему позицию «джентльмена». Но врачей было немного, а их консультации стоили относительно дорого, так что большинство людей с небольшими недугами предпочитали направляться к аптекарю. Аптекарь, который внимательно относился к больным, мог иногда рассчитывать на обращение «доктор», может и в шутку; он мог быть настолько близок к докторату, насколько ему это было необходимо. Отличие Якова Хорнблауэра от сегодняшнего заключалось в том, что состоятельные пациенты посылали за ним чаще, так что ему приходилось проводить на коне больше времени, нежели за письменным столом. Те, кто победнее, приходили к нему на дом, но чаще всего вынуждены были довольствоваться советами его помощника. Сравнивая положения врача и аптекаря в Англии восемнадцатого века, мы все же должны помнить, что ни того, ни другого землевладелец не приглашал к себе на обед, и обоих можно было накормить в людской.
Что же касается местечка Уорс, то владельцем его во времена похорон матери Горацио числился Карл Мэтсон, личность, как мы уже убедились, не слишком значительная. Знаем, тем не менее, что Горацио, как и иные мальчишки, вынужден был снимать перед ним шапку. В конце концов, он был просто сыном мелкого служащего и был вынужден вести себя соответственно. Если же он уже начинал думать о себе иначе, то благодаря дяде Томасу и дяде Джорджу, потому-то наша история и начинается с похорон миссис Хорнблауэр. Именно при этом событии мальчик смог ознакомиться с основами иерархии общества. С этой минуты он впервые начал считать себя джентльменом. Ведь он же был племянником Джорджа Роусона, эсквайра! В конце концов, он понял бы, что 77-й пехотный полк не был особо привилегированным, что нетрудно было получить офицерский патент во время войны и что не стоило надеяться, что сорокалетний поручик мог рассчитывать на повышение в звании. Пока, возможно, мальчику было вполне достаточно того, что его дядя носит саблю. Второй дядюшка сабли не носил, но его одежда и манеры производили — неким другим образом — еще большее впечатление. Он был, по крайней мере, отражением, если не представителем, мира богатства и утонченности. Хотя сам и не занимал высокого положения в обществе, он, тем не менее, мог небрежно упомянуть о своих знакомых, сэре Лайонеле и сэре Фергюсе. Сомнительно, конечно, чтобы они в равной мере часто вспоминали о нем, однако оба несомненно знали о его существовании — в роли поставщика морского имущества либо в роли помощника судовладельца по снабжению, дядя был широко известен в кругах, в которых вращался.
После похорон оба дяди исчезли, направившись каждый в свою сторону, а маленький Горацио начал жить жизнью местечка. Он мало видел отца днем и ненамного больше — вечером. У Якова Хорнблауэра была мастерская, в которой он и запирался, занимаясь гравированием или таксидермией — набиванием чучел, а также разными механическими изобретениями. Насколько известно, он никогда ничего не запатентовал, однако постоянно находился «буквально в шаге от великого открытия». Раз в неделю он привык играть в вист с викарием (мистером Пеннингтоном) и женой викария. При жизни Маргарет была четвертым партнером, но ее смерть едва не лишила Якова его еженедельного отдыха за картами. Примечательно, что во всем местечке не было больше ни одного взрослого игрока в вист; так что было просто необходимо сделать из Горацио четвертого партнера для игры. Таким образом, он научился играть в вист уже в детстве — и к тому же у игроков, которые относились к этому занятию очень серьезно. Наверняка мальчик также ходил в местечковую школу, так как рано выучился читать и писать. Возможно, дома были какие-то книги, поскольку Яков был человеком образованным, а еще больше книг, скорее всего, можно было взять почитать у викария. О том, какие книги были в распоряжении мальчика, мы можем судить по тем, которые он сохранил. Когда Горацио умер, в его библиотеке было найдено несколько потрепанных томиков, причем некоторые из них носили на титульном листе образцы его ученической еще подписи.
Известно, что первой из книг Горацио Хорнблауэра стал «Синопсис четвероногих», составленный Томасом Пеннантом и опубликованный в Честере в 1771 году. Подпись на титульной странице этой книги является, возможно, самой ранней пробой его пера и относится к 1783 году. Можно предположить, что книга эта, в определенной степени, должна была отражать интересы Якова, который, как нам известно, был немного натуралистом. Другими книгами, составляющими собственность маленького Горацио, были: «Исторический и хронологический театр» Кристофера Гельвикуса, Лондон, 1687; одиночный том «Британии» Камдена, 1701 (с разделом про графство Кент) и «История долгой неволи и приключений Томаса Пеллоу в южной Берберии», второе издание, около 1740 г.; «Театр современной войны в Нидерландах», Дж. Бриндли, Лондон, 1746; «История кораблекрушения и счастливого спасения Захарии Павлина, рассказанная им самим», Бристоль 1759; «Путешествие капитана Томаса Фореста в Новую Гвинею и на Молуккские острова», Дублин 1779; «Дневник последней и важнейшей блокады и осады Гибралтара» Сэмюэля Ансела, Эдинбург 1786. К «Театру современной войны» Бриндли было приложено «Введение в искусство фортификации». Этот фрагмент был заложен листком бумаги, покрытым мальчишеским почерком Хорнблауэра, сбоку на котором была сделана следующая надпись: «Фортификацию определяют как искусство применения Доктрины Чистой Тригонометрии для расчета укреплений, стен и бастионов Форта». Горацио не обратил внимания на Кристофера Гельвикуса и на прекрасное начало его «Хронологии», которая начинается словами: «Сотворение мира, которое должно было завершиться еще прошлой осенью, закончилось в семь дней». Очевидно, мальчик уже тогда предпочитал заниматься тригонометрией в приложении к военному искусству.
Если среди этих книг какая-либо и выделяется, то это, конечно, «История кораблекрушения Захарии Павлина», которая помогает нам понять игру в жертву кораблекрушения, которую Горацио устраивал, используя в качестве шлюпки свиное корыто. От этого же, самого раннего периода его жизни, осталась небольшая картина маслом, представляющая поврежденный корабль и мальчика, ожидающего спасения. Очевидно, он раздобыл эту картину для украшения своей спальни. Сюжет, представленный художником, не вполне ясен, но, очевидно, должен был увлечь мальчика, представлявшего, глядя на него, целый ряд событий, которые могли привести к возникновению этой ситуации. Однако стоит быть осторожнее и не придавать слишком большого значения именно такому набору книжек. Возможно, конечно, что мальчик с детства интересовался морским делом и именно эти книжки решил сохранить. Однако возможно также, что у него было и много других, которые он позже выбросил или кому-нибудь подарил. Не можем закончить исследование литературных вкусов Горацио без того, чтобы не обратить внимания на то, что Томасу Пеннанту, автору первой книги, на которой видна подпись Хорнблауэра, настолько повезло, что его отметил сам д-р Сэмюэл Джонсон. Босуэлл описал сцену, в которой Джонсон прервал оживленную беседу группы своих приятелей неожиданной фразой: «Пеннант рассказывает о медведях!» Те разговаривали дальше о чем-то другом, а он все цеплялся за свой рассказ о медведях и слово «медведь» служило звуковым сопровождением ко всему, о чем шла речь. Главу Пеннанта о медведях можно найти в его «Синопсисе» — книге, которая была собственностью маленького Горацио.
Единственной из перечисленных книг, которую Горацио мог раздобыть в качестве нового экземпляра, прямо из типографии, была «Осада Гибралтара» Ансела, которая в те времена, вероятно, была бестселлером. Другие книги он не столько выбирал в библиотеке, сколько добывал в развалах на рынке Сандвича. Сандвич удален от Уорс приблизительно на две мили и Горацио ходил туда еще мальчиком. Великие дни этого города как морского порта к тому времени уже принадлежали далекому прошлому, и в нем можно было найти немного исторических памяток. Зато в неполных четырех милях в противоположную сторону лежал город Дилл, расположенный прямо напротив Даунс. Здесь, между берегом и отмелью Гудвин, раскинулся обширный хорошо защищенный рейд, с глубинами от восьми до десяти саженей. Именно здесь парусники обычно собирались в конвои или ожидали попутного ветра. Собственно порта здесь не было и нет, а с берега на суда можно было попасть с помощью перевозчиков из Дилла. Они использовали так называемые «дилльские люггеры» или большие открытые лодки с обшивкой внахлест; и те, и другие спускали по деревянным брусьям, уложенным на крутом пляже, и таким образом форсировали прибой. О перевозчиках из Дилла, с одной стороны, поговаривали, что они здорово наживались на пассажирах, в интересах которых было побыстрее добраться на берег или на борт судна, с другой же стороны, они славились отвагой и морской выучкой, когда спасали людей с судов, разбившихся на отмели Гудвин. Об этом, в частности, пишет Уоррингтон Смит: «Нет на свете занятия более опасного, чем спасение людей с судна, которое разбилось на мели, подобной Гудвинской. Сверхъестественную мощь и ужас длинной линии разбивающихся волн прибоя, которые поднимаются пенистыми водопадами на высоту двадцати футов и гонят со скоростью тридцати миль в час, пока песок не остановит их разбег, могут представить себе только те, кто когда-либо побывал среди них и остался живым. Огромные волны, разбивающиеся и воющие среди вихрей, их вершины сдувает ветер и несет на подветренную сторону сплошными потоками воды, а сразу же после этого, когда они встречаются с длинной линией прибоя, выстреливают на сорок футов вверх, еще более увеличивая страшную опасность, в которую попадает лодка спасателей или любая, осмелившаяся вторгнуться сюда. Сплошной клубок приливных течений, бегущих со скоростью четырех-пяти узлов, густая шапка морской пены, докучливый дождь, давящий, предательский ветер и грохот полощущихся парусов — все это усиливает ужасный хаос».
В те времена еще не было специальных спасательных лодок, и именно перевозчики Дилла, Уолмера и Рамсгейта занимались спасением на море. Конечно, они заботились и о вознаграждении за спасение, но что касается их героизма, то тут уж двух мнений быть не может. Когда на море шторм, вполне естественно искать укрытие, но специально выходить в море во время бешеного шторма — это совсем другое дело, а ведь именно этим занимались обычно перевозчики из Дилла. Многое они могли рассказать об этом, когда уже были на берегу и, конечно же, еще больше было выдумок на эту тему, к которым маленький мальчик должен был прислушиваться.
Если говорить точнее, перевозчики и моряки — не одна и та же профессия. Тем не менее, некоторые жители Дилла уходили в море, а некоторые весь век жили в родной местности. Один из них, Том Гэммон (отец одного из лоцманов, указанных в «Кентском проводнике» 1780 года) служил, как сам рассказывал, под командой адмирала Вернона. Поскольку Вернон в последний раз выходил в море в 1745 году, то это было вполне возможным, и Том вполне мог принимать участие во взятии Портобелло. Все ли его истории были правдивыми — это уже другой вопрос, поскольку некоторые из тех, которые он рассказывал о Верноне, уже рассказывали раньше об адмирале Бенбоу. Однако он наверняка был опытным моряком и к тому же любил поболтать — если, конечно, находились желающие его послушать. Приписывал Вернону анекдот про капитана, который хотел навестить Лондон, но адмирал разрешил ему удалиться от корабля только на то расстояние, на которое его могла отвезти корабельная шлюпка. И — по его словам — именно Вернон был тем самым капитаном, который приказал погрузить шлюпку на телегу и отправился в Лондон, сидя в шлюпке, но — по сухопутью. На самом же деле капитаном, который грозился, что так сделает, был Бешеный Монтегю, когда служил под началом сэра Эдварда Хоука. Другая история, которую рассказывал Том Гэммон, на сей раз верно приписывая ее достопочтенному Уильяму Монтегю, касалась голландского судна, затонувшего в порту Портсмут. Вышедший на берег Монтегю увидел двенадцать трупов голландцев, лежавших на песке. Тогда он приказал своим людям, чтобы они засунули руки голландцев в карманы. После того, как это было сделано, Монтегю разыскал в кабачке «Проспект» голландского капитана, которому все выражали свое сочувствие, и возложил всю вину за катастрофу на голландский экипаж: «Черт бы побрал этих неуклюжих бездельников, которым было лень вытащить руки из карманов даже для того, чтобы спасти себе жизнь». И поспорил на дюжину бутылок вина, что каждый из членов экипажа, выброшенный на берег, все еще держит руки в карманах. Когда разъяренный голландец принял заклад, официанта послали проверить, так ли это. Возвратившись, тот подтвердил, что капитан Монтегю говорит правду. «Ну, — изрек достопочтенный Монтегю, — не говорил ли я вам, что им было лень даже спасаться?»
Наверняка рассказывали и другие истории о разбитых кораблях и необитаемых островах, о пиратах и зарытых кладах. И вне зависимости от рассказов происходили еще и драматические события, свидетелем которых мог быть маленький Горацио. Голландское судно из Вест-Индии разбилось под Диллом в июле 1783 года. В сентябре того же самого года транспорт «Свифт», следовавший к берегам Новой Шотландии со ста пятьюдесятью заключенными на борту, зашел в Даунс. Осужденные взбунтовались, обезоружили офицеров и экипаж, а около полусотни из них сбежали на берег в лодках. Однако всех их схватили и доставили обратно на судно. Еще более важными, хотя и более удаленными, были заключительные фазы американской войны за независимость. Приходили известия о битве при островах Сент и о помощи Гибралтару. Наконец пришли известия о заключении мира. Когда позднее распустили экипажи, появилось много анекдотов про адмирала Хоу и адмирала Родни. Французы, хотя и могли себе воображать, что ловко обдумали тактическое маневрирование и стрельбу в тот момент, когда при качке борт корабля поднимался на волне, в конце концов были разбиты.
Горацио воспитывался на побережье Кента, где ежедневно слушал разговоры про последнюю войну. Неизвестно, насколько часто он слышал далекие пушечные залпы, но ведь Уорс лежит всего в двух с небольшим милях от моря. Достаточно было только пройти или пробежаться до фермы «Под голубыми голубями», а затем вниз до берега, лежащего против маленького Даунса, к пристани для мелких торговых судов. Там всегда что-нибудь, да и происходило, а временами — до самого горизонта — виднелись суда, стоящие на якоре.
В 1785 году Горацио начал ходить в школу сэра Роберта Мэнвуда в Сандвиче. Школу эту организовал выдающийся гражданин Сандвича в 1563 году. Сначала это было процветающее заведение, хорошо обустроенное и снабженное, а однажды его даже посетила королева Елизавета. К сожалению, еще в семнадцатом веке все английские общеобразовательные средние школы вышли из моды, и в то же время начало иссякать благополучие Сандвича. Началось строительство более крупных судов, так что более старые порты, находящиеся в глубине суши в верхнем течении судоходных рек — такие, как Йорк, Эксетер, Честер и Ипсвич — начали уступать место портам глубоководным, таким как Гулль и Плимут, Ливерпуль и Гарвич. В то время как Дилл разрастался, Сандвич хирел, и местные власти время от времени просили короля, чтобы тот как-нибудь помог исправить ситуацию. Но король ничего не мог с этим поделать, даже если бы и хотел, и около середины восемнадцатого века жизнь в Сандвиче фактически замерла. То же случилось и со школой, руководителем которой в 1758 году стал преподобный Джон Конант. Причитающееся ему на этом месте содержание — триста фунтов в год, воистину княжеская плата в 1563 году — к тому времени уже была не слишком привлекательна. Такое же жалование, например, получал каждый из гребцов таможенной барки, а работники окружной администрации получали еще больше. Так что Джон Конант увеличил свои доходы, оставшись пастором у св. Павла в 1766 году. Обе эти должности он и занимал до самой своей смерти в 1811 году. Когда Горацио застал его учеником, Конант обучал около двенадцати мальчиков. Он учил их латыни и математике, а те, кто постарше, учили еще и греческий, если конечно, оставались школе достаточно долго. Мало-помалу количество учеников уменьшалось, и к 1804 году их вообще не стало; в том же году Конант покинул школу и куда-то переехал. В ту пору ему было уже семьдесят лет, и местные власти имели все основания жаловаться — как, впрочем, они и жаловались — на то, что уже многие годы он ничего не делал. В 1785 году пренебрежение Конантом своими обязанностями, по крайней мере, не бросалось в глаза, а его ученики с трудом брели сквозь Цезаря и Тацита, а иные — сквозь Вергилия и Ксенофонта. Однако если Горацио и обладал некими способностями, то это были способности к математике, а Конант подвел его только к началам плоской тригонометрии, что, скорее всего, составляло предел его собственных скромных возможностей.
Школа сэра Роджера Мэнвуда ожила в 1895 году, а сегодня является цветущим научным заведением, соединяющим старые традиции с современными удобствами. К сожалению там не хватает данных о периоде упадка школы. Поэтому нет списка учеников 1785–1792 гг. и нам известно только одно имя старого школьного товарища Хорнблауэра. Это имя Питера Холлбрука. О нем самом известно достаточно многое, так как он написал и опубликовал свои дневники («Автобиография Питера Холлбрука», Кэнтерберри, 1838 г). Его собственная жизнь была лишена практически каких-либо значительных событий, и он никогда не достигал никаких должностей выше, чем должность заместителя почтмейстера в Дилле. О своих школьных годах рассказывает немного, но следующий отрывок (на стр. 27) представляет для нас интерес: «Я был частным учеником ныне умершего Джона Конанта, руководителя средней школы в Сандвиче. Школа уже не была на хорошем счету, а мистеру Конанту не хватало той энергии, которую позже развил преподобный Уильям Уодсворт. Для тех, кто хотел учиться, он, тем не менее, был хорошим преподавателем, и несколько его воспитанников позже поступили в университет, поскольку бегло знали латынь и немного — греческий. Однако лишь про одного можно сказать, что он действительно прославился — этим мальчиком был теперешний адмирал лорд Хорнблауэр. Он был моложе меня на два года и я вспоминаю его молчаливым и спокойным пареньком, слабым в других предметах, но сильного в расчетах. При крещении ему было дано имя Хорас, над которым мы немилосердно насмехались, как это водится среди мальчишек, но он уже тогда предпочитал называть себя Горацио. Он был несколько неуклюж и, похоже, не слишком-то охотно участвовал в забавах, которыми мы занимались после занятий. Хотя обычно он вел себя весьма достойно, например, когда был одним из обвиняемых в какой-то проделке во время «Ночи Гая Фокса». Будучи самым младшим из тех, в отношении которых велось следствие, он, тем не менее, высказался в их защиту и — о чудо! — ему удалось доказать их невиновность.
Позже мы все задумывались, не случайно ли они избежали наказания. Возвращаясь памятью к тем годам, проведенным в старом школьном доме на Кэнтерберри Роуд, размышляю над милосердием Божьим, который позволил мне познать в то время свое Священное Писание; ведь без этого я никогда бы не задал себе торжественный вопрос: «Что я должен сделать, чтобы спастись?» Страх перед Творцом есть началом всякого знания, но те, кто боится Бога, ведомы тайной волей… и т. д., и т. п.».
Вот и все, что мы узнаем от Питера Холлбрука, книга которого, помимо этого, наполнена банальностями и морализаторством. Немногие замечания, которые он высказывает в адрес Горацио, тем не менее, согласуются с тем, что нам известно из других источников. Например, это правда, что маленького Горацио окрестили именем Хорас, однако теория, что его симпатия к имени Горацио возникла из восхищения, которое питал к лорду Нельсону, скорее всего, ошибочна, так как он сменил имя еще задолго до того, как Нельсон прославился. Итак, у нас сформировался образ одинокого мальчика, живущего своей собственной жизнью, мечтающего о будущих успехах и намеренно сторонящегося школьных друзей. Может, это знаменательно, что никогда в позднейшей жизни он не вспоминал о ком-либо, с кем был дружен с самого детства, но, несмотря на это, настоящая нужда проявила в нем прирожденного лидера. Мы многое дали бы за то, чтобы узнать, каким образом Горацио опроверг обвинения утром 6 ноября. Можно предположить, что уже тогда он решил сделать карьеру в Королевском флоте под влиянием Тома Гэммона и других старых моряков, вдохновляемый свежими известиями о победах Родни и надеясь на свои успехи в математике. Однако представляется сомнительным, чтобы в этот период он принял окончательное решение. Планы у мальчишек меняются чуть ли не каждую неделю, тем не менее, существует вероятность, что в то время Горацио скорее думал о карьере в Вест-Индской компании. Если он когда-либо мечтал об армии, то должен был расстаться с этими мечтами в 1787 году, когда пришла весть о смерти дяди Джорджа. 77-й полк был направлен в Вест-Индию, где Джордж Роусон и скончался от желтой лихорадки. Так что все оставшиеся надежды должны были сосредоточиться вокруг дяди Томаса. Вне зависимости от этого, Военно-морской флот во время мира представлял очень смутные перспективы. Необходима была протекция, чтобы получить первое назначение, еще более сильная протекция, чтобы приобрести офицерский патент и терпение порой целой жизни, чтобы получить под командование первый корабль. В кампании было немного кораблей, а большинство служивших на них офицеров происходило из семейств, связанных с Королевским флотом; это были люди, служившие с Ансоном или Хоуком. В военном флоте мирного периода не было будущего для сына аптекаря из нищего местечка в Кенте.
В 1789 году пришли вести о революции во Франции. События на континенте могли не иметь особого значения для большинства английских графств, однако Кент отличался от остальных тем, что с его побережья можно было (иногда) видеть Францию. Французское дворянство начало появляться в Кале, так же, как столетием ранее там начали появляться гугеноты. Первыми прибыли люди предусмотрительные и хозяйственные, сменившие поместья на ценности, которые можно было реализовать значительно легче. После них прибыли те, кто не планировал бегства, однако успели взять с собой хотя бы то, что смогли упаковать. Последними появились люди, бежавшие от ареста, в том, что на них в этот момент было. Позже — фантазируя — все выдавали себя за аристократов или аббатов, но большинство не было ни теми, ни другими. Некоторые просто до конца были преданы своему королю и церкви, а другие были просто скромными людьми, не переносящими революции и кровопролития. По прибытии в Дувр и Дилл большинство из них двинулось дальше — в Лондон, однако кое-кто осел в Кенте, надеясь, может быть, что судьба переменится и позволит им вернуться на родину. К первым и самым робким беженцам принадлежал мсье Гюстав Лапорт, холостой правовед, который собирал арендную плату для дворян в окрестностях Аббевилля. Будучи человеком нервным, он прибыл в Рамсгейт еще перед падением Бастилии, а оттуда перебрался в Сандвич, в поисках более дешевого жилья. Там он и осел в качестве учителя французского языка, музыки и танцев, зарабатывал таким образом себе на скромное проживание и старался оставаться в хороших отношениях с мистером Конантом, который, к счастью, не обучал ни одному из предметов, предлагаемых мсье Лапортом. Похоже, осенью 1791 года Гюстав заболел и вызвал в качестве лекаря Якова Хорнблауэра. Не будучи в состоянии заплатить аптекарю за его заботу (поскольку с появлением болезни исчезли заработки), Лапорт предложил ему, что, после того как выздоровеет, отработает свой долг. Поскольку Яков никаким другим способом не мог получить свой гонорар, он послал к французу Горацио в обучение. Однако уже в первый же день оказалось, что Горацио абсолютно лишен слуха и не может отличить одну ноту от другой. К тому же он был неуклюж в танце, и кроме церемониального поклона, которым джентльмен приветствует партнершу в менуэте, немногому научился. Гораздо более многообещающими представлялись его способности в изучении французского языка. Под конец 1792 года — последнего года в школе в Сандвиче — он неплохо освоил словарь и неплохо формулировал фразы, но при этом имел ужасный акцент. Он гораздо лучше читал, чем говорил, и некоторые французские книги, которые Горацио приобрел в это время, остались в его библиотеке даже после его смерти. Одна из них называлась «Новейшее описание замков и парков Версаля и Марли» Пиганьолли де ла Форса, изданная в Париже Библиотекой Шез Омон, что на площади Коллежа Мазарини, в 1764 году, однако Хорнблауэру достался лишь первый том и то без обложки. Другой книгой на французском, которую Горацио раздобыл в это же самое время, была «История и приключения флибустьеров» Александра-Оливье Эксквемелина, изданная в 1775 году. Он изучил оба тома этого произведения, а на полях записывал значения некоторых технических выражений. В описываемое время мальчик приобрел многие (но не все) навыки студента.
Отец Хорнблауэра неожиданно умер 11 января 1793 года. Причина его смерти осталось неизвестной, но умер он скорее вследствие болезни, нежели несчастного случая. Теперь Горацио Хорнблауэр стал полным сиротой и должен был — насколько мог — заняться погребением. Тогда же он написал Томасу Роусону. Тот приехал несколькими днями позже и принял обязанности душеприказчика. Имущество, которым ему предстояло распорядиться, состояло лишь из небольшого количества мебели и книг, старой лошади с седлом и полной сбруей, лекарств и склянок, составлявших содержимое аптеки, и репутация не слишком-то прибыльной практики. Получив за все перечисленное чуть более двухсот фунтов, дядя теперь должен был задуматься о том, что дальше делать с Горацио. Человек более доброжелательный и женатый на более симпатичной женщине, по всей вероятности, забрал бы Горацио с собой в Лондон. Томас не собирался этого делать, однако, хотя бы только из заботы о собственной репутации, не мог позволить, чтобы его племянник голодал. Почти наверняка размышлял над тем, чтобы обеспечить мальчику место практиканта на одном из судов Вест-Индской компании, однако шестнадцатилетний Горацио был еще для этого еще слишком молод — необходимо было ждать еще целых двенадцать месяцев, а кроме этого, он должен был еще расширить свои знания математики. Школа сэра Роджера Мэнвуда в данном случае не подходила, — хотя бы из-за того, что при ней не было интерната. Лучше всего было бы отдать мальчика на год в Королевскую школу в Кэнтерберри, на что мистер Роусон и решился. Последовал обмен письмами и Горацио выехал в Кэнтерберри дилижансом Джона Шнеллера, который совершал этот рейс по понедельникам и пятницам. Исполнив свой долг, хоть и не совершив, без сомнения, ничего более, мистер Роусон возвратился в дом на Портмен Сквер. Если бы его кто-либо обвинил в невыполнении каких-либо обязанностей по опеке над сиротой, смог бы оправдаться тем, что у него были и иные дела. Король Георг как раз собирался начать войну с Францией.
Сегодня мы привыкли к процедуре, в соответствии с которой высылается ультиматум, утверждающий, что отсутствие удовлетворительного ответа в определенный срок будет означать начало военных действий с такого-то времени (по Гринвичу) в такой-то день. В восемнадцатом веке подобные действия, по понятным причинам, не были столь точными. Возвращение мистера Роусона в Лондон совпало с посланием короля, потребовавшего от парламента увеличения вооруженных сил на суше и на море. Мистер Питт, зачитывая это послание, уведомил обе Палаты, о том, что война вполне возможна. Людовик XVI был казнен 21 января, а известие об этой казни достигло Лондона 23 января. Французскому послу было приказано, чтобы он уже на следующий день покинул Королевство. Тот заявил, что Франция будет считать это объявлением войны. Французское посольство размещалось на Портмен-сквер, и наверняка чета Роусон наблюдала за погрузкой экипажей, когда маркиз де Шавелен готовился к отъезду. Эти же самые экипажи в Кэнтерберри мог наблюдать и молодой Горацио, а гражданин Шавелен (как мы теперь должны будем его называть) прибыл в Дувр 29 января. Его возвращение во Францию стало для французского правительства сигналом к объявлению войны уже 1 февраля. Парламент был официально информирован об этом королевской нотой от 11 февраля. Тогда-то, собственно, и началась война, однако только 13 марта 18-пушечный бриг «Бич» захватил французский корсарский 12-пушечный корабль «Санкюлот» у островов Сциллы. И только позже в том же году фрегат «Нимфа» (36 пушек) под командованием Эдварда Пеллью, победил и захватил французский фрегат «Клеопатра» с идентичным вооружением. Пеллью, герой дня, был произведен в рыцарское достоинство почти сразу же после того, как сошел на берег.
Адмиралтейский Совет оказался перед проблемой обеспечения командами кораблей, которые срочно надлежало привести в боевую готовность. Этот процесс начался еще в декабре, флагманские корабли были укомплектованы в январе и их Лордовские Светлости назначили капитана Горацио Нельсона командиром «Агамемнона» 31 числа того же месяца. Достопочтенный Ричард, граф Хоу (которому было 67 лет) должен был командовать флотом в канале Ла-Манш, лорд Худ — на Средиземном море. Вышел также королевский указ, уполномочивающий командование издавать приказы о принудительной вербовке матросов. Капитанов было достаточно, и Томас Роусон полагал, что кузен его супруги, Роберт Кин, сможет получить командование «Юстинианом» (74 пушки). Однако миссис Роусон считала, что Роберт обладает слишком слабым здоровьем и сделает лучше, если постарается получить должность на верфи. Он, также как и пятьдесят других капитанов, не знали, с чего начать, чтобы раздобыть команду. Даже в мичманах временно ощущалась нехватка. За двенадцать месяцев усиленной работы предстояло ввести в кампанию восемьдесят пять линейных кораблей, а фрегаты, которых было более сотни, нужны были еще более срочно для защиты торговли. К счастью, французам пришлось столкнуться с еще большими трудностями, и нужно было полагать, что они будут готовы к борьбе не ранее лета 1794 года.
Идея поместить молодого Хорнблауэра на кормовой палубе «Юстиниана» была столь очевидной, что можно было только удивляться тому, что с ее реализацией так долго тянули. Конечно, назначение на судно Вест-Индской компании было одолжением, которое нетрудно было получить человеку с положением мистера Роусона, тем не менее, это все же было одолжением, за которое в будущем он должен будет отблагодарить. Получить же подобное назначение в Военно-морском флоте, тем более во время войны, было сравнительно легче, поскольку Военно-морской флот рос, а Вест-Индская компания — нет. Трудность и затягивание времени в этом случае были вызваны определением соответствующего мальчику статуса. Капитан Кин предложил чете Роусон устроить его на должность командирского стюарда или волонтера первого класса, жалование которого на флоте составляло восемь фунтов в год, минус пять фунтов наставнику, буде таковой найдется на корабле. С другой стороны, мичман получал два фунта и девять шиллингов ежемесячно по третьей категории, что не хватало на удовлетворение его потребностей, однако вполне соответствовало его ценности. Гарриет Роусон настаивала на должности мичмана и, благодаря своей настойчивости, в конце концов, этого добилась. «Юстиниан» так и не был готов к боевому использованию даже до осени 1793 года и Горацио, которому сообщили об изменении планов, должен был приналечь на математику вообще и на сферическую тригонометрию в частности. Не знаем, что еще происходило в Королевской школе, но юноша его возраста, оказавшись среди мальчишек, которые уже несколько лет пожили вместе, должен был иметь нелегкую жизнь. Знаем только, что когда в декабре он покинул школу, то был сносным математиком, но плохим «греком». Горацио отправился дилижансом в Лондон, и Рождество провел на Портмен-сквер.
Это первое свое посещение Лондона Горацио главным образом посвятил подготовке экипировки для службы. Мистер Роусон был в хороших отношениях с портным и поставщиком с улицы Лиденхолл, который мог обеспечить все необходимое и по самым низким ценам. Парадный мичманский мундир должен был быть пошитым из голубого сукна, а сюртук с подкладкой из белого шелка был украшен золотыми пуговицами с якорями. На воротнике была белая нашивка, которую называли «недельный счет». Этот костюм дополняли панталоны и жилет из белой нанки, с соответствующим образом подобранными чулками и треуголкой. На каждый день нужна была короткая рабочая куртка и брюки, лакированная шляпа и лодочный плащ. Для холодных зимних дней начинающий офицер должен был запастись мохнатым теплым плащом. К этому основному комплекту следовало еще добавить комплект рубашек с жабо и чулки, учебники по теории корабля и навигации, секстан и (в качестве личного оружия) мичманский кортик, с рукоятью, обтянутой акульей кожей. Все это предстояло как следует упаковать в мичманский сундук, на крышке которого нужно было разборчиво написать имя владельца. Затем нужно было еще заплатить агенту командира семьдесят фунтов, с тем, чтобы мичман мог время от времени получать небольшие карманные расходы, из которых он оплачивал бы свои расходы по кают-компании младших офицеров. Все это поглотило деньги Хорнблауэра с большим запасом, и его дядя весьма неохотно доложил недостающую сумму из собственного кармана. Только после того, как Хорнблауэр уже вышел в море, мистер Роусон узнал о существовании двух других его дядей — по отцовской линии, Джонатана и Джейбза Хорнблауэров. Он установил с ними связь и получил от Джонатана часть годового содержания для Горацио. Эта сумма должна была выплачиваться на протяжении последующих четырех лет, причем родственником, которого Горацио до тех пор ни разу не видел. Тем не менее, в будущем он с лихвой вернул этот долг.
Когда приготовления были закончены, мистер Томас Роусон посадил Горацио в дилижанс, отправляющийся в Портленд, и дал ему рекомендательное письмо к капитану Кину. Затем дядя пожелал племяннику счастья и подождал, пока дилижанс не двинулся в путь. Он и без того сожалел о незапланированных расходах, а тут еще Гарриет огорчалась оттого, что мичманский мундир Горацио оказался не слишком-то хорош. Конечно, Томас был патриотом и пекся о пользе Королевского флота. Сейчас он как раз внес свой вклад в дело повышения обороноспособности своей страны. Мог ли он и дальше выплачивать мальчику его содержание — это был уже другой вопрос. Однако ведь было вполне возможным, что через год или два Горацио погибнет, как это часто случается на военном флоте во время войны, и при этом не нужно будет даже тратиться на похороны. Служба была тяжелой, а парень не производил впечатления особо крепкого. С другой стороны, всегда существовала вероятность получения призовых денег. Правда, их часть, приходящаяся на долю мичманов, была скорее невелика, зато существовала и возможность повышения, особенно в Вест-Индии. Если его туда пошлют, мальчик мог бы на некоторое время иметь обеспеченный быт. Одно было абсолютно ясно — добиться назначения Горацио на должность мичмана было тем максимумом, который позволяли возможности Роусонов, — такие или почти такие мысли вертелись, вероятно, в голове Томаса Роусона, когда он возвращался (пешком) на Портмен-сквер. Он не мог абсолютно ничего сделать, чтобы добиться для Горацио патента на чин лейтенанта. С этой минуты молодой человек обречен был окончательно — да, таки окончательно, — рассчитывать только на собственные силы.
2. Мичман
Прибытие лондонского дилижанса всегда было событием в жизни Плимута. Даже если три последних мили дилижанс ехал медленно, приближаясь к городу он всегда увеличивал скорость, и лошади почти галопом проносились под сводчатыми воротами. С треском бича и пением рожка дилижанс останавливался «У Георга», оставлял в ней почту и гражданских пассажиров, затем проезжал по Хай-стрит и далее под следующей аркой и по разводному мосту на бульвар. Повернув вправо доезжал до мыса, пробирался по узкой улочке прежде, чем задержаться у «Звезды и Подвязки», и, в конце концов, останавливался у таверны под названием «Голубые Столбы». Здесь и высадился юный Горацио и здесь же, у входа, сгрузили его морской сундук. Дилижанс повернул и поехал обратно в город, а Горацио, достаточно робко, вошел в кафе. Офицеров здесь не видали, гражданских — также нет. Это было прибежище мичманов. Каждый из юношей, находившихся здесь в тот памятный день, пил чай за двоих и уминал гренки за шестерых. На Хорнблауэра, как на явного новичка, никто не обратил ни малейшего внимания. Попивая чай в дальнем углу от камина, вокруг которого столпились остальные, Хорнблауэр мог впервые прислушаться к языку, на котором Королевский военно-морской флот разговаривал в 1794 году. Юноша уже слышал россказни старых моряков на побережье Дилла, но тут был Портсмут, и была война. Это был мир, о котором Горацио не мог знать абсолютно ничего.
Где бы люди ни собирались с какой-либо целью, обмениваясь с окружающими техническими особенностями своего ремесла, да еще перед лицом ежедневно грозящей им опасности, там всегда вырабатывается свой особый язык. Это не был просто язык войны — как это было здесь, на Портсмут-пойнт — но язык именно этой войны. Во время Второй мировой войны в Великобритании все разговаривали на каком-то странном сленге, но при этом у каждой службы был свой, особый арго, скажем, Язык Сигнальной ракеты или Сурового моря.
При этом официальные и технические термины дублируются выражениями сленга, которые известны лишь членам данной группы и действительно представляют барьер для непосвященных. Люди, которые выделяются самим фактом ношения мундира, смогут сразу же и безошибочно определить, принадлежит ли их собеседник, пусть даже одетый в точно такой же мундир, к избранному братскому кругу. Эти различные стили общения и даже наборы слов, в полной мере развились во время наполеоновских войн 1793–1815 гг., и развились тем сильнее, чем дольше длились военные действия. Во времена Нельсона молодые люди в Портсмуте отчаянно жаждали научиться этому языку и завоевать признание тех, кто уже побывал в огне сражений. Угрожающая им опасность была весьма реальной и придавала жизни острый привкус, пронзительное ощущение поспешности. То, чем мы наслаждаемся сегодня, завтра уже может просто не существовать, или завтра может просто не быть нас, чтобы этим наслаждаться. Мы живем гораздо интенсивнее, когда знаем, что нам грозит опасность и когда вспышки пушечных выстрелов видны прямо на горизонте. Именно такая жизнь и началась для Хорнблауэра в «Голубых столбах» в тот бурный день 1794 года.
Горацио добрался до «Юстиниана» в береговой лодке и представился вахтенному лейтенанту. «Юстиниан» был линейным кораблем третьего класса, построенным по тем же самым чертежам, что и «Громовержец». Сэр Томас Слэйд, строитель военных кораблей, был так доволен своим «Громовержцем», который был спущен на воду на Темзе в 1783 году, что построил целую серию однотипных кораблей, таких как «Тезей», «Рамилье», «Ганнибал» и другие. Все они явились на свет уже слишком поздно, чтобы принять участие в предыдущей войне. Одним из них и был «Юстиниан», спущенный на воду на Темзе в 1786 году. При водоизмещении в 1685 тонн и длине 170 футов 10 дюймов по батарейной палубе, он нес двадцать восемь 32-фунтовок и такое же количество 18-фунтовок на верхней палубе, четырнадцать 9-фунтовок на кормовой палубе и еще четыре на баке. Его экипаж должен был составлять пятьсот девяносто человек, в том числе — двенадцать мичманов. Они же, вместе с помощниками штурмана, фельдшером и писарем командира корабля, составляли общество кают-компании младших офицеров.
«Юстиниан» в то время был кораблем-неудачником, его командир Кин болел, а несколько лейтенантов были слишком старыми для действительной службы. Роберт Кин в свое время был хорошим офицером, получил патент в 1771 году, служил под флагом адмирала Хьюго в Вест-Индии и, будучи первым лейтенантом, был произведен в капитаны после битвы при Негапатаме. В 1783 году он был уволен со службы по инвалидности, с язвой желудка. Боли в желудке постоянно мучили его, и он от них так и не избавился. В 1795 году он отказался от командования и вскоре после этого умер. Первый лейтенант заболел почти в то же самое время: он пал жертвой скуки и дизентерии. Сам же «Юстиниан» был серьезно поврежден, после того как в 1797 году сел на мель, и закончил свое существование в Портсмуте в качестве обычной баржи.
Из-за трудностей с укомплектованием экипажа, «Юстиниан» оставался в Спитхеде, пока лорд Хоу не вышел в море 2 мая. Так что целых четыре месяца Хорнблауэр учился морской практике на корабле, стоящем на якоре. Для юноши то был период тяжких испытаний, так как над ним издевались. В мичманской кают-компании верховодил старший из мичманов, Джон Симпсон, крепко сложенный тридцатилетний мужчина, который постоянно проваливался на экзаменах на лейтенантский чин. В качестве самого младшего мичмана, неуклюжий и по природе своей несмелый, Хорнблауэр стал неизбежной жертвой садистских выходок Симпсона, дополнительно подогреваемого собственными неудачами. Кризис в их взаимоотношениях наступил в момент, когда оба они были в служебной командировке на берегу. Хорнблауэру удалось спровоцировать Симпсона на поединок, причем в условиях, которые позволяли ему выбрать оружие. Горацио выбрал пистолеты на расстоянии в один ярд, причем только один из них должен был быть заряжен, а дуэлянты не знали, какой именно. Это было необычное предложение, секунданты могли бы его отклонить, зато оно давало Хорнблауэру именно то, чего он хотел: возможность уравнять шансы. Другие мичмана считали, что это поможет им избавиться от тирании Симпсона. Дуэль действительно имела место, однако оба пистолета не выстрелили, а затем вмешались секунданты и прервали схватку. При этом оказалось, что ни один из пистолетов не был заряжен — так приказал командир корабля — и, таким образом, поединок удалось предотвратить. Результатом мог стать новый вызов, но это сделал невозможным капитан Кин, переведя Хорнблауэра на новый корабль. Джон Симпсон остался на «Юстиниане», который был одним из кораблей, выделенным под команду адмиралу Монтегю — и, таким образом, избежал участия в битве Достославного Первого Июня. Однако ему не пришлось еще долго мучить своих собратий по кают-компании. В начале июля Джон Симпсон выпал за борт из-за того, что лопнул перт фор-марса-рея. Происшествие случилось среди бела дня, при умеренном ветре и спокойном море, однако, создается впечатление, что спасательная шлюпка, которую спустили на воду, искала его не там, где было нужно. Подобные ошибки не являются чем-либо необычным и, если заглянуть в прошлое, иногда кажутся просто необходимыми.
Хорнблауэр же в то время был направлен не на «Неустанный», как то не без причины мог предположить его прежний биограф, а на плавбазу «Модест» в Портсмуте. Это был корабль, захваченный у французов в 1759 году и в то время используемый только в качестве плавказармы в порту Портсмут. Когда корабли, находящиеся в кампании, ставили в док, их экипажи на несколько недель переводили на «Модест» (или на «Эссекс», «Графтон» или «Уорспайт»). На плавбазах размещали также и новобранцев, схваченных во время принудительной вербовки и пока не распределенных на корабли, находящиеся в кампании. Другими временными гостями были офицеры, временно не имеющие назначений или, говоря иначе, «запасные», в том числе и те, кто вышел из госпиталя в то время, как их корабль находился в море. Командиром «Модеста» был старый офицер по имени Уильям Финч, который в бою потерял ногу и большую часть времени проводил на берегу. Заместитель командира, также ветеран, был почти совсем глухим. Повседневный распорядок на «Модесте» более или менее соблюдался, но, помимо уборки корабля, особых занятий не было. За поддержание порядка на «Модесте» и иных кораблях, постоянно находящихся в порту, в то время отвечал коммодор Джеймс Мак Таггард, который, в свою очередь, подчинялся адмиралу — коменданту порта. Коммодор был офицером честным, но его служба была столь же бездушной, сколь и бессмысленной. Ему была доверена миссия, которую никто, даже его начальник, не принимал всерьез. Дежурные шлюпки по его приказу совершали непрерывное патрулирование гавани, а сигналы с выговорами поднимались ежедневно, однако без видимого результата. Единственным дисциплинарным мероприятием, на выполнении которого он действительно мог настаивать, было собственно несение вахт. Все отдавали себе отчет, что это было действительно необходимо и пренебрежение вахтенными своими обязанностями могло привести к печальным последствиям, не исключая и трибунала. Однако до тех пор, пока с каждого из стоящих кораблей вахтенные окликали дежурную шлюпку, можно было в достаточной мере игнорировать все требования, касающиеся их внешнего вида и состояния. Длительное пребывание на плавказарме молодой мичман мог считать только поражением.
Капитан Кин не имел намерения наказывать Хорнблауэра. Скорее, он даже хотел, чтобы его перевели на фрегат, однако пока не было ни одного свободного места. А Кину было важно как можно быстрее разделить двух участников поединка. Однако непредвиденным следствием перевода было представление, что Хорнблауэра списали на берег за неспособность или неподчинение. Не располагая никакой протекцией на флоте, Горацио должен был некоторое время думать, что его карьера закончилась, не успев начаться. Если в то время юноша не впал в отчаяние, то за это он должен был благодарен старому корабельному плотнику с «Модеста», Тимоти Блаккету. Только последний среди всех старшин корабля действительно был постоянно занят работами по специальности. Правда, ему не приходилось заделывать пробоины от вражеских ядер, однако содержание такого старого корабля было само по себе занятием до конца жизни. К тому же Блаккет был настоящим мастером, человеком, влюбленным в свое дело, а «Модест» был когда-то прекрасным кораблем. Вообще, французские корабли были спроектированы лучше английских, хоть и не всегда лучше сконструированы. Хорнблауэр сопровождал Блаккета в его ежедневных обходах и познал все, что отличало «Модест» от кораблей, происходящих из английских верфей. Более того, плотник когда-то служил под флагом коммодора Джона Шенка (из Королевского Военно-Морского флота). В то время Шенка не было в Англии, поскольку он отплыл в Вест-Индию с вице-адмиралом сэром Джоном Джервисом, но Хорнблауэр узнал многое о нем и его помыслах, а попутно ознакомился с основами кораблестроения. Многому он научился также и у боцмана, Джошуа Смидли, который разъяснил ему значение каждого конца на корабле. Конечно, «Модест» обладал лишь стоячим такелажем, зато у боцмана было достаточно времени осмотреть его вместе с Хорнблауэром столь тщательно, как это никогда не удалось бы сделать в море. Так в ситуации, которая многих других молодых людей могла полностью выбить из служебной колеи, Хорнблауэр только выиграл, спокойно изучая основы своего ремесла. Хоть и не слишком ловкий по природе, он все же научился взбираться на мачты и превозмог первое чувство страха, с которым пришлось смотреть оттуда вниз, на далекую палубу.
На «Модесте» было трое лейтенантов, включая заместителя командира, а их единственными действительными обязанностями было несение вахт и поддержанием порядка на корабле. Им помогали два штурманских помощника и один мичман, на которых и приходились все тяготы службы. У заместителя командира, Нокса, был на берегу дом и требовательная жена. Два другие лейтенанта, Уоттертон и Бэйли, интересовались, главным образом, рыбной ловлей и игрой в шахматы. В качестве самого младшего офицера корабля, Хорнблауэру приходилось работать гораздо тяжелее, чем этого требовали его обязанности, в особенности когда остальные работали гораздо меньше, нежели им следовало. Юноша не жаловался на это и редко сходил на берег аж до апреля, когда «Неустанный» (64 пушки) встал в док. Это был один из остававшихся на службе кораблей устаревшего типа, и было принято решение снять с него одну палубу и, таким образом, превратить во фрегат. Мистер Блаккет взял с собой Хорнблауэра, чтобы тот ознакомился с этими работами и послушал, что говорят об этом на верфи. Хорошо, получится фрегат, но что же будет с центром тяжести корабля? Опытные корабельные мастера изучили корабль и качали головами, рассуждая о проблемах плавучести и балласта. Хорнблауэр был прирожденным технологом и его страшно интересовали дела, которым была посвящена эта дискуссия. С того дня он часто бывал за пределами своего корабля, а иногда по вечерам навещал мистера Блаккета в его доме, где они вместе испытывали масштабную модель «Неустанного» (после реконструкции) на воде.
В конце концов случилось то, что просто не могло не случиться. Настала ночь, когда на «Модесте» никого не было на вахте, и не прозвучал корабельный колокол. Уоттертон думал, что попросил Бэйли, чтобы тот заменил его, а Кук думал, что так же договорился с Хорнблауэром. Каждый из них посчитал, что его мысль стала делом, и сошел на берег, не дожидаясь смены вахты на шканцах. Дисциплина так ослабела, что нечто подобное легко могло случиться и, вполне вероятно, уже случалось и ранее. Об этом спешно уведомили капитана Финча, который прибыл на борт в бешенстве, вполне ожидаемом теми, кто должен был нести ответственность за этот случай. Уоттертон к тому времени был уже уверен, что разговаривал с Бэйли, а Кук был почти также уверен, что Хорнблауэр согласился его заменить. Конечно же, все это были неловкие отговорки. Дело в том, что Уолкер (заместитель командира) сошел на берег, не передав никому своих обязанностей. Его вахта не была закончена, пока его кто-либо не сменил. Уолкеру довольно трудно было оправдаться в подобной ситуации, так что в конце концов он перепугался, как и все остальные, так как имел на это больше оснований. Венцом же кошмара стало исчезновение корабельного колокола, причем все понимали, что никто его не украл. Колокол забрала команда дежурной шлюпки в качестве доказательства того, что на палубе никого не было. Это таки было правдой, ибо вся якорная вахта отправилась спать сразу же после того, как убедилась, что на палубе нет ни одного офицера. Колокол теперь находился у коммодора, который наверняка отправит за капитаном Финчем и спросит, не видал ли он его когда-либо раньше? Поскольку название корабля — МОДЕСТ — было отлито в бронзе большими буквами, никаких дискуссий на эту тему не предвиделось, зато ожидалось достаточно злорадства со стороны коммодора. Выговором, наверняка, в этом случае дело не ограничится, так как Мак Таггард, очевидно, захочет задать хороший урок остальным. Дело могло дойти и до трибунала, жертвой которого, вероятнее всего, пал бы Уолкер.
Брейд-вымпел коммодора был поднят на старом «Короле Уильяме», трехдечном линейном корабле, построенном в 1719 году, однако сам коммодор в тот день находился на берегу, проводя расследование на верфи. Так что только во второй половине дня старшина дежурной шлюпки, широко ухмыляясь, привез письмо, которое вызывало капитана Финча явиться следующим утром вместе с офицером, который стоял вторую ломаную вахту в ту ночь, которую теперь можно было называть ночью, когда было совершено преступление. К этому времени Хорнблауэр уже достаточно ориентировался в порядках службы, чтобы сообразить, что вся вина в конце концов падет на младшего из мичманов, так что не удивился, когда капитан приказал ему наутро быть готовым в лучшем мундире и наилучшими, какими сможет придумать, оправданиями. Для офицера, карьера которого началась на Спитхедском рейде, а продолжалась в Портсмутском порту, следующим логичным шагом было увольнение со службы. Что особенно угнетало Хорнблауэра, так это чувство, что он не так уж невиновен. Правда, Кук не просил его, чтобы он его заменил, однако говорил, что собирается сходить на берег, из чего следовало, что кто-то должен занять его место, а кто же, как не Хорнблауэр должен был сыграть эту роль?
Все расписания на корабле были запутаны и Хорнблауэр (в чем он отдавал себе отчет) не мог не последовать дурному примеру. Мог, конечно, оправдываться тем, что еще никогда не служил под командой офицера, подающего ему положительный пример, однако для его собственной совести этого было недостаточно. Так что Горацио должен был понести свою часть ответственности за общее падение дисциплины, и постановил для себя в душе, что никогда больше ничего подобного не повторит. Пока же он находился в сложной ситуации и должен был срочно что-то придумать. Раз уж он решил отправиться в море, то должен считаться с тем, что еще не раз попадет в трудную ситуацию и, как хороший офицер, должен показать, что всегда найдет из нее выход. Это испытание застало его в самом начале карьеры и если он не преодолеет препятствия, то может вообще никогда не стать офицером. Первые проблески тактического инстинкта сказали ему, что все попытки оправдаться перед коммодором — если ему вообще удастся сказать хоть что-либо в свое оправдание — ни к чему не приведут. Можно было рассчитывать только на некий Поступок, который ему еще предстояло совершить. Если бы ему удалось спасти корабль от катастрофы или хотя бы спасти утопающего!
Можем быть уверены, что Хорнблауэр размышлял о десятках подобных возможностей, прежде чем, наконец, задал себе вопрос: «Что же, собственно, должно быть сутью этого Поступка?» А если уже вопрос был правильно поставлен, то появился и очевидный ответ на него. Невозможно было доказать, что командование «Модестом» осуществлялось соответствующим образом. Приходилось надеяться лишь на то, что докажет — не вступая в дискуссию — что и на других кораблях дело обстояло так же или даже хуже. Прежде, чем наступила ночь, у Хорнблауэра созрел план выхода из отчаянной ситуации. Потом про него станут говорить, что он поступил как сумасшедший, зато никто не упрекнет его в бездействии.
Для реализации плана требовался помощник и маленькая шлюпка. Со шлюпкой проблем не было, так как у мистера Уоттертона была лодка, которую он использовал при рыбной ловле. Он без труда согласился одолжить ее Хорнблауэру, который объяснил, что хочет вместе с Блэккетом проведать приятеля. В качестве же сообщника Горацио решил взять мальчишку по имени Дик Чарльзворт, который работал в лазарете. Тот охотно принял взятку и объяснение, что Хорнблауэр просто хочет выиграть пари. Будучи на борту во время первой ломаной вахты, но не неся дежурства, Хорнблауэр взобрался на марс грот-мачты с подзорной трубой и хорошенько осмотрел порт. Затем поговорил с боцманом о расписании рейсов дежурной шлюпки. В котором часу можно было забрать колокол? Смидли сказал, что шлюпка патрулирует акваторию до- и после полуночи, один раз во время второй ломаной вахты и второй — во время собачьей вахты. Если колокол был снят (скажем) в десятом часу вечера, следующий объезд патрульной шлюпки был уже после смены вахты. Хорнблауэр поблагодарил боцмана и провел наверху еще час — на сей раз, на марсе фок-мачты. За ним рассеянно наблюдал Бэйли, который как раз нес вахту на палубе и которому Хорнблауэр объяснил свое странное местопребывания тем, что он изучает обтяжку такелажа. Сам он стоял вторую ломаную вахту, внимательно следя за сигналами и заметил дежурную шлюпку сразу после того, как часы на башне собора пробили одиннадцатый час. В полночь Уолкер сменил Бэйли, а Кук — его самого. Хорнблауэр спустился в мичманскую каюту и переоделся там в рабочее платье, перевезенное с «Юстиниана». Когда в первом часу ночи Хорнблауэр босиком вышел на палубу, вытащив перед этим Чарльзворта из подвесной койки, то увидел, что ночь безлунная (о чем он знал заранее) и облачная (на что рассчитывал). Никем не видимые и не слышимые, Хорнблауэр с помощником достигли входного порта, тихо соскользнули по шторм-трапу и отдали фалинь гички Уоттертона. Минутой позже шлюпка уже удалялась с течением прилива, с недвижными веслами, до тех пор, пока не отплыла настолько, что их плеска уже невозможно было услышать. Чарльзворт осторожно греб с замотанными уключинами, а Хорнблауэр правил прямо на «Короля Уильяма», как будто хотел столкнуться с ним прямо нос к носу. Теоретически, на баке корабля должен был находиться вахтенный, но Хорнблауэр предполагал, что тот отошел, чтобы поболтать со вторым вахтенным, к входному порту. Так или иначе, их никто не окликнул и Хорнблауэр отыскал конец, который, в нарушение всех предписаний, свисал с левой катбалки. Приказав Чарльзворту, чтобы тот удерживал конец и ждал, Хорнблауэр выбрался на бак и, не теряя ни минуты, добрался до фор-штага и начал взбираться вверх, так же, как во время своей вечерней тренировки. Запыхавшись, он вылез на фор-марс и несколько минут отдохнул. Не видя под собой палубы, что облегчало подъем, Хорнблауэр пришел к утешительному выводу, что и его с палубы не видать и, найдя штаг грот-марселя, взбирался уже по нему шаг за шагом. Где-то высоко над ним поднимался топ стеньги, место, которого он решил достичь.
Для Дика Чарльзворта ожидание тянулось бесконечно долго. Он боялся, что может чихнуть, а последствия этого могли бы быть столь страшными, что лучше было об этом не думать. Однако он не страдал насморком, а к тому же, для дополнительной страховки, зажал себе нос. Часы на башне собора пробили два часа и Дик понял, что этот сумасшедший мичман — его ровесник — отсутствует уже целую четверть часа. Может, его поймали? Но тогда бы поднялся шум, были бы слышны беготня и крики. Нет, царила абсолютная тишина и только течение прилива плескалось о нос корабля… На что эти мальчишки только не спорят! … Неожиданно Дик услышал над собой легкий шорох и нервный шепот: «Лови!». Какой-то матерчатый сверток упал в лодку, и он постарался смягчить его падение. На ощупь Дик определил, что это нечто, замотанное в сукно, чтобы можно было с ним тихо обращаться. Минутой позже сам Хорнблауэр не слишком ловко соскользнул по тросу и с глухим стуком соскочил на днище шлюпки. Молодому Чарльзворту показалось, что наступил конец света и, затаив дыхание, он выжидал какую реакцию это вызовет на палубе. Но везде царили тишина и покой, а затем он услышал, как Хорнблауэр прошипел: «Отваливай!». Это было не просто сделать при течении, сносящем шлюпку под нос корабля, но Хорнблауэр схватил одно весло и, соединив усилия, они все-таки отошли от борта. Гребя изо всех сил и, по-прежнему, в полном молчании, они возвращались на «Модест». Когда они были уже совсем близко, Чарльзворт пережил еще минуту паники:
— А что будет, если мистер Уолкер нас услышит? — прошептал он.
— Не услышит, — успокоил его Хорнблауэр, — он же глух, как пень!
Чарльзворт повеселел, когда вспомнил об этом, но сердце у него вновь замерло, когда он вдруг услышал оклик с «Графтона».
— Окликают дежурную шлюпку, — вновь успокоил его Хорнблауэр, — она обходит «Графтона» со стороны берега.
Через десять минут гичка была уже привязана на старом месте, а Хорнблауэр со своим свертком молча поднимался по штормтрапу. Через минуту он исчез под палубой, а Чарльзворт на цыпочках возвратился в свою койку. Когда лег, то услышал что со стороны «Уорспайта» донеслись звуки колокола — пробило пять склянок, — и успел удивиться, почему такие же звуки не прозвучали на «Модесте». Чуть позже вспомнил: ведь у них нет колокола! Вот завтра кое-кому за это достанется! Когда Дик завернулся в одеяло, то с радостью подумал, что, по крайней мере, сам он в этом абсолютно не виноват.
Шлюпка командира ожидала в назначенное время, а заместитель командира и Хорнблауэр, одетые соответствующим образом в парадные мундиры, стояли у входного порта. Капитан Финч с горечью взглянул на них, отвечая на приветствие, и сошел в шлюпку, сопровождаемый свистками вахтенных. Двое офицеров также заняли свои места, и через несколько минут они уже были у борта «Короля Уильяма». Снова послышались свистки, и капитан Финч отдал честь капитану Харгривсу, который и проводил его вниз, в помещения коммодора. Заместитель командира и Хорнблауэр ожидали снаружи, прогуливаясь по палубе, а время ожидания для них тянулось бесконечно. Нам уже не суждено узнать, что было сказано командиру и заместителю командира «Модеста», однако беседа с Хорнблауэром стала в Портсмуте легендарной и была подробно — или, во всяком случае, полностью — описана в дневниках Джошуа Хоутона, который в качестве адмирала был в те времена комендантом порта (См «Воспоминания вице-адмирала сэра Джошуа Хоутона», изданные его племянником, преподобным Марком Хоутоном, из Ариель Колледжа, Оксфорд, Лондон 1843, стр.229). Конечно, он не был ее свидетелем и лишь повторил то, что ему рассказал сам Мак Таггард, однако можем быть уверенными, что его рассказ заслуживает доверия:
«Все плавбазы, госпитальные суда и другие небоевые единицы в порту Портсмут находились под непосредственным началом коммодора Джеймса Мак Таггарда, который прилагал все старания, чтобы все эти старые корабли содержались и охранялись соответствующим образом. Для этого дежурная шлюпка патрулировала акваторию, проверяя бдительность несения вахт. Если же на каком-либо из этих старых кораблей не отвечали на оклик, инструкция, выданная старшине дежурной шлюпки, приказывала ему забрать какой-нибудь предмет с этого корабля, который можно было бы легко использовать в качестве вещественного доказательства небрежного несения вахты. Один из таких кораблей охранялся столь плохо, что команде дежурной шлюпки действительно удалось забрать с него даже корабельный колокол. Довольный получением столь явного и несомненного доказательства вины, старина Мак Таггард вызвал командира, офицера, вахта которого приходилась на то время и его помощника-мичмана. Если бы их вызвали сразу же, всех виноватых могло бы ожидать серьезное наказание, однако некоторые другие дела привели к тому, что Мак Таггард начал действовать только спустя сутки, а очередной ночью мичман соответственным образом воспользовался. Так случилось, что этим мичманом был никто иной, как Горацио Хорнблауэр, которому в то время было семнадцать или восемнадцать лет и который в морском деле был совсем новичком. Когда пришла его очередь предстать перед лицом коммодора, стало ясно, что заместитель командира «Модеста» постарался свалить всю вину на своего молодого помощника. После добрых пяти минут, в течение которых ему был сделан суровый выговор, мичману предложили объясниться. На столе в каюте стоял корабельный колокол, проклятое доказательство пренебрежения службой, беспрецедентного в истории Королевского военно-морского флота того времени. Что мичман может сказать в свою защиту? Наверняка, коммодор ожидал каких-то оправданий, ссылок на молодость и недостаток опыта, но мичман не оправдывался. Он ответил всего лишь одной фразой:
— Будьте добры удостовериться, сэр, что исчез также и ваш коммодорский брейд-вымпел!
Повисла страшная тишина, а коммодор пристально посмотрел на командира своего собственного флагманского корабля.
— Брейд-вымпел действительно исчез сегодня утром, сэр — вынужден был признать тот, — полагаю, ночью ветер унес его за борт. Я уже обратился в интендантскую службу порта за новым. Прошу прощения, что не доложил об этом, сэр!
Коммодор вновь взглянул на мичмана, его брови поднялись еще выше. С минуту он молча смотрел на молодого офицера, а затем рявкнул:
— Прошу его принести сюда!
— Есть, сэр! — откликнулся Хорнблауэр и исчез.
Еще до захода солнца эта история стала известна всему Портсмуту, а корабельный колокол уже без дальнейших пояснений вернулся на свое штатное место.»
Наверняка все это так и было, но Хоутон не рассказал всей истории до конца, возможно потому, что просто не знал, чем она закончилась. Несколькими днями позже в Портсмут прибыла «Аретьюза» (38 пушек), известный фрегат, под командой уже известного моряка, сэра Эдварда Пеллью. Вообще-то, «Аретьюза» базировалась на Фальмут, но Пеллью хотел осмотреть «Неустанный», поскольку намеревался просить о назначении на этот корабль, как только он будет готов к выходу в море. Мак Таггард, с которым Пеллью некогда вместе служил во время последней войны, пригласил капитана на обед и за вином рассказал ему историю о колоколе и о вымпеле, историю, которая некоторым образом компрометировала и его самого. Пеллью заинтересовался ею и спросил, кто такой этот мичман. Имя Хорнблауэр ничего ему не говорило, зато многое сказало название «Модест». Что же делал этот энергичный молодой человек на старой плавбазе, замершей на вечном якоре? Мак Таггард, вспомнил, возможно, с некоторым усилием, что Хорнблауэр дрался на дуэли с другим мичманом, в результате чего их пришлось разделить. Еще более заинтригованный, сэр Эдвард попросил капитана Финча прислать Хорнблауэра к нему на «Аретьюзу». Разговор, который произошел между ними, стал поворотным пунктом в карьере Хорнблауэра и спустя много лет, он так описывал его своему другу:
Пеллью:
— Мне рассказывал о вас коммодор из Портсмута. Меня интересует, что вы делаете на «Модесте». Это же строевая служба, на которой молодой человек не может познать морскую практику. Вы теряете время!
Хорнблауэр:
— Да, сэр. Но мне удалось использовать это время для того, чтобы изучить кораблестроительное дело, большей частью, на палубе «Неустанного».
Пеллью:
— На самом деле? И что вы думаете об этом корабле?
Хорнблауэр:
— Существует опасность, что при предусматриваемых мачтах и реях, центр тяжести будет находиться слишком низко.
Пеллью:
— Вы едва успели поступить на службу и уже полагаете, что знаете больше, чем Адмиралтейский Совет!
Хорнблауэр:
— Полагаю, сэр, что если бы здесь был капитан Шенк, то он приказал бы уменьшить количество балласта.
Пеллью:
— Так вы знаете Шенка, моего старого корабельного друга? Великий Боже! А может, вы еще и в бридж играете?
Хорнблауэр:
— Да, сэр!
Пеллью:
— Ну, тогда решено. Нам как раз нужен на корабле четвертый игрок. Так что я имею удовольствие предложить вам место мичмана на «Аретьюзе». Полагаю, что капитан Финч согласится на ваш перевод. В любом случае, прошу передать ему, что мы отплываем сегодня в полдень и что в девять утра вы должны быть на пирсе в Салли-порт.
Хорнблауэр:
— Так точно, сэр и благодарю вас, сэр!
Это один из тех редких случаев, когда нам известно, какие (более или менее) слова действительно были произнесены. События, которые имели место после них, вымышлены, однако мы имеем все моральные основания допускать, что они все-таки произошли. Можно со всем вероятием полагать, что за все время пребывания на плавказарме, Хорнблауэр держался подальше от «Голубых Столбов». Он был слишком горд, чтобы рискнуть на встречу с другими молодыми людьми, которые неминуемо бы спросили его: «С какого ты корабля», и улыбнулись снисходительно в ответ на неизбежное: «С «Модеста». Но в то прекрасное утро в апреле 1794 года, он наверняка хоть ненадолго, но навестил это кафе. Кто-то мог спросить его «С какого корабля?» — и ничто не могло бы прозвучать более емко, нежели лаконичное: «С «Аретьюзы». И в этот момент весь переполненный зал должен был взглянуть на него с почтением. Конечно, нельзя быть уверенными в том, что так в действительности произошло. Возможно, молодые мичмана интересовались только друг другом. Хуже того, возможно, что вообще никого не было в тот момент в «Голубых Столбах». Знаем только, что Хорнблауэр был в восхищении от того, что попал на фрегат, и к тому же еще на такой знаменитый фрегат, которым командовал сам сэр Эдвард Пеллью. Это, должно быть, было великое мгновение, когда он докладывал о прибытии для дальнейшего прохождения службы и впервые почувствовал, что стал (или скоро станет) членом сплоченной команды.
Иллюстрация из книги «Театр современной войны в Нидерландах», принадлежавшей Хорнблауэру.
В те времена имя Пеллью творило чудеса. Он был идеальным командиром фрегата, прирожденным предводителем, активным, умным и дельным. На корабле не было ни одного человека, чьей работы Пеллью не мог бы выполнить также хорошо, а может и лучше — он мог даже обогнать любого мичмана, взбираясь по вантам на топ мачты. Ему еще не исполнилось сорока, а он уже стал героем баллад и портретов на гравюрах; его узнавали на улицах. Получить место в мичманской каюте «Аретьюзы» должно было быть мечтой сотен молодых людей, в том числе и тех, кто имел во флоте хорошие связи или влиятельные семьи на берегу, а то и знания с опытом, почерпнутые непосредственно в море и в битве. Однако все то, о чем мечтали многие, было импульсивно предложено Хорнблауэру, может из-за того, что проявил инициативу, а может потому, что умел играть в вист. Доказательством того, что ему повезло, было упоминание им капитана Шенка, хотя он не знал, что Пеллью и Шенк были старыми друзьями, служившими вместе на Великих американских озерах. Если бы Горацио расспросили, он вынужден был бы признать, что знает Шенка только по рассказам плотника с «Модеста», но Пеллью не дал ему времени, чтобы рассказать это. Теперь ему предстояло доказать, что выбор Пеллью был удачен. Очутившись среди новых товарищей, людей самых лучших, полных огня, бесстрашных и смелых, Горацио быстро превратился в отличного моряка. Сразу же подняв паруса, «Аретьюза» присоединилась к своей эскадре фрегатов в Фальмуте. В состав эскадры входили: «Флора» (36 пушек), несущая вымпел коммодора сэра Джона Борласа Уоррена, сама «Аретьюза» (38 пушек), «Мелампус» (36 пушек), под началом капитана Уэллса, «Конкорд» (32 пушки) под командой сэра Ричарда Стречена и «Нимфа» (36 пушек), прежний корабль Пеллью, которым теперь командовал капитан Мюррей. Сэр Джон вышел в море 15 апреля 1794 года и двадцать второго встретил фрегат «Минерву». «Минерва» несла флаг контр-адмирала, достопочтенного Уильяма Корнуоллиса и возвращалась из Вест-Индии. Днем ранее с «Минервы» заметили четыре фрегата — это могли быть только французские корабли — и эта информация позволила сэру Джону перехватить французскую эскадру у острова Гернси двадцать третьего апреля (в день Св. Георгия). Соединение французского коммодора Дегаре состоял из «Энгажене» (36 пушек), «Помоны» (44 пушки), «Резолю» (36 пушек) и корвета «Бабетта» (20 пушек). Его британские соперники располагали большим количеством орудий, но француз не знал об этом, пока битва не началась. Это было сражение в погоне, так как французы попробовали удрать. В перестрелке с «Помоной» «Флора» утратила свою грот-стеньгу и «Аретьюза» заняла ее место в боевом строю. Пеллью вывел из строя «Бабетту» и сблизился с «Помоной» на дистанцию пистолетного выстрела. Это было в 8.30, а уже в 8.55 грот- и бизань-мачты «Помоны» свалились за борт, а корма корабля пылала. В 9.05 фрегат спустил флаг, а «Конкорд» захватил «Энгажене». «Резолю» удалось сбежать, главным образом из-за того, что «Мелампусу» не удалось с ним сблизиться, а «Нимфе», которая была тихоходным кораблем, вообще не удалось принять участия в сражении.
Это был первый случай, когда Хорнблауэр побывал под огнем, и мы слишком мало знаем о том, какую роль он сыграл в этом деле. Письма, написанные мичманами, обычно выбрасывают, а Хорнблауэр, к тому же, находился в особом положении, так как ему, собственно, и некому было писать. Конечно, была чета Роусонов и, может быть, он направил бы им какое-то сообщение, но они мало интересовались юношей, так что он вряд ли бы писал им подробно, а они, скорее всего, не сохранили бы его письма. Тем не менее говорят, что боевой пост Хорнблауэра был на грот-марсе, где он и был легко ранен обломком поврежденной грота-марса реи. От этого ранения у него остался небольшой, но надолго сохранившийся шрам слева от левой брови — слишком маленький, чтобы быть увековеченным на портретах, но заметный для, скажем, каждой будущей партнерши на балу. После сражения в день Св. Георгия эскадра возвратилась в Портсмут и можно предположить, что следующий визит Хорнблауэра в кофейню «Голубые Столбы» был несколько хвастливым. Его доля призовых денег за захват «Помоны» была, конечно же, небольшой, однако достаточной, чтобы заказать новый мундир у лучшего портного. Этот мундир и заметный шрам прибавляли ему солидности. Этот мичман уже побывал в бою, что было видно уже с первого взгляда. Однако ему недолго суждено было наслаждаться этим успехом. Почти сразу же эскадра вновь вышла в море, и «Аретьюза» получила приказ отделиться от остальных кораблей, чтобы охотиться за французскими торговыми судами в Бискайском заливе. После захвата на каждое подобное судно высылался призовой экипаж. Пятой жертвой стала «Мария Галанте», бриг из Бордо, следующий с грузом риса в Новый Орлеан. Хорнблауэру дали четверых матросов и приказ отвести бриг в ближайший английский порт. Это было его первое самостоятельное командование, и он мог быть доволен оказанным ему доверием. К сожалению, бриг сдался только после обстрела, а одно из ядер проделало ему пробоину у самой ватерлинии. Груз риса разбух от морской воды и так сильно разрушил корпус брига изнутри, что тот стал тонуть. Хорнблауэр был вынужден покинуть судно, набив пленных французов и победителей-англичан в одну крошечную шлюпку. Эта шлюпка была захвачена французским капером «Пика» и Хорнблауэр впервые в жизни оказался в плену. Свой восемнадцатый день рождения (4 июля 1794 года) он встретил на палубе «Пики», пытаясь читать французский учебник навигации. К счастью для него, на следующий день «Аретьюза» захватила «Пику», в чем ей помог пожар, разгоревшийся на корсарском корабле; устроил этот пожар Хорнблауэр.
Вскоре после этого Хорнблауэр появился на Нормандских островах, где временно принял командование тендером «Роялист», на котором нес патрульную службу у французского побережья. Похоже, офицер, командовавший тендером, был убит, и Хорнблауэру пришлось выводить тендер из очень опасной ситуации. Однако вскоре его сменил лейтенант, и Горацио был отослан обратно на «Аретьюзу». Вновь очутившись на своем фрегате, Хорнблауэр сыграл определенную роль в захвате французского корвета «Папийон», который «Аретьюза» загнала в устье Жиронды. Шлюпки с фрегата захватили корвет благодаря неожиданности, а Хорнблауэр, с командой гички, поставил грот-марсель «Папийона» и таким образом, дал мистеру Экклсу возможность управлять захваченным кораблем. Это произошло в начале сентября (4–5 числа), а затем «Аретьюза» провела бой с меньшим французским фрегатом, «Евгенией» (28 пушек), который и захватила 17 октября. В этом бою Хорнблауэр занимал пост на бизань-мачте и едва избежал смерти, когда та была сбита. «Евгения» отважно сражалась, особенно учитывая ее небольшие размеры, а повреждения, которые она успела нанести противнику, прежде чем ее взяли на абордаж, были столь велики, что «Аретьюза» требовала серьезного ремонта. «Аретьюза» и «Евгения» вместе возвратились в Портсмут и в ноябре встали в док, а команду направили на плавказарму «Графтон». Офицеры и мичмана получили отпуск на берегу, но Хорнблауэр, которому было некуда ехать, остался на «Графтоне». Здесь он стал адьютантом сэра Эдварда и сопровождал его во время визитов на верфь. Пеллью уже ходатайствовал о назначении на «Неустанный» и как раз начинал свою последнюю схватку с Адмиралтейским Советом. Было уже слишком поздно, чтобы что-то делать с мачтами и реями, поскольку такелаж на корабле уже был установлен, но еще можно было изменить балласт. Пеллью был великолепным морским практиком, но чиновники с верфи быстро дали ему понять, что он не является квалифицированным кораблестроителем. Однако он все же был членом-учредителем Общества по улучшению строительства кораблей, которое образовалось в 1791 году с герцогом Кларенсом в качестве председателя. А что еще важнее, в декабре из Вест-Индии вернулся капитан Шенк и быстро вступил в борьбу на стороне Пеллью. Хорнблауэр попал в неудобное положение, когда получил вместе с Пеллью приглашение на обед «У Георга» с адмиралом-комендантом порта и неожиданно узнал, что там же будет Шенк. Он мог себе только представить ту минуту, когда сэр Эдвард, проводя церемонию представления, скажет: «Ну, а с мистером Хорнблауэром ты уже знаком». Когда же Шенк ответит (ведь может же он так сказать), что никогда ранее Хорнблауэра не встречал и даже никогда о нем не слышал, Пеллью может подумать, что его молодой адъютант — лгун. Хорнблауэру хватило трезвого рассудка, чтобы тут же представиться Шенку и объяснить ему это недоразумение. Перед ним оказался огромный мужчина в капитанском мундире, который говорил с протяжным девонширским акцентом. Хорнблауэр начал было оправдываться, но все это стало ненужным, стоило ему только произнести имя Тимоти Блэккета.
— Как, и старина Тим здесь? — взревел Шенк, — и он построил модель «Неустанного»? Идем его проведать!
Затем последовали посиделки в доме Блэккета, во время которого модель плавала в деревянном корыте, а два энтузиаста погрузились в техническую дискуссию на тему центра тяжести. Решили взять модель вместе с корытом к «Георгу» и после обеда представить адмиралу — коменданту порта свои аргументы.
И еще раз благодаря «Воспоминаниям» сэра Джошуа, мы можем узнать, что случилось далее:
«Чиновники с верфи военно-морского флота считали, «что «Неустанный», после того, как с него снимут верхнюю палубу, сможет также хорошо держаться на воде с мачтами и пушками фрегата, но с тем же самым балластом, что на нем был как на линейном корабле… Сэр Эдвард Пеллью доказывал, что такой корабль будет слишком плохо всходить на волну и утратит мачты при первом же шторме. Дискуссия достигла своей кульминации во время обеда, который сэр Эдвард давал уполномоченному из Адмиралтейства, мне, как адмиралу — коменданту порта, капитану Шенку и нескольким другим джентльменам, имен которых я сейчас уже не могу припомнить. После обеда у того же «Георга», сэр Эдвард пригласил всех присутствующих принять участие в эксперименте, проводимом в конюшне или в амбаре, стоящем во дворе. Гости увидели там подробную модель «Неустанного», плавающего на воде с оснасткой и вооружением фрегата. К верхушкам мачт были привязаны шнуры с грузами, и плотник с «Модеста» с помощью некоего мичмана показывал, какая нагрузка приведет к тому, что корабль ляжет бортом на воду — этот груз соответствовал силе штормового ветра. Затем сэр Эдвард представил расчеты, из которых вытекало, что сила эта будет превышать допустимые нагрузки для наветренных вант. Невозможно было отрицать, что все это было доказано со всей убедительностью, а некоторые штатские специалисты были очень недовольны, что их выставили дураками. И именно капитан Шенк поспешил им помочь, указывая, что центр тяжести корабля можно эффективно поднять, установив снова на юте 18-фунтовки, порты для которых были предварительно спроектированы. Эти пушки могли бы заменить предполагаемые к установке 12-фунтовки, а пушки на носу следовало заменить 42-фунтовыми карронадами. В конце концов, с этим согласились, хотя пришло к этому только после того, как Адмиралтейство отменило предыдущее решение своего совета. В результате появился фрегат, обладающий высокой скоростью, вооруженный 24-фунтовками на главной палубе и с исключительно мощным бортовым залпом. В течение нескольких месяцев «Неустанному» вернули его прежние мачты с реями, и позднее — с чем каждый должен был согласиться — он стал ценным оружием в руках своего знаменитого командира, который перевел на «Неустанный» всю свою команду с «Аретьюзы».
Мичманом, присутствующим при этом эксперименте был, конечно же, Хорнблауэр. Его служба на новом корабле началась с высадки во Франции. Маркиз де Шаретт пытался поднять всю Бретань на восстание против Республики. Знание французского языка дала Хорнблауэру сомнительные почести высадки на сушу вместе с войсками и возвращение на корабль под тяжелым обстрелом. Эта экспедиция (июнь 1795 года) была неудачной, и республиканцы по-прежнему контролировали район, который этот десант должен был освободить. Затем наступил лишенный особых событий период осеннего патрулирования вдоль французского побережья, который неожиданно закончился тяжелым повреждением «Неустанного» — фрегат наскочил на подводную скалу, не обозначенную на картах. Пеллью, поставив весь экипаж к помпам, смог все-таки добраться до Плимута и только в феврале 1796 года ему удалось снова выйти в море. «Неустанный» получил приказ присоединиться к Средиземноморскому флоту, базирующемуся в Кадиксе. Это стало невозможным после 19 апреля 1796 года — дня, когда Испания перешла на сторону врага, заключив перемирие с Францией. Удивительным следствием этих событий стало нападение на британский конвой двух испанских весельных галер. «Неустанный» эскортировал конвой, но мертвый штиль лишил его возможности прийти к ним на помощь, за исключением той, которую могли оказать корабельные шлюпки. Хорнблауэр командовал четырехвесельной шлюпкой и в значительной мере помог захватить одну из галер. Поскольку один из лейтенантов пал в этом бою, Хорнблауэра временно назначили на его должность. Два месяца спустя, в Гибралтаре, он предстал перед комиссией, принимающей соответствующий экзамен вместе с другими кандидатами, однако прежде чем комиссия успела огласить свой вердикт, порт был атакован испанскими брандерами. Так Горацио и оставался по-прежнему исполняющим обязанности лейтенанта, в то время как его назначили командиром очередного приза — захваченного у французов шлюпа «Le Rew». Он получил приказ привести приз в Плимут. Дело это происходило в январе 1797 года, и вскоре после начала плавания судно Хорнблауэра попало в полосу тумана. Когда туман исчез, то оказалось, что его бриг находится посреди испанского флота, так что юный мичман был вынужден сдаться. Четырнадцатого февраля испанцы были вынуждены вступить в бой и были разбиты у мыса Сан-Висенте, но для Хорнблауэра и его моряков это уже не имело значения — их доставили в Эль-Ферроль в качестве пленных. Хорнблауэр был военнопленным без малого два года, но в этот период (в августе 1797 года) был подтвержден его чин лейтенанта. Это предоставляло ему все привилегии офицера, одной из которых было право освободиться под честное слово. Вынужденное безделье и относительную свободу молодой лейтенант использовал для того, чтобы выучить испанский язык.
Своим освобождением из плена он был обязан тому, что испанский корсарский корабль, прижатый к подветренному берегу фрегатом Его Британского Величества «Сиртис», разбился на скалах. Корсар разбился на Дьявольских Клыках, а Хорнблауэр помог спасти нескольких членов его экипажа. Шлюпка, в которой он вышел в эту спасательную экспедицию, пристала к борту «Сиртис», но Хорнблауэр, который дал слово чести, вынужден был под белым флагом возвратиться в Ла-Корунью. Он все еще оставался пленным, но уже недолго. Вести о его героическом поступке достигли Мадрида, где сам премьер-министр Испании приказал его освободить. Хорнблауэра отослали в Гибралтар, а оттуда на транспортном судне он добрался до Портсмута. Горацио сошел на английскую землю 9 марта, после трехлетнего отсутствия. Почти сразу же он был назначен на «Славу» (74 пушки), под командованием капитана Сойера, которая была приписана к флоту Канала (Ла-Манша) под флагом адмирала Бридпорта. После трехнедельного отпуска, во время которого он купил офицерский мундир, корабельный сундучок, треуголку и шпагу, Хорнблауэр явился на «Славу» в бухте Тор. Ему было двадцать два года, теперь он был опытным командиром и навигатором, а также мастером своего дела. Юноша имел опыт службы как на море, так и на суше, а сам сэр Эдвард Пеллью высоко его ценил. Он бегло говорил по-французски и по-испански и даже, хоть бы и временно, осуществлял самостоятельное командование. Но прежде всего, он теперь был моряком, который мог найти себе место в любом обществе, разговаривал на языке моря и был уверен в себе как человек, которому уже приходилось рисковать своей жизнью и всегда знал, что ему нужно делать. Теперь он мог испытывать чувство самоуважения и уверенность в том, что на нижней палубе его будут уважать как офицера, моряка и человека.
3. Лейтенант
«Слава» была типичным 74-пушечным кораблем, с тем только, что почти новым, поскольку ее строительство было закончено на Темзе в 1798 году. Это была копия французского приза «Импету», с водоизмещением 1888 тонн. С постоянным экипажем из 590 человек, корабль нес тридцать 32-фунтовок на батарейной палубе, столько же 18-фунтовок на верхней палубе и дюжину 32-фунтовых карронад на баке и шканцах. Это был хороший корабль своего класса, более обширный многих своих собратий и капитан Дэвид Сойер гордился, что именно ему поручено командовать «Славой». Бывший шкипер с угольщика, которому в то время было около 47 лет, начал службу в военном флоте в качестве штурмана. Он отличился в битве у острова Уэссан в 1778 году и сэр Чарльз Гарди произвел его в лейтенанты. Прежде чем война закончилась, он уже стал капитаном, однако оставался на берегу без должности, на половинном окладе до самого 1793 года, когда ему было доверено командование фрегатом «Орфей» (32 пушки). К несчастью, все остальные офицеры «Орфея» были выше его по происхождению. Заместитель командира был племянником баронета, второй лейтенант — шотландским пэром, а третий — младшим сыном адмирала (на пенсии). Даже некоторые мичмана были людьми вполне обеспеченными, а самый младший из них был внуком епископа. Возможно, подобный подбор кадров был неслучаен, и их Лордовские Светлости полагали, что эти молодые офицеры должны учиться морскому делу у настоящего моряка старой школы.
Если план был именно таков, то он не удался, поскольку Сойер чувствовал себя абсолютно чужим в офицерской кают-компании. Между ним и его офицерами установились худшие из возможных взаимоотношений, кульминацией которых стали нерешительные действия «Орфея» при встрече с французским фрегатом «Энтрепренант» (36 пушек).
В наши цели не входит выяснение причин, по которым французскому фрегату удалось спастись. Корабли вступили в бой на достаточно большой дистанции, а их орудийный огонь, по всей видимости, был не особо эффективен. После возвращения «Орфея» в Фальмут, лейтенанты, все как один, обвинили Сойера в трусости, а он, в свою очередь, обвинил своих офицеров в пренебрежении служебными обязанностями. Трибунала не было, но главнокомандующий, по совету сэра Джона Боласа Уоррена, разделил враждующие стороны и позаботился о Сойере, назначив его командиром «Славы». Это было повышением, однако в результате Сойер оказался под непосредственным надзором адмирала. Происхождение офицеров «Славы» было более скромным: Бакленд (первый лейтенант), Робертс (второй), Хаггинс (третий), Смит (четвертый) и, наконец, в завершение этого списка, прибыл Хорнблауэр (пятый). Среди них не было аристократов, а Смит когда-то служил на судне Вест-Индской компании. Таким образом, Сойеру давался еще один шанс, о чем он, должно быть, был предупрежден, а его успех на «Славе» должен был заставить людей забыть про неудачу «Орфея». Никто не сомневался, в том, что он был хорошим моряком-практиком, хорошо проявившим себя в сражении у Уэссана. Ему оставалось только показать, что он всегда был и остается прирожденным лидером среди своих подчиненных.
Сойеру не представлялся случай проявить свои лидерские качества, но в то же время он предпринимал попытки поступать обдуманно, но решительно, быть строгим, но справедливым. Он приветствовал Хорнблауэра на борту и задал лейтенанту несколько вопросов о его предыдущей службе, рассказал о своих намерениях превратить «Славу» в самый боевой корабль во флоте, выразил свою бесконечную преданность по отношению к лорду Бридпорту, под флагом которого имел счастье служить. Капитан напомнил Хорнблауэру, что тому предстояло еще многому научиться, что служба на фрегате и на линейном корабле — далеко не одно и то же. Он говорил (несколько многовато) о важности преданности, рассказал Хорнблауэру о его обязанностях как младшего из лейтенантов и сигнального офицера, о том, что дополнительно он будет отвечать за состояние стрелкового оружия на корабле и проводить регулярные учения с экипажем по стрельбе из мушкетов. Наконец, капитан надеялся, что «Слава» будет счастливым кораблем, а все моряки будут преданными.
Отпущенный из капитанской каюты, Хорнблауэр представился в кают-компании офицерам. Все они были чем-то похожи друг на друга: среднего возраста, опытные и достойные. Хорнблауэр был младшим — и по чину и по возрасту и вскоре понял, что действительно еще должен многому научиться, особенно, что касалось сигналов и парусных эволюций в составе флота. Идя в строю, линейный корабль всегда был объектом критического внимания — не только с флагмана, но и с других кораблей. Заработанная благодаря этому плохая репутация могла привести к тому, что капитан лишился бы командования и оказался на берегу, а все его надежды на продвижение по службе были бы разрушены.
Первая важная задача, поставленная перед Хорнблауэром, не имела ничего общего с флотскими эволюциями. На французском призе «Эсперанс» был схвачен Барри Маккул, лидер ирландского восстания 1797 года, которому удалось бежать из Ирландии, завербовавшись на флот. Он служил на «Славе», но был настолько ловок, что дезертировал с корабля и бежал на побережье Франции. В момент попадания в плен он был одет в мундир французского пехотного офицера, тем не менее обращались с ним, как с дезертиром. После доставки в Англию, он должен был предстать перед судом за предательство, однако адмирал принял решение судить его трибуналом за дезертирство. Хорнблауэр был назначен ответственным за пленника, запертого в корабельном трюме «Славы», и получил указание проследить, чтобы тому не удалось избежать наказания, совершив самоубийство. Ему пришлось также организовать приведение в исполнение смертного приговора, который был вынесен судом после пятнадцатиминутного заседания, и при этом обеспечить, чтобы приговоренный перед повешением не выступил с речью, так как команда «Славы» в значительной своей части состояла из ирландцев, к которым Маккул мог бы воззвать. Это было неприятное задание, какое обычно и поручают младшим офицерам, но Хорнблауэр выполнил все приказы абсолютно точно. Маккул помог ему тем, что пообещал молчать во время казни, если Хорнблауэр перешлет последнее письмо и морской сундучок его жене (которая теперь должна была стать вдовой) в Дублин. Когда Хорнблауэр узнал, что Маккул не был женат, он выбросил сундучок за борт, а вместе с ней — спрятанный в его тяжелой крышке — список имен единомышленников Маккула из ирландского подполья. Это было странным решением для амбициозного офицера, но Хорнблауэр уже знал кое-что про Ирландию и считал, что палачи уже достаточно поработали в этой стране.
Едва только Маккул был казнен, Флот Канала вернулся к блокаде Бреста, которая была временно прервана из-за сильных западных штормов. Трудно себе представить более монотонную работу, а единственной надеждой на ее облегчение было приближение весны и теплой погоды. К заслугам лорда Бридпорта следует отнести то, что блокаду Бреста он осуществлял более качественно, чем кто-либо из его предшественников. Он всегда выходил за остров Уэссан, а часто доводил флот и до самой Черной Скалы. Причем его флагманский корабль «Король Георг» обходил ее даже со стороны берега. Несмотря на это, Бридпорту не удалось перехватить французскую экспедицию в залив Бантри в 1796–1797 годах и этот случай ему потом не раз припоминали. В описываемое же время (1799–1800) в возрасте семидесяти двух лет, он уже был слишком стар, чтобы нести службу так, как от него ожидали. Капитаном флота у Бридпорта (или начальником штаба, как бы эту должность называли сегодня) был капитан сэр Эндрю Макфарлейн, способный, педантичный и… не пользующийся популярностью. Сэр Эндрю, подобно Бридпорту, верил в плотную блокаду по многим основаниям, одним из которых было то, что французский флот будет лишен возможности проводить учения. Французы начали войну с того, что убрали с флота всех старших офицеров — как аристократов и политически неблагонадежных. Они были заменены своими же подчиненными, получившими нежданное повышение, и «добрыми республиканцами» с торгового флота. Считалось, что революционный дух сможет заменить недостаток опыта, однако битва Достославного Первого Июня опровергла эту теорию. Французский флот был еще силен численно, но плотно заперт в портах. В английском же флоте всегда существовало мнение, что после ввода в строй корабль, для того чтобы стать полноценной боевой единицей, должен провести в море около трех месяцев. Все это время команда должна была тренироваться в обслуживании парусов, стрельбах из пушек и ручного оружия. В течение этого трехмесячного периода участие корабля в сражениях считалось нежелательным. А одним из результатов плотной блокады была уверенность, что французы, выйдя в море, будут вынуждены вступить в бой уже через три часа. Обычно это означало позорное и катастрофическое поражение.
Главным же противником блокирующего флота была скука, рассеиваемая лишь теми тактическими учениями, которые главнокомандующий мог организовать. На Флоте Канала в 1800 году боевой дух был сравнительно невысок, так как последние крупные морские сражения — от битвы у мыса Сан-Висенти до битвы при устье Нила (Абукир), происходили на Средиземном море или поблизости от него. Лекарством Макфарлейна были флотские учения по маневрированию, которые опирались на воодушевляющую книгу. Джон Клерк, штатский теоретик, опубликовал свой «Трактат о морской тактике» в 1782 году и с тех пор его почитатели полагали, что адмирал Родни выиграл битву при островах Сэйнетс с этим трудом в кармане. Это утверждение было безосновательным, однако дополненное издание 1790 получило в свою поддержку весомый аргумент — одобрение легендарного адмирала. Некоторые военно-морские офицеры (и Макфарлейн в том числе) видели в трактате Клерка основной секрет достижения тактического успеха; другие указывали на пренебрежение автором двумя другими основными факторами: хорошей морской практикой и выучкой артиллерийских расчетов. Лорд Бридпорт имел собственную точку зрения на этот вопрос, однако его вполне устраивали тактические дискуссии капитанов. Споры возникали, когда старшим офицерам удавалось собраться за одним столом. Основными темами были движение по «спирали погони» и «выигрыш ветра» у противника. С улучшением погоды в апреле 1800 года, Макфарлейн получил одобрение своего адмирала провести суточные учения по парусным эволюциям, в течении которых одна из теорий Клерка должна была быть подвергнута испытанию практикой. Для целей данной публикации достаточно отметить, что один из маневров включал изменение фронта боевой линии в сомкнутом строю. Корабль командующего флотом находился в центре ордера, а два других флаг-офицера, сэр Чарльз Коттон и достопочтенный Грейвен Беркли, находились во главе соответствующих дивизионов в авангарде и в тылу. «Слава» следовала сразу же в кильватер за «Марсом» — флагманским кораблем Беркли и Сойер мерял шагами шканцы в лихорадочном беспокойстве. Наконец наступил момент, когда был подан ожидаемый сигнал. Хорнблауэр, как сигнальный офицер, доложил, что получен сигнал: «Поворот все вдруг». Правилом было (и есть), что сигнал исполняется в тот момент, когда спускаются обозначающие его флаги, а после подтверждения получения сигнала флагмана, проводится лишь подготовка к маневру. Однако Сойер забыл это базовое правило и отдал команду поворачивать корабль. Мистер Бакленд тут же указал, что это будет неправильно, а Хорнблауэр повторил это предостережение. Игнорируя замечания обоих офицеров, Сойер выкрикнул приказы в рупор и привел корабль к ветру. Пятью минутами позже «Дракон» (74 пушки) навалился на корму «Славы», снеся ей флагшток и повредив собственный бушприт. Последовала сцена общей неразберихи, сопровождаемая сильными выражениями, а дальнейшее маневрирование флота продолжалось уже без двух этих кораблей, которые вышли из строя и беспомощно раскачивались. Прошел добрый час, прежде чем они снова смогли занять свои места в боевой линии, но сразу за тем «Дракон» сигналом запросил разрешения оставить флот — его капитан, Джордж Кемпбелл, сообщил, что кораблю необходимо следовать в Плимут для ремонта. Вскоре подобная же просьба поступила и со «Славы» и Бридпорт, хоть и с неохотой, вынужден был дать обоим свое согласие.
Все это неудачное предприятие имело до удивления незначительные последствия — Бридпорт готовился спустить свой флаг, и капитан Кемпбелл был просто в восторге от перспективы провести несколько недель у берега. Поговаривали, правда, что преемником Бридпорта станет лорд Сен-Винсент, чья приверженность к суровой дисциплине, равно как и отношение к подобным оправданиям досрочного возвращения в порт были широко известны. Столкновение «Славы» и «Дракона» имело гораздо более серьезные и неожиданные последствия на борту «Славы», где Сойер вдруг посчитал себя жертвой заговора. Его офицеры специально спланировали весь этот инцидент для того, чтобы дискредитировать своего капитана. Это Бакленд убеждал его отдать команду к повороту, а Хорнблауэр подстрекал первого лейтенанта и помогал ему провести в жизнь этот дьявольский план. Во время перехода в Плимут отношения на корабле были очень напряженными, однако по прибытию в порт обстановка неожиданно несколько разрядилась.
Другие капитаны думали, что Сойер таким хитрым образом избежал тягот и скуки блокадной службы. В течение нескольких дней он наслаждался чувствами удовлетворения и собственной значимости, поглядывая на своих офицеров с благосклонностью, которая даже граничила с симпатией. Чувство облегчения, которое они при этом испытывали, передалось команде и в течение недели показалось даже, что «Слава» все-таки счастливый корабль. Однако обстановка вновь (и очень резко) изменилась к худшему, как только газеты донесли весть о назначении командующим Флотом Канала лорда Сен-Винсента. Вскоре после этого стала широко известна история о том, как один капитан воскликнул: «Не дай, Боже, чтобы Средиземноморская дисциплина была перенесена во Флот Канала!» Особенно любопытно, что эта фраза была произнесена за столом, в присутствии лорда Бридпорта, на его флагманском корабле, а тот, кто ее произнес, не получил даже выговора. Возможно, капитану Сойеру и повезло, что он не присутствовал при этом. Если бы подобные речи достигли ушей лорда Сан-Винсента, он мог бы подумать, что Флот Канала находится на грани бунта. Адмирал также мог обрушить свой гнев на капитана, который повредил свой корабль и использовал полученные повреждения в качестве оправдания для того, чтобы провести три недели на берегу. Уяснив это, капитан Сойер вновь вернулся к своей теории о том, что столкновение произошло в результате заговора офицеров. Атмосфера на «Славе» резко ухудшилась, и в ее кают-компания во время обратного перехода к Уэссану царило мрачное отчаяние.
Лорд Сан-Винсент поднял свой флаг на рейде Спитхеда 2 мая, а 5 мая вышел к Уэссану на линейном корабле «Виль де Пари». Капитаном флота при нем был сэр Томас Траубридж, а флаг-капитаном — сэр Джордж Грей. Флот находился на позиции до 17 мая, после чего корабли стали на якорь в районе укрытия флота — бухте Тор. При этом «Слава» потеряла фор-стеньгу, что не улучшило репутации Сойера как специалиста морской практики. Уже 9 июня командующий флотом написал первому лорду Адмиралтейства, Эрлу Спенсеру, требуя, чтобы «Слава» была переведена в куда-нибудь в другое место. Это письмо стоит того, чтобы привести его полностью:
Корабль Его Величества Ville de Paris
Вблизи от Черной Скалы
9 июня 1800 г.
Мой дорогой лорд!
Полагаю, что могу без преувеличения сказать, что вполне информирован об уровне подготовки всех офицеров, которые служат под моим флагом. Некоторые из них, здесь, у Уэссана, также хороши, как те, которых можно найти на Средиземном море. Другие могли бы быть более дисциплинированны и деятельны — и это именно те, которые, как можно предположить, пользовались благосклонностью моего предшественника.
Некоторые офицеры в достаточной степени подготовлены для того, чтобы командовать линейными кораблями — как это и должно быть. Некоторые же, чьи таланты оцениваются очень высоко, на самом деле никогда в жизни не были способны воспитывать и управлять шестью-семью сотнями людей, подобных тем, из которых состоят наши команды, несмотря на то, что некоторые из этих офицеров и отличились в свое время в качестве командиров фрегатов. Полное пренебрежение требованиями дисциплины на некоторых кораблях Флота Канала длительное время было притчей во языцех. В настоящее время предприняты некоторые шаги по оздоровлению ситуации. Состояние флота, боеготовность которого до последнего времени была крайне низкой, сегодня уже несколько превышает средний уровень. Некоторые капитаны, пригодные лишь для Гринвичского госпиталя, смещены. К сожалению, остаются другие, которые не способны командовать не то, что линейным кораблем, но даже и шлюпом. Один из таких — Сойер со «Славы», который не может управлять своим экипажем, постоянно изыскивает смехотворные оправдания недолжному исполнению своих обязанностей и постоянно производит впечатление страдающего вялотекущим слабоумием, утверждая, что его офицеры составляют против него заговоры. Распущенные разговоры, которые ведутся в офицерских кают-компаниях, действительно являются бичом многих других кораблей, но я рад, что лейтенанты «Славы» пытаются, по крайней мере, исполнять свои обязанности. Идиотское маневрирование этого корабля, которое привело к столкновению с «Драконом» — вот за что Сойер должен нести личную ответственность. Если эти ошибочные маневры являются следствием плохой морской практики, то я должен полагать, что Сойер — такая же старая баба, как и сам Бридпорт. Если же, как считает Траубридж, они стали результатом попытки повредить корабль и получить таким образом возможность остаться в базе, то поведение Сойера недостойно, и он должен предстать перед трибуналом. В настоящее время уже слишком поздно расследовать эту аварию, тем не менее я вынужден просить Вашу Светлость дать указание, чтобы «Слава» была исключена из состава Флота Канала и направлена на выполнение той службы, для которой жалкие способности капитана Сойера могут быть признаны достаточными. Полагаю абсолютно необходимым распорядиться этим кораблем как непригодным для службы в боевом строю и задаюсь вопросом, должен ли его капитан и дальше сохранять свое командование.
Имею честь пребывать преданным и послушным слугой Вашей Лордовской Светлости — Сен-Винсент
Таким образом, лорд Спенсер мог снять Сойера с должности, однако письмо лорда Сен-Винсента совпало с получением депеши от сэра Ричарда Ламберта, вице-адмирала с Ямайки. Он просил прислать ему новый линейный корабль взамен «Элизабет» (74 пушки), который был построен в 1769 году, а в настоящее время признан негодным к дальнейшему несению службы. Сэр Ричард также предлагал, чтобы корабль, следующий на замену, получил приказ высадить десант в бухте Шотландца на Санто-Доминго и атаковать форт на полуострове Самана, который прикрывал место якорной стоянки, используемое испанскими каперами, оперирующими в проливе Мона. С Ямайки невозможно было неожиданно атаковать это место, так как все перемещения кораблей с этого направления были бы своевременно обнаружены, а плавание в наветренную сторону заняло бы много времени. Подход же нового корабля мог бы быть проведен незаметно для наблюдателей с Гаити, плыть бы в этом случае пришлось бы с наветренной стороны и, следовательно, повышались шансы застигнуть каперов в месте их якорной стоянки. Первый лорд решил выслать «Славу» на смену «Элизабет». Возможно, он полагал, что Сойер сможет лучше действовать самостоятельно, чем в составе флота. В любом случае, рейд на полуостров Самана должен был стать его последним шансом, а если атака провалится, Ламберту было поручено отослать его обратно в Англию. Кроме этого, «Слава» была новым кораблем, каковые и рекомендовались для посылки в Вест-Индию, а лорд Сент-Винсент не мог даже смотреть в его сторону.
Были подготовлены соответствующие приказы, один — во Флот Канала, с указанием направить «Славу» в Плимут, другие — в доки и продовольственную комиссию, с тем, чтобы она была снабжена всем необходимым на шесть месяцев плавания и, наконец, последние, предписывающий капитану Сойеру прибыть в Кингстон на Ямайке, с заходом в бухту Самана. Эти последние (и секретные) приказы были запечатаны с указанием вскрыть их по достижению определенной широты. То, что линейный корабль направляется в Вест-Индию, могло быть очевидным, однако его конкретные задачи оставались неизвестными даже Сойеру до тех пор, пока он не выйдет в море. Стоя на якоре в Хемоазе, «Слава» полнилась догадками и разговорами о дальнейшей судьбе. Многие предпочитали Вест-Индию блокаде Бреста, но третий лейтенант, мистер Хаггинс, был уже по горло сыт «Славой». Он ходатайствовал о медицинском обследовании, на котором ему удалось убедить комиссию, что его здоровье серьезно подорвано. Как он рассказывал позже, вся штука заключалась в том, чтобы «заболеть», наглотавшись табака за час до начала работы медицинской комиссии. На смену Хаггинсу прибыл лейтенант Уильям Буш, на год старше Хорнблауэра стажем.
Предыдущим местом службы Буша был шлюп «Дельфин», который нес конвойную службу между Хамбером и Северным Форлендом, так что лейтенант видел в Вест-Индии возможность продвижения по службе. Единственное, чего он не мог предвидеть, так это того, что командир «Славы» фактически безумен. Нам неизвестно, что именно лорд Сен-Винсент сказал Сойеру при их последней встрече, но это привело к полному расстройству рассудка последнего в такой степени, что он был уже не способен командовать кораблем. Многие капитаны приветствовали бы перевод в Вест-Индию, но Сойер воспринял свои нынешние приказы естественным продолжением своих неудач во Флоте Канала.
Уже во второй раз ему достались нелояльные офицеры, люди, которые смеялись у него за спиной, более того — их рассказы о капитане могли достичь флагманского корабля. Если бы не они, его корабль был бы лучшим на флоте! Некоторое время Сойер относился к Бушу благосклонно, как к единственному (пока) не вовлеченному в заговор, но вскоре уже думал о нем также плохо, как и об остальных. Единственным утешением ему служила уверенность, что обитатели нижней палубы — на его стороне. Сам он начинал свою морскую карьеру на баке и был убежден, что уж матросы-то способны отличить настоящего моряка от выскочек — денди в офицерских мундирах. Таким образом, его политикой стало тиранить офицеров и мичманов, завоевывая таким образом популярность среди матросов. «Слава» вышла из Плимута 14 июля 1800 года, а ситуация на борту с каждой неделей становилась все хуже. Не смотря на свое явное сумасшествие, капитан все еще обладал практически неограниченной властью, достаточной для того, чтобы сломать жизнь своим офицерам. Простого обвинения в мятеже было бы достаточно для того, чтобы трибунал высказался в оправдание действий капитана. Офицеры были в особенно сложном положении, не имея возможности противодействовать неправильным действиям капитана и опасаясь даже разговаривать друг с другом на темы, которые занимали все их мысли. Уверенности, что у капитана есть свои шпионы среди матросов, было достаточно, чтобы кают-компания погрузилась в тяжелую тишину. Правила предусматривали, что в случае болезни капитана командование кораблем переходит к первому лейтенанту, однако решиться на такой отчаянный шаг было непросто, так как скорее всего это привело бы всех, кто решился бы в этом участвовать, к гибели.
Прежде всего, это зависело от мужества корабельного врача, а мистер Клайв был запуган так же, как и остальные.
6 августа «Слава» шла курсом, предположительно, на Антигуа, в районе которого, как ожидалось, должна была через десять дней подойти к берегу на расстояние прямой видимости. Атмосфера же на корабле к этому времени стала настолько напряженной, что лейтенанты (за исключением мистера Смита, который был вахтенным офицером) собрались ночью в трюме. Подобная тайная встреча была почти актом мятежа, карой за который была бы смерть. Неожиданно собравшиеся были предупреждены одним из «юных джентльменов» — мичманов, мистером Уэллардом, что к месту сходки приближается капитан. Офицеры быстро разошлись. Бакленд и Робертс вышли на главную палубу по переднему трапу, Буш прошел в корму по нижней орудийной палубе, а Хорнблауэр вместе с Уэллардом поднялись на верхнюю палубу по главному трапу. Узнав каким-то образом о происходящем, капитан вызвал капрала — начальника караула морской пехоты и послал мистера Хоббса (исполняющего обязанности артиллериста) с двумя матросами арестовать бунтовщиков в трюме. Морские пехотинцы, по команде капитана, спустились в кормовой люк, но капрал не успел отойти и десяти футов от подножия трапа, когда услышал звук падения тела. Поспешив обратно, он нашел капитана, который, очевидно, упал в люк, лежащим у нижней ступеньки трапа. Помимо того, что Сойер был оглушен, у него был сломан нос, два ребра и ключица. Позже он стал бредить и мистер Бакленд официально принял командование кораблем.
В общих чертах ход всех этих событий не без труда можно установить по тексту рапорта, направленного позже вице-адмиралу сэру Ричарду Ламберту с различными приложениями, из материалов следственной комиссии, а так же по собственному донесению адмирала в Адмиралтейство. У историка же, в конце концов, создается впечатление, что расследование могло производиться тщательно, а свидетельские показания могли быть точными, однако многое осталось недоговоренным. Похоже, что отчаянная ситуация была разрешена благодаря достаточно удивительной случайности. Но не слишком ли она походила на промысел Божий, чтобы действительно быть случайностью? Мы можем предположить, что нет. Прилагаемая схема может прояснить, как ситуация представлялась офицерам «Славы».
Согласно официальному заключению, капитан Сойер в возбуждении наклонился к отверстию люка, выкрикивая команду капралу, который спускался по трапу на нижнюю пушечную палубу. При крене корабля он потерял равновесие, рухнул в люк и упал в трюм, получив при этом телесные повреждения, от которых уже так и не оправился. Из офицеров, которые больше всего желали бы смерти капитана, только один — Хорнблауэр — находился на верхней палубе, когда произошел этот несчастный случай. По общему признанию, его постоянно сопровождал Уэллард (волонтер 1-го класса), но этот самый мальчик был главной жертвой садистских наклонностей капитана и шесть раз за короткое время до этого подвергался беспощадной порке за воображаемые проступки. Даже если Хорнблауэр и помог капитану свалиться в люк, Уэллард, как свидетель, был слишком заинтересован молчать об этом. Конечно, не было доказательств, что Хорнблауэр присутствовал при несчастном случае. По его собственным словам, они с Уэллардом в это самое время шли в корму, выйдя из главного люка, и в темноте не видели, что именно произошло. Больше ни одного свидетеля не объявилось, и в этом не было ничего удивительного, так как все происходило ночью — предположительно, все — кроме вахтенных и непосредственных участников этих событий — спали. С некоторым облегчением мистер Бакленд объяснил падение капитана несчастным случаем и составил рапорт, подтверждающий это заключение — один из тех рапортов, которые начальники воспринимают с одобрением.
Приняв временное командование, мистер Бакленд прочел открытые ранее Сойером приказы и изменил курс в направлении бухты Шотландца. Прибыв туда днем 18 августа, он подготовил корабль к бою и обстрелял мыс Самана. В вершине бухты на якоре стояли каперские суда, однако они находились под защитой форта на мысу и батареи на противоположной стороне бухты, которые держали фарватер под перекрестным огнем. Бакленд ввел «Славу» в бухту, но случайно посадил ее на мель, превратив линейный корабль в мишень для пушек, стреляющих раскаленными ядрами. Поскольку это произошло во время набирающего силу прилива, представлялось возможным сойти с мели, заведя якорь с кормы и затем выбирая якорный канат. В конце концов это удалось, корабль отверповали из бухты и вывели из-под огня. Тем не менее, девять человек было убито, включая мистера Робертса, двадцать ранено, а корабль получил повреждения. Положение осложнялось еще и тем, что капитан Сойер все еще был жив. После своего падения в люк он окончательно сошел с ума и представлял собой беспомощное и жалкое существо, испуганное и одинокое, истерзанное беспричинным страхом и бесконечными приступами мании преследования. Однако, по словам корабельного врача, оставалось фактом, что капитан мог пойти на поправку, превратившись в еще более жуткого маньяка и поставить своих лейтенантов перед трибуналом, состоящим из старших офицеров. Бакленду в этом случае пришлось бы обосновывать свое решение о принятии командования вместо капитана. Более того, он и все остальные могли быть обвинены Сойером в мятеже, в неподчинении приказам, в подрыве дисциплины. В этом случае они были бы счастливы отделаться увольнением со службы — многие попали в тюрьму или даже были повешены за меньшие проступки. Успех в выполнении приказов, отданных Сойеру, означал бы меньшую вероятность того, что адмирал уделит слишком пристальное внимание тем обстоятельствам, при которых Бакленд принял командование. Неудача вызовет гораздо больше неприятных вопросов, на которые придется отвечать — а пока неудача было единственное, чего Бакленду удалось достичь. Его ошибкой, как он уже понял, была попытка прорваться в бухту Самана при свете дня. Если бы «Слава» приблизилась к берегу в темноте и высадила десант на рассвете, форт мог бы быть захвачен прежде, чем испанцы успели бы проснуться. Но теперь весь эффект от внезапности нападения казался безнадежно утраченным.
Но так ли это было на самом деле? И в эту минуту мрачных размышлений, когда «Слава» уже снова вышла в море, подошел Хорнблауэр с предложением атаковать вновь. Он указал на то, что после отражения дневной атаки испанский гарнизон будет более спокоен, чем раньше, когда им явно угрожала опасность нападения. Он отметил, что ветер был попутным, если двигаться в бухту Шотландца и что возвращение после захода солнца даст Бакленду возможность высадить десантный отряд с морской стороны полуострова Самана. На рассвете форт мог быть захвачен, а его пушки не дали бы приватирам уйти из бухты. И все это могли сделать сотня моряков и восемьдесят морских пехотинцев. Бакленду подобный план показался крайне рискованным, но для него это оставалось единственным шансом избежать катастрофы. Он весьма неохотно согласился, развернул корабль и снова взял курс на бухту Шотландца. Мистер Буш был назначен командовать десантным отрядом, а Хорнблауэр стал его заместителем. Матросы и морские пехотинцы были проинструктированы, подготовлены и вооружены, шлюпки — подготовлены. Было уже темно, когда они высадились незамеченными, темно, когда они с трудом карабкались на крутой берег и темно (пока не взошла Луна), когда они, наконец, за два часа до рассвета увидели форт.
Они отдохнули после марша, развернулись и затем, с первыми лучами утреннего света, Буш отдал приказ к атаке.
За считанные минуты форт был взят, а сотня мужчин и два десятка женщин захвачены в плен. Понадобилось некоторое время для того, чтобы «Слава» достигла бухты Самана, но батареи, которые мешали ей это сделать всего сутки назад, теперь находились в руках британцев, вместе с печами и оборудованием для каления ядер. Когда каперы предприняли попытку покинуть место якорной стоянки, то первая шхуна села на мель и была взорвана. Три остальных судна повернули и вышли из-под обстрела. Вскоре после этого, 19 августа, со стороны испанцев пришла шлюпка под парламентерским флагом. Испанский комендант просил, чтобы были отпущены женщины, раненые и те из пленных, кто даст слова не воевать больше против англичан. К тому времени, как предварительные переговоры были завершены и перемирие заключено, «Слава» вошла в бухту и встала на якорь вне пределов досягаемости пушек батареи. Пока она оставалась на этом месте, каперы были заперты на своей стоянке. Ведение переговоров стало возможным благодаря знанию Хорнблауэром испанского языка. Скоро также стало известно, что комендант — полковник Вилльянуэво — готовится к полной капитуляции. Оказавшись перед угрозой нападения негров, восставших в глубине острова, и будучи отрезанным от моря, он предпочел сдаться британцам.
Мистер Бакленд оказался в трудном положении. Он достиг победы, которая может повысить его престиж перед адмиралом в Кингстоне. Теперь ему будут задавать гораздо меньше вопросов о том, как и почему он принял командование. Он вполне мог рассчитывать на продвижение по службе. С другой стороны, теперь он был обречен связаться с решением сложной проблемы международных отношений. В результате все, чего ему удалось достичь, могло быть потеряно из-за малейшей ошибки в дипломатии. Он слишком мало знал о ситуации, сложившейся на Гаити, а полученные им приказы, полные предостережений от возможных ошибок в подобных делах, при этом не проясняли ситуации, в которой лейтенант, временно командующий линейным кораблем Его Величества, теперь находился. Бакленд был хорошим моряком и дисциплинированным офицером и был готов (как он сам думал) командовать кораблем. Чего он не предполагал, так это того, что капитан Королевского военно-морского флота должен иметь хотя бы общее представление о высокой стратегии и хоть немного разбираться в иностранной политике. Собирается ли Британия оккупировать форт на Гаити? Касается ли англичан проблема испанцев, которых могут вырезать восставшие негры? Какова политика Британии по отношению к Туссену Лувертюру, вожаку восставших? Будет ли признано желательной поддержка испанского влияния на острове в противовес французской?
Помимо всех этих сомнений, Бакленд прекрасно знал, что дальнейшее пребывание «Славы» в бухте Самана усиливает риск вспышки желтой лихорадки среди ее команды. Решать приходилось быстро, а Вилльянуэва требовал предоставить его войскам и судам право свободного прохода на Кубу или в Пуэрто-Рико. Не накажут ли Бакленда, если он пойдет на это? Должен ли он настаивать на безоговорочной капитуляции? Но тогда придется снова сражаться — и тут еще эта желтая лихорадка… Так что же делать?
Именно Хорнблауэр предложил сделать следующий ход, который состоял в установке девятифунтовой пушки на позицию, с которой ядра могли достигать места якорной стоянки каперских шхун. Это потребовало значительных усилий, но мистер Буш организовал перевозку с предусмотрительностью и большой энергией. После нескольких выстрелов, которые показали, что каперские суда на стоянке в бухте уязвимы и абсолютно беззащитны, испанцы согласились на безоговорочную капитуляцию, которая и была подписана 21 августа. После того, как гарнизон сложил оружие, около тридцати офицеров, с полсотни женщин и четыреста солдат были погружены на «Славу». Три приза, с небольшими призовыми командами на каждой, включая судно «Ла Гадитана», были отданы под команду Хорнблауэра. Укрепления Саманы были взорваны, а пушки с них приведены в негодность и сброшены в бухту. С попутным ветром флотилии понадобилось бы меньше недели, чтобы достичь Кингстона, но, похоже, в реальности на это понадобилось несколько больше времени. «Слава», вышедшая в море 24 августа, была страшно переполнена людьми, а в дополнение к недостатку пространства добавлялась нехватка пресной воды и продуктов. Особые проблемы порождало наличие на борту женщин и детей, которым следовало делать некоторые послабления; но даже и мужчин-пленников нельзя было постоянно держать в духоте трюма, и время от времени их выпускали на верхнюю палубу — прогуляться и глотнуть немного свежего воздуха. С учетом раненных в предыдущих операциях (двадцать девять человек) и шестидесяти моряков, выделенных в состав команд на захваченные призы, на «Славе» ощущался острый недостаток экипажа, особенно, если учесть количество пленников, которых приходилось стеречь. Тем не менее, в течении нескольких дней все обстояло благополучно и обычные меры предосторожности были несколько ослаблены.
Утром 27 августа, корабельный хирург, мистер Клайв, доложил мистеру Бакленду, что капитан Сойер проявляет признаки выздоровления. С момента трагических ночных событий ему постоянно давали опиат, и теперь он уже был спокоен настолько, что его можно было освободить из смирительной рубашки, в которую он все это время был заключен. Его меньше мучили кошмары, переломы начали срастаться, а ушибы — заживать. Как-то он удивил ухаживающего за ним юнгу вопросами, где команда и чем она занимается. Когда несколько часов спустя он снова заговорил, то похоже, все повторяя свои оправдания перед лордом Сент-Винсентом. «Ваша Светлость, это была ошибка сигнального офицера… Они все против меня… Я могу представить свидетелей, Ваша Светлость, которые слышали, как они вступили в заговор». Многое из того, что он говорил, было бессмысленным бредом, но, по крайней мере, он уже не мычал от страха. Если процесс выздоровления будет продолжаться, отметил мистер Клайв, капитан Сойер может быть в состоянии давать показания следственной комиссии. Он даже сможет пролить немного света на инцидент, который с ним произошел, конечно, со своей точки зрения. Все это дополнительно осложняло ситуацию и делало ее еще более опасной. Тем же вечером мистер Бакленд передал Хорнблауэру приглашение прибыть на «Славу» с докладом. Не сохранилось никаких данных о том, про что они говорили, но, скорее всего, Бакленд вновь (и уже не первый раз) спрашивал Хорнлауэра, не может ли тот что-либо рассказать о том, как Сойер упал в люк.
Вероятно, Хорнблауэр снова сослался на то, что ничего нового об этом случае сказать не может. Он вернулся обратно на «Ла Гадитану» и плавание продолжалось. 29 августа маленькая флотилия рассчитывала прибыть в Кинстон, однако в ночь с 27-го на 28-е пленные на «Славе» взбунтовались против своих тюремщиков и овладели верхней палубой корабля. Предположительно, нескольким женщинам удалось получить свободу в обмен на обещания проявить свою благосклонность к двум часовым, стоящим на посту у мичманской кают-компании. В поднятой суматохе удалось сбежать нескольким пленным-мужчинам. Этого было вполне достаточно, чтобы освободить испанских офицеров, настоящим вожаком на этом этапе стала мулатка — жена одного из офицеров с каперов. В результате достаточно беспорядочного сражения, некоторые (но не все) пленные, сумели завладеть оружием. Мистер Бакленд был весьма удивлен, когда его захватили в плен прямо в каюте. Мистер Смит был убит на своем посту — на шканцах. Мистер Буш попытался собрать команду «Славы», однако был несколько раз ранен и брошен умирать на верхней палубе. К счастью, выстрелы были услышаны на «Гадитане», где Хорнблауэр также обратил внимание на то, что «Слава» вдруг резко привелась к ветру. Он сделал то же самое, одновременно выслав шлюпки для того, чтобы собрать команды с других призовых судов. Каждый из приз-мастеров получил приказ перерезать все шкоты и брасы, прежде чем покинуть свое судно. Во главе шестидесяти человек, половину из которых составляли морские пехотинцы, Хорнблауэр подвел «Гадитану» к борту «Славы» и повел свой отряд на абордаж. Испанцев застали врасплох и, прежде чем им удалось организовать сопротивление, Хорнблауэр отбил корабль, очистив верхнюю палубу и загнав пленных обратно в трюм. Во время боя, перед или после контратаки, кто-то из испанцев, по-видимому, проник в капитанскую каюту и перерезал Сойеру глотку. Так или иначе, капитан был найден мертвым, а ирония судьбы состояла в том, что люди, столь безжалостно поступившие с беспомощным сумасшедшим, пощадили Бакленда, который также был найден ими лежащим в кровати. Странные вещи иногда случаются в самом сердце битвы! В том, что призы затем были вновь взяты англичанами под контроль, не было ничего удивительного — пленные на них просто не успели наладить бегучий такелаж.
«Слава» вместе со своими призами пришла в Кингстон 30 августа, и Бакленд передал свой рапорт адмиралу. К его огромному облегчению, об обстоятельствах помешательства Сойера его особо не расспрашивали. На самом деле, сэр Ричард Ламберт знал о Сойере намного больше, чем Бакленд мог себе представить, получая известия как от Лорда Сент-Винсента, так и от лорда Спенсера. Фактом, привлекшим внимание адмирала, было то, что сам Бакленд во время восстания пленников был захвачен им прямо в своей койке. Что касается других лейтенантов, то один из них был убит, а второй настолько изранен, что ему пришлось наложить пятьдесят три шва. Капитан Королевской морской пехоты Уайтинг также был убит, его младший офицер Меррик — также, а штурман Карберри был доставлен в госпиталь с лишь сомнительными шансами на выздоровление. В противоположность этому, исполняющий обязанности командира не получил ни царапины, а корабль для него отбил Хорнблауэр. Да, Бакленд неплохо проявил себя в бухте Самана, а «Гадитану» вполне можно было принять в состав эскадры в качестве восемнадцатипушечного шлюпа, но ведь под конец он чуть было не потерял «Славу». В конце концов, адмирал сказал Бакленду, что будет назначена следственная комиссия, начало работы которой, при необходимости, будет отложено до тех пор, как мистер Буш не выздоровеет настолько, чтобы быть в состоянии давать показания. Тем временем на «Славу» будет назначен новый командир. Это обещание некоторое время еще питало надежды Бакленда на повышение, однако капитан Джеймс Когсхилл с корабля Его Величества «Баклер» (28 пушек) на следующий день появился на шканцах «Славы» и огласил приказ о своем временном назначении. Предстояло назначить еще двух лейтенантов, и Хорнблауэр знал, что теперь он будет третьим — заметное повышение для того, кто еще недавно был пятым.
Следственная комиссия собралась на борту «Славы» 7 сентября, под председательством капитана Армитеджа с флагманского корабля. Мистер Бакленд был первым свидетелем и уже вскоре очутился в трудном положении, давая объяснения об обстоятельствах, при которых пленным удалось захватить «Славу». До этого момента перспективы его карьеры были еще неясны, однако следующие вопросы и ответы стали для нее решающими:
Председатель Комиссии:
— Что же произошло вечером 27 августа?
Мистер Бакленд:
— В середине вахты я проснулся от странного шума за стеной моей каюты. Некоторое время спустя дверь рывком распахнулась, и внутрь ворвались четыре или пять человек. Как только они вошли, я узнал в них военнопленных.
Председатель Комиссии:
— Где было ваше оружие?
Мистер Бакленд:
— Моя шпага и пистолеты висели на гвозде в переборке.
Председатель Комиссии:
— Могли ли вы до них дотянуться?
Мистер Бакленд:
— Да, сэр, но я не успел за них схватиться. Мужчина с тесаком подскочил ко мне и приставил лезвие к горлу. Остальные в это время связали меня полосами разорванных простыней и оставили лежать в каюте.
Председатель Комиссии:
— Чем вы можете объяснить, что вас пощадили, в то время как лежащий больным капитан Сойер был убит?
Мистер Бакленд:
— Я только могу предположить, что на него напала другая группа пленников, более ослепленных яростью битвы, нежели те, что атаковали меня.
Председатель Комиссии:
— А может, потому, что он пытался оказать хоть какое-то сопротивление?
Мистер Бакленд:
— Об этом мне ничего неизвестно.
Председатель Комиссии:
— Сколько времени прошло с того момента, как вы в первый раз услышали шум до того как пленные вошли в вашу каюту?
Мистер Бакленд:
— Несколько минут. Должен пояснить, что шум и беспорядки среди пленных — а, в особенности, среди женщин, размещенных на полубаке — не были чем-то неожиданным. Я полагал, что с этим справятся вахтенные на палубе.
Председатель Комиссии:
— Предполагали ли вы, что вас, как временного командира, вызовут при малейшем намеке на то, что кораблю угрожает опасность?
Мистер Бакленд:
— Так точно, сэр!
Председатель Комиссии:
— Однако, услышав шум, вы не предприняли никаких действий?
Мистер Бакленд:
— Я был уверен, что меня обязательно вызовут, если ситуация того потребует.
Председатель Комиссии:
— Благодарю вас, мистер Бакленд. Пожалуйста, останьтесь при заслушивании остальных свидетелей. Пригласите мистера Буша.
У комиссии сложилось впечатление, что Бакленд был вполне компетентным первым лейтенантом, но так и не вступил по-настоящему в командование кораблем. Настоящий лидер на его месте, располагая всего двумя вахтенными офицерами, с командой, уступавшей по численности своим пленкам, редко покидал бы верхнюю палубу. Прозвучавший выстрел заставил бы его появиться на шканцах полностью вооруженным уже в течение нескольких секунд. Но девизом Бакленда было: «Пусть за всем следит тот, кто на вахте!» Он был хорошим лейтенантом, и хорошим лейтенантом ему было суждено остаться навсегда.
Буш и Хорнблауэр дали свои показания и были удостоены похвалы, один — за то, что сражался, пока не был вынужден уступить подавляющей силе, а другой — за то, что быстро оценил ситуацию и принял правильное решение. Следующим свидетельствовал мистер Клайв, который представил доказательства, что болезнь капитана Сойера сделала для него невозможным командование кораблем. Другие свидетели пролили немного света на то, как началось восстание пленных, но в целом история осталась неясной, так как многие основные непосредственные ее участники были уже мертвы. После недолгого совещания, Комиссия сообщила свое решение, которое огласил капитан Армитедж:
«Комиссия полагает необходимым произвести тщательное расследование среди испанских пленных, для того, чтоб выяснить, кто из них убил капитана Сойера. Убийца, если он все еще жив, должен предстать перед судом. Что же касается, оставшихся в живых офицеров корабля Его Величества «Слава», то проведенное нами расследование дает основание полагать дальнейшие действия в отношении них лишенными необходимости».
Это означало, что заседания трибунала не будет, хотя Бакленд и просил о его назначении, как не будет и дальнейшего расследования. Конечно же, насчет смерти капитана Сойера — таково было единственное следствие проведенного расследования. Которое было получено незамедлительно. «Гадитана», ныне шлюп Его Величества «Возмездие» (18 пушек) готовилась к переходу в Англию, и Хорнблауэр был назначен на нее капитан-лейтенантом. Это его повышение было почти неизбежным — как это нам известно сейчас — однако стало для самого Хорнблауэра полнейшей неожиданностью. Захват и уничтожение базы каперов в бухте Самана, причем были захвачены три приза, а один корабль введен в состав британского флота, было небольшой, но решительной победой. При обычных обстоятельствах это событие было бы отмечено производством в капитан-лейтенанты первого лейтенанта «Славы» (что считалось бы также свидетельством признания успехов ее капитана). В данном же случае командир «Славы» погиб, первый лейтенант был не достаточно подготовлен к повышению, а следующий по старшинству офицер находился в госпитале и мог быть уволен со службы по инвалидности. Следующим на очереди стоял Хорнблауэр и, к тому же, он-то и был вдохновителем всей операции. В своем рапорте Бакленду Буш рассказал, что штурм форта Самана стал возможен благодаря его настойчивости, а увенчался успехом благодаря инициативе Хорнблауэра. В собственном же рапорте адмиралу, Бакленд отдал должное Хорнблауэру за то, что тот отбил «Славу». Да и мог ли он поступить иначе? Ведь уж кого-кого, а Хорнблауэра невозможно было упрекнуть в том, что он виноват в кризисе, который сделал эту отчаянную контратаку необходимой. Хорнблауэр не был на борту «Славы», однако отреагировал молниеносно, с первыми же выстрелами. Так что назначение командиром «Возмездия» какого-либо другого офицера (например, флаг-лейтенанта) было бы вопиющей несправедливостью по отношению к герою. Сэр Ричард Ламберт принял верное решение, с которым Буш сразу же согласился и которое Бакленд, в конце концов, вынужден был признать, по крайней мере, логичным. Бакленду досталась командирская доля за три приза — слабое утешение — и он все же вынужден был признать, что Хорнблауэр — блестящий молодой офицер.
От этого периода карьеры Хорнблауэра нам остались два документа, достойных того, чтобы привести их полностью. Первый представляет собой фрагмент письма, написанного капитаном Армитеджем сэру Эдварду Пеллью, который сохранился среди бумаг лорда Эксмута. В нем есть следующие строки:
12 Сентября 1800 года
«…недавно в Кингстон прибыла «Слава», после удачной атаки в бухте Самана на Гаити, при которой были захвачены три приза, а одна каперская шхуна уничтожена. Ты бы не удивился, узнав, что ее капитан — твой старый знакомый, Дэвид Сойер, был заперт в своей каюте как сумасшедший (каковым, говоря между нами, я его всегда и считал), так что высадкой десанта руководил первый лейтенант, мистер Бакленд. Они возвращались под завязку набитые пленными испанцами, которые напали на команду «Славы» и почти взяли над ней верх. Услышав выстрелы, молодой офицер, который командовал призами, собрал призовые команды на самое крупное из судов, подошел на нем к «Славе», высадился на нее и одолел испанцев в жестокой рукопашной схватке. Однако к этому времени Сойер и многие другие были убиты и ранены. Отчаянным храбрецом, который совершил этот подвиг, стал молодой человек двадцати четырех лет, по имени Хорнблауэр, долговязый и нескладный, с грустным выражением открытого лица, брюнет с карими глазами. Когда он предстал перед следственной комиссией, я нашел его меланхоличным, несколько рассеянным и очень бедно одетым, но стоило ему только начать рассказ о битве, его подбородок упрямо вздернулся, глаза засверкали, и весь он стал каким-то необыкновенно собранным. Сэр Ричард назначил его капитан-лейтенантом на «Возмездие» и я уверен, что если эта война продлится еще несколько лет, мы еще о нем услышим.
Ты спрашиваешь, слышал ли я что-нибудь о твоем протеже, которого тебе рекомендовал герцог Нортумберлендский. Он сейчас служит мичманом на «Баклере», но только появится вакансия, я собираюсь забрать его на флагман. Когсхилл (ты должен помнить его по «Друиду») говорит, что он сможет сделать большую карьеру, если только полностью пересмотрит принципы, с которых начал…»
Капитану Армитеджу не было известно, что Хорнблауэр, о котором он писал, был уже знаком Пеллью, который прекрасно помнил молодого человека и сохранил это письмо как доказательство своей верной оценки его способностей.
Другим документом стало наиболее раннее из писем, написанное рукой Хорнблауэра, по крайне мере — первое из сохранившихся. Оно было направлено с «Возмездия» мистеру Бушу, который все еще находился в госпитале.
17 Сентября 1800 года
Мой дорогой друг!
С радостью узнал от доктора Сэнки, что вы, вероятно, поправитесь скорее, чем это предполагалось ранее. Негр-лодочник, который вручит вам это письмо, передаст вам также несколько манго и ананас, вместе с письмом из Англии, которое пришло по неточному адресу. Мы напряженно работаем, стараясь побыстрее подготовить этот корабль к службе, и я только мечтаю о том, чтобы нам пришлось служить на нем вместе. Трудно приходится с набором команды, особенно уоррент-офицеров, так что выйти в море, в Англию ли или в конвой между островами, мы вряд ли сможем ранее конца октября. К тому времени, вы, наверняка уже будете в Англии, в отпуске после ранения, хотя я уверен, что вы предпочли бы остаться здесь, где можно отличиться в боях и рассчитывать на повышение. На сей раз повезло мне, но я уверен, что любой скажет, что вы сражались не хуже. Полагаю, что с теми ранами, которые вы получили, вам просто повезло остаться в живых. Надеюсь, что судьбы войны вновь сведут нас на одном корабле.
Всегда искренне ваш —
Г.Х.
Наиболее важным здесь представляется то, что Хорнблауэр, похоже, наконец нашел настоящего друга — возможно, впервые в жизни. Эта дружба не могла бы быть возможной, если бы Буш по-прежнему оставался старшим по званию. Ситуация, которая возникла в Самане, когда Хорнблауэр подталкивал Бакленда к отдаче приказов и советовал Бушу, как их выполнять, была нестабильной по своей сути.
Нетерпение Хорнблауэра вызывало раздражение старших по званию, и следствием решения адмирала было то, что прирожденный лидер был поставлен на правильное место. Пирамида, балансирующая до этого на своей вершине, наконец, прочно встала на основание. Буш не проявил ни следа ревности. Он не мог и не хотел претендовать на проявление хотя бы сотой доли свойственной Хорнблауэру инициативы и изобретательности. Когда в будущем им еще пришлось служить вместе, он занял естественную для себя позицию заместителя командира. Поворотной точкой в карьере Хорнблауэра стало отбитие «Славы» — по крайней мере, так дело представлялось его современникам. А может, правильнее было бы сказать, что этой точкой стала смерть капитана Сойера?
См. Приложение: Письмо Хорнблауэра потомкам, в котором он объясняет, как все было на самом деле
4. Капитан-лейтенант
Необычным в миссии «Славы» было то, что рейд в бухту Самана (из соображений безопасности) имел место фактически до того, как корабль присоединился к эскадре под флагом сэра Ричарда Ламберта. Бакленд практически ничего не знал о ситуации на Эспаньоле, его приказы (унаследованные им от Сойера) были ограничены описанием одиночной операции. Хорнблауэр никогда не видел этих приказов, что было дополнительной причиной полного незнания им всех сложностей, с которыми приходилось иметь дело адмиралу. Для восполнения этого пробела, он, пока «Возмездие» перевооружали, взялся за изучение книг и газет. В прошлом испанская колония, Эспаньола в те времена была разделена между Испанией и Францией. Гаити была ее частью, отошедшей к Франции в 1697 году, и развивалась как область плантаций сахарного тростника, который возделывали рабы-негры. Французская революция стала для негров сигналом для революции негритянской, сопровождаемая междоусобицей местных вожаков. Генерал Туссен Лувертюр был одним из наиболее успешных кандидатов в лидеры и считался таковым с 1799 года. Отношение к нему британцев было неоднозначным. С одной стороны, вытеснение республиканской Франции с Гаити было встречено с одобрением. Это способствовало усилению вероятности британской аннексии, а часть острова фактически уже была аннексирована британскими войсками с 1793 по 1798 год. С другой стороны, британцев все более заботила возможностью того, что восстание негров распространится на Ямайку. Одно время Туссена снабжали оружием и порохом, в другое — его эмиссаров арестовывали, а суда — задерживали.
Поведение французов было не лучше: вначале много говорилось о Равенстве (которое могло касаться, но могло и не касаться негров), затем пришло время Бонапарта говорить о создании Империи. Ситуация была более чем сложной, а адмирал не получал исчерпывающих инструкций от лорда Спенсера, чья политика была нерешительной, а сведения, похоже, устаревшими.
8 ноября 1800 года Хорнблауэр уже мог доложить, что шлюп «Возмездие» готов к несению службы: отремонтирован, переоснащен, вооружен, снабжен продовольствием и другими необходимыми припасами. Правда, на нем все еще недоставало моряков, но и на многих других кораблях с командами картина была та же самая. Предполагалось, что Хорнблауэра направят для несения конвойной службы, но у адмирала были другие мысли по этому поводу. Его собственный период службы на Ямайке близился к завершению, и адмирал ожидал своего преемника, лорда Хьюго Сеймура, который был уже назначен. Поэтому он задумал ход, который бы подчеркнул успехи его периода командования. Если Туссен Лувертюр будет лишен возможности отправить корабли для высадки своих войск на Ямайку, или просто лишится своих кораблей, тогда адмирал может считать свою миссию выполненной. Задание это было сложным и офицер, назначенный для его выполнения, должен был быть достаточно молод, чтобы его действия можно было дезавуировать в случае неудачи. Временно исполняющий обязанности капитан-лейтенанта был бы идеальной кандидатурой, но при этом он должен был знать французский и испанский, а к тому же разбираться в обстановке, сложившейся на Гаити. Этим человеком оказался Хорнблауэр, получивший секретные приказы, которые в случае возникновения опасности должны были быть уничтожены. Ни одна копия этих приказов не достигла Адмиралтейства. Официальный рапорт Хорнблауэра разделил их участь (по вполне понятным нам теперь причинам) и сегодня мы располагаем лишь отрывочными данными об этой операции. Представляется вероятным, что сам Хорнблауэр сохранил копии своей корреспонденции, так что эти бумаги еще могут видеть свет. Без этих живых свидетельств мы обречены полагаться лишь на вахтенный журнал «Возмездия», который лишь лаконично перечисляет, где и когда побывал шлюп. Таким образом, мы можем быть уверены, что «Возмездие» вышел в Порт-о-Пренс 14 ноября 1800 года и вернулся в Кингстон 27 июня 1801 года. Полная история о том, что произошло в промежутке между двумя этими датами, покрыта мраком неизвестности и, возможно, никогда не будет рассказана.
Во время плавания Хорнблауэра на Гаити, Туссен Лувертюр отказался от британской поддержки, хотя мог объявить себя королем государства под протекторатом Британской империи. Отказ от предложения, которое могло бы его спасти, может быть объяснен отчасти тем, что Лувертюр воспитывался как франкоговорящий католик, а отчасти тем фактом, что британские войска были выведены с острова совсем недавно — только в 1798 году.
Войска Туссена под командованием Дессалинье и Кристофа завоевали южную часть Гаити в 1799 году, распространив свою власть на весь остров. Тем не менее, он был достаточным реалистом и понимал, что в великой войне, захлестнувшей весь мир, ему придется принять сторону одной из двух сил. Единственное, что Лувертюру не удалось, так это разгадать характер Наполеона Бонапарта. Но кто мог бы его за это упрекнуть? Многие государственные деятели, которые имели неизмеримо лучшие возможности общения с первым консулом, ошибались куда больше. Туссен не мог предположить, что будет заключен мирный договор в Амьене, в результате которого освободится часть французских войск, а французские корабли смогут выйти в море и пересечь Атлантику. В этом его также не стоит упрекать, так как этот мир привел в изумление куда более опытных лидеров. Его намерением было восстановить мир и властвовать на острове в качестве генерала (французской армии) и пожизненного президента. Он разработал исключительно либеральную конституцию и отослал ее во Францию, запросив одобрения Первого Консула. Лувертюр был человеком исключительных способностей, широких взглядов и до сегодняшнего дня считается отцом независимости Гаити. К сожалению, многие люди из его окружения обладали гораздо большей жадностью и гораздо меньшим ощущением реальности. Среди последних был и комиссар Французской Республики Роме, приехавший из Франции в 1791 году. Его амбиции непременно требовали организовать восстание негров на Ямайке. Были собраны и вооружены корабли, а в Кингстон направлены шпионы, которые пытались организовать мятеж, в результате которого ни один из белых не должен был остаться в живых. Похоже, все это делалось в тайне от Туссена и в его отсутствие, а план собирались привести в действие в марте или апреле 1801 года. Историки Гаити предполагают, что экспедиция была отменена по большей части оттого, что Туссен узнал о ней, однако сохранились свидетельства того, что корабли все же вышли в море. Поскольку же они так никуда и не прибыли, естественно было бы предположить, что они погибли во время шторма или разбились на рифах, не обозначенных на карте. Против этого говорит фактор расстояния — Порт-о-Пренс и Кингстон разделяют едва ли три сотни миль, а кратчайшее расстояние (между мысами Моран и Тибурон) не превышает и сотни. К тому же и переход по этому короткому маршруту был хорошо известен.
Возможно, мы никогда так и не узнаем, что произошло во время экспедиции Хорнблауэра на Гаити, и в какой степени он был (если был вообще) причастен к исчезновению кораблей Туссена Лувертюра. Что нам сегодня известно, так это грустный конец всей истории: генерал Леклерк, муж Полины Бонапарт, и, таким образом, свояк Наполеона, в конце 1801 года прибыл на остров с армией в 21 000 человек. Туссен дал ему сражение в марте 1802 года, но вскоре затем заключил мир, признав власть французов. Затем Лувертюр был предательски арестован и выслан во Францию, где его заключили в крепость Сен Жу во французских Альпах. Там он и умер, став жертвой холода и (возможно) яда. Сам Леклерк так же умер в 1802 году, а его армия несла жестокие потери от желтой лихорадки и других тропических болезней. Остатки французских войск были вывезены с Гаити и сдались британцам. 1 января 1804 года Гаити провозгласило свою независимость, а Дессалинье стал императором. Год спустя он был убит, а его преемником стал генерал Анри Кристоф, личность столь же примечательная, как и сам Туссен. Вначале он был президентом, а в 1811 году стал королем и построил вначале дворец Сан-Суси, а затем, позже, грандиозную Цитадель в двадцати милях от Кэп-Гаитьен, на высоте в три тысячи футов над уровнем моря. Хорнблауэр посетил ее позже, в 1822 году, вскоре после того, как генерал Жан-Пьер Бойе стал президентом всей Эспаньолы. По случайному замечанию, которое сделал при этом Хорнблауэр, стало ясно, что его предыдущий визит на остров был достаточно драматичен. Можно даже предположить, что в это время он пережил некое любовное приключение, вероятно, первое в своей жизни. О том, что произошло на само деле, мы не знаем совсем ничего.
В Кингстоне Хорнблауэр докладывал уже не сэру Ричарду Ламберту, а лорду Хьюго Сеймуру. Стало ясно, что политика вновь изменилась, что последняя миссия Хорнблауэра (какова бы ни была ее цель) была плохо задумана и обо всей операции лучше всего забыть. Во избежание щекотливых запросов в Палате Общин требовалось свести важность всего дела к минимуму. Возможно даже, например, было целесообразно доложить о том, что временно исполняющий обязанности командира шлюпа «Возмездие» лейтенант Горацио Хорнблауэр превысил свои полномочия. Это бы привело к гораздо менее серьезным последствиям, нежели доклад об излишней инициативе, несвоевременно проявленной капитан-лейтенантом Хорнблауэром, командиром восемнадцатипушечного шлюпа Его Величества «Возмездие». Каково бы ни было личное расположение лорда Хьюго Сеймура к молодому офицеру, главными для адмирала были все же интересы службы. Он объявил, что «Возмездие» вернется в Англию в составе конвоя в июле 1801 года и его команда будет распущена. Печальным следствием подобного решения правительства было то, что Хорнблауэр не был утвержден в своем новом чине. Хуже того, вскоре он узнает, что жалование капитан-лейтенанта все это время ему выплачивали по ошибке и, следовательно, перерасход средств теперь будет вычтен из его лейтенантского оклада. Еще не зная об этом, Хорнблауэр вышел в море 19 июля. «Возмездие» входило в состав конвоя из 87 судов. Поход прошел без инцидентов и конвой достиг Плимута 1 октября. В этот же день были подписаны предварительные условия мира. Практически, война уже закончилась.
Наибольшей трудностью исторического повествования является преодоление автором соблазна увлечься слишком цветистым описанием, основанном на знании последующих событий. Сегодня мы знаем, что Амьенский мир продлился неполные четырнадцать месяцев — со дня его подписания 25 марта 1802 года до повторного объявления войны 18 мая 1803. Мы могли бы добавить, что амбиции Первого Консула делали возобновление военных действий по сути неизбежным, и все современники должны были это понимать. Однако, на самом деле это было не совсем так. Напротив, большинство людей думало, что война на самом деле закончена. В конце концов, она тянулась уже девять лет, а предыдущие войны продолжались, соответственно, семь и восемь лет. Кто же мог предвидеть тогда, что противостояние растянется еще на добрые двенадцать лет? Мгновенной реакцией на заключение мира со стороны богатых англичан стали поездки в Париж, о которых некоторым впоследствии пришлось пожалеть. Что же касается Флота Его Величества, то здесь сообщение о мире было встречено весьма живо, хоть и с противоречивыми чувствами — к огромной радости обитателей нижней палубы и отчаянью офицеров. Продвижение по службе теперь становилось практически невозможным, а рассчитывать на должность было весьма сложно. Для большинства офицеров, не обладающих личным состоянием, это означало необходимость выбирать между изменением профессии или жалким существованием на половинное жалование до следующей войны.
Однако даже по сравнению с большинством своих коллег, Хорнблауэр находился в особенно отчаянном положении. У него не было близких родственников, а его дядя Томас Роусон, который подбрасывал кое-какие деньги, пока Горацио был мичманом, умер, насколько было известно последнему, в 1799 году. Другой дядя, который также помогал ему деньгами, Джонатан Картер Хорнблауэр, был все еще жив, но Горацио испытывал почти болезненную боязнь, что обращение будет воспринято как просьба о помощи. Любая попытка обратиться к человеку, которого он не видел ни разу в жизни, могла быть истолкована как мольба о помощи — деньгами или работой. Хорнблауэр не предпринял такой попытки, понимая, что остался одиноким во всем огромном мире. Похоже, он также не заехал в родные места, где родился и провел детские годы, так как и там про него вполне уже могли позабыть. Когда команда «Возмездия» была распущена (1 января 1801 года), он направился в Лондон, где обратился в Адмиралтейство с просьбой об оставлении на службе. Однако вскоре он понял, что в строю остается лишь горстка кораблей, а офицерами на них будут люди, имеющие политический вес. Ему также сообщили, что он не был и не будет утвержден в своем новом звании, а выплата половинного лейтенантского жалованья будет ему приостановлена на семь месяцев. После нескольких тяжелых недель, проведенных в Лондоне, он отправился обратно в Портсмут, рассудив, что жить в этом городе будет дешевле. Так оно и было, но зима пришла уж очень холодная, а денег у него оставалось мало. Он нанял комнату на самом верхнем этаже дома по Хайбери-стрит и ел только один раз в день — все, что мог себе позволить — в столовой на Брод-стрит. Его домохозяйка, миссис Мэйсон, была вдовой корабельного мастера (Ричард Мэйсон, умер в 1795 году), а ее дочь, Мария, преподавала в женской школе и помогала в уборке комнат для жильцов. Это было серое полунищенское существование, и Хорнблауэр вскоре задолжал за жилье.
От этой тяжелой жизни Хорнблауэру на время удалось избавиться в феврале 1802 года. Сборщиком налогов в Коувс, что на острове Уайт, был мистер Уильям Арнольд, чья кончина 3 марта 1801 года оставила этот пост вакантным. По предложению лорда Болтона, губернатора острова Уайт, Генеральный почтмейстер (лорд Оукленд) назначил на нее вдову мистера Арнольда, которая стала также «заместителем почтмейстера острова Уайт». По-настоящему всей работой на таможне руководил заместитель контролера, мистер Джон Уорд, которому пришлось в течение доброй дюжины лет ожидать собственного повышения.
В обязанности мистера Уорда входило и поддержание в строю таможенного шлюпа «Сван V», построенного мистером Джелли из Коува, вооруженного двенадцатью пушками, которым в те времена командовал мистер Уильям Феррис. Случилось так, что в результате несчастного случая мистер Феррис был ранен и оказался прикованным к кровати в общей сложности почти на три месяца. Не вполне ясно, как Хорнблауэру удалось познакомиться с миссис Арнольд или мистером Джоном Уордом, однако результатом болезни мистера Ферриса стало временное назначение Хорблауэра командиром на все время отсутствия мистера Ферриса. Район патрулирования «Сван V» простирался от Лайм Региа до Бичи — Хэд. Здесь под командованием Хорнблауэра были захвачены по крайней мере два судна контрабандистов, и существуют косвенные упоминания о неких иных приключениях, имевших место в это же время, однако документальные подтверждения этих событий пока еще не увидели свет. Существующая картина маслом, на которой изображен «Сван», преследующий люггер контрабандистов, может относиться как раз к описываемому периоду, однако документы, которые должны были находиться в Саутгемптоне, отсутствуют. Другим интересным фактом является то, что Уильям и Марта Арнольд были родителями Томаса Арнольда, позже знаменитого директора школы в Рагби. До 1803 года Томас проводил свои детские годы в Коувс, пока не отправился в школу Вестминстера (См. «На войне с конрабандистами» контр-адмирала Д. Арнольда Фостера, 1936 г., стр. 247 и последующие) Вполне вероятно, что живой семилетний мальчик, каковым был Томас, вполне мог посещать «Сван» в то время, когда шлюп заходил в порт, и должен был встретиться там с Хорнблауэром. Неизвестно, встречались ли они когда-либо вновь.
В течение этих трех месяцев Хорнблауэр жил довольно неплохо, получая небольшое жалование и кое-какие дополнительные суммы в качестве приза за задержанную контрабанду. Он надеялся также послужить месяц-другой на «Сване» волонтером, уже после возвращения мистера Ферриса. Как бы то ни было, но к осени 1802 года, он вновь уже был в своей комнате под самым чердаком на Хайбери-стрит и получал свое половинное лейтенантское жалование. Если несмотря на это он все же бедствовал, так это из-за того, что ему приходилось теперь выплачивать миссис Мэйсон долги за период с декабря 1801 по февраль 1802 года, когда он был лишен каких бы то ни было источников доходов. В это же время он стал профессиональным игроком в карты, часто посещая «Длинные Комнаты» в Портсмуте и получая небольшую сумму от их владельца, французского эмигранта, называющего себя маркизом де Сен-Круа. За полгинеи в неделю Хорнблауэр теперь постоянно находился в Комнатах с полудня до двух часов ночи, в готовности составить партию любым трем джентльменам, которые предпочитали игру в вист другим видам азарта — «двадцати одному» или рулетке (играм, которым предавались в другой, внутренней комнате).
Теоретически, Хорнблауэр мог проигрывать больше, чем он имел, но на практике любители виста, которым было сложно найти четвертого партнера, были плохими игроками. Уроки, которые они получали от Хорнблауэра, хоть и по невысоким ставкам, были, таким образом, весьма дорогими (См. «Нравы Регентства», Х. Р. Уорбуртон, Лондон, 189, стр 73–76. Настоящих игроков нечасто видели в «Длинных Комнатах» — они предпочитали «Кокпит», который содержал «капитан» Уокфилд).
Хорнблауэр играл мастерски, но все же всегда имел при себе десять фунтов на случай неудачи.
Ирония судьбы заключалась в том, что он ненавидел игру с плохими партнерами, но нечасто мог позволить себе игру с хорошими.
Это были нелегкие для Хорнблауэра времена, но он по-прежнему имел друга в лице Буша — тот жил с четырьмя сестрами в Чичестере, но каждый месяц приезжал в Портсмут за чеком на свое половинное жалованье. Иногда они при этом встречались, и Буш даже останавливался у миссис Мэйсон на ночь. Он описывал ее как невысокую женщину с тяжелым лицом, которая никому не доверяла, и мы можем быть уверены, что так оно и было. Буш был также достаточно наблюдателен, чтобы понять, что Мария боготворит Хорнблауэра, который находил, что ему трудно противостоять этому чувству.
К этому времени стало ясно, что война вновь начнется в 1803 году. Статьи Амьенского мирного договора, по сути, не соблюдались ни одной из сторон, а те, что касались Мальты — и не могли быть никем исполнены. Более того, было ясно, что Первый Консул и сам не заинтересован в поддержании длительного мира. Ему нужна была лишь пауза, чтобы сосредоточить свои силы, чтобы вывести флот на учения в море, например — в экспедицию на Гаити. К концу января планы превентивных военных действий уже широко обсуждались по обе стороны Ла-Манша. 8 марта король, в своем послании Палате Общин говорил о «таких мерах, каковые могут потребоваться по сложившимся обстоятельствам, для поддержания чести Короны и защиты интересов Народа». 10 марта был объявлен набор в милицию, а корабли Военно-морского флота Его Величества начали выводить из резерва и спешно вооружать. Официально война не была объявлена до 16 мая, но последние недели перед окончательным разрывом протекали в открытых приготовлениях к боевым действиям. На первый взгляд довольно незначительным среди последних стало назначение Горацио Хорнблауэра командиром шлюпа «Отчаянный». Этим повышением он был обязан случаю, который привел к встрече с адмиралом лордом Парри в качестве партнера по игре в вист в ночь на 7 марта. На Парри, одного из лордов-комиссионеров адмиралтейства, произвело сильное впечатление то, с каким холодным расчетом Хорнблауэр играл в карты. Еще одним игроком этого же роббера оказался сэр Ричард Ламберт, который, предположительно, воспользовался возможностью и напомнил лорду Парри про то, как молодому офицеру не повезло на «Возмездии». Результатом стало повышение Хорнблауэра в чине, о котором было объявлено в газетах 8 марта, 15 марта он получил назначение на корабль, на который и прибыл в Портсмут, огласив приказ о своем назначении, 24 марта.
«Отчаянный» (18 пушек), был построен в Шоргаме в 1785 году, по проекту мистера Эдварда Ханта. Его водоизмещение составляло 410 тонн, что в самый раз подходило для установки на корабле девятифунтовых орудий, в то время как обычно шлюпы вооружали шестифунтовками. Вооружение дополняли 12-фунтовые карронады, шесть на шканцах и две на баке. Помимо командира — капитан-лейтенанта, на шлюпе полагалось иметь двух лейтенантов, штурмана и двух штурманских помощников. Команда состояла из 121 человека, в большинстве своем — опытных моряков, рекрутированных еще перед началом войны. Хорнблауэр был еще слишком молод для того, чтобы рассчитывать на командование одним из наиболее современных шлюпов, строительство которых началось в 1793 году, а прототипом послужил французский «Амазон», тем не менее, корабль ему достался необычайно хорошо вооруженный и отлично укомплектованный. Он обеспечил своему старому другу Бушу должность первого лейтенанта, а мистер Проус исполнял обязанности штурмана. Несмотря на то, что раньше Буш был старше Хорнблауэра по стажу, он на долгие годы признал лидерство Хорнблауэра. При всей ограниченности своего мышления и воображения, Буш, тем не менее, был прекрасным моряком, бесспорно, смелым и преданным. Хорнблауэру повезло также выиграть в вист сорок пять фунтов — в самый раз для того, чтобы обеспечить свою каюту минимально необходимой мебелью, приобрести столовое серебро и выкупить из ломбарда свою наградную шпагу. 4 апреля, после десяти дней лихорадочной подготовки, «Отчаянный» вышел в море к острову Уэссан, перейдя под командование достопочтенного сэра Корнуоллиса, главнокомандующего Флотом Канала.
Незадолго перед выходом в море, 2 апреля, Хорнблауэр женился на Марии Мэйсон. Брак был заключен в церкви Св. Фомы Беккета, в Портсмуте, а свадебное торжество прошло «У Георга» и сам Корнуоллис провозгласил тост за молодоженов. В жизни Хорнблауэра немало тайн, но ни одна из них не является столь загадочной, как его женитьба на Марии Мэйсон.
Как известно, он был человеком значительных амбиций, но при этом не обладал влиятельными родственниками, прирожденный лидер, но по происхождению принадлежал едва ли к среднему классу. Хорнблауэр начал приобретать хорошую репутацию, однако ему не везло с призовыми деньгами. Стать капитан-лейтенантом, не достигнув двадцати семи лет — для человека, не обладающего поддержкой, это было стремительным продвижением по службе. Теперь ему надо было постараться выгодно жениться на дочери какого-либо старшего офицера, получив допуск в заветный круг высшего общества. Даже если бы ему не удалось сватовство к дочери адмирала, он мог бы попытать счастья с племянницей капитана или, на худой конец, с двоюродной сестрой адмиралтейского чиновника. И вдруг вместо этого — Мария Мэйсон! Или, будет точнее сказать, что это обе госпожи Мэйсон, мать и дочь, избрали его? Что касается самой Марии, то она была влюблена без памяти — обожала Хорнблауэра с самого начала. Со стороны миссис Мэйсон, то это, скорее всего, был холодный расчет — с того момента, как Хорнблауэр начал вообще рассматриваться в качестве возможного кандидата в мужья. Что же касается Хорнблауэра, то он стал жертвой чувства благодарности и жалости. Он хорошо запомнил, что Мария была с ним, когда он был нищим и безработным. Поэтому он и хотел спасти ее от той серой, однообразной жизни, к которой бы она иначе была бы приговорена. Кроме этого, он был особо уязвим, так как не обладал богатым опытом общения с женщинами. Когда он впервые вышел в море, во всем мире не было буквально не единой живой души, которая побеспокоилась бы о том, жив он или умер. После 1799 года ему некому было даже написать письмо. Покидая Марию через два дня после свадьбы, он впервые чувствовал, что теперь кто-то будет беспокоиться за него и хоть кому-то будет его не хватать. Пожалуй, это все, что можно сказать по этому поводу. Привлекательность Марии состояла лишь в ее молодости, и была почти полностью утрачена ею во время первой беременности. Ее развитием и образованием пренебрегали, а ее манеры не резали глаз разве что на Хайбери-стрит. Все, что она могла предложить мужу — это свою преданность и это все, чем ее муж должен был довольствоваться.
Хорнблауэру было приказано вести наблюдение за портом Брест, учитывая при этом, что официально Британия находится с Францией в состоянии мира. Он обнаружил, что его французским визави был фрегат «Луара» (40 пушек), специально выделенная для того, чтобы наблюдать за «Отчаянным». Опасность состояла в том, что французы, вероятнее всего, раньше его получили бы известие о начале войны. Хорнблауэр убедился, что на рейде Бреста стоят четырнадцать линейных кораблей, неготовых к выходу в море, при шести фрегатах, только на трех из которых были установлены стеньги. Таким образом, пока не было причин тревожиться из-за вражеских приготовлений. Корнуоллис еще не вышел в море, и Хорнблауэру оставалось лишь вести наблюдение и докладывать. Кризис наступил 21 мая, когда «Луара», к присутствию которой в бухте уже все привыкли, вдруг попыталась сблизиться с «Отчаянным». Предполагая, что война началась, Хорнлауэр приготовил корабль к бою и занял позицию в четырех милях на ветре от француза. В это время дул штормовой ветер и вскоре выяснилось, что французский фрегат имеет большую скорость и, к тому же, может идти круче к ветру. Некоторое время Хорнблауэру удавалось сохранять безопасную дистанцию благодаря хорошей морской практике, но в конце — концов «Отчаянный» оказался в пределах досягаемости вражеских пушек. Смелый маневр — маленький шедевр — закончился тем, что «Луара» потеряла ход и привелась к ветру с обстененными парусами, что дало «Очаянному» возможность пересечь ее курс и выпустить по беспомощной цели один бортовой залп. Хотя его девятифунтовки даже на дистанции пистолетного выстрела не могли нанести противнику значительных повреждений, моральный эффект этого залпа был огромен, особенно для поднятия духа команды «Отчаянного», поверившей в свои силы. Не позволяя выманить себя дальше в море за Уэссан, «Луара» вернулась в Брест со всеми признаками понесенного поражения, а Хорнблауэр и дальше сохранял свою позицию у входа в порт и был все еще там, когда подошел Флот Канала. Через несколько дней подошел «Тоннан» (84 пушки), командир которого, сэр Эдвард Пеллью, как старший из офицеров, возглавил Прибрежную эскадру.
Вновь Хорнблауэр служил под командой Пеллью, своего прежнего капитана с «Аретьюзы» и «Неустанного», человека, которого он безмерно уважал. Позиция «Отчаянного», на самом входе в неприятельский порт, однако за пределами дальности огня береговых батарей, была опасной, но помимо него здесь теперь находились фрегаты, за ними — Прибрежная эскадра, а за ней, мористее (невидимые с берега) были остальные корабли Флота Канала с адмиралом Корнуоллисом, державшим свой флаг на «Дредноуте» (98 пушек). Поддерживаемый такой силой, Хорнблауэр наблюдал за перемещениями каботажных судов, которые пользовались прибрежными фарватерами, чтобы проскользнуть в Брест или выскользнуть из него. Накопив соответствующую информацию, он предложил Пеллью свой план перехвата каботажников, который и был осуществлен 18 мая. «Отчаянный» перехватил каботажные суденышки в опасном проходе Тулиг и превратил в развалины около десятка из них. Этот удар не принес призовых денег, однако был весьма чувствительным для французов, так как с одной стороны он лишил их части столь необходимых припасов, а с другой — отбил у каботажников охоту использовать этот маршрут среди скал и отмелей.
Информация об этой атаке, равно как и о всех остальных происшествиях в Бресте, оперативно передавалась в Париж посредством телеграфа — то есть при помощи семафорных сигналов, репетуемых со специальных башен, крайняя из которых стояла на северном берегу Гуле. Именно при помощи этого приспособления «Луара» получила предупреждение о начале войны.
Хорнблауэр предложил разрушить ближнюю телеграфную станцию и береговую батарею, под защитой которой она находилась. Пеллью одобрил этот план, подкрепив «Отчаянный» отрядом морской пехоты. Хорнблауэр лично возглавил ночную атаку, а его заместителем был лейтенант Котар с «Мальборо», уроженец острова Гернси, выбранный за свое знание французского языка. Была достигнута полная внезапность, ранено было всего несколько человек, телеграфная башня была полностью уничтожена, равно как и батарея на Пти Мину. Отчет об этой операции стал первым рапортом за подписью Хорнблауэра, который появился в «Газет» и по этой же причине он был приведен в ней полностью. Написанный 17 июля, он стал последним рапортом, который Хорнблауэр вручил непосредственно Пеллью, который в это самое время был произведен в контр-адмиралы и направлен командовать эскадрой, блокирующей Рошфор.
Само по себе разрушение телеграфной станции не было особенно важным, поскольку все оборудование могло быть восстановлено за какие-нибудь десять дней, однако подобные нападения, вошедшие в постоянную практику, заставляли французов распылять пушки и войска для защиты любого мало-мальски пригодного для высадки участка побережья. А заодно способствовали у британских моряков росту чувства превосходства над врагом. Британцы стояли у самых вражеских дверей и буквально стучали в них ногами. Таким образом, вопрос о том, кто владеет инициативой, даже не стоял. Единственным, кто был огорчен подобным развитием событий, был Буш — если бы ему удалось возглавить десантный отряд, он мог бы заслужить повышение в чине. К сожалению, сложилось так, что он был младше Котара стажем, который, в свою очередь, был необходим для того, чтобы ответить на первый оклик неприятельских часовых с подобающим французским произношением. Котар же не мог командовать отрядом, состоящим не из матросов его корабля. Пеллью решил, что Хорнблауэр лично возглавит рейд и, таким образом, Буш остался командовать «Отчаянным» в его отсутствие. Такое решение было лучшим из возможных, Буш вынужден был с этим согласиться, а он был слишком порядочным человеком, чтобы долго сожалеть об упущенных возможностях.
У кораблей, несущих службу по блокаде Бреста под командованием Корнуоллиса, не было шансов вернуться в порт. Припасы и воду им высылали прямо на позицию, и, таким образом, они могли продолжать блокаду практически непрерывно. Серия штормов в октябре 1803 года прервала регулярное снабжение и принудила флот отойти на новую позицию, в семидесяти милях мористее. Это распоряжение не коснулось фрегатов и «Отчаянного», но и они в конце концов были направлены в бухту Тор из-за недостатка провианта. «Отчаянный» же оказался там по большей части из-за нехватки воды. Мария к этому времени была уже на седьмом месяце беременности, и неожиданное возвращение в Англию предоставило Хорнблауэру возможность ее увидеть. Она как раз приехала в Бриксгэм, но ряд обстоятельств — штормовая погода, другие обязанности, приглашение к главнокомандующему — помешали Хорнблауэру сойти на берег. В тот самый момент, когда в подзорную трубу уже была видна Мария, стоявшая на Бриксгэмском молу, он получил приказ вернуться на позицию, как только его корабль будет снабжен всем необходимым и задует попутный ветер. Мария вернулась в квартиру, которую наняла на аллее Возчиков в Плимуте, где к ней позже присоединилась миссис Мэйсон. Здесь же, первого января 1804 года родился ее первый ребенок, мальчик, который был крещен под именем Горацио, в честь отца.
В то время, когда появился на свет его сын, Хорнблауэр сражался под Брестом. Он смог доложить контр-адмиралу Паркеру (преемнику Пеллью) о том, что четыре французских корабля разоружены и могут быть использованы как военные транспорты для перевозки значительного количества войск и их последующей высадки, например, в Ирландии. Получив эту информацию, Паркер направил «Отчаянный» в Гуле, подкрепив его фрегатами «Наяда» (38 пушек) и «Дорис» (32 пушки). Ночной бой закончился удачно, был захвачен французский эскортный фрегат «Клоринда» (40 пушек). Задачей же «Отчаянного» было загнать на мель и рифы четыре транспорта, что и было в точности выполнено, однако «Клоринда» была захвачена «Наядой» за сорок минут и «Отчаянный» не получил доли в призовых деньгах. Хорнлауэр же заработал себе лишь репутацию и привилегию — отвести «Отчаянный» в Плимут под аварийным такелажем. Пока повреждения исправляли в доке, Хорнблауэр жил с женой и ребенком, а также (к сожалению) с тещей. Он был рад, когда окончание ремонта позволило ему вновь выйти в море.
«Отчаянный» вышел в море 17 февраля и вскоре присоединился к небольшой эскадре к северо-западу от Уэссана. В то время французы собирали в Булони мелкие суда для высадки войск в Англии, и британский флот пытался перехватить их, пока они крались вдоль побережья.
В результате одной из неудачных операций, «Отчаянный» подошел слишком близко к берегу и получил попадание гаубичной бомбы. Она упала рядом с Хорнблауэром, который молниеносно погасил фитиль, добавив себе славы в принятии быстрых решений. В результате он спас корабль и жизнь всех людей на борту. Но мгновения пережитой опасности было достаточно, чтобы ему в голову пришла очередная идея. Деревянные парусные корабли тех дней обычно обстреливали ядрами, иногда — раскаленными ядрами с береговых батарей, но с обстрелом из гаубиц они сталкивались редко. И это было хорошо, так как одного-единственного удачного попадания разрывного снаряда было бы достаточно, чтобы тяжело повредить любой из них. Возникший после взрыва пожар довершил бы разрушение, так как вспыхнувшие паруса были не менее опасны, чем разошедшиеся от жара палубные швы. На флоте были бомбардирские кечи, которые использовались против береговых целей, но ни один из обычных боевых кораблей не использовал подобных снарядов. И это было правильно с точки зрения безопасности, частично из-за риска, что основной заряд бомбы может взорваться в момент выстрела, частью из-за того, что крутая траектория снаряда (что было неизбежно) должна была бы проходить сквозь корабельный такелаж. Гаубичные бомбы, которые долгое время были известны как эффективное оружие для осады крепостей, были почти неизвестны на море. Хорнблауэр задумался о том, как изменить эту практику. Когда «Отчаянный» вернулся к блокадной службе под Брестом, он подал Корнуоллису, через Паркера, свой план уничтожения французского флота при помощи бомб. Он датирован 22 марта и имел своим следствием рейд, проведенный 11 апреля 1804 года, который принес лишь незначительный успех, достаточный, однако для того, чтобы закрепить за Хорнблауэром репутацию инициативного и дерзкого офицера.
Для того, чтобы уяснить план Хорнблауэра и то, как его воспринял Корнуоллис, следует вспомнить, что все старшие офицеры 1793–1815 годов приобрели опыт во время американских войн за независимость, войн, в которых по обе стороны сражались исключительно джентльмены. Например, когда началась война, адмирал Родни жил во Франции. Адмирал Хоу полагал достаточным просто победить французов, он не говорил о том, что врагов необходимо уничтожить. Даже у Пеллью были друзья среди французов. Он, как и остальные, сохранял некие благородные понятия. Так, линейный корабль даже во время битвы не стрелял по вражескому фрегату, если только тот не открывал огня первым. Игра велась по определенным правилам, эти правила могли нарушаться, но все же существовали. Французская революция изменила саму атмосферу борьбы — на французской стороне осталось лишь несколько рыцарственных противников. Сама идея честной игры еще оставалась, но Наполеон сам понизил моральную планку, направляя свои усилия именно на уничтожение противника. Некоторые офицеры королевского флота стали столь же безжалостны, и Нельсон был самым известным среди них. А за ними шли уже более молодые люди, и Хорнблауэр в их числе, которые выросли уже на этой войне, войне против первого диктатора современности. Другая, более рыцарственная борьба, была им неизвестна. Они едва помнили мирные времена, когда сами они еще учились в школе. Более того, среди них были и такие, как Кокрейн, находящиеся под влиянием идей индустриальной революции. Изобретательные умы обращались ко все более новым и более жутким орудиям убийства. Хорнблауэр также принадлежал к этой группе, будучи внуком инженера, сыном химика и племянником двух изобретателей. С его талантами математика и навигатора, он был очень чуток к любым новым идеям и технологиям. Мальчик, изучавший фортификацию, превратился в мужчину, который увидел возможность использования разрывных снарядов на флоте. У него зародилась интересная идея.
Достопочтенный сэр Уильям Корнуоллис был человеком более старого поколения, достигшим шестидесяти лет и приближающимся к увольнению в запас. К новым изобретениям он относился без особого энтузиазма и предвидел трудности, которые могли возникнуть из-за того, что сложные механизмы были бы доверены неграмотным морякам. Он также понимал, что изобретения, которые сегодня применяются против неприятеля, завтра могут с еще большим успехом быть использованы им самим. Как герцог Веллингтон позднее прокомментировал идею использования в войне отравляющих газов: «В эту игру могут играть обе стороны». Однако, помимо этого, адмирал Корнуоллис понимал и опасность однообразия и скуки. Корабли на блокадной службе были постоянно заняты работой, но это была все одна и та же работа — день за днем и месяц за месяцем. Попытка нападения на противника, пусть даже и не приносящая особого результата, всегда хороша для поднятия боевого духа. Так что адмирал Паркер одобрил план Хорнблауэра, однако, по совету главнокомандующего, уменьшил его масштабы. В результате предполагаемый мощный удар превратился едва ли в булавочный укол. В любом случае, он послужил планам адмирала, в целом оставляя ситуацию такой, как она была, и при этом слегка поднимая боевой дух англичан и снижая его у французов. Сотня уколов булавкой может принести чувство превосходства над врагом, но никто, даже вспоминая потом эти события, не сможет сказать, что каждый из отдельных уколов потребовал особых сил. В любом случае, лучше что-либо делать, нежели не делать ничего, тем более, что тратить свои силы и нервы будут младшие офицеры. Задача же, поставленная перед Хорнблауэром на этот раз, требовала приложения особых усилий. Первоначальный план предполагал ночную атаку Бреста силами небольшой эскадры фрегатов. Каждый из атакующих кораблей при этом должен был вести на буксире барку или лихтер без мачт, с установленными на них тяжелыми гаубицами или мортирами и снабженных гребной шлюпкой. Начнется громкая канонада, и фрегаты, представляя, что их атака отбита, отступят, оставляя незамеченные лихтеры стоящими на якорях в пределах дальности выстрела от кораблей французского флота. Около часа спустя, когда тревога уляжется, мортиры откроют десятиминутный огонь. Затем команды лихтеров затопят их и вернутся к эскадре в шлюпках прежде, чем французы смогут развить контратаку. В этом плане было несколько трудностей, главной из которых было то, что лишь немногие моряки имели опыт стрельбы из мортир. Также сложной была проблема организации командования. Единственным капитаном, знакомым с особенностями входа в бухту, был сам Хорнблауэр, создатель этого плана, а он на многие годы был моложе остальных стажем. Фрегаты не могли быть отданы под его начало, но и выполнять приказы капитана, который ранее никогда не бывал в Гуле, он не мог. Выходом стало уменьшение масштабов операции. Вместо четырех фрегатов были выделены два шлюпа, одним из которых командовал офицер младше Хорнблауэра по званию. Каждый из шлюпов вел на буксире по два лихтера. Хорнблауэр мог управлять операцией с борта «Отчаянного», а старшим на каждом из лихтеров шел штурманский помощник. Сами лихтеры нашлись без труда — ими стали захваченные ранее суда, водоизмещением около пятидесяти тонн — но оставались некоторые сложности с гаубицами и бомбами для них, которые удалось захватить в результате рейда на остров Ре. В середине корпуса каждого из трех лихтеров, на бухтах старого троса было установлено по гаубице, а четвертый был вооружен двумя мортирами и тремя малыми пушками, которыми можно было воспользоваться для прикрытия отступления.
Была выбрана ночь с 11 на 12 апреля, поскольку была безлунной, с максимальным уровнем прилива около 2.00 утра и началом отлива в 2.15 или 2.20. К разочарованию Буша, бомбардирские суда (как теперь назывались вооруженные лихтеры) были отданы под команду лейтенанта Маркьяна, который прежде служил в милиции на острове Гернси. С ним пошел и старый сержант морской пехоты с флагманского корабля, который участвовал еще в обороне Гибралтара в 1782 году. Вторым шлюпом был «Достаточный» (14 пушек) захваченный у французов в 1795 году, которым в ожидании прибытия из Англии нового командира временно командовал лейтенант Уоткин. Утвержденный план предполагал ведение навесного гаубичного огня со стационарных платформ по неподвижной цели. Таким образом, дистанция стрельбы могла быть рассчитана заранее, предполагая, что каждое из бомбардирских судов будет установлено на якорь точно на назначенной ему позиции. Несмотря на это, было трудно рассчитывать на точную стрельбу в темноте, не имея возможности наблюдать место падения предыдущих снарядов. А чтобы оно было заметно, бомба должна была упасть непосредственно на палубу неприятельского корабля или разорваться в воздухе над ним. От удара она не взорвалась бы, точно также, как если бы упала — что было наиболее вероятно — в море. Если бы рейд был организован в более крупных масштабах, шансы на попадание пропорционально увеличились бы. Хорнблауэр мог утешаться лишь тем, что более крупным отрядом командовал бы, скорее всего, кто-нибудь другой. Он также приказал вести огонь с минимально возможных дистанций и постепенно прибавлять заряд по мере того, как всплески — предполагалось, что их можно будет заметить — будут приближаться к цели. С бомбардирских судов не могли запускать ракеты, но предполагалось, что французы будут достаточно освещать всю сцену. Таким образом будут видны и шлюпы, которые завяжут перестрелку с береговыми батареями, и французские корабли, но низкосидящие в воде лихтеры, к тому же лишенные мачт, могут некоторое время оставаться незамеченными. Первый контакт с противником — фрегат и патрульные шлюпки — очевидно, будет установлен при входе в гавань. Результатом подобной встречи могла стать невозможность дальнейшей буксировки шлюпами бомбардирских судов, в результате чего им пришлось выходить в точки якорных стоянок на буксире у шлюпок. Для обеспечения этого с каждого из шлюпов на лихтеры были посланы дополнительные моряки, не принимающие непосредственного участия в акции.
Одна за другой были решены различные проблемы, ночь 10 апреля оказалось достаточно спокойной, с легким западным ветром и звездным небом. Оба шлюпа скользили под легкими парусами, под прикрытием фрегатов и поддерживаемые (на некотором отдалении) остальными кораблями Прибрежной эскадры. «Отчаянный» возглавлял рейд, и на обоих шлюпах были подняты готовые к открытию французские ночные сигналы опознавания, секрет которых Хорнблауэр узнал у французских рыбаков. Лейтенант Маркьян стоял на баке в готовности ответить на любой оклик на французском. Буш стоял рядом с лотовым, который негромко докладывал ему о глубинах. Затем юнга бежал на шканцы, чтобы доложить эти данные Хорнблауэру, который, ориентируясь по ним, вел корабль в бухту. Все что он видел, это несколько огней на берегу и небольшое зарево над горизонтом там, где стоял на якоре французский флот. Поход продолжался в полной тишине.
«Тишина» в этом случае понятие относительное, поскольку ни на одном парусном корабле по-настоящему тихо быть не может. Постоянно поскрипывают снасти, поет в такелаже ветер, слышен характерный плеск разрезаемой форштевнем волны. Первый оклик последовал в 1.10 и Хорнблауэр показал свое место, открывая свой опознавательный сигнал (два красных фонаря на рее фок-мачты). Возможно, он получил неправильную информацию или — что более вероятно — сигнал к тому времени был изменен, но в ответ на это раздался мушкетный выстрел.
Маркьян ответил на оклик с патрульной шлюпке, но опять что-то пошло не так: либо он перепутал пароль, либо неправильно построил фразу, но теперь раздалось уже три мушкетных выстрела, что, по всей вероятности, было сигналом. Патрульная шлюпка исчезла за кормой и больше не появилась, но дело уже было сделано. Минутой позже в небо взлетела ракета и взорвалась ярким белым светом, на несколько секунд освещая всю гавань. Хорнблауэр разглядел фрегат, с которого выстрелили ракету и заметил еще два, которые составляли линию брандвахты. Раздались четыре пушечных выстрела — два и через некоторое время — еще два и Хорнблауэр представил себе картину, как караул поднимается по тревоге, а артиллеристы сбегаются к пушкам. Он понял, что еще полминуты и придется ввязаться в бой на короткой дистанции, в котором ни один шлюп не уцелеет. Поэтому он приказал Маркьяну разделить силы и направить три бомбардирских судна к вершине бухты. Каждое из них должен был буксировать корабельный баркас, но в первое время можно было и не грести — их несло приливом. Четвертое бомбардирское судно оставалось у левого борта «Отчаянного» и, поскольку шлюп повернул к северу, было незаметным для французов. Теперь Хорнблауэр открыл огонь на предельной дистанции, не столько для того, чтобы нанести повреждения фрегатам, сколько для того, чтобы по мере возможности отвлечь внимание противника от бомбардирских судов. Вскоре он оказался под сосредоточенным (хоть и с дальней дистанции) огнем двух кораблей и береговых батарей. Поскольку с обоих сторон пускали ракеты, именно эта перестрелка была в центре внимания. Повернув на другой галс около 1.35 и перетянув бомбардирское судно на другой борт, Хорнблауэр начал отступление, давая бортовые залпы по судам, мимо которых проходил «Отчаянный». Три фрегата преследовали его, стреляя с большой дистанции и медленно сближаясь со своей жертвой. Французам на этом этапе вся операция должна была казаться дерзкой, но несколько бессмысленной. «Отчаянный» и «Достаточный» получили лишь небольшие повреждения, а их противники, вероятно, остались невредимы. Наиболее опасный момент настал позже, когда они пытались поднять шлюпки.
А что же с бомбардирскими судами? Одно из них отделилось от группы, отдрейфовав слишком далеко к югу и уткнулось в песчаную банку, слишком далеко от любой из целей. Про его команду ничего неизвестно, вероятно, позже она была взята в плен патрульной шлюпкой. Два остальных достигли своих позиций незамеченными, встали на якорь и около 2.15 открыли огонь по ближайшему французскому линейному кораблю. Некоторое время французы даже не замечали опасности, так как бомбы падали отвесно и не рикошетировали от поверхности моря, как обычные ядра. Выстрелы из гаубиц, конечно, были слышны, однако их звуки потонули в шуме канонады боя, который шел мористее; а отблески пламени у их дула при выстреле не были заметны, так сами орудия были установлены ниже уровня палубы. Наконец, один из всплесков возник достаточно близко от французского корабля, в результате чего с него выстрелили белую ракету, которая не помогла обнаружить бомбардирское судно, но зато помогла британцам обнаружить место падения их последней бомбы. Это был недолет с сильным выносом вправо. Мистер Маркьян понял, что, ветер в верхней точке траектории должно быть сильнее, чем на уровне моря. Он внес соответствующие поправки в прицел и велел расчету второй гаубицы сделать то же самое.
Стрельба была продолжена, а французы выпустили еще несколько ракет. Наблюдаемые всплески все еще ложились с недолетом, поэтому дистанцию все увеличивали, прибавляя заряд. В это время, очевидно, бомбардирское судно было, наконец, замечено, и ближайший корабль дал по нему бортовой залп. Однако канонирам было трудно целиться и лишь несколько ядер упало неподалеку от лихтера. Гаубицы продолжали огонь, и запас бомб на них постепенно подходил к концу. Французские ядра теперь начинали ложиться ближе к цели, и одно из них попало во второе бомбардирское судно как раз в тот момент, когда стреляла его гаубица. На французском линейном корабле вспыхнула яркая вспышка, и громыхнул взрыв. Недостаточно точно наведенная на цель, гаубица была скорректирована шальным французским ядром и добилась прямого попадания! Больше попаданий не было и люди Маркьяна сели в шлюпки, оставляя свои бомбардирские суда горящими и тонущими. Затем они начали долгий путь на веслах к выходу из бухты, но им помогал отлив, и шансы на их спасение были высоки.
На иллюстрации: Первый рапорт Хорнблауэра, напечатанный в NAVAL CHRONICLE в 1803 г.
В это же самое время, около 3.00, Хорнблауэр ожидал в точке рандеву корабельные шлюпки, возвращавшиеся после атаки. Он дождался их и приказал «Достаточному» обеспечить их безопасность. Затем он приказал оставшемуся бомбардирскому судну занять условленную позицию, встать на якорь и приготовиться к бою. Когда один из ближайших фрегатов подошел, чтобы обстрелять «Отчаянный», на нем были весьма удивлены разрывом бомбы прямо над головой. За первой последовали остальные, все они упали в море, причем одна разорвалась на самой поверхности. Фрегат отступил, не получив повреждений. На нем никто не пострадал, но Хорнблауэр рассчитывал хотя бы на эффект неожиданности и не ошибся. Французская контратака теперь не угрожала, что позволило поднять на борт команды шлюпок. Оба шлюпа двинулись к выходу из Гуля, а ожидавшие фрегаты Прибрежной эскадры двинулись им навстречу. К рассвету они уже достаточно отошли в море и осматривали полученные повреждения. Больше всего пострадал «Достаточный»: семь раненых и пробоина у ватерлинии. На «Отчаянном» пострадал такелаж, однако на нем было всего трое раненых. Пропала команда одной из шлюпок, включая штурманского помощника и четырнадцать моряков с «Мальборо». Что же касается противника, то французский линейный корабль «Прозерпина» (80 пушек) получил одно прямое попадание гаубичной бомбы. Прошло еще несколько дней, прежде чем Хорнблауэр смог доложить, что «в соответствии с полученной информацией», бомба упала в кормовой люк и взорвалась между палубами. Возникший пожар был с трудом потушен, однако спасти бизань мачту уже не удалось. К утру помпы едва удерживали корабль на плаву. Он тут же был введен в док для ремонта, однако представляется сомнительным, что ему вновь удастся выйти в море. (Действительно, «Прозерпину» больше так и не удалось ввести в строй. Некоторое время она использовалась в качестве плавказармы, позже — в виде обычного блокшива, а в 1813 году была разобрана).
В целом, рейд стал очередной удачей Хорнблауэра, однако в своем устном докладе он отметил, что с технической стороны эксперимент не удался. Сама по себе идея была замечательной, но большую часть необходимого оборудования следовало еще усовершенствовать. Корнуоллису не было до этого дела. Ему вполне хватало, что французов в очередной раз проучили и еще больше столкнули в глухую оборону. Очередное письмо в «Газете» доказывало, что на Флоте Канала царит боевой дух и он готов драться хоть с целым миром.
Единственной непосредственной наградой для Хорнблауэра могла стать возможность заработать призовые деньги. В ожидании войны с Испанией, которая еще не была объявлена, Корнуоллис выслал эскадру для перехвата испанского Флота (конвоя судов с сокровищами). Четыре фрегата, выделенные для проведения этой операции, отделились от Флота Канала 23 июля 1804 года. «Отчаянному» же было приказано зайти в Кадис, чтобы получить информацию про испанский «Золотой флот» от находящегося там британского консула, а после — присоединиться к эскадре капитана Мура в точке рандеву. Когда «Отчаянный» прибыл в Кадис, там находился французский фрегат «Фелисите» (44 пушки), который готовился к выходу, чтобы, как понял Хорнблауэр, предупредить «Золотой флот» об опасности. Присоединившись к эскадре Мура в районе возможного перехвата, Хорнблауэр получил приказ занять крайнюю позицию в северной части ордера, который представлял собой линию, растянувшуюся на шестьдесят миль. Находясь на этой позиции, он 19 сентября обнаружил «Фелисите» и после боя, продолжавшегося несколько часов, принудил ее изменить курс. Когда Хорнблауэр вновь присоединился к флоту у острова Уэссан, он узнал, что «Золотой флот» был перехвачен в его отсутствие, с грузом, оцениваемым в шесть миллионов долларов: целое состояние для всех, принимавших участие в операции, за исключением Хорнблауэра. После очередного периода несения блокадной службы, Корнуоллис вновь отослал его в Плимут, так как корабль нуждался в переоснащении (в декабре 1804 года) и здесь он узнал, что Мур и его люди после всего вообще не получат призовых денег. Захват «Золотого флота» имел место прежде, чем война была 12 декабря официально объявлена в Мадриде, а значит, призы принадлежали Короне на основании «Прав Адмиралтейства». Более удачливый в других аспектах, Хорнблауэр узнал, что Мария снова беременна, а миссис Мэйсон возвращается в Саутси. Когда 14 марта 1805 года Хорнблауэр вернулся к Флоту Канала, он понял, что его благородный жест остался практически незамеченным. Единственным, кто, похоже, обратил на него внимание, был Корнуоллис. Пригласив Хорнблауэра, адмирал объявил ему, что собирается спустить свой флаг, что дает ему возможность накануне отставки повысить несколько офицеров. Хорнблауэра он решил произвести в чин «пост-капитана». Теперь Горацио должен был покинуть «Отчаянный» и вернуться в Англию, где о его повышении должны были сообщить в газетах в течение трех недель. Похоже, он упустил состояние, зато получил продвижение по службе, причем самое важное. Если он продолжит службу и не будет убит в бою, то сама система старшинства в конце концов приведет его к адмиральскому флагу.
5. Секретный агент
17 мая 1805 года Хорнблауэра на посту командира «Отчаянного» сменил капитан Джеймс Персиваль Мидоус, прибывший из Плимута на «Принцессе» — барке с пресной водой для флота. Хорнблауэр должен был возвращаться домой на том же судне, оставляя Буша по-прежнему первым лейтенантом шлюпа. Однако встречный ветер все еще удерживал барку в районе позиции флота и 20 мая Хорнблауэр вновь был вызван на флагманский корабль. Ночь на 18 мая Мидоус потерял «Отчаянный» в результате посадки на мель и Хорнблауэру пришлось выступать в качестве свидетеля на заседании трибунала. Он смог лишь подтвердить, что плавание вокруг Черной Скалы весьма рискованно с навигационной точки зрения. Действительно, так было и есть. Его показания, тем не менее, опровергались тем фактом, что сам он управлял кораблем при плавании в Гуле в течение без малого двух лет. Трибунал оправдал Буша и Проуса и освободил от обвинений Мидоуса, с вынесением ему выговора. Получит ли он еще когда-либо командование — это был уже другой вопрос. Пока же Мидоус и его офицеры также направлялись в Портсмут на «Принцессе». То, что на маленьком, переполненном судне одновременно находились капитан, получивший повышение и его преемник, потерявший корабль и получивший за это выговор, не способствовало улучшению обстановки.
Еще больше осложняли ситуацию встречные ветры, из-за которых и без того неуклюжая барка едва продвигалась к цели. Пока «Принцесса» все еще с трудом ползла к северу, с нее заметили французский каперский бриг. Было весьма вероятно, что барка будет захвачена им еще до наступления ночи. Действительно, к вечеру капер настиг свою жертву. «Принцесса» легла в дрейф, и с брига спустили шлюпку, чтобы взять ее на абордаж. При обычных обстоятельствах это было бы нетрудно сделать, но теперь на борту барки в дополнение к обычной полудюжине моряков находилось еще тридцать человек. Команда французской шлюпки была бесшумно захвачена и лодка пустилась в обратный путь, с другим экипажем, но с тем же оружием. За ней подошла еще одна шлюпка с подкреплениями, и палуба брига была очищена от французов неожиданной атакой, во время которой капитан Мидоус погиб.
Французы скорее были загнаны под палубу, нежели полностью побеждены и абордажная партия не могла удержать приз за собой. Все, что они смогли сделать — это повредить оснастку капера, перерезав такелаж так, чтобы в течение нескольких часов нельзя было поднять ни один парус. Британцы вернулись на «Принцессу» и с попутным ветром двинулись в Портсмут. Среди бумаг на капере, обнаруженных Хорнблауэром, оказался документ особой важности, вложенный (для быстрого затопления при необходимости) между двух свинцовых пластин. Когда Хорнблауэр предъявил захваченные бумаги адмиралу порта, тот решил выслать Хорнблауэра вместе с ними в Лондон, в Адмиралтейство. Сразу же была подана почтовая карета и, прежде чем путешествие началось, Хорнблауэру удалось бросить лишь короткий взгляд на Марию, стоявшую у ворот доков с маленьким Горацио на руках.
Эксперты установили, что документ представлял собой ободряющее письмо Наполеона — который незадолго до этого присвоил себе титул императора — к губернатору Мартиники. Само по себе содержание письма представляло лишь посредственный интерес: в нем сообщалось о незначительном усилении французских сил в Вест-Индии, однако стиль изложения был новым, а само оформление документа, его упаковка и печати были первым подобным образчиком, попавшим в руки британцев. Мистер Марсден, секретарь их лордовских светлостей, теперь имел возможность подделать письмо Наполеона с инструкциями, скопировать подпись и воспроизвести печати. В обычных обстоятельствах это не было бы так важно, но к тому времени Британия оказалась перед лицом кризиса войны на море. Подделанное письмо могло не дойти по назначению, могло быть не признано подлинным, в конце концов, приказ, изложенный в нем, мог бы так и остаться не выполненным. Это была слишком слабая карта, чтобы воспользоваться ею в любой нормальной партии. Однако настали времена, когда приходилось использовать любые карты. Декорациями к сложившейся ситуации стал союз, заключенный между Францией и Испанией в Париже 4 января 1804 года. Условиями договора были определены силы, предназначенные к вторжению в Англию. Войска Наполеона состояли из 30 000 человек в порту Тексель, 120 000 сосредоточенных между Остенде и Гавром, 25 000 в Бресте, 4000 — в Рошфоре и 9000 — в Тулоне, что вместе составляло 188 000 бойцов со средствами для их перевозки морем. Испания выставляла еще 24 000, что увеличивало общие силы до 212 000 человек. Для того, чтобы расчистить путь флотилии транспортов, в распоряжении Франции и Испании было более семидесяти линейных кораблей в Бресте, Рошфоре, Тулоне, Ферроле, Картахене и Кадисе. У британцев было восемьдесят линейных кораблей, однако эти силы были по необходимости разбросаны между Ост- и Вест-Индией, между Ньюфаундлендом и Балтикой. Если бы флот Канала удалось выманить с его позиции, если бы Северный флот удалось разбить у побережья Нидерландов и союзники установили контроль над Ла-Маншем — хотя бы на неделю, а может даже на сорок восемь часов — вторжение в Англию стало бы неминуемо, и страна была бы покорена. Опасность была весьма реальна и казалась все больше с того момента, как лорд Нельсон фактически упустил Вильнева в Вест-Индии. Французский адмирал достиг Мартиники 16 мая, а авангард Нельсона подтянулся туда лишь через некоторое время. Хорнблауэр доложился в Адмиралтействе 29 мая — в то время, когда Первый лорд адмиралтейства имел все основания для беспокойства. Из разговора мистера Марсдена с Хорнблауэром — когда захваченные депеши лежали перед ними на столе — выяснилось, что молодой капитан немного владеет французским и испанским языками — деталь, которую мистер Марсден хорошо запомнил.
Несмотря на то, что Хорнблауэр был хорошо встречен в Адмиралтействе с захваченными документами, свободного корабля для него пока не было. Правда, некоторые вакансии существовали, но на кораблях, для командования которыми он был слишком молод. Тем не менее, о его повышении было сообщено в газетах, как капитана Морской территориальной охраны, что, по крайней мере, давало ему старшинство с 1 июня 1805 года. Морская территориальная охрана представляла собой некую разновидность прибрежной «Национальной Гвардии», готовой отразить французскую угрозу, если она вдруг станет материальной. Морские офицеры относились к ней со смешанными чувствами. С одной стороны, она давало возможность получать полное жалование тем из них, кто был уже слишком стар для службы на море. С другой стороны, она позволяла избежать вербовки множеству рыбаков и лодочников, которые так были нужны флоту в качестве матросов. В случае Хорнблауэра это было временное назначение, и пока оно должно было его удовлетворять, поскольку он мог оставить Марию в Плимуте. Его участок морской территориальной охраны располагался между Рочестером и Северным Форландом, а по службе ему помогали три пожилых лейтенанта, один из которых отдельно отвечал за остров Шипи. Их работа на практике заключалась в еженедельных, и, по большей части, веселых посиделках в «Корабельной Хижине» на рыночной площади Фавершема. Памятуя, без сомнения, о том, что пост-кэптен должен держать своих подчиненных на расстоянии, Хорнблауэр избрал местом своего пребывания Мэйдстон, откуда и совершал инспекторские поездки в Ширнесс и Уайтстебел. И поскольку пока французы не представляли прямой угрозы Кенту, нельзя было сказать, что Хорнблауэру слишком уж пришлось напрягать силы в борьбе с ними. Зато ему удалось получше узнать о Мэйдстоне, как о месте происхождения своего рода. Насколько ему было известно, это был его первый визит в эти места. Связь Хорнблауэра с Мэйдстоном не была преданьем старины глубокой — его отец учился здесь начаткам своей будущей профессии в аптеке его двоюродного деда. Еще живы были люди, которые помнили аптекаря Джеймса Хорнблауэра, а некоторые старики могли даже видеть Иеремию, торговца зерном, прапрадеда Горацио. О том, что его семья вышла из этих мест, Горацио, должно быть, узнал от своего отца. Теперь это предположение укрепилось после изучения могильных плит и просмотра приходских церковных книг. Где-то здесь он и решил поселиться. Обычно считается, что моряк предпочитает жить неподалеку от моря, хотя те часто выбирают уголок в глубине страны. Выбор Хорнблауэра был, по большей части, компромиссом, навеянным, в том числе, и семейными воспоминаниями. Его резиденция неподалеку от Мэйдстона была бы на расстоянии всего около десяти миль от верфей в Чатеме. Она могла бы, к примеру, располагаться на берегу одного из притоков реки Мидуэй. Это было бы вполне подходящее место для вышедшего в отставку капитана Королевского флота. Хорнблауэр начал присматриваться к округе с новым интересом. Несмотря на то, что он предполагал продолжить службу на море, теперь уже можно было говорить о том, что достойная пенсия ему обеспечена. Он мог бы приобрести, по крайней мере, небольшой дом и занять определенное положение в обществе. Вполне вероятно, он мог бы даже стать мировым судьей и даже держать экипаж. Размышляя о подобных материях, Хорнблауэр как-то раз случайно набрел на Смоллбридж-Мэнор. Смоллбридж лежит в пяти милях к юго-западу от Мэйдстона, но слишком далеко от большой дороги, чтобы на него обратил внимание путешественник, едущий со стороны Лондона. Служба же в Морской Территориальной обороне порой заводила Хорнблауэра в весьма отдаленные места, в результате чего порой нетрудно было заблудиться среди очаровательно пустынных дорог Кента. Однажды июльским вечером он таким образом пробирался наугад в Мэйдстон из Танбриджа. Он ехал на усталой лошади в сопровождении слуги одного из знакомых, который, как предполагалось, сможет выполнять обязанности проводника. Когда стало ясно, что они заблудились, то недалеко впереди показались ворота какого-то имения. Хорнблауэр остановился, намереваясь расспросить дорогу в усадьбе. Привратника не было, и он проехал по аллее, решив разузнать все, что ему было нужно в самом доме. О том, что последовало за этим, лучше всего расскажет его собственное письмо, датированное 4 ноября 1805 года:
«…Лишь с большим трудом и после долгого ожидания я смог попасть в дом. Старая служанка, открывшая мне дверь, поспешила вперед по коридору, чтобы объявить о моем прибытии. Сквайр, сидевший в библиотеке, оказался странным пожилым джентльменом, одетым по моде начала века. Он был весьма рассеян, сильно запинался при разговоре, плохо слышал и еще хуже понимал то, про что ему говорят. Сам дом, как я узнал от служанки (поскольку, похоже, других слуг в поместье не было) назывался Смоллбридж-Мэнор и был построен около пятидесяти лет назад его нынешним владельцем, которого зовут Том Бэрнетт. Он был помолвлен с молодой леди, которая буквально накануне свадьбы погибла в результате несчастного случая на охоте. Похоже, мистер Бэрнетт забросил поместье с того самого трагического дня: следы запустения видны не только в саду и парке, но и на церкви, а также в прилежащей деревне. Я узнал, что недвижимость, которой владеет мистер Бэрнетт, после его смерти перейдет к его дальнему родственнику, который уже владеет гораздо более обширным поместьем в Шропшире. Таким образом, я склонен предположить, что Смоллбридж может быть продан после смерти мистера Бэрнетта, а поскольку ему уже исполнилось семьдесят пять лет, то ожидать этого момента, по-видимому, осталось недолго. Я был бы очень обязан, если бы Вы могли следить за развитием событий и, в случае необходимости, были бы готовы действовать от моего имени, как только это поместье было бы выставлено на продажу. То, что оно много лет находилось в запустении, могло бы оттолкнуть возможных покупателей и снизить цену до суммы, расход которой я смогу себе позволить к тому времени, как окончательно сойду на берег.
Надеясь на Вашу добрую помощь, уважаемый сэр,
Остаюсь Вашим преданным слугой —
Горацио Хорнблауэр»
Это наиболее ранний уцелевший образчик личной корреспонденции Хорнблауэра. Письмо было написано им уже после того, он как покинул округу Мэйдстона, своему поверенному, мистеру Ходжу, который и сохранил его на самом дне объемистого ящика с бумагами с надписью «Смоллбридж-Мэнор». Сомнительно, чтобы Хорнблауэр серьезно думал о покупке Смоллбриджа уже в 1805 году. Во-первых, на это у него не было денег. Во-вторых, он не мог себе представить Марию в качестве жены будущего сквайра. Возвращение Смоллбриджу его классического элегантного вида стоило бы целого состояния, а его результат довел бы Марию до сумасшествия. Пока это была мечта, однако это был именно то поместье, которое Хорнблауэр хотел бы унаследовать или купить. Воспоминания о нем сохранились у него в подсознании на долгие годы.
Пока Хорнблауэр находился в Кенте, мировой кризис еще более обострился. Это стало результатом сражения, которое вице-адмирал сэр Роберт Кальдер дал 22–23 июля, результатом которой вместо необходимой победы стала нерешительная стычка. Новости об этом событии достигли Адмиралтейства в августе, а официальные сообщения, в которых французы объявили о своей победе, были вскоре перепечатаны и в английских газетах. Это привело к настоящей буре общественного мнения, требованиям поставить Кальдера перед трибуналом и заключить в тюрьму. С меньшим количеством кораблей Кальдер вступил в бой с флотом Вильнева, возвращавшегося из Вест-Индии, и захватил два из его кораблей. Если это достойно кары, спрашивал французский автор, то чего же заслуживает Вильнев, чей флот был более многочисленным и при этом потерял два корабля? Между тем ситуация оставалась необычайно напряженной, поскольку флот Вильнева был более или менее невредим. Он зашел в бухту Виго 28 июля, высадил там на берег своих раненых, а 1 августа достиг порта Ферроль. Когда он вновь вышел в море 9-го, то все еще мог соединиться с другими силами и взять курс, как ему и было приказано, на Ла-Манш. Однако в приказах Вильнева была статья, которая позволяла ему, в случае необходимости, отправиться в Кадис. 15-го он решил так и поступить и 20-го уже был на месте. Новости об этом были получены в Адмиралтействе 1-го сентября, и Первый Лорд — лорд Бархэм, был обеспокоен. Кабинет Министров хотел знать, чем занимается лорд Нельсон, члены парламента рассуждали об опасностях торговле, а газеты требовали трибунала для сэра Роберта Кальдера. Если бы только Вильнев отважился выйти в море! Уничтожение его флота было единственным решением проблемы, стоявшей перед лордом Бархэмом. Именно в это время мистер Марсден и вспомнил о Хорнблауэре и о возможности направить Вильневу фальшивые приказы с подделанной подписью. Можно было бы сделать еще множество разных вещей, но реализация этой идеи, даже если бы попытка и не удалась, абсолютно ничего не стоила. Вечером 1 сентября в Мэйдстон был направлен специальный гонец, а уже 2 сентября Хорнблауэр прибыл в Адмиралтейство. Все еще получая жалование как капитан Территориальной Морской обороны, он был переведен в Сикрет Сервис и выслан с тайной миссией на неприятельскую территорию. Если бы его схватили, то, конечно же, повесили бы как шпиона.
Трудности в описании этого эпизода в карьере Хорнблауэра заключаются в том, что покрытое тайной тогда, остается тайной и до сих пор. Что касается его чисто морской карьеры, мы можем основываться на официальных рапортах, газетных публикациях, печатных отчетах, наконец, корабельных вахтенных журналов. Сам он упоминал об этом эпизоде очень осторожно, а в Адмиралтействе не сохранилось письменных свидетельств о том, что было сделано или сказано. Что нам известно сегодня, в ретроспективе — целью всего предприятия было выманить Вильнева в море. Легко угадать, почему именно Хорнблауэр был избран в качестве агента: он бегло говорил по-испански и по-французски, и, скорее всего, он сам предложил весь план экспедиции. Что же касается самой операции, то мы так и не знаем, что было достигнуто. Пока новые материалы не увидят свет, нам остаются только предположения. Единственное, что мы знаем наверняка — все необходимо было сделать очень быстро. Если Вильнев не получит фальшивого приказа на выход в море, то через несколько недель он может получить настоящий приказ совсем противоположного свойства — например, разоружить корабли на зиму. Вильнева может сменить другой адмирал, получивший устный приказ Наполеона избегать сражения во что бы то ни стало. Несмотря на то, что столь сложная операция должна была быть тщательно приготовлена и отрепетирована, экспедиция покинула Англию уже 6 сентября, спустя четыре дня после того, как были отданы соответствующие приказы. Для перехода было использовано французское каботажное судно, характерное для Бискайского залива типа. Им командовал контрабандист из Корнуолла, освобожденный на определенных условиях, за которым присматривал его номинальный помощник — мистер Динфорд из Таможенной службы. Группу высадки возглавил сам Хорнблауэр. В нее входили испанец по имени Хосе Миранда, французский эмигрант — врач по имени Гошар, агент с острова Гернси Легро и агент из Лондона Уикс. Конечно же, все эти имена были вымышленными, а сам Хорнблауэр назвался Мартином Лопесом (слугой Миранды из Ла Коруньи). Хорнблауэр же вез и поддельное письмо Наполеона, адресованное Вильневу, с сопроводительным письмом морского министра Декре. Несомненно, эта фальшивка была настоящим произведением искусства, написанное французским эмигрантом, подписанное доктором Клаудиусом (священником, заключенным в тюрьму Ньюгейт, который был приговорен к смертной казни за подделки, но таким образом заработал себе помилование) и запечатанное точной копией печати Французской Империи, воспроизведенной экспертом из Чипсайда. В приказе говорилось, чтобы Вильнев шел в Тулон, и даже рискнул принять сражение, если только у него будет на пять кораблей больше, чем в неприятельском флоте.
Дорога из Парижа на Мадрид и далее до Кадикса, по большей своей части проходит в глубине материка. Курьер из французского морского министерства должен ехать через Орлеан, Тур и Бордо. Он не увидит моря до тех пор, пока не приблизится к испанской границе в районе Байонны. Оттуда до Сан-Себастьяна уже по испанскую сторону границы, его путь лежит параллельно побережью. Затем он вновь должен будет отвернуть вглубь материка до Виттории и Бургоса и больше не увидит моря, пока не достигнет Кадикса. Таким образом, имперский курьер должен быть перехвачен в окрестностях Байонны или в некоторой точке на дороге, связывающей этот город с Сан-Себастьяном. Затем возникнет проблема, связанная с необходимостью подменить пакет или заменить курьера переодетым шпионом, который доставит его лично. Гошар был специалистом по снотворным средствам, Легро — по изготовлению фальшивых документов, в Уикс — мастер-медвежатник. Еще должен был быть, по крайней мере, один резидент в Байонне, человек, хорошо знакомый с местными условиями и предупрежденный о высадке группы, выполняющей специальное задание. Учитывая сложившиеся обстоятельства, это была подходящая команда для выполнения поставленной задачи, прекрасно подобранная, хоть и, возможно, недостаточно тренированная. Если все будет идти по плану, Хорнблауэр появится в Байонне около 16 сентября, Вильнев получит свои приказы где-то 25-го и соединенный флот выйдет в море в октябре, и тогда уничтожение его лордом Нельсоном станет вопросом нескольких дней. Нельсон как раз присоединился к блокадному флоту 25 сентября, и с этого самого дня начались приготовления сцены для решающего сражения, одного из тех, которое должно было обеспечить британское морское господство на время жизни еще нескольких грядущих поколений.
Чего удалось достичь Хорнблауэру? Нам не дано знать об этом. Мы знаем только, что практически одновременно с поддельным Вильневу было отправлено подлинное письмо практически идентичного содержания. Наполеон отказался от планов вторжения в Англию 2 сентября, на следующий день после того, как узнал, что Вильнев прибыл в Кадис. 14 сентября он издал другие приказы, предписывая Вильневу идти в Неаполь. 16 сентября Декре приложил к приказам свое сопроводительное письмо, и курьер двинулся в путь. 18 сентября Наполеон решил сменить Вильнева, назначив его преемником вице-адмирала Россильи. Россильи лично должен был передать Вильневу письмо императора о его отставке. Он выехал в Мадрид 24 сентября. Приказы Наполеона от 16 сентября были вручены Вильневу 27-го и в соответствии именно с этими — а не с какими-то ни было фальшивыми приказами — он вышел в море 19 октября. Вот и все, что известно, но остается загадкой, как Вильневу удалось узнать — если он вообще узнал об этом — что Россильи собирается сменить его на посту командующего флотом. Была ли в том заслуга Хорнблауэра? Способствовало ли это тому, чтобы втянуть французского адмирала в битву? Еще одна загадка возникает, если сравнить скорость движения курьера и адмирала Россильи. Если курьеру хватило одиннадцати дней, чтобы достичь Кадикса, то почему же Россильи пришлось целых три недели добираться до Мадрида? Впоследствии он жаловался на невозможность достать лошадей и эскорт. Могли ли эти задержки быть делом рук британских агентов? Кто бы ни выиграл для Вильнева время, необходимое, чтобы выйти в море до того, как он будет заменен, тот внес свою долю в победу в сражении у мыса Трафальгар. Мы не знаем и, возможно, никогда не узнаем, какую долю в это внес сам Хорнблауэр.
Каков бы ни был (если был вообще) результат миссии в Байонне, Хорнблауэр должен был вернуться в Англию в конце октября. После доклада в Адмиралтействе, он был отпущен в отпуск и воспользовался возможностью присоединиться к Мари в Плимуте. Здесь же, 4 ноября, он узнал о битве при Трафальгаре и смерти лорда Нельсона. Эти новости привез «Наутилус» (26 пушек). Здесь же в ноябре Хорнблауэр также получил письмо о назначении его на должность командира шлюпа «Атропа» (22 пушки), корабля 6-го класса, достаточного большого для того, чтобы соответствовать достоинству пост-кэптена. Шлюп был построен в Чатеме в 1781 году, имел водоизмещение в 481 тонну, а его команда насчитывала 155 человек. Вначале он был вооружен двадцатью двумя 9-фунтовками, но восемнадцать из них позже были заменены 12-фунтовыми карронадами. Его командир, Кальдекотт, отказался от должности в связи с болезнью. Не будучи ни самым современным, ни самым лучшим, этот шлюп в самый раз подходил для самого молодого офицера в капитанском списке. Похоже, в это же самое время Хорнблауэр получил весточку от своего дяди, Джонатана Картера Хорнблауэра, который как раз работал в Бирмингеме. Помнится, это был тот самый дядя, который кое-что подбрасывал племяннику, когда тот еще был мичманом, поэтому, когда Джонатан предложил встретиться, Горацио почувствовал себя обязанным согласиться. Поскольку он должен был ехать в Дептфорд, где «Атропа» стояла после выхода из дока, в качестве пункта встречи был избран Глостер. Этот путь из Плимута в Лондон не был кратчайшим, однако он представлял разумный компромисс между Плимутом и Бирмингемом. Путешествие через Бристоль началось в карете, но Хорнблауэр все больше беспокоился за Марию, которая как раз ожидала второго ребенка, но, тем не менее, настояла на том, что она и маленький Горацио поедут с ним в Лондон, который впервые посетят вместе. 10 декабря в «Шерсти» на Вестгейт-стрит в Глочестере, Хорнблауэры встретились — Джонатан и Горацио, Марта и Мария. Сразу же выяснилось, что Джонатан хочет кое о чем попросить. Он хотел бы, чтобы Горацио подыскал на «Атропе» местечко для его внука, еще одного Джонатана, сына Иеремии. Мальчик родился в начале 1795 года, и к тому времени ему едва исполнилось одиннадцать. Горацио согласился взять племянника к себе на корабль, но не раньше, чем тот немного повзрослеет. Горацио, который сам начал службу в семнадцать лет, не верил в теорию, что мальчишка должен оказаться на палубе как можно раньше. Он всегда настаивал на предварительном обучении, прежде всего — математике и французскому языку. То же самое он посоветовал своему дяде и пообещал, что возьмет молодого Джонатана с собой, как только тому исполнится пятнадцать. Это обещание было исполнено в точности и молодой человек впоследствии прославил свою семью. Возможно, именно Джонатан посоветовал Горацио продолжать свое путешествие по каналам, а не по дороге. Мария ожидала ребенка со дня на день, и было очень вероятно, что тряска в карете, особенно в отдаленных уголках Котсуолда, может привести к преждевременным родам. Несмотря на то, что он был механиком, а не гидростроителем, дядя Джонатан очень увлекался каналами. Лодка с пассажирами и грузом — подчеркивал он, — идет очень мягко. Не будет ни толчков, ни тряски, ни риска перевернуться и оказаться в канаве. Канал, соединяющий Темзу и Северн, построенный еще в 1789 году, был лучшим из всех возможных путей из Глостера в Лондон. Заботясь о Марии и интересуясь новыми технологиями, Хорнблауэр сразу же одобрил эту идею и купил места на речной барке «Королева Шарлота». Его дядя подъехал, чтобы проводить его вечером 11 декабря и новое путешествие началось. Для Хорнблауэра оно стало особенно памятным, поскольку один из лодочников получил травму, что позволило капитану сыграть роль добровольного рулевого. Это был его первый опыт управления судном на внутренних водных путях, и он часто вспоминал об этом в последующие годы. Барке предстояло преодолеть две сотни миль, а ее экипажу — хорошенько поработать, чтобы 13 декабря прибыть в Брентфорд. Здесь Хорнблауэр нанял лодку, которая перевезла его с семейством вниз по Темзе к Дептфорду. Там они вышли на берег и устроились «У Георга» в Дептфорд Хард — месте, где суждено было родиться второму ребенку Марии.
Выше по течению реки, но не доходя до Лондонской гавани, стоял на якоре шлюп «Атропа». Хорнблауэр принял команду кораблем 14 декабря и мистер Джон Джонс, первый лейтенант, сразу же ознакомил его с письмом из Адмиралтейства, в котором он назначался организатором погребальной процессии лорда Нельсона. «Виктори» с телом адмирала на борту прибыла в Солент десятью днями ранее, однако была направлена в Дептфорд. В течении недели тело должно было находиться в Гринвичском госпитале, откуда оно должно было быть перевезено по реке к ступеням Уайтхолла, а оттуда, по Стрэнду, в собор Св. Павла для погребения. Хорнблауэр во взаимодействии с Геральдической Коллегией должен был обеспечить соблюдение подобающего церемониала в сочетании с хорошей морской практикой. Погребение было назначено на 9 января 1806 года, а речная процессия должна была состояться накануне. Таким образом, у Хорнблауэра оставалось едва три недели для того, чтобы спланировать и осуществить (если удастся) невероятно сложную операцию. Все матросы и офицеры «Атропы» были ему незнакомы и, тем не менее, он был вынужден использовать их для написания приказов или доставки их по месту назначения. Среди людей, чьи действия ему пришлось организовывать и координировать, были старшие из адмиралов, Лорд-мэр и члены муниципалитета, герольдмейстеры и плакальщики. Единственным утешением Хорнблауэра было то, что его ответственность заканчивалась у ступеней Уайтхолла, где нужно было выгрузить гроб. После этого ему предстояло лишь распустить тридцать восемь барок и лодок, из которых состоял погребальный отряд. Все закончилось благополучно, а Мария в тот же день родила маленькую дочку, названную в честь матери. Единственной наградой Хорнблауэру стало его представление королю Георгу III на приеме, в ходе которого к нему на корабль был назначен мичманом Его Высочество принц Зейтц-Бунау. Владения этого немецкого князька были оккупированы Бонапартом, однако ему удалось сохранить самое дорогое — свое родство с Георгом III, которому он приходился внучатым племянником. Принц получил назначение на флот. Единственным соотечественником, сопровождающим Его Высочество в изгнании, оказался некий доктор Айсенбайс, медик, который был возведен в дворянское достоинство и назначен старшим камергером и государственным секретарем. Хитросплетения политики привели к тому, что Айсенбайс также был назначен на «Атропу» в качестве корабельного хирурга, а заодно он должен был продолжать свою службу принцу. Конечно же, это был неприятный сюрприз, зато Мария была восхищена самой мыслью о том, что ее муж вращается среди особ королевской крови.
«Атропа» получила приказ следовать в Средиземное море, так что Марии не было смысла возвращаться в Плимут. Чтобы ухаживать за такими маленькими детьми (старшему — Горацио — было чуть больше года), Мария не могла сделать лучшего выбора, чем поселиться со своей матерью в Саутси. К тому времени, как она сделала это, «Атропа» уже стояла на покрытом туманом рейде Даунс. Вследствие забавного стечения обстоятельств, Хорнблауэр оказался почти напротив местечка Ворс, места, где он появился на свет. Вследствие стечения других обстоятельств, на рейд проник французский капер из Дюнкерка, замаскированный под траулер из Рамсгейта. Единственными ключами к головоломке оказались одиночный пистолетный выстрел и плывущее весло. Следуя по этим следам в густом тумане, Хорнблауэр наткнулся на пакетбот из Вест-Индии, «Амелию Джейн», с призовым экипажем на борту. Судно было с легкостью отбито, а захваченных французов убедили показать место нахождения их корабля. Захваченный на абордаж в тумане, капер «Месть» стал ценной добычей и принес Хорнблауэру кругленькую сумму призовых денег, которые пригодились ему при возвращении в Англию. Пока же он направил «Месть» со своим рапортом в Чатем, а пленники были высажены на берег в Дилле. Как только туман рассеялся, «Атропа» вместе с конвоем вышла в Гибралтар 23 января, где и встала на якорь 9 февраля. Здесь его ожидали приказы Коллингвуда присоединиться к флоту, а пока принять на борт мистера Мак-Куллума, служащего Досточтимой Ост-Индской компании, вместе с его помощниками-туземцами. Мистер Мак-Куллум оказался специалистом по подъему грузов с затонувших судов и управляющим спасательными работами на Карамандельском побережье, а его помощники — ловцами жемчуга с Цейлона. Недоумевая, что вызвало необходимость столь странного подкрепления, Хорнблауэр снова вышел в море и присоединился к флоту у мыса Перро у берегов Сардинии. Он доложился адмиралу и получил приказ следовать в Левант, в бухту Мармарис. Там в 1801 году был пункт сбора транспортов, обеспечивавших высадку английских войск в Египте. Когда экспедиция собиралась, транспорт «Стремительный» перевернулся и затонул, унося с собой четверть миллиона фунтов стерлингов серебром и золотом, предназначенных для выплаты жалованья войскам. Теперь «Атропе» следовало идти на Мальту, где на борт в качестве штурмана должен был прибыть мистер Джордж Тернер, который присутствовал при катастрофе «Стремительного» и определил место его гибели. Хорнблауэру было приказано поднять деньги, причем Тернер должен был определить район поисков, а Мак-Куллум — провести спасательную операцию. Ни один из европейских ныряльщиков не мог погружаться на шестнадцать с половиной саженей — глубину, на которой лежал «Стремительный», поэтому из Индии привезли цейлонцев. Дополнительным осложнением была необходимость скрывать цель визита от турок, так как сокровище лежало на дне принадлежащей им бухты. Предписывалось не применять против турок силу, хотя они могли бы значительно осложнить выполнение задачи и были бы даже вправе потребовать выдачи сокровищ.
«Атропа» вошла в гавань Ла-Валетты 24-го, и Хорнблауэр передал в порт заказ на необходимые ему материалы, который включал (по требованию Мак-Куллума) целую милю полудюймового троса, четверть мили медленного запала и пятьсот футов кожаного «летающего запальника» (что бы это ни было). Он был приглашен на неизбежный обед к губернатору — контр-адмиралу сэру Александру Боллу, который брал остров штурмом в 1798–1800 — и также неизбежно Хорнблауэр взял с собой на этот обед принца Зейтц-Бунау. Именно на этом торжественном обеде он впервые услышал о проблеме, которой в будущем ему пришлось вплотную заниматься — судьбой мальтийских пленников в государствах Берберии. В то время он не уделил этому особого интереса, так как был полностью сосредоточен на исполнении текущей миссии. Когда Хорнблауэр вернулся на корабль, ему сообщили, что произошла дуэль между доктором Айсенбайсом и мистером Мак-Куллумом, в результате которой у мистера Мак-Куллума оказалось простреленным легкое. Из расспросов госпитального хирурга Хорнблауэр узнал, что пистолетная пуля проникла в грудную клетку на уровне пятого ребра (иными словами, возле самого сердца), и что смерти можно ожидать в течение нескольких дней. В бешенстве от того, что дуэль вообще имела место, злой на себя за незнание сложных отношений между противниками, которые привели к ней, Хорнблауэр принял решение принять Мак-Куллума на борт и отплыть в бухту Мармарис на рассвете, в надежде, что по прибытии туда раненый все еще будет жив. Без Мак-Куллума проведение спасательных работ представлялось невозможным. Он был единственным экспертом и единственным человеком, который мог давать указания цейлонским ныряльщикам и понимать, о чем они говорят. Задача сохранить его живым была поставлена перед Айсенбайсом, чей пистолетный выстрел и привел к трагедии. Хорнблауэр заверил доктора, что на кону стоит его собственная жизнь, и что он может быть повешен по обвинению в убийстве. Может, это и не совсем правда, но именно подобная угроза дала Мак-Куллуму шанс выжить. Впрочем, в начале перехода все говорило за то, что он долго не протянет. Между тем, он все еще был жив 8 марта, когда на горизонте показался Родос. В связи с этим Айсенбайс предположил, что пуля не осталась в грудной клетке, а застряла в мускулах спины. Существовал шанс, что ее удастся извлечь, проведя операцию, когда корабль будет стоять на якоре в закрытой бухте. Вечером 8-го такие условия появились — «Атропа» встала на якорь в бухте Мармарис.
Леди Барбара Лейтон, с гравюры Томаса Райта по портрету сэра Томаса Лоуренса, члена Королевской академии, написанного в 1810 г.
Операция была настолько успешной, что удалось извлечь пулю вместе с обрывками одежды, которые она увлекла за собой. Однако сомнения в том, останется ли раненый в живых, по-прежнему оставались, но Хорнблауэр надеялся, что Мак-Куллум сможет, по крайней мере, давать необходимые рекомендации. Он приказал, чтобы лодки протралили район и установили точное место затонувшего судна. От местного мудира (местный турецкий начальник и капитан порта) Хорнблауэр получил разрешение наполнить бочки пресной водой и купить свежих продуктов — удобная причина для того, чтобы подольше оставаться в бухте, пока овощи и другие припасы подвезут на продажу из ближайших деревень. Корпус затонувшего судна был найден без особых трудностей в точке, где он и затонул, и три ныряльщика под руководством Мак-Куллума, который не вставал со своего ложа, смогли точно обозначить его место буями. Корабль лежал на дне килем кверху, и было возможно проникнуть внутрь, проделав пролом в его кормовой части. Деньги хранились в помещении лазарета, позади бизань-мачты и, по-видимому, по-прежнему находились там. Для того, чтобы добраться до них, необходимо было пробить проход в корпусе при помощи взрывчатки — пробить отверстие и при этом не разнести все судно на куски. Поместить бочонок с порохом в необходимом месте было сравнительно легко. Труднее было с запалом. Проблемы могли быть разрешены двумя способами: при помощи длинного кожаного огнепроводного шнура или при помощи «летающего запальника» — отрезка зажженного фитиля, непосредственно присоединенного к заряду. Первый (и наиболее безопасный) способ провалился, вероятнее всего потому, что на нижнем участке, под давлением воды произошло нарушение герметичности кожаной оболочки. Альтернативный способ был весьма рискованным, но иного пути теперь не было. Был сделан бочонок с двойным дном, во внутреннем отсеке которого был аккуратно уложен фитиль, рассчитанный на горение в течение часа. Весь бочонок снаружи был заранее обшит парусиной, а единственное отверстие, после того как подожгли фитиль, было забито затычкой и засмолено. Затем ныряльщики, работая по очереди, должны были установить этот бочонок в нужной точке корпуса затонувшего корабля. Затем, прежде чем раздастся взрыв, шлюпка должна была успеть отойти на безопасное расстояние. Промедление было подобно смерти. А торопливость могла привести к тому, что запал зальет водой и придется повторять всю операцию заново, с другим бочонком. Поскольку Мак-Куллум по-прежнему лежал в койке, Хорнблауэру пришлось лично руководить работами. В отличие от остальных, он понимал, что в тесном замкнутом пространстве бочонка фитиль может гореть быстрее. Взрыв грянул прежде, чем шлюпка успела вернуться к кораблю. Затем ныряльщики вновь спустились на дно и обнаружили серебро. Через некоторое время подъемные работы начались, а эксперт Мак-Куллум уже достаточно хорошо себя чувствовал, чтобы руководить ими лично.
Было трудно надеяться на то, что все происходящее ускользнет от внимания турок. Мудир все просил Хорнблауэра оставаться в бухте подольше, якобы для того, чтобы защитить местное население от пиратов, однако это был только повод для того, чтобы выиграть время и породить у британцев фальшивое ощущение полной безопасности. Наблюдая с берега за спасательными операциями и сделав правильные выводы, мудир сообщил обо всем вышестоящим властям. В результате турецкий флаг появился над фортом, который господствовал над полуостровом Ада и, таким образом, своим огнем перекрывал вход в бухту. Другой флаг появился над фортом на острове Пэссидж, указывая на то, что и здесь батареи готовы открыть огонь. Не успели британцы заметить все эти приготовления, как у входа в бухту появился старый, но двухпалубный корабль под турецким флагом, который подошел и встал на якорь в четверти мили от «Атропы». Ловушка захлопнулась, а мудир прибыл, чтобы сообщить условия. После того, как он рассказал, что вали (губернатор) прибыл с армией, а корабль — это «Меджидие» (56 пушек), с экипажем в тысячу человек, турок передал предложение вали. Если Хорнблауэр выдаст все сокровища, которые ему удалось поднять, ему будет позволено оставить себе все деньги, которые он еще сможет поднять.
Поскольку к тому времени две трети золота и почти все серебро уже были подняты на борт «Атропы», а поднять остальное было почти невозможно, это предложение не представлялось особенно интересным. К сожалению, единственной альтернативой представлялось сражение против превосходящего противника и (вне зависимости от его результата) официальный выговор за инициирование международного конфликта. Хорнблауэр и «Атропа» попали в худшее положение, которое только можно было придумать. По случайному совпадению это было в мартовские Иды — 15 марта.
Возможным выходом из создавшегося положения были: ночной бриз, поднимавшийся сразу после полуночи, блеклый свет восходящей Луны и тщательное изучение карты. Если «Атропа» неожиданно вступит под паруса и пройдет к выходу между мысом Сари и скалой Кайя, то у нее появится шанс улизнуть. Все это время шлюп будет находиться под огнем береговых батарей, но предпринимаемый маневр станет настолько неожиданным, что может сбить артиллеристов с толку, так как этот проход в нормальных условиях считается слишком узким и непроходимым для любых судов. Хорнблауэр негромко отдавал приказы, и их передавали дальше шепотом, команда тихо разбежалась по своим местам, одни — к талям и кабестану, другие — к шкотам и брасам. По сигналу якорный канат был перерублен, а паруса — подняты. На все это ушли считанные секунды. «Атропа» успела набрать скорость прежде, чем на «Меджидие» подняли тревогу. Британский шлюп вышел за пределы огня, прежде чем турки приготовились к стрельбе. Оставались еще береговые батареи и одного пушечного выстрела с «Меджидие» было достаточно, чтобы поднять их по тревоге. Чтобы увеличить дистанцию до острова Пэссидж, Хорнблауэр подвел «Атропу» под самый мыс Сари. Это само по себе было подвигом, на который немногие моряки решились бы и при свете дня. Проделать же подобное ночью, да еще и под обстрелом, казалось настоящим самоубийством, но все обошлось, а растерявшиеся турецкие пушкари не смогли попасть в цель ни одним ядром. Деньги (200 000 фунтов стерлингов золотом и серебром) были благополучно выгружены в Гибралтаре 8 апреля 1806 года, а после были доставлены в Англию. «Атропа» же перешла в распоряжение адмирала порта, которому шлюп был необходим для выполнения специального задания.
Во время войн с Францией, когда Испания обычно сражалась на ее стороне, британский Средиземноморский флот весьма зависел от поставок снабжения из Берберийских стран — пиратских королевств Северной Африки — Марокко, Алжира, Туниса и Триполи. Арабские корсары вели в Средиземном море непрекращающуюся войну против малых христианских государств, захватывая суда и грабя побережье Генуи, Сардинии, Неаполя, Сицилии и Ионических островов. Всех захваченных пленных продавали в рабство и европейские филантропы в ответ на британские предложения о запрете торговли африканскими невольниками, были склонны спрашивать, почему англичане не столь сильно озабочены судьбой белых рабов? Фактом было и то, что пираты не нападали на британские суда. Это давало британским купцам значительные преимущества по сравнению с остальными грузоперевозчиками. Они могли предложить большую безопасность, меньшие выплаты по страховке и более низкие фрахтовые ставки. Что же касается крепости Гибралтара и здешней базы флота, то они не могли бы существовать без регулярных поставок припасов из таких портов как Оран и Тетуан. Хорнблауэр сам был послан в Оран за грузом живого скота в 1796 году и хорошо знал про этот маршрут, связывающий Гибралтар с Берберийским побережьем. В отношениях с этими арабскими государствами, британцы чередовали угрозы с подкупом, всегда стараясь избежать возможного конфликта. Ситуация несколько изменилась после того, как Британия оккупировала Мальту, так как мальтийцы, некоторые из которых до этого попали в рабство, теперь должны были считаться британскими гражданами. Побережье Мальты, усеянное фортами и похожими на форты укрепленными поместьями, в прошлом часто подвергалось нападениям, которые, однако, прекратились с тех пор, как над островом был поднят британский флаг. Однако это не помогло мальтийским пленникам в Тунисе и Алжире, поэтому их родственники продолжали оказывать давление на губернатора Мальты. Поскольку он не мог принять решение самостоятельно, он, в свою очередь, написал об этом губернатору Гибралтара. Теперь же приказы Хорнблауэру вручил адмирал порта, а губернатор объяснил капитану, в чем суть дела. По большей части пленниками арабов становились мальтийские рыбаки, однако несколько более состоятельных граждан острова были захвачены на бриге в проливе между Валеттой и Палермо. Этот приз попал в руки тунисского корсара в 1796 году. Когда остров еще находился под властью рыцарей-иоаннитов. Могущество же этого рыцарского ордена к тому времени упало столь сильно, что они немногое могли сделать для того, чтобы защитить своих граждан или, хотя бы заплатить за них выкуп. После оккупации острова французами, а затем — англичанами, дало мальтийцам новые темы для размышления. Лишь к 1805 году они начали считать британское владычество (возможно) постоянным и только к 1806 году они пришли к пониманию, что мальтийские пленники в Берберии теперь могут считаться английскими гражданами. До заключения окончательного мирного договора, юридическая сторона вопроса была по-прежнему открыта для обсуждения. Тем не менее, аргументы мальтийцев были весомы, и адмирал Болл хотел сделать для жителей острова все возможное, для людей, которых он здесь встретил и полюбил. Некоторые из них попали в рабство еще десять лет назад, однако приходили новости о том, что они все еще живы, причем некоторые жили в самом Тунисе. Вероятно, за них можно было внести выкуп, однако Болл был против этого, так как не хотел создавать неудобный прецедент. Он полагал, что могут быть предприняты переговоры, подкрепленные некоторой военной силой, в ходе которых могла бы быть предложена некоторая оговоренная скромная плата. Соглашаясь с его мнением, адмирал порта выбрал для выполнения самого задания Хорнблауэра. Каждый должен был отметить, что спасение им сокровищ со дна бухты Мармара было отличным примером сочетания смекалки и хорошей морской практики. Если кто-то и мог освободить пленников, так это был именно он.
До сих пор существовала опасность, что Хорнблауэра скорее будут считать секретным агентом, чем боевым моряком. За ним уже закрепилась репутация неплохого лингвиста, и ходили слухи о его подвигах (реальных и мнимых) в качестве рыцаря плаща и кинжала. Все это могло осложнить его дальнейшее продвижение к высшим командным должностям. Он должен был видеть негативную сторону роли, которая была для него предназначена, но приказ есть приказ. Имея неполный год старшинства в капитанском списке, он вряд ли мог рассчитывать, что его желания будут учитываться, а предпочтения — обсуждаться. Приказы, которые он получил 21 апреля, были ему столь же ясны, сколь и неприятны. Он должен был проследовать на Мальту и там собрать всю необходимую информацию о людях, которых он должен был спасти из плена. Ему была выделена некоторая сумма денег, которую он мог использовать при проведении переговоров. Затем ему предстояло посетить Тунис и обеспечить освобождение лиц, перечисленных в списке, а затем доставить их на Мальту. После окончания этой миссии, он должен был присоединиться к флоту под флагом главнокомандующего в одной из точек рандеву, установленных общими приказами. Хорнблауэру предписывалось постоянно помнить, что бей Туниса находится в состоянии мира с Британией и, следовательно, избегать каких-либо действий, которые могли бы нарушить дружественные отношения между беем Туниса и королем Георгом III. «Атропа» вышла из Гибралтара 22 апреля и вошла в гавань Валетты 4 июня. Доложившись губернатору, Хорнблауэр вскоре получил список восьмидесяти четырех пленников, одиннадцать из которых во время захвата еще были детьми, а трое — настолько старыми, что представлялось маловероятным, чтобы они все еще оставались в живых. Из восьмидесяти одного человека, которых он мог надеяться спасти, было девять женщин и четыре молодые девушки. По существовавшей в те времена таксе, сумма выкупа за такое количество пленников составляла около 74 500 испанских долларов. Болл мог выделить для этого не более 10 000 долларов, и Хорнблауэру оставалось только согласиться с тем, что это — предел, на который он может рассчитывать. Он пообщался также с родственниками некоторых пленников. Одна из семей — Беззина — занимавшая на острове видное положение, очень тревожилась за судьбу своей дочери, которой в то время должно было исполниться семнадцать. Отцы смогли рассказать ему, где именно, по их мнению могут находиться пленники. Было еще множество встреч, после которых Хорнблауэр уже более или менее четко представлял себе, что значит рабство, если не для самих жертв, то, по крайней мере, для их родственников. Он собирал всю возможную информацию о Тунисе и, очевидно, пришел к выводу, что угрозы будут бесполезны, а уговоры — бессмысленной тратой времени. Ему предстояло найти иной выход и, судя по тому, как разворачивались дальнейшие события, он его нашел. Единственное, что вызывает раздражение, так это то, что его план и сегодня остается для нас таким же секретным, каким он был в тот жаркий июньский день 1806 года, когда «Атропа» покидала Мальту. Мы знаем лишь, что шлюп вернулся в Ла-Валетту 30 июля и Хорнблауэр представил губернатору следующий рапорт:
Корабль Его Величества «Атропа»
Валетта, 30 июля.
Сэр!
Имею удовольствие поставить Ваше превосходительство в известность о том, что я имею на борту и готов высадить на берег семьдесят семь жителей Мальты, которые до последнего времени удерживались в рабстве в окрестностях города Тунис и самом городе. Несколько из пленных мальтийцев умерли в неволе, так что я полагаю, что вернулись все пленники, оставшиеся в живых, за исключением двух молодых женщин, которые предпочли остаться в Тунисе. Имена умерших перечислены в представленном приложении I, имена освобожденных — в приложении II, а имена тех, кто остался в Тунисе — в приложении III. В списки не внесены имена нескольких детей, урожденных в плену и до сих пор ожидающих обряда крещения. Таковых на момент погрузки наличествовало семеро, и еще один ребенок родился во время перехода из Туниса.
Должен также доложить, что бея Туниса удалось убедить освободить этих несчастных людей без какого-либо выкупа, в качестве жеста дружбы по отношению к Его Величеству, под опекой коего ныне счастливо обретаются Мальтийские острова. Таким образом, деньги, предназначенные для выкупа, будут возвращены в казначейство.
Также имею честь доложить, что 19 июня «Атропа», под моим командованием, была обстреляна тунисским 28-пушечным фрегатом «Ибрагим». В ходе последующего боевого столкновения «Ибрагим» лишился мачт и вынужден был выброситься на мель у побережья острова Лампедуза. Впоследствии стало ясно, что атака произошла по ошибке, так как капитан «Ибрагима» принял «Атропу» за торговый корабль государства, с которым бей Туниса находится в состоянии войны. Когда ошибка выяснилась, я предложил «Ибрагиму» помощь и имею удовольствие сообщить, что этот корабль был снят с мели и смог достичь Туниса под временным такелажем. Повреждения на «Атропе» были сравнительно легкими и лишь три моряка были легко ранены. «Ибрагим» понес более серьезные потери, и мне дали понять, что девять человек из состава его экипажа были убиты, а шестнадцать — ранены, а сам корабль нуждался в постановке в док. Бей Туниса в полной мере ознакомлен с обстоятельствами столкновения, и я счастлив доложить, что он нисколько не считает меня виноватым. Он жаждет поддерживать дружественные отношения с Его Величеством и просил меня заверить в том, что ни одно мальтийское судно в дальнейшем не будет атаковано ни одним кораблем под флагом Туниса. Мною составлен также более детальный рапорт на имя адмирала порта Гибралтар, под командованием коего я нахожусь, для дальнейшей пересылки, если он сочтет таковую необходимой, главнокомандующему.
Честь имею оставаться, etc.
Горацио Хорнблауэр
Этот рапорт является настоящим шедевром недомолвок, и несмотря на то, что его второй рапорт содержит несколько больше деталей — список раненных, перечень полученных повреждений, отдано должное сообразительности и мужеству мистера Джонса (первого лейтенанта), мистера Стила (второго лейтенанта), штурмана мистера Тернера, мичманов Смайли и его Высочества князя Зейтц-Бунау, — в нем, тем не менее, ничего не говорится про обстоятельства, при которых были освобождены пленники. Два факта представляются более значительными, чем это может показаться на первый взгляд. Во-первых, вся операция заняла около семи недель. Поскольку Мальту и Тунис разделяют лишь чуть более двухсот пятидесяти миль, а Лампедуза находится почти в половине этого расстоянии от Мальты, но в противоположно направлении, очевидно, что сам процесс освобождения пленников (что бы это ни было) занял порядочное время. Во-вторых, ошибка тунисского фрегата в определении национальной принадлежности «Атропы» была вызвана, скорее всего, тем, что шлюп шел под чужим флагом. Таким образом, действительно полный рапорт Хорнблауэра был сделан в устной форме и получил такое же устное одобрение, о чем не осталось никаких документальных следов. Какова бы ни была подлинная история, в результате был достигнут успех, достаточный для того, чтобы Хорнблауэр приобрел на Мальте чрезвычайную популярность. Нам ничего не известно, как этот успех отмечался непосредственно после его возвращения из Туниса, но при его возвращении на Мальту в 1829 году его посетила депутация мальтийцев, которые, если бы не он, могли бы умереть в рабстве. Конечно, хотелось бы узнать больше о тех двух девушках, которые предпочли остаться в плену! Тем не менее, представляется весьма сомнительным, чтобы мы когда-либо узнали всю эту историю.
«Атропа» должным образом предстала перед лордом Коллингвудом у северной оконечности Сардинии, близ мыса Перро. 9 августа были получены свежие приказы провести разведку у средиземноморских берегов Испании и доложить, что сделано для того, чтобы восстановить потери испанского флота при Трафальгаре. Хорнблауэр внимательно осмотрел Малагу, Мотриль и Альмерию, но не обнаружил ни единого военного корабля. Оставалась Картахена, где располагалась военно-морская база, и «Атропа» подошла к этому порту 23 августа. С салинга увидели четыре линейных корабля и один фрегат, стоящие во внутренней бухте, однако ни на одном из этих кораблей не были подняты реи. Еще один фрегат, готовый к выходу в море, находился во внешней гавани. Это оказалась «Кастилья» (44 пушки), которая действительно вышла из порта в надежде перехватить «Атропу». Хорнблауэр отвернул к востоку и вскоре понял, что он может удерживать позицию на безопасной дистанции. Дважды ветер слабел, и пришлось отдавать рифы. На второй раз мистер мичман князь (как коротко называли королевского племянника) попробовал выполнить глупый трюк на рее, потерял равновесие и упал за борт. Если бы он не задел о пружинящие ванты, то разбился бы насмерть. Что же касается Хорнблауэра, то ему пришлось выбирать — рискнуть кораблем или оставить в море родственника Георга III. Моментально приняв решение, он бросил за борт спасательный буй, приказал перебрасовать бизань-марсель на работу назад и спустить шлюпку. Пока шлюпка спасала упавшего, Хорнблауэр приказал поднять сигнал, как будто бы сообщая что-то британскому кораблю, находившемуся на ветре за горизонтом. Уловка удалась и «Кастилья» легла в дрейф, опасаясь, что будет отрезана от своей базы. Королевский отпрыск был спасен и тут же наказан за свою глупость боцманской тростью. Между тем, Хорнблауэр решил установить наблюдение за «Кастильей». Он делал это всю ночь и держался на ветре у испанца весь следующий день, корда тот направился (по-видимому) к Минорке. Ситуация неожиданно изменилась когда еще какие-то паруса показались под ветром впереди по курсу «Кастильи». Оказалось, это был небольшой конвой под эскортом малого британского фрегата «Соловей» (28 пушек) под командованием капитана Форда. Испанский капитан решил вступить в бой, сблизившись с «Соловьем» прежде, чем «Атропа», находящаяся с наветренной стороны, сможет вмешаться. К своему ужасу Хорнблауэр понял, что Форд также решил сблизиться с неприятелем, не дожидаясь, пока «Атропа» сможет оказать ему хоть какую-то помощь. Через некоторое время «Соловей» превратился в руину: стеньга его грот-мачты была сбита, а фок-мачта пошла за борт. Оставалось одно — брать «Кастилью» на абордаж и надеяться, что Форд сообразит сделать то же.
Эта тактика сработала, и испанцы были сломлены двумя волнами атакующих, по одной с каждого борта. 10 сентября с большим трудом «Соловей» и приз удалось доставить в Палермо, куда незадолго перед этим прибыл флагманский корабль с лордом Коллингвудом на борту. Хорнблауэр между тем направил все силы своей команды на то, чтобы отремонтировать, заново оснастить и выкрасить корабль. Как показали последующие события, лучше бы он этого не делал. Когда все работы были закончены, «Атропа» попалась на глаза Фердинанду, королю Неаполя и Сицилии, когда он ехал с визитом на флагман. К тому времени этот бездарный монарх уже потерял Неаполь, а Сицилия осталась в его распоряжении только благодаря поддержке английского флота. Тем не менее, он указал британскому послу, лорду Уильяму Бентинку, что король, владеющий островом, должен иметь свой флот и попросил, чтобы «Атропа» была передана под неаполитанский флаг. Нуждаясь в дружбе с королем Неаполя в те трудные времена, когда верными Британии оставались лишь немногие союзники, более того, опасаясь, что Фердинанд заключит с Наполеоном сепаратный мир, лорд Уильям Бентинк рекомендовал лорду Коллингвуду передать шлюп Его Величеству королю Неаполя и Сицилии. Тот с сожалением согласился, послал за Хорнблауэром и рассказал капитану о принятом решении. Если бы Хорнблауэр согласился перейти во флот Сицилии, то стал бы коммодором. Он немедленно отказался, но его первый лейтенант, недалекий Джон Джонс (девятый) согласился стать капитаном — не имея других надежд на повышение в чине. С ним ушли еще два десятка добровольцев. Все это, конечно, были неважные моряки. Остальных распределили по другим кораблям средиземноморского флота. Принц Зейтц-Бунау, для которого нашли место на флагманском корабле, прощался с Хорнблауэром и «Атропой» со слезами на глазах. Сам же Хорнблауэр отправился в Англию на транспорте «Орел». Он сошел на берег в Портсмуте 13 декабря, после бурного перехода, сопровождавшегося противными ветрами.
Несомненно, на этом этапе своей карьеры Хорнблауэр испытывал горечь. Он превратил «Атропу» в отличный корабль — и это при довольно посредственном офицерском составе. Ему удалось успешно выполнить две важные и сложные миссии, ни одна из которой так и не стала известна широкой общественности. Наконец, он сыграл решающую роль в захвате испанского фрегата. Но и здесь Хорнблауэру не повезло. К его несчастью, он был (и все еще оставался) младшим по стажу капитаном и Форд, заботясь о том, чтобы приписать основные заслуги себе, написал рапорт о взятии «Кастильи» в котором про действия «Атропы» говорилось — по меньшей мере — двусмысленно. Это письмо появилось в «Газетт» и звучало следующим образом:
«…Когда во время боя «Соловей» сошелся вплотную с неприятелем, я приказал подать сигнал на «Атропу», чтобы та атаковала противника с более близкого расстояния. Этот сигнал был выполнен капитаном Хорнблауэром, который не убрал марселей, ни даже брамселей, пока не оказался на дистанции открытия огня. После получасового нахождения под тяжелым обстрелом врага, который принес нам тяжелые повреждения и потери, мы почувствовали облегчение, увидев «Атропу» по другому борту неприятеля. Незадолго до этого наш якорь зацепился за форштаги испанского корабля, но партии моряков с топорами, под командой мистера Джона Хаггинса, штурманского помощника, удалось быстро его освободить. Изменение относительных позиций кораблей позволяло нам абордировать неприятеля, поэтому я вызвал абордажную партию и повел их через наш бушприт на неприятельский бак. Враг оказывал ожесточенное сопротивление, которое все еще продолжалось, когда капитан Хорнблауэр в свою очередь, атаковал корабль противника с незащищенного борта. Вскоре после этого вражеский корабль спустил флаг и оказался «Кастильей», тяжелым фрегатом, вооруженным сорока четырьмя пушками. Я весьма обязан капитану Хорнблауэру за его своевременную помощь в этой операции, значительные заслуги в успешном осуществлении которой должны быть признаны мистеру Ричарду Лукасу, первому лейтенанту «Соловья», под непосредственным управлением которого… etc., etc».
Не искажая фактов в полном смысле этого слова, Форд избрал не вполне уместную тактику, намекая, что помощь «Атропы» могла бы быть полезной, не приди она слишком поздно. На самом же деле, ему не удалось опознать противника перед схваткой и он маневрировал так, чтобы побыстрее захватить неприятеля в одиночку — прежде, чем «Атропа» успела бы сделать хоть один выстрел. Если бы Форд действовал по здравому размышлению, то он должен был бы тянуть время и держаться в стороне от «Кастильи» до тех пор, пока «Соловей» и «Атропа» не смогли бы действовать вместе, принуждая «Кастилью» разделить огонь между ними. Потери, понесенные «Соловьем», оказались, по большей части, ненужными — десятками человеческими жизнями пожертвовали впустую. Много ли читателей «Газетт» смогли увидеть все это между строк донесения Форда? Во всяком случае, в числе наиболее проницательных читателей не оказалось лордов Адмиралтейства, которые произвели Лукаса в капитан-лейтенанты. Не оказалось догадливых и среди директоров Патриотического Фонда, которые сочли необходимым преподнести Форду золоченую шпагу стоимостью в сто гиней, а Хорнблауэру — почти такую же, но в два раза дешевле. Если и был человек, который во всем прекрасно разобрался, так это лорд Коллингвуд, чья рекомендация оказалась решающей для их лордовских светлостей при выборе для Хорнблауэра нового назначения. Все еще не знающий об их решении и сожалея о судьбе «Атропы», Хорнблауэр высадился в Салли Порт и нанял носильщика с тачкой, чтобы тот завез его багаж на Хайбери-стрит. Мария сама открыла ему двери и рассказала, что дети заболели. Послали за аптекарем, но он так и не пришел. Хорнблауэру пришлось самому установить диагноз. У обоих была оспа…
Сын и дочь, Горацио и Мария, умерли друг за другом и были похоронены на кладбище при церкви, в которой венчались их родители. Двойные похороны прошли 18 декабря под звон колоколов церкви Фомы Беккета. Рождество в тот год было грустным, а Хорнблауэр мало что мог сказать и еще меньше — сделать. Мария же находилась в прострации, долго болела, и прошло несколько недель, прежде чем мужу удалось объяснить ей, какого успеха он добился: письма в «Газетт», комментарии в газетах, целый параграф в «Нэвэл Кроникл», вручение золоченой шпаги. Единственной же по-настоящему важной новостью для Горацио стало письмо, которое он получил 5 февраля 1807 года — о назначении его командиром фрегата «Лидия» (36 пушек), оснащение которого проводилось в Чатеме. С некоторым облегчением он воспринял приказ направиться на корабль немедленно. Это еще не означало окончательного прощания перед возвращением в море. У него наверняка еще имелся шанс зайти на «Лидии» в Портсмут перед началом дальнего похода. Но сейчас главным было избавиться от душной и тяжелой атмосферы Хайбери-стрит. К Марии он испытывал безгранично глубокую симпатию. Чего же ему не суждено было ощутить по отношению к ней — ни теперь, ни когда-либо раньше — так это любви.
6. Командир фрегата
Из Портсмута Хорнблауэр каретой поехал в Лондон, где и доложился в Адмиралтействе в расчете обеспечить за Бушем должность первого лейтенанта. Его обращение было успешным, Буш как раз был свободен (о чем Хорнблауэр знал) и возникла лишь небольшая дискуссия о других назначениях: мистера Джерарда вторым лейтенантом и мистера Кристэлла — штурманом. После того, как его основная цель была достигнута, Хорнблауэр продолжил свое путешествие в Мэйдстон, где он встретился с мистером Ходжем, своим поверенным и узнал, что мистер Бернетт все еще жив, а поместье Смоллбридж-Мэнор еще более запущено, чем когда-либо. Напомнив, что он по-прежнему заинтересован в приобретении этой недвижимости, Хорнблауэр поехал в Чатем, где и закончил свое путешествие в гостинице «Под золотым петушком». Вызванный на верфь 16 февраля, он узнал, что оснащение «Лидии» заканчивается, и что между 23 февраля и концом месяца фрегат должен встать в док для замены медной обшивки.
«Лидия» была кораблем пятого класса средних размеров, построенная в Уолвиче в 1796 году по проекту сэра Уильяма Рула. При водоизмещении в 951 тонну и длине в 143 фута, она была вооружена двадцатью шестью 18-фунтовками на батарейной палубе, восемью 9-фунтовками на шканцах и двумя 12-фунтовками на баке. Ее штатная команда составляла 274 человек, а стоимость строительства — 19 070 фунтов стерлингов. После посадки на мель в устье Шеннона, ее прежний командир был снят с должности за пренебрежение своими обязанностями, а корабль поставлен в ремонт. Фрегат вновь вошел в строй, как и было согласовано, 12 марта 1807 года.
22 марта «Лидия», наконец, вышла из Чатема и 24 марта прибыла в Портсмут. Мария приехала на борт, чтобы повидаться с мужем и осмотреть корабль, и Хорнблауэр воспользовался случаем, чтобы отпустить остальных офицеров на берег. Лично для него это был период сравнительного благополучия, так как он получил свою долю призовых денег за взятие «Кастильи»: это не было состоянием, но все же составило порядочную сумму, так как два командира английских кораблей разделили между собой одну восьмую стоимости захваченного испанского фрегата. Теперь Хорнблауэр был лучше одет, на его столе появилось серебро, а скромные желания Марии были более чем удовлетворены. В полученных им приказах было указание следовать на Мальту, приняв на борт капитана Королевского флота Оуэна Гриффитца и мистера Джона Уизиншоу. Под большим секретом ему сообщили, что планируется оккупация Александрии английскими войсками. Капитан Гриффитц был экспертом по совместным операциям, посылаемым для руководство собственно высадкой. Мистер же Уизиншоу был гражданским инженером, которому предстояло выяснить возможности прокладки через Суэцкий перешеек канала, который бы соединил Средиземное море с Красным. «Лидия» должна была присоединиться к экспедиции у Мальты, оставаясь затем в Александрии столь долго, сколько потребовалось бы для обеспечения работы мистера Уизиншоу, а затем — доставить его (уже без капитана Гриффитца) обратно в Портсмут. Их Лордовские Светлости предполагали, что «Лидия» снова вернется домой к концу августа, после чего она потребуется для выполнения особой миссии. После того, как два пассажира поднялись на борт, Хорнблауэр снова распрощался с Марией и отплыл из Портсмута 28 марта 1807 года.
Чтобы ни предполагали приказы Хорнблауэра, по-видимому, в них вкралась ошибка, так как экспедиция в Александрию отплыла к месту назначения уже задолго до этого — отплыла, когда сама «Лидия» еще стояла в Чатеме — так что теперь возле Мальты не было флота, к которому Хорнблауэр мог бы присоединиться. Более того, когда 11 июня «Лидия» достигла Александрии, оказалось, что этот исторический порт, по крайней мере, на некоторое время, находится в британских руках — капитану Гриффитцу больше нечего было делать. Перед мистером Уизиншоу, напротив, стояло интересное задание, к тому же такое, при выполнении которого ему мог помочь Хорнблауэр. До конца июля Хорнблауэр узнал кое-что о Египте и еще кое-что — об инженерном искусстве, в то время как мистер Уизиншоу немного научился навигации и, гораздо больше, древней истории. Содержание его отчета не представляет интересов для целей этого повествования, но зато опосредованно объясняет, почему «Лидия» была послана со столь необычной миссией. Суэцкий канал античных времен внимательно изучался не только с целью его воссоздания, но и в качестве примера, с технической стороны, постройки чего-то подобного в Панаме. Кое-то в правительстве и, возможно, даже в Кабинете, вынашивал мысль о развитии водного пути через перешеек, очевидно, через озера Манагуа и Никарагуа (очевидно, этим государственным деятелем был Джодж Каннинг, глава казначейства военно-морского флота с 1804-го по 1806 год, чья последовательная политика в отношении испанских колоний имела большое значение. Он ушел со своего поста задолго до того, как Хорнблауэр получил свои приказы, однако вся схема, по-видимому, была им разработана и получила одобрение еще в 1806 году).
Будучи молодым лейтенантом, Горацио Нельсон также был послан для изучения этих возможностей в 1780-м году. Его экспедиция пыталась достичь озера Никарагуа по реке Сан-Хуан, несомненно, с целью захвата города Гранады. Попытка провалилась, однако сама идея осталась, в особенности того, что касалось повторения подобной попытки уже со стороны тихоокеанского побережья. Подобный план представлялся более реальным в 1807, поскольку появились сообщения об анти-испанских волнениях в районе залива Фонсека. После захвата этой территории, возможно, с помощью местных колонистов, надлежало решить следующую проблему — определить собственно маршрут нового пути и наиболее подходящие средства транспортировки. На карте соединить существующие водные пути при помощи относительно короткого канала представлялось особо трудным делом. Обсуждаемая концепция была та же, что привела в будущем к сооружению Панамского канала — разумное решение сложной проблемы. Однако если одни государственные мужи были заинтригованы возможностями Никарагуа, то другие были в этом проекте не заинтересованы, и среди этих, последних, весьма вероятно, были старшие офицеры — члены Совета Адмиралтейства. Они не могли понять, например, что общего Никарагуа может иметь с победой над Наполеоном. Эффект их вмешательства носил троякий характер. Во-первых, они сократили масштабы экспедиции, направляя всего один корабль вместо четырех, как было ранее запланировано. Во-вторых, они выделили для нее всего одного инженера, правда, обладающего опытом работы на каналах Эйр и Кальдер. И, наконец, в третьих, они решили (как мы это уже видели), что этому инженеру для начала надо посетить Египет. Здесь в древние времена также был канал, соединяющий запад с Востоком и эксперт мог бы узнать что-либо полезное для разрешения подобной проблемы. В целях соблюдения секретности ни Хорнблауэру, ни Уизиншоу ничего не было сказано о никарагуанском проекте. Они были коротко ознакомлены с ним уже после своего возвращения в Британию.
Как и было предусмотрено, «Лидия» пришла в Плимут к 25 августа. Пока ее ремонтировали, оснащали и снабжали всем необходимым для далекого плавания, мистер Уизиншоу съездил в Лондон, где ему и рассказали про Никарагуа — в обстановке особой секретности. Результатом стало то, что он наотрез отказался туда ехать. Возможно, он знал о Центральной Америке несколько больше, чем его потенциальные работодатели из Адмиралтейства. Возможно, он даже встречался и разговаривал с кем-то из числа участников экспедиции 1780 года. Каковы бы ни были его источники информации, он достаточно знал о Никарагуа, чтобы выступить против этой поездки. Их лордовские светлости могут поискать для этого кого-нибудь другого, и их новому избраннику останется только пожелать удачи — видит Бог, она ему понадобится! Бормоча что-то себе под нос о непроходимой тупости официальных лиц, мистер Уизиншоу вернулся в свой родной Ланкашир. Не подыскивая ему замены, их Лордовские светлости попросту решили, что Хорнблауэр отправится один. Он имел известность блестящего навигатора и решительного человека, а к тому же бегло говорил по-испански. Без сомнения, он найдет, что предпринять, когда окажется на месте. Из соображений безопасности Хорнблауэру рассказали весьма немногое, однако отправили его в поход с запечатанными приказами, которые он должен был открыть лишь после того, как покинет Мадейру.
Содержание приказов, когда Хорнблауэр, наконец, открыл их 19 ноября, возлагало на него следующие обязанности: он должен был установить связь с землевладельцем доном Хулианом Альворадо, чьи земли лежали вдоль западного берега залива Фонсека. Дон Хулиан собирался поднять восстание против Испании и Хорнблауэр должен был доставить и вручить ему пять сотен мушкетов со штыками, пятьсот патронташей и миллион патронов. Он также должен был поддерживать восстание, не исключая финансовой помощи (с собой Хорнблауэр вез пятьдесят тысяч золотых гиней, что отравляло его существование в течение всего путешествия) и признать суверенитет дона Хулиана над любой территорией, которую последний смог бы завоевать. Далее, подходя к сути дела, Хорнблауэру сообщалось, что одно из ответвлений залива Фонсека, называемое (по всей видимости) Эстеро Реал, почти вплотную подходит к внутриматериковому озеру Манагуа, которое, в свою очередь, сообщается с озером Никарагуа и, далее, с рекой Сан-Хуан, впадающей в Карибское море. При помощи дона Хулиана, Хорнблауэр должен был разведать этот путь через перешеек и сообщить свои соображения о мерах по улучшению этой коммуникационной линии — посредством канала или каким-либо другим образом.
Лишь после того, как это задание будет выполнено, Хорнблауэру разрешалось атаковать испанские суда с сокровищами в Тихом океане, но даже и в этом случае он должен был всемерно избегать нанесения ущерба местным жителям, которые могли бы присоединиться к мятежу. Хорнблауэра также информировали, что испанцы патрулируют залив Фонсека, используя для этого двухдечный корабль «Нативидад» (50 пушек), который «Лидии» (36 пушек) предписывалось захватить, утопить, сжечь либо иным образом вывести из строя. Таким образом, нападение на корабль, почти вдвое превосходящий «Лидию» по числу орудий, было всего лишь как бы дополнением к основной задаче, которая начиналась с создания нового королевства, а заканчивалась прокладкой нового пути через перешеек. Заключительный параграф предостерегал от того, дабы преждевременно дать знать испанцам о своем присутствии. Для этого предписывалось избегать подходить к берегу на дальность видимости от мыса Горн до самого залива Фонсека, что само по себе представляло навигационную задачу, решение которой было бы под силу едва ли одному капитану из ста. Подобную программу можно было бы, как минимум, назвать нескромной. Тем не менее, первый шаг был самым простым, по крайней мере, на первый взгляд — доставить груз оружия и боеприпасов определенному лицу и при этом преждевременно не обнаружить своего присутствия.
Секретность этого похода было легко поддерживать, пока «Лидия» находилась в Атлантике. 28 ноября она прошла острова Зеленого Мыса, на Рождество пересекла экватор и 12 января достигла Рио-де-Жанейро. В то время, как Португалия находилась под властью французов, Бразилия по-прежнему принадлежала королю Португалии, с которым Британия заключила союз. Таким образом, Хорнблауэр не испытывал затруднений с пополнением запасов продовольствия и воды в Рио. Португальским властям он сообщил, что располагает приказами патрулировать в районе устья Ла-Платы. В ответ португальцы сообщили ему, что им все об этом известно, что было спланировано новое нападение на Монтевидео, и что они вполне понимают нежелание британцев оставить эти попытки. Хорнблауэру, конечно же, было известно про неудачу экспедиции Попхэма в 1806 г., так же, как и о еще одной неудаче 1807 г. Очередная попытка, таким образом, не была невероятной, хотя Хорнблауэр точно знал, что ничего подобного в ближайшее время не планировалось. Тем не менее, его история была принята на веру (и, конечно же, обросла подробностями), так что теперь можно было не бояться, что кто-либо из его офицеров или команды о чем-либо проговорится, так как им ничего не было известно об истинных целях экспедиции. Это был период его жизни, когда за ним закрепилась слава молчаливого и хладнокровного ревнителя дисциплины, который отдает краткие и четкие приказы, но при этом ничего не говорит о своих будущих планах. Он вышел из Рио-де-Жанейро 4 февраля, 10 заправился водой на Фолклендских островах, тогда необитаемых, после чего двинулся к мысу Горн. Он впервые увидел мыс Горн 17 апреля, был снова столкнут противными ветрами в Атлантический океан и увидел эту мрачную скалу вновь (и уже в последний раз) 30 апреля. С тех пор он уже не видел побережья Южной Америки до тех самых пор, как 18 июня 1808 г. вошел в залив Фонсека.
В совершении этого настоящего навигационного подвига Хорнблауэру способствовало счастье, чем он в полной мере и воспользовался. Лишь немногим британским навигаторам удавалось до этого обогнуть мыс Горн, а многие из тех, кто все же совершил это, в своих рапортах указывали на крайне неблагоприятные погодные условия. Капитану Куку в этом смысле повезло, так как он оказался у мыса Горн в январе — в разгар лета Южного полушария — а Хорнблауэру почти столь же повезло в апреле. Отсюда плавание в северном направлении, без подхода на дальность видимости берега (например, у Кито), было делом далеко не легким, однако навыки, приобретенные Хорнблауэром в обсервациях по Луне, позволили ему привести «Лидию» в залив Фонсека даже без длительного плавания вдоль нужной параллели — проверенного веками метода выхода к нужной точке побережья. Незадолго до окончательного подхода к берегу, 1 июня, Хорнблауэр достиг трехлетнего стажа в капитанском списке, что давало ему право теперь носить два эполета вместо одного. В этот день он пригласил своих офицеров на торжественный обед в честь годовщины битвы Достославного Первого Июня (1794 г). Буш провозгласил тост за нового «старшего капитана», а все присутствующие подумали, что, возможно, Хорнблауэр отметит это событие, рассказав им о цели предстоящего плавания. Однако, вежливо поблагодарив своих офицеров за добрые пожелания, Хорнблауэр практически ничего им не рассказал. Когда 18 июня «Лидия» осуществила свой удивительно точный — или удивительно счастливый — подход к берегу, только ее командир знал, где находится корабль. Все, что он сказал при этом, было: «Приготовиться к бою!» и затем, чуть позже: «Зарядить и выдвинуть пушки!»
Приготовленная таким образом к встрече любой опасности, «Лидия» вошла в бухту с начинающимся приливом и бросила якорь на глубине семи саженей. Первая фаза операции была закончена.
Исполнение второй фазы, как скоро стало ясно Хорнблауэру, было связано с куда большими сложностями. Дон Хулиан Альворадо был все еще жив и по-прежнему возглавлял восстание. Ему даже удалось установить эффективный контроль над районом к югу от Ла Либертад. Проблемой было то, что приобретенная таким образом власть буквально свела его с ума, и он провозгласил свое божественное происхождение под именем «Эль Супремо». Тем не менее, союз с этим маньяком был просто жизненно важным, поскольку «Лидии» необходимо было обеспечить запасами по крайне мере, на восемь месяцев — чтобы хватило на обратный путь в Англию. К счастью, у Хорнлауэра было оружие и боеприпасы, в обмен на которые ему удалось выторговать у людей «Эль Супремо» (помимо воды) достаточное количество рогатого скота, свиней, хлеба, сахара, кофе, табака и даже… рома. Он все еще выгружал оружие и загружал припасы, когда прибыл гонец с известием, что с поста наблюдения расположенного в горах, заметили «Нативидад». Хорнблауэр рассчитал, что испанский корабль может войти в бухту к полуночи. Вместо того, чтобы выйти в море, как это сделали бы многие капитаны на его месте, Хорнблауэр перевел «Лидию» к новому месту стоянки, в укрытое от посторонних глаз место за островом Меангуэрра. Когда «Нативидад» подходила в лунном свете, «Лидия» неожиданно появилась, словно из ниоткуда, подскочила к борту испанца, и дала всего один бортовой залп. Вслед за картечью последовала волна атакующих, которые в несколько минут очистили верхнюю палубу, в то время, как нижнюю палубу очистил десант со шлюпок фрегата, атаковавших «Нативидад» с другого борта.
Как позднее рассказал Хорнблауэру один из испанских офицеров, за свои двадцать лет службы на Тихоокеанском побережье «Нативидад» всегда отделяли от возможного противника, как минимум, четыре тысячи морских миль. Таким образом, испанский корабль был захвачен на удивление легко. Грустным следствием из этого было то, что «Эль Супремо» тут же потребовал передать «Нативидад» ему в качестве ядра будущего флота, который он хотел направить против Ла Либертад. Хорнблауэру оставалось лишь согласиться и оказать содействие в осуществлении операции, которая закончилась с полным успехом и стала прелюдией к последующей атаке «Эль Супремо» на Сан-Сальвадор. Оставив «Эль Супремо» с его новой игрушкой, Хорнблауэр повел свой фрегат в Панамский залив — частично выполняя диверсию в пользу «Эль Супремо», частично для того, чтобы нарушить испанское торговое судоходство в этом районе. Прежде, чем «Лидии» удалось кого-нибудь перехватить, она сама была перехвачена испанским люггером под белым парламентерским флагом. Испанский офицер с люггера сообщил Хорнблауэру, что Британия и Испания теперь находятся в состоянии мира. Более того, теперь они — союзники! Наполеон захватил короля Фердинанда, заменив его на испанском троне своим собственным братом Жозефом. Остатки испанского правительства заключили союз с Георгом III, в результате чего для фрегата Его Величества «Лидия» теперь были открыты все порты Южной Америки. Хорнблауэр еще надеялся, что все эти сведения — фальшивка, но люггер доставил ему также депеши: одну — от английского адмирала с базы на Подветренных островах, пересланную по суше через Порто-Белло, а другую — от вице-короля Перу. Эти документы, без сомнения подлинные, полностью проясняли ситуацию. Между делом выяснилось, что вице-королю не было известно ни о захвате «Нативидад», ни про успешную кампанию «Эль Супремо» в Генеральном Капитанате Гватемала. Это было ужасно! Строго исполняя полученные приказы, Хорнблауэр своими действиями привел к созданию исключительно сложной проблемы, способствуя местной революции против одного из союзников Британии. Его не могли отдать под трибунал за точное исполнение полученных приказов, но зато легко могли вышвырнуть со службы — просто для того, чтобы умиротворить вице-короля. Он оказался в тяжелой ситуации, а третье письмо, полученное вместе с двумя первыми, вовсе ее не облегчало. В нем было сказано следующее:
«Цитадель Панамы
20 июля 1808 г.
Леди Барбара Уэлсли направляет свои поздравления командиру английского фрегата. Она надеется также, что он будет столь добр, чтобы доставить ее вместе с горничной в Европу, поскольку леди Барбара полагает, что в результате вспышки желтой лихорадки в Испанском Мэйне, она не сможет возвратиться домой более желательным для нее образом».
Имя «Уэлсли» произвело моментальный эффект, но другие проблемы, навалившиеся на Хорнблауэра, давили его настолько сильно, что он почувствовал лишь преходящее раздражение подобной вызывающей и, по сути, просто невыполнимой просьбой. Испанский офицер выразил свое облегчение, так как смог передать свои известия до того, как «Лидия» встретилась с «Нативидад». Лучшим ответом на это замечание стал приказ Хорнблауэра вывести пленных из канатного ящика — сцена, которая привела в смущение всех присутствующих. И только теперь он узнал самое плохое: знаменитый манильский галеон с сокровищами отходит из Акапулько в следующем месяце, а «Нативидад» под флагом восставших будет поджидать его. Захват груза этого галеона, стоимостью в миллион или даже больше, будет чувствительным ударом для правительства и укрепит дух восставших, для борьбы с которыми у Испании в этом районе не было ни кораблей, ни людей. К тому времени как «Лидия» бросила якорь в Панаме, Хорнблауэр уже понял, что ему придется еще раз вступить в схватку с «Нативидад», но на сей раз не обладая преимуществом неожиданности. Он все еще размышлял над этим, когда ему пришлось непосредственно столкнуться с леди Барбарой, которая прибыла на борт — со своей цветной служанкой и багажом — преспокойно считая, что ее просьба не может не быть удовлетворена. Хорнблауэр был настроен отослать ее на берег, однако нашел, по крайней мере, три причины, по которым этого делать не следовало.
Во-первых, леди Барбара попала в Панаму из-за случайностей войны. Она ездила в Вест-Индию, и пакетбот, на котором она плыла, был перехвачен испанским приватиром и приведен в Порто-Белло. Здесь она оставалась в качестве пленной, пока не началась эпидемия желтой лихорадки, во избежание которой она переехала в Панаму. Во-вторых, более чем вероятно, эпидемия все же достигнет Панамы. И, наконец, в-третьих, она носила фамилию Уэлсли и, следовательно, привыкла всегда поступать по-своему. Для пост-кэптена без влиятельных связей заиметь себе врагов среди членов семьи Уэлсли было равнозначно профессиональному самоубийству. Хорнблауэр вынужден был пригласить леди Барбару на борт, хотя можно предположить, что он проделал это несколько неуклюже. Присутствие леди на борту боевого фрегата должно было доставить массу неудобств, и уступка ей капитанской каюты было лишь одним из них. Более того, кораблю предстояло вступить в бой, а после этого (в случае удачного исхода схватки) — еще и обогнуть мыс Горн, что, возможно, было еще опаснее. А что, если «Лидия» будет захвачена и леди Барбара попадет в руки фанатиков «Эль Супремо»? Опасности подстерегали ее со всех сторон, и можно было простить ей, что желтую лихорадку она полагала наиболее реальной угрозой.
Мы можем сомневаться, слышал ли вообще Хорнблауэр до этого случая о существовании леди Барбары и наверняка он не мог воспользоваться источниками, чтобы почерпнуть о ней более подробную информацию. Фактом, однако, является, что она была наименее значительным членом весьма известной семьи. Гаррет Уэлсли, первый граф Морнингтон (1735–1781), женившись на Анне Хилл, имел от нее несколько детей — начиная с Ричарда (р. 1760 г.) и далее: Артур (умер в младенчестве), Уильям, Френсис (также умерший), Анна, еще один Артур, Джеральд, Генри, Мери-Элизабет и (последняя) — Барбара, родившаяся в 1781 году. Ричард, второй граф и первый маркиз, был обречен сделать блестящую карьеру в политике, Генри играл значительную роль в дипломатии и стал первым бароном Коули, а второй Артур (р. 1769 г.) позднее стал лучшим воином своих дней. Барбара была гораздо моложе своих знаменитых братьев, она родилась перед самой смертью отца, в тот период, когда их, скорее бедная, семья вынуждена была перебраться из Ирландии (с их родины) в Найтсбридж. Барбара не унаследовала состояния, но когда блестящий Ричард в 1797 г. уехал в Индию, чтобы занять там пост генерал-губернатора, он взял с собой и младшую сестру. В ту пору ей было восемнадцать лет, она была привлекательной и очень живой девушкой, а значит, могла рассчитывать выйти замуж за лучшего мужчину, какого только можно было найти в Индии. Тем не менее, она вернулась из Индии в 1799–1800 году, так и не выйдя замуж, в сопровождении своего брата Генри, который был личным секретарем Ричарда. В наследство от одного из кузенов ей досталось небольшое имение в Ирландии, куда она и выехала, чтобы ознакомиться со своими новыми владениями. Леди Барбара пробыла в Ирландии несколько лет, проводя большую часть времени у родственников в Дублине, а затем (в 1806 г.) получила еще одно наследство — на сей раз небольшую плантацию на Ямайке. Заядлая путешественница, она решила поехать туда лично. Захват судна, на котором она путешествовала, положил конец этой попытке, и теперь ей хотелось просто вернуться домой. Вот почему леди Барбара оказалась на борту «Лидии».
Мы не располагаем описанием Барбары Уэлсли в именно этот момент ее жизни. Тем не менее, так случилось, что именно она упомянута в письме леди Бессборо к лорду Гренвилю, написанном годом ранее:
Брокет-хаус
Суббота, 18 июня 1808 г.
…Самая большая новость, которую я могу тебе рассказать, и которая сейчас более всего занимает наше общество, состоит в том, что Палермо, лошадь Дона, вопреки всем ставкам выиграла на скачках в Аскоте (Доном называли лорда Борингтона). Лорд Джерси купил ее, и все мы ожидаем, в ужасном напряжении, подробностей, о которых мы, наверное, услышим в ближайшие два месяца. Я приехала сюда сегодня в надежде, что перемена общества поможет мне немного от депрессии, которой я страдаю в последнее время. Прекрасная погода несколько развлекла меня, однако я не могу сказать того же о визите находящейся здесь же леди Барбары У., которая, похоже, должна была выйти замуж за старшего сына лорда Брендона. К сожалению, лорд Брендон написал ее старшему брату в таком стиле, поблагодарив за честь, которую тот оказал ему подобным предложением, что обидел всю семью, в результате чего предложение было сходу отвергнуто. Я не встречалась с леди Б.У. ранее и должна признать, что не испытывала к ней поначалу симпатии, за исключением легкого удивления тем, что она еще до сих пор не замужем. Она несколько выше среднего роста, с темными волосами, прекрасной кожей, серо-голубыми глазами. Правда, ее лицо представляется несколько длинноватым, а нос — несколько слишком властным, как на чей-либо вкус. Она была в Индии со своими братьями, и все полагали, что вернется оттуда замужней дамой. Однако этого не случилось, хотя предложения вряд ли были нежелательны — поговаривали, что она была слишком самоуверенной и недостаточно хорошенькой. Вначале я была склонна поверить, что все это так и есть, однако позже, после более близкого знакомства, нашла, что она может быть настоящей красавицей, если ее немного расшевелить, и что она более застенчива, чем это кажется. Насколько мне известно, в ее юные годы ее семья была бедна, и им было трудно жить на уровне, соответствующем унаследованным ими титулами. К тому же их семья весьма многочисленна и она, как самая младшая, скорее всего, пропустила несколько возможностей в погоне за состоянием. Все мы ее полюбили и все надеемся, что ей удастся составить удачную партию, прежде, чем она станет слишком похожей на старую деву (полагаю, что ей уже порядочно за 25).
Вчера я обедала у Салли — были ее муж, лорд Эрскин, лорд Ярмут, принц, лорд Лаудердейл и некоторые другие знакомые. Принц Уэльский был совершенно не в настроении, он смог сказать буквально три слова и ничего не ел. Мы же, оставшиеся, не могли найти более важных тем для разговоров, кроме как о дуэлях и выборах в Йоркшире…» (Письма лорда Гренвиля, 1781–1821 гг., Том II, стр.253)
Существует также одно или два упоминания о Барбаре в книгах, написанных о двух ее более знаменитых братьях, однако все они бросают лишь немного света на ее характер. Да и «Б.У.» из «Писем лорда Гренвиля» с тем же успехом могут быть инициалами другой женщины — например, Беатрис Уиллоуби. Можно не сомневаться, что Хорнблауэр просто не понял Барбару при первой встрече, полагая ее слишком самоуверенной и властной. В его воображении она была женщиной, вращающейся в самом изысканном обществе, с детских лет привыкшей к моментальному исполнению всех своих капризов. Он не мог знать, что перед своей кончиной ее отец был практически банкротом, и что ко времени ее рождения все англо-ирландские Уэлсли могли рассчитывать в жизни только на собственные силы. Ее скорее надменные манеры происходили не от большого богатства, а от титулованной бедности, доказательством чего была одна-единственная цветная горничная, с которой она путешествовала. Настоящая леди имела бы с собой свиту, по крайней мере, из дюжины служанок и никогда бы не удовлетворилась капитанской каютой, которую (неохотно) уступил ей Хорнблауэр. Конечно, он не мог отказать леди в ее просьбе, полагая ее более влиятельной, чем это было на самом деле, но с неуклюжей грацией сообщил ей при этом, что по пути в Англию кораблю придется вступить в бой, а поход вокруг мыса Горн может быть тяжелым. Тем не менее, леди Барбара осталась на борту и присутствовала при том, как «Лидии» пришлось сражаться с «Нативидад» во второй раз.
Хорнблауэр вышел из Панамы 24 июня, оставляя вице-королю планирование операции по реконкисте Панамы (в которой испанцам сопутствовал успех, так как им удалось разгромить «Эль Супремо» в Сан-Сальвадоре, а позже повесить этого сумасшедшего в Панаме), и направился к северу, в точку, где «Нативидад» мог рассчитывать на перехват манильского галеона. С несколькими пленными испанцами-навигаторами, командой, составленной из головорезов «Эль Супремо» во главе с «вице-адмиралом доном Кристобалем ди Креспо», которого они до смерти боялись, «Нативидад» отнюдь не казался простым противником в предстоящей схватке. Хорнблауэр тщетно искал корабль мятежников в заливе Фонсека, попробовал его обнаружить в заливах Эль-Либертад и Чамперико и, наконец, 20 июля 1808 г. увидел «Нативидад» в заливе Тегуантепек. Был сильный шторм, как это часто случается в здешних водах, и Хорнблауэр считал это преимуществом, так как полагал, что на «Нативидад» не смогут открыть пушечные порты на нижней палубе. В начале маневрирования более верткий британский корабль имел преимущества, но в результате обмена бортовыми залпами «Лидия» лишилась бизань-мачты. Дважды фрегат разворачивало кормой под продольный огонь противника, но матросам Хорнблауэра, приложив сверхчеловеческие усилия, все же удалось обрубить остатки упавших снастей и восстановить контроль над управлением. При следующем обмене залпами «Нативидад» потерял фок-мачту. Теперь оба корабля лежали в дрейфе вне зоны досягаемости пушек, и победа должна была достаться тому из них, кто первый сможет восстановить готовность к схватке.
На борту «Лидии» царил настоящий ад: шторм был в самом разгаре, корабль набирал воду через пробоины, полученные у ватерлинии, по главной палубе перекатывались разбитые пушки, пятьдесят человек были убиты или ранены и со всем этим надо было разобраться, прежде чем корабль вновь сможет маневрировать. Мало-помалу все проблемы были более или менее разрешены, для заделки пробоин под днищем фрегата был подведен пластырь из парусины, пушки закреплены, такелаж исправлен, четырнадцать убитых — похоронены за бортом и, наконец, с огромным трудом в шпор на кильсоне была установлена временная бизань-мачта. До захода солнца «Лидия» была готова возобновить схватку, но этому помешала смена погоды. Хорнблауэр остался на палубе и провел ночь на установленном тут же стуле, зная, что с рассветом «Нативидад» может быть уже вне зоны видимости. Ночью ветер несколько стих, так что можно было поставить паруса. Теперь все зависело от того, насколько точно Хорнблауэр сможет разгадать, что задумал Креспо.
Он угадал правильно и с первыми лучами солнца 21 июля увидел своего противника на расстоянии десяти миль, под неуклюже установленным временным такелажем. К сожалению, вскоре после этого ветер совсем стих и Хорнблауэру для того, чтобы сократить дистанцию не оставалось ничего лучшего, чем буксировать «Лидию» шлюпками. Это был выматывающий душу труд, который еще дополнительно осложнялся тем, что «Лидия» вошла в зону действия 18-фунтовых кормовых пушек «Нативидада» за час или около того, прежде чем смогла ответить ему из собственных 9-фунтовок. Только к концу дня этот страшный путь был, наконец, пройден, и Хорнблауэр подал команду открыть огонь. Дистанция при этом составляла около четырех сотен ярдов, а стрельба продолжалась последующие полтора часа. К вечеру поднялся легкий ветер, который отнес в сторону пороховой дым, открывая глазам англичан «Нативидад» совершенно разбитым, с одиноко торчащей бизань-мачтой — единственной уцелевшей. Поскольку уже начало смеркаться, Хорнблауэр установил «Лидию» перед носом «Нативидад», обстреливая противника продольным огнем, при котором каждое ядро попадало в цель с убийственно короткой дистанции. После захода солнца был момент, когда оба корабля на мгновение соприкоснулись, но вскоре они вновь разошлись. К этому времени все пушки повстанцев уже замолчали и Хорнблауэр, видя, что противник уже весь охвачен пламенем, призвал Креспо сдаваться. «Никогда!» — таков был ответ, и «Нативидад» действительно затонул, прежде чем его пожрал огонь. Лишь восемь человек из его команды уцелели, а «Лидия» теперь была одна во всем океане — полуразбитый корабль с почти уничтоженным такелажем и порванными парусами, который с трудом поддерживали на воде непрерывно работающие помпы. Пришлось похоронить в море еще двадцать четыре тела, что увеличило список потерь до тридцати восьми человек. Еще четверо во время боя были сброшены за борт и утонули, а семьдесят пять были ранены. Когда Хорнблауэр спустился, чтобы навестить импровизированный лазарет, то с удивлением отметил, что по-настоящему здесь распоряжалась леди Барбара. Корабельный хирург умер в начале плавания, а его обязанности были переданы стюарду корабельного казначея. Эта задача (что неудивительно) далеко превосходила его способности, и несчастный стюард едва справлялся с оказанием первой помощи. Не обладая большими познаниями в лекарском ремесле, леди Барбара, тем не менее, видела, что нужно было делать, и делала это. Конечно, это не могло спасти многих раненных от смерти из-за гангрены — среди них был и мичман Гэлбрейт — и в последующие десять дней было еще много похорон. Когда 19 августа «Лидия» достигла Панамы, между Хорнблауэром и леди Барбарой установилось некоторое подобие дружбы. Ничего подобного, напротив, Хорнблаэру не удалось установить с вице-королем Перу. После потопления «Нативидада», испанцы на тихоокеанском побережье больше не нуждались в британских союзниках. Они были явно разочарованы тем, что «Лидия» все еще находится в испанских водах, а их единственный военный корабль потоплен, а не отбит у восставших.
Наконец, испанское раздражение проявилось во всей очевидности — «Лидии» был воспрещен заход в какие-либо порты Испанской Америки. Не было и речи о том, чтобы Хорнблауэр смог бы обогнуть мыс Горн на поврежденном и протекающем корабле, даже если бы у него хватило запасов на обратную дорогу. Поэтому Хорнблауэр решил отремонтировать «Лидию» на необитаемом острове Коиба. Здесь его усталая команда разгрузила фрегат и вытащила его на отмель в укромной бухте, установив пушки на окрестных холмах. Пробоины от ядер в корпусе были заделаны, листы медная обшивки — заменены, а из запасной грота-реи была изготовлена и установлена на место бизань-мачта. Такелаж был заново обтянут, и корабль приготовлен к выходу в море. Весь этот грандиозный труд был выполнен всего за шестнадцать дней. К 14-му сентября «Лидия» была готова к переходу к родным берегам.
У Хорнблауэра не было приказа возвращаться в Англию, но он уже давно понял, что полученные им ранее приказы уже потеряли свою силу. Его направили сюда, чтобы поддержать восстание против Испании, а в дальнейшем, если это станет возможным, разведать пути к атлантическому побережью через Никарагуа. Сейчас же испанцы стали союзниками, которым, кстати, его присутствие не очень-то нравится. Логичным выводом из всего этого было решение возвращаться домой — тем более логичным, так как «Лидия» израсходовала большую часть своих боеприпасов. Расстояние же, которое фрегату предстояло преодолеть, было весьма значительным, а проблема со снабжением создавала основания для беспокойства. Он находился в 4500 миль от мыса Горн и еще в 3000 милях от острова Св. Елены — его ближайшего пункта снабжения. Всего же обратная дорога в Англию составляла около 12 500 миль и должна была занять шесть месяцев, с учетом возможных штормов и штилей. После того, как четверть команды «Лидии» погибла, припасов на корабле могло хватить и на более долгий срок, но, тем не менее, Хорнблауэр решил еще раз пристать к берегу — несмотря на запрет вице-короля — где-нибудь в отдаленном уголке Испанской Америки; возможно, в Консепьсьоне или Вальдивии, там, где вице-король не смог бы их достать. Это дало бы ему дополнительное преимущество — привести «Лидию» к мысу Горн в разгар местного лета. Совершить подобный заход было исключительно рискованным делом, поскольку Хорнблауэра несомненно обвинили бы в любых осложнениях, которые могли бы возникнуть из-за этого с Испанией. Однако, несмотря на это, он должен был обеспечить своим людям достаточное количество пищи и воды. Припасов могло бы хватить и без того, если бы не разрушения и пробоины, которые получила «Лидия» после второй своей встречи с «Нативидад», в результате которых одно время в ее трюме было более пяти футов воды, и часть сухарей испортилась.
По возвращении в рапорте Хорнблауэра лордам Адмиралтейства по поводу визита в Консепьсьон упомянуты только заходы в местечки Санта Мария за дровами и водой и в Сан-Педро за говядиной и хлебом. Эти названия настолько широко распространены в том районе, что упомянутые местечки могут находиться где угодно на побережье Чили. К тому же, хоть в рапорте и упомянуто о «поставках», нигде нет ни слова об оплате за них. Итак, «Лидия» вновь подошла к побережью в октябре, вышла в плавание к югу в ноябре и, наконец, обогнула мыс Горн перед самым Рождеством, достигнув острова Св. Елены 2 февраля 1809 года. Когда фрегат проходил «ревущие сороковые», было холодно и дули штормовые ветра, но когда «Лидия» бросила якорь на рейде Джеймстауна, солнце вновь ярко светило. Ее возвращение совпало с пребыванием на острове конвоя Восточно-индийской компании под эскортом контр-адмирала сэра Джеймса Сомареца. В числе пассажиров конвоя были граф и графиня Моннингтри, возвращающиеся из Индии и леди Моннингтри незамедлительно потребовала, чтобы леди Барбара переехала на «Ханбери Кастл». Ее предложение было принято, и Хорнблауэр попрощался с Барбарой, по отношению к которой он к тому времени испытывал глубокое почтение. Сэр Джеймс принял «Лидию» под свое командование и она вернулась в Англию в составе эскорта конвоя, и, после недолгого плавания, достигла Портсмута 4 марта. Фрегат был немедленно введен в док для замены бизань-мачты, но команду не распускали (и даже с нею не расплатились). Фрегатов по-прежнему не хватало для работы, которую они выполняли, и вскоре «Лидия» вновь снова была наплаву и получила приказ присоединиться к флоту под флагом лорда Гамбира на Баскском рейде. Хорнблауэр доложился лорду Гамбиру 26 марта, предъявив последнему депеши Совета Адмиралтейства.
Какие-либо упоминания о последующих акциях, имевших место на Баскском Рейде, равно как и обо всех событиях, имевших место между 17 марта и 29 апреля должны неминуемо закончиться цитированием документов, реабилитирующих лорда Гамбира или добавляющих еще что-либо к обвинениям, которые были выдвинуты против него лордом Кокрейном. Подобным исследованиям не место в биографии Горацио Хорнблауэра, чье личное участие в этом деле было похвальным, хоть и не особо заметным для постороннего взгляда. «Лидия» была одним из восьми присутствующих там английских фрегатов и вышла из боя без особых материальных повреждений. Из комментариев, сделанных Хорнблауэром позднее, мы знаем, что у него сложилось неважное мнение о способностях лорда Гамбира, однако он не присоединился к единодушным обвинениям в его адрес, так же как не считал абсолютно безгрешным его главного обвинителя — лорда Кокрейна. После возращения в порт, лорд Гамбир, по своему собственному требованию, предстал перед военным трибуналом. Рассмотрение дела имело место в Плимуте 26 июля, и Хорнблауэр был одним из свидетелей на процессе. Его показания были весьма сдержанными, возможно потому, что он заранее знал, что Гамбир обязательно будет оправдан. Таким образом, Хорнблауэр не нажил врагов и еще более укрепил свою репутацию. Более важным на текущий момент было то, что действия «Лидии» на Баскском рейде, похоже, затенили ее достижения на Тихом океане.
Копии писем для «Газетт» из Панамы Хорнблауэр привез в Англию лично, оригиналы были направлены им флаг-офицеру Королевского Флота на Подветренным островах. Прошло так много времени, прежде чем оригиналы были получены и еще больше — пока их пересылали в Адмиралтейство, что публикация этих бумаг практически совпала с донесениями лорда Гамбира. В противном случае общество, скорее всего, оказалось бы в полном недоумении: кому и зачем понадобилось захватывать «Нативидада», потом еще раз вступать с ним в бой и, наконец, потопить? Многие капитаны были возведены в рыцарское достоинство за меньшие достижения, однако подвиг был совершен так далеко, сопутствующие ему обстоятельства были столь сложны, а отчет обо всем происшедшем — столь запутанным, что Хорнблауэр был рад уже и тому, что обо всем попросту забыли. Больше всего пострадал мистер Буш, который, конечно же, заслужил повышение, но теперь был рад и тому, что ему разрешили последовать за Хорнблауэром на более крупный корабль. Последний поход Хорнблауэра на «Лидии» осенью и зимой 1809 года скорее напоминал круиз — с Баскского рейда в Англию, с посещением нескольких островов в Ла-Манше. Он был в Портсмуте в декабре и уже в январе узнал, что вскоре будет назначен командиром линейного корабля.
Эту главу жизни Хорнблауэра нельзя закрыть, не сказав несколько слов о женщине, на которой он был женат и другой женщине — которую он любил. Он по-прежнему жил с Марией, теперь бездетной, в 1809–10 гг. и относился к ней со всей возможной чуткостью и добротой. Это, по крайней мере, так же очевидно, как и то, что он находил ее весьма скучной и неинтересной по сравнению с леди Барбарой. Стали ли они любовниками еще на борту «Лидии»?
Многое говорит в пользу того, что до этого чуть-чуть не дошло. Однако Хорнблауэр не мог себе позволить скандала, так же как не дерзнул уязвить чем-нибудь род Уэлсли, влияние которого быстро возрастало. По мере развития событий стало ясно, что леди Барбара относится к этому более беспечно, и что именно осторожность Хорнблауэра не позволила этой дружбе перерасти в роман. Очевидно, именно это обстоятельство и положило конец их дружбе. Они расстались холодно, а леди Барбара подчеркнула свое презрение тем, что вышла замуж за контр-адмирала сэра Перси Лейтона, рыцаря ордена Бани, уже в марте 1810 года — после всего лишь трехнедельного сватовства. Эта партия была не особо блестящей, несмотря на богатство Лейтона, и есть основания полагать, что уже вскоре леди Барбаре пришлось пожалеть о своем импульсивном выборе. Между тем, несомненно, благодаря ее влиянию новый корабль Хорнблауэра был определен в эскадру под командованием Лейтона. Возможно, день-другой ее и забавляла мысль, что Хорнблауэр теперь должен выполнять приказы ее мужа, но подобное настроение прошло, как только она поняла, что Лейтон — худший из них двоих, человек, лишенный воображения, чувства юмора, да и просто весьма недалекий.
Тем не менее, дело было сделано, и Хорнблауэр прочитал следующие холодные строчки:
NAVAL CHRONICLE
Браки
«17 числа текущего месяца в Стокбридже, Хемпшир, контр-адмирал сэр Перси Уэзерел Лейтон, рыцарь ордена Бани заключил брак с леди Барбарой Уэлсли, младшей дочерью 1-го графа Морнингтона. После завершения официальной церемонии молодожены были встречены многочисленными респектабельными арендаторами сэра Перси, которые, после выражения своих сердечных поздравлений с сим замечательным событием, проследовали за ними процессией, в сопровождении оркестра, в Вудленд-Холл, где был организован прием. После этого счастливая пара направилась в Марксби-хаус, сданный им в аренду по этому случаю лордом Хэмбледоном из Питерсфильда».
Казалось, что это — конец всему, что было между Хорнблауэром и леди Барбарой. Он был женатым человеком и был обязан заботиться о Марии, которая снова ждала ребенка. Но даже если бы он был свободен для нового брака, вряд ли бы его нашли достойным претендентом на руку последней из дочерей Уэлсли. Лейтона, сына богатого лондонского олдермена, уже едва терпели. Но Хорнблауэр, при сравнении, был вообще ничем — офицер без знатных родственников и влиятельных связей, которому, к тому же, постоянно не везло с призовыми деньгами. Правда, сейчас он уже достаточно продвинулся вверх в списке капитанов, чтобы получить командование линейным кораблем — повышение, которое само по себе уменьшало его шансы добиться чего-либо более, чем капитанское жалование. Он начинал приобретать устойчивую положительную служебную репутацию, однако известностью весьма уступал знаменитым командирам фрегатов, о которых трубили все газеты. Пройдут еще годы, прежде чем он сможет поднять собственный флаг, а заключение мира, скорее всего, вновь оставит его на половинном жалованье. Он все еще мог мечтать о приобретении поместья, однако не мог представить себе Марию в роли жены сквайра.
Она может стараться изо всех сил, но всегда останется бесформенной, отсталой от моды, неуклюжей и простоватой. Даже после короткого пребывания в Портсмуте, Хорнблауэр снова рвался в море. Он еще не потерял надежды получить более высокое назначение, отличие, старшинство и славу.
7. Старший капитан
Новым кораблем Хорнблауэра стал «Сатерленд» (74 пушки), построенный в Голландии и носивший ранее имя «Эйндрахт», который был захвачен англичанами в сражении у острова Тексель в 1797 году. Из-за мелководья у побережья Нидерландов все корабли голландского флота были небольшого размера, так что «Сатерленд» имел водоизмещение 1562 тонны при длине в 167 футов по пушечной палубе. Таким образом, он существенно уступал последним 74-пушечным линейным кораблям, которые в то время строились на британских верфях. Например, «Бульварк», спущенный на воду в 1807 году, имел водоизмещение 1925 тонн и длину по пушечной палубе в 182 фута — гораздо более просторный корабль, при равном числе пушек и команде такой же численности, что и на «Сатерленде» — 590 человек. С двадцатью восемью 32-фунтовками, тридцатью 18-фунтовками, восемью 9-фунтовками на шканцах и шестью на баке, «Сатерленд» был очень тяжел и при этом слишком высоко сидел в воде (9-фунтовки по требованию Хорнблауэра были позднее заменены 12-фунтовыми карронадами).
Это был неуклюжий и уродливый корабль, заново обшитый медью и окрашенный, но некрасивый и неудобный в управлении.
С Бушем на посту первого лейтенанта, Джерардом — в качестве второго, Рейнером — третьего, штурманом Кристэлом и несколькими хорошими штурманскими помощниками, «Сатерленд» был хорошо укомплектован офицерами. Двоюродный племянник Хорнблауэра — Джонатан, достигнув шестнадцати лет, также готовился впервые выйти в море в качестве мичмана. 2 мая 1810 года корабль был принят в состав флота в Плимуте, где временно поселилась и Мария. Поскольку со дня вступления в командование линейным кораблем Хорнблауэр получал 13 шиллингов и шесть пенсов в сутки с некоторыми дополнительными выплатами, значительно больше прежних 6 шиллингов в день, которые он получал в те времена, когда командовал «Отчаянным», он, по крайней мере, мог позволить себе пошить новый мундир, с настоящим золотым галуном и настоящим шелковым галстуком. Его финансовое положение было более благополучным, чем когда-либо ранее, однако ему по-прежнему не хватало на серебряную посуду для капитанского стола, дополнительные запасы для его стюарда, новую форму для команды командирской гички и на позолоту носовой фигуры корабля. Однако больше всего беспокойства ему доставляли сложности с комплектованием команды, несмотря на то, что он ему удалось перевести на «Сатерленд» две сотни моряков с «Лидии». Вместе с морскими пехотинцами, юнгами и осужденными, присланными из Ассиза, Эксетера и Бодмина, у Хорнблауэра только-только набиралось людей, чтобы управлять кораблем — всего четыреста сорок человек — и он ломал голову над тем, где раздобыть еще полторы сотни. В 1810 году моряков просто невозможно было найти, и вербовочные отряды безрезультатно прочесывали улицы Плимута. Хорнблауэру отчаянно не хватало людей, даже когда он все-таки вышел в море.
4 мая Хорнблауэр получил приглашение от контр-адмирала сэра Перси и леди Барбары Лейтон. Не сможет ли он вместе с миссис Хорнблауэр отобедать сегодня в «Хижине Ангела»? Нам мало что известно об этой встрече Хорнблауэра с леди Барбарой — первой после ее замужества и мы ничего не знаем о том, что она подумала про Марию и что Хорнблауэр, на этом этапе, мог подумать о Лейтоне. Вся доступная нам информация заключена в письме миссис Элиот, жене флаг-капитана, которое она написала на следующий день после этого памятного обеда своей сестре, леди Фэншоу. Это письмо позднее было опубликовано в книге «Жизнь и письма лорда Фэншоу» («Жизнь и письма Огастеса, лорда Фэншоу, посла в Нидерландах и Испании». Под редакцией Стефена Фэншоу, Лондон, 1861 год).
«Плимут
5 мая 1810
Моя дорогая Гарриет!
Огромное спасибо тебе за твое милое письмо, которое застало меня в отличной форме — что касается и здоровья, и знакомства с последними военно-морскими новостями.
Очень интересное письмо. Погода здесь стоит прекрасная, и мы осмотрели кое-что как в Девоншире, так и в самом городе, который полон самыми скучными людьми, каких только можно себе представить, за исключением Сьюзен и твоего кузена полковника Грэхема, который забавен как всегда.
Вчера мы обедали в «Ангеле» с адмиралом Лейтоном и его молодой женой леди Барбарой Уэлсли, младшей сестрой нашего знаменитого генерала, воюющего в Португалии. Вначале обед был исключительно скучным, и я очень сочувствовала леди Б., которая делала все возможное, однако ее новобрачный — тяжелый тип, который если чем-нибудь и известен, так это своими деньгами.
Этот брак был организован несколько поспешно после недавней эскапады леди Б. — путешествия в Вест-Индию, которое закончилось ее возвращением из Южных морей в качестве единственной пассажирки фрегата под командованием капитана Хорнблауэра, который также присутствовал на этом обеде вместе со своей женой! Вначале она путешествовала вместе со своей кузиной (или тетей?), мисс Банбери, но рассталась с ней после ссоры на Антигуа или в каком-то подобном месте. После подобных неблагоразумных и своевольных приключений надежды на более подходящую партию уже не оставалось, и сэр Перси женился на ней только благодаря влиянию ее брата, так как сама она не обладает значительным состоянием. Я никогда не встречала ее раньше и поэтому, после всех слухов и разговоров, мне было любопытно повидать эту леди. Ей, должно быть, уже хорошо за тридцать (На самом деле леди Барбаре в это время было двадцать девять лет, но она могла выглядеть несколько старше после путешествия по Тихому океану), у ней черные волосы, яркие глаза и прекрасная, пропорциональная фигура, как у Юноны — с белыми плечами и полной грудью, которую ее муслиновое платье почти совсем не скрывало. Понятно, что все мужчины не могли отвести от нее глаз, кроме моего Гарри, который сама скромность, как и пристало образцовому флаг-капитану. Я не могла удержаться от ощущения, что она немного играет с этими двумя мужчинами, но должна признать, что она была радушной хозяйкой также и для присутствующих леди.
Что же касается капитана Хорнблауэра, то поначалу он выглядел достаточно смущенным. Это скорее симпатичный мужчина, немного меланхоличный, среднего возраста, загорелый, неуклюжий в компании и не слишком подходящий для избранного общества или даже для того общества, которое можно встретить в Плимуте. Он женат на маленькой, некрасивой и дурно воспитанной женщине, как я слышала — очень низкого происхождения, которой он с большим трудом старается явно не стыдиться. Она сразу же сообщила мне, что у нее уже было двое детей, которые умерли от кори, но что теперь она вновь в счастливом ожидании. Ее муж поначалу говорил немного, а миссис Болтон, жена еще одного капитана — и вовсе ничего, так как весь вечер она только и делала, что ела с такой жадностью, будто целую неделю до этого ей пришлось голодать. Именно ее муж в конце концов попросил капитана Хорнблауэра рассказать нам о его битве с испанским кораблем «Нативидад». Разговаривая на эту тему, он вдруг стал красноречивым, его манеры показывали, что он смел и человек действия, энергичный и решительный — очевидно таким он и был во время самой битвы. Что наиболее примечательно во всем этом деле — как я узнала позднее от капитана Болтона, который был знаком с капитаном Хорнблауэром еще с мичманских времен — так это то, что обычный фрегат не просто победил, но и потопил двухдечный военный корабль, то есть совершил подвиг, аналога которому, похоже, до сих пор не знала история. При этом на лице леди Б. я заметила такое выражение восхищения, которое бы мне совсем не понравилось, если бы я была на месте миссис Х. или сэра Перси, но, полагаю, она слишком глупа, а он — слишком самоуверен, чтобы замечать что-либо подобное. Рассказ капитана Х. и знаки восхищения, которые леди Б. оказывала герою, были единственными памятными событиями того вечера, который без них был бы абсолютно бесцветным и неимоверно скучным.
Кстати, я слышала отличные отзывы о твоем племяннике и моем крестном, Джордже, который вернулся из Стаффордшира и который (говоря между нами) весьма интересуется хорошенькой мисс С.Г. …etc., etc».
Это письмо интересно само по себе, но его ценность удваивается, если учесть, что это — наиболее раннее из известных свидетельств упоминания имени Хорнблауэра в современных ему сплетнях. Никаких более ранних писем о нем не сохранилось, за исключением двух (см. стр. 77 и 103), и даже в 1810 году он еще был практически неизвестен большому свету. Джудит Элиот слышала о скандале вокруг леди Барбары, но прежде ничего не знала о самом Хорнблауэре, чьи подвиги на Тихом океане стали известны лишь долгое время спустя после того, как сами события могли привлечь особое внимание. Она слегка критична по отношению к леди Барбаре, однако, несмотря на некоторое предубеждение, последняя все-таки произвела на нее благоприятное впечатление — впрочем, на то были все основания. Наиболее ранний дошедший до наших дней портрет Барбары написан немного позже описываемого времени Томасом Лоуренсом, членом Королевской академии, позднее возведенным в рыцарское достоинство, но уже тогда известным в качестве придворного художника Георга III. (Другой ее портрет был написан во время помолвки, и Лейтон взял его с собой в поход, и, таким образом, это полотно погибло во время атаки на Росас). Если судить по этому портрету, в тот период она была особенно симпатичной — гораздо более привлекательной, чем в ранней юности и значительно менее самоуверенной с виду, нежели тогда, когда Хорнблауэр впервые ее увидел. Конечно, все это — всего лишь догадки, так как не сохранилось ни одного более раннего ее портрета, ни даже групповой семейной миниатюры, однако есть основания полагать, что в юности она выглядела слишком властной от внутренней неуверенности в себе и что настоящая красота пришла к ней именно в зрелые годы.
Для Хорнблауэра, без сомнения, этот обед в «Ангеле» был настоящим мучением. Был ли он забавным для Барбары — лишь в высшей степени вероятно, так как сама организация подобной встречи с ее стороны была несколько злой шуткой. Во всяком случае, некоторым другим ее участникам, встреча эта принесла порядочные хлопоты.
Эскадра Лейтона, получившая приказ следовать в Средиземное море, состояла из «Плутона», «Калигулы» и «Сатерленда», первый — 98-пушечный, а два другие — 74-пушечные линейные корабли. Ее первой задачей было эскортирование судов Ост-Индского конвоя к югу, до широты 35°. Лейтон поручил выполнение этой задачи Хорнблауэру, и, направив «Калигулу» с двумя судами снабжения в Порт-Магон, сам занялся эскортированием нескольких транспортов в Лиссабон, прежде чем проследовать к мысу Паламос, где остальные два корабля эскадры должны были ожидать своего адмирала.
Замок Грасай, неподалеку от Невера на реке Луаре, с гравюры Пти 1838 г.
Страница из экземпляра «Пособия артиллериста», принадлежавшего Хорнблауэру.
Затем Лейтон должен был действовать вдоль испанского побережья, как командир прибрежной эскадры. Его задачей было всемерно осложнять положение французских сил в Испании.
Эскадра вышла из Плимута 16 мая и «Сатерленд» вскоре отделился от флагманского корабля, удерживая порученный ему конвой в строго установленном строю, обогнул Уэссан и взял курс на Финистерре. По-прежнему главной заботой Хорнблауэра был некомплект команды. У него было достаточно моряков, чтобы управлять кораблем и для того, чтобы управляться с пушками — но чтобы делать и то, и то другое одновременно — людей не хватало. Тем не менее, он был вынужден вступить в бой прежде, чем ему представилась какая-либо возможность восполнить этот некомплект. Шесть судов Ост-индской компании, находящихся на его попечении, подверглись атаке двух французских каперских люггеров, и потребовалось все искусство Хорнблауэра, чтобы отбить это нападение, оставляя одного из противника разбитым и лишенным мачт. Завоевав таким образом благодарность руководства Ост-индской компании и лично лорда Истлейка, следовавшего на одном из ее судов, чтобы занять пост губернатора Бомбея, Хорнблауэр решился забрать по двадцать человек с каждого из судов компании. Этот дерзкий шаг шел вразрез с инструкциями Адмиралтейства, однако, отвечая на протест, Хорнблауэр пообещал, что все, кто не захочет остаться на «Сатерленде», добровольно будут отпущены. Он завершил инцидент, подняв сигнал, что все пожелали стать добровольцами, что в некотором смысле было правдой. Хорнблауэр зачислил взятых с «индийцев» людей в свою команду, надеясь, что долгие месяцы пройдут, прежде чем в Адмиралтействе получат протест Ост-Индской компании. Он также вспомнил, что Нельсон как-то насильно завербовал несколько матросов с судна Ост-Индской компании прямо на Темзе, неподалеку от Лондона и при этом даже дал бортовой залп, чтобы подавить попытки к сопротивлению. По сравнению с этим инцидентом его собственное предприятие было гораздо невиннее и, к тому же, гораздо более удаленным от внимания общества. Он даже имел шанс вовсе избежать наказания, и действительно — не сохранилось никаких свидетельств о том, что ему было объявлено какое-либо взыскание. Пока же Хорнблауэр смог соответствующим образом укомплектовать команду и приготовить корабль к будущим сражениям.
«Калигула» и «Сатерленд» первыми прибыли в точку рандеву, причем последний из кораблей подошел уже 12 июня, и было похоже, что Лейтон не появится еще, по крайней мере, с неделю. Поэтому Болтон, как старший из капитанов, разрешил Хорнблауэру начать действия против французов и вернуться в точку рандеву через трое суток. После того, как в его руки попал французский бриг «Амели», слишком поздно бросившийся наутек, Хорнблауэр понял, что «Сатерленд» с его закругленным носом и голландскими обводами не типичен для кораблей Королевского флота и легко может сойти за французский. Он поднял вместо английского флага французский триколор и подошел к вражескому побережью. Затем Хорнблауэр взял штурмом береговую батарею на мысе Льянка, спустив шлюпки с десантом одновременно с подъемом истинного флага. Пушки были сброшены с обрыва в море, несколько гражданских судов взяты в качестве призов и «Сатерленд» двинулся в Порт-Вендрес. Подойдя к бухте 14 июня, «Сатерленд» лег в дрейф на рейде, чтобы разведать обстановку. Вновь приблизившись к порту с началом ночи, Хорнблауэр лично возглавил операцию, начатую с восходом Луны, которая привела к захвату торгового судна с ценным грузом. За этим последовала молниеносная высадка в лагуне де Вик, неподалеку от городка Сет в Лионском заливе. После сожжения здесь каботажного судна, Хорнблауэр, как ему и было приказано, направился обратно к мысу Паламос, разошелся там с «Калигулой», но получил информацию о войсковой колонне, которая двигалась маршем по прибрежной дороге в районе города Мальгре, чуть к северу от Барселоны. Колонна состояла из двух итальянских дивизий, находящихся под французским командованием, и Хорнблауэр обнаружил приглубый участок побережья, к которому «Сатерленд» мог подойти достаточно близко, чтобы держать под огнем дорогу. Залпы тяжелых орудий прервали марш колонны, оставляя множество убитых и раненых, после чего Хорнблауэр вновь направился к точке рандеву, где адмирал Лейтон встретил его скорее холодно, считая, что его капитан действовал слишком независимо и должен был прибыть в точку рандеву раньше. Продолжением этой более чем прохладной встречи стала буря 17 июня, которая застала эскадру Лейтона в точке почти строго к весту от мыса Креус. «Плутон» потерял все три мачты и даже бушприт, был близок к опрокидыванию, но, к счастью, вовремя вновь стал на прямой киль. Он беспомощно дрейфовал к подветренному берегу и именно Хорнблауэр пришел ему на помощь. Ему удалось взять «Плутон» на буксир и вывести своего флагмана из опасной зоны — настоящее достижение, пример отличной морской практики, которому Лейтон был обязан своей жизнью. Некоторое (и весьма значительное) время оба корабля находились под удаленным огнем батареи с мыса Креус, что еще больше увеличивало опасность. Немедленным результатом этого стала отсылка «Плутона» на ремонт в Порт-Магон, а адмирал Лейтон перенес свой флаг на «Калигулу». После такого ограничения своих сил Лейтон решил не предпринимать каких-либо серьезных операций и направил «Сатерленд» в крейсерство между Барселоной и мысом Сен-Себастьян, а сам предпринял те же действия в районе между Паламос и Сетом. Рандеву было назначено на 28 июля в Порт-Магоне, к каковому времени к ним должен был присоединиться и «Плутон». Это решение устраивало Хорнблауэра наилучшим образом, и он рассчитывал использовать предоставленную ему свободу как можно более полно. От шкипера «Амели», неосторожного болтуна, он узнал о том, что в Барселоне находится «Артемис». Если быть точным, то Хорнблауэр знал об «Артемис» и раньше, но теперь он узнал из предположительно достоверного источника, что этот корабль закончил ремонт и в ближайшее время выйдет в море. Когда-то «Артемис» был британским военным шлюпом, однако после того, как корабль устарел, он был переоборудован в судно снабжения. После этого «Артемис» верой и правдой служила британской эскадре, блокирующей Тулон, таскаясь взад-вперед между мысом Сици и Порт-Магоном, заходя, по случаю, в Гибралтар. В один из наиболее неудачных для него дней осенью 1809 года, судно было перехвачено двумя французскими каперами и уведено в Барселону — порт, из которого они оперировали. Поговаривали, что командовавший в то время «Артемис» лейтенант был пьян и подвел ее слишком близко к неприятельской базе, при этом, он все еще не мог прийти в себя, когда судно брали на абордаж. Ясно было, что «Артемис» была захвачена в целости и сохранности и отведена в Барселону, где ее груз, состоящий из корабельных запасов, надо полагать, был встречен с радостью. Если затем судно было переоснащено для дальнейшего использования в море, то, несомненно, в качестве капера — роль, для которой оно, по мнению многих специалистов, было слишком тихоходно. Попутно возникал вопрос, пострадала ли «Артемис» во время урагана 17 июня. Хорнблауэр не знал, зацепила ли буря Барселону — он полагал, что, скорее, нет. Как бы там ни было, но «Артемис» была подходящей дичью для охоты, но дичью, хорошо охраняемой батареями Барселоны. Ни о какой лобовой атаке на этот морской порт, конечно же, и думать не приходилось. Оставалось сомнительным, удастся ли вообще что-нибудь предпринять, хотя успех в этом деле, незначительный сам по себе, мог принести неплохие призовые деньги.
В этой не особо удачной ситуации Хорнблауэр имел, по крайней мере, два преимущества. Во-первых, Наполеон перехитрил сам себя, сделав своего брата королем Испании. Испанцы были слишком ошеломлены, чтобы отреагировать на это сразу же (в 1808 году), но теперь положение Жозефа Бонапарта с каждым днем становилось все опаснее. Его поддерживала французская армия, но основная ее масса была сосредоточена в Португалии, против Веллингтона. Теперь испанцы активизировались, видя, что Веллингтон остается непобежденным, а линии французских коммуникаций, растянувшиеся от португальской границы до самых Пиренеев, стали еще более уязвимы. Местные испанские власти и начальники гарнизонов формально должны были выполнять приказы короля Жозефа, но остальные испанцы, в том числе — младшие офицеры и люди, лишившиеся своих постов и должностей — восстали против предательства, насилия и грабежа. Хорнблауэр уже встречался с некоторыми испанскими повстанцами и знал, что каталонцы, народность, населяющая окрестности Барселоны, относится к Франции традиционно враждебно. Он особо не верил в верность испанцев как союзников, зная, что они способны в любой момент перессориться между собой, зато рассчитывал на них в качестве источника информации и сожалел только о том, что в свое время ему удалось изучить не каталонское, а кастильское наречие испанского языка.
Вторым преимуществом Хорнблауэра был необычный вид «Сатерленда». Из предыдущего опыта он знал, что его корабль легко принимали за французский. Сейчас же ему стало ясно, что с еще большим успехом «Сатерленд» мог сойти за торговца или, что было бы еще лучше — за судно обеспечения. Хорнблауэр уже использовал вполне обычный для войны того времени трюк с чужим флагом для атаки батареи на мысе Льянка, но только в качестве вспомогательной декорации: она заставила командира батареи немного промедлить с открытием огня и потерять несколько драгоценных минут. Для того, чтобы по-настоящему ввести противника в заблуждение, следовало сделать декорации возможно более полными. Боле того, следовало выдать «Сатерленд» за конкретное судно, вполне безобидное с военной точки зрения и хорошо известное противнику. Командир капера, воюющий по большей части, не за славу, а за прибыль, предпочитал заранее знать силу и ценность своей будущей жертвы. Балансируя между риском и жадностью, он, таким образом, мог принять решение — следует ли перехватывать судно или же отказаться от нападения. Мечтой капера всегда был богатый приз, добытый без особых усилий, а его кошмаром — корабль противника, обороняющийся до последнего человека и до последнего выстрела, разбитый при нападении, который, как выяснилось бы потом, еще и шел в балласте. Французский капитан «Артемис» не рискнул бы выйти в море, не получив предварительно точной информации о добыче, и именно такую информацию собирался предоставить ему Хорнблауэр.
Для проведения этой операции Хорнблауэр решил превратить «Сатерленд» в «Пемброк» — в прошлом 64-пушечный корабль, отбитый у голландцев, который теперь использовался в качестве судна снабжения британской эскадры, блокирующей Тулон. «Пемброк» выполнял ту же, работу, что и «Артемис», и регулярно заходил в Гибралтар, причем там он принимал на борт не только продукты, но и немалые суммы наличными для выплаты жалования английским войскам, находящимся на кораблях блокирующей эскадры в качестве морских пехотинцев. Его командиром был старый лейтенант Френсис Суини, обойденный чином за потерю шлюпа «Антилопа» в 1806 году. На «Пемброке» были установлены десять карронад (12-фунтовки), а команду судна составлял сорок человек, половина которых были итальянцами и португальцами.
На «Сатерленде» было достаточно краски и запасных парусов, взятых на «Амели» и его превращение в «Пемброк» было благополучно осуществлено вне видимости берегов, при тихой погоде. С мучительными страданиями Буш смотрел, как его корабль превращается в ободранное торговое судно, пушечные порты закрашиваются, паруса покрывают заплатами, такелаж ослабляют и приводят в неряшливый вид, а часть пушек снимают и спускают в трюм.
Преобразившись, «Сатерленд» — «Пемброк» двинулся к югу вдоль побережья Испании. К северу от Мальгре, Хорнблауэр ночью установил контакт с несколькими испанскими повстанцами. Он убедил их — словом и деньгами — послать нескольких лазутчиков в Барселону, чтобы распространить в городе нужные ему новости. Таким образом, он мог быть уверен, что вести о подходе псевдо-«Пемброка» дойдут до ушей каперов по крайней мере за два дня до его появления. Направившись далее к югу, он искал рыбачьи лодки и, наконец, встретил одну неподалеку от Аренс — дель-Мар, где и пригласил нескольких рыбаков к себе на борт. Эта часть плана была настолько важной, что все британские моряки, которых испанцы смогли увидеть на палубе, также были переодеты соответствующим образом. С ними предварительно были проведены многочисленные репетиции, а основные роли были поручены матросам, проявившим незаурядные актерские способности. Хорнблауэра среди актеров не было. На время встречи с испанцами роль командира «Пемброка» играл лейтенант Рейнер. Наиболее драматичным эпизодом этого театрального действа стал подъем на палубу бочонка с пресной водой. Трос «неожиданно» лопнул, и бочонок рухнул на палубу среди общего замешательства и потоков ругани. Гостей заботливо провели мимо корабельных шлюпок, на которых было четко было название «Пемброк», после чего рыбаки покинули судно, унося с собой историю о его пьяном командире и команде — настоящем сброде, не имеющем никакого понятия ни о дисциплине, ни о морском деле. После того, как спектакль был закончен, Хорнблауэр привел свой корабль на рейд Барселоны, на расстоянии предельной видимости с берега, а затем опять двинулся к югу, разыграв еще одно представление. За борт сбросили чучело, изображающее человека, упавшего в море, для «спасения» которого судну предстояло лечь в дрейф и спустить шлюпку. При этом были сделаны все возможные ошибки, обычно не допускаемые морской практикой, а общую картину дополнила неуклюжая гребля, которую продемонстрировала команда шлюпки. Весь этот спектакль был развернут между местечками Кабельяс и Ситджес. После демонстрации очередного примера своей беспомощности, «Пемброк» исчез из зоны видимости с берега, удаляясь к югу, как будто бы направлялся по своему привычному пути в Гибралтар, откуда через некоторое время он должен был вернуться с грузом и деньгами на борту.
Выждав в течение времени, достаточного для того, чтобы дойти до Гибралтара и обратно, Хорнблауэр вернулся тем же самым путем, уверенный в том, что теперь неприятель не только хорошо знает «Пемброк», но и нетерпением ожидает его. Перед заходом солнца 6 июля, он появился у берегов Террагоны и в течение ночи шел с удачно подвернувшимся легким бризом. Благодаря этому Хорнблауэр мог рассчитывать на то, что капер попытается перехватить «Пемброк» уже на следующий день, вероятнее всего на рассвете. Таким образом, он мог рассчитывать, что подготовленная им ловушка сработает. С некоторым раздражением он воспринял сообщения о каких-то световых сигналах, подаваемых с берега. Поднявшись на палубу, Хорнблауэр сам увидел эти сигналы, но вынужден был согласиться, что они были абсолютно бессмысленными. Мистер Кристэл, однако, предположил, что это могут быть ночные опознавательные сигналы английского флота 1808 года, а мичман Хорнблауэр высказал предположения, что их могут подавать британские военнопленные из числа тех, кто был захвачен до конца 1808 года. Могли это быть члены команды «Артемис», захваченные в плен в 1809 году? Это выглядело весьма вероятным, но Хорнблауэр был слишком раздражен самим фактом подачи сигналов, чтобы думать о существовании такой возможности. Он был на пороге завершения тщательно спланированной операции и готовился захлопнуть западню, а эти пленные (если это действительно были пленные) в лучшем случае представляли собой отвлекающий фактор, а в худшем — являлись частью ловушки, расставленной уже на него самого. Тем не менее, Хорнблауэр взял пеленги на приметные ориентиры и внимательно изучил карту. Вскоре он высчитал, что место, откуда предположительно подавались таинственные сигналы, было монастырем Св. Барбары — т. е. местом, где вполне могли содержать военнопленных. Решив пока игнорировать эти сигналы, Хорнблауэр вновь повернул и подошел к берегу на рассвете, а силуэт корабля, четко выделявшийся на фоне рассветного неба, принадлежал «Артемис», которая находилась именно там, где он и ожидал ее увидеть — на ветре, в самой подходящей позиции, чтобы не дать своей жертве ускользнуть (и, таким образом, и самой не имея возможности спастись бегством). Последним ходом в игре была неуклюжая попытка фальшивого «Пемброка» — «Сатерленда» избежать стычки. К тому времени корабль был полностью готов к бою, но пушечные порты на нем пока не открывали, так что «Артемис» набросилась на свою жертву без каких-либо колебаний. После предупредительных выстрелов, капер подошел на дистанцию половины пистолетного выстрела и только после этого Хорнблауэр приказал поднять флаг и открыть порты, а вместо судна снабжения перед пораженными французами предстал двухдечный линейный корабль. «Артемис» сдалась (7 июля) без единого выстрела, поскольку ее командир четко осознавал, что сопротивление для него подобно самоубийству. Он спустил свой флаг и прибыл на борт «Сатерленда», со всем возможным изяществом передавая свою шпагу Хорнблауэру и забывая при этом уничтожить секретные документы. В своем роде эта операция была классическим примером обмана противника, памятная своей исключительно тщательной подготовкой. Но Хорнблауэр уже думал о будущем и готовился совершить следующий ход, все еще под чужим флагом, но теперь уже используя настоящую французскую сигнальную книгу.
После того, как «Артемис» была отбита, первым приказом Хорнблауэра было поднять на капере французский триколор и точно такой же триколор водрузить над синим флагом «Сатерленда». Теперь он мог подойти к испанскому побережью без всякого риска, так как «Артемис» и ее новый приз, без сомнения, были именно теми кораблями, которые французы и ожидали здесь увидеть. Правда, в виду Барселоны Хорнблауэр больше ничего не предпринимал, за исключением того, что поднял французский опознавательный сигнал, прежде чем снова повернуть к югу. Это могло выглядеть несколько необычным, но все же не очень подозрительным. Высадить пленных в Санта-Барбаре, прежде чем захваченное судно будет официально признано призом, было не совсем правильным, но именно такой бессмысленный шаг и мог совершить командир французского капера. Есть причины для удивления, но нет причин для пальбы из пушек.
«Артемис» со своим призом появилась перед Санта-Барбарой 12 июля и просигналила, что собирается высадить пленных на берег. Комендант не был предупрежден о необходимости принимать пленных дополнительно, однако он был ограничен в переговорах возможностями сигнальной книги и неудобствами передачи сигналов на дальние расстояния и, наконец, просигналил, что готов принять пленных. Когда он увидел, что с кораблей спускают шлюпки, то спустился к месту предполагаемой высадки, готовый объяснить, что не располагает местом для размещения еще одной партии пленных и не уполномочен принимать их. Пушки трехорудийной батареи молчали, поскольку, как каждый мог видеть, шлюпки были наполнены британскими пленными, которых эскортировали вооруженные моряки с капера. Правда, как только высадка состоялась, выяснилось, что все «пленные» так же вооружены. Караул в месте высадки был вынужден сдаться, пушки захвачены ударом с тыла, а ворота в монастырь открыты без особых трудностей. Здесь, в импровизированной тюрьме, содержались по большей части дезертиры из испанской армии, однако здесь были и британские моряки — сто тридцать четыре человека — по большей части, но не все — из прежней команды «Артемис». Именно группе пленных старшин пришла в голову мысль подавать сигналы светом из окна монастырской часовни, обращенного в сторону моря. В конце концов они были пойманы на месте преступления. В то время, когда их спасители отворяли ворота монастыря, пленные старшины находились в карцере, изможденные, но по-прежнему не сломленные. Хорнблауэр забрал с собой коменданта и его приближенных в качестве военнопленных, освободил испанских заключенных и оставил тюрьму пустой. Затем он двинулся на север и в очередной раз появился перед Барселоной. К тому времени из разговоров с французскими пленными — некоторые из которых были несдержанны на язык — он знал, что в порту находится еще один капер, «Альцест», который часто работал в паре с «Артемис», поскольку фактически принадлежал одному и тому же синдикату. Квартирмейстеру «Артемис», португальцу по происхождению, была обещана свобода взамен на сотрудничество. Он составил сигнал, который должен был выманить «Альцест» из порта. Это должно было быть достаточно сложное сообщение, в котором бы говорилось о неприятельском судне к югу от Барселоны, слишком быстром для того, чтобы его могла перехватить «Артемис», но которое, скорее всего, спустило бы свой флаг перед «Альцестом». При этом приз можно было добыть, зажав жертву в прибрежном треугольнике — вполне обычная задача. Что пока оставалось непонятным на берегу, так это то, почему «Пемброк» до сих пор не был отослан в порт для признания его призовым судом. Последовал дальнейший обмен сигналами, при этом некоторые из них, подаваемые «Артемис», были не вполне правильными, так что второй капер вышел в море не ранее позднего пополудня. Его капитан приближался крайне осторожно и Хорнблауэр был вынужден открыть огонь. Прежде чем сдаться (15 июля), «Альцест потерял фок-мачту, но за исключением этого особых повреждений не получил. После этого о какой-либо маскировке не могло быть и речи, так что Хорнблауэр взял курс на Порт-Магон, где 20 июля и встретился с Лейтоном. Захват двух ценных призов несколько улучшил атмосферу его очередного свидания с контр-адмиралом. Похоже, что касается призовых денег, счастье начинало улыбаться Хорнблауэру. Правила, касающиеся призовых денег, гласили, что корабль или судно, признанные призом специальным судом, подлежали оценке и продаже на аукционе, как правило — с последующим принятием в состав флота. Что касается каперов или боевых кораблей, то лучшую цену за них обычно платил Королевский флот, частично оттого, что они были плохо приспособлены для торговых целей, а частью — из-за того, что при покупке частным лицом, они могли бы впоследствии (через третьи руки) попасть к своим прежним хозяевам и, таким образом, продолжить свою разрушительную деятельность.
Торговые суда, как, например, «Амели», были относительно более ценными, особенно если были захвачены в грузу, поскольку груз часто стоил даже больше, чем само судно. Сумма, вырученная от продажи приза на аукционе или каким-либо иным образом, за вычетом комиссионных торговым агентам, делилась на восемь частей, одна из которых направлялась старшему флаг-офицеру на позиции, три — командиру захватившего приз корабля, одна — его офицерам, одна — старшинам и две оставшихся — рядовым членам команды. Если неприятельский корабль был разрушен или потоплен, призовых денег могло вообще не быть, однако в этом случае комиссионеры Королевского флота платили приблизительно по пять фунтов за голову «каждого противника, который был жив в начале сражения». Эта сумма так же делилась, как если бы неприятельский корабль был захвачен и продан. Система эта явно работала в пользу командира корабля, однако на нем же была и вся тяжесть ответственности за повреждения и потери, если приз не был признан судом. Обитатели нижней палубы редко получали больше чем одну-две гинеи на человека — сумму, которую легче было пустить по ветру, чем сохранить. Хорнблауэр, до этого времени не имевший удачи с призами, в 1810 году заработал значительную сумму призовых денег: «Артемис» был снова принят на службу в Королевский флот, а «Альцест» — закуплен для нее же. Судя по всему, Хорнблауэру удалось собрать до 6000 фунтов стерлингов — достаточно, чтобы приобрести небольшое поместье. С этого времени покупка Смоллбридж-Мэнор стала действительно возможной и вполне осуществимой, как только имение будет выставлено на продажу.
24 июля контр-адмирал Лейтон снова поднял свой флаг на «Плутоне», а его эскадра вновь была в полном составе, готовая к решительному удару, нанесение которого так долго откладывалось.
Этим ударом должно было стать не более и не менее, чем взятие Росаса, каталонского порта, второго по значению после Барселоны. Успеху операции должна была способствовать ожидаемая помощь испанских повстанцев под командой генерала Ровира. Говорили, что у него семь тысяч человек в окрестностях города Олот. Предполагалось, что французский гарнизон Росаса насчитывает всего две тысячи человек. Расстояние между Олотом и Росасосом составляло около тридцати миль, а приблизительно посредине этого пути лежал городок Жерона, в котором также находился французский гарнизон. Если Ровире удастся обойти Жерону по горным тропам, он сможет выйти на удобные позиции для штурма Росаса, но при этом ему будет не хватать осадной артиллерии. Поэтому Лейтон выгрузил необходимые пушки на берег в районе Сельва-дель-Мар с отрядом прикрытия в шестьсот матросов и морских пехотинцев. Высаженный на берег через четверо суток после того, как генерал Ровира начал свой марш и имея перед собой лишь шестимильный участок пути, британский отряд должен был достичь Росаса почти в то же самое время, что и испанцы. Поскольку Седьмой корпус французской армии располагался к югу от Барселоны, у союзников оставалась добрая неделя для взятия Росаса. После захвата этот порт мог стать воротами, через которые в страну хлынули бы испанские войска, что создало бы значительную угрозу французским коммуникациям. Сам по себе план был великолепен, однако его выполнение зависело от исполнения испанцами своих обещаний, испанской информации о противнике и (что было хуже всего) от испанских войск. Пушки Лейтона могли проломить бреши в стенах Росаса, но идти на штурм должны были полки Ровиры. То, что Ровира и его люди ненавидели французов, могло быть правдой, но на войне они были новичками — несмотря на весь оптимизм своих планов, столь же неопытными, сколь плохо экипированными. Хорнблауэр, которому предстояло командовать группой высадки, никак не мог разделять уверенность Лейтона в их испанских союзниках. Похоже, вся операция была гораздо сложнее, чем контр-адмирал мог себе представить, однако, получив приказ, Хорнблауэр предпочел оставить свои сомнения при себе.
Высадка была осуществлена, как и планировалось, ночью 29 июля и Хорнблауэр встретил на берегу полковника Хуана Карлоса, с которым была тысяча испанцев и достаточное количество лошадей и мулов, чтобы тянуть пушки. К рассвету десять 24-фунтовок были выгружены прямо на пляж вместе с сотней зарядов и ядер на каждое орудие и дневным рационом для шести сотен людей. Затем началось выполнение головоломной задачи по транспортировке всего этого по шестимильному участку пересеченной и гористой местности, отделяющему Сельва-дель-Мар от Росаса. Двигаясь в голове колонны на занятой у испанцев лошади, Хорнблауэр подошел на дальность видимости Росаса, однако не заметил никакой активности осаждавших под его стенами. Генерал Ровира не пришел. Остановив свою колонну, Хорнблауэр потребовал от испанцев направить гонца к Ровире, в то время как к Лейтону был послан мичман с соответствующим донесением. Хорнблауэр считал невозможным дальнейшее продвижение к городу, пока пушки не получат надежного пехотного прикрытия. В ответном письме Лейтон спрашивал, возможно ли атаковать крепость с уже имеемыми силами? Прежде, чем подобная самоубийственная операция была начата, французский гарнизон вышел из крепости навстречу союзникам, причем оказалось, что его численность значительно больше, чем это предполагалось ранее (Сейчас мы знаем, что незадолго до этого гарнизон был усилен и на момент несостоявшегося штурма насчитывал, по крайне мере, 3500 бойцов. См. «Война на Иберийском полуострове», Р. Уайтхеда, стр. 379 и далее).
Хорнблауэр приказал произвести общее отступление, разместив в арьергарде отряд морских пехотинцев под командованием майора Лэйрда и информировал Лейтона о том, что для эвакуации понадобятся все шлюпки эскадры. Испанские повстанцы тут же исчезли, однако им не удалось, как того хотелось, увести с собой лошадей и мулов. Отступление, которое заняло весь конец дня 30 июля, было сущим кошмаром и потребовало нечеловеческих усилий перед лицом опасности, но были спасены не только все люди и пушки, но и лошади с мулами — для дальнейшего возвращения повстанцам — и Хорнблауэр, последним спустившийся в шлюпку, вернулся на «Сатерленд» абсолютно измученным, в шляпе, пробитой французской пулей.
Неделей позже (8 августа) «Сатерленд» был направлен в отдельное плавание к северу, с приказами произвести разведку побережья до самого Тулона. Флагманский корабль вернулся в Порт-Магон, увозя с собой почту для Англии. Среди множества писем одно было написано мичманом Хорнблауэром, о предыдущей карьере которого нам известно весьма немногое. Это — первое его письмо, из которого мы можем узнать что-либо про репутацию Горацио Хорнблауэра среди его соплавателей. Джонатану Хорнблауэру в то время исполнилось шестнадцать лет, а письмо было адресовано его отцу, Иеремии, в Бирмингем.
Корабль Его Величества «Сатерленд», в море
8 августа 1810
Дорогой сэр!
Надеюсь, что все дома здоровы, как и я сам. Пишу вам из точки рандеву у мыса Креус и уверен, что это письмо дойдет, так как оно следует вместе с адмиралом на Минорку. Я не получил ни оного письма ни от вас, ни от мамы с самого июня, но сам за это время писал несколько раз, чтобы сообщить вам новости. Мы только что спаслись из опасной ситуации на побережье Испании, куда мы высадились, чтобы помочь восставшим захватить порт Росас. Наш капитан и ваш кузен командовал на суше, но его подвели испанцы, которые вообще не пришли. В хорошенькую же историю мы попали со своими пушками, атакуя город, гарнизон которого значительно превосходил нас численностью! Мы рады были оказаться снова на кораблях, без особых потерь, за исключением ядер, которые мы выгрузили при высадке и уже не смогли спасти. Мы все думаем, что оказались в такой ситуации благодаря нашему адмиралу, которого все тут называют «Старая опоздайка». Все идет совсем по-другому, когда за дело берется старина Хорни, как твоего кузена называют на нижней палубе. Незадолго до этого мы захватили два капера — и все благодаря самому хитрому трюку, который только можно придумать: «Сатерленд» принял вид неуклюжего грязного транспорта или судна снабжения и выглядел в этой роли столь натурально, что француз вышел из-под защиты батарей Барселоны, где он был в полной безопасности, чтобы атаковать нас. Вы не можете себе представить, как лягушатники были удивлены и поражены, когда вдруг очутились под дулами пушек нашей нижней палубы — порты неожиданно открылись и никаких шансов сбежать! Теперь каждому из нас причитается солидная сумма призовых денег и за все это мы должны быть благодарны сообразительности нашего капитана! У нас на борту есть матросы, которые знавали Нельсона и Коллингвуда, а один — так тот даже служил еще под командой Родни, во время прошлой войны, но люди помоложе уверены, что капитан Хорнблауэр ничуть не хуже и что когда-нибудь он и сам станет адмиралом. Он обычно выглядит строгим и неулыбчивым, а что касается дисциплины — так настоящий тигр, но мы-то знаем, что он более мягкосердечен, чем хочет казаться, и делает все, чтобы заботиться о своих людях, особенно о больных, хотя симулянтам спуску не дает.
Он может часами мерить шагами шканцы, не говоря никому ни слова, и выглядит при этом задумчивым или даже меланхоличным, но как только появляется хотя бы намек на боевую акцию, он мигом преображается — глаза блестят, как стальной клинок и он готов на любое дерзкое предприятие, на любую рискованную комбинацию, чтобы обмануть неприятеля.
Я не мог бы выбрать лучшего корабля, чем «Сатерленд», и лучшего учителя морского дела, чем его капитан. Он часто приглашает нас, мичманов, отобедать с ним и всегда при этом показывает себя радушным хозяином. Чего мы на самом деле побаиваемся, так это приглашения к капитану на партию в вист, поскольку он отлично играет и жестко критикует игру своих партнеров. После каждой партии он обычно подробно разбирает все допущенные ими ошибки, что иногда просто невыносимо. К счастью, у нас достаточно лейтенантов, которые играют в вист, и нас, мичманов, приглашают нечасто. Сейчас наш корабль направляется в отдельное плавание и, может быть, нам удастся заработать еще немного призовых денег прежде, чем оно завершится. Не беспокойтесь насчет опасностей, потому что мы просто не обращаем внимания на французов, которые, по большей части, отсиживаются в портах или уступают нам дорогу. Передавайте от меня привет Джону, Саре и Пенелопе и, пожалуйста, потрепите за холку Ровера от моего имени. На следующий год мы должны вернуться в Англию для ремонта, так что есть надежда на отпуск. Тогда я расскажу вам обо всем более подробно, а пока знайте, что оба Хорнблауэра на этом корабле чувствуют себя хорошо, капитана глубоко уважают и любят все матросы, а мичман, я надеюсь, идет по его стопам и скоро станет отличным моряком и навигатором.
Передавайте мои наилучшие пожелания дедушке (должно быть, имеется в виду Джонатан Картер Хорнблауэр, инженер (1753–1815), работавший с Джеймсом Уаттом), дяде Джейбзу (Джейбз Картер Хорнблауэр (1744–1814), инженер) и всем моим друзьям в Уолсэлле.
Мои поцелуи матери и сестрам
Остаюсь, мой дорогой отец,
Вашим послушным сыном —
Дж. Хорнблауэр
Не каждому было дано иметь успех на должности командира линейного корабля. Некоторые офицеры, успешно командовавшие фрегатами, терпели неудачу, когда им доверяли больший корабль с более многочисленным экипажем. Хорнблауэр превратил «Сатерленд» в весьма эффективный корабль, с хорошо укомплектованной, отлично обученной и дисциплинированной командой, дух которой сильно поднялся благодаря маскараду, разыгранному с «Пемброком», и призовым деньгам.
Конечно, настроение команды несколько подупало после того, как пришлось спешно ретироваться из сухопутной экспедиции под Сельва-дель-Мар. То, что Хорнблауэру удалось вернуть на корабли всю высадочную партию, и при этом лишь несколько человек были ранены, стало известно каждому на эскадре, однако успешное отступление и победа — совсем не одно и то же. Несмотря на всю свою внешнюю уверенность, офицеры и флагманы знают, насколько необходим пусть и небольшой, но успех. Лейтон, который и был подлинным виновником этой неудачи, должен был догадываться, что хуже всего были настроения на его флагманском «Плутоне», который едва избежал катастрофы во время шторма у мыса Креус. Теперь адмирал должен был сделать что-нибудь и побыстрее, если он хотел, чтобы его эскадра оставалась действенной силой. Однако случилось так, что теперь одна ошибка влекла за собой другую, а попытки спасти ситуацию могли привести к большим опасностям, чем ошибка, которая привела к ее возникновению.
«Сатерленд» крейсировал без происшествий до самого Лионского залива и здесь, 18 августа, он встретил «Кассандру» (32 пушки), под командой капитана Фредерика Кука. Ветер был северо-восточным и «Кассандра», находясь на ветре, просигналила, что четыре вражеских линейных корабля находятся в четырех милях на ветре от нее. Было ясно, что «Кассандра» находилась в прибрежном дозоре на позиции близ порта Тулон, что французская эскадра вырвалась из порта и двинулась к юго-западу, а фрегат помчался впереди противника, чтобы держать его под наблюдением. Хорнблауэр сделал правильный вывод, что французы решили разделаться с эскадрой Лейтона, о присутствии и силах которой к тому времени уже стало известно в Париже. Поскольку силы французов были явно недостаточны для выполнения этой задачи, он решил подвести их в пределы досягаемости бортовых залпов «Плутона» и «Калигулы». Приказав «Кассандре» поставить все паруса и направиться на поиски контр-адмирала, он несколько уменьшил скорость, не спуская глаз с врага. В течение ночи с 18 на 19 августа Хорнблауэр потерял было контакт с противником, но снова обнаружил его на следующий день. К тому времени он направился к западу, по направлению к мысу Креус, с ветром, заходящим к юго-востоку, а французские корабли теперь находились под ветром и направлялись, по-видимому, к Барселоне.
К этому времени (19 августа) вновь появилась «Кассандра», которая, судя по всему, поддерживала связь флажными сигналами с эскадрой Лейтона, которая находилась дальше к северу, за горизонтом. Очевидно, французы заметили «Плутон», поскольку в это самое время они повернули и направились прямо в залив Росас. «Сатерленд» теперь находился прямо между кораблем французского адмирала и выбранным им убежищем и имел возможность нанести французам повреждения, достаточные, чтобы Лейтон мог догнать их. Французскую эскадру составляли (как это нам известно сейчас) «Виль де Бордо» (98 пушек) — флагманский корабль, «Медуза» и «Тюренн» (оба — 74-пушечные) и «Дидона» (80 пушек), под общей командой вице-адмирала Буве де Невшато, с контр-адмиралом Галуа, державшим свой флаг на «Медузе». Как только силы противника стали ясны, перед Хорнблауэром появилась возможность уклониться от сражения, предполагая, что французский адмирал намерен укрыться в Росасе, отстоявшем всего в шести милях. В том, что ему так или иначе придется сражаться, Хорнблауэр был почти уверен, но окончательное решение для него принес сигнал с «Плутона», отрепетованный «Кассандрой» — № 21, «Вступить в бой с неприятелем». Позднее Лейтон отрицал подачу этого сигнала, что могло случиться в случае ошибки на борту «Кассандры», однако Хорнблауэр воспринял это как приказ и притом вполне разумный в сложившихся обстоятельствах. Конечно же, было бы лучше, если бы Лейтон, находившийся в двадцати милях, смог бы подойти вовремя, однако обстоятельства сложились против этого, а вопрос о сигнале контр-адмирала был на самом деле несущественным, поскольку таковым на самом деле было решение Лейтона в любом случае. В конце концов, у командующего эскадрой оставалась возможность подать другой сигнал и отозвать «Сатерленд», чего он явно не сделал. В игре большой войны «Сатерленд» был всего лишь пешкой и сейчас был предназначен к принесению в жертву.
7a. Старший капитан (продолжение)
Хорнблауэр направил «Сатерленд» навстречу французам и сумел так удачно сманеврировать, что прошел вплотную за кормой их головного корабля, «Дидоны», обстреляв ее убийственным продольным огнем. Не имея возможности добить этого соперника, Хорнблауэр атаковал шедшую вслед за ним «Медузу» и имел удовольствие наблюдать, как ее грота-стеньга пошла за борт. В этот момент «Сатерленд» еще мог выйти из боя, но Хорнблауэр все же решил нанести максимально возможные повреждения и двум оставшимся французским кораблям, пусть бы это стоило гибели самого «Сатерленда». Он сблизился с трехдечным «Вилль де Бордо», обменялся с ним бортовыми залпами и вскоре увяз в этом отчаянно неравном поединке. После того, как «Сатерленд» лишился грот- и фок-мачт, с противоположного борта его атаковал четвертый французский корабль — «Тюренн». Это последнее нападение, вместе с обстрелом двумя гребными канонерскими лодками, и вынудило Хорнблауэра наконец прекратить сопротивление. К тому времени, как он спустил свой флаг, 117 человек из его команды были убиты и 145 — ранены, причем 44 из них также вскоре умерли. Сам же «Сатерленд» превратился в развалину, которые победители с трудом удерживали наплаву. Когда пороховой дым рассеялся, Хорнблауэр с мрачным удовлетворением увидел, что «Вилль де Бордо» потерял две стеньги, «Тюренн» — бизань-мачту, а два остальных француза получили еще большие повреждения. Ни один из них не был больше пригоден к выходу в море, а в порту Росаса не имелось верфи, на которой их можно было бы отремонтировать. Несмотря на то, что пока они находились в относительной безопасности, под защитой пушек береговых батарей, спасения не было…
Схема, иллюстрирующая захват линейного корабля Его Величества «Сатерленд» в 1810 году.
Единственным, кому удалось избежать смерти или плена, стал мичман Хорнблауэр, который упал за борт вместе с грот-мачтой «Сатерленда» и был подобран гребной шлюпкой, в которой ему и удалось достичь «Плутона» — одинокий изможденный мальчишка, угрожающий своим пистолетом двум гребцам-испанцам. Сам же капитан «Сатерленда» чудом уцелел, но Буш потерял стопу, а все остальные офицеры были убиты или ранены. К тому времени, как подошел контр-адмирал Лейтон, битва была закончена, а Хорнблауэр свезен на берег в качестве военнопленного. Все, что оставалось Лейтону, это блокировать Росас двумя оставшимися у него кораблями и отправить ранее захваченный бриг для того, чтобы сообщить обо всем случившемся главнокомандующему — адмиралу сэру Чарльзу Коттону. То, что произошло вслед за этим, лучше всего описано в письме юного Хорнблауэра своему отцу.
Корабль Его Величества «Родни», Порт-Магон
28 августа, 1810
Уважаемый сэр!
С тех пор, как я последний раз писал Вам, дела у нас изменились к худшему — «Сатерленд» захвачен, а Ваш кузен попал в плен. Мы столкнулись с французской эскадрой из четырех кораблей, одним трехдечным, а на каждом из остальных было по 80 пушек. Мы могли уклониться от боя, и никто бы не обвинил нас в трусости, но подобные поступки не в стиле нашего капитана. Он схватился с ними в надежде, что сможет помешать французам укрыться в бухте, прежде чем в бой вступит контр-адмирал Лейтон с «Плутоном» и «Калигулой», и повредил все четыре, но старина «Сатерленд» в этом бою был полностью разбит и Ваш кузен в конце концов был вынужден спустить флаг. Я пишу так, как об этом принято говорить, но к концу боя на «Сатерленде» не осталось ни флага, ни мачт, так что я не знаю, как ему удалось подать сигнал, что его корабль прекращает сопротивление (Из других источников мы теперь знаем, что капитан Хорнблауэр сделал это, вывесив на борт трехцветный французский флаг, который он ранее использовал для введения противника в заблуждение. См. «Военно-морской сборник, том IV, издание морского исторического общества, 1932 г., стр. 421, 435). Мой боевой пост был на марсе и падение мачты отбросило меня в море. Я не получил ни ран, ни даже царапины, но провел среди волн почти целый час. За это время битва закончилась, и шлюпки подбирали из воды тех, кому удалось уцелеть. Мне выпало счастье быть спасенным двумя испанскими рыбаками. Пока они пытались спасти еще одного моряка, который оказался уже мертвым, мне удалось перезарядить мой пистолет порохом, который я сохранил в водонепроницаемом чехле. Затем я заставил их грести в море до тех пор, пока мы не достигли «Плутона», и убедил первого лейтенанта этого корабля отпустить моих спасителей, вместо того, чтобы завербовать их в матросы.
Флагманский корабль захватил в качестве приза небольшое судно под названием «Сен-Женеро» и я был направлен на нем с депешами для главнокомандующего под Тулон. Я испытал больше страха на палубе флагмана, нежели в бою, но адмирал очень хорошо отозвался о нашем капитане, и мне удалось убедить его, что Ваш кузен был цел и невредим — по крайне мере, до того момента, когда «Сатерленд» получил ядро, отправившее меня за борт вместе с мачтой. После того, как я все ему рассказал, адмирал сообщил, что я буду назначен на 74-пушечный линейный корабль «Родни», под флагом контр-адмирала Мартина и под командованием капитана Холлиса. Вскоре я понял, что «Родни», «Рипалс» и «Ахиллес» выделены для того, чтобы закончить в Росасе работу, которую начал Ваш кузен и что я должен идти, так как мои знания обстановки могут иметь свою ценность.
Контр-адмирал Мартин старше контр-адмирала Лейтона, который таким образом становится только заместителем командующего эскадрой. Из разговоров с другими мичманами, у меня сложилось впечатление, что все считают контр-адмирала Лейтона виноватым в том, что случилось. Более того, я слышал, как флаг-лейтенант говорил о нем, как про «опоздавшего к своему выходу на сцену» с явным намеком на то, что адмиралу не хватило мужества. В это я не верю, потому что никто на «Плутоне» не считал, что он мог скорее прийти на помощь «Сатерленду», так как ветер был слабым и переменчивым. Был ли он прав, раздробив силы своей эскадры — другой вопрос и лучший тактик, скорее всего, отозвал бы «Сатерланд» заранее. Самому мне кажется, что контр-адмирал был огорчен своей неудачей во время высадки и думал о Росасе с почти личной ненавистью. Он не мог бы мечтать о лучшем реванше, чем разбить французскую эскадру у самого входа в бухту. Его желание поскорее увидеть это помешало ему трезво оценить ситуацию и правильно рассчитать свои действия — ведь он принимал желаемое за действительное. Он неважный моряк и непопулярен как командир из-за своего холеричного характера, который мешает ему принимать правильные решения.
Вот почему, как я полагаю, сэр Чарльз Коттон назначил контр-адмирала Мартина командовать операцией, в то время как Лейтону предоставлялась возможность хоть немного восстановить свою репутацию — хотя бы в отношении личного мужества. Вы уже видите результаты моего пребывания на флагманском корабле — мои мысли больше заняты интригами на эскадре, чем тем, как тревожить неприятеля. Теперь мы стоим в Порт-Магоне и заняты последними приготовлениями, прежде чем вернемся к завершению нашего дела в Росасе.
Передайте маме мои заверения в сыновней любви и скажите ей, чтобы не беспокоилась — французы ничего не смогут нам сделать. Мы ни во что их не ставим, а они мало что могут сделать, чтобы от нас спастись!
Остаюсь, дорогой отец,
Вашим любящим сыном —
Дж. Хорнблауэром.
Приготовления, о которых писал молодой Хорнблауэр, состояли в снаряжении четырех брандеров. Вслед за тем эскадра вышла в точку рандеву у мыса Креус 8 сентября в составе трех линейных кораблей, фрегата «Аполлон», брандеров и брига «Сен-Женнеро». Последний из названных кораблей доставил Лейтону приказы Мартина, принимающего его и оставшиеся корабли эскадры под свою команду. План атаки, который разработал Мартин, был мастерским. Отведя «Плутона» и «Калигулу» за пределы видимости с берега, он заставил французов предположить, что блокада снята, и назначил атаку на два часа ночи 12 сентября. Пять линейных кораблей, возглавляемые «Плутоном» и «Калигулой», в четком кильватерном строю вошли в бухту и вступили в бой с береговыми батареями. С противоположного направления «Аполлон» привел брандеры и направил их в атаку на стоящие на якоре французские корабли. «Сен-Женнеро» действовал самостоятельно, получив особое задание — сжечь «Сатерленд». «Родни» шел третьим в боевой линии, но свой флаг Мартин поднял на «Аполлоне», откуда и подавал сигналы, вплоть до сигнала о прекращении акции.
Этот план был выполнен от первой до последней строки и с минимальными потерями. Линейные корабли англичан смели патрульные шлюпки и вызвали на себя огонь береговых батарей и кораблей французов. Под прикрытием поднявшейся суматохи началась атака на главном направлении, один из брандеров зажег «Тюренн» (главную цель, так как этот корабль наименее пострадал в схватке с «Сатерлендом»), а остальные создали столь сильную угрозу остальным французам, что те предпочли обрубить якорные канаты и выброситься на берег. «Сатерленд» был взят на абордаж и сожжен, пылая практически до ватерлинии, и после того, как в 3–30 был дан сигнал отбоя, отступление было завершено до восхода солнца.
Схема, иллюстрирующая битву при Росасе в 1810 году.
У англичан было лишь несколько пострадавших, причем в большинстве своем — из числа команды головного корабля, «Плутона». Одним из них стал контр-адмирал Лейтон, смертельно раненный в пах деревянным обломком. Одним из наблюдавших за этой битвой был Горацио Хорнблауэр, заключенный в крепости Росаса, которому, в обмен на данное слово не предпринимать попыток к бегству, было позволено смотреть на схватку со стены, обращенной в сторону моря.
Он перенес тяжелые минуты, видя уничтожение «Сатерленда» и будучи уверенным, что его собственная карьера закончилась с гибелью его линейного корабля. Кое-что еще про это сражение Хорнблауэру удалось узнать от единственного британского пленного — матроса с «Плутона», подобранного в море, после того как он был сброшен за борт вместе со сбитой стеньгой. Именно от него Хорнблауэр услышал о ранении Лейтона, не зная, правда, насколько оно серьезно. В то время он еще предполагал, что в ближайшем будущем будет освобожден при размене пленных и вернется в Англию, где будет влачить жалкое существование на половинном жаловании и никогда больше не получит нового назначения. Кто же — спрашивал он себя, — снова доверит командный пост капитану, сдавшему свой корабль? Лучше бы его убили в битве! Это, по крайней мере, избавило бы его от трибунала, по решению которого он все равно может быть расстрелян. Из того, что Хорнблауэр рассказывал в последующей жизни, мы знаем, что первые недели его ощущения от пребывания в испанском плену были просто ужасны. Однако его положение на самом деле было еще хуже, чем он себе представлял. Несмотря на то, что тревоги Хорнблауэра о предстоящем позоре на родине пока не имели под собой оснований, он оказался в куда более опасном положении — под угрозой казни во Франции. Неизвестный ранее Наполеону лично, Хорнблауэр за время пребывания у испанских берегов приобрел столь громкую репутацию, что император решил поставить его перед расстрельной командой.
Для того, чтобы постараться разобраться в сложившейся ситуации, мы прежде всего должны учесть, что своими действиями Хорнблауэр уже начал создавать себе достаточно громкое имя. Его операции у берегов Испании были постоянным источником раздражения французского командования, а их кульминацией стал обстрел «Сатерлендом» прибрежного участка дороги неподалеку от Мальгрет. Затем из многочисленных рапортов на глаза Наполеону попался один — о штурме батареи на мысе Льянса, для осуществления которой «Сатерленд» подошел к берегу под чужим флагом. Подобная военная хитрость, конечно же, в те времена была вполне в порядке вещей, и, при других обстоятельствах, не слишком важной сама по себе. Что было гораздо более важно — так это внешний вид «Сатерленда», который больше походил не на английский, а на голландский корабль (каковым, впрочем, и являлся). Все, что дал Хорнблауэру фальшивый флаг — это уменьшение числа раненных и убитых, так как батарея была бы сбита в любом случае. Тем не менее, опираясь на этот незначительный, по сути, инцидент, Наполеон воспользовался случаем, чтобы обвинить противника в нарушении правил ведения войны — в осуществлении акта шпионажа, караемого смертью. Фактически, как только новость о захвате Хорнблауэра в плен достигла Парижа, был издан приказ доставить его под охраной во французскую столицу, чтобы он мог предстать перед военным судом. Такой же приказ был издан и в отношении Буша, которого считали его сообщником.
17 ноября 1810 года Хорнблауэр и Буш, ставший безногим инвалидом, были посажены в карету, под пристальным надзором адъютанта императора полковника Жана-Батиста Кальяра. Карету охраняла полусотня конных жандармов. К ночи карета и эскорт пересекли границу, въехали на территорию Франции и остановились на ночлег в городе Пор-Вандр. До того, как они достигли этой точки своего путешествия, все еще существовала (хотя бы гипотетическая) возможность спасения Хорнблауэра испанскими повстанцами. Генерала Ровира и полковник Кларос все еще находились в этом районе, а помимо того здесь было достаточно и других мелких партизанских групп, действовавших независимо. Любая из них могла напасть на карету, предполагая, что в ней перевозят сокровища. К сожалению, ни одной подобной попытки предпринято не было и Хорнблауэру пришлось убедиться в том, что положение его безнадежно, а судьба решена.
Кальяр был неприятным человеком, но при этом — далеко не дураком, а его жандармы слишком хорошо представляли, что с ними сделают, если пленникам удастся бежать. Так что их бдительность была просто исключительной. Кроме этого, Хорнблауэр был дополнительно связан по рукам и ногам присутствием тяжело раненного Буша. Старшина его командирской гички на «Сатерленде», Браун, последовавший за Хорнблауэром в качестве слуги, был сильным человеком, не получившим в бою ни единой царапины. Сам же Хорнблауэр также был человеком умным и дерзким. Но как же он мог бежать (даже если бы подобная возможность и появилась), бросив своего старого друга Буша беспомощным на произвол имперского суда? Пока же существовала вероятность, что с Буша удастся снять обвинения благодаря показаниям Хорнблауэра. Он мог сказать, например, что французский флаг на «Сатерленде» был поднят по его приказу и Буш ничего не мог с этим поделать. Более того, он мог сказать, что Буш вообще при этом не присутствовал — и кто же смог бы опровергнуть его свидетельство. Конечно, представлялось вполне вероятным, что все доводы Хорнблауэра перед судом ни к чему бы не привели, и оба они — Буш и его капитан — были бы казнены в доказательство британского коварства. Это было вполне возможным, однако все же оставался почти ничтожный шанс, что им повезет, тем более, что сама мысль о побеге трех пленных, один из которых не может передвигаться самостоятельно, представлялась практически невозможной. Это дополнительное препятствие почти привело Хорнблауэра в такое отчаяние, как никогда раньше. Понимая это, Буш умолял своего капитана спасаться самому, если к тому представится возможность — на что Хорнблауэр мог только ответить, что вопрос о подобном бегстве даже не обсуждается. Каждый день продвижения все дальше на север, все больше приближал их к стенам французской тюрьмы, за которыми они, скорее всего, и найдут свою смерть. 26 ноября они приехали в Перпиньян, и лишь успешное отделение лигатуры на культе Буша несколько улучшило надежды на дальнейшее выздоровление раненого. Карета миновала Клермон-Ферран и находилась на подступах к Неверу 19 декабря. В этот день, в довершение всех несчастий, начался снегопад…
8. Коммодор
В последующей жизни Хорнблауэр будет говорить, что его судьба круто изменилась в один декабрьский день 1810 года, когда снегопады засыпали центральную часть Франции. В этот день, 19 декабря, ехать в карете стало трудно. Одна из четырех лошадей захромала, и движение замедлилось. Затем пошел снег, с наступлением ночи — все более густой, и карету приходилось все чаще останавливать, чтобы очистить затвердевший снег, набивавшийся в лошадиные подковы.
В конце концов кучер сбился с дороги и чуть было не вывернул карету в реку. Этого, к счастью, удалось избежать, но самое неприятное состояло в том, что экипаж завяз намертво — двинуться с места было невозможно. Кайяр послал сержанта вперед, чтобы привести помощь из Невера, а еще одного человека — к посту, неподалеку от того места, где они свернули с дороги. Остальным жандармам было приказано разгребать снег от кареты, которую они попытались облегчить, высадив Хорнблауэра и Брауна, а еще несколько человек держали лошадей. Было темно, хоть глаз выколи, но фонарь кареты выхватил из тьмы предмет, представлявший необычайный интерес, а именно — небольшую гребную лодку, привязанную к колышку. Выбрав подходящий момент, Хорнблауэр вместе с Брауном неожиданно скрутили Кайяра и сунули его в карету, связанного по рукам и ногам, с кляпом во рту. Затем они подняли Буша, погрузили его в лодку вместе с носилками, запрыгнули следом, оттолкнулись и исчезли в темноте. Никто не видел этого и не поднял тревоги. Схватив каждый по веслу, Хорнблауэр с Брауном отправились в опаснейшее, наверное, путешествие своей жизни. Река разлилась после больших дождей, изобиловала в этом месте стремнинами и мелями, через которые им пришлось пробиваться, спускаясь ниже Невера.
Наконец, лодка разбилась в одном из водопадов. В полной темноте беглецам все же удалось разглядеть далеко впереди огонек, и они двинулись к нему, готовые сдаться. Вместо этого английские моряки стали гостями графа де Грасай, надежно спрятанные в его замке до тех пор, пока ажиотаж, поднятый их бегством, несколько не улегся. Найдя остатки лодки и одеяла, в которые был завернут Буш, жандармы вскоре пришли к выводу, что беглецы утонули. Их донесение было получено в Париже, опубликовано в «Мониторе» и достигло Англии, где со временем об этом узнали (и поверили) Мария, леди Барбара, а также родственники Буша и Брауна.
Замок, в котором они скрывались, расположен, а точнее — был расположен в верхнем течении Луары, между городами Невер и Бриар. (Он был разобран во время работ по расширению дороги в 1965 году, и к настоящему времени от него остались лишь конюшни, переделанные в гараж).
Сам граф эмигрировал в Англию во время революции, но затем вернулся во Францию, приняв амнистию Бонапарта, ставшего первым консулом. Все трое его сыновей служили в наполеоновской армии и были убиты: старший, Марсель, прежде успел жениться на простой крестьянской девушке по имени Мария. Больше у графа родственников не было, и он оставался последним в своем роду, живя в месте со своей невесткой Марией, которая стала виконтессой. Немногочисленные слуги графа были исключительно преданы ему, и его английские гости, таким образом, были в полной безопасности, пока не показывались на глаза посторонним. Единственным путем их спасения оставалась река, но самое раннее — в апреле, когда разлив после таяния снегов хоть немного пойдет на спад. Согласно выработанному плану, Буш вместе с Брауном построят лодку, а женщины, которых в замке было более чем достаточно, пошьют три комплекта формы императорской таможенной службы для того, чтобы беглецы могли воспользоваться ею, когда достигнут Нанта. Однако, кроме лодки и маскировки, они должны были прежде всего обеспечить Буша деревянной ногой, а ему предстояло заново научиться ходить. Нельзя сказать, чтобы английские моряки сидели без дела во время своего вынужденного заточения, но у них было достаточно свободного времени и для любви. Известно, что у Хорнблауэра завязался роман с Мари, в то время как Браун — который, в отличие от Буша, успешно освоил французский — добился успеха по крайней мере у одной из горничных; на этой девушке он в конце концов и женился.
Путешествие вниз по Луаре началось 17 апреля 1811 года, причем три путешественника должны были изображать рыболовов. Погода была хорошей, навигационные условия — несложными, и никто даже не заинтересовался, кто они и откуда. «Рыболовы» прошли Сюлли и Жарго, Орлеан и Блуа, после чего, наконец, вечером 3 мая прибыли в Нант. Здесь они переоделись в мундиры таможенной службы и готовились продолжить свое путешествие к морю никем не узнанные и незаподозренные, присматриваясь к рыбачьим лодкам, одну из которых собирались украсть в сумерках.
Однако беглецам повезло еще больше, чем они на то рассчитывали: у причала они заметили десятипушечный тендер, в котором Буш сразу узнал «Эндорскую Волшебницу», корабль британского флота, захваченный в прошлом году при Нуармутье. Тендер был в хорошем состоянии и готов к плаванию, но французский флаг все еще развевался поверх английского. Рядом, у того же причала стояли два американских судна, которые разгружали каторжники под охраной караула: скованные общей цепью дезертиры и уголовники. Якорная вахта на борту тендера состояла из шкиперского помощника и двух матросов. Поднявшись на борт, Хорнблауэр без особого труда обезвредил их, а затем на тендер удалось заманить лоцмана, который сошел с другого, только что прибывшего, американского судна. Когда все они вчетвером беспомощно лежали в каюте связанными, Хорнблауэр приказал сержанту загнать на борт закованных каторжников. После того как сержант также был обезврежен, десятку этих оборванцев была обещана свобода в Англии, после чего они были освобождены от оков. Затем тендер отдал швартовы, бывшие каторжники подняли грот и кливер. Плавание началось при лунном свете, с использованием отливного течения. Лоцмана вытащили на палубу и привязали у нактоуза; ему была обещана смерть, если днище тендера только коснется песчаной банки. Удачно управляемый, тендер на рассвете уже прошел Нуармутье, но здесь потерял ветер и был перехвачен тремя гребными канонерскими лодками. Эта атака стала следствием сообщения о тревоге, переданного по телеграфу.
Засадив бывших каторжников на весла, Хорнблауэр добился, чтобы тендер развил ход, достаточный для удержания на нужном курсе, а сам открыл по французским лодкам огонь из шестифунтовой пушки. Две шлюпки преследователей были потоплены, а третья бросилась наутек. Плавание продолжалось и той же ночью, пользуясь легким бризом, тендер вышел в открытое море, где и встретился с линейным кораблем «Триумф», под командованием сэра Томаса Гарди, из Флота Канала, возглавляемого адмиралом лордом Гамбиром, который держал свой флаг на «Виктори». Хорнблауэр представил свой рапорт адмиралу. «Грустный Джимми» — таково было прозвище этого главнокомандующего — был заметно потрясен. Он решил, что рапорт Хорнблауэра, датированный 5 мая, с адмиральским сопроводительным письмом, будет доставлен в Англию на «Эндорской Волшебнице» под командой Буша, который был назначен исполняющим обязанности капитан-лейтенанта. Тендером такого типа обычно командовал офицер в чине не выше лейтенанта, и именно в таком качестве корабль снова вошел в состав британского флота, но производство Буша, маловажное само по себе, было в то же время знаком официального одобрения действиям Хорнблауэра. Почти одновременно Хорнблауэр впервые услышал, что контр-адмирал Лейтон скончался от ран в Гибралтаре и был похоронен в соборе Св. Павла. Чуть позже в тот же день секретарь адмирала сообщил Хорнблауэру, что его жена Мария умерла в Саутси родами, дав жизнь сыну, который родился 7 февраля 1811 года. Ребенок выжил, а Марию в вырезке «Морнинг Кроникл» называли «вдовой капитана Горацио Хорнблауэра, злодейски умерщвленного Бонапартом».
У нас нет сведений, что почувствовал Хорнблауэр, узнав об этой трагедии, причиной которой он косвенно стал. Могла ли она все же выжить, если бы только знала, что ее мужу удалось спастись? Не был ли он сам с Мари де Грасай (и вполне вероятно — в ее объятиях) в тот самый день, когда Мария умирала? Мог ли он относиться добрее к своей жене? Довершением всех его несчастий стало известие, что через две недели «Виктори» отправится в Англию, где сам Хорнблауэр предстанет перед трибуналом, как только сойдет на берег. Он был первым капитаном британского линейного корабля, которому пришлось спустить флаг после того, как «Ганнибал» был захвачен в 1801 году при Альхесирасе…
Когда 6 июня Хорнблауэр сошел на сушу в Портсмуте, он вдруг с удивлением ощутил, что стал знаменит. Другого военно-морского героя на то время не было, а публику захватила история его героического сражения, пленения и бегства из-под стражи, о его якобы смерти, а потом — неожиданном возвращении на борту отбитого у французов приза. На текущий момент Хорнблауэр стал кумиром толпы и прессы. Среди писем и посылок, ожидающих его, одна содержала шпагу, стоимостью в сто гиней, которую он перед уходом в море заложил своим призовым агентам — необходимая мера, без которой капитан «Сатерленда» не смог бы оплатить расходы на покупку капитанских запасов. Сейчас шпага вернулась к нему как знак восхищения, вместе с кучей писем, а также сообщением, что «Эндорская Волшебница» была куплена Военно-морским флотом за 4000 фунтов стерлингов, две трети из которых принадлежало ему и не менее 400 фунтов — Брауну, как единственному представителю нижней палубы. Весьма теплое письмо он также получил от леди Барбары Лейтон, отправленное из дома 129 по Бонд-стрит и датированное 3-м июня. Она сообщила, что взяла под свою опеку ребенка Марии, полагая, что он остался сиротой, и мальчика окрестили Ричардом Артуром Горацио в честь ее братьев, лордов Уэлсли и Веллингтона как крестных отцов.
Письмо нежно заканчивалось словами: «Вас будут очень рады видеть, когда вы прибудете, чтобы повидаться со своим сыном, который растет и умнеет с каждым днем. Это доставит удовольствие не только Ричарду, но и вашему верному другу — Барбаре Лейтон». В этот момент Хорнблауэру пришлось проанализировать свои чувства. Ему пришлось вновь напомнить себе, что он должен предстать перед трибуналом. Трибунал, конечно же, состоялся (14 июня) и председательсвующий на нем адмирал выступил с речью, в которой подчеркнул, что Хорнблауэр «сделал все возможное во славу страны, что трибунал настоящим и подтверждает».
Проблема сигнала, поданного Лейтоном также обсуждалась, но в конце концов была признана несущественной, так как перед трибуналом предстал не Лейтон, а Хорнблауэр. Офицер, выступавший в роли его защитника, доказал, а суд согласился с ним, что Хорнблауэр действовал правильно, исполняя сигнал, но его действия были бы правильны и в том случае, если бы этого сигнала вообще не существовало. Решение трибунала было встречено бурным одобрением всего флота, и когда Хорнблауэр покидал «Виктори», где проходило заседание трибунала, команда была выстроена на реях в спонтанной демонстрации. Но что должно быть признано замечательным совпадением: Хорнблауэр был приговорен к смерти заочно (in absentia) французским трибуналом еще 10 июня, но это решение было утверждено императором Наполеоном в тот же самый день, когда было оглашен вердикт трибунала в Портсмуте. Сам же Хорнблауэр ничего не знал об этом в то время и вряд ли бы был бы сильно обеспокоен, если бы ему стало об этом известно. Ему было достаточно почетной реабилитации и высокого мнения о своих заслугах, которое он действительно заслужил у старших офицеров и товарищей по службе. Еще больше приветствий досталось ему на пристани, а затем, к своему удивлению, Хорнблауэр обнаружил себя в почтовой карете, спешащей в Лондон. Они достигли столицы в сумерках и мистер Хукхэм Фрир, который был выслан навстречу Хорнблауэру, благополучно сопроводил его в дом номер 10 по Даунинг-стрит, в Военное министерство, а к десяти вечера доставил капитана в Калтон-Хауз. Прежде чем Хорнблауэр понял, что происходит, принц-регент произвел его в рыцари, наложил на него знаки Достопочтенного ордена Бани и к тому же объявил о его производстве в полковники морской пехоты — синекура, которая должна была принести Хорнблауэру дополнительных 1200 фунтов стерлингов в год. Хорнблауэр завершил этот бурный день в специально снятом для него номере гостиницы «Золотой крест»: он приобрел и славу, и состояние.
Сэр Горацио Хорнблауэр, Рыцарь ордена Бани посетил леди Барбару в ее городской резиденции 15 июня и был столь удачлив, что застал ее милость дома. Здесь же он впервые встретил Ричарда, своего единственного сына, который в свои четыре месяца был просто воплощением живости и здоровья. Более сентиментальный исследователь предположил бы, что Горацио и Барбара тут же бросились друг другу в объятия со слезами счастья на глазах, оттого что все препятствия к их счастью отныне исчезли. На самом деле, с этим было не так уж просто. Во-первых, оба они были в трауре, и ни о какой свадьбе не могло быть и речи до тех пор, пока со дня смерти Лейтона не пройдет двенадцать месяцев. Во всяком случае, ближайшей возможной датой мог стать один из дней в начале октября, причем и речи идти не могло об обручении раньше 12 сентября. Пока же следовало соблюдать некоторые условности, но мы можем быть уверены, что они отлично поняли друг друга, а окончательное воссоединение любящих сердец было предопределено еще и тем, что ребенок остался с леди Барбарой. Тем не менее, чтобы избежать скандала, сэр Горацио покинул город, полагая своей первой задачей обзавестись поместьем. Было бы несовместимо с достоинством Барбары и его собственным, если бы им пришлось провести свой медовый месяц в бывшей резиденции Лейтона. Он должен был приобрести свой собственный дом и дом этот должен был находиться в графстве Кент. Мысли Хорнблауэра инстинктивно обратились к Смоллбридж-Мэнор. Он написал 18 июня мистеру Ходжу и получил радостно удививший его ответ, что старый мистер Бернет скончался в 1809 году, так что если Хорнблауэр все еще интересуется этим поместьем, то пусть приезжает как можно быстрее. Проклиная человеческую глупость, Хорнблауэр сразу же отправился в Мэйдстон, куда и прибыл 25 июня. Самое раннее из его сохранившихся писем к Барбаре написано как раз оттуда и датировано 27 числом того же месяца.
Гостиница «Королевская звезда»,
Мэйдстон.
Моя дорогая леди Барбара!
Думаю, что мне суждено стать землевладельцем, потому что мне уже сейчас изо дня в день досаждает своим поведением мистер Ходж, который то говорит мне, что интересующее меня поместье вот-вот будет выставлено на продажу, то вдруг начинает уверять, что его нынешний владелец, кузен покойного мистера Бернета, не намерен продавать его ни за какие деньги. Между тем его партнер предлагает мне другой вариант, около пятисот акров всего за 1300 фунтов неподалеку от Танбриджа — так дешево, что это само по себе настораживает. По его словам, эта земля может приносить мне до 200 фунтов ежегодной ренты. Я настолько измучен и истерзан этими поверенными, что решил поехать в Шропшир и сделать покупку самостоятельно.
Вчера мне удалось осмотреть Смоллбридж и должен признаться, что за прошедшее время были приложены некоторые усилия, дабы устранить последствия почти полувекового запустения, однако единственным осязаемым результатом этого стал ужасный запах свежей краски. Завтра я выезжаю в Бриднорт и сожалею лишь о том, что каждый новый день путешествия все больше отдаляет меня от тех, кто мне дорог. Поцелуй за меня Ричарда и заверь его, что кампания, которую я веду сейчас, столько же в его интересах, сколько и в моих собственных — или я даже дерзну предположить в НАШИХ?
Вчера почта доставила мне от тебя очаровательное письмо, в ответ на которое могу заверить тебя, что комнаты в здешних гостиницах чистые, а позавтракал я хорошо — чай, хлеб с маслом и яйца.
Я снова напишу тебе завтра, скорее всего уже из Сен-Олбанса и буду стараться противостоять желанию повернуть к северу, чтобы как можно быстрее оказаться на Бонд-стрит. Так или иначе, я должен уладить это дело и когда я в следующий раз увижу тебя, то расскажу о своем успехе — поверь мне.
Твой любящий друг —
Горацио Хорнблауэр.
Судя по всему кузен, унаследовавший состояние Тома Бернета, был эксцентричен не менее его самого. Тем не менее, выяснилось, что он служил некоторое время мичманом и с тех пор продолжал декларировать свою принадлежность флоту (по крайней мере, на словах). Возможно, по этой причине, а возможно, благодаря славе Хорнблауэра, скорее же всего из-за того, что ему очень нужны были деньги, экс-мичман Королевского флота в конце концов дал себя убедить и согласился на продажу Смоллбриджа. Договор был подписан в Бринджнорте, а передача прав оформлена в Мейдстоне с последующим заверением в Лондоне. Затем возникла проблема приведения дома в пригодный для жилья вид хотя бы к октябрю, что наверняка не было простым делом после столь длительного периода запустения. На счету Хорнблауэра было много побед, но эту битву ему предстояло проиграть.
К сожалению для исследователя, такого места, как Смоллбридж-Мэнор, больше не существует. Тот факт, что сам дом был практически полностью уничтожен пожаром в 1884 году, сам по себе мало что значит по сравнению с тем, что не осталось ни одного свидетельства о том, где он на самом деле стоял. Эта проблема обсуждается в Приложении № 2 и его положение приводится по данным страницы 252 дополнения к обзору Артиллерийского ведомства 1819 года. Сам вид дома можно себе представить по изображению на раскрашенной гравюре 1845 года, по которой мы можем судить, что это было здание в георгианском стиле, небольшое, но полное достоинства, окруженное небольшим парком, сквозь который к его воротам вела подъездная аллея. Каретник, конюшни и домик для прислуги располагались отдельно, к югу от Нетлестед-Корт. Дом получил свое название от небольшого моста, который ранее соединял берега речушки Мидуэй между Нетлестедом и Боухилл. Тем не менее, сам церковный приход и деревушка всегда носили название Нетлестед (а не Смоллбридж), даже когда сам дом еще существовал. Земли, которые также приобрел Хорнблауэр, тянулись к западу до границ с Мереворт-Касл и Ройстон-Холл, составляя общую площадь до тысячи акров. Все вместе составляло достаточное скромное поместье для человека с положением, на которое уже мог претендовать Хорнблауэр. Тем не менее, он вернулся сюда же в старости, что является весомым свидетельством того, что попросту любил это место. Ни один из его наследников больше не жил здесь и к моменту пожара 1884 г. поместье находилось в аренде у некоего майора Перрена. Планов его восстановления так и не появилось.
Побежденный в неравной битве со штукатурами и обойщиками, Хорнблауэр в конце концов вынужден был арендовать дом в Танбридж-Уэллс. Его свадьба с леди Барбарой состоялась в Лондоне 9 октября 1811 года и прошла очень тихо. Венчание имело место в церкви Св. Маргариты, в Вестминстерском аббатстве, причем невесту вел к алтарю сам маркиз Уэлсли. Первые несколько месяцев молодожены провели в Тансбридж-Уэллс, но при этом часто наезжали в Смоллбридж. Наконец, при помощи увещеваний и прямого подкупа, строителей наконец-то удалось удалить из дома к середине марта 1812 года, а внести мебель и расстелить ковры стало возможным к концу того же месяца. После бесчисленных переносов и отсрочек, новые владельцы Смоллбриджа смогли, наконец, въехать в свою резиденцию 10 апреля и приняли депутацию своих арендаторов 12 апреля. В тот день все шло хорошо: викарий произнес речь, селяне исполнили гимн: «Смотри, о вот грядет герой», Хорнблауэр произнес несколько слов в ответ и торжество завершилось троекратным «Гип-гип, ура!» для ее Светлости и такого же количества приветственных криков в честь сэра Горацио. Несомненно, наибольшее удовольствие от всего происходящего получил маленький Ричард, у которого теперь впервые появился свой собственный садик для игр. Тем не менее, Адмиралтейство, с присущим ему отсутствием такта, выбрало именно 10 апреля, чтобы направить Хорнблауэру письмо, которое он и получил два дня спустя. Ему предлагали должность коммодора, с капитаном в подчинении, для выполнения задания, о котором предстояло узнать при личной встрече. Таким образом, после пяти месяцев семейной жизни на берегу, Хорнблауэру предстояло вновь выйти в море, но уже не в качестве капитана отдельного корабля, а под флагом командира эскадры. Теперь к нему относились с некоторым уважением — частично благодаря приобретенной им славе национального героя, а частью как члену могущественной семьи Уэлсли, в которую он вошел после женитьбы на Барбаре. В конце концов, одним из его деверей теперь был государственный секретарь иностранных дел, а другим — главнокомандующий британской армией в Испании, и, возможно, самый великий генерал, которого когда-либо рождала Англия. Хорнблауэр явно приобретал широкие перспективы.
В то время официального звания «коммодор» не существовало. Это был лишь почетное неофициальное обращение к старшему из капитанов, командующему эскадрой из нескольких кораблей. Он терял должность и право на свой титул как только сходил на берег. Точно также ранг коммодора использовался в Ост-Индской компании и в том же смысле сегодня употребляется в торговом флоте. Но Королевский Военно-морской флот имел коммодоров двух степеней — младшего, имеющего право на особый широкий вымпел и старшего (с другим вымпелом), который имел в своем подчинении капитана. Избавленный таким образом от повседневных забот, связанных с управлением кораблем, коммодор этой категории был уже в большей степени флаг-офицером. Казалось бы, проще было бы произвести его сразу в контр-адмиралы, со всеми вытекающими последствиями. Однако на деле это было невозможно, поскольку все продвижения в списке капитанов шли строго по старшинству. Для того, чтобы произвести Хорнблауэра в контр-адмиралы уже на этом этапе, когда он поднялся едва ли до половины списка, означало бы необходимость произвести в адмиралы всех капитанов, стоявших в этом перечне перед ним. Правда, лишь весьма немногие из них смогли бы рассчитывать на соответствующие должности и, таким образом, была бы утрачена возможность использовать их для службы. Таким образом, сохраняя свое прежнее звание капитана, Хорнблауэр получал часть обязанностей флаг-офицера. Эта система, во многом неудобная, по крайней мере, давала возможность уменьшить масштабы при возможной неудаче. Если бы коммодор не справился с полученным заданием, можно было бы снова назначить его командиром линейного корабля.
Когда Хорнблауэр достиг Адмиралтейства, ему было сообщено, что театром его будущих действий должно стать Балтийское море. Он должен был возглавить эскадру, которую составляли: линейный корабль «Несравненный» (74 пушки), шлюпы «Лотос» (20 пушек) и «Ворон» (18 пушек), бомбардирские кечи «Мотылек» и «Гарви», а также тендер «Клэм» (10 пушек). Главнокомандующим на Балтике был вице-адмирал сэр Джеймс Сомарец, но Хорнблауэр должен был получить определенную свободу действий: его задачей было оказывать поддержку любому потенциальному противнику Наполеона. Ситуация на Балтийском море складывалась весьма непросто: Дания и Норвегия были оккупированы Наполеоном, Швецией управлял бывший маршал Франции, чья лояльность по отношению к Бонапарту была, по меньшей мере, сомнительной, а Россия ожидала французского вторжения, которое могло материализоваться, а могло и нет. Не было уверенности в том, что в этой обстановке придется делать британской эскадре, но Хорнблауэр был именно таким человеком, на которого можно было положиться в подобной ситуации. Его эскадра должна была собраться в Даунсе, а сам он поднялся на борт в Дилле — совсем неподалеку от тех мест, где прошло его детство. Главные трудности возникли из-за того, что Хорнблауэр хотел, чтобы командиром «Несравненного» назначили Буша. Ему указали на то, что Буш лишь недавно был произведен в капитан-лейтенанты и что его первым кораблем — когда он, наконец, будет произведен в капитаны — должен стать шлюп, а никак не линейный корабль. В конце был достигнут компромисс на том, что Хорнблауэр примет номинальное командование «Несравненным», а Буш будет назначен на него в качестве сверхштатного офицера в звании капитана. Это позволяло Бушу осуществлять все функции по командованию кораблем (за исключением подписания документов), но все же вызвало зависть среди других капитан-лейтенантов. Вот одноногого инвалида назначают капитаном линейного корабля, а ведь он и фрегатом-то никогда не командовал! Трудно было найти другой пример столь явной предвзятости и протекции. Все, что можно сказать в защиту Хорнблауэра, так это то, что Буш давно заслужил свое производство, и оно могло бы прийти гораздо раньше, если бы он не следовал за Хорнблауэром.
Свежеиспеченный коммодор поднялся на борт своего флагмана в Дилле 4 мая, приветствуемый салютом со всех кораблей эскадры. Немедленно отплыв с попутным ветром на Скаген, Хорнблауэр ввел свои корабли в Зунд на рассвете 10 мая. Он был обстрелян фортами Сальтхольма, а затем — Амагера. Эскадра ответила бортовыми залпами, но кораблям удалось пройти, не получив особых повреждений. Лишь «Гарви» потерял грот-мачту и вынужден был идти под аварийным такелажем. Следующей задачей Хорнблауэра было доложить о своем прибытии вице-адмиралу сэру Джеймсу Сомарецу, чья эскадра стояла в Винго-зунд, неподалеку от Гетеборга. Адмирал не проявил особой сердечности, узнав, что новоприбывший коммодор располагает свободой действий. Тем не менее, он приказал Хорнблауэру следовать в Кронштадт с депешами, адресованными русскому царю. Он также был уполномочен предложить царю свое содействие в случае войны между Россией и Францией. 14 мая Хорнблауэр покинул Винго и направился на восток…
Вскоре после этого эскадре Хорнблауэра удалось отбить английское торговое судно «Мэгги Джонс», ставшее призом французского капера «Бланш Флер». Это навело Хорнблауэра на мысль направиться на поиски самого приватира, которого он наконец поймал и уничтожил при Рюгене. Затем Хорнблауэр узнал, что армии Наполеона концентрируются между Дрезденом и Варшавой. Еще больше он узнал от британского атташе в Стокгольме, который прибыл на борт со шведского берега и попросил доставить его в Санкт-Петербург. Согласившись на это, Хорнблауэр прибыл в Кронштадт 22 мая и был приглашен в Петергоф на обед к царю. Другим гостем за царским столом оказался Бернадотт, наследный принц Швеции. Следствием этого стало прибытие Александра на «Несравненный», но инкогнито, под именем «графа Северного». Хорнблауэр сделал все возможное, чтобы произвести на царя наилучшее впечатление дисциплинированностью и высоким боевым духом своих моряков в качестве предполагаемых союзников, но сомнительно, чтобы его дипломатия в этом случае имела в этом более чем ограниченный успех. Он вновь покинул Кронштадт 30 мая, получив приказы сэра Джеймса Сомареца нанести удар по французским коммуникациям на подступах к Кенигсбергу.
Карта бухты Фришгаф
Между этим портом и Данцигом расположена лагуна Фришгаф, место интенсивного прибрежного судоходства. Множество судов, нагруженных военным имуществом и припасами, собирались здесь под прикрытием береговых батарей и мощного бонового заграждения, прикрывающий единственный вход со стороны моря. Эта позиция выглядела практически неприступной, но Хорнблауэр все же разработал план атаки. Четыре шлюпки, под командованием капитана Виккери с кеча «Гарви», проникли во Фришгаф, по мелководью обойдя оконечность бонового заграждения в ночь на 25 июня. В течение последующего дня ими были уничтожены одиннадцать прибрежных судов и двадцать четыре баржи. Защитники бухты сосредоточили силы для того, чтобы воспрепятствовать отходу Виккери, и Хорнблауэр инсценировал атаку на Пиллау, достаточно правдоподобно, чтобы отвлечь внимание в эту сторону. Тем временем Виккери и его люди сожгли свои шлюпки, как им было приказано, и пересекли узкий перешеек, выйдя на морское побережье Фришгаф, где и были подобраны шлюпками с других кораблей эскадры, вышедших в точку рандеву. Это была весьма четкая операция, достаточная для того, чтобы показать потенциальным союзникам, что рука флота Его Величества гораздо длиннее, чем склонен предполагать Бонапарт.
8 июля Хорнблауэр получил депешу от британского посла в России, информирующую, что Наполеон начал вторжение в пределы страны, причем главная колонна его армий направлена на Москву, в то время как другая движется на Санкт-Петербург. Чуть позже Хорнблауэр получил такую же информацию от сэра Джеймса Сомареца, с дополнительным сообщением о том, что русские предпримут попытку задержать наступление в северном направлении, организовав решительное сопротивление под Ригой. В связи с этим Хорнблауэру было приказано сделать все возможное для того, чтобы помочь в защите этого города. Он направил тендер «Клэм» с депешами в Винго-зунд и повел остатки своей эскадры в Рижский залив. 25 июля, на подходах к этому городу, он обнаружил присутствие французов, которые как раз готовились к переправе через Двину.
Ригу защищал генерал Эссен, первая линия обороны которого проходила в районе деревни Даугавгрива, к западу от реки, прикрывая дорогу от Данцига. Мелководье помешало кораблям эскадры приблизиться к французским траншеям на расстояние пушечного выстрела, но Хорнблауэр решил, что осадка его бомбардирских кечей может быть уменьшена при помощи импровизированных понтонов. Все дело состояло в том, чтобы закрепить по обоим бортам кечей заполненные песком суда, а затем выгрузить из них песок. После того, как крайние суда опустеют, они должны приподнять находящийся в центре корабль. Облегченные таким образом кечи подошли на дальность выстрела и нанесли французским укреплениям некоторые повреждения. Им, конечно же, пришлось отступить под огнем французской полевой артиллерии, снова отойдя за пределы дистанции ведения эффективного огня. Французские апроши все ближе и ближе подкрадывались к Даугавгриве, а сама деревня уже была превращена в груду развалин. Теперь Хорнблауэр предложил использовать корабельные шлюпки, вместе с другими имеющимися плавсредствами, для того чтобы высадить ночью отряд русских войск в точке, позволяющей атаковать неприятельские апроши во фланг. Этот план был принят, и высадка была назначен на ночь 1 августа. Операция была проведена согласно плану, но совпала с ночной атакой французов. Последовала отчаянная битва в темноте, а на рассвете стало видно, что траншеи осаждающих в значительной степени разрушены. Таким образом, удалось выиграть еще немного времени, но тут пришло известие о падении Москвы. Хорнблауэр начал терзаться сомнениями, не заставит ли это русских пойти на заключение мира, который сделает Наполеона властелином мира. Известие о падении Москвы, очевидно, в тоже время получили и французы, которые предприняли генеральный штурм Даугавгривы и понесли многочисленные жертвы в этой попытке сократить время осады. В это время Хорнблауэр находился на берегу и был вовлечен в схватку, а когда он лично повел солдат в контратаку, под ним была убита лошадь. В своих позднейших беседах с генералами, Хорнблауэр имел достаточно юмора, чтобы утверждать, что, в отличие от большинства своих собеседников имел честь выиграть битву на суше, и что практически лично спас Санкт-Петербург от захвата французами. Фактически же, его вмешательство, отважное само по себе, было лишь эпизодом в битве с неопределенным исходом, каждая из которых таит в себе множество подобных успехов или неудач. К счастью, он остался невредим, а русские продолжали удерживать Ригу, сдерживая французское наступление на этом направлении. В других местах русским везло меньше, однако факт оставался фактом — про сдачу они и не помышляли. Все закончилась, как мы помним, отступлением Наполеона от Москвы. Русский флот в союзе со шведским не оставлял сэру Джеймсу Сомарецу особых дел на Балтике, ввиду чего он был озабочен, как бы вывести свой флот до наступления зимы. Хорнблауэр получил приказ, датированный 15 августа, следовать в бухту Хано, поскольку к концу года «Несравненному» было бы слишком опасно оставаться на открытом рейде Риги. Оба бомардирских кеча ему разрешали оставить под Ригой до конца месяца, однако самому Хорнблауэру предписывалось вместе с «Несравненным» с двумя шлюпами следовать с конвоем в Англию. Он оставил конвой в Даунсе и привел «Несравненный» в Чатем, где его коммодорский брейд-вымпел был спущен, а сам корабль был разоружен на зиму 9 октября. Сэр Джеймс Сомарец вернулся в Англию вскоре после этого, спустил свой флаг и закончил активный этап своей карьеры. С поражением Наполеона операции на Балтийском море практически прекратились, и Королевскому флоту вполне достаточно было легких сил на этом театре до окончания войны. Когда Хорнблауэр сошел на берег, оказалось, что он болен, частично из-за истощения, вызванного перенесенным тифом, которым он заразился во время обороны Риги. Он встретился со своей женой в Смоллбридж-Мэнор и провел там всю зиму, не выздоровев окончательно даже к весне 1813 года. Есть основания полагать, что он был капризным пациентом — сварливым, раздражительным и мечтающим снова оказаться в море. Дополнительному раздражению способствовали письма, которые он получал от Буша, командующего теперь фрегатом, и молодого Джонатана Хорнблауэра, который продолжал служить на флагманском корабле и как раз сдал экзамен на лейтенанта. В эту зиму Наполеон вынужден был перейти к обороне: его армии были ослаблены, а его союзники — Австрия и Пруссия — обратились против него. Проиграв кампанию в России, он был не многим счастливее в Испании, где Веллингтон как раз выгнал короля Жозефа Бонапарта из его столицы. Казалось, что уже в следующем году мир увидит падение французского императора. Хорнблауэр очень хотел принять участие в этой последней схватке, венчающей двадцать лет его действительной службы на море и ознаменовать ее последним значительным достижением.
Однако к сожалению, его амбиции было нелегко удовлетворить. Адмиралы того времени, такие как, например, Сомарец, получили свой первый офицерский чин, когда Хорнблауэр еще едва родился. Все они служили еще во время прошлой войны и уже были капитанами к тому времени, как Хорнблауэр в первый раз вышел в море. Для человека, не имевшего первоначально никакой поддержки, он достаточно удачно получил капитанский чин уже к 1805 году. Теперь, всего в тридцать семь лет, имея при этом семь лет капитанского стажа, он был уже почти посредине капитанского списка, однако представлялось сомнительным, чтобы ему удалось стать контр-адмиралом ранее 1820 года. Его служба на Балтике в качестве коммодора была весьма почетной для него, так как выполнение задания такого рода скорее обычно поручалось кому-нибудь из младших флаг-офицеров. Мы, конечно, знаем, что уже это назначение вызвало бурные протесты, и можем предположить, что дальнейшее подобное продвижение Хорнблауэра должно было вызвать негативную реакцию старших стажем и более заслуженных офицеров. Кроме того, он уже имел успешный опыт исполнения обязанностей коммодора, и теперь его не так-то просто было бы назначить обычным командиром линейного корабля. А даже если бы Хорнблауэр и согласился бы принять подобное назначение, какой главнокомандующий хотел бы иметь его под своим флагом?
Кому нужен был такой подчиненный — слишком амбициозный, непоседливый и критичный, конечно же, достаточно лояльный, но все же слишком опытный, чтобы всегда держать свое мнение при себе.
Возможным назначением для него была бы должность капитана флота (соответствует современному начальнику штаба) или командира флагманского корабля какого-нибудь адмирала. Эта идея и пришла ему в голову, причем Хорнблауэр укрепился в этой мысли, узнав, что его бывший командир, сэр Эдвард Пеллью, назначен главнокомандующим Средиземноморским флотом. Хорнблауэр написал ему где-то в январе 1813 года, однако получил вежливый, но решительный отказ.
Каледония
7 марта, 1813.
Дорогой сэр Горацио!
Мне доставили огромное удовольствие сообщения о Ваших деяниях на Балтийском море, и я рад слышать, что при этом Вам удалось остаться в относительно хороших отношениях с сэром Дж. С., который в качестве главнокомандующего далеко не у всех вызывает восхищение. Если наши дела и дальше будут идти столь же хорошо, то надеюсь, Тиран будет свергнут прежде, чем этот год пронесется над нашими головами. Мой флот здесь в целом находится в хорошем состоянии, но капитаны устали и некоторые, как мне кажется, меньше заняты делом, нежели изобретением причин для того, чтобы получить возможность сойти на берег. Годы идут, мы не становимся моложе, а французский флот в Тулоне так и не подает признаков готовности выйти в море и вступить в бой. Они абсолютно превосходят нас численностью кораблей, но при этом не имеют для них экипажей, в особенности после того, как Бони забрал всех опытных канониров в полевую артиллерию.
Я вполне осознаю ту честь, которую Вы оказали мне, сообщив о желании служить под моим командованием, но ранее вы столь успешно доказали свои способности командовать отдельной эскадрой, что вряд ли кто осмелится предложить Вам более скромную должность. Что же касается Средиземного моря, то мы в достаточной степени обеспечены контр-адмиралами: мой брат исполняет обязанности капитана флота, сэр Сидней Смит руководит отдельным отрядом, Кинг — мой заместитель в Сан-Жозефе, а многие другие ожидают своей возможности. В настоящее время в списке не меньше семидесяти шести контр-адмиралов. Конечно, некоторые из них уже навсегда сошли на берег, но остальные желают служить и некоторые служат неплохо. Я настоятельно прошу Вас быть терпеливым и абсолютно уверен, что прежде чем закончится эта война, Вам вновь будет предоставлена возможность проявить себя. Когда же это время настанет, никто больше меня не может быть более твердо уверен в том, что Вы с честью выполните любое порученное Вам дело. Моя собственная служба, скорее всего, близится к своему завершению, и я утешаю себя мыслью, что многие более молодые офицеры идут на смену нашему поколению, и Вы — первый среди них. Кажется, целая жизнь прошла с тех пор, как мы были соплавателями на добром старом «Неустанном» и если молодые люди, которых я помню еще мичманами, становятся Рыцарями ордена Бани, то значит, я уже старею.
Поверьте мне, дорогой сэр Горацио,
Всегда Ваш —
Эд., Пеллью.
Будучи в философском настроении, Пеллью, очевидно, припомнил очень похожее письмо, которое сам получил от лорда Нельсона в 1804 году. Первые строки письма Пеллью нужно читать в свете того, что к тому времени они с Сомарецем не разговаривали уже добрые двадцать лет. Возможно, Хорнблауэр обращался с просьбами и к другим адресатам, однако столь же безрезультатно.
Видя его нарастающее беспокойство, в мае 1813 года леди Барбара убедила его посетить Ирландию. Она как раз получила небольшое наследство в графстве Слиго, и наконец-то пришло время посетить новое поместье. Сама Барбара выросла в Ирландии, и не хотела походить на вечно отсутствующих лендлордов. Доходы с этого имения были невелики, но она все же чувствовала себя обязанной по отношению к своим арендаторам и перед самим местом. Горацио, на самом деле еще не вполне оправившийся от болезни, скорее всего, сопротивлялся доводам Барбары, желая провести сезон в Лондоне, откуда ему было удобнее донимать Адмиралтейство своим просьбами о предоставлении новой должности, но, в конце концов, заинтересовался: в новом поместье Барбары имелся настоящий замок. Даже в своих детских грезах он и не мечтал стать владельцем замка, и даже до 1811 года его планы не шли дальше возможности приобретения небольшого коттеджа. Сейчас же он и его супруга стали землевладельцами и хозяевами замка Драмклифф-Касл (таково было название замка), который был символом их положения в обществе. Он согласился, на первый взгляд — легкомысленно, на осуществление планов Барбары по посещению этого места. 9 мая они тронулись в путь вдвоем, без Ричарда. Путешествие проходило по дороге из Лондона в Бристоль, где они провели несколько дней, прежде чем 18 мая сели на пакетбот в Дублин. Оказалось, что столица Ирландии просто кишит родственниками леди Барбары и людьми, так или иначе знакомыми с ее родителями и братьями.
Сэр Горацио нанес непременный визит лорду Уитворту, лорду-лейтенанту провинции и познакомился с другим известным обитателями Дублинского замка: лордом Маннерсом, мистером Робертом Пилем и мистером Хью Фитцджеральдом. Именно во время этого визита Хорнблауэр впервые начал вникать в истоки ирландской проблемы. Их представляли ему разные люди и — в весьма разном свете. Более того, он с удивлением ощутил, что его собственные симпатии разделились: как сторонник жесткой дисциплины, он соглашался, что прежде всего необходимо поддерживать закон и порядок, без которых никакие улучшения невозможны. Как либерал в политике, он должен был согласиться, что ирландские крестьяне действительно обижены, что требовало исправления. И, наконец, как свободно мыслящий человек, он не мог найти оправданий существующему угнетению местных католиков при содействии англиканской церкви.
Впервые Хорнблауэр столкнулся с ирландской проблемой в 1799 году, когда, еще будучи лейтенантом, вынужден был участвовать в организации казни Барри Мак-Кула (см. стр. 59). Тогда у него была возможность послать на виселицу порядка пятидесяти ирландцев-заговорщиков, однако молодой лейтенант принял решение выбросить компрометирующие их бумаги за борт. Память об этом осталась с ним навсегда, и он был более, чем предрасположен слушать то, что ему будут говорить ирландцы. Еще большее воздействие на решение Хорнблауэра оказала возможность встретиться с мистером Джастисом Флетчером, тем самым, который позднее привлек к себе столько внимания своим судебным процессом в Высоком Суде графства Эксфорд в 1814 г. Именно от Флетчера Хорнблауэр впервые услышал кое-что о работе, проделанной графом Фитцуильямом в Уиклоу и маркизом Хертфордом в Антриме. К тому же ему стало абсолютно ясно, что большинство землевладельцев постоянно находятся за пределами страны, получая доход с имений, в которые они не вкладывают ни пенни. Хорнблауэр был рад объяснить при этом, что сам держит путь в Слиго, и только лишь его служба на море помешала ему посетить эти места раньше.
Хорнблауэр приехал в Слиго в первых числах июня, посетив по пути несколько сельских усадеб, и был встречен мистером Вайли, агентом, который временно управлял поместьем леди Барбары. Драмклифф-Касл стоял на скалистом мысу, далеко выдающемся в Атлантический океан, но фасадом своим был обращен в сторону берега, так что его окна выходили на устье реки, на берегах которого раскинулся город Слиго. Замок, по сути, и тогда и сейчас представлял собой остатки средневекового укрепления, часть которых условно считалась пригодной для жилья. Земли, окружающей его, было не слишком много, однако поместье включало еще несколько ферм, расположенных в глубине побережья, вдоль берегов реки. Большую часть дней в году атлантические валы с гулом разбивались о прибрежные скалы, и целые мили прибрежных земель были почти безлюдны. По сравнению с другими графствами, история Слиго не слишком изобиловала громкими событиями, возможно, в значительной мере, из-за недостатка населения. Все, что мы знаем о первом визите Хорнблауэров в те края, исходит из письма, адресованного леди Барбарой одной из своих старых подруг — миссис Фанкорт, своей соседке по Бонд-стрит в Лондоне.
Слиго, 16 июня 1813
Моя дорогая Маргарет!
Ты удивишься, какой каприз судьбы занес нас в эти отдаленные края, и как мы вообще выжили после столь долгого путешествия. После пребывания в Дублине, во время которого мы посетили старых друзей и познакомились с новыми, мы двинулись в неспешное путешествие через всю Ирландию, наслаждаясь гостеприимством всех домов, в которых пришлось останавливаться. Наш собственный замок требует ремонта и перестройки, прежде чем мы сможем даже говорить о его обстановке, однако пока мы воспользовались гостеприимством мистера Макдермотта и в настоящее время живем в доме на краю города, напротив Лодж-Гилл. Погода стоит прекрасная, но я воспользовалась одним дождливым вечером, чтобы сообщить тебе новости, которые, конечно же, покажутся тебе скучными, по сравнению с сообщениями, которые ежедневно приходят с континента. Для меня был прекрасный день, когда я услышала прекрасные новости о победе Артура в битве при Витторио, в результате которой Тиран утратил Испанию, и лишь Пиренеи пока еще ограждают Францию от неминуемого вторжения. Горацио весь извелся в ожидании новой должности, но ведь он еще не до конца избавился от последствий лихорадки, жертвой которой он едва не стал под Ригой. Эта поездка в Ирландию оказывает на него благотворное влияние, несмотря на то, что он весьма неохотно согласился принять в ней участие. Что же касается меня, то я уже почти успела позабыть, как красив этот край, с его зелеными холмами и озерами, столь непохожий на те уголки Уэстморленда, столь живописно воспетые мистером Уордсвортом. Как ты знаешь, я восхищаюсь его произведениями, равно как и лордом Байроном (его стихами, конечно же, а не характером), так что можешь меня представить уже влюбленной в эти скалистые утесы, омываемые романтическими морскими валами. Горацио говорит, что хотел бы видеть более развитое сельское хозяйство и более опрятные коттеджи для бедняков. Говоря по секрету, он романтичен не меньше меня, но специально говорит подобные вещи, чтоб меня подразнить.
Он всегда хочет казаться молчаливым, угрюмым и прозаичным — т. е. проявлять все качества прямо противоположные его истинной натуре, который знаю только я и, наверное, никто больше. Во время нашей поездки в Ирландию, он начал вести дневник, полагаю, потому что в море привык к вахтенному журналу. Он также как и я полагает, что наш агент здесь — не слишком честный человек и с нашими арендаторами обращаются нечестно. Для начала мы собираемся построить для них несколько коттеджей и хоть немного привести в порядок замок, с тем, чтобы к нашему следующему визиту в нем уже можно было бы жить. Наше возвращение назначено на июль, так что мы проведем осень в Смоллбридже, где Ричарду так нас не хватает, и где также еще многое нужно сделать. Я надеюсь удержать Горацио на берегу хотя бы до зимы, однако сомневаюсь, что мне это удастся, так как мне известно, насколько сильно он хочет сыграть свою роль в окончательном падении Тирана. Надеемся увидеть тебя снова, когда будем в Лондоне проездом, и рассказать тебе подробнее о наших путешествиях. Пожалуйста, передай мои заверения в любви своей сестре Джейн наилучшие пожелания остальным соседям — миссис Уоткинс, миссис Ниттли и старому сэру Джеймсу.
Всегда твой верный друг —
Барбара.
P.S. Помнишь ли ты мистера Бриггса, которого мы встретили у Фентонов? Я вновь встретила его в Дублине, где у него, кажется, какой-то судебный процесс. Я рада, что Софи не вышла за него.
Исследователю мучительно узнать о том, что Хорнблауэр в те дни вел дневник, так как никаких записей об этом путешествии так до сих пор и не обнаружено. О его дальнейших визитах в Ирландию, например, в 1817–1818 гг. мы знаем гораздо больше. После этого первого знакомства со своим ирландским поместьем, Хорнблауэры совершили приятное путешествие в Белфаст, а оттуда морем отплыли в Клайд. Именно здесь Горацио впервые познакомился с пароходами. «Комета» — первое судно, оснащенное паровой машиной (мощностью в три лошадиные силы) появился в Клайде еще в 1812 году, и с тех пор была организована пароходная линия между Глазго и Гриноком. «Элизабет» — более удобное, чем «Комета», паровое судно, впервые зашло в Клайд в марте, и на то время было самым популярным в городе, принимая на борт сразу сотню пассажиров. Коммерческий успех этого предприятия по-прежнему оставался сомнительным, но уже рассказывали истории про то, как однажды «Элизабет» прошла целых двадцать шесть миль всего за два с половиной часа! Конечно же, это стало возможным не без помощи ветра и попутного приливного течения, но тогда представлялось невероятным, что плавание против течения было вообще возможно. Хорнблауэр несколько раз брал билеты на пароход и много часов провел в машинном отделении. Со своей склонностью внимательно осмысливать все достижения технического прогресса он (как и Нельсон) достаточно рано оценил достоинства пара и с первого своего знакомства с ним проникся уверенностью, что паровые машины должны найти свое применение в Королевском военно-морском флоте. Он понимал, что это изобретение пришло слишком поздно, чтобы его можно было использовать в войне против Наполеона, но все же не сомневался в его важности. Хорнблауэр все же не рассчитывал увидеть паровые суда в открытом море, но все же предвидел их ценность для закрытых бухт и гаваней. Впрочем, он прожил достаточно долго, чтобы увидеть их везде, правда, с сохранившимся вспомогательным парусным вооружением.
Из Глазго Хорнблауэры продолжили свое путешествие к югу, пересекли границу и впервые посетили Озерный край. В письме из Виндермера к своей сестре Анне, Барбара пишет о яхтенной регате, победу в которой одержала шхуна «Пегги» с острова Мэн, которую для участия в этих соревнованиях перетащили в озеро по суше. «Пегги» до сих пор существует, установленная на постаменте в Кастлтауне и сегодня является главным звеном, соединяющим нас с яхтсменами той поры. Из Кендала Хорнблауэры снова двинулись к югу, к Бату, где некоторое время принимали лечебные ванны и поехали далее в Лондон и, очевидно, в Смоллбридж. Сюда они прибыли уже в начале сентября и вскоре после этого услышали о победе Наполеона под Дрезденом. Теперь уже полностью выздоровевший, Хорнблауэр снова начал просить Адмиралтейство о предоставлении ему должности. Опасаясь, что его раздражение от неудач может привести к возобновлению болезни, Барбара теперь присоединилась к его усилиям, используя свое далеко более мощное влияние на гораздо более высоком уровне. Ей отвечали, что это — только дело времени, пока освободится подходящая вакансия. Не было и речи о том, что про Хорнблауэра забыли или им пренебрегают.
Он может получить первый же линейный корабль, который будет нуждаться в смене командира. Барбара настаивала на чем-то лучшем, говоря, что именно Хорнблауэру удалось убедить пруссаков под Ригой повернуть штыки против Наполеона. С тех пор эта легенда неоднократно повторялась, правда свидетельств ее истинности было маловато. Тем не менее, вся эта история не слишком пригодилась Хорнблауэру в то время. Он не был кандидатом на дипломатический пост, он хотел командовать на море, но для большинства возможных вакансий он обладал или слишком большим, или (в большинстве случаев) недостаточно большим капитанским стажем. В последнюю неделю сентября Хорнблауэры переехали в свой дом на Бонд-стрит в Лондоне, из которого Барбара приготовилась вести бой с Адмиралтейством на короткой дистанции. Похоже, для нее не существовало преград, если речь шла о карьере ее мужа и Хорнблауэр, к счастью, очень мало знал о том, какое именно давление она приготовилась организовать на этот раз.
При всем своем мужестве и талантах, Горацио, тем не менее, вел себя как сельский сквайр, слишком гордый, чтобы просить чьей-либо благосклонности. Его же жена происходила из благородной семьи, которая выпрашивала себе подачки на протяжении последний ста лет. Как бы иначе ее дед получил титул пэра? Как бы иначе ее отец был произведен в графское достоинство? По сравнению с сельским дворянством, настоящие аристократы никогда не стеснялись просить о том, что им было нужно, и продолжали просить об этом, пока утомленная их настойчивостью власть, наконец, не давала им это. В 1813 году Уэлсли не были на пике своего влияния, ибо Ричард лишился своей должности, так как не смог сформировать правительство годом ранее. Тем не менее, у них были друзья и родственники, а зависть Ричарда к Артуру в те времена еще носила более скрытый характер. Если бы министры тех дней вознамерились бы воспрепятствовать вхождению Хорнблауэра в Палату Лордов, они бы показали бы себя лучшими из всех своих предшественников на этом посту. Небольшой риск подобного развития ситуации существовал, но гораздо более сложной задачей на текущий момент оставался поиск для Хорнблауэра командования на море. Брак, который дал Хорнблауэру влиятельных друзей, в то же время способствовал и появлению у него высокопоставленных врагов. Его следующее назначение легко могло навсегда покончить с его карьерой и есть основание полагать, что в данном случае было решено именно так и поступить. Задача, поставленная перед ним, от выполнения которой он не мог отказаться, не оставляла ему (как это предполагалось) другого выбора кроме бесчестия или смерти.
9. Пэрство
Британия во времена Хорнблауэра вплотную приблизилась к катастрофе в 1797 году, когда на флоте вспыхнул мятеж. Это был момент смертельной опасности, но ситуацию тогда спас Ричард, граф Хоув. После того, как старый адмирал убедил Парламент даровать бунтовщикам общую амнистию, ему удалось также убедить матросов вернуться к исполнению служебных обязанностей. Следующей задачей было восстановление дисциплины, и это уже выпало на долю сэра Джеймса Джервиса (графа Сен-Винсента), великого учителя флота, который за тем предстояло возглавить Нельсону. С тех пор боевой дух флота постоянно поддерживался благодаря одерживаемыми им победами. Тем не менее, уроки 1797 года не были забыты, тем более, что о существующей угрозе постоянно напоминали мелкие возмущения то на одном, то на другом корабле, управляемых жестокими офицерами.
Теперь же, в сентябре 1813 года, пришли известия о мятеже, который мог иметь весьма серьезные последствия, хотя бы в качестве примера для остальных. Команда шлюпа «Пламя» (18 пушек), несущего блокадную службу в бухте Сены, взбунтовалась против своих офицеров и захватила их в качестве заложников. Шкиперский помощник с четырьмя моряками, оставшиеся верными присяге, были отправлены на берег в гичке с ультиматумом для Адмиралтейства. Гичка достигла Бембриджа, и ультиматум попал в руки их светлостей лордов Адмиралтейства. В нем матросы обвиняли мистера Чедвика (командующего шлюпом лейтенанта) в тирании и убийстве. Письмо заканчивалось знаменательной фразой: «Мы хотим сражаться за свободу Англии и преданы ей всем сердцем, но Франция у нас с подветренного борта и мы все стоим на том, что не дадим себя повесить как мятежников. Так что если вы захотите захватить наш корабль, то мы лучше сдадим его жандармам, а сами останемся во Франции.»
Рассматривая этот документ, военные моряки из числа членов Адмиралтейского совета уже знали (или, по крайней мере, подозревали), что Чедвик был несправедливым и жестоким человеком, обойденным чином и разочарованным в службе. Его команда была просто доведена до бунта и любая другая команда, имеющая решительного лидера, на ее месте, скорее всего, сделала бы то же самое. С другой стороны, мятеж всегда оставался мятежом и был опасен уже самим своим примером. При этом, к сожалению, любая попытка захватить «Пламя» лишь подтолкнула бы мятежников искать спасения во французском порту Гавр. Сама по себе утрата шлюпа не имела особого значения, но Наполеон использовал бы это как ценный повод для пропаганды. На страницах его «Монитора», «Пламя» стало бы, по меньшей мере, фрегатом, а его сдача стала бы доказательством падения боевого духа в английском флоте. Сообщения об этом инциденте широко бы распространились и были бы использованы странами, которые могли бы (а могли бы и нет) повернуть оружие против Наполеона.
Его империя могла находиться на пороге краха, но в решающий момент напряжения всех сил не могло быть места даже для знака минутной слабости. Что же было делать? Если бы для переговоров с мятежниками был направлен адмирал, у него оставались лишь две альтернативы. Он мог предложить мятежникам амнистию, подрывая таким образом дисциплину на всем остальном флоте. С другой стороны, он мог отвергнуть их требования и бессильно наблюдать, как «Пламя» входит в Гавр под французским флагом. Появление любых превосходящих сил английского флота могло сразу же привести к этому результату, и такой же финал был неизбежен, как только на шлюпе закончились бы припасы или пресная вода. Возможность неожиданной атаки практически полностью исключалась, потому что «Пламя» находился на мелководье, откуда при малейшей опасности мог бы укрыться во французском порту. Таким образом, на первый взгляд, не существовало решения для проблемы, которая, тем не менее, должна была быть разрешена. Для этого их светлости и решили послать Хорнблауэра.
Для такого выбора было несколько поводов. Прежде всего, Хорнблауэр не был адмиралом, что делало его возможную неудачу менее значимой. Во-вторых, он был кем-то вроде популярного народного героя — тип человека, которого матросы (возможно) послушают. В-третьих же, он сам просил вернуть его на службу, а его родственники напрягали подобными просьбами всех, начиная с принца-регента — а значит, капитан просто не мог отказаться от предлагаемого ему задания.
Это был последний, жизненно важный пункт. Другие старшие офицеры, при предложении этой почти неисполнимой задачи могли сказать: «Неужели для этого нужен целый адмирал?» Другие же, менее заслуженные, всегда могли бы сослаться на свое здоровье: «О, если бы только не ревматизм, я бы с удовольствием принял это назначение…». У Хорнблауэра же возможности такой отговорки не было. Он, правда, мог отказаться принять командование отдельным кораблем, но не мог возражать против командования небольшой эскадрой. Таким образом, ему стоило предложить вновь поднять свой коммодорский брейд-вымпел над отрядом кораблей из флота Канала. Не представлялось так же вероятным, чтобы подобное назначение вызвало чью-либо зависть, поскольку по доброй воле браться за решение этой задачи никто не желал. Если бы назначенному для этого офицеру самым чудесным образом повезло, весь инцидент можно было свести к минимуму, без особых почестей победителю. Если же ему бы не повезло, то, напротив, появилась бы новая тема для обсуждения на мостиках флагманских кораблей: «Бедняга Хорнблауэр! Эта задание оказалось слишком сложным для него. В следующий раз будет вести себя скромнее. Вот что значит жениться на деньгах!» Хорнблауэр очень хорошо понимал всю опасность неудачи, но из расставленной ему мышеловки не было выхода. Он вынужден был принять предложенный ему отряд в составе одного линейного корабля, двух фрегатов и шлюпа. Первым требованием Хорнблауэра было, чтобы шлюп был того же самого тоннажа, что и «Пламя», способный пройти по любым глубинам, доступным мятежникам. Ему сразу же выделили «Порто Коэлью» (18 пушек), абсолютно однотипный «Пламени» шлюп, под командой капитана Фримена, с которым Хорнблауэр ранее служил на Балтике. Следующим требованием коммодора было наделением его всей полнотой власти принимать решения в зависимости от развития ситуации, вплоть до объявления полной амнистии — все эти полномочия были подтверждены в письменной форме. Хорнблауэру не оставили никакой возможности изменить свое решение.
Хорнблауэр покинул свой лондонский дом рано утром 13 октября 1813 года, попрощавшись с Ричардом, который как взрослый пожал ему руку и серьезно спросил: «Снова идешь в бой, папа?» Хорнблауэр не мог уверенно ответить на этот вопрос, так как до сих пор не знал в точности, что ему придется предпринять. Барбара поехала вместе с ним в Портсмут, где вечером 14 октября он поднялся на борт 74-пушечного линейного корабля «Нортумберленд» и поднял брейд-вымпел коммодора. Отплыв в ту же ночь вместе с двумя фрегатами — «Гленмор» (36 пушек) и «Цербер» (32 пушки), он почти сразу же перенес свой флаг на бриг «Порта Коэлья». Оставив остальные корабли за пределами видимости, но на расстоянии, с которого они могли бы различить сигнал вызова, Хорнблауэр направил «Порта Коэлью» в бухту Сены, где утром 16 октября и увидел «Пламя». Когда «Порта Коэлья» начала сближаться с мятежным шлюпом, он взял курс на Онфлер. Стоило «Порто Коэлье» убавить парусов, как «Пламя» следовал ее примеру. Шлюп, очевидно, предпочитал держаться вне пределов досягаемости ее бортового залпа. Хорнблауэр также не добился успеха, когда поднялся на борт «Пламени», переправившись к нему на шлюпке. Старый моряк Натаниель Свит, возглавивший мятежников, оказался хорошим командиром и уже установил контакты с французами из Гавра. Он лишь повторил Хорнблауэру ультиматум команды: Чедвик должен предстать перед трибуналом, а все матросы — амнистированы. Переговорами нельзя было достичь ничего, но практически абсолютная идентичность внешнего вида «Порто Коэльи» и «Пламени» натолкнула Хорнблауэра на одну интересную идею. Единственным отличием «Пламени» была заплата на фор-марселе, напоминающая светлый крест на более темном фоне паруса. Хорнблауэр приказал нашить подобную же заплату на фор-марсель «Порта Коэльи», сделав ее еще больше похожей на «Пламя». Абсолютной же схожести двух кораблей удалось добиться, сменив имя шлюпа, написанное на корме. Не обращая пока внимания на «Пламя», Хорнблауэр приказал Фримену вести «Порто Коэлью» в Гавр, причем офицерам было приказано укрыть свои мундиры под плащами, а команде — приветственно кричать. Вход в порт был осуществлен в вечерних сумерках 16 октября и к бригу успешно подошли сперва лоцманский люггер, а затем и катер, на борту которого собрался целый комитет по встрече перебежчиков. Столь же успешно лоцман и официальные лица были взяты в плен, а «Порта Коэлья» спустила паруса неподалеку от стоявшего на якоре французского торгового судна из Вест-Индии, которое незадолго до этого прорвало блокаду и прибыло в Гавр с грузом. В сгущающихся сумерках купец был взят на абордаж и выведен из гавани за кормой шлюпа, под аккомпанемент запоздалого и неэффективного огня береговых батарей. Таким образом, любая попытка «предательского» «Пламени» приблизиться к Гавру теперь была бы встречена артиллерийскими залпами — Хорнблауэр отрезал мятежникам все пути к отступлению.
Теперь пришел черед разобраться и с самим «Пламенем», прежде чем его команде удалось доказать французам свою невиновность. Еще перед тем, как «Порта Коэлья» начала действовать, «Пламя» было атаковано французами — люггером «Прекрасная Селестина» и четырьмя гребными канонерками. Хорнблауэр вмешался в схватку и «Порта Коэлья» потопила две канонерки, а затем сошлась борт о борт с люггером. Хорнблауэр лично возглавил абордажную партию, которая сперва захватила французский корабль, а затем бросилась на палубу «Пламени», который был быстро отбит у мятежников. Он же лично застрелил Натаниэля Свита, который бросился за борт и попытался найти спасение на одной из уцелевших французских канонерок.
К 18 октября Хорнблауэр отошел от французских берегов уже с четырьмя кораблями, вышел в точку рандеву с «Нортумберлендом» и направил рапорт главнокомандующему. Рапорт был отослан на захваченном вест-индском судне под командой лейтенанта Чедвика и заканчивался требованием подкреплений. В это время до эскадры достигли сообщения о поражении Наполеона под Лейпцигом, а один из пленных — член магистрата Гавра — сообщил Хорнблауэру, что город готов подняться против Наполеона, если горожан хорошенько воодушевить и гарантировать поддержку Людовика XVIII.
Результатом стало прибытие «Несравненного» (74 пушки) и «Камиллы» (36 пушек) с 300 морскими пехотинцами на борту, сверх положенного по штату. Командиром же «Несравненного», только что назначенным, был никто иной, как Буш — старый друг и сослуживец Хорнблауэра.
Что же касается «Пламени», то Хорнблауэр объявил амнистию всем оставшихся в живых членам его команды и разослал их для дальнейшей службы по другим кораблям эскадры, оставив и отбитый шлюп, и захваченный французский люггер в составе своего отряда под командой временно исполняющих обязанности лейтенантов. С усиленной таким образом эскадрой, Хорнблауэр вернулся к Гавру, вошел прямо в порт и был встречен как союзник. После некоторых размышлений, над цитаделью было поднято белое королевское знамя Бурбонов и Хорнблауэр принял пост губернатора Гавра. Тем не менее, вскоре он получил известие, что герцог Ангулемский — племянник Людовика XVIII — уже двинулся в путь и его должно встретить в городе с королевскими почестями. Все эти приказы были в точности исполнены, с соблюдением всех правил этикета, но факт оставался фактом — Наполеон все еще фактически правил Францией и его силы, похоже, намерены были принять по отношению к оживившимся роялистам соответствующие меры. Пришли новости о приближающейся пехотной колонне, сопровождаемой артиллерией, направленной рекой из Руана для того, чтобы отбить Гавр. Скорее ожидая подобного шага со стороны противника, Хорнблауэр принял решение встретить его на полпути, выслав в рейд десантную партию, чтобы перехватить наполеоновскую артиллерию в Кодебека. Буш принял над ней команду, и семь шлюпок, наполненных матросами и морскими пехотинцами, двинулись вверх по реке. Рейд имел успех, поскольку удалось перехватить и уничтожить весь осадный парк, однако из семи шлюпок вернулись только две и ни в одной из них не было Буша. Согласно рапортов, он, скорее всего, погиб в бою, утонув, когда его баркас пошел ко дну. Угроза Гавру со стороны Руана была устранена, к тому же из Англии продолжали прибывать войска. Затем, вместе герцогиней Ангулемской, наиболее яркой личностью из всей французской королевской семьи, в Гавр прибыла и леди Барбара, чтобы занять свое место рядом с мужем.
Эти события, как и последовавшая оккупация Руана, имели место зимой 1813–1814 гг. Весной пришли известия о новых победах, в том числе — и о той, которую одержал герцог Веллингтон (каковым вскоре стал Артур Уэлсли) на юге Франции. Наконец, в апреле 1814 г. пришло сообщение о том, что Наполеон отрекся от престола и, таким образом, война закончилась. Почти одновременно стала известна и другая поразительная новость — о том, что Хорнблауэр возведен в достоинство барона Соединенного Королевства и теперь стал лордом Хорнблауэром из Смоллбриджа, графства Кент. До тех пор практически не было прецедентов, чтобы подобные почести были оказаны кому-либо из морских офицеров званием ниже контр-адмирала, и, тем более, не принимавшему участия в каком-нибудь победоносном генеральном сражении. По всей вероятности, это стало наградой Хорнблауэру за его вклад в реставрацию Бурбонов, однако кампания по возведению его в пэрское достоинство была, очевидно, начата еще задолго до этого и подкреплялась всей мощью клана Уэлсли. Хорнблауэр ничего не знал об этом давлении и представляется сомнительным, чтобы вообще когда-либо узнал все подробности этой истории. Зато нам известно абсолютно точно, что Хорнблауэр стал членом Палаты Лордов в то же время, что и сэр Эдвард Пэллью, ныне граф Эксмут и на семнадцать лет раньше сэра Джеймса Сомареца, под командованием которого он в свое время служил на Балтике. Возвышение Хорнблауэра вызвало сильную зависть многих офицеров старших стажем и в значительной степени способствовало тому, что в период с 1816 по 1821 гг., он так больше и не командовал на море.
После высылки Наполеона на остров Эльбу союзники собрались в Париже: Людовик XVIII, русский царь, австрийский император, король Пруссии и все маршалы — от Веллингтона до Блюхера и от Платова до Нея. Когда герцог Веллингтон был назначен послом во Франции, выглядело абсолютно естественным, что он попросил оставить при себе Хорнблауэра в качестве военно-морского атташе. Это поначалу встретило всеобщую поддержку, к тому же именно тогда герцог смог впервые оценить способности леди Барбары к дипломатии. Действительно, до этого он редко виделся свою младшую сестру с 1808 года, и теперь рад был встретить в ее лице великолепную хозяйку и, на свой лад, настоящую леди — не слишком способную к языкам, но настоящего гения по части памяти на людей.
Постоянно находясь в самом центре блестящего высшего света послевоенного Парижа, леди Хорнблауэр вела себя с великолепной уверенностью, ведя на буксире своего несколько апатичного мужа. И именно здесь, среди толпы возвратившихся из изгнания роялистов-эмигрантов, лорд Хорнблауэр неожиданно встретил графа де Грасай с его невесткой, виконтессой Мари. Представляя Мари леди Барбаре, Хорнблауэр испытал некоторую неловкость, однако женщины расстались очень мило, только Барбара потом удивлялась, почему виконтесса так и не вышла замуж повторно.
В конце 1814 года начались приготовления к отъезду герцога Веллингтона из Парижа, так как он должен был занять пост британского посла в Вене, где должен был начаться мирный конгресс. Он пригласил Хорнблауэра сопровождать его, но Горацио и так уже был сыт великосветской жизнью по горло и не хотел страдать больше. Дипломатия явно была не его стихией, однако он согласился, в конце концов, что Барбара должна таки поехать, зная, как остро нуждался в ней Веллингтон как в хозяйке дома. Согласованный, наконец, план гласил, что Барбара должна ехать с герцогом, а Хорнблауэр присоединится к Ричарду в Смоллбридже. Расставание наступило в январе 1815 года, в условиях не слишком благоприятных для их дальнейшего семейного союза.
После шести недель борьбы со скукой в Смоллбридже, Хорнблауэр выехал во Францию. Подобному его поведению нет моральных оправданий, и биограф лишь немногое может добавить в пользу своего героя. Он мог считать, что его жена покинула его, предпочтя блестящую и полную удовольствий жизнь в Вене — и это было бы правдой. Но что же Мари? Что Хорнблауэр мог предложить ей? Принимая ее любовь, которой (как было ему известно) она дарила его по первому требованию, что мог он принести ей, кроме несчастья? Браун, бывший старшина его гички и теперешний слуга, также возобновил свою связь с Антуанеттой, дочерью графской поварихи Жанны, но в отличие от своего господина он мог жениться на ней, что теперь и собирался сделать.
На свадьбу собралась вся деревня. Торжество было назначено на 6 марта, а уже на следующий день пришли сообщения о том, что Бонапарт покинул остров Эльбу и высадился во Франции. Последовало множество громких и противоречивых слухов, но последние новости все же абсолютно ясно говорили о том, что Бонапарт в Париже и вновь провозгласил себя императором. Король бежал, войска перешли на сторону императора и режим Бурбонов пал.
Граф, Мари и их гости теперь явно находились в большой опасности. Было решено, что они отправятся в Рошеллье и попробуют отплыть из этого порта в Англию или Испанию — и это действительно был наиболее разумный из возможных планов. К сожалению, он так и не был выполнен. Проезжая Невер впятером (вместе с Антуанеттой), они встретили там герцогиню Ангулемскую, с которой Хорнблауэр был знаком по Гавру. Эта боевая женщина готовилась к схватке с Наполеоном и готовилась поднять против него всю Гасконь. Она назначила графа своим генерал-лейтенантом в Нивернуа, и Хорнблауэр согласился ему помочь. Так началась эта партизанская борьба в верховьях Луары: горстка роялистов против регулярных войск Наполеона. Такая игра в войну не могла продолжаться долго. После нескольких более или менее удачных стычек остатки беглецов были выслежены в лесу и, наконец, прижаты отрядом гусар к берегу Луары. Мари была убита случайным выстрелом, а остальные взяты в плен. Был собран трибунал, который быстро приговорил старого графа к смерти как бунтовщика. Следующим перед судом предстал Хорнблауэр и председательствующий в трибунале офицер, установив личность обвиняемого, представил суду вердикт, подписанный императором еще в июне 1811 года. В соответствии с этим документом, Хорнблауэр уже был приговорен к смерти за пиратство, и теперь оставалось лишь привести этот приговор в исполнение. Трибунал согласился с этим требованием и приказал расстрелять пленного на рассвете следующего дня, которым оказалось 22 июня. Случилось так, что Наполеон к тому времени уже был разбит при Ватерлоо 17-го, вести о чем и достигли ушей генерала Клозена в ночь на 22-е. В результате он принял решение не приводить двух смертных приговоров в исполнение. Хорнблауэр еще не знал, что Клозен хотел пока побольше узнать о том, как сложилась судьба Наполеона. Чуть позже генерал был извещен о вторичном отречении Наполеона, однако прошло еще некоторое время, до того как 16 июля Хорнблауэр был, наконец, освобожден — это случилось в тот самый день, когда Наполеон поднялся на борт «Беллерофона».
Вместе с графом, Брауном и Аннетой Хорнблауэр вернулся в замок Грасай. Первой заботой графа было перезахоронить тело Мари. Мы никогда не узнаем, с какими чувствами стоял Хорнблауэр над ее могилой. Очень возможно, что он винил себя в ее смерти. В том, что он винил себя во всем остальном — сомневаться не приходится. Если бы не его сумасшедший приезд во Францию, граф вместе с Мари могли спокойно переждать знаменитые «Сто дней» в своем замке. Если бы не эта безумная эскапада, Хорнблауэр мог бы даже быть в море на финальном этапе этой войны и, может быть, именно ему, а не Мэйтланду, сдался бы Наполеон.
Теперь он мог сделать для продолжения своей морской карьеры весьма немного, а для того, чтобы поправить горе, причиненное своим друзьям — совсем ничего. Вопрос состоял в том, сможет ли он возместить потери, нанесенные самому себе, своим жене и ребенку. Есть основания полагать, что старый граф знал все про любовь Мари к Хорнблауэру еще с самого начала. Но даже, если бы это было не так, правда все равно должна была выйти наружу во время последних дней пребывания Хорнблауэра в замке Грасай. В своем роде граф стал для Хорнблауэра самым близким другом, какого он когда-либо имел. Они расстались на волне полного взаимопонимания и, со стороны графа, полного прощения. Больше им уже не суждено было свидеться.
В попытках последовать за Хорнблауэром в его следующей и наиболее трудной кампании, мы должны вначале ответить на два вопроса. Первый — намеревался ли он оставить Барбару в 1814 году и начать новую жизнь вместе с Мари? Ответом должно быть, что он на самом деле не имел таких намерений. Учитывая даже, что Хорнблауэр несколько охладел к Барбаре в Париже, где она с головой окунулась в светскую жизнь, которой он терпеть не мог, он все еще был связан своей карьерой. А в Британии XIX века просто не было будущего для морского офицера, который бы открыто бросил сестру герцога Веллингтона. Не было будущего даже для офицера, который бы решил покинуть родину и поселиться со своей любовницей во Франции. Таким образом, в выборе между Барбарой и Мари весы склонялись в сторону Барбары — под всем грузом служебной репутации и общественного мнения. Второй вопрос, следующий вслед за первым, касается его корреспонденции. Писал ли он Барбаре в течение первой половины 1815 года и если да, то с каким результатом? Объяснил ли он причины, которые заставили его покинуть Смоллбридж? Что было названо им в качестве официальной цели и места путешествия? Представляется показательным, что ни одного его письма того периода не дошло до нас — возможно, и Горацио, и Барбара впоследствии не хотели воспоминаний о временном охлаждении отношений. Наш единственный ключ содержится в письме, написанном самой Барбарой из Вены ее брату Ричарду, которое опубликовано в третьем томе «Документов Уэлсли». Оно отправлено из Британского посольства 23 февраля и в его последнем предложении мы можем прочитать, что: «Горацио быстро наскучила жизнь в деревне и он принял приглашение посетить герцога Ангулемского, с которым он познакомился, когда занимал пост губернатора Гавра. Он забыл сообщить мне, в каком именно из своих замков герцог намерен его принять, но в своем следующем письме он, без сомнения, расскажет мне об этом.»
Каковым бы ни было временное охлаждение отношений между супругами, приличия все же не нарушались слишком открыто. Поверила ли Барбара всей этой истории — уже другой вопрос, но, по крайней мере, Хорнблауэр сопроводил ее объяснениями, которым его жена (при желании) вполне могла бы поверить. Это объясняло и его пребывание в Невере во время «Ста дней» — таким образом, не было поводов для публичного скандала.
Настоящая же причина разлада между Хорнблауэром и его женой была, как нам кажется, гораздо глубже, нежели несогласие по поводу слишком частых посещений светских вечеринок. Сам Горацио, достигнувший в то время возраста тридцати девяти лет, нуждался в сильной эмоциональной и сексуальной разгрузке. Барбара же, которой исполнилось тридцать четыре, была, по крайней мере на первый взгляд, более уравновешенной и даже более холодной в этом отношении.
В современной литературе мы склонны объяснять все семейные разногласия в свете научного опыта и статистических данных. Это не было принято в эпоху Регентства, веке, весьма далеком от пуританства, во время которого, тем не менее, к некоторым аспектам семейной жизни относились сдержанно. Таким образом, наши выводы о проблемах Хорнблауэров будут базироваться скорее на догадках, нежели на формальных доказательствах, относящихся к эпохе их жизни. Говоря с современной открытостью, но, возможно, с несколько меньшей развязностью, чем та, которая сейчас входит в моду, мы можем отметить, что любовь Хорнблауэра существовала как бы на двух уровнях — высоком и низком. Барбара была его (самым высоким) идеалом большой леди, тем типом высокопоставленной женщины, которую можно обожать лишь с некоторого расстояния.
С точки зрения продолжительной семейной жизни это было сильное, но скорее спокойное чувство. Сточки же зрения бурного праздника чувств, она, быть может, могла предложить Хорнблауэру гораздо меньше, нежели любая горничная или продавщица (с нижнего уровня). Если Горацио и имел слабости, которые могли бы заставить его на некоторое время забыть о супружеской верности, то они находились именно на этом, низком уровне. И если большую часть жизни его служба на море препятствовала ему в удовлетворении подобных желаний, то тем легче он подавался соблазну, когда подобные возможности представлялись ему на берегу. Ранее (например, в 1801 году) он также мог иметь любовные приключения и мы вряд ли ошибемся, если предположим, что они имели место именно на этом, нижнем (а может и на самом низком) уровне. Вспомним, что Мари была крестьянкой по рождению; достаточно хорошенькая, она давала много, а взамен не требовала практически ничего. По сравнению с ней Барбара представлялась настоящей мраморной статуей — красивой, холодной и бесконечно далекой. Между тем, это вовсе не означало, что его брак с Мари был бы удачным. У нее также были свои пределы — также, как и у него, Бог знает? — и был, по крайней мере, один важный аспект его жизни, который он никогда бы не стал с ней обсуждать, а именно — его профессиональные дела. Прежде всего он был не влюбленным, а морским офицером и в этом он оставался постоянен, несмотря на свое раздвоение в любви. Было нечто такое, что Барбара могла понять, а Мари — никогда. Счастлив тот мужчина, чей самый верхний и самый низкий уровни в любви в конце концов сходятся в одной женщине. В год Ватерлоо Хорнблауэру с этим не повезло…
Герцог Веллингтон вновь возвратился в Вену в марте 1815 года, чтобы принять командование над союзными армиями, концентрирующимися вокруг Брюсселя. Многие британцы, приехавшие на континент, также собрались в этом городе и все еще были там, когда герцог одержал свою заключительную победу. Леди Хорнблауэр не было среди них, так как было решено, что она останется в Вене. Более того, в августе она по-прежнему еще пребывала в австрийской столице, что свидетельствовало о том, что трещина между ней и Горацио была довольно глубокой. Многое ли слышала она о его приключениях во Франции? Упоминаний об этом не осталось, однако существуют некоторые косвенные свидетельства того, что и ее собственное поведение в этот период не было абсолютно безупречным. Среди британцев, оставшихся в Вене был и достопочтенный Арчибальд Хэммонд, занимавший одну из невысоких должностей при британском посольстве, чьи письма из-за границы были позднее опубликованы его племянницей, Софией Митчелл (Жизнь и письма дипломата. Автор — достопочтенный сэр Арчибальд Хэммонд, посол Ее Величества в Швеции. Лондон, 1868 г.) . В одном из таких писем, адресованном своему дяде, лорду Рейгету и датированном 4 мая 1815 года, есть следующее упоминание о Барбаре:
«Вчера я посетил Императорский оперный театр с целью увидеть (или я должен сказать — услышать?) «Свадьбу Фигаро». В антракте возник разговор о новой работе герра Людвига ван Бетховена под названием «Победа Веллингтона при Виттории», но оказалось, что никто из присутствующих ее пока не слышал, несмотря на то, что ее исполняли в Друри-Лейн в феврале прошлого года. Кстати, здесь же я случайно встретил леди Хорнблауэр, сестру Веллингтона, под руку с весьма импозантным мужчиной, которого я принял было сперва за ее мужа, капитана лорда Х. из Королевского Флота. Она только мельком поздоровалась со мной, однако я был удивлен, узнав после специального расследования, что ее провожатым был никто иной, как барон Франц Александр фон Неффер, офицер, как я понял, Венгерского кавалерийского полка. Среди дам он обладает славой известного сердцееда, а с мужем одной из них, фрау фон Х.-Б., он в прошлом году дрался на дуэли, однако ни одна из выпущенных пуль не достигла цели. Поскольку барон некоторое время назад вновь получил вызов от майора Павлоградского гусарского полка, его репутация представляется не в лучшем свете, и мне кажется, что наш посол хорошо бы сделал, если бы предупредил об этом леди Х. В тот же самый вечер я встретил полковника Херцена, который, насколько мне известно, служит адъютантом эрц-герцога Рудольфа… etc., etc».
Намек такого рода мог и не иметь под собой оснований, однако представляется, что после поспешного отъезда мужа Барбара недолго оставалась в одиночестве. Чем же еще мы можем объяснить столь долгое ее пребывание в Австрии, даже после отъезда Веллингтона? Ведь она приехала в Вену, чтобы стать хозяйкой его дома, а его отъезд должен был послужить для нее поводом вернуться к уединенной сельской жизни в Смоллбридже. Однако Барбара не сделала ничего в этом роде. Более того, она так и не увиделась с Горацио до сентября, когда они, наконец, встретились в Брюсселе. Конец же года Хорнблауэр провел в Смоллбридже, а Барбара — в Дублине, и трещина в их отношениях должна была уже стать заметной для их родственников и друзей.
Поскольку мы вынуждены судить обо всем с высоты прошедших времен, можно сделать вывод, что это был тяжелый период в жизни двух гордых людей, которым легко нанести сердечную рану, но которые долго не забывают обид.
Если бы Ричард был ребенком Барбары, он мог бы послужить связующим звеном между ними, но они были бездетной парой, и таковыми уже им было суждено остаться до конца жизни.
Путь, избранный Хорнблауэром для выхода из сложившейся ситуации, был для него типичным: он просто снова решил выйти в море. Его дела на семейном фронте шли не особо блестяще, пока он играл роль губернатора Гавра, изображал из себя дипломата в Париже или забавлялся приключениями в духе Робин Гуда под Нивернуа. Если бы он вернулся на шканцы, вновь ощутил соленые брызги на лице, он вновь стал бы самим собой — моряком и офицером. Даже после плавания, совершенного в мирное время, он бы вновь почувствовал себя чистым, готовым принять Барбару в свои объятия. Человек, которого она любила, был капитаном военно-морского флота, сходящим на берег с рассказами о пережитых приключениях и призовыми деньгами. Женщиной, которую он любил, была та, что ждала его на пирсе, счастливая оттого, что он цел и невредим, и радостная — если он получал повышение. Все было бы хорошо, если бы они могли восстановить эту старую связь — моряка и его девушки. Если таковы были его мысли — а они должны были быть такими — Хорнблауэр вновь должен был быть раздражен тем, что война закончилась. Она завершилась, когда он был на суше — дурак в окружении глупцов. Теперь он мог уже вообще никогда в жизни не получить командования на море.
Экипажи были распущены, корабли разоружены и для них также могло уже никогда не найтись службы. Ведь Хорнблауэру едва исполнилось сорок, а избранная им карьера уже практически закончена! В начале 1816 года пришли новости со Средиземного моря, где лорд Эксмут вел переговоры с берберскими державами (пиратскими республиками Северной Африки), используя, наконец, последний довод — силу. Скоро и он должен был вернуться домой, поскольку и его корабли подлежали выводу из кампании. Казалось, что будущего на флоте не остается уже ни у кого. Что же касается Барбары, то она отправилась в Дублин, с намерением затем посетить Драмклифф-Каст. В своем коротком письме, отправленном из графства Слиго, она сообщала мужу о том, что чувствует себя хорошо, но не называла даты своего возвращения.
27 июня 1816 года случилось чудо. Хорнблауэр получил то, на что, казалось бы, уже не мог рассчитывать — письмо с предложением явиться в Адмиралтейство. Он бросился на Чарринг-Кросс со всей быстротой, на которую только способны были лошади, и в очередной раз оказался в кабинете сэра Томаса Байама Мартина, члена военно-морского совета. Позднее Хорнблауэр описал этот разговор в своем письме, адресованном сэру Чарльзу Пенроузу.
Адмирал Мартин:
Я уполномочен предложить вашей лордовской светлости назначение на пост капитана флота к лорду Эксмуту.
Хорнблауэр:
Я счастлив принять это назначение, но слегка удивлен этим предложением. Брат его лордовской светлости занимает этот пост в настоящее время, и я знаю многих других соратников лорда Эксмута, которых он мог бы предпочесть моей кандидатуре. Сам же я в последний раз служил с ним еще мичманом, в 1796 году.
Адмирал Мартин:
Я знаю об этом. В своей последней экспедиции в Алжир лорд Эксмут собрал вокруг себя многих офицеров, которые ранее также служили под его флагом. Сейчас ему придется вновь посетить Алжир, но уже с другими приказами, которые делают возникновение боевых действий практически неизбежным. Зная, что его собственная жизнь будет находиться под угрозой, лорд Эксмут решил не подвергать такому же риску жизни тех, кто ему особенно близок. Ни его брат, ни его сыновья не будут в этой экспедиции. Он предполагает предстоящую операцию исключительно опасной.
Хорнблауэр:
Его друзья будут разочарованы. Кто же еще идет с ним?
Адмирал Мартин:
Адмирал Пенроуз будет заместителем командующего, вице-адмирал Милн — его вторым заместителем, капитан Брисбен будет флаг-капитаном его лордовской светлости на «Королеве Шарлотте», капитан Брэйс — с Милном на «Неприступном». Пенроуз сейчас в Средиземном море и ему приказано присоединиться к эскадре его лордовской светлости под Гибралтаром.
Хорнблауэр:
Это большая честь служить с подобными офицерами и последняя возможность побывать в бою — ведь вслед за этим может последовать десять лет мира.
Адмирал Мартин:
Скорей даже все двадцать лет, милорд. Представляете — может уже не быть ни одной битвы до самого конца наших дней.
Это последнее пророчество так и не сбылось, но Европе действительно, в большей или меньшей степени, предстояло прожить долгие годы в мире. Каждый флотский офицер горел желанием идти в поход с лордом Эксмутом, так что его трудности в вежливых отказах им почти сравнялись с теми затруднениями, которые он испытывал с заполнением вакансий на нижних палубах.
Теперь матросов ничто не удерживало на кораблях — война закончилась, и они уже хорошо знали, что мог дать им Королевский флот. Для Хорнблауэра же, чья карета мчалась к Портсмуту, вся ирония ситуации состояла в том, что его кандидатура была выбрана исходя из противного — не потому, что лорд Эксмут больше любил своего бывшего мичмана, а потому, что адмирал не хотел рисковать жизнью тех, кто был дорог ему значительно больше. Еще одним проявлением иронии судьбы было то, что Хорнблауэр, за двадцать лет действительной службы на море, ни разу не принимал участие в генеральном сражении. Насколько ему было известно, это было делом весьма обычным. В боевом строю британского флота при Трафальгаре было всего двадцать семь линейных кораблей из общего числа семидесяти двух. Моряки, которые сражались у мыса Сан-Винсент или при Абукире, представляли счастливое меньшинство, и потом гордились этим всю жизнь. И вот сейчас, в последний момент судьба подарила Хорнблауэру неожиданный шанс. Битва почти неизбежна, и он будет на палубе флагманского корабля. Если он будет убит — а это вполне могло случиться — то его проблемы с Барбарой решатся сами собой. Если же снова вернется героем, как это уже было в 1811 году, проблема также будет решена, но уже другим образом. Она не может остаться в стороне, когда все вокруг будут повторять его имя. Если же ему все-таки не суждено вернуться героем, то лучше не возвращаться вовсе.
Почему же в Алжире должна была разгореться битва? Главным фактором было то, что берберские государства, как это было известно Хорнблауэру еще с детства (см. стр. 205) и в чем ему предстояло убедиться в первые годы его морской службы (см. стр. 115), все еще жили морским грабежом и имели неприятную привычку обращать в рабов всех пленников, захваченных ими в стычках с малыми христианскими государствами Средиземноморья. Во время войн с Наполеоном британский Средиземноморский флот часто оставался без единого европейского союзника и зависел от Алжира, Туниса, Орана и других мусульманских портов в качестве источников снабжения водой и продовольствием. Пока война продолжалась, на пиратские привычки этих «союзников» приходилось смотреть сквозь пальцы. Когда же война закончилась, эти пираты стали не нужны, и на Британию оказывалось давление, чтобы навести порядок в тех водах. Англия ввела запрет на работорговлю неграми в своих владениях еще в 1807 году и спустя восемь лет настаивала, чтобы участники Венского конгресса последовали ее примеру. Однако эти «гуманные» призывы были встречены холодным вопросом: почему британская сторона столь заботится только о черных рабах? Ведь на североафриканском побережье к тому времени было достаточно и белых рабов, однако Англия до сих пор не предпринимала никаких мер для их освобождения. Если бы британцы вели себя более последовательно в этом вопросе, то, возможно, их аргументы имели бы больший вес. В результате лорду Эксмуту, главнокомандующему на Средиземном море, было поручено посетить берберские государства и организовать освобождение белых невольников. Он сделал это весной 1816 года, действуя лишь в качестве посредника в интересах государств, которые согласны были внести за своих граждан запрашиваемый выкуп. Таким образом, он посетил Алжир, Тунис и Триполи, заключив со всеми этими державами род некого договора. Затем он вернулся в Англию, и 24 июня его корабли бросили якорь на Спитхедском рейде. За его убытием из берберских государств незамедлительно последовала резня итальянских рыбаков у Боны, в Алжире. Поскольку другие европейские государства были далеко не удовлетворены заключенными договорами, английский Кабинет решил вновь направить Эксмута в Средиземное море, но уже с другими инструкциями. Ему было сказано преподать дею Алжира хороший урок — главным образом для того, чтобы произвести впечатление на представителей европейских дворов, собравшихся к тому времени в Окс-ла-Шапелье. Таким образом, решение о бомбардировке Алжира уже было принято в Лондоне и должно было быть реализовано в любом случае, даже если бы дей был абсолютно искренен в своих извинениях и представил бы этому весомые доказательства. Предстоящая операция была опасной, поскольку английским пушкам, находящимся на деревянных кораблях, должны были противостоять алжирские, установленные на каменных бастионах. Однако у Эксмута было то преимущество, что он успел предварительно детально изучить укрепления и знал все проблемы, так сказать, изнутри. Таким образом, его флот был сформирован и снабжен для выполнения вполне и заранее определенной миссии. Эксмут с самого начала знал, что будет делать. Алжирскому дею повезло гораздо меньше, так как он все еще предполагал, что находится с англичанами в более или менее мирных отношениях.
Во время назначения Хорнблауэра, лорд Эксмут все еще находился в Порстмуте, пытаясь набрать команды для своих кораблей. Хорнблауэр представился ему 3 июля и был сразу же захвачен вихрем бурной деятельности. Все, необходимое для экспедиции, должно было быть погружено на корабли в кратчайшие сроки. Лорд Эксмут оставил Хорнблауэра распоряжаться всем этим процессом, а сам вернулся в Лондон для дальнейших консультаций с лордами Кэстльро, Сидмутом и Мелвиллом.
Горацио предстояло многое сделать, и не последним в списке его обязанностей было вежливо отказывать офицерам, надеявшимся получить должность на эскадре. Все же он воспользовался своим влиянием, благодаря которому молодой мистер Хорнблауэр был принят на вакантную должность сигнального лейтенанта при штабе. Именно благодаря письму, написанному последним своему отцу, мы можем оценить всю полноту картины той деятельности, в которую с головой погрузился капитан лорд Хорнблауэр.
«Королева Шарлотта»,
Спитхед, 6-е июля, 1816
Мой дорогой сэр!
Я надеюсь, что дома у нас все хорошо и все здоровы так же, как и я сам. Я пишу это письмо с флагманского корабля лорда Эксмута, на котором он держит свой флаг с момента выхода из Бойна, и рад сообщить вам, что я назначен сигнальным лейтенантом на вакансию при штабе. Надеюсь, я не выдам никакой военной тайны, если сейчас сообщу, что мы отправляемся в Алжир, о котором вы так много могли слышать из газет, которые так громко ругали нашего адмирала за то, что в свое предыдущее пребывание в этих водах он не вступил в сражение с деем. Наш кузен Лорд Хорнблауэр назначен капитаном флота и именно благодаря ему я и занимаю свою теперешнюю должность. Это просто удивительно, сколько всего нужно сделать, прежде чем флот выйдет в море. Особое внимание уделяется пушкам, поскольку артиллерия — старый конек нашего адмирала, и все, что ее касается, отрабатывается до мелочей. Устанавливаются новые пушечные прицелы, испытываются новые карронады и вместо тросов заводятся цепные крепления. Мы также должны загрузить оборудование для ракет Конгрива, которые будут использоваться морской пехотой, и дополнительные заряды, которые пойдут на практические стрельбы. Лорд Хорнблауэр попал в свою родную стихию, и буквально разрывается между кораблями, доками и верфью, успевая при этом обнаружить любой дефект и тут же найти средство для его устранения. Он обычно весьма краток, когда отдает приказы, но все мы зато хорошо знаем, что именно следует делать, кому и когда именно. Мне придется много работать, чтобы оправдать мое новое назначение, но как раз этого я и хочу. Мои друзья по службе, которых я встретил на суше в Портсмуте, завидуют мне, потому что я буду драться в настоящей генеральной битве, а они, возможно, не будут иметь такой возможности до самого ухода в запас.
Не беспокойтесь обо мне, так как эти арабы ничего не смыслят в артиллерийском деле и чаще мажут, чем попадают в цель. Передавайте приветы от меня Пенелопе, Сарре и Джону. Как жаль, что бедняга Ровер умер почти сразу вслед за дедушкой. Мои поцелуи матушке и сестрам.
Остаюсь, мой дорогой отец,
Вашим любящим сыном —
Дж. Хорнблауэром.
Лорд Эксмут наконец отправился в путь 24 июля и зашел в Гибралтарскую бухту 9 августа. Здесь, вместо эскадры адмирала Пенроуза, он встретил пять голландских фрегатов и корвет под командованием барона ван де Капеллана, который предложил свое содействие, и чья помощь была принята. С этого времени флот лорда Эксмута составляли: «Королева Шарлотта» (100 пушек), «Неприступный» (98 пушек), «Превосходный» (74 пушки), «Минден» (74 пушки), «Альбион» (74 пушки) и «Леандр» (56 пушек), четыре британских фрегата и шесть шлюпов, четыре бомбардирских судна и пять канонерок, а также еще и голландская эскадра из шести вымпелов.
Эти силы были вполне достаточны для исполнения задания, для которого они были предназначены: оказать давление на дея, чтобы он выполнил выдвигаемые перед ним требования, уничтожить алжирский флот в его главной базе и принудить к молчанию большинство береговых батарей. 27 августа Эксмут отплыл для нанесения удара по Алжиру и огонь был открыт в три часа пополудни. Это была ужасная бомбардировка, которая продолжалась даже после захода солнца, и залпы не смолкали даже после полуночи. Флот дея был сожжен, его батареи по большей части выведены из строя, а город — засыпан ядрами и бомбами. Расход боеприпасов оказался невероятным (50 000 выстрелов за девять часов), а убитых и раненых было больше, чем в битве при Копенгагене. На следующий день дей сдался, освободил всех рабов, возвратил все деньги, полученные в качестве выкупов, и обещал более не обращать пленных в рабство. Бесспорно, это была знаменательная победа.
Место Хорнблауэра было рядом с главнокомандующим, и всю битву он провел под жестоким огнем. Нам известны лишь два эпизода в этой битве, когда ему удалось принять в ней личное участие. Первый был связан с организацией отражения снайперского обстрела флагманского корабля с оконечности одного из молов. Что касается второго, то Хорнблауэр лично поднялся на топ бизань-мачты, чтобы доложить Эксмуту об обстановке, открывавшейся поверх уровня клубов порохового дыма. Однако судьба по-прежнему хранила Хорнблауэра — за весь бой он так и не получил ни единой царапины, несмотря на то, что вокруг него падали раненые и убитые. Под его командованием также удалось организовать прикрытие отступления поврежденного «Неприступного». Эксмут отдал ему должное в своем письме, позднее опубликованном в «Газетт», но участие в алжирской битве не принесло Хорнблауэру новых отличий — возможно потому, что он и без того был достаточно награжден ранее. Он стал Командором ордена Бани, количество кавалеров которого значительно увеличилось в 1815 году, и еще долгие годы ему не суждено было получить ни одной новой награды. В отличие от него лорд Эксмут, например, стал виконтом, Милн — командором ордена Бани, шестеро капитанов получили рыцарский крест этого ордена, а большинство первых лейтенантов были произведены в капитан-лейтенанты. 5 октября флот бросил якоря на Спитхедском рейде, а 8-го лорд Эксмут спустил свой флаг, наконец сходя на берег после сорокалетней службы. Единственной наградой Хорнблауэра стало то, что Барбара приехала встречать его в Салли-порт, когда 6 октября он высадился на берег. Теперь уже не могло быть сомнений в их полном примирении. Перед тем, как отправиться в плавание, он написал ей, предупреждая о возможной битве, и она надеялась, что ее муж уцелеет, чтобы рассказать об этом сражении. Если бы он погиб, ей оставалось бы только вспоминать, как мало дала ему такого, ради чего стоило жить. Более того, она никогда не узнала бы, не поставил ли он свою жизнь на кон вполне осознанно, подобно другому, гораздо более знаменитому моряку, который сделал это в 1805 году. Ее радость от его возращения живым и невредимым была искренней и всеобъемлющей, что мы знаем из записки, которую леди Барбара переслала Хорнблауэру 5 октября — клочка бумаги, который он впоследствии бережно сохранил:
Гостиница «У Джорджа», 5 октября
Любимый мой! Ты жив — и это самое главное в мире! Я здесь вместе с Ричардом, и каждый день в течение последней недели мы вглядывались в даль, ожидая, наконец, увидеть твои паруса. Каждый день после твоего отплытия я проклинала себя за свою дурацкую гордость, из-за которой нам пришлось так надолго расстаться. Это моя вина, что я первая оставила тебя, а потом я вновь провинилась перед тобой. Если бы ты погиб, я должна была бы умереть со стыда от сознания того, как мало я сделала для тебя. Сейчас я надеюсь вымолить у тебя прощение и доказать это моей самой горячей любовью. Я обещаю это и не нарушу своего обещания, так как теперь знаю, когда и в чем мы ошиблись. Когда завтра ты сойдешь на берег, то увидишь нас в Салли-порт и убедишься, что я твоя более чем когда-либо раньше.
С любовью —
Барбара.
Нам позволительно думать, что каждый из них сильно страдал во время этой вынужденной разлуки. Хорнблауэр, похоже, все же научился кое-чему у Мари и вернулся к Барбаре с большим пониманием того, что может ей дать, а также о том, что может получить от нее. Что же касается Барбары, то мы не знаем, как развивался (и развивался ли) ее венский роман. Он мог закончиться всего лишь безобидным флиртом, но мы можем предположить — на основании всего лишь догадок — что ее венгерский барон не удовольствовался одними лишь поцелуями. Возможна она и рассчитывала исключительно на платоническую любовь, но это чувство все-таки как-то не вяжется с известной нам репутацией барона. Мы можем лишь предположить, что она сама научилась от барона большему, чем ее муж — от Мари де Грасай, и что в своей интимной жизни в 1816 году Горацио и Барбара были счастливы гораздо больше, нежели когда-либо раньше. Конечно же, в браке большой леди с мужчиной, гораздо ниже ее по социальному положению, всегда присутствует некоторая напряженность. С этой точки зрения каждый из них (на своем уровне) обрел новый опыт и не имел оснований в чем-либо упрекать другого. С этого момента им предстояло уже практически всегда жить в мире и согласии. Конечно, представляется соблазнительным завершить эту главу знаменитой фразой из старой няниной сказки: «И с тех пор они жили долго и счастливо до конца своих дней». Но это не так — ведь жизнь есть жизнь.
Если наши общие наблюдения могут послужить поводом к обобщению, то стоит заметить, что их брак, как и множество других, состоял из чреды взлетов и падений. Чем эти отношения отличаются от современных нам браков, так это некоторым несоответствием возрастных категорий. Герцогу Веллингтону при Ватерлоо было всего сорок шесть лет, а между тем эта битва знаменовала собой конец его действительной службы. Мужу его сестры Горацио Хорнблауэру в сражении с алжирским деем было сорок лет и, хотя он еще не раз выходил в плавание, ему больше никогда уже не суждено было принять участие в битве. Таким образом, для них обоих завершающий период их карьеры в роли стареющих государственных деятелей был гораздо более длительным, чем пребывание на пенсии в наши дни. Проведя на войне двадцать лет, Хорнблауэр в течение следующих сорока оставался известной в обществе персоной. В течение всего этого периода — гораздо более длительного и менее богатого событиями — Барбара была для него идеальной женой, женщиной, которая с годами сохранила свою красоту и способна была уверенно вести себя в любой обстановке. Судя по ее портретам, она, строго говоря, была в 1848 году даже более красива, чем когда-либо перед 1820-м. Комментируя же тот факт, что «несовместимость характеров» является в некоторых странах, например в Соединенных Штатах, основанием для развода, один из замечательных авторов как-то высказал свое удивление тем фактом, что он видел много счастливых супружеских союзов, но среди них не было ни одного, который можно было назвать браком двух «совместимых» людей.
В этом смысле Горацио и Барбара никогда не имели повода пожаловаться на судьбу. Но несмотря на это, они всегда были искренне преданы друг другу, при чем тем больше, чем старше они становились. Горацио Хорнблауэру часто (хоть и не всегда) везло, но особенно повезло ему в его втором браке.
10. Контр-адмирал
В мирные годы, последовавшие после битвы в Алжире, Королевский флот мог лишь немногое предложить капитану, который был возведен в пэрское достоинство еще будучи коммодором. Слишком уж много было кандидатов на крайне ограниченное количество вакансий, и Хорнблауэр не мог ожидать дальнейшего продвижения по службе ранее 1820 года, оно зависело от выхода в отставку офицеров, старших его стажем. Имеемые же вакансии, что было вполне логично, замещались флаг-офицерами. Поскольку же список офицеров флота насчитывал в 1816 году не менее семидесяти пяти адмиралов, а также немало капитанов, произведенных в свой чин ранее 1805 года, Хорнблауэр не мог рассчитывать на немедленное назначение на должность. Вследствие этого они с Барбарой выехали в 1817 году в Ирландию, где теперь нашли Драмклифф-Касл вполне пригодным к обитанию. Об их тогдашнем пребывании там мы знаем слишком мало, но все же в письмах Барбары к герцогу Веллингтону упоминается парусная лодка, на которой юный Ричард (которому тогда было шесть лет) получил свои первые уроки морской практики. Есть и другие упоминания — о пони по прозвищу Рядовой и о проекте под загадочным названием «Цитадель». Дальнейшие исследования показывают, что «Цитадель» была миниатюрной земляной крепостцой, спроектированной Горацио, чтобы научить Ричарда базовым принципам фортификации. Сам Горацио изучал эти дисциплины в детские годы (см. стр.25) и поэтому полагал, что образование Ричарда не должно отставать от его собственного. Возможным неожиданным следствием этих занятий стало то, что мальчик, похоже, стал задумываться скорее об армейской, нежели о флотской карьере. Возможно, решающим фактором послужил пони, а еще, должно быть, раннее знакомство с морской болезнью. В любом случае, выбор был вполне разумным, поскольку племянник фельдмаршала (особенно такого фельдмаршала) имел бы несравнимо более широкие перспективы в армии, нежели сын Хорнблауэра — на флоте. Некоторые следы «Цитадели» сохранились в Драмклиффе и до наших дней как память об уроках, которые пошли впрок.
Хорнблауэр уже достаточно долго находился в Ирландии, чтобы доказать свою непохожесть на других, вечно отсутствующих, лендлордов. Кроме того, эта была страна, которую они полюбили всем сердцем и для которой старались сделать все, что могли. Их имение стало миниатюрным образчиком этих намерений, так как их арендаторам было обеспечено хорошее жилье, а обрабатываемые участки защищены, где это было возможно, лесополосами. Горацио так и не приобрел привычки к охоте и был слишком нетерпелив для рыбалки, однако увлекся выращиванием растений, напоминая этим лорда Коллингвуда. А еще его зоркий глаз вовремя замечал каждую сломанную изгородь или засорившийся водосточный желоб. Что же касается самого Драмклифф-Касла, то он не вполне соответствовал своему громкому имени, так как представлял собой всего лишь дом в стиле Регентства, живописно украшенный декоративными бастионами и башенками. Зато его расположение было великолепным, с величественным видом, открывающимся на широкое устье реки и, с противоположной стороны, на громадные атлантические волны, разбивающиеся о скалы. Полюбовавшись бухтой Слиго, Хорнблауэр объездил и другие уголки Ирландии, узнавая все больше о ее людях и их проблемах.
Зная кое-что об ирландском восстании 1796–99 гг., он в первую очередь инстинктивно хотел бы видеть основной задачей правительства восстановление в стране закона и порядка. Ответственность за это была непосредственно возложена на Британию Актом о воссоединении 1800 года и Хорнблауэр, как член высшего британского законодательного органа, не любил изменников. Тем не менее, он вскоре понял, что решение ирландского вопроса гораздо более сложно, нежели простое наведение порядка. Его сложность стала еще более очевидной для него при посещении Мит-Ассиза в 1817 году. Роль, которую он играл во время посещения Трима — небольшого городка в этом графстве — была всего лишь ролью любопытного наблюдателя, приглашенного мистером Джастисом Дейли на заседание суда. Таким образом Хорнблауэру довелось присутствовать на рассмотрении дела Роджера О'Коннора, обвиняемого в разбое на большой дороге и нам известно, что этот случай произвел на него сильное впечатление.
События, которые привели к этому судебному заседанию, можно проследить вплоть до 1803 года, когда Роджер О'Коннор поселился в замке Данган (кстати, считавшемся местом рождения герцога Веллингтона, который на самом деле родился на улице Меррион в Дублине), неподалеку от Трима, неподалеку от дома, где жили Уэлсли до рождения Артура, который впоследствии стал герцогом. Этот О'Коннор, племянник виконта Лонгвилля, был хорошим другом некоего баронета и члена Парламента, чья любовная связь с известной в то время леди О. чуть не стала предметом судебного разбирательства в октябре 1812 года. Письма, которые могли послужить доказательством этой связи, были отправлены с почты Галлоуэя прямо в Королевский Совет. Об этом стало известно баронету, который убедил О'Коннора перехватить почтовую карету в пути и забрать эти компрометирующие документы. О'Коннор собрал для этого восемь человек, остановил карету, убил охранников и похитил мешки с почтой.
За эту услугу О'Коннор получил ежегодную ренту в 300 фунтов, которая выплачивалась ему до самой его смерти в 1835 году. Значительные же суммы денег в банкнотах, которые, помимо писем, содержались в мешках с почтой, были разделены им со своими подельниками. Участие О'Коннора в этом и других преступлениях было очевидно, однако никто не выдвигал против него обвинений до тех пор, пока Оуэнс, один из принимавших участие в этом грабеже (и получивший свою долю в сумме 530 фунтов), не сделал соответствующее признание в 1817 году, когда был приговорен к смертной казни уже за другое преступление.
Информация Оуэнса была занесена в протокол в присутствии полицейского магистрата, и был выписан ордер на арест О'Коннора. Он был обычным порядком арестован полицейским офицером, помощь которому оказывал отряд драгун, и поставлен перед судом. Хорнблауэр интересовался этим случаем тем больше, что Данган-Касл ранее принадлежал семье Барбары и был почти полностью уничтожен в результате пожара в 1809 году, сразу же после того, как О'Коннор застраховал его на большую сумму. У него не было сомнения в том, что О'Коннор виновен еще и в этом, а посему мог только сожалеть о том, что прокурор не назначил дополнительного расследования. К сожалению для Совета, О'Коннор был не только преступником, но еще и патриотом. Было известно, что в 1798 г. он был настолько близок к мятежникам, что даже укреплял Коннервилль для сопротивления королевским войскам. В результате и судьи, и население всей округи были на его стороне. Сэр Френсис Бардет специально прибыл на процесс из Англии, но и его влияние не имело успеха. Едва дождавшись, как мистер Джастис Дайли закончил свое обвинительное выступление, присяжные вынесли свой вердикт: «Невиновен», который был встречен громом аплодисментов и приветственными криками толпы, запрудившей улицу. Освобождение О'Коннора было расценено как политический триумф и, по существу, им действительно являлось, что, в свою очередь, в дальнейшем бросило тень на карьеру его сына, Фергюса О'Коннора (1794–1855), которому предстояло возглавить наиболее радикальную ветвь чартистов.
Не испытывая симпатии к Роджеру О'Коннору, Хорнблауэр тем не менее пришел к выводу, что ирландский вопрос нельзя рассматривать как просто антиправительственную агитацию. При этом он сомневался, удастся ли ирландцам добиться хоть слабого подобия независимости и самоуправления. Хорнблауэр полагал, что они всегда будут проигрывать в этом вопросе, так как не смогут договориться между собой. «Между ирландцами всегда буду находиться желающие предать своих соотечественников», — писал Хорнблауэр своему свояку Ричарду 7 июня 1818 года.
«Я успел узнать и полюбить ирландцев за многие их прекрасные качества — как разума, так и сердца, и не в последнюю очередь — за их ум и отвагу. Из истории о процессе над мистером О'Коннором и его оправданием вразрез со всеми нормами справедливости, можно подумать, что все ирландцы в заговоре против нас. Однако вся история их последних мятежей приводит меня к прямо противоположным выводам — о том, что они крайне редко могут доверять друг другу. Среди них был Фрэнсис Хиггинс, друг великого О'Келли, который принял тысячу фунтов стерлингов и ежегодную пенсию в 300 фунтов за предательство лорда Эдварда Фитцджеральда. (Именно этот О'Келли был владельцем знаменитого скакуна Эклипса, победителя многих скачек).
Было также и дело преподобного Уильяма Джексона, который прибыл в Ирландию для выполнения миссии, связанной с изменниками, в сопровождении мистера Кокэйна, который с самого начала был на жаловании у английского правительства. А еще был Бреннер, редактор «Evening Press», который успешно работал на обе стороны, и еще добрая дюжина ему подобных. Общество «Объединенные ирландцы» было насквозь пропитано правительственными агентами, одним из которых был сам Армстронг, а другим — клерк, составлявший списки заговорщиков. Если приобрести агентов в тайном обществе было столь легко, никакое восстание в будущем просто не может рассчитывать на успех. Среди ирландцев широко распространилось мнение, что британские министры специально провоцировали их на восстания для того, чтобы обосновать необходимость «Акта о Воссоединении», который они заранее решили реализовать. Я знаю, что эта история не может быть правдой, но ей придают правдоподобности свидетельства того влияния, которое имели наши агенты среди восставших. Из собственных осторожных исследований я начинаю понимать природу вопроса, однако не могу сказать, что близок хоть к какому-нибудь подобию правильного ответа».
Это письмо показывает, сколько размышлений Хорнблауэр уделял Ирландии, и объясняет позднейшие речи, с которыми он выступал по этому поводу в Палате Лордов. Он становился все более решительным по мере того, как его взгляды выкристаллизовывались, и особенно в те годы, когда Ричард, маркиз Уэлсли, оказывал значительное влияние на политику английского кабинета. Нельзя сказать, чтобы Хорнблауэр не уделял этому вопросу достаточного внимания.
Во время своего первого визита в Ирландию, Хорнблауэры возвращались домой через Белфаст и далее — по реке Клайд. Случилось так, что они достигли Донегалла в первую неделю июля 1819 года и 10 июля находились в десяти милях от Лондондерри. На пути им встречались деревни, окруженные войсками и пушками. На одной стороне таких поселков часто можно было наблюдать две толпы людей из числа местных жителей. Стоя поодаль, они грозили друг другу камнями и дубинками. Оказалось, что одни из них были оранжистами, которые собрались в ожидании большого ежегодного события — демонстрации 12 июля в честь знаменитой битвы при Бойне. Другая же толпа представляла римских католиков, намеревавшихся не допустить проведения этой процессии. Военные же, которых было слишком мало, очевидно были призваны предотвратить столкновение и, судя по всему, вынуждены были решать неисполнимую задачу. Горацио к тому времени видел уже немало битв, но не мог и предположить, что люди готовы к кровопролитию по столь незначительному поводу, а британские солдаты вынуждены вмешаться, используя в качестве веских аргументов боевые патроны и примкнутые штыки. Пат и Тим вновь должны были стать друзьями. Барбара же воспринимала все это лишь как дополнительную деталь из своего предыдущего опыта — не как что-либо, виденное ею ранее, но как нечто, знакомое ею еще по рассказам няни в детские годы.
Почему люди должны быть столь возбуждены неким событием, произошедшим в 1690 году? — это было для Горацио загадкой, которую он вновь и вновь пытался решить при виде очередной предотвращенной бойни. Ему предстояло еще многое узнать об ирландцах, чтобы понять их.
Во время своего второго посещения Клайда (в августе 1819 г.) Хорнблауэр встретился со строителем «Кометы», мистером Джоном Вудом (Это был мистер Джон Вуд младший (1788–1860). Старший, его отец, умер в 1811 г.), который как раз в эти годы планировал строительство парохода «Джеймс Уатт», спущенного на воду в 1822 году и оснащенного машинами, созданными в Бирмингеме компанией Болтона и Уатта. Мистеру Вуду предстояло всего построить тридцать три речных парохода, не считая парусных судов, и именно он позднее возглавил сооружение знаменитой «Акадии» для Сэмюэля Кунарда. Из писем Хорнблауэра того времени становится ясным, что из всех изобретений он более всего интересовался паровым буксиром. Первое из подобных судов так и было названо — «Буксир», и было построено в 1817 году для каботажной торговли, однако (оказавшись для этого слишком неподходящим) позднее использовалось для буксировки других судов. Этот опыт побудил «Уильям Денни & Co» к сооружению 53-тонного «Самсона» в Думбартоне, с двумя паровыми машинами мощностью не менее 24 лошадиных сил каждая. Судя по всему, Хорнблауэр видел окончание его строительства и понял, насколько полезным может стать подобное судно (скажем) в Портсмуте. Он также понял и особо подчеркивал, что паровой буксир мог бы оказать неоценимую помощь в битве при Алжире — например, для вывода обездвиженного штилем «Неприступного» из опасного положения, в которое его завел капитан Милн. Любопытно заметить, что правильность этой точки зрения убедительно доказали французы при захвате Алжира в 1830 году. При этом в распоряжении их флота было не менее семи паровых буксиров (один из них «Сфинкс» водоизмещением 780 тонн) и, в значительной мере, именно благодаря им был достигнут общий успех этой операции.
Хорнблауэры вернулись домой в Кент в 1819 году и приблизительно в то же самое время решили, что Смоллбридж-Мэнор уже недостаточно солиден и величественен для пэра Соединенного Королевства. После рассмотрения ряда предложений о покупке недвижимости, они в конце концов приобрели Боксли-Хаус, по другую сторону Мэйдстона, не продавая, однако, Мэйдстона, который в связи с этим был заново меблирован для генерала Грабтри, ветерана войны на Пиренейском полуострове. Со вступлением во владение Боксли-Хаус возникли некоторые задержки, и Хорнблауэр так и не поселился в нем до своего возвращения из Вест-Индии в 1823 году. Боксли-Хаус существует и сегодня.
Боксли-хаус, со старой фотографии, принадлежащей теперешнему владельцу поместья
Его можно увидеть неподалеку от деревушки Боксли, что лежит в двух с половиной милях от Мэйдстона. С моря она защищена отмелями Северного Даунса, и от нее удобно добираться в Чатем. Боксли упоминается в «Книге страшного суда» как поместье, принадлежащее епископу Байи. В 1189 оно было передано Ричардом Львиное Сердце ордену цистерцианцев, которые построили здесь аббатство. Оно, в свою очередь, во время Реформации перешло сэру Томасу Уитту или Уотту (1503?-1542), уроженцу Йоркшира, который в 1492 купил замок Эллингтон. Уотты потеряли это поместье, когда молодой сэр Томас (1521?-1554) был казнен за измену, однако позднее вернули себе его часть во время правления королевы Елизаветы I. Усадьба, таким образом, перешла сэру Френсису Уотту, который одно время был губернатором Виргинии. От него усадьба и аббатство перешли к леди Сельярд, но Эдвин Уотт, адвокат, провел против нее удачный судебный процесс, в результате которого получил часть этого поместья.
Ее составили земли за церковью и старый дом, который, согласно преданиям, принадлежал Томасу Викари (умер в 1561) — личному врачу Генриха VIII. Этот дом и назывался Боксли-Хаус, в отличие от аббатства Боксли. Он оставался во владении Эдвина до самой смерти последнего в 1714 (в возрасте 85). Ясно, что Эдвин перестроил некоторые части Боксли-Хауса и соорудил несколько пристроек в стиле XVII века, которые сохранились и до наших дней. Ему наследовал Френсис, который не оставил потомства, и недвижимость перешла его брату, Ричарду, который также был бездетным. Его наследник, лорд Ромни, никогда здесь не жил, а сдавал недвижимость в аренду, а позднее продал ее мистеру Стайлсу, который добавил дому окна в георгианском стиле и успел несколько обновить интерьер перед самой своей смертью в 1818 году. Затем это поместье было выставлено на продажу и куплено лордом Хорнблауэром, в семье которого оно и оставалось до 1953 года. В этом году шестой виконт Хорнблауэр продал эту недвижимость одному из фермеров, вскоре после смерти которого дом и прилегающий к нему 20-акровый парк были приобретены его современным владельцем, мистером Нолденом, который восстановил здание и переоборудовал его под «Сельский клуб Боксли-Хаус», оснащенный плавательным бассейном, баром и рестораном. За исключением этих современных пристроек, снаружи Боксли-Хаус выглядит почти в точности так, как в те времена, когда в нем жил Горацио Хорнблауэр — дом 17-го века с некоторыми добавками в георгианском стиле. Заброшенные в течение долгих лет, сегодня дом и парк находятся в хороших руках, доставляя удовольствие как членам клуба, так и другим посетителям. Времена больших сельских усадеб, судя по всему, миновали, но Боксли-Хаус гордится своей новой ролью, а про самого Хорнблауэра также не забывают ни хозяин, ни его гости.
Проживая в Боксли-Хаус, Хорнблауэр время от времени навещал верфь в Чатеме. Таким образом он мог поддерживать связь с Военно-морским флотом, а заодно обмениваться мнениями о значении энергии пара в морском деле. Как мы уже видели, его собственное мнение по этому вопросу было прогрессивным, но других старших офицеров достаточно сильно тревожили сильная вибрация и опасность возгорания.
Карта Кента, показывающая взаиморасположение Боксли-Хауз и Королевской Военно-морской верфи в Чатеме
Другой темой его бесед с адмиралом — начальником верфи было фехтование. Хорнблауэр брал уроки этого искусства, вначале — только в качестве физических упражнений, но затем всерьез заинтересовался математической стороной дела. В то время как на флоте преимущественно использовались палаши — рубящее оружие по своей сути, обладатель легкой шпаги гораздо больше рассчитывал на острие. Хорнблауэр же утверждал, что превосходство острия является всего лишь вопросом прикладной геометрии. Конец клинка, отмечал он, идет к своей цели кратчайшим путем. Однажды после обеда, во время которого проходила очередная дискуссия по этому вопросу, Хорнблауэр уже в сумерках возвращался в гостиницу, где он остановился на ночь. Его путь пролегал по достаточно грязным улочкам неподалеку от входа на верфь, в одной из которых на него неожиданно напал нищий, вооруженный дубинкой. Единственным оружием Хорнблауэра была трость, но он все же на практике продемонстрировал принцип, который незадолго до этого защищал в споре. Он сделал классический выпад, и конец его трости угодил прямо в горло бродяге. Затем противник Хорнблауэра был быстро обезоружен и рисковал быть повешенным за свое нападение. Однако Хорнблауэр решил иначе и попросил коменданта верфи зачислить бродягу на сторожевой корабль. Рассказывая эту историю в последствии, Хорнблауэр всегда особо подчеркивал преимущества острия над лезвием клинка.
В феврале 1821 Хорнблауэр был наконец произведен в контр-адмиралы Синей эскадры. Это стало возможным только в результате смерти старших его стажем в капитанском списке. Поскольку он все же получил свой флаг, в интересах Уэллсли было обеспечить ему командование на море. Хорнблауэр был назначен главнокомандующим в Вест-Индии и 12 марта поднял свой адмиральский флаг на фрегате «Феба» в Плимуте. Этот фрегат, вместе с двумя другим — «Клориндой» и «Оленем», а также четырнадцать малых судов (шлюпов, шхун и т. д.) и составляли всю его эскадру. Это был не очень удобный флагманский корабль, но зато главнокомандующий располагал собственной резиденцией — Адмиралтейским домом в Кингстоне, на Ямайке.
Адмиралтейский дом в Кингстоне, Ямайка, с фотографии 1910 г.
Вначале предполагалось, что Барбара сразу присоединится к нему, но позднее она отказалась как покинуть Ричарда, так и взять его с собой. Она слишком хорошо знала о желтой лихорадке, распространенной в Вест-Индии и к тому же не хотела прерывать обучение Ричарда в школе. В результате ее приезд на Ямайку все время откладывался и, в конце концов, осуществился только в самом конце трехлетнего периода службы там Горацио. Некоторые из родственников Барбары могли подумать, что отношения супругов несколько охладели, однако на самом деле она в этот период столкнулась с дилеммой, перед которой оказываются тысячи англичанок каждого поколения — следовать за мужем или оставаться с детьми. Случай Барбары был особым, так как в дополнение всех сложностей, в семье был только один ребенок, а она, к тому же, не была его матерью.
Тем не менее, как это следует из переписки, Барбара была Ричарду преданной матерью, особенно после 1816 года и буквально разрывалась между своим мужем и пасынком. Соглашаясь на то, что Ричард оставался в Англии, Хорнблауэр более всего учитывал тот факт, что это — его единственный наследник. Барбаре, все еще бездетной в 1821 году (в возрасте сорока лет), судя по всему, так и суждено было не иметь детей. Тем не менее, подобные переживания не помешали Горацио взять с собой в Вест-Индию своего юного кузена, и молодой Джонатан Хорнблауэр был, таким образом, назначен третьим лейтенантом «Оленя». Но ведь Джонатану не суждено было унаследовать пэрство и поместья — от знаменитого родственника ему досталось лишь имя.
Вскоре Хорнблауэру пришлось убедиться, что его пост в Вест-Индии отнюдь не являлся синекурой. Испанские колонии в Южной Америке были на пороге победы в своей войне за независимость, со всеми проблемами, которые могли из этого проистечь. Работорговля, теперь уже поставленная вне закона, все еще существовала. Всякого рода странные личности, наводнявшие Вест-Индию, хватались за любой сомнительный бизнес — от контрабанды оружием до настоящего пиратства. Победа над ними не могла принести особой славы, зато сам процесс борьбы изобиловал возможностями для создания международного скандала. Первой серьезной проблемой стал 800-тонный шлюп «Дерзкий», который был построен во время войны 1812 года в качестве капера, а сейчас был зафрахтован в Нью-Орлеане наполеоновским генералом, графом Камбронном, который командовал Старой Гвардией при Ватерлоо. Официальным намерением графа была перевозка на родину пяти сотен бывших французских гвардейцев, которые ранее предприняли попытку основать колонию сперва в Техасе, а затем — на территории Мексики. Попытки колонизации провалились, и выглядело вполне естественным, что оставшиеся в живых собираются вернуться на родину. Однако генерального консула Британии беспокоило то, что Камбронн на самом деле мог иметь совсем иной пункт назначения. Консул поделился своими сомнениями с Хорнблауэром, который прибыл в Нью-Орлеан в мае 1821 года на шхуне «Краб». Вечером Хорнблауэр встретился с Камбронном на обеде у генерального консула, но французский генерал, извинившись, покинул прием довольно рано. Когда же обед закончился, Хорнблауэр обнаружил, что «Дерзкий» спешно отплыл. Наблюдатели, следившие за ним, доложили, что в последний момент на шлюп были загружены мушкеты и мундиры. Свой человеческий груз «Дерзкий» должен был принять на борт у побережья Мексики, а затем мог плыть под американским флагом в любое место, выбранное Камбронном. Пока Хорнблауэр шел на «Крабе» вниз по реке, он вычислил настоящий порт назначения шлюпа. Камбронн намеревался отправиться на остров Святой Елены и спасти Наполеона, который, в свою очередь, снова сверг бы Бурбонов с французского престола. Действуя в соответствии с этим предположением, Хорнблауэр приказал Харткоту, командиру «Краба», вести шхуну в пролив Тобаго, в точку, где можно было перехватить любой корабль, следующий курсом от мексиканского побережья к острову Св. Елены. Благодаря удачному стечению обстоятельств, «Крабу» удалось прибыть в пролив Тобаго, опередив «Дерзкого», и Хорнблауэру удалось подняться на борт американского судна и убедиться, что его первоначальная догадка была верна. Идея с перехватом была хорошим ходом, так как «Краб» значительно уступал «Дерзкому» в скорости. У Хорнблауэра не было доказательств, что Камбронн планировал какой-либо враждебный акт, и даже того, что на борту зафрахтованного им судна было пятьсот вооруженных людей. Однако если истинная цель Камбронна была определена верно, что мог поделать маленький «Краб» со своими шестифунтовками против дюжины 12-фунтовых орудий, установленных на «Дерзком»? Что могли шестнадцать человек его экипажа поделать с пятью сотнями французов? Приняв трудное и рискованное решение, Хорнблауэр уведомил Камбронна, что Наполеон скончался, и официальное известие об этом доставлено в Порт-оф-Спейн на острове Тринидад. «Краб» мог бы зайти в этот порт два дня назад, но не стал этого делать из-за недостатка времени. Хорнблауэр сознательно солгал и подкрепил свою ложь, дав слово чести, так как знал, что не может иным образом помешать нежелательному развитию ситуации. Камбронн поверил ему и приказал американскому капитану следовать во Францию. Затем Хорнблауэр привел «Краб» в Порт-оф-Спейн, где узнал, что Наполеон действительно умер на Святой Елене пятого мая. Это, судя по всему, принесло огромное облегчение адмиралу, который терзался муками совести за свой вынужденный обман. Много лет спустя он рассказывал своему сыну, что это было наиболее трудным решением, которое ему суждено было когда-либо принимать.
Рассматривая описанный случай теперь, может показаться, что Хорнблауэр несколько преувеличивал грозящую опасность. «Дерзкий», даже с пятью сотнями бойцов Камбронна, все равно не смог бы спасти Наполеона. Воды вокруг Святой Елены регулярно патрулировались военными кораблями, и ни одному подозрительному судну не позволили бы даже приблизиться к острову, а не то что бросить якорь на рейде.
Когда в 1816 году американский корабль «Уилвуд» приблизился к Джеймстауну, он сразу же был взят на абордаж шлюпками с брига Его Королевского Величества «Юлия», а при попытке перейти в более укрытое место стоянке, перед его носом тут же легли ядра, точно выпущенные с береговых батарей (см. «Святая Елена», Филип Госс, Лондон, 1938 г., стр.272–274). Так что в бдительности английского военно-морского флота сомневаться не приходилось. Но даже если бы ветеранам Камбронна удалось бы высадиться на берег, то перед ними, измученными морской болезнью, предстали бы четыре батальона отборной британской пехоты, поддерживаемые артиллерийской бригадой. При данных обстоятельствах трудно представить себе, что Наполеону удалось бы бежать с острова. Его вряд ли бы могли спасти из заточения столь малые силы, какими располагал Камбронн. Более того, представляется сомнительным, чтобы такая попытка вообще могла быть им предпринята. Если Хорнблауэр и воспринял все это так серьезно, то, наверное, лишь потому, что мог слышать о подобном заговоре в Ирландии. О Леди О. — той самой, из-за которой О'Коннор ограбил дилижанс с Галлоуэйской почтой (см. стр. 208), которая была умной и красивой женщиной, говорили, что она планировала бегство Наполеона вместе с леди Холланд. Правдивы ли были эти слухи или нет, но Хорнблауэр явно их слышал и вполне мог поверить в реальность подобных замыслов.
Одной из повседневных обязанностей Главнокомандующего силами флота Его Величества в Вест-Индии было противодействие работорговле. Британским кораблям и судам было запрещено заниматься этим бизнесом известным Актом от 1807 года и другие страны медленно и неохотно, но все же вынуждены были последовать британскому примеру. В 1821 году испанское правительство подписало предварительную конвенцию, которая разрешала британскому флоту задерживать суда работорговцев в открытом море, но лишь за пределами испанских территориальных вод. По итогам сложных переговоров было установлено, что подобные суда будут арестовываться в портах местными властями. Между тем, торговцы «черным мясом» старались как можно быстрее перевезти наибольшее количество своего «товара», так как цены на него быстро возрастали из-за приближения дня полного запрета. За каждого невольника, освобожденного в открытом море, военный корабль получал по пять фунтов стерлингов — вполне приличные деньги в условиях мирного времени, когда о других призовых не могло быть и речи. Хорнблауэр использовал часть своей эскадры для того, чтобы перехватывать суда работорговцев, а сам поднял флаг на «Клоринде», под командой весьма посредственного офицера, сэра Томаса Фелла. Самый крупный рынок рабов в те времена располагался в Гаване, но испанские торговцы, идущие из Африки, обычно прежде подходили к берегу в районе Пуэрто-Рико, принимая здесь воду и, при случае, продавая некоторую часть рабов. В декабре 1822 «Клоринда» как раз находилась на подступах к Пуэрто-Рико, когда с нее заметили верхушки парусов крупной шхуны. Чуть позже судно было идентифицировано как «Эстрелла дель Сюр» («Звезда Юга»), работорговец, который мог принимать на борт по четыре тысячи рабов в каждый рейс. «Эстрелла» легко ускользнула от преследования «Клоринды», которая значительно уступала ей в скорости, и достигла порта Сан-Хуан, где бросила якорь под защитой береговых батарей. «Клоринда» последовала за ней, однако ничего не могла предпринять, и Хорнблауэр воспользовался случаем, чтобы нанести официальный визит испанскому капитан-генералу. На встрече его поставили в известность, что «Эстрелла» отплывает в Гавану ранним утром следующего дня. Там же, во время приема на берегу, Хорнблауэр встретил Гомеса, капитана работорговца и сообщил ему, что «Клоринда» выйдет в море с тем же приливом. Поскольку «Эстрелла» наверняка будет далеко впереди ко времени пересечения границ территориальных вод, ее капитан мог быть вполне доволен складывающейся ситуацией, так как был уверен в том, что его судно сможет в любом случае оторваться от преследователя.
Пока на берегу шел прием, вокруг «Клоринды» курсировала патрульная шлюпка, а помощники парусного мастера изо всех сил трудились, сшивая запасной парус в виде гигантской воронки, по горлышку которой была вставлена цепь. Это приспособление — плавучий якорь — было сделано по приказу сэра Томаса Фелла, а затем, когда он вместе с Хорнблауэром вновь вернулись на борт, патрульная шлюпка под командой лейтенанта тихо подошла к корме «Эстреллы», а двое пловцов незаметно прикрепили конец цепи к одной из нижних петель ее руля. Теперь оставалось только закрепить конец воронки плавучего якоря тонким концом, чтобы сделать ее незаметной и ослабить его действие в начальный момент, когда «Эстрелла» будет выходить из гавани. Расчет был на то, что позже, когда работорговец будет уже на кромке территориальных вод и наберет скорость, страховочный конец разорвется, приводя в действие плавучий якорь. Операция была в точности выполнена под покровом темноты и не была обнаружена на работорговце. «Эстрелла» вышла в море с первыми лучами солнца, а фрегат последовал за ней на расстоянии мили. Оба корабля вначале двигались под действием берегового бриза, который стих с восходом солнца. Затем паруса поймали ветер, господствующий в этих широтах в декабре, и работорговец настолько увеличил дистанцию, что к полудню над горизонтом были видны только его паруса. Затем наступил момент, когда «Эстрелле» понадобилось изменить курс, и она поставила свои брамсели и бом-брамсели. Минутой позже судно ощутило столь мощный рывок, что его фок-мачта свалилась за борт. Все дело было в плавучем якоре, который был закреплен на ее руле, о чем, правда в этот момент знали только на преследовавшем их британском фрегате. Даже после того, как абордажная партия поднялась на борт «Эстреллы», на которой было обнаружено более трех сотен рабов, Гомес так и не мог понять, какую же шутку с ним сыграли. Об этом не было ни слова и рапортах, написанных капитаном Феллом и Хорнблауэром. Наиболее же трудным для Хорнблауэра было отдать все заслуги по захвату «Эстреллы» капитану «Клоринды», при том, что весь замысел операции был его собственным, а идею по его осуществлению подбросил Феллу секретарь адмирала Спендлоу (по указанию самого Хорнблауэра). Позднее капитан Фелл представил весь план Хорнблауэру как свой собственный и, похоже, в конце концов и сам уверился в том, что так оно на самом деле и есть. Хорнблауэр никогда не забывал отдавать должное действиям тех, чьи карьеры так или иначе зависят от его мнения. Сам же он в особых рекомендациях не нуждался, так как служба в эскадре была поставлена хорошо, и пиратство с контрабандой в зоне его ответственности сведены к минимуму.
Приблизительно в то же время пиратский шлюп «Цветок», один из последних осколков былой мощи «джентльменов удачи», был загнан патрульными кораблями на берег в районе устья реки Свит, его капитан убит в бою, а команде, временно оставшейся без предводителя, удалось ускользнуть от охоты армейского отряда, посланного по их следам. Даже, если бандитам и удалось бы выжить, опасности для морской торговли и судоходства в целом они уже не представляли, а значит, приказы Адмиралтейства были выполнены.
В начале 1822 года, Хорнблауэр пребывал в Доме Адмиралтейства на Ямайке и по мере сил принимал участие в светской жизни острова. Во время одного из подобных мероприятий — бала, который был дан самым богатым плантатором Ямайки, мистером Хогом — случилось нечто поразительное. Сам адмирал и его секретарь мистер Спендлоу были похищены в саду шайкой отчаянных головорезов, которые привезли их верхом на мулах в свое убежище — пещеру, вырубленную на вершине почти отвесной скалы, подножье которой омывала река. Добраться в эту пещеру можно было лишь по веревочной лестнице, которую сбрасывали со скалы. Когда наступило утро, Хорнблауэр обнаружил, что они стали узниками бандитов, спрятанными в практически недоступном месте, всего в нескольких милях от Кингстона, но с прекрасным видом на залив Монтегю. Очевидно, они находились в самом сердце «Кокпита» — своеобразного убежища всех отбросов общества, которое британцы все еще не успели взять под эффективный контроль. Затем он понял, что его похитители составляют остатки экипажа «Цветка», людей, загнанных в угол, чьим ответным ходом стал захват адмирала и его секретаря в надежде на выкуп. Вначале они хотели, чтобы Хорнблауэр, в обмен на сохранение жизни, написал губернатору письмо с просьбой о полной амнистии для всех пиратов. Однако выяснилось, что ни один из «джентльменов удачи» не сумеет прочесть написанное Хорнблауэром. Тогда предводитель бандитов, которого звали Джонсон, изменил свой план и решил освободить Хорнблауэра, оставив Спедлоу в качестве заложника — очевидно полагая, что адмирал употребит все свое влияние на губернатора, чтобы сохранить жизнь своему секретарю. Когда Хорнблауэр добрался до правительственной резиденции, он нашел что губернатор, сэр Огастес Купер, решительно против любой идеи о переговорах с мятежниками. К счастью, на следующий день, незадолго до завтрака, прибыл и сам Спендлоу, которому удалось спастись, прыгнув в реку с высоты шестидесяти футов, которые он пролетел в полной темноте, и затем добравшись до залива Монтегю. Там Спендлоу одолжили лошадь, на которой он и добрался до Кингстона. Теперь у Хорнблауэра были развязаны руки, чтобы разобраться с пиратами и губернатор согласился поручить эту задачу Флоту.
Хорнблауэр сразу оправился на верфь, где приказал приготовить два понтона и прислать их на борт «Клоринды» вместе со шлюпочной мортирой, двумя сотнями бомб к ней и соответствующим числом зарядов. Фрегат отплыл перед заходом солнца и перед рассветом уже бросил якорь в бухте Монтегю. Десантная партия сошла на берег вместе со Спендлоу, который играл роль проводника. Морские пехотинцы шли за ним в качестве авангарда, а следом двигались паромы с мортирами и боеприпасами, которые тащили матросы. Всякий раз, когда понтоны садились на мель, матросы сооружали импровизированные плотины, которые позволяли протащить груз до очередного порога на реке. Вот так, в непрерывных трудах, десантная партия наконец добралась к пиратскому логову около полудня, и остановилась на расстоянии мушкетного выстрела от него. Мортиру установили на позиции и после того, как канониры пристрелялись, две удачно выпущенные бомбы одна за другой разорвались у самого входа в пещеру. Немногие выжившие были взяты в плен и позднее повешены после заседания суда. Небольшая военная операция закончилась и, таким образом, пиратская деятельность в водах Ямайки была прекращена. Это было тем лучше, что срок службы Хорнблауэра на посту главнокомандующего силами флота Его Величества в Вест-Индии подходил к концу. Более того, был уже названо имя его преемника. Им стал контр-адмирал Генри Рэнсом, кавалер ордена Бани, который должен был прибыть на Ямайку осенью 1823 года. Делом чести Хорнблауэра было оставить все дела в полном порядке, а деятельность его была столь успешна, что купцы Ямайки преподнесли ему ценный сервиз в знак своей признательности за его вклад в защиту торговли. Сервиз меньшего размера был вручен ими мистеру Спендлоу, который, конечно же, также заслужил этот подарок.
Наиболее интересным событием 1823 года стало прибытие в Вест-Индию брига «Невеста Абидоса», под флагом Королевского Яхтенного Клуба и командой владельца, мистера Чарльза Рамсботтома, который предъявил рекомендательные письма от лорда Ливерпуля, епископа Уилберфорса и, что было еще более важно — от леди Хорнблауэр. Из них следовало, что отец мистера Рамсботтома нажил значительное состояние на йоркширской шерсти и контрактах на поставку обмундирования для армии. Богатство, унаследованное его сыном, было столь велико, что он стал вращаться в кругах избранного общества и превратил в яхту бриг «Невеста Абидоса», купленный им у Военно-морского флота. Корабль был вооружен и обеспечен командой так же, как если бы он находился на королевской службе, но с долей дополнительных удобств и даже роскоши для удовлетворения запросов его богатого владельца. Сперва несколько предубежденный против мистера Рамсботтома, Хорнблауэр тем не менее пригласил его на обед, на котором гость произвел на него приятное впечатление. Приглашенный, в свою очередь, на прием, организованный на борту яхты, с губернатором Ямайки в качестве одного из почетных гостей, Хорнблауэр получил искреннее наслаждение от изысканного обеда, во время которого разговор за столом все время вращался вокруг гражданской войны в Венесуэле. Испанцы пытались восстановить контроль над этой страной, которая была охвачена революцией. Контроль над побережьем им в целом удалось восстановить, однако приходили вести о восстании в Маракайбо и о том, что вождь восставших — Боливар — пытается пробиться к морю. В разговоре выяснилось, что мать Рамсботтома по происхождению венесулка. Однако он отрицал какую-либо заинтересованность в южно-американских событиях и подчеркивал, что маршрут его круиза не предусматривает путешествий вглубь материка. Его бриг покинул Ямайку двумя днями спустя, а еще через сутки Хорнблауэр вывел свою эскадру в море для проведения учений. Когда же Хорнблауэр вновь вернулся в Кингстон, губернатор направил ему запрос: кто предоставил адмиралу полномочия блокировать подходы к побережью Венесуэлы? Хорнблауэр кратко ответил, что находился более чем в пятистах милях от него. Ему были представлены испанский и голландский офицеры, которые подтвердили, что морскую блокаду Венесуэлы несет корабль британского военно-морского флота, а именно — бриг «Отчаянный». Поскольку такого корабля не было в составе Вест-Индской эскадры, Хорнблауэр без особого труда установил, что речь идет о «яхте» Рамсботтома. Затем ему сообщили, что «Отчаянный» захватил голландское судно «Хелмонд» с грузом пушек для испанской армии: две батареи полевой артиллерии, которые наверняка теперь уже попали в руки Боливара, чьи войска шли на Каракас. Таким образом, судьба Венесуэлы должна была вот-вот решиться. Хорнблауэр решил тотчас же отплыть в Ла-Гуару, порт неподалеку от Каракаса, и «Клоринда» вышла в море следующим утром. В Ла-Гуаре Хорнблауэр узнал, что под Пуэрто-Кабельо, судя по всему, идет отчаянная битва и что «Отчаянный» двинулся в том же направлении. Когда Хорнблауэр прибыл туда, то со стороны суши слышалась канонада, а неподалеку от берега он увидел стоящие на якоре «Отчаянный» и «Хелмонд». На первом почти не было людей, поскольку Рамсботтом (которого теперь именовали адмиралом) забрал всю команду на берег. Голландский капитан вместе с командой был на борту «Хелмонда», и Хорнблауэр сообщил им, что они свободны и могут следовать куда угодно. Что же касается «Невесты Абидоса», то она была захвачена, а на борт ее высажена призовая команда. Высадившись на берег в Пуэрто-Кабельо, Хорнблауэр обнаружил, что битва уже закончилась. Вскоре он увидел несколько батарей полевой артиллерии и с ними Рамсботтома, смертельно раненного.
Хорнблауэр уже ничего не мог для него сделать, к тому же на горизонте показались паруса двух неизвестных судов, поэтому адмиралу пришлось вернуться на «Клоринду» и приказать сэру Томасу приготовить корабль к бою. Неизвестные корабли оказались двумя фрегатами — испанским и голландским, но Хорнблауэр не собирался отдавать «Отчаянного» ни одному из них. С точки зрения права ситуация была невообразимо сложной и ее решение зависело не столько от решения суда, сколько от того, чьими интересами он будет руководствоваться. Как всегда предусмотрительный, Хорнблауэр не стал делать резких движений, а просто постарался избежать дальнейших осложнений. Что касается Рамсботтома, то его выступление на стороне Боливара можно было признать удачным и пушки, которые он выгрузил на берег, перевесили чашу весов, превратив поражение в победу. В этой и других южно-американских революциях симпатии британского правительства всегда были на стороне повстанцев. Хорнблауэр должен был подумать о том, что ему лучше смотреть на дела «Невесты Абидоса» сквозь пальцы, тем более что истинные намерения Рамсботтома наверняка были известны кое-кому из его влиятельных друзей в Лондоне. Что касается самого Горацио, то он не имел не малейшего понятия о подготовке этого рискованного предприятия и был столь же удивлен, сколько и обрадован сообщением в газете о том, что он награжден Большим рыцарским крестом Ордена Бани. Богу известно, что он заслужил все почести и привилегии, связанные с этим приятным событием.
Тем не менее, в его награждении существовала все же некоторая вероятность игры случая, которые иногда имеют место при подобного рода осложнениях.
Леди Барбара прибыла на Ямайку на пакетботе «Прекрасная Джейн», который должен был забрать их обоих в Англию. Супруги встретились 4 октября 1823 года, после более чем двух с половиной лет разлуки. Ожидалось, что преемник Хорнблауэра прибудет на фрегате «Тритон» и с его появлением Горацио сдаст свой пост главнокомандующего. Фактически, Барбаре удалось воспользоваться гостеприимностью Кингстона всего лишь около двух недель до прихода «Тритона». Контр-адмирал Рэнсом был на борту фрегата, и торжественная церемония передачи командования была назначена на следующий день, 20 октября. Утром этого дня, под звуки оркестра и в присутствии капитанов всех кораблей эскадры, находившихся к тому времени на рейде Кингстона, флаг Хорнблауэра был спущен в сопровождении салюта из тринадцати пушечных выстрелов. Через минуту-другую столько же пушек салютовали флагу контр-адмирала Рэнсома, который был поднят на топе бизань-мачты. Хорнблауэр покинул корабль уже не главнокомандующим, а обычным контр-адмиралом на половинном жаловании, который до отъезда мог проживать в правительственной резиденции со своей супругой в качестве гостя. Несколько дней прошли в приятном бездействии, а затем стало известно, что «Прекрасная Джейн» готова к отплытию. Пакетбот вышел в море 26 октября, причем Хорнблауэр и леди Барбара были его единственными пассажирами. С трудом, сдерживаемый противными ветрами, пакетбот прошел Наветренный пролив и, наконец, вышел на просторы Атлантики. Тут же стало ясно, что надвигается шторм. 7 ноября ветер подул с такой силой, что капитан Найвет решил лечь в дрейф: похоже, шторм начинал переходить в настоящий ураган.
Ожидать ураган в это время года (за два месяца до их обычного сезона) не было оснований, но по всем признакам, он уже надвигался. Пройдет ли ураган стороной или «Прекрасная Джейн» находится прямо у него на пути? Ветер вскоре ответил им на этот вопрос, так как его сила вскоре еще более возросла. Теперь уже немногое можно было сделать, но Хорнблауэр все же заметил, что надстройка, в которой они с Барбарой жили во время путешествия, вряд ли сможет долго устоять под ударами мощных волн и будет неминуемо смыта за борт. Он вывел Барбару на палубу и привязал ее, а заодно и себя к грот-мачте. Настройка ушла за борт немного спустя, но казалось, что и само судно долго не продержится. Похоже, «Прекрасная Джейн» все еще держалась на плаву только благодаря тому, что ее основной груз состоял из копры (волокна кокосовых пальм), плавучесть которой вселяла надежду на то, что судну удастся удержаться на воде до тех пор, пока его корпус не разлетится на части. Но как долго это протянется? Когда грота-стаксель был сорван, а за ним последовала надстройка, судно не могло больше удерживаться носом к ветру и волнам, а развернулось к ним бортом и тяжело раскачивалось в подошве волны. Чтобы снова развернуть его носом к ветру, необходимо было срубить фок-мачту. Хорнблауэр попытался предложить эту идею Найвету, который был слишком оглушен всем происшедшим, чтобы хотя бы понять, о чем идет речь, да и вся его команда была не в лучшем состоянии. Не найдя топора, Хорнблауэр сорвал нож с пояса одного из моряков и с большим трудом сумел добраться до наветренных вант-путенсов фок-мачты. Он отчаянно набросился на одну из вант, перерезая ее волокно за волокном. Наконец ванта треснула, и обе ее части исчезли из вида, подхваченные ураганом, а Хорнблауэр продолжил свою работу уже со следующей, почти погруженной в воду, так что почти не было возможности вздохнуть полной грудью. Когда ему, наконец, удалось перерезать почти все волокна, кроме последнего, оказалось, что нож обломился у самой рукояти. Тем не менее, проблема решилась сама собой — четыре оставшиеся ванты вдруг лопнули одна за другой, и мачта рухнула за борт. Это вызвало двойной эффект: во-первых, корабль тут же развернулся носом к ветру, а упавшая фок мачта, все еще волочившаяся за судном на остатках снастей, действовала как плавучий якорь. Хорнблауэр пробрался обратно к грот-мачте, где снова привязал себя рядом с Барбарой и сделал все возможное, чтобы хоть как-нибудь обогреть ее.
В течение наступившей ночи они почувствовали, что ветер слабеет — сначала до шторма, а затем до сильного бриза, но море все еще оставалось бурным. Люди страдали от жажды, но к утру прошел дождь, и Хорнблауэру удалось собрать немного влаги в свою рубашку — достаточно для того, чтобы напоить Барбару и утолить жажду самому. Оставшись благодаря этому в живых и обнаружив, что капитан Найвет скончался, Хорнблауэр принял команду над полузатонувшим судном и жалкими остатками команды — девятью моряками из шестнадцати, вышедшими на «Прекрасной Джейн» из Кингстона. Еще один шквал с дождем придал им сил настолько, чтобы сделать возможным решение проблемы — как достичь Антильских островов, ближайшей земли, лежащей с подветренного борта. Единственным запасным рангоутным деревом на судне остался лисель-спирт, который и привязали к обломку фок-мачты. Затем из брезента, в который были завернуты кипы кокосового волокна, был сделан импровизированный парус. Некоторое время спустя еще одно подобие паруса удалось поднять на остатках грот-мачты. Теперь судно понемногу продвигалось к цели, и на следующий день с него увидели Пуэрто-Рико. Затем им встретилась рыбачья лодка, в которой Хорнблауэр с Барбарой добрались до Сан-Хуана, порта, уже хорошо знакомого Хорнблауэру. Они были радушно приняты здесь и, проснувшись поздним утром следующего дня, Горацио увидел, как «Прекрасную Джейн» вводили в порт на буксире. Хорнблауэры отдыхали несколько дней, пока для них шили новую одежду — им еще повезло, что капитан-генерал, по-видимому, простил Хорнблауэру трюк, разыгранный им ранее для захвата «Эстреллы». Между тем соответствующие сообщения были пересланы на Ямайку, и в Кингстоне было решено, что следующий же военный корабль, идущий в Англию, пройдет проливом Мона и по пути зайдет в Сан-Хуан. В феврале 1824 года они снова двинулись в путь и на этот раз их путешествие, к счастью, обошлось без приключений. Шлюп «Морской Конек» шел быстро и прибыл в гавань Портсмута уже 9 апреля. Хорнблауэры сразу же отправились в Смоллбридж и уже скоро были полностью поглощены подготовкой к переезду в Боксли-хаус, что и осуществилось в июне. Хорнблауэру еще предстояло выйти в море и даже принять участие в сражении, но уже не в качестве главнокомандующего. Кончина старших его стажем офицеров принесла ему в 1825 году производство в чин вице-адмирала. Перед ним были еще долгие годы жизни, а сама система старшинства могла поднять его на самую высшую ступень морской карьеры.
В предыдущих главах мы видели, что в отношениях Горацио и Барбары иногда наступали периоды охлаждения, вызванные различными обстоятельствами или людьми. Это могли быть недоразумения, ссоры и даже супружеская неверность — с обеих сторон. После 1824 года свидетельств ни о чем подобном не сохранилось, и мы, скорее всего, будем правы, предположив, что пережитое ими на палубе «Прекрасной Джейн» соединило их так крепко, как никогда раньше. Там были грозящая им опасность, страх потерять самого дорогого человека и каждый из них понял, что в подобных обстоятельствах может рассчитывать на поддержку, которая придает мужества, храбрости и вселяет надежду. До этого случая Хорнблауэр все еще мог ревновать Барбару к ее первому мужу, терзая себя сомнениями, что его она любит гораздо меньше. Более он не задавал себе такого вопроса и не имел больше поводов для ревности, возможно потому, что Барбара сказала ему — тогда, когда оба они стояли на краю гибели — что она никогда не любила другого мужчину. В свою очередь и Барбара могла подозревать, не любил ли Горацио свою первую жену, Марию, более нежно, чем любит ее теперь. Больше она уже никогда не испытывала подобных сомнений, после той смертельной опасности, которую они вместе пережили и уже никогда не забудут. То, что она была обязано мужу сохранением своей жизни, было в этом не самым главным. Гораздо важнее, что они вместе прошли через это тяжелое испытание и вместе пережили не только опасность, но и пришедшие за ней усталость и физические муки, не проронив ни слова жалобы. На бурном море, под дикие завывания ветра, они были уже на самом пороге ада, и все же им удалось спастись. Теперь они уже больше никогда не испытывали недоверия друг к другу.
Ричарду теперь было уже тринадцать лет, и осенью он должен был отправиться в Итон, все еще мечтая о последующей военной карьере. Джонатан продолжал служить на флоте и его корабль в то время базировался в Чатеме. Он часто наезжал в Боксли-Хаус, где его всегда встречали как родного сына. Собственно, его родители были еще живы и здоровы, но они по-прежнему жили в индустриальном сердце Англии, вдали от моря, и все еще были слегка разочарованы тем, что Джонатан не избрал профессии инженера. Как мы увидим, ему еще предстояло стать весьма технически образованным офицером, однако времена бурного технического развития флота были еще впереди.
Что же касается лорда и леди Хорнблауэров, то в 1825 году они провели сезон в Лондоне, и именно тогда Горацио произнес свою первую речь в Палате Пэров. Похоже, он намеренно избегал говорить на исключительно военно-морские темы, памятуя о том, что еще может получить командование на действительной службе, и предпочел вместо этого высказаться в пользу развития пароходного сообщения между Белфастом и Клайдом. Хорнблауэр не был опытным оратором, однако ему удалось показать свое знакомство с предметом — как с Ирландией, так и с паром. После выступления он получил многочисленные поздравления, в том числе — и от лорда Сидмута. В отношении Горацио даже было высказано предположение, что когда-нибудь он сможет рассчитывать и на министерское кресло, хотя, по правде сказать, мало кто подходил для этого меньше его. Хорнблауэр был моряком и мог бы стать инженером. Он был известным администратором и становился хорошим землевладельцем. Ничто не могло превратить его в политика. Правда, некоторые недоброжелатели неоднократно намекали, что он и так женат на одном из них.
11. Адмирал
Согласно историческим исследованиям, блестящая карьера Ричарда Уэлсли достигла своей высшей точки с назначением его в 1797 году генерал-губернатором Индии. Затем он был отозван оттуда в 1805 году, но к тому времени уже успел стать маркизом Уэлсли. Позже он был послом в Испании, Министром иностранных дел (1809–1812 гг.) и даже получил предложение принца-регента сформировать правительство, в чем, однако, не преуспел. Затем, с точки зрения занимаемых постов, его государственная карьера пошла на спад и предпоследним более или менее значительным его назначением стала должность вице-губернатора Ирландии в 1821–28. Вслед за кратковременным пребыванием на посту лорда-камергера (весьма скромная должность), он удалился от общественной жизни в 1835. Хотя, начиная с 1812 года, он не порывал своих связей с кабинетом министров, его уже несколько затмевал младший брат, ставший в 1814 году герцогом Веллингтоном. В качестве вице-короля Ирландии, Ричард обладал уже меньшим влиянием, чем двадцать лет назад в Индии, да и сам пост потерял свое былое значение после Акта о воссоединении. Тем не менее, он относился к своей работе очень серьезно и пытался решить проблемы, с которыми пришлось на этом посту столкнуться. Одной из них стал голод (в 1822 г.), а второй — антиправительственная агитация. Он мало виделся с Хорнблауэром до 1826 года, когда тот возвратился в Ирландию. В связи с этим, Хорнблауэры провели в Дублине больше времени, чем предполагали и Горацио, несомненно, имел возможность высказать свою точку зрения на решения ирландского вопроса. Когда же он выступал на ту же тему в палате лордов, многие полагали, что он выражает мнения самого вице-короля, что, возможно, было недалеко от истины. Более того, их точки зрения во многом совпадали — например, насчет необходимости смены членов магистратов, не соответствующих своей должности.
Более решающее значение имел вклад Хорнблауэра в развитие парового судоходства. Он был знаком с ранними экспериментами в этой сфере на реке Клайд и наблюдал дальнейшие попытки развития этой деятельности в морском треугольнике между Клайдом, Белфастом и Дублином. Именно в этих, сравнительно защищенных от капризов непогоды водах пароходы делали свои первые неуверенные попытки, постепенно продлевая свои маршруты в Ливерпуль, Холихед, Бристоль и, наконец, в Лондон. Пока были возможны лишь короткие рейсы и только в те пункты, где можно было взять запас угля на обратный путь. Среди наиболее предприимчивых пионеров пароходного дела была «Дублинско-лондонская пароходная компания», которая появилась в Дублине в 1826 году, уже на глазах Хорнблауэра. Ее директоры вскоре пригласили адмирала стать членом совета компании — по-видимому для того, чтобы придать веса и солидности всему предприятию. После некоторых размышлений и консультаций, как с Дублинским замком, так и с Советом Адмиралтейства, Хорнблауэр принял это предложение. Однако если директорам хотелось лишь воспользоваться его именем, то они крупно заблуждались. Хорнблауэр уже с первых шагов проявил искреннюю заинтересованность делами компании и вскоре сам стал экспертом в области парового судоходства.
В описываемый период корабли Компании ходили между Лондоном, Плимутом, Фальмутом, Дублином и Белфастом. Гордостью ее флота стал спущенный на воду в 1829 году «Уильям Фосетт», водоизмещением в 206 тонн, приводимый в действие паровой машиной в шестьдесят лошадиных сил.
Он был оснащен как марсельная шхуна, с гафельным топселем на грот- и прямыми марселем и брамселем на фок-мачте. Между двумя мачтами возвышалась высокая дымовая труба, а по обоим бортам располагались гребные колеса. Судно, построенное на верфи Калеба Смита и снабженное паровой машиной компанией «Фоссетт и Принстон» из Ливерпуля, первоначально работало в качестве парома в Мерси. Купленное дублинской компанией, оно было зафрахтовано Уиллкоксом и Андерсоном, чьи суда обслуживали линии в Испанию и Португалию. В связи с этим Хорнблауэру пришлось стать членом совета директоров еще и компании «Уиллкокс и Андерсон», которая получила контракт на доставку почты в Опорто и Лиссабон. В 1837 фирма сменила свое название на «Компанию Иберийского полуострова», а с 1840 года она стала именоваться «Иберийской и Восточной пароходной компанией», причем Хорнблауэр по-прежнему оставался членом ее совета директоров. Этот пост стал наиболее важным для него в последние годы жизни.
Пока же он более активно интересовался технической стороной вопроса и по-прежнему не упускал при этом из вида его влияние на экономическое развитие Ирландии. С технической точки зрения все упиралось в гребное колесо. Первые инженерные разработки базировались на принципе агрегатов для ветряных и водяных мельниц. Таким образом, судно, оснащенное гребными колесами, было ничем иным, как своеобразной водяной мельницей наоборот, с тем только, что колесо толкало воду, а не вода — колесо.
Гребное колесо, которое хорошо работало в условиях реки, оказалось неудобным уже в узких каналах (так как поднимаемые им волны разрушали берега) и могло лишь ограниченно применяться на судах, совершающих что-либо похожее на морские рейсы. Результатом установки на судах гребных колес стала необходимость оборудовать судно своеобразным мостиком, переброшенным поперек корпуса между их кожухами. Это следовало сделать, так как теперь вахтенный офицер ничего не мог разглядеть, стоя на своем обычном месте, возле рулевого. Таким образом, возникшая проблема была легко разрешена. Сложнее было с другим — трудностями, возникавшими из-за килевой и, в особенности, бортовой качки. С поставленными же парусами и ветром в бакштаг, одно колесо погружалось глубже, в то время как другое почти полностью поднималось в воздух. Когда же корабль просто подвергался качке, практически при любой погоде колеса испытывали переменную нагрузку, что значительно усложняло работу машин. Другой принцип движения, основанный на использовании водяного пропеллера или бесконечного винта, был известен не менее, чем принцип гребного колеса, и представлял собой все ту же мельницу, только погруженную в воду. Эта идея, однако, встретила возражения, вызванные хотя бы уже тем, что для установки подводного винта требовалось проделать в корпусе судно отверстие ниже ватерлинии, что противоречило не только предшествующему судостроительному опыту, но и, казалось бы, здравому смыслу. Когда лорды адмиралтейства с сомнением посматривали на первые пароходы, они в чем-то были правы. В конце концов, огромные гребные колеса, вполне пригодные для маневрирования в бухте или даже в открытом море в мирное время, были чертовски уязвимы во время сражения.
По сравнению с другими военно-морскими офицерами, Горацио Хорнблауэр имел то преимущество, что происходил из семьи инженеров. Он был не из тех фанатиков паруса, которые смотрели на пароходы почти как на святотатство. Он признавал пароходы сперва в виде вспомогательных судов — буксиров, но все же шел дальше, видя перспективы их применения, правда, в большей степени для перевозки почты и пассажиров. А поскольку Хорнблауэр хорошо видел всю непригодность гребных колес для боевого корабля, то не мог не размышлять о том, что наверняка существуют и иные способы использования силы пара. Никто, конечно, и не подумает утверждать, что Хорнблауэр изобрел гребной винт, но, несомненно, он был одним из тех, кто сразу увидели в нем решение основной проблемы судостроения того времени. Во втором томе «Бумаг Хорнблауэра» (Сборник материалов Военно-морского общества за 1948 год под редакцией Натаниэля Паркера) часто встречаются упоминания на эксперименты и дискуссии по этому вопросу, а также несколько диаграмм с расчетами, которые адмирал выполнил собственноручно. Многие из них на удивление опередили свое время. Еще раньше (см. стр.9) Хорнблауэр был убежден, что корабельная артиллерия может стрелять бомбами не хуже, чем ядрами. Он также не отрицал возможности использования ракетного оружия, несмотря на то, что видел слабую эффективность ракет Конгрива в битве при Алжире. Скорее, он был уверен, что они обладают большими потенциальными возможностями, и необходимо лишь повысить точность стрельбы — и будущее показало его правоту. В поколении Хорнблауэра было множество офицеров, начисто лишенных воображения, однако он явно не был одним из них. Еще одним преимуществом Хорнблауэра перед остальными флаг-офицерами было то, что он был еще относительно молод. Ему исполнилось только сорок девять лет, когда в 1825 году он стал вице-адмиралом, так что он вполне мог оценить преимущества паровой машины. Хорнблауэру повезло также, что он дожил до глубокой старости и достиг высшего военно-морского звания. Однако в 1825 году он был значительно младше стажем, чем офицеры, занимавшие высшие посты в Королевском флоте. Например, он был моложе сэра Эдварда Кодрингтона, который в 1827 году был назначен главнокомандующим Средиземноморским флотом. Сэр Эдвард родился в 1770 году, поступил на флот в 1783-м и к тому времени, как Хорнблауэр стал мичманом, был уже капитан-лейтенантом, контр-адмиралом — в 1814 г., когда Хорнблауэр был еще только капитаном, вице-адмиралом — в 1821-м, когда Хорнблауэр наконец-то получил свой адмиральский флаг.
Поскольку Кодрингтон был ветераном Трафальгарской битвы и к тому же одним из офицеров, участвовавших в сражении Славного Первого Июня — он и люди его поколения в 1827 году занимали на флоте высшие посты. Очередь поколения Хорнблауэра должна была прийти не раньше 1840-х — слишком далекая перспектива, так что многие его одногодки, потеряв терпение, поступали на службу во флот новых независимых государств, лишь недавно возникших на карте Южной Америки. Конечно, это было легче сделать офицерам знатного рода, чье общественное положение и без того было обеспечено, или же выходцам из низов, которым в этом смысле было нечего терять. Хорнблауэра терзали сомнения, которым он все же сумел противостоять, в результате чего к 1827 году он не имел командования на море, хотя бы и в Боливии, и вынужден был приложить все силы и использовать все свое влияние, чтобы обеспечить должность для своего молодого кузена.
В этом, к счастью, он преуспел, и Джонатан Хорнблауэр был назначен третьим лейтенантом на линейный корабль «Генуя» (74 пушки), под командованием капитана Батхерста. Это не означало особого продвижения по службе, но на Средиземном море было больше возможностей отличиться.
Греки как раз в очередной раз восстали против своих турецких владык. Добившись с 1820 года некоторых успехов, греки в конце концов столкнулись с объединенными силами флотов Турции и Египта. Восставшие понесли несколько поражений, и в 1827 году пали Афины. По ряду различных причин подобное усиление Турции представлялось невыгодным Британии, России и Франции. Эскадры, направленные в регион этими тремя державами, соединились в Эгейском море на основе союза, заключенного для «умиротворения Греции». Задачей Порты было развитие успеха после взятия Афин и восстановления турецкого контроля над Мореей, для чего оттоманский флот был сосредоточен у греческих берегов. Сэр Эдвард Кодрингтон поднял свой флаг в феврале 1827 года, и 25 сентября того же года ему удалось склонить Ибрагима-пашу к подписанию с греками договора о перемирии. В соответствии с условиями этого договора, оттоманскому флоту было разрешено войти в Наваринскую бухту. Однако турки в нарушение перемирия высадились на берег и пошли на штурм греческого города, население которого бросилось искать убежища в горах, где умирало от голода. Восемнадцатого октября три европейских адмирала решили вмешаться и с этой целью ввести свои корабли в Наваринскую бухту. 20 октября это было осуществлено, причем верховное командование над тремя эскадрами осуществлял сэр Эдвард Кодрингтон. Результатом этого стало Наваринская битва.
Мнения британцев о будущем Греции в ту пору были противоречивы. Ослабление Турции не было частью проводимой Британией политики, так как именно турки затрудняли России проникновение в Средиземное море. Однако симпатии многих англичан были на стороне греков — частично потому, что эти британцы получили классическое образование, а частично оттого, что греки также были христианами, которых притесняли приверженцы ислама. Таким образом, проводимая политика должна была быть направлена на освобождение греков, но — без усиления позиций России на Балканах. Ровесник Хорнблауэра, адмирал Кокрейн был (теоретически) главнокомандующим греческого флота, который состоял из нескольких вооруженных пароходов, практически первых в своем роде, но он никак не мог собрать для них моряков, которые желали бы сражаться.
Что же касается Кодрингтона, то ему было приказано перехватывать все грузы, которые могли бы быть использованы против греков, и при этом воздерживаться от нападения на турок. Эти противоречивые приказы были, без сомнения, уточнены еще и устными инструкциями, не зафиксированными в письменной форме. Легенды гласили, что принц-регент, герцог Кларенс, сказал адмиралу: «Отправляйся, мой дорогой Нэд, и разгроми этих чертовых турок!». Решением Кодрингтона, как прежде лорда Эксмута под Алжиром, было создать ситуацию, при которой сравнительно менее дисциплинированные турки первыми открыли бы огонь. Это вынудило бы союзников также стрелять для самообороны, что неминуемо приводило к генеральному сражению. Свобода Греции при этом становилась как бы случайным следствием инцидента, за который Британия принесла бы свои извинения.
Союзный флот, вошедший в Наваринскую бухту, состоял из трех эскадр. Первую, под флагом сэра Кодрингтона, возглавлял его флагманский корабль «Азия» (84 пушки), за которым следовали 74-пушечные «Генуя» и «Альбион». Эти три линейные корабля сопровождали четыре фрегата и четыре шлюпа. Вторую эскадру, под командованием французского контр-адмирала де Риньи, вел его флагманский корабль «Сирена» (60 пушек). За ним шли «Сципион», «Тридант» и «Бреслау» (все — 74-пушечные), сопровождаемые фрегатом и двумя шхунами. Третью эскадру, под командованием русского контр-адмирала графа фон Гейдена, возглавлял его флагманский 74-пушечный корабль «Азов», за которым следовали «Гангут», «Иезекииль» и «Александр Невский» (все — 74-пушечные), сопровождаемые четырьмя фрегатами. Объединенные силы составляли, таким образом, одиннадцать линейных кораблей и девять фрегатов, причем российская эскадра была самой мощной. Соединенные же силы турецкого и египетского флотов состояли из трех линейных кораблей, четырех двухдечных фрегатов, тринадцати обычных фрегатов, тридцати корветов, двадцати восьми бригов и сорока транспортов для десантных сил, что вместе с остальными малыми судами давало цифру в сто тридцать вымпелов.
Грозные своей общей численностью, турки, тем не менее, могли выставить лишь три линейных корабля против одиннадцати союзных, а ведь только эти корабли принимались во внимание в генеральной битве. Туркам нельзя было отказать в храбрости, однако им не доставало хорошей подготовки и боевого опыта. Один из египетских кораблей выстрелил первым, французский дал ответный залп, и разгорелось общее сражение. Битва продолжалась четыре часа, и в результате турецкий флот был по большей части уничтожен.
Наваринскую битву можно было бы назвать лебединой песней уходящего старого парусного флота, однако для нас, с биографической точки зрения, гораздо более важно, что лейтенант Джонатан Хорнблауэр представлял в ней своего отсутствующего старшего кузена — адмирала, и письмо молодого офицера, написанное сразу после битвы, дает хорошее представление о роли, которую он в ней сыграл.
Линейный корабль Его Величества «Генуя»
порт Наварин
21 октября 1827
Мой уважаемый Лорд!
Вчера произошло генеральное сражение между соединенной эскадрой и оттоманским флотом, и полагаю, Вам будет приятно услышать, что за четыре часа непрерывного пребывания под огнем я был только слегка оглушен и получил всего лишь царапину. Наш адмирал возглавлял эскадру на «Азии», а вплотную за ним шли «Генуя» и «Альбион». Я командовал батареей верхней палубы и не могу в достаточной степени выразить свое восхищение хладнокровием и мужеством матросов, которые стреляли быстро и четко, как на учениях, не обращая внимания на ответный огонь. Считается, что во время битвы очень важна точность, с которой наводятся пушки, но тут, после первых же залпов, пороховой дым повис сплошной пеленой, так что мы уже абсолютно не видели противника. Я попробовал на некоторое время прекратить огонь, рассчитывая, что дым немного рассеется, однако ветра почти не было, и мы продолжили стрелять в прежнем направлении. Местонахождение кораблей противника можно было установить только по верхушкам их мачт, которые еще наблюдались с верхушек наших. Мы встали на якорь и использовали шпринг, заведенный на якорный канат, поворачиваясь в сторону новых целей, когда прежние уже были приведены к молчанию. Когда раньше мы сражались против французов, можно было судить о намерениях противника сдаться, когда он спускал свой флаг. Турки же не делали этого, очевидно, потому, что берег был совсем близко. Они очень храбро сражались, пока это было возможно, а затем просто поджигали свои корабли и сами спасались на шлюпках, лишая нас призовых денег. Рапорт адмирала не содержит ни слова о захваченных кораблях — таких просто не было, но перечисляет корабли противника, которые были уничтожены, повреждены или выбросились на берег. Потери турок должны составлять несколько тысяч человек, а их флот больше просто не существует.
Что действительно тяжело — так это рассказывать о наших потерях, в числе которых и наш капитан Батхерст — ведь другого такого офицера трудно найти. Погибло еще несколько моих товарищей по кают-компании, а общее число убитых составляет двадцать шесть человек, при тридцати трех раненых. Что уберегло нас от более тяжелых потерь, так это то, что лишь немногие турецкие ядра попали в корпус: в основном среди убитых и раненных те, кто находился на открытой палубе шканцев и бака; они получили раны от осколков и обломков разбитого рангоута.
Мне повезло избежать ранения, а еще большим везением считаю то, что мне удалось участвовать в настоящей битве. Столько времени уже прошло после войны с Наполеоном, что на флоте уже много офицеров ни разу не бывавших под огнем, а некоторые из них уже даже командуют кораблями. Правда, все старшие стажем капитаны и кое-кто из лейтенантов уже понюхали пороху, правда, не в таких битвах, и они пользуются большим уважением среди молодежи, впервые вступившей на палубу после 1815 года. Некоторые же другие молодые офицеры имеют гораздо меньше боевого опыта, чем их подчиненные с нижней палубы, поскольку лишь немногим из них удалось побывать хотя бы в Бирме. Но и там они почти ничего не делали, за исключением поедания карри, шлепая на себе москитов. Мне же повезло, так как я несколько раз находился под огнем во время прошедшей войны с французами, затем под Алжиром и теперь — в битве, которую я пытаюсь описать. Теперь, даже если за этим последуют хоть двадцать лет мира, я буду считаться ветераном и, надеюсь, заслужу продвижения по службе. Я уже сейчас не намного моложе нашего первого лейтенанта, который наверняка станет капитан-лейтенантом, и не более чем на пять лет отстаю по возрасту от капитан-лейтенанта, который уже сейчас станет капитаном.
Уверен, что следующая битва, где бы она ни случилась, будет разыгрываться уже не под одними лишь парусами. Все идет к тому, и я сам слышал, что адмирал Кокрейн планирует оснастить греческий флот несколькими пароходами, вооруженными 68-фунтовыми орудиями. По его словам, этого вполне достаточно, чтобы разгромить весь турецкий флот. А наш старый друг лорд Эксмут добавил, что подобная сила смогла бы уничтожить и любой другой флот, с нашим собственным включительно. Одно подобное судно уже появилось в здешних водах. Это — пароход «Картерия», который уже использовал свои 68-фунтовки с калеными ядрами и свои 45-фунтовые мортиры против турецких кораблей в Коринфском заливе. Однако Кокрейну немного удалось достичь, так как его греческие матросы трусливы, недисциплинированны и плохо обучены, но факт остается фактом — если подобный пароход укомплектовать соответствующей командой, он сможет уничтожить любой из наших линейных кораблей. В условиях полного штиля, например, «Картерия», обладая в три раза более мощными орудиями, могла бы принудить к молчанию с выгодной ей дистанции даже «Азию» — наш 80-пушечный флагманский корабль, а потом подойти поближе и добить его огнем своих мортир. Помню, мне рассказывали, что вы в свое время предпринимали попытку сделать нечто подобное и при этом имели успех (см. Стр.91). Все это все чаще заставляет меня задумываться о том, что греческий военно-морской флот, как бы ни абсурдно это звучало, в некотором смысле превосходит наш. Полагаю, Вы будете иметь возможность довести этот факт до их лордовских светлостей. Конечно, очень жаль, что одного имени Кокрейна достаточно для того, чтобы они высказались против любой, даже самой интересной идеи, с которой он хоть отдаленно чем-нибудь связан.
Сейчас мы следуем на Мальту, (прибытие — 25 октября), где сможем выгрузить наших раненых, поправить поврежденный такелаж, а я, к тому же, не отказался бы прогуляться на берег, если представится такая возможность. Пока же, думаю, Вам будет приятно узнать, что британские моряки сегодняшних дней столь же мужественны, как и их собратья, что сражались против Наполеона, и ничем не уступят тем, кто участвовал в последней войне под Вашим командованием.
Остаюсь, как всегда, искренне Вашим —
Джонатаном Хорнблауэром.
Кажется невероятным тот факт, что молодой Хорнблауэр еще в 1827 году предвидел, что паровой военный корабль сможет одержать верх над любым своим парусным противником. У «Картерии» были все возможности совершить настоящую революцию в военно-морском деле: механическая энергия, пушки тяжелого калибра, далеко превосходящие 32-фунтовки — самые большие орудия, устанавливаемые в то время на линейных кораблях, а также возможность стрелять не только ядрами, но и разрывными бомбами. Лорд Хорнблауэр видел логику в таком развитии вещей, и есть основания полагать, что он обсуждал эти вопросы с лордом Эксмутом. Слабым местом «Картерии», как было ясно им обоим, являлись весьма уязвимые гребные колеса и сама паровая машина. Всего лишь одного удачного попадания было бы достаточно, чтобы «Картерия» начала кружиться на месте — если, конечно, еще более удачный выстрел противника не привел бы к взрыву ее паровой машины. Для обоих адмиралов было очевидно, что успех применения пароходов в военных целях полностью зависел от возможности использовать энергию пара каким-либо другим образом. Никто уже не отрицал полезность мореходных буксиров для ведения военных действий — настолько она была очевидна — но для создания совершенного боевого корабля нужно было сделать еще один шаг. Основным пунктом их размышлений был факт, о котором как раз и писал молодой Хорнблауэр — о том, что дубовая обшивка бортов кораблей, подобных «Генуе», была лучшей защитой для ее экипажа, а значит, средства движения должны быть, как минимум, столь же хорошо защищены, чтобы не пострадать при бое на коротких дистанциях. Однако установить эту проблему было гораздо легче, чем решить.
Молодой Хорнблауэр оставался на Средиземном море и в 1828 году и мог развивать свои идеи, основанные на приобретенном опыте, лишь посредством писем. Эти письма он адресовал не только лорду Хорнблауэру, но и, конечно же, своему отцу. Джереми Хорнблауэр все еще работал инженером и, несомненно, обсуждал эти вопросы в своем ближайшем окружении в Бирмингэме. Среди его коллег было немало специалистов, которые хорошо разбирались в паровых машинах, но были гораздо менее знакомы с кораблестроением. С этой стороны ни одной перспективной идеи не поступило, зато сам Горацио, в очередной раз посетив Ирландию в 1828 году, на обратном пути задержался в Белфасте, где встретился с отставным морским капитаном по имени Джон Хоган. Именно Хоган был первым, кто объяснил ему принцип действия архимедова винта. Именно Хорнблауэр был первым, кто обратил внимание Хогана на то, что гребное колесо, вполне применимое на реке и в условиях мирного времени, не очень удобно для того, чтобы приводить в действие боевой корабль. Этот обмен мыслями оказался очень плодотворным, хоть и не привел к немедленному решению проблемы.
Более того, во время возвращения в Кент осенью того же года, мысли Хорнблауэра обратились в совсем ином направлении. Ему предложили в 1829 году занять пост губернатора Мальты (это предложения было сделано в то время, когда герцог Веллингтон был премьер-министром (1828–30 гг.)). Этот пост был тесно связан с делами флота с тех самых пор, как остров был отбит у французов. Хорнблауэр уже хорошо знал Мальту и был известен на острове, так что он согласился на новое назначение без колебаний и 12 марта 1829 года вместе с Барбарой прибыл в Ла-Валетту. В то же время он должен был отдавать себе отчет в том, что ему вряд ли когда-либо предложат командование на море. Он также подал в отставку с поста члена совета директоров «Восточной и иберийской» компании (в 1836 году он вновь был восстановлен в этой должности).
Прибытие Хорнблауэра в Ла-Валетту пришлось на период, проходивший под знаком битвы при Наварине. Британское правительство, верное своей двойственной политике, своим постановлением от 4 июня 1828 года отозвало сэра Эдварда Кодрингтона с поста главнокомандующего. Лорд Абердин объяснял это тем, что адмирал превысил предоставленные ему полномочия. В своем ответном письме, написанным на борту «Азии», неподалеку от острова Корфу и датированном 22-м июня, сэр Эдвард приветствует назначение другого офицера, «способного лучше понять язык» инструкций, которые могут быть ему направлены («Мемуары адмирала сэра Эдварда Кодрингтона». Под редакцией леди Бушье, Второе издание. Лондон, 1875 г.).
Со все нарастающей иронией он выражает надежду, что его преемник «будет лучше информирован Вашими Светлостями перед тем, как покинет Англию, чем это было суждено мне». Фактически же целью проводимой политики как раз и было — сперва уничтожить турецкий флот, а затем принести за это свои извинения. Извинения приняли форму отзыва адмирала, командующего флотом, который таким образом был принесен в жертву в тот самый момент, когда он принудил турков эвакуировать свои войска из Мореи. Его преемник, сэр Пултни Малькольм, поднял свой флаг 21 августа, чем освободил сэра Эдварда от его обязанностей. Вернувшись в Англию, отставной адмирал как-то встретился на улице с одним сельским джентльменом, который ничем, кроме сельского хозяйства и спорта никогда не интересовался. «Привет, Кодрингтон! — обратился к адмиралу этот чудак, — что-то я тебя долго не видел. Удалось ли тебе хорошенько поохотиться в последнее время?» Кодрингтон ответил, что ему это удалось, после чего пошел своей дорогой, проклиная неблагодарность своих соотечественников.
Несомненно, что в числе претендентов на пост Кодрингтона рассматривалась и кандидатура Хорнблауэра, а губернаторство Мальты в конце концов досталось ему в качестве утешительного приза. Можно также не сомневаться, что командование Средиземноморским флотом, если бы оно было предложено Хорнблауэру, принесло бы ему больше беспокойства, нежели почестей. Это правда, что Кодрингтон позднее на короткий срок был назначен командующим флотом Канала, но факт остается фактом — его предыдущее отстранение от должности явно имело политические мотивы и практически перечеркнуло всю его предыдущую успешную карьеру. Другие адмиралы, и среди них Хорнблауэр, вполне могли решить, что половинное жалованье предпочтительнее подобного отношения. Хорнблауэру еще повезло, что он получил береговую должность, по крайней мере, соответствующую его рангу. Утешением ему также служило то, что ему удалось устроить своего молодого кузена в качестве адъютанта губернатора по морским делам. Все было согласовано, и Джонатан уже ожидал его на набережной Ла-Валетты, когда пушки возвестили о прибытии нового губернатора.
В наше время лишь немногие губернаторы исполняют какие-либо дела, помимо церемониальных функций. Губернаторство на Мальте в 1829–31 было более трудоемким делом, чем в более поздние времена, поскольку и само Средиземное море было тогда сплошным источником беспокойства. В его восточной части развивалась ситуация, созданная сражением при Наварине. Турки отхлынули к Александрии, и греки наслаждались новым для них чувством свободы. На западе берберские государства (подобно грекам) снова почувствовали свои руки развязанными для пиратства, наслаждаясь этим заключительным периодом своей независимой истории накануне французского вторжения. Между Хорнблауэром и адмиралом Малькольмом не было настоящего взаимодействия — похоже, они даже не понравились друг другу с первого взгляда — однако предстояло многое сделать для безопасности острова и для защиты его жителей на море. Кроме того, Хорнблауэру очень понравился оказанный ему здесь прием, и он полюбил Мальту и мальтийцев. Барбара, в свою очередь, с достоинством и удовольствием играла роль жены губернатора, еще более прекрасная, чем когда-либо до этого и снова радостно окунувшаяся в светскую жизнь. И снова, лучшее свидетельство о событиях тех дней мы получаем из писем молодого Джонатана, который, судя по всему, был очень доволен своим новым назначением.
Дворец Великого Магистра
Ла-Валетта, Мальта.
17 марта 1829.
Мой дорогой сэр!
Надеюсь, Вы уже получили мое предыдущее письмо, в котором я сообщал, что наш кузен Горацио предложил мне службу в качестве адъютанта, на что я поспешил согласиться и распрощался с «Генуей». Я расстался с ней без сожаления, потому что в ходе последних кадровых назначений я вот-вот должен был быть назначен первым лейтенантом, но этот пост мне все-таки не достался. Поскольку офицер, назначенный вместо меня, раньше почти не видел активной службы на море, а моряк из него не лучший, чем из нашей тети Ребекки, я искренне рад своему переводу, тем более что знания и опыт, полученные на этом посту, помогут мне впоследствии рассчитывать на назначение флаг-лейтенантом, что также представляется неплохим вариантом продвижения по службе.
Я приехал на Мальту за несколько дней до прибытия Его Милости на «Нептуне» и смог встретить его тут же, на пристани, а заодно коротко рассказать ему на ухо, кто есть кто среди встречавших его официальных лиц. Запомнить все это было чрезвычайно трудно, но адъютант генерала помог мне в этом днем ранее. Лорд Хорнблауэр прекрасно выглядел и вел себя с большим достоинством, а в леди Барбару я просто мог бы влюбиться, если бы не был слишком занят своими новыми обязанностями! С первых дней моей службы на флоте я помнил, что наш кузен лишен музыкального слуха, поэтому я предупредил его, когда оркестр начал играть национальный гимн. При этом я сохранял всяческую осторожность, так как он не любит, чтобы его опекали подобным образом, и может специально сделать что-то не так, только для того, чтобы выказать свою досаду. Так или иначе, но в день его прибытия все прошло хорошо. Особенно трогательна была сцена встречи его с мальтийцами, которых он в свое время спас из рабства (Это было еще в 1806 г., см. стр. 117 и последующие). У кузена хорошие шансы стать здесь особо популярным, и я думаю, он сможет их реализовать, если ему удастся подавить пиратство в этой части Средиземного моря.
Что же касается самой Мальты, то я молю только, чтобы мои способности позволили описать все то, что здесь заслуживает описания!
Вообразите себе остров, в центре которого расположена самая прекрасная бухта в мире, с хорошими глубинами, ярко-голубой водой и несколькими удобными входами. Все скалы и окружающие возвышенности одеты в камень бастионов, вооруженных многими сотнями пушек: форт Святого Духа, форт Сан-Анжело и многие другие. За укреплениями расположен не один, а несколько городов. Валетта — первый среди них. Она увенчана цитаделью и соединена изящным арочным переходом с Флорианой — другим городком, центральная улица которого представляет собой прекраснейшее зрелище, которое я когда-либо видел. Что до Валетты, то это — город дворцов, на каждом из которых сохранился отпечаток эпохи мальтийских рыцарей. Тот же отпечаток лежит на всех укреплениях и зданиях — память о безжалостных и решительных людях, которые готовы были к достижению своей цели, несмотря на тяжелый труд, боль, время или необходимые к тому средства. Они всегда добивались того, чего хотели, и ничто не могло преградить им путь. Каждый из великих магистров оставил свой, особый след на фоне общей памяти о самом Ордене. Наш кузен лорд Хорнблауэр занял место великого магистра на столь долгий срок, как еще никто в этом веке, и думаю, лишь немногие офицеры соответствовали бы этому месту столь же хорошо, как он. Я так много написал про Мальту, что для самого себя мне уже не хватает ни времени, ни места. Про все это и других наших друзей и знакомых я обещаю рассказать в своем следующем письме, но хочу заверить Вас, что я просто счастлив на моей новой должности, и буду по-настоящему огорчен, когда в 1831 году срок моего пребывания на ней закончится.
С наилучшими пожеланиями всем нашим друзьям,
остаюсь Вашим любящим сыном, —
Дж. Хорнблауэр.
Для того, чтобы рассказать о всех многочисленных обязанностях и достижениях лорда Хорнблауэра во время его пребывания на посту губернатора Мальты, пришлось бы написать отдельную книгу. Единственной альтернативой этому представляется перечислить лишь некоторые, наиболее интересные из них, выбранные из общего числа по мере их важности.
Если уж приходится выбирать, то первым среди них будет дальнейшее изучения возможностей использования паровой машины для военного кораблестроения, поскольку к этому предмету мысли Хорнблауэра возвращались постоянно. При первой же возможности, когда ему удалось взять несколько дней для отдыха, он отправился осмотреть «Картерию», которая была брошена экипажем и стояла на отмели вблизи острова Волос. Найдя очень интересной конструкцию этого корабля, в особенности — способ установки ее тяжелых орудий, Хорнблауэр все же нашел пароход слишком уязвимым.
Несмотря на то, что его первое появление на поле боя могло иметь свой эффект внезапности, ни один противник из числа кораблей флотов цивилизованных держав не был бы захвачен врасплох во второй раз. Вернувшись на Мальту, Хорнблауэр распорядился начать эксперименты с Архимедовым винтом. Для этого использовалась небольшая шлюпка, которую плотники оснастили встроенным деревянным лотком, внутри которого вращалось нечто, напоминающее большой штопор. Большой проблемой стало передать энергию вращения этого винта и при этом не допустить проникновения воды внутрь корпуса лодки. Окончательным решением стало заключение этого своеобразного штопора в железную трубу, к которой его кронштейны были приварены. Конструкция приводилась в действие при помощи цепной передачи, переброшенной между двумя шестернями, одна из которых была жестко закреплена на заднем конце трубы, а вторую, установленную на корме лодки, можно было вращать вручную. На Мальте не было механических мастерских, так что этот, достаточно простой механизм пришлось заказывать у кузнеца, который изготовил его из железа по макету, сделанному из дерева и картона. Первые эксперименты показали, что шлюпка действительно может двигаться при помощи подобного движителя, хотя и со скоростью, не превышающей той, которую можно достичь, гребя парой весел. Следующая попытка заключалась в устройстве на лодке вертикальной шахты, внутри которой могла работать цепная передача, что избавляло от необходимости крутить шестеренку, стоя на корме. Третьей попыткой было реализация предыдущего варианта в большем масштабе — на базе небольшого каботажного судна, причем все механизмы были расположены под верхней палубой. Усилиями шести человек, которые работали на неком подобии лебедки, судно, переименованное в «Архимед», могло в штиль развивать скорость до трех узлов — конечно же, не более часа или двух, пока люди не уставали. Теперь оставалось лишь заменить рабочих паровой машиной, однако ни одной подходящей пока не было под руками. Тем не менее, мальтийцы уже могли наблюдать, что идея работает. Население острова все еще страдало от берберийских пиратов и людям казалось, что новое судно, которое волшебным образом движется будто бы само собой, может принести им окончательное избавление от этих морских разбойников. Таким образом, «Архимед» был вооружен 32-фунтовым орудием на носу, которое было хорошо замаскировано, и вышел в море как новый вид чудо-оружия.
Достиг ли «Архимед» боевых успехов? Мы слишком мало знаем об этом. Сложность была в том, что это судно никогда так и не было принято в состав Королевского флота, а значит — теоретически не существовало. Адмирал Хорнблауэр мудро помалкивал об этом опыте и все, что мы знаем о нем, почерпнуто из бумаг, оставшихся после Джонатана, который, вероятнее всего, и командовал «Архимедом» во время его первого выхода. Юный Ричард, в то время уже питомец колледжа Св. Троицы в Кембридже, летом 1830 года приехал на Мальту на каникулы. Он также выходил в море на «Архимеде», по крайне мере, один раз. Кроме того, времена корсаров уже практически закончились. 4 июля 1830 года французы захватили Алжир, и хотя Тунис формально оставался независимым, тунисские пираты вели себя не столь агрессивно. «Архимед» представлял интерес не столько своей эффективностью в качестве корабля-ловушки, сколько особенностями своего двигателя. Хорнблауэр и его коллеги фактически создали современный боевой корабль. Конечно же, не было необходимости использовать архимедов винт длиной с киль самого судна. Все, что требовалось, это его более короткая копия — в принципе, современный винт. За исключением этого, «Архимед» обладал по крайне мере, одной полезной чертой, которой так не хватало в последствии первым пароходам. Встраивая винт во вращающуюся трубу, Хорнблауэр обеспечил, что весь толкающий момент сил был направлен строго за корму. Опасения, что устройство винта, при котором колебания воды и качка судна приведут к бесполезной, на первой взгляд, потере энергии, казались на заре парового судостроения весьма актуальными. В этом Хорнблауэр еще раз опередил свое время.
Период пребывания Хорнблауэра на посту губернатора Мальты закончился в 1831 году и с него он сразу же перешел на новую должность, которой предстояло стать для него последней. Можно было бы предположить, что он поднимет свой флаг в Портсмуте или Плимуте, однако адмирал предпочел менее значительный пост главнокомандующего в Чатеме. Он сделал такой выбор, так как таким образом мог не слишком удаляться от своего дома в Кенте. Если Хорнблауэр находился на Чатемских верфях, то свой уик-энд он мог проводить в Боксли. Хорнблауэр получил командование в Чатеме в 1832 году и ушел в отставку с него (а заодно — и с действительной службы) в 1835. Это был период болезненных, хоть и запоздалых реформ в администрации военно-морского флота. Сэр Джеймс Грэхем был первым лордом Адмиралтейства, отвечавшим за ее проведение, а реорганизация дошла и до верфей. Хорнблауэр добросовестно исполнял получаемые приказы, однако не сохранилось свидетельств, что он проявлял слишком много личного интереса к большой работе, проводимой сэром Джеймсом.
Так же, к сожалению, относились к ней и другие великие реформаторы, такие, например, как сэр Джон Барроу, столь ярый приверженец технического прогресса, которому посвятил столько своих сил и мыслей сам Хорнблауэр. Таким образом, Горацио теперь мог посвятить больше времени заботе о своей семье. Первое, что он сделал, это забрал Ричарда из Кембриджа, где он попусту тратил время, и купил ему патент на офицерский чин в лейб-гвардии. Были некоторые сожаления по поводу выбора Ричардом именно сухопутной карьеры, но зато ни одна дверь в армии не могла быть закрыта перед племянником всесильного герцога Веллингтона. В результате, он продвигался в чинах с необычайной скоростью, что сопровождалось солидными затратами. Напоминая кое-чем своего отца — решительным выражением лица, ростом и цветом волос — Ричард, тем не менее, был лишен особых амбиций и не проявил исключительных способностей к математике и механике. Он проявил себя отважным человеком, расторопным и популярным офицером, но не обладал при этом качествами, которые бы оправдывали его продвижение по службе выше чина полковника. Ричард регулярно ездил на охоту, заимел порядочный карточный долг и, похоже, содержал метрессу в Майда-Вейл или Килбурне. Жениться же он, конечно же не мог, пока не получит звание капитана.
(Сингапур в 1851 г., с картины Дж. Тарнболла Томпсона).
Преемником Хорнблауэра по службе в уже обновленном флоте стал Джонатан, который к тому времени был назначен первым лейтенантом фрегата «Дартмур» (42 пушки), входившем в состав флота Канала. В его способностях никто не сомневался, но это был сравнительно скучный период в истории флота. Все внимание в ближайшие двадцать лет было сосредоточено в основном не на громких событиях, а на техническом усовершенствовании кораблей. Он не видел возможностей для более активной службы до самой пенсии, но все же оставался образцом морского офицера. Его родители умерли в 1834 году, и с этого времени, пребывая на берегу, он обычно останавливался в Боксли-хаус. Джонатан не женился до тех пор, пока в 1837 году его не произвели в капитан-лейтенанты, хотя о его помолвке с Гертрудой, старшей дочерью контр-адмирала Фитцморриса, было объявлено еще в 1834 году. В течение этого длительного предсвадебного периода он купил, отремонтировал и заново меблировал небольшой сельский дом в Эйлесфорде, неподалеку от Боксли. Этот дом носил название Эйлфорд-лодж и существует до сих пор: в нем размещена квартира и операционная практикующего врача. Во время своего пребывания на берегу, капитан-лейтенант был активным членом магистрата, заядлым спортсменом, а одно время даже директором Юго-восточной железнодорожной компании. Он и его жена Гертруда имели общим счетом семерых детей, причем пятеро из них выжили, а двое сыновей позднее поступили во флот. Одна же из трех дочерей вышла замуж за капитана Бартона из Королевского корпуса морской пехоты. Так что в этой семье военно-морские традиции оставались достаточно сильными до конца века.
Бывая в Чатеме, Хорнблауэр встречался и с Джоном Хоганом, который приезжал для этого из Белфаста, и они вместе погружались в проблемы водяного винта. К тому времени на верфи была построена новая модель судна с подобным движителем, на сей раз оснащенная паровой машиной. Конечно, они не были одиноки в своих исследованиях, и трудно было бы доказать, что какой-либо один человек в конце концов изобрел устройство, над которым работали столь многие. Согласно морской исторической науке, идея использовать винт в качестве судового движителя была реализована практически одновременно несколькими беспокойными умами, которые даже и не знали о существовании друг друга (См. «История торгового судоходства», У. С. Линдси, в четырех томах. Лондон, 1876, том IV, стр. 102–18.).
Мистер Роберт Вильсон в 1833 году продемонстрировал работу винта, который он изобрел еще в 1827. Почти в то же самое время подобную работу проделал и француз Фредерик Соваж, чей винт был усовершенствован в 1832 году. Швед Йон Эриксон сделал действующую модель в 1836, и тогда же свой винт предложил мистер Томас Петтит Смит. Таким образом, модель Хогана (образца 1835 года) была только одной из многих, и предназначалась Хорнблауэром для того, чтобы убедить лордов Адмиралтейства в том, что винтовой пароход является военным кораблем будущего. С 1819 года в состав военно-морского флота уже входил один паровой буксир, однако даже эксперимент, проведенный Хорнблауэром в Чатеме, в ходе которого лодка смогла развить скорость в десять узлов, был все же недостаточен, чтобы убедить их лордовские светлости. До тех пор, пока в 1843 году не был заложен «Ратлер», во флоте Его Величества не было винтовых кораблей.
К тому времени, когда 27 октября 1835 года Хорнблауэр, наконец, спустил свой флаг в Чатеме, передав свой пост вице-адмиралу сэру Генри Дигби, кавалеру Ордена Бани, он уже находился на действительной службе в течение сорока одного года. С тех пор, как он впервые ступил на палубу военного корабля в 1794 году, ему удалось дослужиться от мичмана до вице-адмирала. Однако Хорнблауэр был пока далек от мысли уйти на покой, и был вскоре вновь избран почетным членом Совета директоров «Пароходной компании Востока и Иберийского полуострова». Ему предстояло еще долгие годы принимать активное участие в деятельности предприятия, оставаясь на своем директорском посту вплоть до 1850 года.
Многие его коллеги сожалели, что лорд Хорнблауэр так никогда и не стал членом Совета Адмиралтейства. Так рассуждали, потому что полагали, что именно с таким человеком у руля флота техническому прогрессу удалось бы быстрее победить флотский консерватизм. Подобное предположение несколько спорно, но в любом случае не будем забывать, что на таком деле Хорнблауэр мог бы просто надорвать свое сердце и при этом ничего не добиться. Одним из важнейших достижений того времени была организация школы военно-морской артиллерии на базе линейного корабля «Великолепный». Это была большая работа, проделанная сэром Томасом Гастингсом, но Хорнблауэр лишь выступил с одобрением этой инициативы. Сам он не считал себя специалистом по артиллерии, а паровая тяга для судов, которой они гораздо больше интересовался, увереннее прокладывала себе дорогу в торговом судоходстве, нежели в военном флоте. Таким образом, весьма удачно сложилось, что он отдал свое время и энергию гражданской пароходной компании и, находясь на этой службе, смог пережить последнее в своей жизни приключение.
На пенсии он очень сожалел, что никогда ранее не побывал в Ост-Индии. Когда же этот шанс наконец представился, он был очень рад восполнить этот пробел в своем опыте и впоследствии любил повторять, что является человеком Мира в полном смысле этого слова. В это же время его убеждали написать мемуары, но адмирал раздраженно отверг эту идею. Единственное, чего он хотел, это привести все свои бумаги в некое подобие порядка. Это было все, что адмирал мог обещать, но гораздо более того, чем он когда-либо исполнил. Хорнблауэры провели лето 1836 года в Ирландии, компенсируя тем самым свое долгое пребывание на Мальте и в Чатеме, но уже в следующем году вернулись в Англию. В 1837 году король Уильям IV умер, и на престол вступила королева Виктория. Будучи герцогом Кларенсом, а позднее — королем, Уильям всегда оставался ярым поборником флота, на котором ему самому довелось послужить. Как говорилось, он был «достойным королем, искренним другом, прощал врагов и был милостивым и добрым владыкой». Все это было правдой и много раз произносилось в присутствии Хорнблауэра в ходе различных церемоний, например, во время похорон адмирала сэра Ричарда Китса. Адмирал лорд Сомарец должен был выступать на них в качестве одного из официальных плакальщиков, но он не смог присутствовать и, после недолгих размышлений, его решили заменить Хорнблауэром. На следующий день он был удостоен королевского приема, на котором адмирала поблагодарили за участие в церемонии, а затем позволили предаться воспоминаниям о битве под Алжиром. Большинство флаг-офицеров сохранили самые добрые воспоминания о короле Уильяме, а некоторые, подобно Китсу, в молодости служили вместе с ним. Смерть этого монарха означала конец эры тех, чья служба началась во время борьбы Америки за независимость. Это был также период Регентства, который прославился своими легкими нравами и буйством чувств. Официальной метрессой Уильяма была актриса Доротея Джордан, которая в то же самое время была любовницей Ричарда Дейли и сэра Ричарда Форда. Как и другие сыновья Георга III-го, Уильям сполна наслаждался жизнью, особенно до своей женитьбы в 1818 году. Он действительно был одним из главных гуляк эпохи Регентства.
С восшествием на престол королевы Виктории, атмосфера, царящая при дворе, резко изменилась, к сожалению большей части придворных. Новое правление было более трезвое, сдержанное, более упорное и гибкое по части различных изменений. Хорнблауэр в целом хорошо подходил к этому новому фону. Несмотря на то, что в прошлом у него бывали бурные увлечения, его характер — за исключением склонности к некоторому агностицизму — не был характерен для XVIII века. Привычки Хорнблауэра были почти аскетическими, книги — серьезными, взгляды на жизнь — прогрессивными, а личная жизнь в последние годы — вне всяких упреков. К тому же и семья Уэлсли всегда была далека от порока, а Ричард, будучи в Индии, «открыто поддерживал благочестие» и всегда «воздавал должное Творцу по воскресеньям». Многие семьи по своему духу были викторианскими задолго до того, как началось правление этой великой королевы, и Хорнблауэр мог бы сказать, что и в этом он несколько опередил свое время. Предыдущая смена монарха произошла в то время, когда Хорнблауэр находился на Мальте, поэтому коронация 1838 года была первой, на которой он присутствовал. Теперь он не занимал никаких государственных постов, но по своему положению пэра имел право занять свое место в Вестминстерском Аббатстве. Это был день, о котором Барбара позднее говорила молодым людям как о незабываемом. Более же важную роль на самом деле в тот день сыграл капитан Ричард Хорнблауэр. Это его лейб-гвардии эскадрон составлял эскорт монархини, и сам он позднее получил благодарность самой королевы.
Когда же этот великий день близился к концу, молодой Хорнблауэр сделал его еще более памятным, объявив о своей помолвке с леди Гарриет Маунтстюарт, старшей дочерью седьмого графа Гленшела. Это была исключительно красивая девушка двадцати двух лет, и брак был одобрен обоими семействами. Невеста не принесла богатого приданого, поскольку у нее было четверо братьев, но сравнительно небольшая древность рода Ричарда вполне компенсировалась тем фактом, что он был единственным наследником и обладал хорошими связями.
Этот брак, судя по всему, был удачным во всех отношениях, и у молодой четы родилось четверо детей: Мария (1839 г.), Августа (1840), Горацио (1842) и Алиса (1845). Сначала все они жили в Лондоне, но в 1847 году лорд Хорнблауэр освободил для них Боксли-хаус, так как детям будет удобнее расти здесь, даже если обязанности по большей части будут удерживать Ричарда при дворе. Сам же адмирал вместе с женой снова перебрались в Смоллбридж-Мэнор, срок сдачи в аренду которого истек. Горацио в то время объяснял, что подобное решение вызвано прокладкой в 1844 году Юго-восточной железнодорожной компанией ветки от Паддок-Вуда в Мэйдстон. Рельсы почти окружали часть парка Смоллбридж-Мэнор, и шум локомотива (как говорил старый адмирал) мог испугать пони, на которых катались дети, что угрожало фатальными последствиями для маленького Горацио, единственного возможного наследника титула. Этот аргумент, конечно же, представляется несколько сомнительным, но фактом оставалось то, что адмирал действительно предпочитал Смоллбридж. Что касается лошадей и коров, то они настолько привыкли к шуму поездов за неделю-другую, что редко даже поднимали голову, чтобы взглянуть в их сторону. Кто на самом деле уделял большое внимание железной дороге, так это сам адмирал, который — хотя всегда отрицал это — неожиданно стал приверженцем поездов. Теперь его даже всегда раздражало, если поезд опаздывал…
12. Адмирал Флота
«Пароходная компания Иберийского полуострова» получила контракт на доставку почты в тот год, когда на престол взошла королева Виктория. Суда компании регулярно ходили по маршруту Лондон — Фальмут и далее — в Опорто, Лиссабон, Кадис и Гибралтар. Из Гибралтара почта доставлялась пакетботами почтовой службы Ее Величества на Мальту, остров Корфу и в египетскую Александрию. Письма же в Индию приходилось доверять заботам мистера Уогхорна, который направлял их далее в Бомбей через Суэцкий канал. Таким образом, Гибралтар был наиболее удаленной точкой, которая обслуживалась «Пароходной компанией Иберийского полуострова» напрямую. Совет директоров считал делом своей чести расширить зону ответственности компании до Александрии, и Хорнблауэр был одним из тех, кто приложил для этого много усилий. Он и его друзья из совета директоров много работали над воплощением этой идеи в жизнь и вот, наконец, в 1840 году их старания увенчались успехом — решением создать новую компанию под названием «Восточная пароходная компания Иберийского полуострова». Был получен соответствующий королевский указ, которым, кроме прочего, компания получала полномочия на создание линии между Египтом и Индией. Новому председателю совета директоров, которым был избран сэр Джон Лэрпент, предстояло проложить практически новый торговый путь на Восток, который должен был соперничать с прежним (вокруг мыса Горн), известным еще с XVI-го века. Новая линия компании была официально открыта в 1841 году, но «Индостан» — первое судно, предназначенное для рейсов между Египтом и Индией — вышел в море только в 1842-м. За ним последовали другие суда и путь вокруг мыса Горн (по крайней мере, среди пассажиров) стал постепенно выходить из моды. Директорам компании нужно было думать о будущем, что они и сделали, придя к логическому выводу, что естественным продолжением дороги в Индию является дорога на Дальний Восток. Потребность в новом маршруте была очевидна и директоры задумались о том, как ее удовлетворить. Пароходы, следующие на Александрию и далее через Панамский канал, имели явное преимущество перед судами, идущими вокруг мыса Горн. Все же преимущества канала не были столь явными для грузовых перевозок и во многом зависели от потенциальной грузовой базы, которую можно было освоить на маршрутах между Индией и Китаем. К тому же сохранялись проблемы, касающиеся обеспечения безопасности, поскольку воды Малаккского пролива, а также Восточно- и Южно-китайского морей буквально кишели малайскими и китайскими пиратами. К тому же с Малайей Великобритания находилась в состоянии давнего (с 1831 г.), хоть и вялотекущего конфликта.
На рынке Китая сохранялся спрос на малайское олово, однако возможность организации его ритмичных поставок представлялась сомнительной. Сингапур был основан только в 1819 году и вроде бы процветал, однако еще большие надежды ранее возлагались на Пенанг — надежды, которым по большей части не суждено было осуществиться. И кто знает, не постигнет ли в конце концов такая же неудача и Сингапур? Говорили и о возможных проблемах с китайскими тайными преступными обществами. Возникал вопрос о готовности причалов, на которые можно было бы выгружать грузы и складах, на которых его предстояло хранить. В связи со всеми этими размышлениями, было решено направить одного из директоров для исследования всех этих возможностей. Хорнблауэр сразу же предложил свою кандидатуру и, после некоторых размышлений, его предложение было принято. Конечно же, он не был идеальным кандидатом для этой экспедиции, так как его знания коммерческих вопросов были невелики. С другой стороны, адмирал, хоть и находящийся на пенсии, был слишком значительной персоной, чтобы его могли бы игнорировать местные власти. К тому же Хорнблауэр был опытным экспертом во всем, что касалось проблем навигации и защиты мореплавания. Решающим же аргументом, по-видимому, послужило то, что управляющие директоры — мистер Уилкокс, мистер Андерсон и мистер Кэрлитон — были отчаянно заняты и не могли отлучиться из Лондона. Они планировали строительство новых судов, увеличение капитала, назначали новых агентов и старались организовать станции снабжения углем во всех портах по маршрутам следования судов компании. В критические моменты мистер Андерсон посещал Египет, где вел переговоры с местным пашой и мистером Уогхорном, но поездка на дальний Восток была совсем другим делом.
Результатом всего этого стало путешествие Хорнблауэра и его супруги в Сингапур, которое они предприняли на борту восемнадцатипушечного корвета «Диана» (водоизмещение 840 тонн), в качестве гостей его капитана Эшворта. Выйдя в море в декабре 1841 г., «Диана» достигал бухты Саймона в марте 1842-го, 20-го апреля подошла на расстоянии видимости гор острова Ява и бросила якорь в гавани Сингапура 4 мая. В то время здесь велись приготовления вооруженной экспедиции в Китай, результатом которой стало взятие фортов Восунга, так что 8 мая «Диана» снова вышла в море. Чета же Хорнблауэров сошла на берег, где была гостеприимно встречена губернатором сэром Бонхэмом. Им был предоставлен дом и супруги были представлены местному высшему обществу.
Первая проблема, которую Хорнблауэру предстояло изучить, касалась особенностей англо-китайских взаимоотношений. Конфликт, в котором предстояло принять участие «Диане», впоследствии был назван «Опиумной войной», так как основной причиной его возникновения послужило решение Китая объявить торговлю опиумом незаконной. Война была короткой, и согласно Нанкинскому договору, который был подписан вскоре после прекращения боевых действий, Гонконг отошел к Великобритании. С точки зрения укрепления международной торговли это было весьма значительное приобретение, поскольку до этого Гонконг был логовищем пиратом, а теперь превратился в британскую военно-морскую базу. Пиратство, тем не менее, сохранилось, однако на крупные пароходы «джентльмены удачи» нападали только в редких случаях. Хорнблауэр побывал в новой колонии зимой 1842–43 гг., частью для того, чтобы решить некоторые коммерческие вопросы, а частью — чтобы воспользоваться случаем сменить климат. Пароход, на котором он следовал, был атакован пиратами и Хорнблауэр смог впервые ознакомиться с тем, как подобное нападение может быть отбито при помощи шлангов, в которые из судовой машины подается отработанный пар. Струя раскаленного пара смела атакующих с палубы в течении нескольких секунд, а остальные пираты были захвачены этим врасплох и дезорганизованы. В своем докладе совету директоров Хорнблауэр сообщил, что Гонконг вполне соответствует ожиданием компании, а угроза пиратства, хотя и требует применения средств предосторожности, все же нельзя считать серьезной помехой развитию торговли.
Он также собрал некоторую информацию о товарах помимо опиума, которые могли бы экспортироваться в Китай, и подчеркнул особое значение тех из них, которые производились в юго-восточной Азии. Вернувшись в Сингапур, где он вновь встретился с Барбарой, Хорнблауэр вскоре познакомился с капитаном Генри Кеппелом, командиром шлюпа Ее Величества «Дидона», за столом которого он был усажен рядом с мистером Джеймсом Бруком, недавно вернувшимся с о. Борнео, где он установил свою власть над княжеством Саравак. От Брука адмирал многое узнал о малайских пиратах, отдельной проблемой мореплавания в водах юго-восточной Азии, а от Кеппела — о планах Адмиралтейства по борьбе с этими морскими разбойниками. Сегодня не известно, находился ли Хорнблауэр на борту «Дидоны» непосредственно во время проведения ею антипиратского рейда (в июне 1843 г.). Конечно же, при первой возможности Хорнблауэр посетил Саравак — мы знаем об этом из его позднейших воспоминаний. Он оставался в дружеских отношениях с Бруком и обсуждал с ним возможности добычи каменного угля на территории Брунея и Лабуза. Это было важно как с точки зрения обеспечения углем проходящих судов, так и для снабжения топливом самого Гонконга. Полного решения этой проблемы в то время найдено не было, однако Хорнблауэру удалось собрать информацию о торговле между островами. Пока он составлял свои сообщения, Барбара наслаждалась прелестями Сингапура. В конце 1843 года они провели несколько дней в Пенанге, а оттуда двинулись пароходом в Калькутту, где как раз успели к отходу «Индостана» и на нем вернулись в Суэц. Далее супруги проследовали в Александрию, где поднялись на борт «Иберии», и поплыли в Англию с попутным заходом на Мальту, причем их спутником в этом путешествии (и неплохим партнером по игре в вист) стал писатель Теккерей. Хорнблауэры снова вернулись в Лондон в апреле 1844 года, счастливо избежав английской зимы.
Во многом благодаря советам Хорнблауэра, компания уже в 1845 году продлила маршруты своих судов до Гонконга. Пароход «Леди Мэри Вуд» открыл эту новую линию, прибыв в Гонконг 4 августа и доставив почту, которая покинула Лондон всего сорок одни сутки тому назад. Второе судно, «Браганца», вошло в строй некоторое время спустя, а «Кантон» (водоизмещением 400 тонн) продлил ее до китайского Кантона и стал головным в серии пароходов с похожими названиями. Все же регулярные рейсы в Австралию не были открыты ранее 1852 года и Хорнблауэр был причастен к этому не более и не менее, чем любой другой из директоров. Его прямой задачей было продление линий до Сингапура и Гонконга, и, как мы видим, он действительно многое сделал для этого. С личной же точки зрения самого адмирала его поездки в Сингапур, Гонконг и Пенанг были ценными и сами по себе, так как принесли новые впечатления и помогли приобрести новый опыт — возможность, которой Хорнблауэр не мог упустить. К моменту возвращения в Англию ему исполнилось шестьдесят восемь лет, и после этого он уже никогда больше не выходил в море. Не смотря на то, что он и далее оставался одним из директоров судоходной компании, его карьера была практически закончена. Совет директоров мог только одним способом выразить свою признательность адмиралу и сделал это в 1849 году, когда имя «Хорнблауэр» было присвоено только что спущенному на воду стальному пароходу, водоизмещением в 2000 тонн — первому судну компании, которое приводилось в действие не гребными колесами, а винтом. Он был построен на Темзе, оборудован паровой машиной, производства компании «Нэпир» из Глазго, много лет пользовался популярностью и в 1855 году был продан правительству в качестве военного транспорта.
После возвращения в Англию Хорнблауэр узнал, что стал полным адмиралом, будучи произведенным в этот чин по выслуге лет в 1843 году. Офицеры, старше его стажем в большинстве своем уже умерли, а сам он достиг того возраста, когда и ровесники его уже были не слишком многочисленны. Ричард был уже майором, а его супруга Гарриет — гордой матерью отпрыска мужского пола, которого назвали в честь самого адмирала. В течении одного-двух сезонов Хорнблауэр продолжал появляться в Лондоне и несколько раз был удостоен бесед с королевой. В 1847 году он стал Адмиралом Флота и присутствовал на приеме по этому случаю, в последний раз посетив подобное мероприятие. Вскоре после этого Хорнблауэры почувствовали, что устали от Лондона. Они передали свою городскую резиденцию Ричарду, который больше нуждался в ней, а сами удалились в Смоллбридж. Здесь они и проводили почти все время, за исключением краткосрочных визитов в Боксли-хаус. При случае Барбара давала Гарриет советы, как и все бабушки, о правильном воспитании детей, а Гарриет с улыбкой на все соглашалась, но при этом делала только то, что считала необходимым. По современным меркам обе они на самом деле ничего не знали об этом, так как детей в те времена растили и воспитывали многочисленные няньки и гувернантки, выводя их показать родителям в гостиную едва ли на полчаса в день — если родители вообще бывали в это время дома.
Хорнблауэры никогда не посещали Элсфорд-лодж, зато Джонатан и Гертруда периодически наезжали в Смоллбридж. Джонатан к тому времени уже стал капитаном, однако не имел командования на море до 1849 года. Ежегодное паломничество в Смоллбридж вынуждены были также совершать адмирал, командующий базой в Чатеме, и капитан местной верфи. Других посетителей было мало, и Хорнблауэр полагал, что это и к лучшему.
То, что гостей в Смоллбридже принимали нечасто, сделало конец 1848 года еще более примечательными. Это был год кризиса в Европе, одни мрачные события следовали за другими, и единственным утешением Хорнблауэра было то, что ситуация не требовала его собственного вмешательства. «Пусть обо всем подумают те, кто стоит на вахте», — говаривал он, добавляя, что его вахта уже закончена. Так оно, по сути, и было, так что даже февральский коллапс монархии во Франции стал для адмирала всего лишь одним из интересных эпизодов — проблемой для лорда Пальмерстона, но всего лишь колонкой газетного текста в «Таймс» для адмирала Хорнблауэра. Тем не менее, восстание в Париже отдалось эхом в Риме, Вене и Берлине, из чего следовал вывод, что вирус революции может стать заразным. 10 апреля была даже угроза выступления чартистов в Англии, однако беспорядки сравнительно легко удалось предотвратить, благодаря твердой позиции герцога Веллингтона и британскому климату. Войскам не пришлось вступить в дело, и менее всего — 1-му полку лейб-гвардии, под командой молодого подполковника Ричарда Хорнблауэра, который находился в резерве.
Однако затяжные ливни, охладившие пыл чартистов, странным образом повлияли на судьбу принца Луи Бонапарта, племянника императора Наполеона, которому еще только предстояло сыграть свою роль в истории. Во время переворота он был в Париже, однако временному правительству, руководимому Ламартином, пришлось попросить его покинуть страну, в результате чего принц поселился на Королевской улице в Сент-Джеймсе. Вскоре Луи Наполеону предстояло встретиться здесь с герцогом Меттернихом, которого революция также изгнала в Англию — но уже из Австрии. Меттерних остановился в отеле «Брунсвик» на Ганноверской площади. Ситуация в Европе была шаткой и, как казалось Луи Бонапарту, его шанс спасти Францию от анархии мог появиться в любой момент. Этот момент настал с провозглашением во Франции выборов президента республики. Не теряя ни минуты, Бонапарт бросился в Париж.
Осень 1848 года была очень сырой и Хорнблауэр, которому к тому времени уже исполнилось семьдесят два года, по большей части предпочитал сидеть дома. Навестив при случае Мэйдстон, он увидел, что река Мидуэй, вздувшись от дождей, поднялась настолько, что в нескольких местах затопила дорогу между Боу-Бридж, Тестоном и Барнингом. Из-за этого его кучер вынужден был свернуть с обычного пути, сделать крюк в пять с половиной миль и двинуться по более длинному пути — через Уотербарри и Диттон. Конечно же, Хорнблауэр мог, при желании, отправиться в Мэйдстон по железной дороге, так как ветка от Пэддок-Вуда туда была проложена еще четыре года назад. Тем не менее, он все никак не мог расстаться со своим экипажем, что было столь же связано с соблюдением достоинства адмирала флота, сколько и с неудобствами. Кроме того, тяжелые дожди размыли глинистые холмы, и из-за оползней железную дорогу перекрывали по нескольку часов. Таким образом, Хорнблауэр продолжал пользоваться для путешествий своей каретой, но в Мэйдстон предпочитал выбираться возможно реже. Он любил наведываться туда на квартальные сессии окружного суда или по базарным дням, когда планировалась покупка лошадей или коров для хозяйства. Леди Хорнблауэр ездила в городок несколько чаще, в основном по делам благотворительности и т. п., а иногда для того, чтобы принять участие в аукционе. Однако Хорнблауэры всегда возвращались домой еще до наступления сумерек, и позже кучер обычно никогда не требовался, даже если светила полная луна. В то время было достаточно джентльменов, которые могли заявиться домой под утро — после дружеской пирушки в честь победы на скачках или затянувшейся партии в карты, но старый лорд Хорнблауэр не принадлежал к их числу.
Это случилось пасмурным осенним вечером 1848 года — в Смоллбридж прибыл нежданный гость. Хорнблауэры только что пообедали, и Горацио наслаждался своим стаканчиком портвейна, в то время как леди Барбара вышла почитать в гостиную, куда им позже должны были подать кофе. Мы можем только представить себе контраст между теплом и уютом столовой и мерзкой погодой снаружи, поскольку тяжелые капли дождя барабанили в оконные стекла, а сильный ветер раскачивал верхушки деревьев. В такую погоду вряд ли кому-либо по доброй воле захотелось бы выйти из теплого дома навстречу холоду, дождю и ветру. Тем не менее, у входных дверей прозвенел звонок, лакей открыл их, а бывший старшина капитанской гички Хорнблауэра, а теперь — его мажордом, Браун, доложил, что прибыл весьма странный посетитель. На вопрос, что это за незваный гость, Браун, как обычно невозмутимо ответил, что он представился как Наполеон Бонапарт. Что же ему нужно? Мистер Бонапарт хотел бы нанять карету и лошадей, чтобы добраться в Дувр и успеть на пакетбот в Кале. Заинтригованный, Хорнблауэр попросил Брауна пригласить гостя войти. Человеку, который вслед за этим вошел в комнату, было около сорока лет. Он был одет в гражданское платье под насквозь промокшим дорожным плащом и по колено измазан в грязи.
Карта графства Кент, показывающая расположение Смоллбридж-Мэнор и пути, соединяющие его с Пэддок-Вудом и Мэйдстоном.
Внешне гость не был похож на своего знаменитого предка, так как носил густые усы и эспаньолку. Явно будучи иностранцем, он все же бегло говорил по-английски и смог быстро объяснить суть проблемы, которая с ним случилась. Он ехал поездом из Лондона в Дувр, намереваясь как можно скорее попасть в Париж. Однако в результате одного из последних оползней, железнодорожное сообщение было прервано — рельсы на значительном участке были погребены под многотонными завалами земли. Для расчистки путей мог понадобиться не один день, а нельзя было терять даже часа! Странный посетитель хотел всего лишь нанять карету, которая бы отвезла его в Мэйдстон, находившийся по ту сторону аварийного участка дороги. Оттуда он мог бы нанять другой экипаж, до Дувра и успеть на очередной пакетбот в Кале, откуда уже поездом добраться до Парижа. По его словам, от своевременного прибытия туда ко дню президентских выборов зависело не более не менее, чем будущее Франции. К этому времени и Браун, и Хорнблауэр уже убедились в том, что имеют дело с сумасшедшим, но каждый — по своим соображениям. Хорнблауэр не следил за событиями во Франции — разве что иногда и с легким интересом. Он считал ее страной, где общество перевернуто с ног на голову непрестанными революциями, порядок в которой вряд ли сможет быть восстановлен в ближайшее время. Наполеон был мертв уже более четверти века, причем умер он вдали от Франции. Если помешанный называет себя Бонапартом, то вполне вероятно, что он считает себя спасителем Франции — это было бы лишь дальнейшим логическим развитием его основной маниакальной идеи. Оставалось лишь решить вопрос, как его обезвредить. Браун же сосредоточился на том, куда и зачем их гость едет. Оползень, блокировавший железнодорожные пути, по-видимому, имел место неподалеку от Неттлсхеда, где поезд и был вынужден остановиться — Браун слышал об этом и из других источников, которым был склонен верить, поскольку такое случалось и раньше. Но поезд, следующий через Мэйдстон, ни при каких обстоятельствах не мог достичь Дувра. Рельсы заканчивались как раз в Мэйдстоне, и дальше не было железнодорожного пути ни в одном направлении. (Линия между Мэйдстоном и Рочестером не была построена почти до самого 1856 года, а полностью вступила в строй лишь к 1874-му).
Тому же, кто хотел попасть в Дувр, следовало вернуться в Пэддок-Вуд и оттуда следовать по главной линии Юго-Восточной железнодорожной компании. Поскольку же Мэйдстон был конечным пунктом железнодорожного маршрута, рваться в него в такую непогоду мог только сумасшедший. Если бы гость и дальше настаивал на своей просьбе, Браун уже готов был предложить ему прогуляться пешком. В этот момент в дело вмешалась леди Барбара, которая зашла в столовую посмотреть на позднего гостя. Сумасшедший — как его представлял себе Горацио — изящно поцеловал ей руку и наговорил комплиментов, в результате чего она убедила Горацио распорядиться заложить карету. Он выполнил ее просьбу и через десять минут кучер доложил, что экипаж подан. После того, как он, рассыпавшись благодарностями, намеревался покинуть дом, уже в холле его остановили вопросом, почему он так хочет ехать именно в Мэйдстон.
И тут все странности его поведения окончательно объяснились. Он действительно путешествовал по главной линии, из Лондона в Дувр через Редхилл и Тонбридж, однако, будучи иностранцем, не был абсолютно уверен в правильности выбранного направления и ошибочно предположил, что Мэйдстон — именно та станция, на которой ему нужно сделать пересадку. Когда поезд остановился в Пэддок-Вуд, проводник объявил название станции и добавил: «Поезд на Дувр, поезд на Дувр, пересадка — Мэйдстон. Все еще находясь в недоумении, иностранный путешественник вместе со своим слугой пересели в другой поезд, стоящий на соседней платформе. Это оказался местный пригородный поезд на Мэйдстон, который вскоре не спеша двинулся к северу. Таким образом, они протащились около четырех с половиной миль в наступающих сумерках, проехав Ист-Пекхэм, Нэттлстед Грин и Смоллбридж-мэнор. Затем машинист обнаружил, что у Нэттлстеда пути заблокированы. Пока он размышлял о том, что делать дальше, другой, несколько меньший оползень отрезал ему пути возвращения в Пэддок-Вуд. Все еще плохо разбираясь в сложившейся ситуации, несчастный иностранец выбрался из поезда и побрел в сплошной грязи по направлению на единственный горящий огонь, которым оказалось окно в доме неттлстэдского священника. Уже оттуда озадаченный слуга направил его в Смоллбридж-Мэнор, как в ближайшую усадьбу, где можно было найти экипаж. Когда все это выяснилось, Браун вместе с кучером решили, что лучше отвести француза обратно в Пэддок-Вуд, откуда он уже через час сможет выехать в Дувр на другом поезде. Этот план и был приведен в исполнение без каких-либо объяснений лорду Хорнблауэру, который до конца своих дней был уверен, что его странный посетитель был отвезен в Мэйдстон. Согласно расписанию, этот более поздний поезд не успевал в Дувр до отплытия парового пакетбота, но именно в этот вечер судно несколько задержалось и француз достиг берегов своей родины, не потеряв особо много лишнего времени. Самым забавным следствием всей этой истории было то, что вскоре выяснилось, что странный гость на самом деле был племянником Наполеона Бонапарта. Он стал кандидатом на пост Президента Франции и был соответствующим образом избран на этот пост в декабре того же года, а в 1852 году провозгласил себя императором Наполеоном III. Между тем, он был действительно благодарен старому адмиралу, который помог ему столь своеобразным образом. Одним из первых его указов на посту Президента стал документ о награждении Хорнблауэра знаком кавалера ордена Почетного Легиона, к которому он приложил великолепный сапфир в качестве подарка для Барбары. Более того — он обратился к королеве Виктории с просьбой также вознаградить Хорнблауэра, которого представил своим близким другом. Желая в то время сделать приятное новому французскому правительству, лорд Джон Рассел согласился (очевидно, весьма неохотно) сделать Хорнблауэра виконтом. Конечно, у такого решения нашлись свои противники, и о новом достоинстве Хорнблауэра было объявлено лишь в 1850 году. Таким образом, он стал виконтом Хорнблауэром из Смоллбриджа, а к его сыну перешел почетный титул лорда Мэйдстона из Боксли. Это последнее отличие стало следствием счастливого случая, и Горацио не был обязан им влиянию семьи Уэлсли. Ранее он многое получил благодаря могуществу этого клана, но теперь эта фамилия не пользовалась прежним могуществом. Ричард Уэлсли, который задолго до своей смерти ушел из большой политики, скончался в 1848 году, а герцог Веллингтон в последний раз возглавил правительство в 1841–46 годах. Теперь он уже был совсем старым и виконт Хорнблауэр (как мы теперь должны называть нашего героя) в 1851 году нанес ему краткий визит в его резиденции в Уолмере.
Вместе с Барбарой они отправились по железной дороге, и старый герцог разругал их за этот бесцельный риск. Это, конечно, не было столь же рискованно, как если бы Барбара путешествовала одна — до такого, как был уверен герцог, все же не дошло бы — но зачем же было рисковать понапрасну, если этого можно было избежать? И он рассказал им страшную историю о том, как бедный мистер Хаскинсон был убит железнодорожным локомотивом двадцать лет тому назад. С тех пор герцог не любил железные дороги и всегда пытался отговорить леди от путешествий столь небезопасным способом. Вспомнив о своем долге главнокомандующего, Веллингтон спросил о Ричарде. Главная сложность, заметил он, что никто из этих молодых людей — теперешних офицеров, до сих пор так и не побывал в битве. Затем он спросил Хорнблауэра, бился ли он когда-нибудь на дуэли, и адмирал рассказал ему историю про это. Герцог не одобрял дуэлей, особенно в армии, но вынужден был признать, что его собственное поведение свидетельствует против него. У него была дуэль с лордом Уинчелси в 1829 году, и он до сих пор помнит то утро в Баттерси… Беседа двух старых джентльменов тянулась долго, но герцог был несколько глуховат, из-за чего его собеседникам приходилось почти кричать. Наконец визит подошел к концу, и лорд с леди Хорнблауэр отбыли (снова по железной дороге) в Смоллбридж через Пэддок-Вуд.
Они никогда больше не бывали в Уолмере, поскольку герцог Веллингтон скончался в 1852 году. Хорнблауэру пришлось неизбежно присутствовать на его погребении, о чем он позднее и написал в своем письме Джонатану, который в то время был в походе, командуя фрегатом на Средиземном море:
Бонд-стрит
Ноябрь, 1852 г.
Мой дорогой Джонатан!
Ты, очевидно, уже слышал, что герцог Веллингтон скончался, и, наверное, догадываешься, что я присутствовал на его похоронах, с которых я действительно недавно вернулся. Я присутствовал на них скорее как родственник, чем в качестве Адмирала Флота, и чувствую себя очень усталым после этого долгого дня, который начался проливным дождем. Моя добрая хозяюшка осталась дома, поскольку нехорошо себя чувствовала, и я был рад этому. Поскольку тяготы дня могли бы надолго отсрочить ее выздоровление. Весь Лондон присутствовал на этом мероприятии, как будто умер кто-то из королевской семьи, и Ричард выглядел великолепно во главе своего полка. Только сейчас, вернувшись из казарм, он рассказал мне, что на долю организаторов погребения выпало столько, что гражданский человек просто не сможет себе этого даже вообразить. В течение всего периода подготовки им больше всего не хватало… самого герцога, который лучше кого бы то ни было знал, как организовывать подобные церемонии. Ни одна из тех, которые проходили при его жизни, не обходилась без его советов и наставлений, что делало задачу организаторов его собственных похорон вдвойне трудной, особенно в части принятия решений и отдачи распоряжений, прерогатива на которые ранее всегда принадлежала ему. Тогда я рассказал Ричарду, что, по-видимому, ему неизвестно, что я также отвечал за один из этапов организации похорон лорда Нельсона и хорошо представляю себе, чего стоит организация подобной церемонии.
Тот, кто никогда не разговаривал с герцогом, не сможет в полной мере представить всю безмерность его утраты. Мне, как старому моряку, приятно было бы сказать, что величайший человек нашего времени был адмиралом, но это не было бы правдой. Самого лорда Нельсона я видел лишь один раз, да и то мельком, но я знал многих, кто служил вместе с ним. Поэтому я готов поверить, что он действительно был великим тактиком, прирожденным лидером и офицером, которому мало нашлось бы равных в битве, но при этом именно как моряка его даже нельзя сравнивать с Пеллью или Китсом. Учитывая все это, я по-прежнему продолжаю считать, что герцог Веллингтон был более велик. Нельсону было легче, чем его предшественникам на посту командующего флотом. Революция во Франции «очистила» ее флот от самых лучших офицеров, оставив команды кораблей без истинных лидеров, регулярной тренировки, и к тому же отравленными ложными сентенциями о равенстве и братстве. В результате они были разбиты в море и загнаны в порты. Это был опасный момент и для Англии, так как существовала угроза, что революционные идеи перекинутся и на наш флот. К счастью, британских моряков удалось вернуть к исполнению их обязанностей, причем лорд Хоув заманивал их, показывая морковку, а лорд Сен-Винсент — гнал палкой. Когда сотни капитанов, чьи имена сегодня забыты, снова подчинили матросов жесткой дисциплине и научили ловко управляться с парусами и пушками, лорду Нельсону повезло получить командование над флотом, который другие подготовили к бою, который оставалось лишь повести на врага. Будучи счастлив в этом, лорд Нельсон был счастлив и с точки зрения славы, ибо погиб за мгновение до своей величайшей победы. Если бы он остался жив, то его дальнейшая карьера могла бы быть испорчена неудачной операцией или скандалом в личной жизни. Если послушать некоторых людей, то выходит, будто бы Трафальгар означал конец войны, подобно тому, как падение занавеса знаменует окончание третьего акта театральной пьесы. Но после этого война длилась еще десять лет, и многим адмиралам предстояли еще долгие годы изматывающей службы в море. Нельсон погиб в тот момент, когда его слава была неоспорима. Герцогу Веллингтону не так повезло в этом плане. Его противниками не были дискредитированные своим дворянским происхождением офицеры и солдаты, потерявшие боевой дух. Ему противостояли опытные генералы, возглавлявшие войска, которые никто ранее не побеждал. Его же собственная армия состояла из людей, вся предыдущая служба которых прошла в непрестанных отходах, отступлениях и поражениях. Именно Артуру Уэлсли предстояло не только экипировать и обучить своих людей, но и вдохнуть в них боевой дух, правильно оценить своего противника и обратить поражение в победу. Его последним противником был одним из величайших в истории полководцев (хотя и ничтожный по своим чисто человеческим качествам). Герцогу не суждено было пасть при Ватерлоо — ему предстояло жить или, скорее, быть национальным лидером и советником монарха в борьбе с кризисами, которые шли один за другим — всегда спокойным, всегда решительным и почти всегда правым. Я действительно горжусь, что благодаря семейным связям этот человек стал моим родственником и позволил мне считать себя своим другом. В течение всего этого долгого дня похорон герцога мои мысли погружались то в прошлое Англии, то обращались к ее будущему, и я сделал вывод, что величайшие дни нашей страны уже позади. Ты скажешь, что все это старческие фантазии, брюзжание, свойственное каждому уходящему поколению. Думай так, если хочешь, но, по моему мнению, наша страна прошла свой зенит между 1845 и 1850 годами. Нам еще удастся расширить наше влияние вплоть до Дальнего Востока, и я тоже сделал кое-что для этого. Возможно, даже что-то получится и с прокладкой канала через Суэц, и этот канал, если все будет сделано правильно, еще более повысит наше могущество. Однако нам не хватает самого главного — направленности нашей политики, а смерть герцога, похоже, знаменует собой окончание важного периода. Я рад, что знал его, рад тому, что мне довелось жить в это великое время, и с радостью уйду, когда придет мой срок. Странно понимать, что наша длительная борьба против Наполеона закончилась тем, что Наполеон снова правит Францией, а герцог Веллингтон умер и похоронен — тем более странно, что побочный сын Наполеона присутствовал на этих похоронах. Я напишу еще раз, когда вернусь в Смоллбридж, и еще немного поболтаю с тобой, к чему сегодня не располагает мое настроение. Все эти события, связанные со смертью Артура, несколько встряхнули меня.
Принося свои извинения за то, что не пишу больше и веселее -
остаюсь искренне расположенным к тебе —
Хорнблауэром.
В своем отношении к Наполеону III Хорнблауэр был, по меньшей мере, непоследовательным. Принц-президент щедро вознаградил его за небольшую услугу, и если бы им довелось встретиться еще раз, то они приветствовали бы друг друга как старые друзья. С другой стороны, Горацио имел стойкое предубеждение против каждого, носящего имя Наполеон, и к тому же всегда не доверял французам. Те из них, к которым он испытывал искреннее уважение (и действительно любил), принадлежали еще поколению старого режима, а теперешняя республика нравилась ему ничуть не больше прежней империи. Когда в 1853 году он узнал о нарастании трений между Россией и Францией, то инстинктивно принял сторону России. Сам адмирал, еще будучи коммодором, сражался на стороне русских в 1812 году. Другой Хорнблауэр, наследник его флотской славы, сражался на их стороне при Наварине. Если французы вновь поссорятся с русскими, то снова будут побиты, как это уже бывало — и это послужит им хорошей наукой. Другие морские офицеры могли думать так же, но немногие из них хотели бы видеть русский флот в Средиземном море. Закат могущества Турецкой империи (ускоренный поражением при Наварине) создал вакуум, который, неожиданно для англичан, заполняла новая сила. Дело, таким образом, шло к созданию союза Англии, Франции и Турции против России.
Без каких-либо разумных объяснений или определенных целей, весной 1854 года Британия вдруг оказалась втянутой в войну с Россией. Хотя война была объявлена еще 27 марта, вторжение в Крым союзники начали лишь глубокой осенью. Основной целью было занятие Севастополя, главной базы русского Черноморского флота. У Хорнблауэра были возражения против этого плана, и он даже выступил с официальным протестом, к чему обязывала его звание Адмирала Флота. Он полагал, что дело никогда бы не дошло до столь безумной попытки, если бы герцог Веллингтон был жив. Это утверждение старого адмирала было во многом верным: Крымская война напоминала Ватерлоо без герцога Веллингтона. Кабинет министров холодно подтвердил получение меморандума Хорнблауэра и продолжал готовить штурм Севастополя. Но старый адмирал и не надеялся повлиять на проводимую Англией политику. Все, что ему было нужно — зафиксировать свои возражения в письменном виде и, таким образом, снять с себя всякую ответственность за возможные последствия. К сожалению, Ричард не разделял его мнения. Более того, лорд Мэйдстон, подполковник Первого полка лейб-гвардии, горел желанием принять участие в своей первой кампании.
Когда британские войска грузились на суда, чтобы следовать в Крым, они насчитывали 30 тысяч человек: одна кавалерийская и пять пехотных дивизий. К тому времени войны не было уже почти сорок лет, и лишь немногим оставшимся в живых престарелым ветеранам войны в Испании теперь предстояло вести в бой войска, не имевшие никакого боевого опыта, причем многие старшие офицеры и даже командиры соединений до этого никогда не бывали под огнем. Гвардия пока оставалась в Англии, однако Ричард временно покинул свой полк и был назначен, уже в чине полковника, в штаб кавалерийской дивизии, которой командовал граф Лукан. Двумя командирами бригад были граф Кардиган и достопочтенный сэр Джеймс Скарлетт, который впоследствии стал зятем лорда Лукана.
Ричарду, лорду Мэйдстону, в то время было сорок три года. Это был добросовестный офицер, который, однако, не имел никакого боевого опыта, что ставило его в достаточно неловкое положение. Командующему британской армии лорду Раглану было шестьдесят шесть лет, и его действительная служба под командованием герцога Веллингтона началась в 1808 году. Для сравнения, лорд Лукан был произведен в офицеры в 1816 г., а Кардиган — в 1824-м. Никто из них, за исключением Раглана, не имел боевого опыта, а положение Ричарда не позволяло давать им советы. В сентябре 1854 г. он был среди тех, кто высадился в Крыму и теперь подступал к Севастополю. Хорнблауэр-младший был в сражении при Альме, в котором кавалерия, правда, не сыграла особой роли. При Балаклаве он лишь однажды побывал под огнем вместе с бригадой тяжелой кавалерии, но постоянно находился вместе с лордом Рагланом во время трагической атаки легкой бригады. К счастью, он не оказался в числе тех, на которых позднее свалили всю вину за неудачу. К тому же, до конца кампании кавалерии так и не представился шанс отличиться. Большинство лошадей умерло в течение последовавшей зимы, при этом почти шестьдесят эскадронов оказались непригодными к дальнейшему боевому использованию в конном строю. Осаду Севастополя пришлось продолжать пехоте, саперам и артиллеристам. Между тем перед флотом, обосновавшимся в Балаклаве, была поставлена задача — взаимодействовать с союзными армиями при бомбардировке Севастополя. Среди кораблей, принявших участие в этой операции, был винтовой корабль Ее Величества «Морской Лев», под командованием капитана Дж. Хорнблауэра. Он сыграл свою роль в атаке, на нем было несколько раненых, но в целом ему удалось отойти без особых потерь. Позже, сойдя на берег в Балаклаве, капитан Хорнблауэр неожиданно встретил лорда Мэйдстона. На следующий день они организовали совместный обед и выпили за здоровье лорда Хорнблауэра, послав затем ему совместное письмо, в котором описывали ход кампании. Джонатан делал особое ударение на преимуществах винтовых судов, а также отмечал опасность огня бомбических орудий, направленного против деревянных линейных кораблей. Ричард же сообщал, чему он научился за время осады и сожалел, что не узнал об этом побольше заранее. Оба были уверены в победе и рассчитывали лично рассказать обо всем после завершения войны. С того времени капитан с полковником встречались время от времени и писали старому адмиралу бодрые письма, заверяя его, что не уронят чести своего имени. Вклад Джонатана в ведение этой войны был позже отмечен Орденом Бани, а Ричард, в свою очередь, дважды отмечался в приказах.
17 июня 1855 года союзники предприняли генеральный штурм Севастополя, который был поддержан огнем шестисот тяжелых пушек и мортир. Последовавшая атака была отбита с тяжелыми потерями. В ночь на 19-е приступ был повторен, но вновь оказался безуспешным. В это же время скончался лорд Раглан, который в буквальном смысле слова умер с разбитым сердцем. В конце концов, 8 сентября союзники возобновили наступление, но в то время, как французам удалось овладеть Малаховым курганом, британская атака на Большой редут была отбита. В этой последней атаке Ричард, лорд Мэйдстон, командовал пехотным батальоном, заменив подполковника, убитого во время июньского штурма. Он был тяжело ранен, когда пытался вдохновить остатки своих солдат к последнему, решающему усилию. Однако войска не смогли развить этот порыв — обессиленные и потерявшие боевой дух, они вынуждены были отступить под тяжелым обстрелом, унося с собой своего раненного полковника. Его передали в полевой госпиталь, где, вследствие абсолютной необходимости, ему пришлось ампутировать левую руку. Из-за значительной потери крови в то время представлялось сомнительным, удастся ли Ричарду выжить, но уже 9 сентября он почувствовал себя лучше, когда ему сказали, что Севастополь пал. Потеря Малахова кургана убедила князя Горчакова в том, что крепость не сможет более держаться. Он взорвал арсенал, склады и верфи, затопил или сжег оставшиеся корабли и ушел из Севастополя, в который союзники и вошли 9 сентября. Таким образом, все задачи войны были решены, а цели достигнуты, и капитан Дж. Хорнблауэр навестил своего раненного кузена, поздравив его с тем, что ему удалось выжить в одной из самых кровавых битв истории. «Морской Лев» получил приказ следовать в Англию, и лорд Мэйдстон отправился домой вместе с ним, в качестве выздоравливающего. Выйдя в море 30 сентября и зайдя по пути на Мальту, «Морской Лев» достиг Портсмута 17-го октября. Лорд Мэйдстон, которого жена встречала прямо на пристани, был перевезен в Боксли-хаус, в то время как Джонатан, чей корабль выводился из кампании, приехал всей семьей навестить его на Рождество. Старый лорд Хорнблауэр сделал то же самое и таким образом, вся семья собралась вместе в последний раз.
Мы ничего бы не знали о подробностях этой встречи, если бы не письмо, которое леди Хорнблауэр написала вскоре после этого из Боксли своему племяннику, Генри Ричарду Уэлсли, лорду Коули. Он был дипломатом, чьим непосредственным долгом было участие в подготовке Парижского трактата, который должен был закончить войну, в которой Ричард чуть было не лишился жизни. В то время Генри Ричард был послом Англии в Париже, где ему незадолго до этого удалось заключить международный договор, запрещающий каперство.
Боксли-хаус
28-е декабря 1855 г.
Мой дорогой Генри!
Нам всем бы хотелось, чтобы ты был здесь, вместе с нами, на нашем семейном торжестве, тем более, что скоро наступит Новый год, но мы знаем, какая важная работа тебе предстоит, чтобы в ходе переговоров мы не потеряли то, что завоевали в битве. Как тебе известно, Горацио всегда был против этой кампании и более того — утверждал, что Артур никогда не допустил бы ее, если бы был жив. Тем не менее, главное сегодня, что военные действия уже завершены, а Ричард и Джонатан — живы. Ричард удивительно хорошо держится, несмотря на потерю руки, к счастью, левой и даже говорит, что скоро снова сможет стрелять. Он не вернется снова в свой полк, однако ему предложили должность в Конной гвардии до тех пор, пока его производство в генерал-майоры не будет утверждено. Оба они с Джонатаном стали кавалером Ордена Бани, и все вокруг считают их настоящими героями. Странно думать, что Горацио за все двадцать лет, проведенные на войне, получил лишь несколько царапин и перенес тяжелую болезнь в 1812 году, так что едва выжил. Ты был бы горд, если бы увидел всю нашу компанию, собравшуюся здесь за обеденным столом 25 декабря. Горацио усадили во главе стола. Что было очень правильно сделано, несмотря на то, что хозяином дома был Ричард. За спиной у него над камином висел его же портрет кисти сэра Уильяма Бичи, а напротив меня на стене висела та самая картина Кларксона Стенфилда, изображающая битву под Алжиром. Серебряные подсвечники были из числа подаренных Горацио руководством «Восточной пароходной компании», а свет свечей отражался в полированном красном дереве длинного стола. Ричард выглядел настоящим солдатом до кончиков ногтей и был счастлив от того, что ему удалось побывать в настоящей битве и доказать свою отвагу под огнем. Джонатан также стал выглядеть более солидно и временами немного напоминает Горацио, хотя и без его решительности — я не могу представить себе нашего кузена адмиралом. На противоположном конце комнаты висел портрет Артура, который с удовольствием взирал с него на Гарриет, которая до сих пор прекрасно выглядит, и на Гертруду, чья красота также хорошо сохранилась. По этому случаю присутствовали и старшие внуки — Мария Ричарда и Питер — Джонатана, а также какой-то контр-адмирал, чье имя я забыла и какой-то полковник, чьего имени я так и не узнала.
Остальные дети появились после подачи десерта, и юный Горацио, который как раз приехал из Итона, показал себя так хорошо, что большего его бабушка с дедушкой и не могли и ожидать. Окидывая взглядом всех собравшихся в комнате на это семейное торжество, я видела мужчин, столь отличившихся в боях и в сражениях доказавших свое мужество, женщин — столь любимых и почитаемых, столь многообещающих мальчиков и красивых девочек, и не могла сдержать счастливых слез, которыми мои глаза почему-то наполнились — я так и не поняла, почему. Я подумала — вот то, ради чего сражался Горацио, вот для чего он работал и чего, наконец, достиг. Теперь он мог считать свой долг выполненным — его семья в безопасности, а его стране верно служат и защищают множество похожих семей. Я задумалась, надолго ли все это и возможно ли, чтобы волна революции, которая стерла с лица земли почти все, что было ценного во Франции, когда-нибудь обрушилась и на нашу страну. Мы с Горацио не хотели бы дожить до подобной катастрофы. Я хотела бы предупредить тебя по секрету, что Горацио неожиданно стал выглядеть на свой возраст — а ведь ему уже около восьмидесяти. Он поседел, похудел и немного оглох. Эти изменения наступили в нем в тот день, когда он услышал известие, которое, к счастью, оказалось ложным — о том, что Ричард пал в бою. Как тебе известно, особенностью прошлой войны стало присутствие на полях сражений корреспондентов различных газет, некоторые из которых позволяли себе критиковать действия генералов, но другие, например, из «Лондон Иллюстратед», публиковали описания Крыма, которые я находила очень интересными. Одна из газет напечатала абсолютно ужасный материал про нашу атаку на Большой Редут, которая начиналась со слов: «Раненный лорд Мэйдстон, который руководил штыковой схваткой, был на руках отнесен в тыл — умирающий командир батальона, который практически перестал существовать». Три дня после этого Горацио считал, что его единственный сын убит, и я опять, как и много раз прежде, была в отчаянии, что у нас с ним не было детей. Позже пришли новости, что Ричард все-таки жив, хотя и тяжело ранен. Можешь себе представить наше облегчение, но увы — удар все же был нанесен и Горацио так и не оправился от него окончательно.
Все здесь желают тебе радостного и счастливого Нового года, а Горацио просит, чтобы ты не позволял Наполеону III чувствовать себя Наполеоном I!
С наилучшими пожеланиями —
твоя любящая тетя Барбара.
Эта встреча в Боксли-хаус в декабре 1855 была последней, на которой все семейство Хорнблауэров собиралось в полном составе. Сам Горацио вернулся в Смоллбридж в январе 1856 года и больше уже не покидал этого поместья. Он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы в хорошую погоду гулять в саду, писать письма и даже баловать себя стаканчиком любимого портвейна после обеда. Он отправил Ричарду письмо с поздравлениями по случаю его производства в генерал-майоры, и даже написал лорду Коули, выразив свое мнение о ситуации на Ближнем Востоке и обращая особое внимание на важность для Британии защиты сухопутных путей в Индию. Все же силы потихоньку оставляли его, и Барбара, которая тоже постарела, не надеялась, что он переживет зиму. Однако он немного ожил осенью и даже поговаривал о том, чтобы снова съездить в Боксли, но подобному визиту уже не суждено было состояться. Вместо этого Ричард в сентябре привез на денек своих детей в Смоллбридж, как раз перед тем, как маленькому Горацио нужно было возвращаться в Итон. Им предстояло запомнить этот визит на долгие годы, так как тогда они видели деда в последний раз. К концу года старый адмирал ослабел настолько, что смог только коротко переговорить с Ричардом, главным образом о вопросах недвижимости и будущих доходов Барбары. Конец наступил в январе 1857 года — адмирал мирно скончался 12 числа в возрасте восьмидесяти лет. Смерть не застала Хорнблауэра в постели — Барбара нашла его в кресле, с глазами, закрытыми как бы в полудреме. Рядом, на полу, лежал, все еще открытый, последний том книги «Упадок и падение Римской империи» Гиббона.
Адмирал Флота мог иметь торжественные похороны в Лондоне, но в своем завещании Хорнблауэр не захотел этого. Его последним (и типичным) желанием стали простые похороны на церковном кладбище в Неттлсхед, что и было исполнено. На погребении присутствовала сама королева, а отряд моряков со сторожевого корабля в Норе дал троекратный залп над его могилой. На верфи в Чатеме палили пушки, а в соборе Святого Павла прошла поминальная служба. В церкви Неттлсхеда сохранилась памятная доска и еще одна, более внушительная — в церкви Боксли. Леди Барбара умерла в 1861 году (также в возрасте восьмидесяти лет), прожив достаточно долго, чтобы увидеть, как Ричард занял место в Палате Лордов. Последние слова о Горацио Хорнблауэре также принадлежат ей и составляют часть письма, написанного ею лорду Коули.
Смоллбридж, 12 января, 1858.
Мой дорогой Генри!
Прошло двенадцать месяцев после смерти Горацио, и я не помню, чтобы когда-либо эти месяцы тянулись так долго. Уже не осталось в живых ни одного Уэлсли из моего поколения, и я ловлю себя на мысли, что пишу тебе, как к человеку, наиболее близкому мне если не по возрасту, то по темпераменту. Здесь, в Смоллбридже, очень тихо, так как слуги уже столь же стары, как и я, и даже стук колес сегодня заглушает снег. Зимы становятся холоднее, чем раньше, но сегодня нет ветра, и деревья застыли в необычном безмолвии.
Размышляя о прошедших временах — а что мне еще остается делать? — я понимаю, что Артур был величайшим человеком нашего времени, несравненным по своим мужеству и мудрости, но он был столь привилегирован уже с самого рождения, что в двадцать четыре года уже командовал полком. У моего Горацио не было такой поддержки со стороны родных и друзей. Он был сиротой без гроша в кармане, начинал с нуля, пролагая свой путь безо всякой поддержки, достигая каждого рубежа с громадным трудом и полной концентраций сил и мысли на выполнении задачи, преодолевая скрытое и явное сопротивление тех, кто был лишен (и знал об этом!) его решительности, его знаний и его способностей. Я не знаю и уже никогда не узнаю всего, что он совершил. Он побывал в отчаянных ситуациях и сохранял хладнокровие, даже когда успех балансировал на грани неудачи. Человек скромного происхождения не может позволить себе совершать слишком много ошибок, и, как я полагаю, он не совершил ни одной в течении двадцати лет. Он не был отчаянно бесстрашным, как некоторые, но всегда забывал о своих страхах, как только вступал в битву. Он стал легендарным своей сдержанностью, ибо никогда не говорил более того, что было необходимо, но я помню его таким, каким он был на самом деле — открытым, добрым, обладающим шармом и тонким чувством юмора. Ему не довелось командовать ни в одном генеральном сражении, но Королевский флот всегда будет помнить о нем, как об одном из выдающихся своих офицеров. Сегодня же пушки умолкли, его флаг спущен и все тихо на кладбище, где он нашел свой покой.
Приложение
Письмо Адмирала Флота Ее Величества, кавалера Ордена Бани сэра Горацио, первого виконта Хорнблауэра, адресованное его потомку:
Ноябрь 1852 г.
Досточтимый сэр!
Я поручил банку отдать Вам это письмо в сотую годовщину моей смерти и поэтому уверен, что к тому времени, как Вы сломаете на нем печать, описываемые в нем события будут иметь исключительно историческое значение, а в живых уже не будет не только детей, но и внуков людей, о которых я пишу. Сейчас Вы поймете необходимость этой предосторожности, хотя, возможно, и удивитесь, для чего вообще я пишу это письмо. Будет ли мое объяснение одного инцидента представлять интерес для моих потомков или хотя бы для историков? Не могу знать, как будет выглядеть мир в 1960 году, и не могу предвидеть, будет ли моя профессиональная карьера к тому времени заслуживать хотя бы нескольких слов в соответствующем труде. Тем не менее, я пишу это письмо, предполагая, что мое имя не будет забыто, а моя карьера не останется абсолютно неизвестной. Допускаю также, что обо мне будут рассказывать одну историю и что она будет связана со «Славой».
Когда в 1802 году был заключен мир, я знал о том, что ходят различные слухи подобного рода, хотя ничего не было опубликовано и даже не говорилось открыто в моем присутствии. Во времена, о которых я говорю, дуэли случались чаще, чем в наши дни, и люди внимательнее относились к тому, что и кому говорят. Было бы маловероятным, чтобы я узнал о слухах, кружащих по кофейням Портсмута. Однако знаю, что событие может стать сплетней, а сплетня — частью биографии или истории. Принимая недавно участие в похоронах великого человека, я припомнил себе рассказы, которые о нем слышал, некоторые правдивые, а некоторые — вымышленные; тогда я и решил, что мои потомки в этом единственном случае должны знать правду, и хочу, чтобы лучше верили мне, чем в придуманную историю, или даже ее отвергали. Пусть знают, что сейчас у меня нет причин скрывать или искажать что-либо, я не боюсь никаких возможных последствий и так же не боюсь кого-либо обидеть.
То, что я собираюсь рассказать, касается событий, происшедших на 74-пушечном корабле «Слава» в 1800 году — то есть уже полвека тому назад. В июле того года корабль вышел из Плимута под командованием капитана Сойера. Лейтенантами были: Бакленд (заместитель командира), Робертс, Буш, Смит и я (пятый лейтенант). Мы плыли с запечатанными приказами, но курсом на Вест-Индию. Стало очевидным, что командир помешался, а следствием его помешательства было убеждение, что все офицеры и молодые джентльмены состоят против него в заговоре, а лояльны ему только люди с нижней палубы. Его страхи были лишь плодом больного воображения, но подрывали основы его системы командования, в которой вся дисциплина была вывернута наизнанку, офицерам делались незаслуженные выговоры, а молодым джентльменам назначались незаслуженные наказания. Чаще всего жертвой капитана становился юноша по имени Уэллард, которого постоянно секли и почти довели до самоубийства. Как младший из лейтенантов, я вынужден был нести вахту в две смены. Зато Бушу и Робертсу было приказано в свободное время каждый час являться с докладом к заместителю командира, при чем они должны были быть одеты по полной форме, а он не мог спать. Подрывая дисциплину и далее, командир заискивал перед командой, портил ее и делал своими фаворитами некоторых моряков, приказывая им следить за другими. При таком командире, любые слова офицера могли быть признаны бунтом, а молчание, если бы не говорил ничего — расценено как наглость. Должен подчеркнуть, что ничто, сделанное или сказанное командиром, не было бы достаточным, чтобы доказать, что Сойер — сумасшедший, и корабельный врач никогда бы не осмелился подписать соответствующее заключение. Должен также подчеркнуть, что «Слава» была не в состоянии не только вести сражение, но даже противостоять урагану.
По прибытии в английский порт — в Кингстон или куда-либо еще на встречу с адмиралом (цель похода не была известна даже нам), офицеры «Славы» могли бы попросить главнокомандующего назначить военный суд над командиром или направить его на врачебное обследование. Если бы они так поступили, командир, в свою очередь, мог бы потребовать военного суда над ними.
Суд, составленный из капитанов, естественно, принял бы сторону одного из них. При этом не было бы никаких доказательств нарушения командиром «Славы» устава, а врачебная комиссия не имела бы доказательств его сумасшествия. С другой стороны, капитан мог приказать самым худшим морякам, чтобы они свидетельствовали о бунте среди офицеров; этого было бы достаточно, чтобы уволить лейтенантов со службы, посадить в тюрьму и даже повесить. Если бы заместитель командира заявил, что капитан болен и запер бы его в каюте, то почти наверняка команда, или, по крайней мере, ее большая часть, встала бы на защиту командира. Однако, независимо от возможности подобного развития событий и независимо от того, решился ли бы Бакленд так поступить — насколько знаю, это противоречило его характеру — мы должны были учитывать, что по прибытию в Вест-Индию ситуация осталась бы прежней. Была бы созвана врачебная комиссия и был бы проведен военный суд, а точнее — целый ряд военных судов, причем не было бы никаких доказательств против капитана, напротив — множество свидетельств в его пользу. Более того, мы должны были себе уяснить дело и помнить о том, что какими бы ни были вердикты этих военных судов, для всех заинтересованных лиц они означали бы крах профессиональной карьеры. Лейтенанты, которые постарались устранить своего командира, никогда бы не получили не только повышения, но даже нового места службы.
Ситуация могла бы измениться вследствие встречи с неприятелем, что посреди океана было неправдоподобно, или вследствие обычной эпидемии желтой лихорадки, на что также не приходилось надеяться до прибытия в Вест-Индию, которое означало бы для нас всех катастрофу. Будущее корабля и всех его офицеров зависело от решения, которое я должен был принять, пока мы еще были в море.
Вас может удивить, почему я считал, что это решение должно было принадлежать именно мне. Я принял его, потому что знал, что единственный из лейтенантов смогу его исполнить. У меня не было возможности обсудить нашу проблему с другими офицерами, так как существовал слишком большой риск, что мы будем подслушаны одним из моряков, которым было приказано следить за нами. После глубоких размышлений я пришел к выводу, что Сойер не должен прийти в порт живым.
Его смерть была бы единственным решением проблемы, и мне оставалось только обдумать доступные мне возможности, исключая те, которые могли возникнуть при встрече с неприятелем. Возможности эти были следующими:
Первая: я мог бы вызвать капитана на поединок.
Вторая: я мог бы в темноте столкнуть его за борт.
Третья: я мог бы устроить несчастный случай — случайный выстрел из мушкета или упавший с высоты кофель-нагель.
Первую возможность я должен был исключить, потому что был уверен, что капитан не примет вызова и за саму попытку подвергнет меня строгому аресту. От второй возможности я также отказался, поскольку командир редко появлялся на палубе после захода солнца и до рассвета оставался только один способ: случайная смерть. Готовя свой план, я понимал, что мне благоприятствуют два обстоятельства. Во-первых, я знал, что определенные люди являются информаторами капитана. Именно с их помощью я мог бы вытянуть его в нужное время в нужное место. Знал я также, что у меня есть союзник — молодой Уэллард. Это я был тем человеком, который отговорил его от самоубийства, так что теперь я был уверен, что он захочет рискнуть. Когда-то я побывал в ситуации, подобной той, в которой он находился сейчас и был готов рискнуть жизнью, так, что «орел» или «решка» решали бы между смертью и страданиями. Уэллард был нужен мне как свидетель моего алиби, но даже с таким свидетелем я оценивал свои шансы не выше средних.
Чтобы организовать несчастный случай без других свидетелей, мне нужна была темнота и наименее посещаемая часть корабля. Это наталкивало на мысль о собачьей вахте и о люке, ведущем из помещения младших офицеров в трюм — самое спокойное месте на корабле. Какой же несчастный случай мог там приключиться? Только один: падение в люк. А что могло бы заставить капитана прийти туда во время собачьей вахты? Конечно же, только то, чего он больше всего хотел (или опасался): доказательство того, что офицеры вступили против него в заговор, что в трюме проходит тайная встреча, встреча, во время которой его враги могут быть пойманы на горячем. Если бы капитан узнал о чем-то подобном, первое, он сразу же пошел бы туда кратчайшим путем, прихватив с собой часового. Следующим машинальным поступком была бы посылка кого-либо из доверенных помощников, скорее всего — Хоббса, исполняющего обязанности артиллериста — к переднему люку. Если бы ему удалось таким образом перекрыть оба выхода, третьим шагом был бы приказ об обыске в трюме. Я отдавал себе отчет, что этот план по многим причинам может и не удаться, но это было лучшее, что я смог придумать. Уэллард был единственным человеком, с которым я мог бы частично поделиться этим планом, но и ему я не сказал больше, чем он должен был знать. После того, как я решил, что нужно сделать, мне оставалось только организовать все так, чтобы офицеры встретились и чтобы капитана уведомили об этой встрече. Я предложил им собраться через десять минут после двух склянок во время собачьей вахты в средней части трюма. Вы подумаете, наверное, чего можно было бы достичь на подобной встрече? Отвечаю: никто бы не смог сказать ничего, что бы могло оказаться полезным. Главное, чтобы эта встреча произошла, и чтобы капитан о ней узнал. Поэтому, как только Смит сменил меня на палубе, я рассказал Уэлларду о намечаемой встрече таким образом, чтобы меня смог подслушать Сэмюэлс — артиллерийский унтер-офицер. Потом я поручил Уэлларду наблюдать за развитием событий, а сам спустился в трюм. На встрече присутствовали Бакленд, Робертс, Буш и я. Началась какая-то бессмысленная дискуссия, какой и следовало ожидать, а потом прибежал Уэллард, чтобы нас предупредить. Я сказал остальным, чтобы они шли в направлении носа, поднялись на палубу и рассеялись, а сам поднялся на верхнюю палубу через главный люк, а за мной и Уэллард. Тихонько (я был без сапог, в мягких туфлях) я побежал в сторону кормы и дальше, к помещению младших офицеров, надеясь, что в нужное время окажусь в нужном месте.
Счастье улыбалось мне во многих ситуациях, но никогда — так сильно, как в эту ночь. События развивались точно так, как я того ожидал. Сэмюэлс передал подслушанное известие Хоббсу, исполняющему обязанности артиллериста и, по совместительству, капитанскому доносчику, а тот вызвал моряка по фамилии Экворт. Все втроем они пошли на корму, Хоббс разбудил капитана и обо всем ему доложил. Каюту командира, как это было заведено на всех кораблях, охранял капрал морской пехоты с четырьмя рядовыми; один из них постоянно находился на посту, а остальные — на расстоянии окрика. Капитан послал Хоббса присмотреть за главным люком, а перед этим приказал капралу поднять караул в ружье. Оба эти шага не потребовали много времени: Хоббсу понадобилось около минуты, чтобы принести фонарь, а капрал за это время собрался с мыслями и построил своих людей. После того, как появились солдаты, капитан Сойер послал двоих из них на нос, приказав стеречь носовой люк, а остальным морским пехотинцам приказал приготовить мушкеты, холодное оружие и боеприпасы. Затем командир спустился в помещение младших офицеров, приказав капралу с двумя солдатами следовать за ним. Когда он, таким образом, оказался на уровне верхней палубе, то приказал капралу с двумя подчиненными спуститься вниз по трапу и обыскать трюм. Сам же капитан, с пистолетами в руках вглядывался вниз, склонившись над люком и кричал капралу, чтобы тот поторопился и хватал бунтовщиков, прежде, чем им удастся сбежать. Если бы он сам спустился по трапу, мой план не удался бы, но, к счастью для нас, он предпочел руководить погоней, (я предполагал, что он поступит именно так) стоя над люком.
В ту минуту, когда я беззвучно бежал на корму, оставив Уэлларда у грот-мачты, капитан кричал вглубь люка. Я подбежал к нему и попросту пнул ногой в спину, в области пояса. Он перелетел через край люка и головой вниз рухнул в трюм. Не задерживаясь ни на секунду, я побежал в нос, к Уэлларду, затем повернулся и снова пошел в сторону кормы. Поскольку я запыхался, то послал Уэлларда впереди себя, так, как бы поступил в обычной ситуации, услышав какую-то возню. Уэллард спустился на несколько ступеней по трапу и вернулся наверх, зовя корабельного врача, мистера Клайва. В это время появился Буш, подошедший вдоль другого борта. Я послал мичмана вызвать заместителя командира, который к этому времени уже вернулся в свою каюту. Вместе с ним мы спустились вниз, и нашли капитана лежащим без сознания у основания трапа. Он был еще жив, но врач установил, что у него сломан нос, ключица и два ребра, а к тому же он пережил шок. Следствием этого происшествия было то, что разум капитана совсем помутился, оставалось только признать его сумасшедшим и изолировать. Он был откровенно неспособен исполнять свои обязанности, и Бакленд принял командование кораблем. Можете мне поверить — я очень жалел, что Сойер еще жив, поскольку вследствие подобного падения он мог разбиться на смерть, и я предполагал, что именно так и случится. Тем не менее, на время проблема была решена, и мы, наконец, смогли заняться боевой подготовкой команды. Вскоре после этого нам пришлось вступить в бой.
Теперь вы можете меня спросить, почему именно меня подозревали в организации несчастного случая, в результате которого Сойер был устранен от командования? Вынужден ответить — потому что никто другой не имел к этому возможности, мотива и времени. Другие офицеры, узнав, что наш заговор открыт, побежали к носу. Бакленд и Робертс вышли на верхнюю палубу через носовой люк, Буш двинулся в корму по батарейной палубе. Только мы с Уэллардом выходили наверх через главный люк и, таким образом, идя в корму, мы достигли кормового люка на несколько минут раньше, чем остальные. Уэллард оказался там перед Бушем, и мое алиби опиралось на тот факт, что Уэллард и я были вместе, и каждый из нас был готов присягнуть, что другой также находился около грот-мачты, когда стало известно о падении капитана в люк. Таким образом, другие офицеры знали, почему я смог попасть к месту происшествия раньше каждого из них. Если бы это не был несчастный случай, то я был бы единственным офицером, который мог бы это сделать, а Уэллард — еще одним, которого можно было бы в этом подозревать. С другой стороны, никто не хотел подробно разбираться в случившемся, так как пришлось бы отвечать на вопрос, где мы были все вместе. Таким образом, нужно было поддерживать версию несчастного случая, отвергая все теории, которые кто-либо мог выдвинуть. Бедняга Уэллард сперва испугался, но потом почувствовал себя счастливым — задолго перед тем, как сообразил, что правда нежелательна и что теперь он сможет спокойно спать ночь. Он, конечно, видел «несчастный случай», но у него были веские причины, чтобы о нем молчать. Насколько мне известно, он никому ничего так и не сказал.
Запечатанные приказы, с которыми плыла «Слава», указывали ей провести некую операцию, прежде чем ее командир присоединится к эскадре в Кингстоне. Боевые действия, которые имели место дальше, не очень важны для содержания этого письма, тем не менее, их следствием стал захват нескольких испанских кораблей, которые предстояло обеспечить призовыми экипажами. Мне было доверено командование самым большим из этих кораблей, под названием «Гадитана». Уэллард, к тому времени ставший мичманом, получил под командование меньшее судно, «Карлос». Для этой службы было откомандировано около шестидесяти человек — половину из них составляли солдаты морской пехоты. Большое количество пленных было посажено на «Славу», команда которой, ослабленная понесенными потерями и откомандированием людей на призы, была недостаточной чтобы нести двойную нагрузку: обслуживать корабль и стеречь пленных. По дороге на Ямайку Бакленд, исполняющий обязанности командира, вызвал меня сигналом на борт «Славы» и сообщил, что капитан Сойер чувствует себя лучше, говорит более осознанно, а его сломанные кости начинают срастаться. Казалось весьма возможным, что он будет чувствовать себя достаточно хорошо, чтобы давать показания перед следственной комиссией. Бакленд спросил меня, не могу ли я рассказать что-либо еще про несчастный случай, а я ответил, что знаю только то, о чем уже рассказал. Сомневаюсь, чтобы ему понравился мой ответ или что его радовала перспектива следственной комиссии, но Бакленд ничего не мог с этим поделать, так как сам был замешан в заговор, который Сойер пытался раскрыть в ту ночь, когда упал в люк. Мы расстались, и я вернулся к исполнению своих обязанностей на борту «Гадитаны».
На следующую ночь я услышал два выстрела из мушкета на палубе «Славы». Вскоре после этого «Слава» взяла круче к ветру, и я пришел к выводу, что на корабле происходит что-то неладное, возможно, пленные пытаются вернуть себе свободу. Я собрал команды со всех призовых судов, приказав предварительно перерезать на них все шкоты и фалы, а после подошел на «Гадитане» к борту «Славы», которая к этому времени уже была в руках у испанцев. Мой абордаж застал их врасплох, а часть команды «Славы» поспешила к нам на помощь. Разгорелась беспорядочная свалка, в которой испанцы были побеждены, а многие из них погибли. В этой битве Уэллард оказался рядом со мной и сражался отважно, убив, по меньшей мере, двоих наших непосредственных противников. Когда их сопротивление было сломлено, я обратился к нему и сказал: «Разыщи Сойера и прикончи его». В то время я не знал, что капитан еще жив, но предполагал, что испанцы пощадили бы больного человека, который не представлял для них опасности. Правда, уверенности в этом не было, так как пленные, вырвавшись из места своего заключения, могли и не знать, что он болен. Оказалось, что он все-таки жив, и Уэллард перерезал ему глотку, рассчитывая, что подозрение падет на испанцев. Никто из них не признался бы в том, что его убил, и этому не приходилось удивляться. Более того, вполне могло случиться, что его убийцы погибли в последующей схватке. Единственное, что могла сделать следственная комиссия, это приказать, чтобы все пленные были допрошены, что и было сделано один раз, а потом — еще раз, повторно. А они, конечно же, заявили, что все зачинщики мятежа и люди, виновные в ненужном кровопролитии, оказались в числе убитых. Военный суд не проводился, а я был произведен в капитан-лейтенанты, но это повышение не было подтверждено из-за того, что был заключен мир.
На этом месте вы можете спросить меня, что бы я предпринял, если бы пленные не сделали попытку овладеть «Славой». Честно говоря, у меня не было никакого конкретного плана, я не знал, насколько улучшается состояние здоровья Сойера, но, в любом случае, я решил уничтожить этого человека и сделал бы это каким-либо другим способом. Возможно, мне удалось бы инсценировать его самоубийство. Это подводит, наконец, к ответу на вопрос: почему вообще я был готов совершить преступление, убийство? Во-первых, вы должны отдавать себе отчет, что в те времена мы не ценили жизнь слишком уж высоко. Я видел кровопролитные битвы. Я даже проводил казнь на палубе этого самого корабля. Я никогда не верил в доктрины церкви, за исключением, конечно, той, которая была неотъемлемой частью военно-морской дисциплины. Не думал тогда, и не думаю сейчас, что сумасшедших нужно оставлять в живых. Деньги, выделяемые на их содержание, можно использовать с большей пользой — на обучение молодых людей морской службе. Но Сойер представлял собой нечто худшее, чем обычный сумасшедший: он представлял угрозу для службы и был тираном для подчиненных; он был бесполезен как офицер и никчемен как человек. Я убил его без колебаний и не жалею, что так поступил. Моя собственная карьера, судьба которой тогда решалась, имела значение для службы и для страны. Этот же жалкий маньяк не значил ничего, и даже его вдова должна была вздохнуть с облегчением после его смерти. Устранение Сойера никогда не мешало мне спокойно спать, и не думаю, чтобы Уэллард посвятил ему больше размышлений. Сам Уэллард несколько позже погиб — утонул, когда его четырехвесельная шлюпка перевернулась под Плимутом.
Мне никогда не задавали вопросов и не выражали никаких сомнений в связи со смертью Сойера. В офицерских кают-компаниях о ней говорили, как о несчастном случае, который, прежде всего, лишил его командования. Подозреваю, что источником всех сплетен мог быть Смит, единственный лейтенант, который не принимал участия в нашем собрании в трюме «Славы». Он был тогда вахтенным офицером, да и Сойер меньше его преследовал, может быть потому, что Смит разговаривал с легким северным сельским акцентом, что делало его общество менее приятным, зато приближало к уровню Сойера. Смит, подобно другим лейтенантам, попросту не мог поверить, что старый моряк мог потерять равновесие и упасть в люк — даже при внезапном крене корабля. Но у Смита не было причины — той, которая была у всех остальных — чтобы не обсуждать этот инцидент. Он мог также наслушаться разговоров на нижней палубе — в первую очередь капитанского любимчика Хоббса, после того, как Бакленд его разжаловал и отправил обратно в кубрик. Та или иначе, но по флоту ходила легенда, что именно я был тем, кто столкнул своего командира в люк. Не думаю, чтобы она помешала моей карьере, но оказалась достаточной, чтобы мои современники начали немного меня побаиваться. Поскольку я предполагаю, что эту легенду в какой-либо форме все еще повторяют, считаю нужным открыть правду моим потомкам. Они могут рассудить — и вы можете рассудить, досточтимый сэр — что иное развитие событий привело бы меня скорее на виселицу, чем в Палату Лордов. То же, кстати, относится к доброй половине людей, получающих пэрство. Если бы они боялись риска, если бы считались с преградами на своем пути, то не были бы способны управлять государством.
Остаюсь, сэр,
Вашим покорным и не испытывающим раскаяния предком.
Хорнблауэр


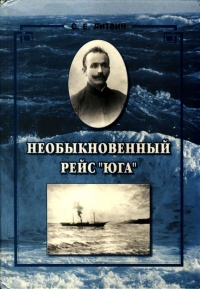
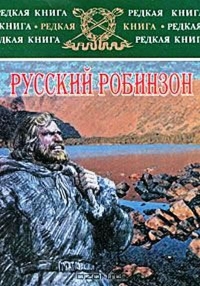


Комментарии к книге «Жизнь и времена Горацио Хорнблауэра», Сирил Норткот Паркинсон
Всего 0 комментариев